Александр Проханов Надпись
И дам ему белый камень и на
камне написанное новое имя,
которого никто не знает, кроме
того, кто получает.
Откровение святого Иоанна, гл. 2, стих 17Часть первая Мост
1
«Я — мост, из камня, железа, бетона. Мои вытянутые упругие ноги упираются в серую кручу, поросшую мхом и лишайником. Мой твердый хребет улегся крестцом на гранитные, омываемые потоком опоры. Мои руки хрустят в локтях, силясь дотянуться до насыпи в малиновых гривах кипрея. Над моим животом прозрачным сверкающим кружевом взлетают стальные конструкции. Дрожу, сотрясаюсь. Наращиваю могучую плоть, взбухая бетонными мускулами. Сбрасываю в реку тягучие космы огня. Чувствую спиной дыханье огромной реки, ревущие водовороты, фонтаны тяжелых брызг. Подставляю грудь под удары холодного ливня, ожоги горячего солнца. Я — мост, переброшенный через сибирскую реку. Стремлюсь от берега к берегу, стягивая воедино два громадных ломтя континента…»
Михаил Коробейников утвердил стопу на гранитной плите в рыжих сухих лишайниках. Раскрыл блокнот, навесив его над простором сияющих вод, по которому темной трепещущей линией был прочерчен мост. Коробейников заносил в блокнот быстрые фразы, моментально возникавшие образы. Словно рисовал мост с натуры. Своими зрачками, ударами ручки в блокнот, страстным жадным порывом строил мост на бумаге. Помещал в свою книгу. И она, ненаписанная, сыпала к туманной воде рыжие и красные искры, дышала сырым бетоном, нежно сияла лучистой сталью, повисшей в пустой синеве.
«Я — мост, собираю в себя грубую материю мира, облекая в нее прозрачную, совершенную мысль. В мою утробу валят бетонную жижу, месят ее вибраторами. Она заливает мое нутро, охватывает железный скелет, застывая могучими мускулами. Сквозь меня продергивают железные жилы, сваривают раскаленным газом. Угрюмая мощь двутавров держит непомерную тяжесть, от которой на мне выступает металлический пот, опадает в реку огненная роса. В меня вгоняют отточенные костыли, буравят сверлами, клеймят заклепками. Меня режут фрезами, долбят и вытачивают. Я чувствую нестерпимую боль, среди которой рождается моя плоть, моя несокрушимая мощь, мое бытие. Хриплю от боли, ахаю от ударов, стенаю от ран и проколов. Но радуюсь боли творения, верю сотворяющему меня, покорен воле Творца. Раскрываю над рекой стальные полукружья пролетов, похожих на крылья серебряного туманного ангела…»
Коробейников озирал громаду моста. За его спиной подымался молодой белостенный город, летели по трассам машины, круглились громадные, как аэростаты, цистерны, в болотах насосные станции жадно сосали нефть. На другом берегу в розовой дымке цвел багульник, туманилась тундра, мерцали болота и топи. Туда, к месторождениям, упрятанным в кудрявые дали, тянулся мост, рвалась индустрия. Коробейников всматривался в голубую пустоту континента, где чудились новые города, драгоценные кристаллы строений. Мерещился миф о восхитительном будущем, которое он сотворял, занося в блокнот являвшиеся мысли и образы. Нависший над мостом вертолет, под которым на тонкой струне качалась лучистая ферма. Буксир, подгонявший к мосту баржу с песком и камнями, где из воды вырастала опора.
«Я — мост рукотворный, изделие рук человеческих, часть природы и Космоса, неотделимый от вод и небес. Разрезаю опорами поток могучей реки. Живу среди рыбьих плесков, осетровой икры и молоки. Меня омывают ливни, бьют голубые молнии, развешивают в небесах семицветное мое отражение. В бетонной плите замурован завиток первобытной ракушки, отпечаток резного папоротника. Мои фермы из той же стали, что и железная сердцевина земли. К моей каменной огромной ноге прилепился зеленый мох. В крохотной лунке расцвел робкий цветок тундры. На меня из далеких лесов смотрят медведи и лоси. Ночью по блестящей дуге до меня долетела пылинка метеорита, оставила нежный, едва ощутимый ожог. На стальную ветку пролета, в лучистую, из металла и света листву, села птица с розовой грудкой, тихо просвистела и канула. Мне хорошо среди утренних зорь, угрюмых мглистых закатов, под светом туманной луны…»
Коробейников видел, как мелькают на мосту оранжевые каски строителей. Люди облепили мост, ухватили сотнями рук. Тянут, толкают, удерживают на плечах. Вдувают огонь, мнут в шершавых ладонях. Казалось, каждый вырывает из себя живую плоть, отдает мосту, и тот жадно глотает. Натягивает в себе людские жилы, напрягает кости и мускулы, дышит легкими, стоглазо мерцает, охваченный жаркой испариной. Водители самосвалов подгоняли к середине моста дымные грузовики, вываливали парную гущу. Монтажники висели под фермами, как зыбкие паучки, вонзали в опоры шипящие электроды. Крановщицы в застекленных кабинах протягивали длинные руки кранов, опускали кипы железных прутьев. Автогенщики в масках зажигали синие звезды, и казалось, из их прохудившихся роб сыплется в воду золоченый песок.
«Я — мост, заостренный вектор, стремленье вперед, направление могучих ударов. Во мне клокочет вода, бушует газ, бежит электричество. На меня ложатся рельсы стальной колеи. Я — таран, прошибающий угрюмую толщу. Гарпун, вонзенный в набухший загривок будущего. Бессчетные составы провезут по мне детали домов и машин, соберут у кромки ледового моря. Среди полярных сияний встанут города и заводы, раскинутся космодромы и порты, и из темного мироздания, с чудным ликом, шумя драгоценными крыльями, опустится Ангел, вестник грядущего Рая…»
Коробейников казался себе мостом, перекинутым из полузабытого прошлого, где размыто, словно невнятный сказ, присутствовал его исчезнувший род, неведомые и любимые прадеды, — в несуществующее, недоступное будущее, где ждали своего появления его нерожденные внуки. В одном с ним времени жили мама и бабушка, звучали их голоса, светлели родимые лица. Его окружали жена и любимые дети. Но он был мостом, по которому в грядущее катилась непрерывная, неясная весть, передавались заветы и заповеди. Все они, рождаясь и умирая, продлевая род, несли в себе загадочный замысел, терпеливо ждущий кого-то, чтобы в нем наконец воплотиться.
«Я — мост, исполнен добра и смысла. Люблю сотворяющих меня, упорных и усталых людей. Знаю их утехи и нужды. Когда возник перебой с бетоном, бетонщики отложили мешалки и резались в карты, швыряя королей и дам на замызганные плиты, под которыми катила река. Когда задержали зарплату, рабочие окружили прораба, яростно и зло матерились, подносили к его глазам громадные кулаки, теснили к краю, готовясь скинуть в летящие водяные воронки. Когда объявили аврал, привезя на мост ящик с двойной зарплатой, бригады устремились в прорыв, как штрафные батальоны, закопченные и худые, словно черти, блестя из-под касок глазами. Когда подбили итог, раздали зарплату и премию, тут же пили водку, вскрывали тушенку, хохотали, сдвигая стаканы, кидая консервные банки в огромный синий поток. Ночью в вагончике молодой мостовик завалил на железную койку захмелевшую крановщицу, мял ее могучие груди, целовал голубые бусы, а она тихо ахала, прижимала его крестец белой большой рукой. Люблю их всех, создающих меня на этой сибирской реке. Когда они построят меня и уйдут, в моих швах и расщелинах останется забытая горстка монет, рассыпанные голубые бусины…»
Коробейников наслаждался писанием с натуры. Картины и образы вычерпывались из окружающей жизни, просачивались сквозь тончайшие фильтры зрачков, дышащую грудь, жарко стучащее сердце. Пролетали сквозь чуткие напряженные мышцы плеча и запястья. Срывались с пера, испещряя блокнот неровно бегущими строчками. Среди этих пляшущих строк возникала иная реальность: огненно-алый куст багульника, лазурно-сияющие водовороты реки, искрящаяся лучистая сталь, сквозь которую мягко и чудно голубели дали, волновались леса, стремился незавершенный пролет моста.
Внезапно, среди этой второй, возникающей на бумаге, реальности возникло ощущение тревоги. Словно в зрачок ударила невидимая частица. В кровь залетел крохотный темный вихрь. Сорвался с пера, унесся через реку, где возникла темная мгла, поднялась непроглядная муть, потекли ядовитые гнилые туманы. Будущее, минуту назад казавшееся ослепительным чудом, теперь горело пожарами, клубилось взрывами, осыпалось обломками. На выжженное пепелище, усыпанное ржавой окалиной, опускалось из неба огромное жуткое чудище, опоясанное обручами, озаренное багровыми отсветами, бьющее из железной башки ртутными злыми лучами.
Мост горел и дымился. Река бурлила фонтанами взрывов. Из тучи, в боевом развороте, сквозь разрывы зениток пикировал самолет. Били из-за реки пулеметы. Кто-то, быть может его нерожденный внук, бежал на мост, падал с пробитой грудью. Ахающий удар прилетевшей с океана ракеты раздвинул реку до дна, сломал и обрушил мост, вскипятил кружевную сталь, унося в небеса гриб раскаленного пара.
Будущее на мгновение раскрыло свой огромный, полный фиолетового ужаса глаз и тут же его сомкнуло.
Коробейников очнулся. Мимо шел оранжевый гремящий бульдозер. Нес впереди блестящее зеркало ножа. Окатил Коробейникова белым горячим солнцем. Бульдозерист оглянулся на него из кабины. Коробейников подобрал упавший блокнот. Смотрел, как шевелится над рекой живое тело моста.
Ночью он вернулся на берег.
«Я — мост. Я создан из звезд…»
Чуть видная, огромно и мощно текла ночная река. Мост сыпал во тьму розовые и желтые космы. В просторном небе, среди белых августовских звезд, туманился другой мост, переносивший свою млечную синусоиду из одной галактики в другую. Среди недвижных созвездий плыла крохотная ясная звездочка. Американский спутник-разведчик шел над Сибирью. Фотографировал инфракрасной оптикой строительство стратегического моста через Обь.
2
Коробейников лежал в теплой сочной траве, на берегу быстрой прозрачной речки, среди цветущей поймы, которая мокро и пряно благоухала перезрелыми травами. Ленивые бронзовые жуки перелетали с цветка на цветок, падали в соцветья, словно солнечные слитки, замирали среди сладких соков и запахов. Его командировка подходила к концу. За спиной оставалась огромная Обь, мосты и новые города, буровые и секретные атомные центры, черные смоляные фонтаны нефти и драгоценное сверканье приборов. В его распухшем блокноте хранились беглые описания клетчатых, словно соты, ядерных реакторов и буйных стоцветных сенокосов. Его перенасыщенная впечатлениями память несла в себе образы серебряных танкеров, скользящих на север в сиянии бескрайних разливов, и ночные пуски могучих турбин, от которых по тайге разбегались алмазные плески огней.
Машина с водителем была где-то рядом, за кустами и травами. Он лежал на теплых травяных стеблях, оставлявших на голом теле сетчатые отпечатки, отмахивался от зеленоглазых алчных слепней, шлепая ладонью по плечу и груди. Предвкушал, как через несколько часов машина подвезет его к трапу огромного самолета. Ровный полет на белой громаде. Нежно ревущие жерла раскаленных турбин, поющих какую-то бессловесную величавую песнь. Вечерний кристалл Домодедова. Восхитительные березняки, мелькающие сквозь хрустальное окно автобуса. Горячая, летняя, пахнущая клумбами, бензином и духами Москва, где обитают любимые, близкие, поджидает свежий номер газеты с его напечатанным очерком. И он, оказавшись в московской круговерти, уже никогда не вспомнит эту малую сибирскую речку, солнечное мелькание на перекате, близкий, пышный, как кружевной воротник, цветок, в котором замер, словно драгоценная брошь, изумрудный жук.
На другом берегу, близко, шумно показалось стадо. Медлительные коровы выбредали из кустов, волоча по высокой траве переполненное вымя. Блестели глазами, отбивались хвостами и губастыми рогатыми головами от мошки и слепней. Шли к речке, забредая по колено. Жадно припадали к воде, начиная сосать и цедить сквозь зубы водяной холод, пуская вниз по течению солнечные круги и волны.
Коробейников через реку чувствовал горячее, млечное стадо. Жизнь животных загадочным и чудесным образом сочеталась с его жизнью, как и с жизнью шмелей и жуков, деревьев и трав, окружавших его молчаливыми бессчетными судьбами. Внешне отделенные друг от друга, они все сочетались в безымянное, неразделимое целое, данное им как восхитительный и таинственный дар.
Стадо без пастуха потопталось, почмокало на берегу. Напившись, медленно потекло обратно в заросли, отливая красно-золотыми спинами, качая черно-белыми пятнистыми боками. Одна светло-коричневая телочка осталась у воды, вытягивая розовую нежную голову, словно тянулась к нему через блестящий поток, ловила его запахи влажными большими ноздрями, всматривалась темными внимательными глазами. Это показалось Коробейникову забавным. Он кивнул глазастому, вишнево-розовому существу, словно приглашая к себе, через реку. И почувствовал, как его неизреченная мысль долетела до чуткого зверя, нашла в нем отклик, вернулась через реку обратно, породив в груди Коробейникова, где-то под бьющимся сердцем, ощущение теплоты. Между ними над самой водой протянулся невидимый волновод, по которому бежали теплые, едва ощутимые волны. Две их жизни, столь разные, отделенные одна от другой замыслом Божьим, встретились на берегах малой речки, ощущали свое единство и нерасторжимость, давали друг другу об этом знать.
Ему вдруг померещилось сквозь колыхнувшийся воздух, по которому пробежала стеклянная рябь, что эта молодая, с нежной шеей и золотистыми шерстяными ушами корова есть не кто иной, как неведомая ему, знакомая лишь по фотографии в старинном фамильном альбоме, его прабабушка Аграфена Петровна. «Баба Груня», как называла ее нежно и печально мама, разглядывая в альбоме доброе, простое, с большими губами и тихими печально-прекрасными глазами крестьянское лицо давно умершей женщины, от которой повелся их огромный цветущий род. Эта мысль была странной и правдоподобной. Он уже не сомневался, что это «баба Груня». Таинственным и волшебным образом не умерла, не исчезла, а превратилась в кроткую корову. Узнала его через реку, тянется, желая передать какой-то старинный, важный завет.
Это языческое озарение восхитило его. Он приподнялся из травы. Устремился глазами к коричнево-розовому, удаленному существу и стал звать к себе. Телка будто услышала его. Сделала шаг к воде. Чуть, помедлила, пугаясь бегущего солнечного блеска. Забрела поглубже, осторожно щупая дно. Коробейникову казалось, он видит, как в прозрачной воде упираются в дно ее острые раздвоенные копытца, как летит по течению золотистое размытое отражение.
«Ну плыви же… Сюда, ко мне…» — приглашал он ее, все еще сомневаясь, что она его слышит, но тайно и страстно веря, что не обманывается, что это чудо, что волшебный установившийся между ними световод донесет его страстное приглашение.
Телка пошла вперед, погружаясь по колено, по грудь, вытягивая вверх шею, чуть вздрагивая нагретым телом от водяного холода. И вдруг поплыла, держа над водой вытянутую вперед голову, на которой испуганно и восторженно сияли глаза, прижимались и шевелились нежные крупные уши, дышали большие пугливые ноздри. Коробейников ликовал, глядя на плывущего зверя, на темный поблескивающий след, на колыханье в воде живого звериного тела, сносимого по течению, с которым телка боролась, двигая невидимыми боками, продолжая смотреть на Коробейникова.
«Ко мне… Я здесь… Еще немного…» — поощрял он корову, протягивая к ней через реку невидимый луч.
Корова достигла середины речки, и было видно, что она устала. Ее сносило течением. Голова все так же смотрела на Коробейникова, но туловище все больше разворачивалось в сторону. Теперь телка держалась на одном месте, двигая что есть мочи ногами, обращая вытянутую морду навстречу потоку, подымая перед ноздрями солнечный стеклянный бурун. Внезапно ее голова погрузилась. Снова всплыла. Было видно, что глаза, окруженные белесыми ресницами, исполнены ужаса. Должно быть, она глотнула воды, захлебнулась. Ее развернуло и несло теперь вниз, толкало в спину потоком. Вытянутая золотистая голова с прижатыми ушами то погружалась, то всплывала среди блестящей воды.
Коробейников испугался. Корова тонула. Он быстро шел по берегу, продираясь сквозь хрустящие белые соцветья, стараясь догнать ее, не понимая, что должен делать. Зверь, которого поманил к себе, увлек в воду, обращал к нему свой любящий зов, теперь тонул по его вине, поверив ему.
Тонула не молодая золотистая корова, а его прабабка, «баба Груня», которая спрятала в нежный животный образ свое милое родное лицо, чье подобье было на лице и мамы, и бабушки, и на его собственном — чертами фамильного сходства.
Чудо, на которое он уповал, которое должно было вот-вот совершиться, теперь жестоко и страшно обрывалось среди летнего блеска реки, душистых цветов, голубого неба. Молча и беспомощно неслась по теченью коровья голова, всплывала и погружалась, и с каждым погружением все больше воды вливалось в ее усталое тело. Она тяжелела, все послушнее и безропотнее отдавалась слепому потоку.
«Не тони…» — беззвучно крикнул он гибнущему животному и, не успевая понять всего, что с ним происходит, кинулся в реку.
Упал горячей грудью в студеный обжигающий блеск. Бурно поплыл, глядя, как приближается глазастая, наполовину утонувшая голова. В шуме, в плеске, в бессловесной мольбе достиг середины. Ухватил рукой скользкий загривок. Корова тонула, глядя на него полуслепыми глазами, в которых отражался помутненный мир. Коробейников охватывал твердую шею зверя, старался приподнять над водой дышащие ноздри. Барахтался, чувствовал касанье шерстяного бока, слабые удары коровьих ног, тянул животное к берегу. Сам выбивался из сил, захлебывался. Видел сквозь брызги свои ладони с прилипшими золотыми шерстинками.
Это было похоже на безумие. Бегущая река, и в бурлящем потоке он обнимает тонущее животное. Не справлялся, не хватало дыхания. Коровья голова вырывалась, погружалась под воду. Он нырял, видя размытое золотое пятно. Хватал на ощупь, тянул вверх. Толкался ногами, загребая одной рукой, обнимая другой отяжелевшее животное.
Их снесло на мелководье. Он нащупал кончиками пальцев дно. Встал, кашляя, выплевывая воду. Видел, как на глубине медленно движется мимо него золотистая тень утонувшей коровы.
Остановилась, зацепившись за подводные камни. Он нырнул, выдрал на поверхность мокрую, с отекавшей водой голову, надеясь, что она задышит. Тяжелая голова выскользнула, опять погрузилась. Он видел на мелководье сквозь стеклянную толщу эту недвижную голову, серо-розовые, чуть разъятые губы, широко раскрытый, немигающий, голубой глаз, над которым бежала вода.
Собрав остаток сил, он ухватил эту голову и повлек на берег, выволакивая из воды животное, которое становилось все тяжелее, цеплялось копытами о дно. Надрываясь, вытянул ее на сушу.
Телка лежала, яркая, мокрая, словно отлитая из золота. С нее обратно в реку стекала вода. Задние ноги были раздвинуты. Виднелось нежное, начинавшее набухать вымя с розовыми сосочками. Что-то страстно и нелепо бормоча, он схватил ее передние ноги. Стал сгибать, разгибать, надеясь втолкнуть ей в грудь воздух, ожидая, что из губ ее хлынет вода, она издаст громкий вздох, ее голубые глаза дрогнут. Бился над ней, умолял, требовал, чтобы она ожила. Требование это было к кому-то незримому, кто наблюдал за ним из-под белого облака, не хотел помочь, оставался безучастным к мольбе.
Обессилев, отпустил коровьи ноги. Они вяло упали, стройные, сухощавые, с острыми костяными копытцами. Сел рядом, в мокрых штанах, исцарапанный, с порезом на ноге, по которой скользнула отточенная створка ракушки. Ему было худо. Его обманули. Не дали насладиться заветной встречей. И это горе, случившееся с ним на безвестной сибирской речке, было столь велико, что он разрыдался. Сначала беззвучно. Потом все громче и громче.
Кругом стояли пахучие зонтичные цветы. Перелетали шмели и бабочки. Рядом, словно отлитая из золота, лежала недвижная корова, из-под которой вяло тек солнечный ручей. А он громко рыдал. Вздрагивал плечами, не понимая, за что наказан. В чем его грех, который не позволил кроткому зверю переплыть эту речку, передать ему чудную заповедь, оставил его в вечном неведении.
Рыдания его становились тише. Он успокаивался. Омыл в реке слезы и кровь. Опустошенный, не понимая, что с ним приключилось, не оглядываясь на утонувшую корову, пошел по берегу, выбираясь к дороге, где поджидала машина.
Шофер слушал радио. Обратил на него испуганное лицо.
— Слышали? Наши войска вошли в Чехословакию. Дубчек арестован. Чего доброго, американцы ударят в ответ. Ну и дела!
Сквозь бульканье и трески эфира властный, металлически непреклонный голос диктора сообщал о переходе советских, польских и восточногерманских войск чехословацкой границы. Об аресте Дубчека, Черника и других деятелей «пражской весны», чьи действия были направлены на слом социалистического содружества.
— Ну и дела, — повторил шофер. — Что делать-то будем?
— В аэропорт, — произнес Коробейников, натягивая на мокрые плечи рубаху.
3
Газета, в которой он недавно работал, приглашенный после выхода его первой, романтичной, наивно-восторженной книги, — мощная многотиражная газета, управлявшая идеологическими потоками и культурными течениями в среде интеллигенции, размещалась на бульваре в конструктивистском тяжеловесном здании с железным лифтом, сумрачными коридорами и тесными, переполненными кабинетами. В здании пахло металлом, маслами, типографской краской. Тут же ухали и чавкали печатные станки, плавился и дымился свинец. Грузовики подвозили громадные рулоны бумаги, отвозили тяжелые кипы свежеотпечатанного тиража. Дом был заводом, где производились идеи, строилась политическая машина, создавались тонкие, постоянно менявшиеся технологии; и лабораторией, где ставились сложные и подчас опасные эксперименты, запускались в общественное сознание мифы и отвлекающие фантомы. Впрыскивались возбудители, способные довести общество до истерики. Вливались транквилизаторы, повергавшие публику в апатию. Создавались интеллектуальные инициативы, разбивавшие в прах устоявшиеся догмы и штампы. Выставлялись ложные, призрачно манящие цели, куда заманивалась общественная энергия и гасилась там, как в искусно расставленных ловушках. Коробейников любил газету, благоговел перед многомудрыми, засевшими в кабинетах умниками, каждый из которых, подобно алхимику, создавал волшебные порошки и зелья, растирал в невидимых ступах грубое вещество реальности, превращая его в цветной дым, в галлюциногенный пар.
Ему доставляло наслаждение промчаться по заданию редакции на ревущих турбинах над гигантской страной. Прикоснуться к огненному бархану в Каракумах. К серой броне тихоокеанского корабля. Поднести к лицу пахнущую медом горсть целинной пшеницы. Припасть к телескопу в армянских горах Бюрокана. А потом увидеть на огромном листе газеты свой свежий, черно-белый, словно черненое серебро, очерк в руках незнакомого человека, развернувшего номер в вагоне метро. Наблюдать, как бегают по строчкам его внимательные глаза. Знать, что в эти мгновения он, Коробейников, властвует над незнакомцем, управляет его мыслью и волей.
Газета была мощным циклотроном, бросавшим его, как частицу, по огромным траекториям мира. Была университетом, где он учился неписаным теориям, политическим наукам, загадочным магическим знаниям, с помощью которых велось управление громадной стоязыкой страной, наполненной противоречиями и конфликтами. Сейчас он, пользуясь своей ролью специального корреспондента и баловня, к которому благосклонно относилось начальство, явился в газету с дерзким намерением.
Еще не заходя в кабинеты, двигаясь по коридорам, он улавливал бегущие по зданию волны тревоги и возбуждения. Пражские события, громкий и опасный кризис, разраставшийся в Восточной Европе, накрывал своей ударной волной все новые зоны. Нес разрушения, искажал идеологические и политические контуры. Газета множеством чувствительных датчиков фиксировала действие взрыва. Создавала его многомерный портрет. Рисовала для публики его пугающий грозный образ, учитывая невралгию растерянных и взвинченных интеллигентов. Фрондирующих писателей и актеров. Диссидентствующих интеллектуалов. Либеральных «западников» в науке и державных «почвенников» в партии. Сторонников сильной власти в экономике и скрытых приверженцев Сталина в разведке и армии. В каждый слой газета направляла сигнал. Успокаивала, обнадеживала, тайно угрожала и предупреждала. Эта лихорадочная работа газетных отделов чувствовалась в коридорах, приемных, у дверей кабинетов, мимо которых проходил Коробейников.
В международный отдел торопливо, почти бегом, влетел специалист по европейской политике. Нес раздувавшийся парус черновой газетной полосы, исчерканной, испещренной фломастерами, с грубым свинцовым оттиском фотографии, на которой угадывался танк, ребристые шлемы экипажа и какие-то люди на мостовой, поднявшие в приветствии руки. Специалист, обычно надменный и чопорный, как и все сотрудники этого отдела, демонстрирующий свое превосходство над остальной редакцией, пропадавший в зарубежных командировках, сейчас был взлохмачен, с расстегнутым воротом, в табачном пепле, словно сам только что вылез из танка. Комната редактора, куда он вбежал, была наполнена высоколобыми спецами по внешней политике, экспертами из МИДа и неприметными людьми из разведывательного ведомства. Тощий лысый «американист» с лицом желтого, дынного цвета раздраженно восклицал:
— До какой же степени можно дозировать информацию!.. Тогда ее станут брать из Би-би-си и «Голоса Америки»!
В военном отделе царило радостное возбуждение. Там собрались репортеры, писавшие о маневрах, ракетных испытаниях, бравшие интервью у маршалов Великой Войны. Здесь всегда царил дух милитаризма, насмешливое отношение ко всевозможным «разрядкам» и «оттепелям», скептицизм по поводу разоруженческих переговоров. Теперь тут ожидали настоящую работу в зоне военного кризиса. Гадали, кому из них выпадет удача отправиться на военно-транспортном самолете в Прагу, чтобы осветить блистательный молниеносный захват десантниками стратегических центров Чехословакии. В приоткрытую дверь был виден именитый журналист, чуть под хмельком, взиравший на мокрый пустой стакан. Он вспоминал о венгерских событиях и о «Дне Х» в Берлине:
— В сорок пятом мы передали им Прагу целенькую, как чайный сервиз… А они нам за это в душу плюнули… Этот Дубчек — тот еще субчик!..
Из отдела культуры, шумно растворив кабинет, вышел, так же пылко и страстно, как выходил на сцену Политехнического музея, известный поэт. Высокий, худой, остроносый, с яркими мерцающими глазами, он развевал полами модного пиджака, держал в сухощавых пальцах свернутый в трубочку лист бумаги. Картинно переставляя длинные ноги, зашагал по коридору, на секунду встретился с Коробейниковым глазами, убедился, что узнан. Исчез в соседнем кабинете, сопровождаемый испуганными и восторженными сотрудницами:
— «Танки идут по Праге, танки идут по правде…» Это великолепно, но ведь это нельзя печатать!..
— Он смел, как всякий истинный русский поэт!.. И нам всем позор, что мы не можем ему помочь!..
Коробейников шагал по коридорам, ни с кем не заговаривая. Повсюду витала тончайшая пыльца информации, которая давала ему представление о происходящем. Он приблизился к кабинету, где мощно и энергично билось сердце газеты, заставляя своими ударами вздрагивать зеленые электронные часы. Укрытый за кожаной дверью, огражденный от суетного коллектива, восседал заместитель главного редактора Стремжинский. Главный редактор, утомленный писательской известностью и непрерывными интригами на вершине партийной власти, редко появлялся в газете. Заезжал на час, чтобы рассеянно набросать беглый эскиз редакционной политики. Проскальзывал молчаливой тенью вдоль стен, неся перед собой толстую дымящуюся сигару. Слегка горбатый, с невидящими глазами, не здоровался с сотрудниками, словно это были встреченные на тротуаре прохожие. Оставлял им вместо приветствия едкий запах пахучей сигары. Главным же двигателем газеты был его заместитель, трудолюбивый и мощный, как бык-землепашец. Тащил газету, словно литой и тяжелый плуг, оставляя в общественной жизни дымящуюся борозду. К нему, исполненный дерзновенного замысла, направился Коробейников.
— Входите, — милостиво пропустила его секретарша, которая напоминала тропическую красавицу с картины Гогена. Предварительно скрылась за священной дверью своего повелителя и вновь появилась с таинственной улыбкой на фиолетовых полинезийских губах.
Стремжинский сидел за столом, окруженный телефонами и фетишами в виде африканских статуэток, полудрагоценных камней, выточенных из янтаря безделушек, которые дали повод сотрудникам называть его кабинет «янтарной комнатой». Навесил тяжелое, разгоряченное лицо над газетной полосой, двигая по строчкам недовольными глазами в блестящих очках, шевеля чуть вывернутыми, бычьими губами. Вонзал авторучку в текст, сердито вышвыривая из набора непонравившееся слово, вписывал недостающие по смыслу фразы, громким вздохом осуждая недостаточную компетентность автора. Казалось, на хрупкую черно-белую графику полосы ложится резкий отпечаток его насупленных бровей, сильных складок у носа, выпуклого загорелого лба. Мельком взглянул на Коробейникова, указывая на кресло взмахом капельмейстера, продолжил этим взмахом управлять бегущими по газетной полосе словами и мыслями.
Коробейников присел, наблюдая жреческое священнодействие, допущенный в священный алтарь, где вместо идолов на стене висело электронное табло с указанием готовых к печатанию полос.
Ему нравился Стремжинский. Он испытывал род благоговения к его могучей энергии, неутомимому на изобретения разуму, который бурлил постоянными новациями, делал газету эксцентричной, неповторимой, отважной, что отличало ее от прочих, во многом унылых изданий. Нравились в Стремжинском сила, избыточность и звериная чуткость к опасностям, которые таились в рискованных материалах об экономике и культуре. Газета дразнила нервную интеллигенцию, провоцируя в ней всплески идей и эмоций, а затем направляла эти всплески в желоб обязательных, вмененных идеологией представлений. Газета питалась этими тонкими энергиями творчества, протеста и риска. Но если ее публикации возбуждали повышенную, не предусмотренную идеологией активность, она впрыскивала в очаги возбуждения тончайшие яды, гасила и умертвляла источник воспаления.
Громко, требовательно зазвенел один из телефонов, желтовато-белый, словно выточенный из кости, той же, из которой вытачивают биллиардные шары. На циферблате тускло светился серебряный государственный герб. Стремжинский сильным кулаком сжал трубку «кремлевки». Сердито поморщился, специально для Коробейникова, показывая, как мешают дурацкие звонки серьезной работе.
— Ну как же, как же!.. ГЛАВПУР для нас — и мать родная, и отец родной!.. Не прислушиваемся, а вслушиваемся в ваши советы!.. — бодро похохатывал Стремжинский и при этом, специально для Коробейникова, презрительно кривил вывернутые губы, выражая пренебрежение к говорившему. Этот говоривший мог быть всесильным генералом, начальником Главного политического управления, которого волновали публикации на армейскую тему во фрондирующей газете в период военного кризиса.
— Ну это понятно, что потери бывают даже во время учений, а здесь, по существу, фронтовая операция… — продолжал Стремжинский. — Даем репортаж о десантниках, взявших под контроль аэропорты и центры связи…
В трубке неразборчиво рокотало. Стремжинский отвечал. Иногда отодвигал трубку далеко от уха, чтобы не слышать неумные и настойчивые замечания старого генерала. Закатывал глаза. Коробейников представлял, как в шлейфах дыма, жужжа винтами, садятся на бетонную полосу военные транспорты, открывается апарель[1], и десантники в синих беретах высыпаются, как маковые семена. В кувырках, с автоматами, бегут врассыпную от полосы, занимая оборону у диспетчерской вышки, у радаров, у сигнальных огней. А из неба, среди черных мазков, продолжают снижаться тяжелые серо-серебряные машины.
— Обязательно пришлем материал на визу… Спасибо, что не забываете!.. — облегченно простился Стремжинский. Шмякнул трубку и вновь погрузился в работу.
Коробейников был благодарен Стремжинскому. Тот, прямо с улицы, пригласил его в престижную газету, прочитав его первый очерк о Сорочинской ярмарке. Возрождая гоголевские традиции, на огромном лугу был учинен красочный, пышный торг, во всем обилии и великолепии украинских медовых дынь, пламенных помидоров, полосатых черно-зеленых арбузов с малиновой брызгающей сердцевиной, с молочными поросятами и парными телятами, с расписными керамическими блюдами и узорными глечиками[2], с карнавалом, балаганом, плясками под дудки и скрипки, с безудержной гульбой, с огромными кастрюлями огненного борща, с обжигающими чарками горилки, с поцелуями, толкотней, потасовками, когда два загулявших мужика метали друг в друга цветастые эмалированные тазы, а спящему пьянице положили на грудь огромного мокрого карася, а бедовые захмелевшие дивчины затормошили до полусмерти загулявшего бобыля, и он, Коробейников, в изнеможении и счастье лежал на истоптанном лугу, под огромными звездами, глядя, как повсюду красно и волшебно полыхают костры и возносятся к небу дивные украинские песни. Этот нарядный, легко и счастливо написанный очерк восхитил Стремжинского. Он пригласил к себе никому не известного молодого писателя, и тут же, безо всякой аттестации, предложил ему место в газете. Этот щедрый поступок, безоглядное, не свойственное газетчикам доверие расположили Коробейникова к всевластному заместителю главного редактора. А тот, в свою очередь, чувствуя это благоговение, поощрял Коробейникова, оказывая ему знаки внимания.
Опять зазвонил телефон цвета моржовой кости с многозначительным гербом на циферблате. На этот раз голос Стремжинского был серьезен, почтителен, ответы продуманны и осторожны:
— Конечно, мы согласовываем все наши действия с международным отделом ЦК… Я прекрасно представляю, как глубоко затронут чехословацкую компартию перестановки… Мы готовы выделить нескольких опытных журналистов в помощь вашим товарищам… У нас есть коллеги, которые прекрасно справятся с написанием меморандумов и обращений… — Собеседником, чей голос бархатно и властно рокотал в трубке, мог быть ответственный работник ЦК, быть может, сам глава международного отдела, чье влияние в дни нарастающего кризиса многократно усиливалось. Стремжинский чувствовал субординацию, статусное превосходство партийного чина. Но при этом, как показалось Коробейникову, слегка бравировал ответами, словно позировал перед Коробейниковым, показывал ему свою внутреннюю независимость. И пока длился разговор, воображение рисовало металлический короб грузовика с зарешеченным окном, бледное, потрясенное лицо Дубчека. Рядом с ним, по обе стороны, два офицера КГБ, сопровождающие плененного лидера на аэродром, где специальный самолет готов к перелету в Москву.
Стремжинский, набычившись, правил, поблескивая очками. Коробейников, пользуясь минутами тишины, жадно всматривался, впитывал, старался понять доступный лишь посвященным культ редактирования. Загадочный ритуал сотворения газеты, к которому был причастен узкий круг жрецов. Немногие хранители знаний, чьи невнятные голоса время от времени рокотали в трубке, исходя из неведомого, недоступного чертога небожителей, в руках которых находилась не просто газета, но власть, теория, таинственное учение, позволявшее господствовать и управлять громадной страной и народом. Быть может, когда-нибудь и он, пройдя обучение в этой закрытой жреческой школе, умудренный, возвышаясь по лестнице знаний, восходя по невидимой спирали влияния, будет допущен в круг избранных. Станет сидеть в этом кабинете, взирать на мерцающее электронное табло с магическими цифрами, сжимать в кулаке белую костяную трубку, отрывая ее от телефона с гербом.
— Да, Георгий Макеевич. — Стремжинский вновь откликнулся на телефонный звонок. — Я заезжал к вам утром в Союз писателей, но не застал… Там, в пакете, все мои материалы… Конечно, мы готовы направить писателей в Прагу… Но, во-первых, покуда там идет «горячий» процесс, это несвоевременно… И по том, вряд ли культура с радостью воспримет приостановку «пражской весны»… Тут не всякий писатель сгодится… Я обязательно к вам заеду, и мы переговорим подробнее… — Коробейников догадался, что невидимый собеседник — это глава Союза писателей, управлявший могучей идеологической машиной литературы, куда, как шестерни, валы и колеса, были вставлены дарования известнейших литераторов, каждый из которых исповедовал свой символ веры, выражал интересы и чаяния своего поколения, относился к тому или иному литературному направлению и художественной школе. Ссорились, соперничали, сопротивлялись, казались себе суверенными и независимыми, но вольно или невольно служили единой политической воле, направленной на управление государством. И он, Коробейников, автор покуда единственной, наивно-романтической книги, напоминавшей своей нарядностью деревянную расписную игрушку, был тоже вставлен в эту невидимую мегамашину, занял в ней незаметное, но прочное место.
— Итак, чем обязан? — Стремжинский отложил исчерканную полосу и обратился к Коробейникову, строго, но с едва заметной насмешкой. И, не дожидаясь ответа, заметил: — Ваш последний очерк о рыбной путине на Азовском море несомненно хорош. И хотя в нем избыток красивостей и недостаток социальности, он эмоционален и заразителен. Именно это нужно сегодня. Пусть читатели знают, что, несмотря на «чешские события» и опасное ухудшение международной обстановки, жизнь продолжается. Люди ловят рыбу, пьют вино, любят женщин. Как я, например, моих любовниц… — Он произнес это, бравируя своим жизнелюбием, свободой, способностью, несмотря на годы, пленять женщин, одаривая этой откровенностью Коробейникова. — Итак, зачем пожаловали?
— Решил вас побеспокоить. — Коробейников собрался с духом, уповая на свои особые, как ему казалось, отношения со Стремжинским. — Прошу послать меня в Прагу. Сделаю военно-политический репортаж.
— В Прагу? — Стремжинский изумленно снял очки и уставился на Коробейникова выпуклыми глазами, в которых, как у быка, краснели прожилки. — Хотите в Прагу?
— Мне кажется, я смогу уловить особый нерв происходящего и сделать серию ярких репортажей из Чехословакии.
— Можете уловить нерв? — Стремжинский преодолел изумление. С веселым, снисходительным любопытством рассматривал молодого, самонадеянного нахала, явившегося к нему в самый пик работы. — Знаете ли, нерв — это мало. Помимо этого надо иметь полномочия, иметь репутацию. Надо пользоваться доверием не только в газете, но и в ЦК, и в Министерстве обороны, и в КГБ. Вы ничего этого не имеете и поэтому не можете рассчитывать на опасную, ответственную и престижную поездку в Прагу. Так-то, мой друг! — Он видел, как самолюбиво вспыхнул Коробейников, как от огорчения у него побледнели губы. — Но это, разумеется, не значит, что подобная поездка не состоится в будущем. Поверьте, еще будет много кризисов и чрезвычайных ситуаций. На ваш век хватит!
— Я убежден, что уже сейчас мог бы справиться с самым ответственным заданием, — упрямо повторил Коробейников. Заметил легкую досаду на лице Стремжинского.
— Ну хорошо. Во-первых, мною уже выбран человек в отделе, знающий тонкости восточноевропейской политики и работавший до этого в Праге. Уже подписана командировка военному корреспонденту, получившему орден за репортажи о венгерском восстании. Этот человек прошел консультации в МИДе и в разведке. Его ждут в Праге. Обеспечат безопасность и немедленно включат в работу. А вы без году неделя в газете! Вы даже не член партии!
— Не обязательно быть членом партии, чтобы написать блестящий репортаж или очерк, — дерзко ответил Коробейников. — Бунин не был членом партии, но прекрасно справлялся с описанием природы, машин и человеческих душ.
Он уже пожалел о своей выходке. Ожидал, что хозяин кабинета выставит его, отыскав для этого какую-нибудь язвительную нетерпеливую фразу. Но Стремжинский внимательно смотрел на него, играя очками. Словно хотел направить ему в зрачок солнечный зайчик.
— Впрочем, я не совсем прав, — сказал он задумчиво. — Вами заинтересовалась весьма влиятельная персона. Ваш очерк о молодых футурологах Новосибирска и материал о «Городах Будущего» архитектора Шмелева привлекли внимание очень значительного человека…
Это польстило Коробейникову. Он не спрашивал, что за влиятельная персона заинтересовалась им. Какой-нибудь крупный партиец, курирующий газету. Быть может, секретарь ЦК или даже член Политбюро. Он слабо представлял себе этих людей. Они казались ему туманными малоподвижными великанами, восседающими в горной пещере, куда вели невидимые лестницы из чопорного партийного дома на Старой площади. Такие высеченные из скалы статуи находились в Бамиане, в загадочных афганских горах. Оттуда они взирали каменными глазами на живую, суетно кипящую жизнь, изредка, скупыми жестами каменных рук меняя ее направление. Встреча с этими гигантами была для него маловероятна. Едва ли он когда-нибудь окажется в афганском ущелье, где дремлют могучие исполины. Однако сообщение Стремжинского заинтриговало его.
— Для журналиста или писателя, коим вы являетесь, очень важны отношения с властью. — Стремжинский продолжал внимательно рассматривать Коробейникова, будто заметил в нем нечто новое. — Эти отношения становятся для него решающими. Либо ведут на вершину успеха, либо губят и опрокидывают. Однако власть неоднородна. Представлена различными группами, каждая из которых борется за влияние, окружает себя полезными людьми, отдаляет вредных. Вас может выбрать и приблизить к себе группировка, которой вы в глубине души чужды. И тогда ваше взаимодействие с властью может кончиться трагично. От этого трудно предостеречь. Опыт приходит со временем, в результате мучительного взаимодействия…
Стремжинский не поучал, а, казалось, печально делился с Коробейниковым каким-то своим, трудно и опасно добытым опытом. Этот опыт был скрыт от Коробейникова. Он не мог им воспользоваться. Неукротимая энергия Стремжинского, его свобода и смелость, пренебрежение опасностями и почти безответственный риск были возможны до той поры, покуда за ним стоял тот или иной великан. Если он не заметит слабого жеста каменной великаньей руки или, не дай бог, неверно его истолкует, его накроет и расплющит громадная ладонь исполина.
Вновь раздался телефонный звонок. Стремжинский поднес трубку к уху, и лицо его умягчилось, почти умилилось, стало пластилиново-мягким, словно готово было отпечатать на себе незримый лик того, чей голос повелительно рокотал в телефоне:
— Так точно, Шарип Рашидович… Все сделаем, как обещали… Проблему Арала затронем не во вред, а на пользу…
Коробейников догадался, что незримым собеседником является могущественный узбек, чье смуглое, властно-благожелательное лицо величавого Будды в дни государственных праздников красовалось на транспарантах вместе с другими членами Политбюро.
Не дожидаясь завершения разговора, Коробейников поднялся и вышел. Его поход к Стремжинскому мог показаться неудачей, если бы не тайный намек. Коробейников и сам не знал, на что. Информация, словно туманная пыльца, витала в коридорах газеты. Он взглянул на свою ладонь, словно ожидал увидеть на ней отпечаток ускользнувшего мотылька.
4
Москва, горячая, смугло-душистая, в сухих накаленных фасадах, с размягченным асфальтом, брызгами фонтанов, запахом цветов на огромных клумбах, вокруг которых раскручивались блестящие спирали автомобильных потоков, отступила. Коробейников, сжимая руль новенького красного «Москвича», мчался по синему, окруженному лесами и нивами Дмитровскому шоссе в глухую деревню, где поджидали его жена и дети. Машина, которую он купил после выхода первой книги, за капризный нрав, способность не заводиться, манеру терять во время езды болты и детали, долго тянуться на буксирном тросе за каким-нибудь грузовичком или трактором, покуда не затрещит, не застучит проснувшийся двигатель, получила имя «Строптивая Мариетта».
Деревня, где они купили избу, была заброшенной, вымирающей, среди бездорожья, пахучих бурьянов, на холмах, под которыми разливалось чудесное озеро, с волнистыми голубыми возвышенностями. Леса подымались над лесами, бежали по сизым полям тени облаков, невидимая, скрытая среди восхитительных далей Троице-Сергиева лавра источала в небеса незримое сияние своих куполов, кустистых крестов. Огромная покосившаяся изба с седыми венцами, крытая чешуйчатой дранкой, стала просторным благодатным убежищем для их семьи. Ее, похожую на старинный корабль под выгнутыми полотняными парусами, увидел Коробейников за полем черно-золотых подсолнухов, среди которых утонул его торопливый автомобиль.
Он сидел под березой, под ее длинными, зелеными полотенцами, сквозь которые тихо светилась изба. Смотрел, как перед ним на лужайке играют дети. Пятилетняя Настенька в белом коротком платьице, с пушистыми пепельно-русыми волосами, в которых, как цветок, распустился розовый бант. И трехлетний Васенька, голопузый, со смешными, топочущими ногами, круглым смуглым лицом, на котором восторженно и наивно сияли темные глаза. Жена Валентина вдалеке, у колодца, стирала детское белье, лила в цветастый таз блестящую воду, плескала, терла, поворачивая милое загорелое лицо к березе. Издалека кивала, давала знать, что и она вместе с ними, в их забавах и играх, скоро присоединится к ним.
— А теперь мы положим в суп укроп. — Настенька сунула щепку в банку с водой, где кружились листики, камушки, кусочки коры. — Васенька, принеси мне, пожалуйста, укроп. — Дочь говорила тоном матери, когда та обращалась к ней самой, посылая в огород за укропом. Они с братом готовили обед, лили воду, ставили банку на перевернутую эмалированную кружку, изображавшую плиту. — Сколько раз я должна тебе говорить! Принеси укроп! — строго повторила Настенька, указывая брату дальний угол лужайки, где предполагалась грядка с укропом. Васенька захлопал глазами, послушно, обожая сестру, признавая ее превосходство, побежал по лужайке. Коробейников смотрел, как мелькают его крохотные розовые пятки, семенят точеные ножки, двигаются на спине маленькие лопатки. Васенька нащипал какую-то траву, вернулся обратно, протягивая сестре зеленый пучок, приговаривая:
— Укоп… Укоп…
Коробейников видел их любимые лица, в которых таинственно переливалось сходство то с ним, то с женой. Будто каждый поворот детской головы, каждая легкая тень от березы меняли пропорции этого сходства, и они с женой волшебно сливались в детях, словно отраженья в бегущей воде.
Ему казалось, он знает день, когда жена зачала дочь. Среди негаснущих беломорских небес, млечной лазури безветренного прохладного моря, из которого подымались розовые валуны, скользили зеленые, с прозрачными травами острова, низко летели утиные стаи, подымая крыльями буруны. Лодка, стуча мотором, шла среди гранитных уступов, на днище лежали огромные, словно зеркала, уснувшие семги, грубо краснело обветренное лицо рыбака, и по узкой протоке плыли два глазурованных алых оленя, поворачивая к ладье темно-вишневые глаза. В эту белую ночь на деревянной кровати, на шуршащем сеннике, он обнимал ее, видя сквозь прикрытые веки близкое, жаркое лицо, распущенные темные косы, слышал стуки ее сердца, тихие вздохи и шепоты. Когда без сил лежали рядом, касаясь друг друга утомленными молодыми телами, дочь была уже в ней. Уже наливалась, словно завязь на яблоне, охваченная нежнейшими лепестками, среди призрачного света, окружавшего дышащее лоно.
— А теперь, Васенька, надо кушать. — Настя усаживала брата на траву, и тот послушно, повинуясь повелениям сестры, опускался на теплые стебли. — Ты хороший мальчик… Тебе надо кушать… Вырастешь большим и сильным. — Она совала щепку в банку с водой, подцепляла обрывок листика. Подносила щепку к губам брата. — Открой рот… вот так… За маму, за папу… — Брат таращил темные, с перламутровым переливом глаза, верил, что это настоящий суп. Открыл рот, и щепка с зеленым листиком оказалась у него на языке. Он жевал, лицо его начинало морщиться, глаза круглились. Он выплевывал горький листик одуванчика, пуская губами пузырь, а сестра недовольно качала головой. — Ах, какой ты плохой, Васенька… Никогда не вырастешь… Так и будешь маленьким, как воробей. — Эти ужасные пророчества сестры, горечь на губах делали Васеньку несчастным. На глазах его появились крупные блестящие слезы.
Коробейников знал, когда, в какой час московской ночи, жена понесла сына. Их большая, полупустая комната с мартовским, запотевшим окном, за которым туманно светится город, с легким стуком среди талых снегов идет электричка, продергивая золотую стежку вагонов. На стене зеленоватое влажное отражение фонаря, в котором темнеет обломок каргопольской иконы, ангел с алым крылом. И он обнимает ее горячий затылок, вдыхает в ее растворенные губы свой жар, свой радостный стон, теряя свою плоть, свое имя, превращаясь в слепящий взрыв, словно кто-то огромный, шумный, в сверканье бушующих крыльев упал на них сверху, бил разноцветными перьями, а потом отпрянул, оставив по углам тающие отсветы. Их комната. Мартовская туманная ночь. Потрясенные, они лежат в открытой постели. На иконе чуть трепещет крыло ангела.
Дети на лужайке продолжали свои бесконечные игры, и было неясно, они ли повторяют своими затеями взрослых, подглядев их житейские тревоги и хлопоты, или из наивной потешной игры с годами произрастают житейские драмы, случаются великие скорби и радости, вершатся погребения и свадьбы. Дети под березой совершали таинственный наивный обряд, играя в свою будущую судьбу, и зеленое белоствольное дерево накрывало их прозрачной тенью, обмахивало душистыми полотенцами веток.
— Если не хочешь есть кисель с молоком, тогда встанешь в угол, — строго предупреждала брата Настенька, и тот вынужден был чмокать губами перед пустой плошкой, где, по всей вероятности, находился кисель из черной смородины.
Коробейников помнил, как родилась дочь и он торопился встречать жену среди клейкой зелени благоухающих тополей, синих лужиц на пахучем асфальте, неся букет огненных пионов. Она появилась на пороге, ликующая, гордая, держа в руках белый кокон, где в кружевах что-то невидимое розовело, дышало. Привез их обеих домой, где поджидала родня. Два рода сошлись в их весеннем, чисто прибранном и умытом доме. Окружили стеной просторную, застеленную покрывалом кровать, где жена осторожно развязывала розовые шелковые ленты, раскрывала белые пелены, разворачивая крохотное скорченное существо, которое сонно потягивалось, недовольно сжимало от света глаза, морщило маленькие розовые губы. Бабушка приблизилась к новорожденной, присела, наклонив сморщенное, подслеповатое лицо. Молча, долго рассматривала крохотную девочку. И все затаили дыхание, смотрели, как перетекают от одной к другой бестелесные, прозрачные волны света, словно род, отмирая в своей усталой, прожившей части, переносит свои заветы и заповеди в народившуюся, еще бессловесную жизнь.
Настенька постелила на траву легкую тряпицу, укладывала брата.
— После обеда ты должен поспать… А если не будешь спать, я рассержусь… Папа приедет, он огорчится… Глазки закрыть, ручки под подушку… — Она гладила брата по голове, тот послушно закрывал глаза, клал пухлые руки под розовую щеку. Коробейников в своем прозрении видел две их судьбы, две неразлучные жизни, которые им предстоит прожить среди треволнений и бурь, любя друг друга, утешая, кидаясь друг другу на помощь.
Помнил, как радовался, узнав в предновогодние морозные дни, что родился сын. Москва была в розовых дымах, с блестящим снегом, с бегущими, окутанными паром прохожими. На елочном базаре он выбрал елку, скрутил ее упругие колючие ветки бечевкой. Замерзая, поскальзываясь, нес домой лесное дерево, думая, какое счастье, что он молод, отец двух детей, живы мама и бабушка, на письменном столе лежит недописанный красивый рассказ, и сын родился, когда в рассказе по солнечной пыльной дороге мчится буйный табун. Жена появилась в доме, внося укутанного сына, когда уже мерцала драгоценная елка, покачивались на ней стеклянные петухи и рыбы, переливалась на вершине хрупкая серебряная звезда. Жена тихо ахнула, поднесла сына к елке. Они стояли среди волшебных мерцаний, сладких смоляных ароматов, и листы с рассказом белели на столе, будто кто-то невидимый записывал чудесное явление жены и сына.
Подошла жена Валентина, положила ему на лоб большую, прохладную от колодезной воды руку, и он почувствовал, как пахнет теплом и солнцем ее линялое, полупрозрачное платье, как сквозь легкую ткань движется сильное чудное тело.
— Я знаю, о чем ты думал.
— О чем?
— О том же, о чем и я.
Ее рука лежала у него на лбу. Береза ровно и трепетно шелестела мелкой, от ветреной вершины до подножья, листвой. За цветочной клумбой розовел бант дочери и блестела, словно черное стекло, голова сына. И он боялся пошевельнуться, благоговея перед восхитительным бытием, которое окружало его любимыми, близкими, и ветхим деревом старой избы, и летающей перед лицом бахромой из березовых листьев. И хотел, чтобы это бытие не кончалось.
Он и не кончался, этот медленный, тягучий, как мед, смугло-золотистый день, в котором уже сквозила близкая осень, давая знать о себе желтой гирляндой в березе, тучными, опущенными головами подсолнухов, пожухлыми огородами с пучками яркой и пряной пижмы, хрустальной высотой, в которой высоко и прозрачно застыло перистое облако. Все вместе они ходили к озеру на травяной мыс, где росли малиновые, с клейкими соцветьями цветы, которые они нарекли «богатырскими», представляя, что когда-то, сквозь заросли этих цветов, ехали на могучих конях былинные богатыри. Смотрели в солнечную, прозрачно-зеленоватую воду, где мелькали рыбки, и Васенька все не мог разглядеть, где же на озере «белеет парус одинокий», а Настенька радостно кричала: «Вижу!.. Вижу!..», хотя никакого паруса не было, а летели по воде далекие вспышки ветра. Вернувшись домой, вчетвером стояли в тени избы, глядя, как над коньком крыши пылает синева, и в ней перелетают прозрачные, словно пушистые звезды, семена иван-чая, и жена говорила, что в сердцевине опушенного семечка находится крохотный портретик Насти и Васи, и они летят к Боженьке, который хочет на них посмотреть. Разводили под березой маленький старинный самовар с рогатым краном, с гербами и вензелями, кидая в дымящий, едко пахнущий зев сосновые шишки. Коробейников, приподняв трубу, что есть силы дул в глубину самовара, выдувая из дырчатого донца сыпучие искры, покуда не вспыхивал, пробивая дымную пробку, жаркий свистящий огонь. Дети хватали отлетающий дым, а он, сжимая слезящиеся глаза, думал, как чудесно, что этот фамильный бабушкин самоварчик, собиравший вокруг себя исчезнувших стариков, теперь служит им и будет служить другим, неродившимся. Перед сном жена ставила в цветастый таз с нагретой за день водой по очереди Васю и Настю, ополаскивала из кувшина, и они стояли, как фарфоровые статуэтки, точеные и совершенные, блестя от воды.
В сумеречной, насупленной избе с рублеными венцами, торчащими из пазов клочьями мха, с нависшими черными потолками, где висело среди глазастых сучков старинное кольцо от несуществующей зыбки, они укладывали детей. Из-под большого одеяла выглядывали два близких, мутно-белых личика, нетерпеливо ожидающих обещанную сказку. Коробейников дорожил этой чудесной возможностью усесться у них в ногах, прихватив сквозь одеяло чью-то крохотную стопу. Глядя, как мерцает первыми звездами оконце, фантазировал, придумывал одну бесконечную, длящуюся из вечера в вечер сказку все с теми же персонажами.
— Жили-были маленький мальчик Васенька и маленькая девочка Настенька, его сестрица… — Коробейников чувствовал, как вытянулись на тонких шейках две детские головы, застывая от сладостных предвкушений, и жена в темноте замерла с остановившейся полуулыбкой. — И жила у них большая добрая лошадь по имени Петр, — ему стало смешно от этого лошадиного, попавшего на язык имени, но он не подал виду и продолжал со всей серьезностью: — И вот однажды, когда стало совсем темно и все люди улеглись спать, Васенька сел на лошадь Петра, и она, разбежавшись по полю, взлетела в небо. Развевая хвост, понесла Васеньку под самыми звездами, так что не стало видно земли… — Сын перестал дышать, со страхом и сладостью представляя себя несущимся на поднебесной лошади, у которой ветер свистел в гриве, продергивая сквозь нее длинные серебряные нити звезд. — Вдруг навстречу им вылетел страшный дракон с девятью головами, огненным языком и длинными отточенными зубами. Набросился на лошадь и мальчика Васю, обвился вокруг и стал жалить, кусать, обжигать огнем, стараясь затащить смелого наездника в глубокую бездонную пещеру неба, где он обитал… — Коробейников чувствовал, как испуганно замерли под одеялом сын и дочь и в руке у него онемела маленькая детская пятка. Жена в сумерках молча волновалась, не слишком ли ужасна сказка, не лишатся ли дети сна. Это было предостережением Коробейникову, требующим немедленно изменить сюжет. — Девочка Настенька видела с земли, как сражаются в небе злой дракон и добрая лошадь Петр. Она знала, что Петр любит вкусную зеленую траву. Сорвала на лужайке под березой самый свежий душистый пучок и подкинула вверх, чтобы лошадь Петр съела эту сладкую траву… — Дочь тихо засмеялась, понимая, что близится счастливый конец, и это она своим смелым поступком вызволяет из беды любимого брата. — Лошадь Петр съела на лету пучок волшебной травы, стала сильной, непобедимой. Брыкнула страшного и злого дракона, так что он кувырком полетел назад в свою бездонную пещеру и там сгорел, как щепка в самоваре. А смелый Васенька и добрая лошадь Петр опустились на лужайку под березу, где ждала их Настенька, и пошли домой спать… — Сын и дочь ликовали, ерзали, крутили головами. Пробовали еще вертеться, тузить друг друга ногами. Но мать строго разделила их, раскатила в разные стороны просторной кровати, приказав: «Глазки закрыть, руки под подушку…» — И это означало, что оставалось только одно — заснуть.
Выходя из избы в сени, придерживая тяжелую скрипучую дверь, Коробейников подумал, что, быть может, через множество лет, когда его и жены уже не будет на свете, а дети проживут громадные жизни, погрузившись в тусклую оторопь старости, вдруг в сумеречной и печальной памяти что-то тихо и нежно вспыхнет. Вспомнят эту теплую, пахнущую вялыми травами избу, широкую кровать под деревянным глазастым потолком, мать и отца, сидящих у них в ногах, и отец рассказывает сказку про какую-то лошадь Петра, и все они любят друг друга.
В сенях, не зажигая свет, он нащупал приставную лестницу. Хватая отшлифованные перекладины, чувствуя дрожанье старых иссохших слег, поднялся на высокий чердак, в укрытие, где спасался от детских воплей, окриков жены, нескончаемой суматохи, что царила днем в их бревенчатом ветхом жилище. Здесь, под чешуйчатым, из осиновой дранки скатом стоял самодельный, из грубых досок стол с портативной печатной машинкой «Рейнметалл», чья старомодная эстетика, золотая по черному немецкая надпись возвращали воображение в благословенный девятнадцатый век, придумавший для благополучного и благопристойного человека множество хитроумных приспособлений и машин.
Среди уступов сухого чердачного короба, пахнущего тихим прахом исчезнувшей жизни, остатками банных веников, травяных пучков, развалившихся плетеных корзин стояли белые подрамники, подаренные другом, архитектором-футурологом Шмелевым. Его «Город Будущего» — фантастический проект цивилизации XXI века, который Шмелев стремился выставить на международном форуме в Осако. Здесь, на белых щитах, города-башни возвышались среди сибирских болот и полярных снегов, взлетали ввысь из азиатских барханов и ущелий Кавказа. Напоминали громадные первобытные хвощи и папоротники, гигантские заостренные сталактиты. Их вьющиеся гибкие стебли подбирались к океанской кромке, ныряли в пучину, образуя подводные, похожие на стеклянные пузыри, поселения. Их стремительные побеги устремлялись в Космос, цепляясь за орбиты, превращаясь в космических бабочек, в пчелиные, облепившие планету рои, в громадные, построенные на Венере и Марсе термитники. Яростное и романтическое перо Шмелева переносило жизнь из индустриальных центров в пустыни и льды, где люди добывали золото, нефть и уран, строили космодромы и станции космической связи.
Коробейников не уставал рассматривать эти захватывающие фантазии, в которых его другу рисовалась советская цивилизация грядущего века, когда скажутся плоды грандиозных трудов и лишений, и Красная империя Советов, во искупление всех трат, распространится в беспредельный Космос, одолеет смерть, займется спасением умирающих, чахнущих галактик.
Тут же, у подножья этих пространных высоких подрамников, составляющих целую стену, была разложена коллекция крестьянской утвари. Изношенные инструменты остались от прежнего хозяина, одинокого, брошенного детьми старика, от кого Коробейников получил во владение избу. Здесь лежал допотопный плотницкий циркуль, похожий на тот, которым Колумб мерил расстояние на глобусе, что придавало избе еще большее сходство с кораблем, плывущим сквозь океаны времен. Чугунные пузатые гирьки соседствовали с заржавленными весами, чья стрелка покачивалась между медными позеленевшими чашами, на которые когда-то сыпалось золотое зерно, плюхалась сочная глазастая рыбина, шмякался ломоть отекающих медом сот или ложилась окровавленная свиная нога. В деревянной, источенной жучками ступе торчал окованный железом пестерь[3], стояли прислоненные к стене деревянные лопаты, на которых из печи вытаскивали горячие парные ковриги. Среди этой коллекции находились подковы, кованые, с большими шляпками гвозди, скребки, молотки, ухваты. Все, что когда-то служило молодым, предприимчивым обитателям крестьянского дома. Строгало бревна, пекло пироги, косило луга, рубило смоляные поленья, шило мягкие эластичные кожи, ткало цветастые половики, валяло грубые толстоносые валенки.
Коробейников относился к инструментам с благоговением, веря, что волшебным словом или чудесным волхвованием они могут ожить, вызвать из небытия исчезнувший крестьянский уклад, и тогда на опустелых улицах деревни вновь взревут гармони, взовьются в ночное небо неистовые шальные песни, и за озером, на развалившейся колокольне, зазвенят колокола.
Коробейников лежал на топчане, среди «Городов Будущего», крестьянских прялок и кос. Испытывал полноту и бесценность своей молодой, бесконечной жизни, которая неуклонно, в творчестве и познании, раскрывалась в мир, как если бы кто-то любящий, благой и всесильный открывал ему бесконечно расширявшуюся сферу, одаривая драгоценным опытом, осуществляя загадочный, сокрытый до времени замысел.
Услышал, как в сенях, в темноте, тихо скрипнула дверь. Струнно задрожала лестница. Жена, усыпив детей, ополоснув посуду, подымалась к нему. Она возникла в сумраке из-за полога, в белой нижней сорочке. Он различал белые бретельки на ее голых плечах, длинные босые ноги, смуглый вырез груди, из которого исходило едва видимое теплое свечение. Подошла и легла рядом с ним на топчан. Сенник расступился и зашуршал, принимая ее большое сильное тело. Подушка, наполненная легкой благоухающей травой, опустилась под ее затылком, накрытая жаркими густыми волосами.
— Спят? — спросил он, чувствуя рядом ее округлое, душистое плечо.
— Спят… Мне вдруг показалось, что у Васеньки жар. Но, кажется, нет, померещилось…
— Какая вкусная молодая картошка! А ты все сомневалась, сажать — не сажать…
— А как вела себя «Строптивая Мариетта»? У нее был очень заносчивый вид.
— Я ее хорошенько помыл. Сменил в фаре перегоревшую лампочку. И она вела себе примерно, как настоящая леди.
— Как я рада, Мишенька, что ты вернулся!
Он видел чердачное оконце, где брезжили, сочились мелкие частые звезды и что-то таилось, вглядывалось, прислушивалось из огромного прохладного неба, от которого они были отделены деревянным коробом крыши. Это звездное небо с душистым холодным воздухом, где бесшумно скользнула сова и недвижно чернела береза, не вторгалось на их чердак. Потеснилось, уступая им заповедное, крытое деревянным шатром пространство.
— Те дни, когда тебя нет, — говорила жена, — когда ты в поездках, я так тревожусь. Места не нахожу… Где ты? С кем? Не случилось ли что? Не обидел ли кто тебя?.. А вдруг тебе повстречался какой-нибудь злой человек? Или какая-нибудь коварная красавица?.. И тогда я молюсь. Поворачиваюсь лицом туда, куда ты улетел, на запад или на восток. Сердце мое само собой открывается, и оттуда словно исходит луч. Отыскиваю тебя вдалеке за горами-морями. Напоминаю о себе, окружаю светом, заслоняю от зла… Ты чувствуешь, как я молюсь о тебе?..
Он чувствовал этот луч, когда в реве, сбрасывая с крыльев солнечную стеклянную бурю, взмывал его самолет. На стройке, когда в огромном коробе станции, среди бессчетных труб и приборов, пускалась турбина, и в асбестовом кожухе, словно в белом мучнистом коконе, начинала трепетать проснувшаяся громадная бабочка, оживали циферблаты и стрелки, наладчик прикладывал к кожуху длинную слуховую трубу, и от станции в ночь, к таежным буровым и поселкам, бежали бриллиантовые реки огней, он вдруг улавливал нежное прикосновение, чудесное дуновение — ее пальцы у себя на висках. Вечерами, в гостиничном номере, когда из ресторана неслась манящая музыка, мимо дверей, по коридору сладко и призывно стучали женские каблуки, раздавался волнующий, зовущий, доступный смех, он чувствовал, как ее невидимая рука касалась его глаз, снимала с них поволоку, и он, засыпая, целовал ее невидимую прохладную руку.
— Целыми днями — стирка, плита… Дети хворают, капризничают… Тревоги, заботы, бессонные ночи… Где мое рисование? Где мой театр? Где мои эскизы к костюмам и декорациям?.. Один быт, одна непрерывная, непроглядная круговерть. Правильно ты меня как-то назвал — «чайная баба из цветных лоскутьев»… Но вдруг среди этих беспросветных хлопот, денных и ночных тревог, Настенька ко мне подойдет, обнимет своей чудной ручкой, глянет сияющими глазами… Или Васенька вдруг улыбнется своей чарующей улыбочкой… Вот и награда мне за все мои труды и бессонные ночи. Им передала я мои краски, мои театральные спектакли, мои мечты и фантазии…
Он помнил, как она раскрывала мольберт среди красных, в немеркнущем свете, карельских сосняков. Как сидела с этюдником у бирюзового драгоценного озера, над которым летела гагара, роняя летучую каплю, и на водах расходились сонные заколдованные круги. Она рисовала его портрет, когда он писал рассказ в медовом свете керосиновой лампы, на дощатой стене висели сухие щучьи головы, в оконце беззвучно танцевали паучки и мерцало стеклянное озеро. Он поражался в ней чутким угадыванием его невысказанных желаний и мыслей. Ее колдовским, языческим обращениям к природе, где она ловила знамения и приметы, неуловимые знаки на облаках и на водах, словно постоянно отгадывала загадку среди вечерних зорь, туманного месяца, плещущих в утреннем озере серебряных рыб. Там, в карельских лесах, где он работал лесником, она отыскала его, пробираясь, как в сказке, через чащобы и реки, в его потаенную лесную избушку.
— Пусть я стала «чайной бабой из цветных лоскутьев», но я мою жизнь посвятила тебе. Ты художник, тебе нужна свобода, ты ищешь перемен, новых впечатлений. В своей первой книге ты изобразил меня, описал наши путешествия, нашу чудесную любовь. Мне говорили: «Боже, как замечательно и возвышенно он тебя описал!»… Но я ведь знаю, ты станешь искать другие образы, иные впечатления… А вдруг я тебе наскучу? Вдруг ты увлечешься другой?.. Наш с тобой мир такой хрупкий, такой уязвимый, накрыт этим сухим деревянным коробом, за которым притаились опасности, стерегут нас беды… Как нам уберечь наш маленький чудный мир?..
Он чувствовал ее страхи. Высоко, среди звезд, невидимый, шел ночной бомбардировщик. Металлический звук накрывал землю звенящим шатром, словно заворачивал ее в шелестящую фольгу. Легкий, всепроникающий звук просочился сквозь ветхую крышу, поместил их в незримый саркофаг, где они лежали, прижавшись друг к другу. Опустился ниже, сквозь потолок, в бревенчатую избу, где спали дети. И все они на минуту оказались уловленными этим металлическим звуком, захвачены в непроницаемый кокон, куда их тонко и искусно запаяли. Звук отлетал. Темная тень высотной машины, перечеркивая звезды, смещалась за леса и озера.
— Тогда, в Карелии, когда мы с тобой познакомились и уже стали сужеными, и нам казалось, что навечно поселились в этой сторожке, среди красных, заиндевелых сосняков, ледяных, сине-зеленых на закате озер, трескучих морозов, и ты являлся в полушубке, застывший, со своим рюкзаком и ружьем, и ставил в сенях широкие малиновые лыжи, похожие на заостренные лодки, ты помнишь, мы вышли ночью под звезды? Дорога была накатана, в ночном таинственном блеске, окружена высокими черными елями, над которыми ослепительно, грозно, прекрасно сияли огромные зимние звезды. Меня охватило такое счастье, такое ликованье, что вот мы с тобой, молодые, любящие, не видимые никому, кроме этих громадных переливающихся звезд, шагаем по дивной дороге. Мы избраны, нам во славу зажжены эти торжественные звезды, нам уготовано такое блаженство, такая чудесная судьба. Я все старалась заглянуть в твое лицо, чувствуешь ли ты то же самое. Но ты шел впереди, большой, в валенках, в своем тулупе и косматой шапке, настоящий лесник, и я старалась поспеть за тобой, не поскользнуться на этой гладкой дороге, и так любила тебя. Ты шел все быстрей, дорога поднималась в гору, я начала отставать от тебя. Звезды летели над елками, как длинные яркие брызги, залетая за черные остроконечные вершины. Ты уходил вперед все дальше, думая о чем-то своем, быть может, о рассказе, который лежал недописанный на шатком тесовом столике возле печки. Ты забыл обо мне. Я подумала, что вдруг так и будет в жизни. Ты уйдешь вперед, своим неповторимым путем, все быстрей и быстрей, туда, куда указал тебе твой гений, позвал тебя твой ангел-хранитель, а я останусь. Мне стало больно, страшно. Слезы выступили на глазах, звезды превратились в сплошной слепящий слиток. Ты почувствовал мою боль и беду. Остановился. Вернулся ко мне. Целовал меня в мокрые глаза. Мы медленно, взявшись за руки, брели по пустынной дороге. Было ужасно холодно. Звезды куда-то скрылись, на небе была тусклая мгла. И я подумала, что вот так же под старость, прожив жизнь, уставшие, без сил, мы будем шагать в туманных мглистых сумерках, застывая и немея. Впереди, среди елок, засветило, замерцало. Дорога заблестела, и нам навстречу выкатил автобус, старый, железный, похрустывая своим промерзшим коробом. Ты помахал. Автобус остановился. Шофер пустил нас внутрь. Там не было никого, только продырявленные сиденья, застывшие непрозрачные стекла, спина шофера, сутулая, с поднятым воротником. Мы катили в промерзшем автобусе, среди ледяного железа, скрипов, стуков, слабых поблескиваний на промороженных стеклах. Я подумала, что этот автобус, как челн, везет нас в последний путь, туда, откуда мы вышли. Водитель, как древний перевозчик, переправляет нас через реку жизни в царство теней и тьмы. И в этом печальный неодолимый закон, под который мы с тобой, как миллионы других, подпали и следуем его неукоснительной воле…
Его испугала эта притча. Испугало всеведение, каким она обладала. Тайное печальное знание, какое таилось в ней, делавшее мнимым и временным ее веселую энергию, неутомимую бодрость, ее прелесть и красоту. Эта печаль была и о нем, чья творческая неукротимая страсть, честолюбивый азарт, неутолимое познание неизбежно обнаружат тщету, незавершенный поиск, разочарование и бессилие. Эта печаль была и о детях, чья нежность и чудная сверкающая краса в конце концов неизбежно померкнут, приблизятся к роковому пределу и канут, превратившись в комочки тусклого праха.
— А я тебе поведаю другую притчу, — сказал он, осторожно накладывая руку ей на глаза, чувствуя, как щекотят ладонь ее ресницы, словно пойманная бесшумная бабочка. — Когда мы купили эту избу, я впервые сюда приехал, переночевал в нетопленном, заиндевелом срубе, едва не угорел от стариковской дымящей печурки, а утром вышел на снег и ахнул. Солнечная белизна до горизонта, в бочке блестящий лед, береза, огромная, белая, с прозрачной розовой кроной, сквозь которую лазурь, морозная свежесть, мерцающие снежинки. Я восхитился, — это моя береза, я ее хозяин, она принадлежит мне вместе с чудесной синевой, мерцающим инеем, летящей в вышине хрупкой длиннохвостой сорокой. Это обладание березой было так чудесно, такое во мне было счастливое могущество, что я подошел, обнял ее и поцеловал холодную голубоватую кору. Но за те годы, что мы живем здесь, когда родились и растут наши дети, и мы ставили их колыбельки под ее зеленые ветви, и бабушка моя сидела под березой в креслице и дремала со своей бесконечной думой, и наши ночные объятия и ласки, за которыми сквозь оконце наблюдала береза, и мои зимние сидения в избе перед горящей печкой, с рассыпанными по столу листами бумаги, я вдруг понял, что не береза моя, а я березин. Я принадлежу ей, нахожусь в ее волшебной власти. Она была здесь до меня и будет после меня. Приняла меня, окружила своими соками, своей листвой, звездами, своей бессловесной жизнью, и когда я исчезну, то войду в нее, облачусь ее берестой, стану капелькой ее бегущего сладкого сока, ее клейким листочком, бриллиантовой звездочкой, перетекающей через ломкую ветку.
Она закрыла глаза, и он больше не чувствовал ладонью трепет ее ресниц. Замерла, словно проникалась услышанным. Медленно, едва касаясь, он повел ладонью над ее лицом. Как слепец, легчайшими прикосновениями угадывал ее разлетающиеся шелковистые брови. Широкий лоб. Утонченную длинную переносицу с тонкими, чуть дышащими ноздрями. Выпуклые гладкие скулы, от которых исходил едва ощутимый жар. Его ладонь скользнула вдоль шеи, где бился пугливый родничок, выталкивая беззвучные фонтанчики тепла. Огладила круглое плечо с шелковой свободной бретелькой, приспустив ее, пробираясь в теплую мягкую глубину, где покоились располневшие после рождения детей, тяжелые, чуть влажные груди. Ее живот под рубахой слабо вздымался, и ладонь ощутила прелестную выемку пупка, жесткий плотный треугольник лобка, источавший жар, который сменился прохладной чистотой ее округлых глазурованных бедер. Колени ее были сжаты, и он осторожно проник между ними шевелящимися пальцами. Она была неподвижна, безропотна, покорна ему, подвластна его прикосновениям, и он каждый раз изумлялся ее доступности, чудесной пленительной красоте ее невидимого во тьме, только ему одному принадлежащего тела. Он целовал ее колени, и она, как всегда, сначала их пугливо сдавила, а потом, уступая, раздвинула. Целовал дышащий живот, проникая языком в сладостную лунку пупка, и она, как всегда, мягко, бесшумно вздрогнула. Ласкал губами ее груди, чувствуя, как они тяжелеют, наливаются силой, теплеют, бурно вздымаются, и соски, сжатые его ртом, восхитительно твердеют, расширяя губы. Он властвовал над ней. Она принадлежала ему. Он будил поцелуями ее дремлющее тело, которое начинало просыпаться в каждой своей клеточке, волновалось, жарко дышало. А он начинал исчезать, лишался своего превосходства, терял свои очертания. Она увеличивалась, росла, становилась огромней его. Расступалась, погружала его в свою темную жаркую глубь, в душную черно-красную бездну. Смыкалась над ним. Он был окружен ею, был в ней. Покидал этот мир, счастливо и страстно стремился туда, где кончалось сознание, ощущение своей отдельности, пропадали все мысли и чувства, кроме жадного, страстного, слепого стремления в раскаленную влекущую тьму. И когда в своем погружении им был достигнут предел, за которым обрывалось бытие и приблизилось желанное, запредельное чудо, оконце в светелке бесшумно и ослепительно лопнуло. Сверкающий бурный блеск проник на чердак под крышу, накрыл их тугими бьющими крылами, словно серебряный петух, сорвавшись с березы, влетел в светелку, яростно бил и клевал, а потом отпрянул, разметав по углам завитки рассыпанных перьев.
— Боже мой, — чуть слышно произнесла она.
Он лежал бездыханный. Без лица, без мыслей, без имени. Чистый и белый, как пустое зимнее поле.
Жена ушла, утомленно спускаясь вниз по дрожащей лестнице. Скрипнула дверь в избу. И он остался один на дощатом ложе, где сенник еще слабо звенел, храня длинную теплую выемку от ее тела.
Это были удивительные, странные мгновения между явью и сном. В его безвольный, опустошенный разум, как в расплесканный до дна водоем, начинали стекаться разбрызганные образы, просачиваться струйки чувств, падать тихие капли видений, некоторые из которых не принадлежали его опыту, были не его, а из какой-то иной, с ним не связанной жизни. Он засыпал, удерживая последние секунды исчезающей яви, среди которой возникла серая, незавершенная дуга моста над огромным разливом реки. Зонтичный сочный цветок с зеленым слитком жука и плывущая, в солнце, корова. Стремжинский, беззвучно шевелящий выпуклыми губами, ударяющий пером в черно-белый газетный лист. Какие-то туманные, в песчаной горе, великаны, один подле другого, влиявшие на его жизнь и судьбу. Великаны вдруг выплыли из рыжего тумана, обрели свою громадную плоть, резные огромные пальцы, пустые невидящие глаза, и он, прижавшись к иллюминатору, в разящем блеске винтов, мчался в афганском ущелье Бамиан мимо плоских ноздрей громадной буддийской статуи, видел ее раздвинутый в улыбке рот, горчичного цвета лоб. От великаньего лица, навстречу вертолету ударила струя пулемета, прорезая обшивку, и он ощутил жуткую во сне достоверность падения.
Но уже спал, уже клубились в нем, подобно дыму, неразличимые виденья, бесконечные завихрения, таинственные облака, словно глаза, повернутые вовнутрь, начинали видеть брожение распавшихся миров, недоступных зрячему разуму.
Проснулся от грома и ужаса. Весь чердак был в жутком багровом свете. Оконце пламенело и плавилось. Огненно-красное, раскаленное, в страшном грохоте, пульсировало небо. За лесами, где была Москва, рвались ядерные смертоносные взрывы. Волны ядовитого пламени летели из-за горизонта, накрывая избу. И жуткая безнадежная мысль, — кинуться вниз, схватить детей, мчаться куда-нибудь прочь от истребляющего огня. Очнулся. Небо было в ранней заре. Над озером клубился летучий розовый пар. По деревенской улице, мимо окон, шумно катил самоходный комбайн — косить соседнее поле. Коробейников стоял с колотящимся сердцем. Смотрел, как в тумане, розовая на заре, летит чайка.
5
Когда на время прерывались яростные странствия, огромные, как вдох и выдох, командировки, Коробейников усаживался в маленьком домашнем кабинете над листами бумаги, стрекоча портативной машинкой, и весь день до вечерних сумерек проходил в писании. Вечером он спускался к своему красному «Москвичу», заводил привередливый, непослушный механизм и катил из Текстильщиков через всю Москву в центр, на улицу Герцена, в Дом литераторов. Неповторимое московское место, столь непохожее на стерильно-строгие, чопорно-молчаливые министерства, научные институты, засекреченные заводы и гарнизоны, из которых состоял огромный каменный город с рубиновыми звездами в синем вечернем небе.
Было весело и тревожно оставить машину на мокром от дождя асфальте, недалеко от входа, и войти в теплый, высокий, мягко освещенный вестибюль, где уже с порога тебя ожидали желанные и опасные встречи. С сотоварищами и соперниками, именитыми высокомерными литераторами и шумной бестолковой богемой, с властителями дум и безобидными пропойцами и неудачниками. Ты оказывался в едкой, нетерпеливой, вероломной среде, капризно-непостоянной, льстиво-велеречивой, скандальной, глубокомысленной, печальной, помышлявшей о славе и деньгах, о красоте и глубинном смысле, скрытом среди смертей и рождений.
У входа, охраняя высокие тяжелые двери, сидели привратницы, костлявые, с тяжелыми лошадиными головами, выпуклыми мослами, похожие на старых породистых кляч в темных ветхих попонах. Сурово и нелюбезно осматривали всех входящих, наводя трепет на молодых визитеров, не имевших писательских билетов. Они были жрицами при входе в святилище, и Коробейников, уже завсегдатай Дома, испытал неисчезающее благоговение и робость при виде их выцветших, окостенелых лиц.
Сразу за этими грифонами в юбках начинался гардероб. Служитель, такой же мемориальный, как и само святилище, снисходительно, с легким презрением, принимал влажный плащ или зонтик, вешая его либо на общие крюки среди прочих одежд, если ты не слишком именит и не окормляешь гардеробщика щедрыми чаевыми; либо помещал его отдельно, на вешалку для избранных, где могло уже висеть малиновое пальто поэтической знаменитости, ужинавшей в ресторане с очередной красавицей, или мятый берет славного писателя-деревенщика, выступавшего на творческом вечере, или остроконечный зонт модного беллетриста, заглянувшего выпить рюмочку водки в уютном баре. Коробейников, принимая номерок, не без удовольствия заметил, что его плащ оказался рядом с роскошным макинтошем, какой носил в последнее время баловень шумных поэтических празднеств.
В вестибюле, где уже сновало множество народу, он обменялся несколькими молниеносными взглядами с посетителями, знакомыми и незнакомыми, по-звериному чуткими, любопытными, ищущими среди входивших узнаваемое лицо, к которому можно устремиться с громким, напоказ, возгласом, и тут же на глазах у всех старомодно, по-московски, расцеловаться. Или же, напротив, скользнуть в сторону, скрыться за колонну, если лицо по какой-либо причине было неприятным или опасным.
При входе в холл на высоком штативе был выставлен некролог, оповещавший о кончине очередного писателя, на сей раз некоего Гринфельда, чье выведенное черным имя ничего не говорило Коробейникову. Принадлежало к огромному множеству литераторов, авторов каких-нибудь военных стихотворений о вождях и героях или критических статей, порицавших Ахматову и Зощенко. Эти небольшие, многочисленные литераторы населяли, как ласточки-береговушки целый район Москвы у метро «Аэропорт». Дружили, ссорились, сплетничали, вылетали на прогулку в соседний скверик и время от времени умирали, оставляя уютные квартирки своей многочисленной еврейской родне. Некролог в Доме литераторов был последней страничкой в литературной судьбе писателя Гринфельда. Перед закрытой дверью, ведущей в Малый зал, лежала оброненная еловая веточка, означавшая приготовление к завтрашней панихиде, для которой в сумерках затворенного зала были сдвинуты в сторону кресла, выставлен длинный просторный стол, стоял покуда пустой обтянутый кумачом и пахнущий сырой древесиной гроб. Коробейников мысленно и без всякого сожаления представил в красном гробу сердитое желтоватое личико с крупным носом и фиолетовыми склеенными губами. Спустился в туалет, желая ополоснуть перед ужином руки.
Там он застал комичную и весьма характерную сцену. Два изрядно подвыпивших поэта, обычно являвшихся в Дом литераторов задолго до вечерних сумерек и набиравших в буфете водки, дешевых бутербродов с колбасой и селедкой, теперь, в туалете, среди несвежего кафеля и тусклых зеркал, выясняли, кто из них «последний поэт деревни».
— Ты — графоман и воришка чужих метафор и образов!.. Спер у меня строки: «средь широких хлебов затерялась деревня…» Я тебе по пьянке читаю гениальные стихи, а ты записываешь и вставляешь в свою туфту… Недаром о тебе говорят: «Все стихи — говно, но встречаются гениальные строчки!..» — нахохлился маленький, воробьиного вида, поэт, нацелив на соперника острый раздраженный клювик.
— Как сейчас дам тебе в лоб, чтоб не врал!.. Чтоб мозги твои тухлые здесь растеклись!.. — белел от гнева второй, крутя крестьянской жилистой шеей, на которой страшно взбухала синяя вена.
Оба родились в деревнях. Писали о заколоченных избах, об обездоленных деревенских старухах, о крапиве и лебеде у родного порога. Обещали в своих стихах вернуться в родимый край и залатать старой матери прохудившуюся крышу избы. Коробейников ополаскивал руки, видя в зеркало, как стоят они среди кафельных стен туалета, готовые подраться, обожатели Есенина, дебоширы и выпивохи, пропивающие в буфете свои невеликие деньги и малые таланты.
Словно обходя границы своих необширных писательских владений, Коробейников поднялся на второй этаж, где за дверями в актовый зал раздавался многоголосый взволнованный шум, звучали аплодисменты, рокотал хорошо поставленный голос. Приоткрыл дверь и увидел заполненные ряды, удаленную освещенную сцену, на которой, возвышаясь по грудь из трибуны, выступал известный литературовед, полноватый, сдобный, с холеной кадетской бородкой, с расчесанными на прямой пробор волосами.
— Именно поэтому, многоуважаемые коллеги, я уповаю на это насущное, наиболее полное для нынешнего литературного процесса определение: «нравственные искания». Ибо в этих исканиях наша литература, не забывая громадные государственные задачи, поставленные партией, не выпуская из виду всенародного коллективистского дела, обращается к обычному человеку с его внутренним миром и поиском. С глубинной нравственностью, без которой невозможна коммунистическая перспектива… — Эти слова он произнес с сочным и вкусным звуком. Эффектно тряхнул волосами, пропустив сквозь белую, холеную пятерню свою шелковую бородку.
Зал аплодировал. Слушатели наклонялись друг к другу, улыбались, что-то шептали. Литературовед был близок к официальным кругам. Делал стремительную политическую карьеру. Был на редкость умен. Этот новый, введенный им в обращение термин — «нравственные искания» — объяснял и спасал, пристегивая к партийной доктрине, новые веяния прозы — защиту маленького человека, изнасилованного слепой государственной машиной. Воспевание простого солдата, которым, как винтиком войны, управляли и жертвовали победоносные маршалы. Описание незаметного городского служащего, убегающего в свой однокомнатный мирок от изнуряющей, подконтрольной публичности. Эти литературные веяния вначале подвергались осуждению. Однако, благодаря стараниям умных и тонких политиков, были признаны за благо, объяснены великой русской традицией, поставлены на службу социалистического гуманизма. Коробейников притворил дверь в зал, оставив по другую сторону рокочущие аппетитные звуки.
Здесь, в Доме литераторов, отдыхали после долгого дня, проведенного за письменным столом. Встречались за ужином с редактором или критиком, обставляя умной комплиментарной рецензией острую рукопись или выпущенную книгу. Завязывали необязательные легкие связи с женщинами, которые курили тонкие сигареты и сладко напевали в ухо художника медовую ложь о его неповторимости и одаренности. Здесь кичились новым романом или поэмой, узнавая по мимолетным замечаниям доброжелателей и завистников свое новое место в литературной иерархии. Здесь велись запретные разговоры, звучали свободолюбивые речи, невозможные ни в одном другом месте Москвы, и среди говорливых писателей легко и прозрачно, как тени, сновали информаторы КГБ.
Коробейникову обещали найти машинистку, которой он бы хотел передать часть завершенной рукописи. Он поднялся на антресоли, где помещались комнатушки и кабинетики для персонала и куда знакомая дама-администратор, пышная и красивая, с круглыми полуголыми шарами грудей, напоминавшая царицу Елизавету Петровну, приглашала его заглянуть, обещая помочь с машинисткой. Здесь царил полумрак, под ногами бесшумно стелились ковры. Он ткнулся в одну, другую запертые двери. Третья, плохо замкнутая, легко отворилась, и он, оказавшись на мгновение в каштаново-золотистых сумерках, обжегся глазами о зрелище. Похожая на Елизавету Петровну дама стояла, нагнувшись. Из ее расстегнутой блузки изливались две огромные свободные груди. Лунно круглились белоснежные пышные ягодицы. На обнаженном бедре узорно серебрилось кружево черного чулка. Мужчина, полураздетый, жадно обнимал ее сзади. Обернулся на вошедшего Коробейникова безумными бельмами, жарко дыша оттопыренными бычьими губами. Коробейников отпрянул, захлопнул дверь.
Через Пестрый, украшенный разноцветными кляксами зал, сквозь табачные облака, ровный, как в бане, гул, звяканье стаканов, множество разгоряченных и пьяных лиц Коробейников направился в Дубовый зал ресторана, где у него намечалась встреча. Проходя мимо банкетного зальца, увидел, как оттуда вылетала с подносом разгоряченная красавица официантка, похоже, «подшофе», улыбаясь румяными устами какой-то летящей ей вслед шутке. В приоткрытую дверь мелькнул уставленный яствами стол. Дымились мясные блюда, кипами распушилась зелень, блестели винные и водочные бутылки. За этим щедрым столом вольно и счастливо восседали баловни литературы, звезды национальной поэзии. Широкоскулый, в мелких оспинах, кудрявый калмык. Благодушный, с носом-баклажаном и глазками-сливами, аварец. Смуглый, как кожаное седло, с колючими усиками, башкир. Маленький лысоватый балкарец, похожий на добродушного розоватого лягушонка. Все лауреаты Государственных премий, гуляки, сластолюбцы, имевшие каждый своего русского переводчика, создававшего из их нерифмованных фольклорных речений лирические шедевры. Этот мелькнувший стол напоминал нарядную вывеску на стене трактира. Коробейников усмехнулся этой нарисованной на картоне, в сочных подмалевках, литературе, обошел чертог и оказался на пороге ресторанного Дубового зала, уставленного столиками, с черным жерлом камина, где когда-то размещалась масонская ложа, а теперь творились жертвоприношения из телячьей вырезки, бараньей спинки, свиной ножки, осетриного бока, щедро поливаемых великолепными красными и белыми винами, от которых развязывались самые молчаливые языки, загорались восхищенно самые тусклые глаза, создавались и созревали самые фантастические замыслы. Сюда, на ужин с литераторами, замышлявшими издание необычного альманаха, и был приглашен Коробейников, молодой восходящий талант, еще не примкнувший ни к одному из литературных лагерей, а потому желанный в каждом.
Общество разместилось за длинным столом у лестницы, чуть отделенное от прочей публики витой колонной, под красивым многоцветным светильником. Коробейников занял ожидавшее его место.
— Итак, когда мы все в сборе, позвольте, друзья, еще раз сформулировать нашу великолепную и, надо признаться, непростую задачу. — Глава стола и будущий редактор альманаха, критик Вольштейн торжественно и слегка тревожно оглядывал всех фиолетовыми, выпуклыми, как у спаниеля, глазами. Ловко печатал слова шевелящимися малиновыми губами. На его лысом, чуть влажном черепе играл размытый свет фонаря, словно череп побрызгали разноцветной водой. Вьющиеся, окружавшие лысину волосы еще больше придавали ему сходство с собакой — ловцом водоплавающих птиц. Оратор был воодушевлен своим водительством, своей культурной и опасной ролью, которую решился играть в обход писательского начальства. — Настало время, друзья, показать отечественной, да и зарубежной общественности, что наша мысль не топчется на месте, окруженная частоколом устарелых партийных догм, что в наших рядах появились за это время талантливые и отважные мыслители, оригинальные художники, не желающие пребывать в тесных загонах и стойлах, куда их поместили надсмотрщики и конюхи современной культуры. Мы переживаем время творчества и обновления. Сборник, который мы затеваем, будет столь же значителен, как и достославные «Вехи» или «Из-под глыб». Займет свое неповторимое место в истории русской словесности и свободной общественной мысли. Давайте же выпьем за наше еще не рожденное детище! — Он поднял рюмку водки, в которой фонарь играл голубыми, алыми и золотистыми искрами. Все потянулись навстречу. Одушевление, которое было на лицах, объяснялось не только высотой и значительностью замысла, но и вкусной едой, нагулянным аппетитом, запахами солений, телячьих языков, рыбных розовых лепестков. Коробейников охотно выпил водку, ощутив ее литой горький холод.
— Пусть первым выскажется, поделится своим богатством с нами, грешными, наш уважаемый Олег Леонидович Медведев, — торжественно возгласил Вольштейн, улыбаясь малиновыми, мокрыми от водки губами в сторону худого, с тонким аристократическим лицом писателя, чья пергаментная серебрящаяся кожа, аккуратная седая бородка, тонкие персты с кольцом вполне оправдывали его дворянское происхождение, подчеркивали перенесенное им мученичество. Он провел в северных лагерях почти двадцать лет, добывая пропитание себе и товарищам тем, что ставил петли и капканы на зайцев, мережи на рыбу, самострелы на глухарей; так результат его юношеского, дворянского увлечения охотой, плод особого аристократического стоицизма, позволил выжить в условиях лагерных зверств.
— Ну что я могу предложить для будущего, несомненно интересного издания, господа… — Медведев, чуть потупясь, батистовым платком отер губы, слегка испачканные заливным. Этот деликатный опущенный взгляд, мягкое прикладывание платка к губам, полупрозрачный батист, столовая салфетка, небрежно и изящно засунутая за ворот белоснежной рубахи, старомодно-насмешливое обращение «господа», были элементами стиля, который культивировал Медведев, охотно играя роль русского дворянского писателя, сближавшую его с Буниным. — У меня есть небольшой рассказец, как я зимой поймал в стальную петлю глухаря. Ничего особенного, просто лютый мороз, сверкающий наст, огромная заледенелая птица с приподнятой алой бровью, твердый зоб, набитый мороженой брусникой, и я на лыжах возвращаюсь с охоты, вспоминая мой дом в Петербурге на Камергерской набережной, туманную Неву, дрожащее на волнах золотое отражение иглы. И все. В рассказе ни слова, что я несу добычу в лагерную зону, где мои товарищи по бараку умирают от голода и цинги. Просто удачная охота, черная, с синим отливом птица, и мое воспоминание о Петербурге…
— Прекрасно, — восхитился Вольштейн. — Это и есть мартиролог всех убиенных русских дворян и аристократов, расстрелянных священнослужителей, истребленных родовитых сословий. Эта прекрасная мертвая птица и есть сама убитая, замороженная Россия. Все, кто знает вас, Олег Леонидович, поймут, о чем рассказ. Это по-бунински точно и великолепно. Ну что ж, начало положено. Выпьем за это, друзья!.. — Рюмки слетелись, брызнув алым, голубым, золотистым.
— Я, в свою очередь, могу предложить публицистику «Взгляд сквозь железо», — произнес публицист Герчук, насупленный, суровый, с маленьким темным лбом, с заросшими ушами и глазами, среди которых выглядывало замшевое влажное рыльце, какое бывает у роющего крота. Публицист зарабатывал на хлеб очерками об истории заводов, о передовиках производства. Но при этом тайно помогал диссидентам, собирал папиросные листочки их творений, готовил их для «самиздата». — Мы должны обратиться через «железный занавес» к Западу. Дать им понять, что здесь осталась отрезанная от мира жизнь, со своими идеями, скорбями, прозрениями, единая с жизнью всего человечества. Мы заплатили страшную цену за свою отдельность и теперь готовы платить еще большую за наше воссоединение. Я комментирую замечательные работы Андрея Дмитриевича Сахарова о конвергенции двух систем, его космогонические взгляды на общность судеб Востока и Запада…
Все сочувственно кивали, отдавая должное кропотливой работе Герчука, который сточил свое рыльце, пытаясь подкопаться под ненавистный «железный занавес». Уперся в него, греб что есть силы широкими, торчащими из рукавов лопастями, буравил металл, не продвигаясь вперед, выдавливая на поверхность сырые комья плохо написанных производственных очерков.
— Мне кажется… я, право, не знаю… В такой, как наш, сборник… Или, пускай, альманах… Моя статья о «Прометеях духа»… Сталинским кровавым пером были вычеркнуты из истории партии… Воспоминания о Бухарине и Троцком… Отрывки из дневников Зиновьева… Они все окружали Ленина, а потом их настигли пули… Мы зашли в тупик, потому что лишились «прометеев духа», возжегших огонь большевизма… Исправление социализма, о котором теперь так модно говорить, невозможно без правды… Правды о гениальных отцах большевизма… — Это говорил гонимый, исключенный из партии историк Видяпин, обшарпанный, с засаленными рукавами, натертыми до блеска о столы библиотек, где он перечитывал подшивки газет, вычерпывая из них черно-белую свинцовую правду о процессах тридцатых годов. Его белки были горчичного цвета. Кончики пальцев желтели от никотина, будто их испачкали йодом. И весь он напоминал огромную, вываренную чаинку, выловленную из испитого чая.
Вольштейн ликовал, чувствуя, какой интересный, многосторонний подбирается сборник. Как тонко он, «ловец идеологий», складывает «атлас идей», накопившихся в обществе под спудом единомыслия. Успех казался несомненным. Он ласково и страстно озирал коллег фиолетовыми глазами ловчей собаки, словно это были кряквы, чирки, изумрудные селезни и золотистые свиязи. Протягивал над столом рюмку с водкой:
— За «прометеев духа», посылающих нам свой огонь!..
Все дружно чокнулись, подхватывая на кончики вилок лепестки семги, ломти языков и колбас.
Коробейникову было хорошо в кругу этих умудренных, прошедших тяжкие испытания людей, страдавших за свои убеждения, мучеников за веру, которые пустили его в свой круг, предполагая и в нем достоинства и добродетели. Ведущий застолья, благожелательный их предводитель, будущий редактор альманаха, совершал культурный, духовный подвиг, подбирая на огромном пустыре истории осколки раздавленных верований, черепки драгоценного сосуда, по которому проехался жестокий каток. Этот деятельный умный радетель, как археолог, проводил раскопки, извлекая из мусора истребленных эпох свидетельства былой цветущей культуры, где авангард соседствовал с божественной архаикой, славянофильство с западничеством, язычество с православием. Где загадочно, одиноко, огромно возвышался его любимый философ Федоров. Где воздушные, с прозрачными голубыми крылами, словно ангелы небесные, парили Флоренский и Сергий Булгаков, чьи труды он прочитал недавно в полуподпольных ксерокопиях. И если неутомимо трудиться, кропотливо искать, то можно собрать все рассыпанные черепки, все разрозненные осколки, до последнего цветного кусочка, и сложить из них дивную вазу, выставить перед изумленным миром. И он, Коробейников, будет малой крупицей в этом изумительном русском сосуде.
Слово взял украинский поэт Дергач, с вьющимися до плеч волосами, гоголевским длинным носом, с бледными хрупкими пальцами, которыми он то и дело похрустывал. Его приподнятые острые плечи облегал модный бархатный пиджак, худую шею обрамлял воротник косоворотки с шелковым украинским орнаментом.
— Мои русские братья поймут меня правильно, если я предоставлю их вниманию не собственные мои сочинения, а высокие образцы украинского фольклора. Народные песни украинского сопротивления, с которыми мои соотечественники шли в неравный бой с армией НКВД, под звездами Родины, в темных дубравах Карпат. Умирали под пытками в казематах КГБ, подобно Остапу. Гнили в концлагерях, напевая вполголоса песни борьбы и свободы. Я думаю, что настанет время, когда рыцарь Бандера станет украинским национальным героем, ему поставят памятник, его именем нарекут города и селенья, и мир узнает, на какую красоту посягали палачи с синими околышками, исполненные лютой ненависти к моей земле… — На его исхудалом бледном лице появились два розовых чахоточных пятнышка. Он стиснул белые, с длинными фалангами, пальцы, и раздался хруст, будто их дробили на эшафоте.
— Это будет прекрасным вкладом в наш сборник, — воодушевленно поощрял его Вольштейн. — «За нашу и вашу свободу!» Не это ли было знаменем передовых русских интеллигентов в пушкинскую эпоху?
— А чем вы нас порадуете, Виктор Степанович? — Вольштейн с заметным почтением, но и с некоторой игривой развязностью признанного духовного лидера обратился к писателю Дубровскому, автору изящной и горестной повести о хранителе древних рукописей, знатоке средневековых манускриптов, мудреце и ученом, заточившем себя в башне из слоновой кости, откуда выволокли его жестокие следователи НКВД. Умертвили во время ночных допросов, а беспризорные рукописи с античными и арабскими текстами залила вода из открывшейся канализационной трубы. Эта небольшая, с блеском написанная повесть имела огромный успех. Печаталась в журналах и книгах, сделав никому не известного провинциала кумиром свободомыслящей интеллигенции. Дубровский, сам отбывший срок в лагере и на поселении, был худ, изможден, обтянут темной морщинистой кожей, с огромными, почти без белков, мрачно-черными глазами, которые с каждой жадно выпитой рюмкой водки наливались лиловым безумным блеском, как у осьминога, выпукло и огромно выступая из орбит, и все его длинное несуразное туловище, гибкие руки и ноги волновались, тревожно двигались, не могли найти себе место, напоминая щупальца подводного существа, колеблемого течениями. — Так чем же вы, Виктор Степанович, украсите наш альманах? — благосклонно и чуть фамильярно обратился Вольштейн к именитому литератору, который подпадал под его пестующую, вскармливающую длань.
Дубровский изгибался за столом своим неустойчивым длинным телом, словно зацепился щупальцем за невидимый камень, а его отрывало, влекло, сносило огромным потоком. Глаза жутко выпучивались, блестели чернильной тьмой. Задыхаясь, вытягивая губы навстречу благодушному и вальяжному Вольштейну, он произнес полушепотом:
— Ты — сексот!.. Таким, как ты, на зоне вставляли перо в бок!..
— Что вы сказали? — ошеломленно переспросил Вольштейн.
— Ты — «гэбист»!.. Нас собрал, чтобы сдать!.. Знаю твою тайну!.. Иуда!..
— Ну это шутка, я понимаю… Вы пострадали… Ваша мнительность… Мы тоже страдали… И чтобы не повторились репрессии… — Вольштейн умоляюще, взывая о помощи, оглядывал других участников застолья, и когда его панический взгляд скользнул по глазам Коробейникова, тот обнаружил в них панику и беспомощный, тайный страх привыкшей к побоям собаки. — Мы все, здесь собравшиеся, ваши друзья…
Однако неожиданно тонко и истерично воскликнул историк Видяпин:
— Они покончили с «пражской весной», а теперь подбираются к нам, детям «оттепели»!.. Вы провокатор, Азеф!.. Ну зовите, зовите своих «чекистов»!.. — Он ткнул в Вольштейна заостренный, желтый от никотина палец. Проходивший мимо официант удивленно на него оглянулся.
— Но ведь и вы, любезный, выступаете с провокационной идеей, — поджав губы, с дворянской брезгливостью произнес писатель Медведев, слегка отклоняясь от Видяпина, как от прокаженного. — Вы предлагаете воскресить дух палачей, которые залили Россию кровью. Неужели предполагаете, что я могу печатать мои произведения рядом с апологетикой Троцкого и Зиновьева? Мы, сторонники Белой православной империи, считали и по-прежнему считаем вас палачами, Бог кровавой десницей другого палача, Сталина, покарал вас, и это — Божье возмездие за поруганную святую Империю!..
— Хай будэ проклята твоя импэрия, била чи червона!.. Чи москаль, чи жид — единэ зло!.. — страшно хрустнул пальцами украинский поэт Дергач, ненавидяще взирая на Медведева и Видяпина. — Ваш Кремль стоит на украинских костях!.. Для украинцев вы все — палачи!.. Недаром в нашей песне поется: «Дэ побачив кацапуру, там и риж…» — Он страшно разволновался, ломал пальцы, хрустевшие, как сухие макароны. Его чахоточные пунцовые пятнышки пламенели на скулах, как два ожога. Под цветочным орнаментом косоворотки жутко ходил захлебывающийся кадык.
— Друзья мои… — старался вклиниться в спор писатель Герчук. — Это вековечный русский конфликт!.. Крайность взглядов!.. Только либеральный подход… Только идея свободы примирит непримиримое… Как сказал академик Сахаров, Запад подарит миру свободу, а Россия — коллективизм… Это и есть конвергенция!.. — Он топорщил густую шерстку, из которой выглядывал влажный нос землеройки, двигал плечами в тесном пиджаке, словно хотел протиснуться в самую гущу спора. Но его не пускали, выталкивали.
— Товарищи, я вас умоляю!.. — взывал к ним Вольштейн. Его не слушали, кричали все разом. Резной фонарь поливал их сверху разноцветным прозрачным сиропом.
Оглушенный их неистовыми воплями, их ненавидящими обвинениями, Коробейников вдруг ясно подумал, — в ледяную глыбу с прозрачными спектрами были вморожены крохотные бактерии, микроскопические вирусы, оставшиеся от былых эпидемий. Но стоит растаять льду, расплавиться льдине, как вирусы оживут, эпидемии хлынут в жизнь. Отравят своими жгучими ядами беззащитное, не имеющее прививок население, и оно начнет вымирать от жутких, полузабытых болезней. Все былые ссоры и распри, все неутоленные мечты и учения вырвутся на свободу, овладеют людскими умами, и страна сотрясется от невиданных мятежей, расколется на обломки, которые станут сталкиваться, скрежетать и дробиться. И там, где когда-то вращалось цветущее небесное тело, останется множество мелких камней, космической пыли и грязи. Все, что звалось великой русской историей, прольется метеоритным дождем, сгорая бесследно в атмосфере других планет.
— Прав был великий Столыпин! Вам нужны великие потрясения, а не великая процветающая Россия!
— Ваш Столыпин — паршивый дворянский вешатель! За каждый «столыпинский галстук» мы и заплатили вам свинцовой пулей!
— Жиды царя сгубылы, воны и коммунизм сгрызуть. «Ой, Богданэ, Богданэ, нэразумный ты сыну, занапастив вийско, сгубыв Украину…»
— Антисемиты и юдофобы! Мне стыдно сидеть с вами за одним столом!
— Нельзя, повторяю вам, допускать тотального разрушения строя! Нужна эволюция, а не революция! Мы не перенесем вторичного потрясения!
— Коммунизм проник во все поры советской России, и нужен бескомпромиссный слом!
— Товарищи, обратитесь к академику Сахарову, он даст вам исчерпывающий ответ!
— Ваш академик — типичный олигофрен. Сначала выдумал бомбу и отдал ее коммунистам, а теперь предлагает нам вести с коммунистами борьбу!
Белесые, до плеч, волосы поэта Дергача потемнели от пота, он страшно хрустел пальцами, словно отламывал фаланги и швырял их в лицо врагам. Публицист Герчук высовывал из косматой шевелюры оскаленную белозубую мордочку, фыркал, норовя укусить. В дворянской внешности Медведева вдруг обнаружилась верткость и яростная страстность охотника, хватающего из снега петлю, в которой бьется и хлопает крыльями чернокрылая, с алыми надбровьями, птица. Видяпин страшно побледнел, и на нем, как на мокрой известке, повсюду проступили нездоровые желтые пятна. Несчастный Вольштейн рвал себя за кудряшки, и в его собачьих глазах стояли темные слезы.
Дубровский вдруг проворно вскочил. Схватил со стола стеклянное блюдо с остатками салата. Взгромоздился на стул, под самый фонарь, тощий, дикий, растрепанный. Навесил блюдо над головами собравшихся. Изгибаясь неустойчивым, пьяным телом, страшно гримасничая, пуча ненавидящие чернильные глаза, закричал:
— Атомную бомбу на всех вас, евреев и коммунистов, православных и иеговистов!.. Раздолбать эту чертову страну к чертовой матери, чтоб остался котлован в шестую часть суши и натек океан!.. Грохнуть бомбу на весь альманах!..
Ресторан ахнул, наблюдая дикую сцену. Зааплодировали, заулюлюкали, закричали:
— Снимите его, он повесится!..
— Зачем мучить достойного человека!..
— Дубровский, да разбейте вы наконец их собачьи головы!..
Коробейникову было страшно, смешно, противно. Будто лопнул обтянутый пленкой моллюск и разбрызгались темные капельки слизи. Он беспомощно озирался. Увидел, как через зал приближается, улыбаясь, приветливо воздевает светлые брови, усматривая в происходящем один комизм, радуясь возможности потешиться и развлечься, вышагивает недавний его знакомец, ставший вдруг близким приятелем, Рудольф Саблин, невысокий, ладный, с красивым жизнелюбивым лицом, с блестящими светлыми волосами, серо-стальными, слегка навыкате глазами. Блистала его белоснежная, с кружевным воротником рубаха. Прекрасно сидел модный, узкий в талии пиджак. Было в нем нечто изысканное, чуть старомодное, напоминавшее маркиза, милое и дружелюбно-забавное, если бы не хищный, с малой горбинкой, нос и узкие, чуткие ноздри, вынюхивающие далеко впереди опасность.
— Мишель, — обратился он к Коробейникову, игнорируя остальное застолье. — Что у вас здесь происходит? Репетируете пьесу Горького «На дне»?
— Сексоты!.. — продолжал вопить под потолком Дубровский, раскачивая тяжелое блюдо. — Агенты КГБ!..
— Он пьян!.. Уведите его!.. Посадите его на такси!.. — умолял Вольштейн, взывая к новому, появившемуся лицу, от которого исходила бодрая энергия и незлая ироничная властность. — Он компрометирует свое писательское имя!.. Компрометирует наше благородное начинание!..
— Сударь мой, — беззлобно и дружелюбно произнес Саблин, легонько дергая Дубровского за брюки. — Не угодно ли вам снизойти до нас? Поверьте, нам будет удобнее общаться, если мы окажемся на одном уровне.
Этот приветливый, чуть насмешливый тон вдруг возымел действие. Дубровский слез со стула. Несколько рук приняло у него опасное стеклянное блюдо.
— Быть может, вам помочь? — любезно продолжал Саблин. — Если вы нуждаетесь в дружеской помощи, я готов вас проводить на улицу и посадить на такси.
— Прочь от этой сволочи!.. Вот такие на нас доносили!.. Пытали в подвалах Лубянки!.. — Дубровский пьяно навалился на плечо Саблина, колеблясь, словно наполненная влагой водоросль. — Домой!.. К чертовой матери!..
Коробейников подхватил шаткого Дубровского за пояс, чувствуя пробегающие по тощему телу больные судороги. Все облегченно и благодарно смотрели, как выводят из Дубового зала пьяную знаменитость, спасая писательское братство от всеобщего позора.
Проходя мимо бара, Дубровский уперся, вцепился в стойку.
— Рюмку водки!.. — потребовал он. — На посошок!.. Без рюмки не уйду!..
На высоком седалище восседал знаменитый дагестанский поэт, покинувший ненадолго банкетный зал. Багровый, горячий от выпитого вина, с глазками, похожими на масленые лампадки, поджав маленькие пухлые ножки, косноязычно и плотоядно любезничал с дородной белокурой барменшей, кидавшей лед в его золотистый коктейль.
— Рюмку водки!.. — требовал пьяно Дубровский. — Какой, однако, баклажан замечательный! — воззрился он на дагестанского поэта. Коробейников, опасаясь безобразной ссоры, поскорее заплатил за водку, и Дубровский с отвращением, проливая за ворот, выпил рюмку, роняя ее на пол.
— Теперь, когда топлива у нас полный бак, можем ехать, не так ли? — весело произнес Саблин, увлекая Дубровского к выходу.
Проходя мимо Малого зала, Дубровский ловко юркнул в приоткрытую дверь, туда, где в полумраке краснел на столе открытый кумачовый гроб с прислоненной крышкой. С поразительной для пьяного ловкостью вскарабкался на стол и улегся в гроб. Ноги его не вмещались, и он согнул их в коленях:
— Пожалуйста, схороните меня!.. Закопайте меня в шар земной!..
— Может, забьем его в гроб? — спросил у Коробейникова Саблин. — Он не скоро начнет разлагаться, как и все проспиртованное.
Дубровский вылез из гроба и, качаясь в сумерках, забродил по залу, наступая на пахучие еловые ветки.
Не без труда они вывели его на воздух, на влажный асфальт, в котором мягко отражались желтые огни подъезда. Коробейников поймал такси, сунул водителю купюру:
— Пожалуйста, отвезите писателя к «Аэропорту». Он немного перебрал, извините.
Саблин настойчиво, под локоть, подводил Дубровского к приоткрытой дверце такси.
Погруженный то ли в пьяное помрачение, то ли в тяжелый бражный кураж, впадая в бред или испытывая потребность в безобразном публичном скандале, Дубровский оттолкнул Саблина, громко, чтобы слышали прохожие, закричал:
— Ты сексот!.. Ты написал на меня донос!.. Ты майор КГБ!.. Разоблачаю тебя перед миром!..
На них оборачивались, останавливались. Таксист из машины недовольно спросил:
— Едет он или нет?
Коробейников негодовал. Ненавидел скандалившего, безобразно-отвратительного Дубровского. Был готов бросить его здесь, у входа, и вернуться в Дом литераторов.
— Минутку, — произнес Саблин, отступая от шаткого пьяницы. Мимо шел милиционер, не постовой, не дежурный, а обычный милицейский сержант с молодым деревенским лицом, возвращавшийся со службы домой. Саблин издали углядел его околышек, погоны и блестящие пуговицы на мундире.
— Товарищ сержант, — остановил он милиционера доверительным тоном. — Будьте любезны, окажите услугу. Подойдите к этому хорошему, но слегка подгулявшему писателю и просто скажите: «Гражданин Дубровский, в машину!»
Сержант колебался мгновение, глядя, как извивается длинным телом червеобразный человек, волнообразно взмахивает руками, что-то несвязно выкрикивает. Подошел к Дубровскому со спины и грубым казарменным голосом произнес:
— Гражданин Дубровский, в машину!
Дубровский замер в нелепой растрепанной позе. Секунду оставался недвижен, с воздетой рукой, с полусогнутой в колене ногой, будто его нарисовали черной краской на желтом отражении асфальта. Потом стал уменьшаться, сжиматься, складывал руки, втягивал шею, как складывается, убирая растопыренные перепонки и спицы зонтик. В его пьяном буйном сознании что-то неслышно щелкнуло, переключилось. Замкнулся незримый контакт, соединявший его с недавним прошлым, лишь слегка присыпанным московской нарядной мишурой, заслоненным шумной легкомысленной публикой, литературной славой и почестями. Ночные допросы. Бьющий свет из железной лампы. Решетчатые, идущие в бесконечную ночь вагоны. Пересылки, переклички, этапы. Конвоиры, овчарки, бараки. Вереницы понурых, изможденных людей, среди которых он сам в поношенной телогрейке. Это возникло в нем, воскрешенное хрипловатым казарменным окриком, видом милицейской кокарды и пуговиц.
Дубровский согнулся, ссутулил костистую спину, словно ожидая удара. Голова его жалко повисла на тощей шее. Он завел руки за спину, как делают заключенные. Послушно, смиренно направился к такси. Саблин легонько втолкнул его внутрь салона, захлопнул дверцу. Машина укатила. Милиционер шагал далеко, исчезая среди вечернего люда.
— Ну что? — по-мальчишески весело, довольный своей удачной выходкой, сказал Рудольф Саблин. — Продолжим наш вечер, Мишель?
И они вернулись в Дом литераторов.
6
На этот раз они не пошли в респектабельный Дубовый зал, в котором проедали гонорары удачно издающиеся, именитые писатели. А угнездились в Пестром зале, накуренном, с низким потолком, с тесными столиками и неиссякаемой очередью у буфета, где булькала водка, шлепались на прилавок мисочки с вареной картошкой и селедкой, появлялись одна задругой фарфоровые чашечки с мутным, опресненным кофе, и загнанные буфетчицы в несвежих халатах мусолили мелкие мокрые деньги. Пестрый зал был прибежищем литературной богемы, поэтических неудачников, робких, вступающих в литературу новичков, захожих дам, всегда готовых утешить непризнанного гения, выслушать порцию его неудобоваримых стихов, а когда он потеряет дар речи, увезти его, поддерживая, как санитарка, с поля поэтической брани, уложить в какую-нибудь походную койку. Если Дубовый зал был верхней палубой с благородными пассажирами, то Пестрый был кубриком, с голытьбой, шумной и бражной, гневливой и завистливой, наивно-доверчивой и сентиментально-слезливой. На стенах и сводах были нарисованы фрески, красовались автографы известных литераторов, топорщил усы кем-то намалеванный Дон-Кихот, восточная красавица из «Шах-Наме». Выделяясь из прочих изображений, пучил страшные глазища, наклонял витые бараньи рога бородатый и ужасный Бафомет, вполне уместный среди нередких ссор и драк, искушений и неудержимых славословий. Здесь, у стены, под Бафометом, устроились Коробейников и Саблин, окруженные дымным горячим воздухом, в котором мелькали зыбкие тени.
— Мишель, прошу вас, сидите, мне будет приятно поухаживать за вами. — Саблин остановил Коробейникова артистическим жестом. Направился к буфету, чтобы скоро вернуться с чашечками кофе и фисташковыми печеньями.
Их знакомство, случившееся здесь же, в Доме литераторов, месяц назад, увлекло Коробейникова. Саблин интересно и ярко разговаривал. Эпатировал резкими, подчас опасными суждениями. Умел очаровывать, расположить к себе. Умел выслушивать и остро, искренне реагировал на чужую яркую мысль. Принадлежал к среде, доселе неведомой Коробейникову: он был внуком знаменитого героя Гражданской войны, о котором писали школьные учебники и именем которого нарекались площади и проспекты. Саблин принадлежал к баловням, к золотой молодежи, для которой подвиги и заслуги дедов должны были обеспечить высшие роли в обществе, открывали двери в престижные школы и элитарные институты, способствовали быстрому карьерному росту. Однако подвиги героических дедов сменились катастрофами отцов, когда, следуя один за другим, произошли изломы общественной жизни, революционная знать была наполовину выкорчевана, наполовину отодвинута, а в хрущевские времена заслонена новыми явившимися честолюбцами и верноподданными любимцами власти. Саблин, окончивший Суворовское училище, где волей Сталина взращивали новую советскую гвардию, учили танцам и языкам, устраивали балы и конные состязания, в хрущевские годы, после каких-то конфликтов и злоключений, был выброшен из обоймы, потерпел поражение. Теперь, полный реванша, едкой неприязни, ядовитой мизантропии, занимал какую-то пустячную должность в министерстве. Старался демонстрировать прежний лоск, который постоянно приходилось подтверждать нарочитой неординарностью взглядов, демонстративной независимостью суждений, выпадами в адрес ненавистной, обманувшей его власти. Его редкое имя, как он намекал Коробейникову, объяснялось германофильскими настроениями в семье накануне войны, когда многие из государственной и военной элиты увлекались Третьим рейхом. Его назвали чуть ли не в честь соратника Гитлера — Рудольфа Гесса.
И вот они сидели перед чашечками кофе, под рогатым изображением бога Зла, и Саблин, дорожа их общением, любовно сияя серыми, сверкающими глазами, говорил:
— Мишель, если бы вы знали, как я дорожу каждой нашей встречей. Всякий раз открываю в вас все новые и новые достоинства. Вы удивительный человек. Не похожи ни на одного, с кем я общаюсь. И уж конечно не похожи на эти увечные, уродливые существа, именуемые по недоразумению писателями. Это худшее, что есть в нашей никчемной, дурной стране. Вы — полная им противоположность. Книга, которую вы мне подарили, — нежная, изящная, как перламутровая раковина. Ваш разрыв с этой угрюмой тупой цивилизацией, где вам предлагалось стать винтиком, и за каждым вашим шагом, за каждой мыслью наблюдал мужик с пистолетом, — это поступок. Вы всем пренебрегли, оставили Москву, отчий дом, невесту, оставили свою престижную инженерию, которая сулила вам при ваших талантах быструю карьеру. Вопреки страшному давлению советской среды, ушли в леса. Это напоминает уход Толстого. Напоминает поступок императора Александра Первого, оставившего трон и ставшего старцем Иваном Кузьмичом. Для этого нужно мужество, нужен порыв, нужна высшая духовная цель. Это подвиг аристократический, монашеский. На него не способно все это животное быдло!.. — Саблин вполоборота оглянулся на шумящий зал, в котором колыхались размытые тени, окутанные дымом, словно люди, пропитанные спиртом, на глазах истлевали.
Коробейникову было неловко слушать эти экзальтированные признания в любви. Он еще не забыл недавний жестокий поступок Саблина, превративший именитого писателя в скрюченного жалкого «зэка». Но было сладко вкушать похвалы оригинального, поражавшего воображение человека, соединявшего в себе едкий беспощадный цинизм и нежную, ищущую дружбы душу. Саблин был столь необычен, что Коробейников, общаясь с ним, исследовал его, как героя будущего произведения. Запоминал его оригинальные реплики, его веселые и злые суждения. Исподволь выпытывал детали жизни. Мысленно рисовал его образ, делая с красивого, сероглазого, с гордым носом лица невидимые оттиски и помещая их в свой будущий роман.
В Пестрый зал вошел известный писатель, приобретший недавно громкую славу за книгу деревенских очерков. Подобно страннику, он колесил по сельским проселкам, восхищая читателей описаниями русской природы, разоренных храмов и пустошей, сценами крестьянской жизни, умными и смелыми суждениями о величии народной культуры, которую подавила бездушная индустрия. Книга была свежа, хороша своим языком, исполнена сострадания и сочувствия к русской многострадальной деревне. Ее печатали во многих изданиях. Писатель мгновенно разбогател, купался в славе. Сейчас, на пороге зала, его простое курносое лицо выражало зоркую мнительность. Он не торопился пройти, впитывая завистливые восхищенные взгляды. Рядом с ним была молодая прелестная женщина, выше его, на тонких каблуках, с нежным золотистым лицом, рассыпанными по спине волосами. Казалось, писатель взял ее в качестве трофея и теперь привел в Дом литераторов, чтобы похвастаться добычей, продемонстрировать свою возросшую именитость. Что ему вполне удалось. Из дымных углов раздались крики одобрения, пьяные аплодисменты. Снисходительно улыбаясь, невысокий, кургузый, в неловко сидящем костюме, писатель прошествовал в Дубовый зал, уводя с собой полонянку, чтобы вкусно кормить ее на глазах у завистливых и восхищенных собратьев.
— Плебей, — презрительно провожал его Саблин, сжав глаза до ненавидящего узкого блеска. — Мурло. Из грязи да в князи. Такие жгли помещичьи усадьбы и библиотеки, насиловали дворянских барышень с Бестужевских курсов. Это подлое плебейское начало в русском народе встретилось с местечковым еврейством, и вместе они удушили Россию в зловонии лука и чеснока, избили и расстреляли утонченную русскую аристократию. Когда Зиновьев поселился в Кремле, ему отлавливали и приводили в теремные дворцы дворянских девушек, и он устраивал оргии в опочивальне царицы. Обрызгивал своей гнилой спермой ложе московских царей. Вы рассказывали о ваших предках, Мишель, о молоканах, духоборах, которые бежали от утеснений и гнета. В вашем русском роду дышит свобода, поиск Бога. Вы, подобно своим предкам, восстали против свинства и скудоумия и ушли в леса. Теперь же вернулись в блеске своей молодой славы, не похожий на этих чванливых пигмеев. Восхищаюсь вами, Мишель!..
Коробейников понимал, что его обольщают. Ставят перед ним зеркало, в котором возникает пленительное отражение. Приглашают любоваться этим отражением, верить в то, что и сам образ таков, с чертами врожденного благородства, безукоризненно правильными линями носа, бровей, подбородка, с глубиной и проникновенностью золотисто-карих, светящихся глаз, чувственных, чуть припухших губ, которые временами начинают дрожать от незлой и умной иронии. Обольщение могло быть искусной игрой артистичного постановщика, желающего создать увлекательный, рассчитанный на долгое время театр общения. Или же чрезмерным приемом, с помощью которого хотели завоевывать симпатии полюбившегося человека. Коробейников в сладостном опьянении, в теплотуманном кружении головы взирал на стену с изображением рогатого, козлообразного искусителя. Тайно усмехался тому, что Саблин, щедрый на медоточивые речи, является живым воплощением сказочного, прельстительного чудовища.
В Пестрый зал вошел грузный, с пухлым телом человек в нескладном мешковатом костюме. На голове, над потным бледным лбом мелко завивались черные жесткие волосы. Слегка вывороченные губы растерянно приоткрылись, словно не решались назвать чье-то имя. Сквозь толстые очки близоруко и неуверенно смотрели мягкие застенчивые глаза, выискивающие кого-то среди дымного и бражного многолюдья. Это был известный писатель, получивший старт, опубликовав в свое время юношескую студенческую повесть. Сразу же был награжден за нее Сталинской премией. Ошеломляющим и нежданным в этом присуждении было то, что отец писателя, видный деятель революции, был репрессирован Сталиным. Многие говорили, что жестокосердый вождь, любитель тонких и мучительных представлений, компенсировал этой премией сыну расстрел отца, вынудив взять золотую эмблему, окропленную кровью родителя.
Быть может, эта сыновья вина делала облик писателя столь неуверенным и непрочным. И она же, ставшая сутью его, быть может, сулила в будущем мощный творческий взрыв. Писатель напоминал большую темную птицу, нахохленную, с распушенными перьями, горбато сидящую на ветке, готовую либо взмыть в бесконечную высь, либо навеки остаться на суку среди дождей и туманов, напоминая чучело птицы.
— Гений Сталина заключался в том, что он, живя среди бесов, сумел одних натравить на других. Перебить одних руками других, а оставшихся, ослабевших в схватке, поместить в ГУЛАГ, в эту огромную клетку, которая была на деле громадным хранилищем бесов. Сатанинские силы, тщательно изолированные от остального народа, поделенные на классы и виды, пронумерованные, взятые на учет, были размещены в бараках, за колючей проволокой, на огромном расстоянии от городов, чтобы бесовские чары не достигли скоплений народа. Сталиным, выпускником духовной семинарии, была проведена огромная религиозная работа по заклятию бесов. НКВД был религиозным орденом, вступившим в схватку с сатаной. Когда многие следователи были совращены своими подследственными и сами превратились в бесов, их пришлось уничтожить. Избиения, которые практиковали следователи Лубянки на ночных допросах, были методами самообороны, защищавшими чекистов от сатанинской агрессии. Этот пухленький писателишка был вынужден сожрать собственного отца, и бес, который живет в его урчащем чреве, является его отцом. Только великий святой и мистик, коим несомненно являлся Сталин, мог запечатать одного беса в другом, сделав сына могилой отца. Хрущев, у которого вместо ступней наросли свиные копыта и на спине из лопаток выступают небольшие перепончатые крылья, раскрыл ворота концлагерей, выпустил бесов на волю. Теперь оскудевшее сатанинское стадо опять расплодилось и бесы снова заняли ключевые места в партии, культуре и КГБ. Этот курчавый лауреат зубочисткой выковыривает изо рта истлевшую плоть отца и готовится к мести. Вот увидите, Мишель, в скором времени мы прочитаем его ненавистническую, антисталинскую повесть…
Саблин ярко и беспощадно взирал на безобидного, застенчивого литератора, словно желал поразить его молниями. Коробейников чувствовал веселую ярость, исходящую от Саблина. Его тирады не были эпатирующим празднословием, а выражали глубинную ревность и отвращение к той плеяде революционеров, к которой принадлежал и его героический дед, оттесненный еврейской советской элитой от высших должностей в государстве. Слом и истребление этой победоносной и агрессивной элиты ставился Саблиным в величайшую заслугу Сталину. Коробейников с острым любопытством, изумляясь в себе этому художественному, не окрашенному этикой интересу, внимал оригинальному собеседнику. Не испытывал к нему отторжения. Мимолетно подумал, что его, Коробейникова, дед, белый офицер, взятый в плен красными под Перекопом, мог быть зарублен дедом Саблина.
Через зал неуклюже и грузно, на крепких кривых ногах, прошел высокий, гордо глядящий писатель, вельможный секретарь союза, возглавлявший «толстый» литературный журнал. Орденоносец, лауреат многих премий, автор многотомного романа о рабочей династии, где воспевались трудно и героически живущие поколения слесарей, добивавшихся удивительных трудовых показателей, мужавших вместе с родным заводом и городом, приобретавших все больше достатка и уважения. Опора партии, лучшая часть народа, рабочий класс был главной темой толстого журнала, собиравшего вокруг себя литераторов — выходцев из заводской среды. Издание конкурировало с двумя другими, в одном из которых печатались писатели-деревенщики, хранители патриархальных заветов. В другом же публиковались писатели-горожане, носители тайного недовольства, тяготившиеся гнетом мертвящей идеологии, позволявшие себе намеками, полутонами протестовать против гнетущего строя. Писатель-вельможа, глядя поверх нетрезвой мишуры, брезгливо выставил нижнюю губу, поднял могучий подбородок. Торопился пройти сквозь комариную бестолковость Пестрого зала в глубину дома, где уже кто-то разглядел его появление, подобострастно бросился навстречу, торопился пожать руку.
— Хам, кухаркин сын, — кинул ему вслед Саблин, открывая в злой усмешке блестящие влажные зубы. — Полагаю, если правы буддисты и переселение душ существует, то «гегемон», то бишь рабочий класс, все эти молотобойцы, стахановцы, сталевары и передовики после смерти превратятся в кувалды, канализационные трубы, болты и костыли. Хамы поднялись из самых запретных, запертых, запечатанных глубин русской жизни и растоптали аристократию, которую Россия драгоценно и трепетно взращивала триста лет. В Гражданской войне победили евреи и хамы. Если бы не Сталин, мы бы и сейчас ели с земли, как свиньи. Сталин, религиозный и имперский человек, понимал значение иерархий. Он создавал иерархии, которым хотел вручить государство. Оттесняя вероломных евреев и скотоподобных русских хамов, взращивал элиту. Ведь я, Мишель, не помню, говорил ли вам, окончил Суворовское училище. Учился в блестящем, по личному приказу Сталина основанном заведении, где прежде размещался кадетский корпус. На стене нашего просторного коридора, куда выходили классные комнаты, сквозь побелку проступало дивное лицо государя императора. Начальник училища пригласил реставраторов, чтобы те расчистили позднюю побелку. Воспитателями у нас были кадровые офицеры царской армии. Нас учили танцевать мазурку, фехтовать, говорить по-французски. Из нас готовили будущий цвет армии, гвардейских офицеров, дипломатов, генерал-губернаторов. Нас всех срезал бульдозер Никиты Хрущева. Перепахал изумрудные газоны английских парков под кукурузу. Снова вернулся хам, поставил перед каждым из нас вонючее пойло…
Воспоминание детства, Мишель… Крым, сороковой год, конец лета. Сухой, солнечный, благоухающий воздух. Синее море среди белых солнечных круч. На нашей даче повсюду цветы, дивно-ароматные, свежие, в стеклянных и фарфоровых вазах. Помню, мама ступает по легким сухим половицам. Папа в косоворотке пишет на столе какие-то бумаги и иногда, задумавшись, смотрит на море. Младшая сестра, совсем еще крошечная, в прозрачном солнечном платье и красных матерчатых туфельках. И вдруг к нашей даче подъезжает длинная черная машина. Какие-то военные в портупеях. В комнату по ступеням подымается Сталин, в белом, загорелый, стройный. Отошли с отцом к окну и, удерживая развевающуюся занавеску, о чем-то говорят вполголоса. Мама накрывает на стол чем бог послал. Ставит на скатерть бокалы, бутылку с красным вином, блюдо с фруктами. Отец и Сталин сели за стол, разлили по бокалам вино, чокнулись. Сталин поманил меня. Посадил к себе на колени. Очистил большой оранжевый апельсин, аккуратно отломил от него дольку. Держал светящийся ломтик в своих узких, смуглых, красивых пальцах. Потом отдал мне. Помню чудесный вкус этой солнечной сладкой дольки. Помню смуглые пальцы Сталина в капельках сока. Помню мое восхищение, нежность, любовь. До конца дней буду помнить. Подумайте только, Мишель, это был сороковой год. Только что разгромили троцкистов. Еще не были достроены авиационные и танковые заводы. Войска вошли в Прибалтику, в Западную Украину. Очень скоро должна была случиться война, ужасные жертвы и разорения. Но в ту минуту у нас на крымской даче — улыбающийся Сталин, солнце во всех комнатах, цветы, и в его руках драгоценная, прозрачная долька…
Саблин мечтательно закрыл глаза. На его губах блуждала томительная сладостная улыбка, будто воспоминание, которое его посетило, доставляло ему блаженство и боль. Было из иной, начавшейся, но не имевшей продолжения жизни. Сценой из рая, куда его поманили и откуда потом жестоко изгнали.
— Мишель, я забыл вам сказать, сюда должна зайти моя сестра. Я назначил ей здесь свидание.
— Та, что на даче в Крыму была в прозрачном солнечном платьице и в красных матерчатых туфельках?
— Сейчас уже не в матерчатых… Да вот и она…
Коробейников оглянулся. В полукруглом проеме стояла женщина, стройная, с высокой грудью, вольно открытой, в темно-синем шелковом платье. Ее гладкие золотистые волосы, расчесанные на прямой пробор, были стиснуты сзади в плотную корзину, чуть более темную от тугих заплетенных кос. Она медленно поворачивала голову на высокой белой шее, вопросительно, с едва заметным презрением осматривая бестолково гомонящий зал. Серо-голубые, золотисто-зеленые, под приподнятыми бровями глаза постоянно и странно меняли цвет. Увидев ее под округлым сводом, желая лучше рассмотреть складки сине-блестящего платья, ее красивые сильные ноги на высоких каблуках, узкую талию, над которой смело и выпукло подымалась приоткрытая грудь, ее прямой тонкий нос на слегка продолговатом, в морском загаре, лице, Коробейников вдруг ощутил головокружение, как от внезапно выпитого бокала вина. Глаза наполнились горячим туманом, изображение женщины вдруг расплавилось и потекло, как это бывает в солнечном мираже. На мгновение он ослеп, пережил сладкий обморок, потеряв ее из виду, чувствуя ее присутствие не зрачками, а сердцем, будто в грудь ударили и остановились прозрачные лопасти света. Видел, как в этих лопастях, словно в снопе кинопроектора, течет и переливается табачный дым. Казалось, сердце его вынули из груди, несколько секунд держали отдельно, а потом поместили обратно в задохнувшуюся грудь, где оно часто, с перебоями, забилось. Те несколько секунд, что он жил без сердца, были кем-то изъяты из его жизни и перенесены в иное бытие.
— Лена!.. — позвал Саблин. — Мы здесь!..
Царственно приподымая при ходьбе плечи, женщина подошла. Остановилась близко от столика.
— Познакомьтесь, — оживленно возгласил Саблин, приобняв сестру за талию. — Это Мишель, о котором я тебе столько рассказывал… А это Елена Солим, в девичестве Саблина. — Он сильнее потянул к себе сестру, и она, сопротивляясь, подалась и прижалась к брату бедром.
Коробейников смотрел на женщину, немо и растерянно улыбался, забыв пожать ее протянутую руку, с опущенными, как для поцелуя, пальцами.
— Я принесла тебе хорошую новость, — обратилась она к Саблину. Голос ее был глубокий, с волнующими грудными переливами, которые, как показалось Коробейникову, были предназначены для него. — Марк поговорил с этим чиновником из министерства. Ты можешь ему позвонить завтра утром, и он тебя тотчас примет.
— Твой муж, неполный тезка Марка Аврелия, хотя бы отчасти вознаграждает нас, Саблиных, за то, что лишил тебя этой замечательной фамилии, — чуть вычурно ответил Саблин. Снова притянул к себе сестру, и та, улыбаясь, не сразу от него отстранилась.
— Перестань, — в этом негромком, интимно произнесенном «перестань», в смеющихся полуоткрытых, недотянувшихся до ее виска губах Саблина померещилось Коробейникову что-то запретное и порочное. Головокружение его продолжалось. Женская золотистая голова была охвачена прозрачным свечением, какое бывает в кроне солнечных осенних деревьев.
— Как вы можете сидеть в такой духоте? — спросила она. — Еще чуть-чуть, и вы упадете в обморок. Мне кажется, вам обоим нужен свежий воздух.
— Ты пахнешь дождем. — Саблин приблизил к сестре свои узкие звериные ноздри. — Нас действительно здесь ничто не удерживает. Мы можем идти.
Они покинули Дом литераторов. Ступая за женщиной, глядя, как погружаются в бесшумный ковер ее высокие каблуки, как мягко и красиво колышется ее голова, Коробейников изумлялся этому бестелесному, сильному, словно удар электричества, прикосновению, осознавая, что ничего подобного прежде он не испытывал.
7
На улице шумно и великолепно шел дождь. Москва казалась огромным сверкающим кристаллом черного кварца, в котором переливались светофоры, плыли ртутно-белые, с глубоким отражением, фары, нежно туманились белоснежные фасады, легкие, эфемерные, словно толпы испуганных насекомых, летели по тротуарам перепончатые глазурованные зонтики.
— Поймай такси, — сказала брату Елена, прижимаясь к нему. Тот, промокая, весело воздел над ней белую ладонь.
— У меня машина, — сказал Коробейников, кивая на красный, среди черного блеска, «Москвич» под высоким оранжевым фонарем.
— Мишель тебя подвезет, он очень любезен, — улыбнулся Саблин, убирая ладонь над золотистой женской головой, словно лишал ее покровительства, передавал Коробейникову вместе с дождем, нежным отражением белого особняка, зеленым, утонувшим в черной глубине, огнем светофора. — Ему по пути, подбросит тебя на Сретенку.
— Мне, право, неловко, — произнесла Елена, зябко поводя высоким плечом, на котором намокал синий шелк.
Саблин легкомысленно махнул рукой. Быстро, легко стал удаляться. Кивнул издалека, посылая им обоим воздушный поцелуй, тая в дожде, исчезая среди разноцветных фонтанов, в толчее набегавших зонтиков.
— Прошу вас, — сказал Коробейников, подводя Елену к машине, открывая дверцу, пуская ее в глубину салона.
Они оказались в тесном, холодном пространстве автомобиля, окруженные стеклами, по которым струилась вода и скользил свет высокого оранжевого фонаря. Фонарь осветил складки ее шелкового платья, которое она подобрала, удобней усаживаясь, вытягивая ноги. Коробейников чувствовал волнующий, миндальный запах ее духов. Исходящее от нее тепло и дыхание, от которых стали туманиться стекла. Особняк впереди, янтарно-белый, стал пропадать, превращаясь в размытое облако. Она подняла руку, проводя длинными, гибкими пальцами по золотистым, слегка потемневшим от влаги волосам. Ощупывала на затылке тугой, плетеный пучок с гребнем. В наклоне головы открылась близкая, дышащая шея. Пугаясь этой близкой ослепительной белизны, вдыхая аромат ее духов, видя, как натянулся синий шелк на ее бедре, Коробейников обморочно потянулся, желая поцеловать эту теплую доступную белизну, испытывая неодолимое влечение, обморочное головокружение, словно кто-то властный наклонял его голову, побуждал прикоснуться губами к восхитительной, манящей, открытой для него женской шее. И чувствуя, что проваливается в упоительную бездну, пропадает среди синего шелка, разноцветной текущей воды, близких, уложенных на затылке волос, чудом удержался на последнем краю этой пропасти. Повис на хрупкой паутинке, раскачиваясь между ампирным особняком, синим шелком, оранжевым фонарем и близким, повернувшимся к нему, насмешливым женским лицом:
— Мы едем? Вы случайно не потеряли ключи?
— Какие-то ключи потерял, — пробормотал он в изнеможении, слабым движением заводя машину. Тронул машину, поведя ее по широкой блестящей дуге, выруливая с улицы Герцена на огненную Садовую. Почувствовал, как отнятая у него энергия вдруг снова вернулась в виде ликующей радости. Дождь, Москва, прелестная, едва знакомая женщина, оказавшаяся рядом с ним по воле загадочного Провидения. И эти ослепительные, дарованные ему в наслаждение секунды, неповторимые и единственные, рассыпаны в его жизни, как переливы бриллиантов на черном бархате, за которые он славит Того, Кто их даровал.
Знакомый город, каким он привык его видеть, исчез, превратился в волшебные сполохи, трепещущие сияния, разноцветные радуги. Стеклоочиститель метался перед глазами, сбивая толстый слой воды, и тогда на мгновение открывались серебристое яйцо Планетария, лепная арка Зоологического сада, а потом громко, как из ведра, шлепало на стекло, и все застилало огненное павлинье перо, космато пылавшее среди черноты и блеска. Над площадью Маяковского висела огромная люстра неба, роняя подвески, которые падали и разбивались вокруг бронзового памятника, а тот истово, среди брызг и осколков, стоял, стеклянный, светящийся, с прозрачным малиновым туловом.
Его зрачки метались по сторонам, почти не следя за ходом машины. Обрели волшебное зрение, словно в вену тончайшей иглой впрыснули из крохотной ампулы возбуждающий наркотик, превративший Москву в фантастический город, без людей, с разноцветными колоннами света, с дивным изумрудом деревьев, в каждом из которых горел светильник, окруженный водяными радугами. Так в цветных сновидениях выглядел Рай с невиданной растительностью, возносящей к черным, пульсирующим небесам дивные соцветия, живые лучистые звезды, огромные трепетные лепестки. Так выглядели ожившие города архитектора Шмелева, улетающие цветными прозрачными башнями в дышащий Космос, опрокидывающие в черную бездну огненные корневища. Зрелище преображенного города восхищало и пьянило его. То возникала вдалеке огромная пылающая тарелка, приземлившаяся на Садовой Каретной, у Эрмитажа. То устремлялась в небо прозрачная сосулька небоскреба, охваченная голубым сиянием. Он благодарил неведомого волшебника, преобразившего город. Благоговел перед восхитительной женщиной, которая улыбается своими колдовскими глазами, показывая ему чудо преображения.
Было мгновение, у Самотеки, на огненном перекрестке, когда исчезло ощущение улицы с прямолинейным движением, а их обоих завертело в фантастическом завитке, поместило на головокружительную карусель, среди музыки, пышных салютов, шелестящих стоцветных фонтанов. Они сидели не в автомобиле, а в тесной люльке на блестящих звонких цепях, перед ними и сзади по кругу мчались золоченые, разукрашенные лошади, верблюды в полосатых попонах, слоны с нарядными балдахинами, старинные дилижансы и космические ракеты. Их игрушечный красный автомобиль несся по кругу, и женщина прижималась к нему пугливым плечом.
Город казался огромным праздничным аттракционом, с пугающе-сладкими падениями и взлетами, с фонтанами алого и золотого вина, с качелями, проносившими их над мокрыми перламутровыми крышами, золотом ночных куполов, над купами скверов, в которых, нахохленные, мокрые, притаились московские вороны, разноцветные, как тропические попугаи. У Цветного бульвара, молниеносно оглядываясь на соседку, увидел, как за ее головой, в затуманенном стекле открывается далекое пространство, и на нем кипит карнавал, танцуют пленительные полуобнаженные женщины, раскачиваются смешные размалеванные великаны, пляшут яркие маски, порхают громадные бабочки, по головам ликующей толпы катится огромный, голубой и прозрачный шар, в котором, словно в икринке, притаилась серебряная рыба.
«Да будет как есть… Все уже началось… Для меня, для нее… Мы оба вступили в роман, и оба его напишем… Искусство выше, чем жизнь… И мы летим в высоте…»
Кто-то летел над ними, яркий, как скоморох, дул в золоченую дудку, колотил в звонкий бубен, бренчал бубенцами. Не отпускал, колдовал, плескал в стекло машины разноцветными брызгами. Колдун, веселый кудесник, ворожил, обольщал и морочил. Уводил с основной дороги, заставляя плутать по незнакомым переулкам и улочкам, по неведомым тропкам, открывая в Москве невиданные, небывалые пространства, — оранжево-бездонный американский каньон, голубые, в розовых льдах Гималаи, бескрайнюю, седую от трав саванну. И вдруг они отрывались от бренной земли, взмывали свечой к небесам и мчались в черном, с размытыми звездами Космосе. Мимо них проносились желтые луны ночных фонарей, цветные планеты дорожных знаков, ворохи размытых реклам, напоминающих хвосты комет. К стеклу их машины прилипали на мгновение нестрашные чудища других миров, стоглазые и многоногие, как розовые осьминоги и медузы.
— Здесь нам нужно свернуть, — сказала она, возвращая его из восхитительного стоцветного бреда на угол Садовой и Сретенки. — Здесь мой дом.
Они вкатили в тесную арку и оказались в глубоком дворе, окруженном высокими мрачными домами купеческой московской постройки с желтыми, уходящими вверх окнами. Остановились у подъезда с тяжелой резной дверью. Тут же, во дворе, среди черных, дрожащих от дождя луж, гремящих водостоков, размытых отражений стояли глазурованные темные «Волги». Сквозь запотелые стекла угадывались терпеливые дремлющие водители.
— Как хорошо вы меня домчали, — благодарила она, и на губах ее блуждала слабая улыбка, какая остается на лице после счастливого отлетевшего сна.
— Жаль, что вы так близко живете. Дождь еще идет, Москва все такая же волшебная, но мы уже приехали.
— Не предполагалось, что нам предстоит такая прогулка. Ничто не предвещало нашей встречи.
— За секунду до вашего появления я думал о вас. Думал о девочке в прозрачном солнечном платье и красных матерчатых туфельках на веранде крымской дачи, к которой подкатывает черный длинный лимузин.
— Это брат рассказал? Он большой фантазер и неутомимый рассказчик. Он влюблен в вас, много мне о вас говорил. Но берегитесь, не всякий выдержит бремя этой любви.
— Вы похожи на брата, чертами лица, статью. Быть может, и нравом.
— Нет, я совсем другая. Брат честолюбец, гордец. Человек с уязвленной гордыней, который ищет реванша и готов ради этого на безумный поступок. А я — домашняя женщина, жена, хозяйка салона, в котором развлекаю умных мужчин и поэтому запрещаю себе быть умной.
— Вам достаточно быть красивой.
— Брат говорил о вашей книге, которую прочитал с восхищением. Хотела бы и я прочитать.
— Как мне было знать, что мы познакомимся?
— Но, быть может, вы преподнесете мне ее при нашей следующей встрече?
— Мне не хочется сейчас расставаться. — Это вырвалось у него так искренне и наивно, что она посмотрела на него внимательно, чуть отстранив свое белеющее в темноте лицо с прямыми линиями золотистых бровей, под которыми глаза были цвета темно-фиолетовой, текущей вокруг воды с блестящими искрами отраженных окон.
— Можно не расставаться. Приглашаю вас подняться ко мне. У мужа гости. Быть может, вам будет интересно оказаться в их обществе.
Он вдруг испугался, словно кто-то невидимый положил на его воспаленный горячий лоб холодную руку. Их знакомство продолжалось не долее получаса. Состояло из магических сверканий, праздничных галлюцинаций, безумных фантазий, которые оборвались в этом темном дворе, где кто-то невидимый, вкрадчивый, остудил его лоб. Делал ему предупреждение. От чего-то уберегал. О чем-то предостерегал. Следовало внять этому неслышному голосу и вежливо отклонить приглашение. Выйти из автомобиля на дождь. Открыть ей дверцу. Увидеть, как медленно выносит она из машины свою длинную красивую ногу в остроносой туфле. Как на мгновение под откинутым шелком открывается круглое колено. Как появляется из салона лицо с восхитительными, меняющими цвет глазами. И он провожает ее до подъезда, ловя на прощание благодарную улыбку, где еще присутствует, но уже исчезает недавнее видение стоцветной Москвы, тает драгоценное, дарованное им на полчаса чудо, которое пронесли мимо них, словно пылающий волшебный фонарь. И, уже готовясь произнести легкомысленно-отстраненным голосом слова прощания, которыми обрываются случайные необязательные знакомства, он вдруг радостно и жадно сказал:
— Конечно, принимаю ваше любезное приглашение…
8
Лифт поднял их на верхний этаж, и они оказались на просторной лестничной клетке со старинным кафелем стен, тяжеловесными, в чугунном литье, перилами, перед дорогой, красиво оббитой дверью с медной пластиной и старинным фарфоровым звонком. Елена сильно, с решительной складочкой у бровей, нажала кнопку. Сквозь плотную в пухлых ромбах обивку послышались шаги. Дверь распахнулась, и Коробейников увидел высокого грузного человека в вольной домашней блузе. Глаза человека под косматыми седыми бровями, увидев Елену, радостно просияли, а потом вопросительно, с мягким недоумением, остановились на госте.
— Это Михаил Коробейников, писатель, друг Рудольфа. Мы только вчера говорили о нем, и ты захотел познакомиться. Случай представился. Михаил любезно доставил меня к тебе, и на мне ни одной дождинки. — Она на мгновение прижалась к мужу, проскальзывая в глубь прихожей.
— Марк Солим, — благодушно и гостеприимно отступил хозяин, впуская Коробейникова, хватая его руку теплой, мясистой ладонью. — Рудольф, этот пылкий человеконенавистник, говорил о вас с восхищением. Поэтому я и сказал Елене: «Либо он еще больший злодей, чем твой брат, либо ангел во плоти». — Эта шутка, сопровождаемая доброжелательным взглядом голубых умных глаз, сильная большая рука, все еще тянувшая гостя в глубь прихожей, расположили Коробейникова, избавили его от чувства неловкости.
В квартире, после мокрого ветра улицы, железных запахов лифта, вкусно и сложно пахло. Дорогим табаком, синий дым от которого плавал в освещенной гостиной. Винами и душистыми яствами, видневшимися в столовой на разоренном, уже оставленном гостями столе. Благородными горьковатыми запахами старинных книг и живописных холстов, доносившимися из кабинета, где одна огромная стена была сплошь уставлена тесными книжными корешками, а на другой, в смуглом сумраке, висела картина с летящим в небесах петухом и какой-то крылатой девой, — то ли Тышлер, то ли Шагал.
— Чувствуйте себя как дома. — Хозяин широким жестом, заслоняя просторным рукавом блузы тонкую приоткрытую щель в спальню, где что-то нежно розовело и переливалось, направил Коробейникова в голубоватый дым гостиной.
В высокой, кубической, с лепным потолком комнате, под сверкающей люстрой, на свободно расставленных креслах и широком диване разместились гости, разгоряченные едой, напитками, дружеской, необязательной и веселой беседой, какая завязывается между близкими людьми после нескольких рюмок водки или бокалов вина, способствующих воспарению воздусей. Посреди гостиной стояла изящная тумбочка на колесиках, на ней утвердилась большая влажная бутылка виски с цветным ярлыком и темно-золотым содержимым, фарфоровая вазочка с надтреснутыми орехами миндаля, лежало несколько пачек сигарет с изображением величавого верблюда. В руках у гостей были толстые стаканы, из которых те делали маленькие, долгие глотки, наслаждаясь горьковатым жжением. Перед каждым на полу, на блестящем паркете, или на толстом персидском ковре, или на пышной, прекрасно выделанной овечьей шкуре, стояли пепельницы, — хрустальные, в виде витых перламутровых ракушек, китайских эмалевых блюдец, затейливых, из черного африканского дерева, чашечек, каменных выточенных плошек. Коробейникову показалось, что каждая пепельница служит фетишем или ритуальным предметом, с которым соотносится тот или иной гость, дымящий американской дорогой сигаретой.
— Михаил Коробейников, знакомый Лены. — Хозяин радушно представил новоявленного гостя всему собранию. Тот сделал общий поклон в разные углы гостиной, не обременяя рукопожатиями лениво рассевшихся собеседников. Направился к дивану, где было свободное место. Опустился рядом с миловидным молодым человеком, чья приветливая улыбка, тонкие черты лица, красиво и вольно распущенный шелковый галстук сразу понравились Коробейникову. Марк Солим, ожидая, когда сомкнётся распавшаяся благодушная атмосфера, потревоженная нечаянным вторжением, продолжал какую-то увлекательную, прерванную историю.
— Итак, на чем я остановился? Ах да… Перед нами, собравшимися, на невысоком подиуме возвышается женская фигура, укутанная в паранджу, вся в темных батистовых складках, под которыми мерещится пленительное тело восточной красавицы с маленькой точеной головкой, как если бы сейчас заиграла музыка и начался танец живота… — Солим, по-видимому великолепный рассказчик, сделал паузу, завораживая слушателей, заставляя их с нетерпением ожидать продолжения. — И вот, вообразите себе, на подиум, в лучах яркого света выходит сам хозяин этой великолепной венецианской виллы, маэстро Сальвадор Дали, в костюме средневекового испанского гранда, в панталонах, шелковых чулках, в лиловом камзоле с кружевными рукавами и пенистым пышным жабо. У пояса изящная шпага. На туфлях зеленые банты. Раскланивается, оглядывая нас своими кошачьими бешеными глазами. Хватает край паранджи и с силой сдирает. Под черным облачением вместо живой женской плоти мы видим белоснежную алебастровую Венеру Милосскую, с ее совершенным античным торсом, чудными маленькими грудями и, заметьте себе, с обеими руками, в одной из которых она держит живую алую розу. Мы в восхищении ахаем. Маэстро, словно фокусник, извлекает из складок камзола маленький молоточек, делает им в воздухе замысловатые взмахи, словно пишет иероглифы волшебного заговора на таинственном языке. Поворачивается к Венере и с силой бьет ее по голове молотком. Алебастр раскалывается, осыпается бесформенными белыми кусками, и под этой разрушенной оболочкой возникает ярко раскрашенная, из папье-маше, статуя Христа, какими украшают алтари католических храмов… Мы с благоговением взираем на маэстро, который смиренно склонился перед Христом, словно это его родной испанский собор в Толедо. И вдруг, прерывая поклонение, он свирепо бросается на Христа, когтями, с хрустом и треском разрывает его картонные раскрашенные покровы, отбрасывает в стороны цветные клочья, и мы видим, что перед нами яркий скелет из нержавеющей стали жутко, ослепительно сияет полированным черепом, оскаленными зубами, тазовыми и берцовыми костями… И вот они стоят друг напротив друга, испанский гранд Сальвадор Дали в лиловом камзоле, с рассыпанными до плеч волосами, и легированный, ярко-белый скелет в блеске операционной стали. Неожиданно маэстро выхватывает свою тонкую шпагу. Делает выпад навстречу скелету. Пронзает его острием. Там, где одна сталь коснулась другой, вспыхивает синяя трескучая молния, трепещет голубая вольтова дуга. Под ее воздействием скелет испаряется, превращается в сизый мерцающий дым, какой остается в небе во время салюта после взрыва шутихи. Маэстро замирает с поднятой шпагой, вокруг него мечутся и гаснут частицы мироздания, мерцают испепеленные, неуловимые для подражателей шедевры. Ускользают от коллекционеров и поклонников бесподобные образцы искусства… Таков он, наш великий Сальвадор Дали!.. — Солим эффектно тряхнул голубовато-белой гривой, театрально поклонился и был вознагражден аплодисментами и возгласами:
— Великолепно, Марк!
— Ты, Марк, настоящий апостол современного искусства!
— Эту историю ты должен описать в «Литературной газете», чтобы не лишить интеллигенцию возможности восхищаться тобой!
Хозяин самодовольно улыбался, искренне переживая свой успех. Прошествовал на середину комнаты. На треть наполнил виски тяжелый стакан. Поднес Коробейникову. Тот благодарно принял, смущаясь вниманием услужившего ему пожилого хозяина.
— Я несколько раз слышал его в аудиториях и могу вам сказать: он лучший оратор Москвы, — обратился к Коробейникову его молодой сосед, протягивая руку и представляясь: — Андрей!
Называя в ответ свое имя, Коробейников отметил, какая сухая и легкая у соседа ладонь, какой приятный голос, как просто и доброжелательно прозвучала его похвала в адрес Марка.
— Я разделяю общую обеспокоенность той обстановкой, которая складывается у нас после подавления «пражской весны», — произнес крупный, породистый гость с начинавшим жиреть подбородком, надменными красными губами и круглыми хищными глазами пресыщенного беркута, которыми он медленно обводил окружающих, словно лениво прицеливался, кого бы клюнуть горбатым, загнутым книзу носом. — Я имел возможность довести до сведения Дубчека, что преждевременные и непомерные амбиции чешских коллег будут пресечены по «венгерскому варианту», а это сведет на нет наши кропотливые усилия по смягчению курса как здесь, в Москве, так и в других столицах Восточной Европы.
— Это кто? — тихо спросил соседа Коробейников, прикрывая свои губы стаканом виски.
— Это доктор Ардатов, блестящий американист, чьи рекомендации чтят в аппарате ЦК. Его называют личным референтом генсека, и это весьма похоже на правду, — пояснил Коробейникову сосед, так же, как и он, прикрывая говорящие губы стаканом с золотистым напитком. И этот схожий жест, и тихая, заговорщическая интонация еще больше их сблизили, расположили Коробейникова в пользу милого и весьма осведомленного человека.
— Теперь оживились наши «ястребы» в идеологическом и военном отделах. Сам видел на столе у генсека список лиц, подлежащих кадровой чистке. Среди них есть те, кого мы с таким трудом продвигали в начальники отделов, в главные редакторы, в руководители творческих союзов. Со своей стороны постараюсь сделать все, чтобы уменьшить потери. Однако, должен сразу сказать, потери неизбежны. — Это вкрадчивое заявление сделал худой, болезненный человек с пергаментным иссушенным лицом, на котором, казалось, никогда не росли борода и усы. Под тоскующими глазами уныло висели складки, похожие на маленькие пельмени. В редкую шевелюру глубоко врезались стеариновые залысины. Своим страдальческим видом он напоминал скопца, тайно горюющего по утраченным наслаждениям, винящим в своем несчастье жизнелюбивых полноценных людей.
— А это кто? — спросил у соседа Коробейников.
— Помощник генсека Цукатов. Готовит документы перед заседаниями Политбюро. Связан с Леонидом Ильичом не только функционально, но и психологически. Держит специальную аптечку с медикаментами, в которых так нуждается генсек.
Коробейников с острым вниманием рассматривал лица тех, кто составлял дружеский домашний кружок, собравшийся в «салоне Елены Солим», как в шутку поведала недавняя знакомая, по прихоти своей пустившая его в общество избранных. Ему, писателю, волею случая открывалась новая, недоступная для многих реальность. И он наблюдал ее и исследовал, надеясь описать в своем будущем романе.
На некоторое время в гостиной воцарилась тишина. Гости молча курили, стряхивая пепел, кто в перламутровый завиток раковины, кто в эмалированную пиалу, кто в черное, из африканского дерева, блюдце.
— Наш дорогой Марк и сам не хуже Сальвадора Дали, мастер миражей, — произнес невысокий, кругловатый, большеголовый гость, с коричневым, восточного вида, лицом, пушистыми молодыми бровями, под которыми любовно взирали оливковые, с белыми точками, глаза. Его чувственный нос напоминал небольшой, розоватый внутри хобот, где гулко рокотали и переливались слова. В открытой рубахе апаш курчавилась темная шерсть, в которой блестела тонкая золотая цепочка с какой-то восточной ладанкой.
— А это кто? — спросил у соседа Коробейников, вслушиваясь в странное звучание слов, пропущенных сквозь резонатор хобота и при этом слегка деформированных.
— Звезда востоковедения Приваков, — с уважением в голосе пояснил сосед. — Друг арабов, брат евреев, журналист и ученый, советский Лоуренс, составляющий рекомендации для МИДа по вопросам запутанной ближневосточной политики.
— Но я вам расскажу, как недавно увидел мираж пустыни и едва не отдал душу Аллаху, — продолжал Приваков, выдувая носом слова, словно выбулькивая их из-под воды. — Это было в нынешнем мае, в Сахаре, когда я посещал бедуинов, выполняя деликатное поручение нашего Генштаба. Ехал на верблюде, укутанный в бурнус, в белой бедуинской накидке, при жаре в тридцать градусов, по раскаленным барханам, в сопровождении проводника. — Он обвел всех внимательными глазами цвета спелых маслин с дрожащей искоркой света, желая убедиться, что вполне завладел вниманием слушателей. — Представляете, непрерывное колыхание кварцевых бесцветных песков. Каждая песчинка направляет в тебя тончайший лучик солнца, прокалывает этим лучиком твою одежду, кожу, впивается в плоть и убивает там кровяную частичку. Ты чувствуешь, как в тебе сворачивается кровь. Вокруг солнца плывут фиолетовые и оранжевые кольца. Верблюд ступает в песках на своих широких растопыренных пальцах, укачивает тебя, как в колыбели. Уже много часов вижу перед собой его пыльный выцветший мех, грязную цветную тряпицу, на которой висит бубенец, издавая заунывное дребезжание. — Коробейников отдавал должное рассказчику, обладавшему, по-видимому, даром гипнотизера. Так действовал его вибрирующий, булькающий голос, мягкое, чуткое шевеление розоватых ноздрей, внимательный и любовный взгляд фиолетовых, с серебряной искоркой глаз. — И вот передо мною видение. Огромный живой город в пустыне; с великолепием дворцов, с бирюзовыми куполами мечетей, с изразцовым блеском изумрудных минаретов. Вижу базарную площадь, наполненную смуглой разноликой толпой. Прилавки с гранатами, виноградом, сочными овощами и фруктами. Вижу ловких торговцев с медными весами, куда они сыплют миндаль и изюм. Воинов в тюрбанах, стоящих на крепостной стене у старинных бронзовых пушек. В этом городе цветут восхитительные сады, качаются пальмы, текут драгоценные ручьи, и я вижу, как летит, сносимая ветром, прозрачная кисея серебристых фонтанов. Я вижу воду повсюду: в бассейнах, в арыках, в чудесных ручьях, откуда ее черпают ковшами молодые смуглые женщины, переливая в глиняные кувшины. Слышу звук воды, ловлю ее запах, тянусь на эти восхитительные серебряные пузыри и… теряю сознание от теплового удара… Очнулся на кошме, под белым пологом, который заботливо натянул надо мной проводник. Он рядом, перед раскрытой дорожной сумой. Извлек из нее небольшую каменную ступку с каменным пестиком. Достал из жестяной коробочки два или три черных жареных зернышка кофе. Долго, тщательно тер, превращая ядрышки в мельчайшую пудру. Ссыпал порошок в крохотный ковшик с ручкой. Налил из флакончика малую толику воды. Кинул большой кусок сахара. И поставил все это на спиртовку, где запалил голубоватый прозрачный язычок сухого спирта. Скоро напиток вскипел. Я уловил божественный аромат душистого кофе. Бедуин налил мне густой, как деготь, тягучий, смоляной отвар в крохотную, подобно наперстку, чашечку. Я коснулся языком этой сладости, этой душистой и восхитительной горечи. Выпил кофе и мгновенно почувствовал свежесть, прилив бодрых сил. Мог встать, взгромоздиться на верблюда. И мы снова продолжили путь по Сахаре под заунывный звон бубенца… — Приваков завершил рассказ, обводя друзей внимательным благосклонным взором. Коробейникову же показалось, что собравшиеся люди разыгрывают загадочное театральное действо, включавшее в себя эти изящные повествования, изысканную декламацию, которыми они награждают друг друга, придавая общению эстетическую утонченность.
— Я предчувствую, что «чешские события» и реакция на них нашей интеллигенции вновь увеличат число диссидентов и, не дай бог, повлекут за собой репрессии. Надо не допустить слишком жестоких мер, не допустить арестов. В конце концов, неугодных можно на некоторый период выслать за границу, до изменения политического климата, когда они снова смогут вернуться. — Это произнес из кресла пухлый маленький гость, сложивший крестом короткие толстые ножки. Под его красноватым, как клубенек, носом висели рыжие моржовые усы, потерявшие свой темный цвет от частого макания в пивную кружку. Та же пивная одутловатость была на его сизом лице с оттопыренной нижней губой и выпученными, тревожными глазами.
— Кто это? — обратился к соседу Коробейников, стараясь припомнить, кому принадлежало это знакомое, голубовато-сизое от чрезмерных пивных возлияний лицо.
— Вы наверняка его знаете, — ответил сосед. — Ваш коллега, обозреватель «Известий» Бобин. Говорят, содержание его статей является прямым результатом личных бесед с Генеральным секретарем.
— Мы должны ожидать, что предполагаемые утеснения либеральной части интеллигенции, условно говоря «западников», приведут к оживлению «русистов», «славянофилов», — озабоченно произнес Марк Солим. Его розовое мясистое лицо утратило благодушно-легкомысленное выражение, обрело странную двойственность, состоящую из тревожной печали и сосредоточенной жесткости. — Смею полагать, что партийные «ястребы» воспользуются нарушением баланса для поощрения антисемитизма, который свил гнезда в известных литературных журналах, в военных кругах и даже в некоторых отделах ЦК. Мы должны сделать все, чтобы сохранить равновесие…
— Такое равновесие может быть сохранено лишь на макроуровне, — произнес доктор Ардатов, поводя круглыми глазами утомленного беркута, на которые вдруг опадала выпуклая желтоватая пленка. Было видно, что затронутые темы являются предметом тщательного обдумывания, от которого слегка раздувался его зоб и наклонялся в сторону хищный загнутый нос. — Срыв либерального процесса в Восточной Европе приведет к обострению советско-американских отношений. К замораживанию наших осторожных преобразований в самом Советском Союзе. К усилению ортодоксальных тенденций в партийном руководстве. Этот сдвиг можно компенсировать, добившись, например, кризиса в советско-китайских отношениях, который испугает общество «китайской угрозой», возможностью «культурной революции» по китайскому образцу и вновь качнет маятник советской политики в сторону Запада…
У Коробейникова, внимавшего малопонятным речам, не умевшего разгадать намёки произносимых суждений, возникало странное ощущение от кружка, куда привел его случай. Здесь встретились блестящие люди. Прекрасные рассказчики и легкомысленные краснобаи. Знатоки искусств и любители сладких яств. В домашнем кругу милых друзей они отдыхали от изнурительных дел, мучительной и опасной политики, обременительного служения. Однако среди увлекательного и праздного красноречия, дорогих напитков и вкусных табаков начинало мерещиться иное содержание их бесед. Иной, сокровенный смысл их встречи. Они казались таинственными работниками, законспирированными заговорщиками, вкрадчивыми соглядатаями. От каждого тянулись невидимые связи, неуловимые рычаги, неощутимо тонкие нити, соединявшие их с огромной, мощной машиной власти, неповоротливой и слепой, медленно и неуклонно совершающей свою угрюмую работу. Они были умными машинистами, обслуживающими эту машину. Знали ее рычаги и колеса, зацепления ее зубцов, устройство валов и пружин. Слабым нажатием, своевременной каплей масла, легчайшим толчком чуть меняли скорость колес, напряжение пружин, направление мерного могучего хода. Они были тайные советники тех, кто представлялся Коробейникову молчаливыми великанами Бамиана. Открывали каменные веки дремлющих исполинов. Растворяли их тяжкие сомкнутые уста. Переводили на язык людей угрюмый гул ветра в их каменных складках. Они были жрецы, совершавшие магический, непонятный смертным обряд. Фонарщики, возжигавшие в ущельях гор таинственные светочи. От их властных, утомленных всеведением лиц веяло древними знаниями, забытыми верованиями и языками. Дым от их сигарет овевал растресканные алтари отвергнутых богов и кумиров. Пепельницы у их ног были жертвенными саркофагами, куда падал пепел истлевших эпох.
— Простите, Андрей, а чем занимаетесь вы? — Коробейников обратился к соседу, чье милое, с застенчивой улыбкой лицо было столь не похоже на величавые лики жрецов.
— Работаю в аналитическом центре, изучаю статистику. Ничего интересного. — Ответ сопровождала все та же приятная, чуть стеснительная улыбка, делавшая ее хозяина случайным лицом среди властных, вельможных советников.
— Я вспомнил историю, случившуюся не столь давно, позволяющую понять, как макропроцессы международной политики управляются на микроуровне, — сказал Бобин, разглаживая свои вислые, цвета желтой мочалки, усы, чтобы они не мешали произносить слова. — Я был послан в Западную Германию, в Бонн, где проходил малый съезд Социнтерна, руководителем которого, как вы знаете, был Вилли Брандт. Он уже тогда рассматривался как кандидат на пост Федерального канцлера. Мне поручили провести с ним приватные переговоры. — Бобин, затеяв рассказ, оживился. Лицо его утратило голубоватую одутловатость, похудело и похорошело. Глаза перестали казаться тупо выпуклыми, сузились и лучисто блестели. Видимо, воспоминание доставляло ему удовольствие. — Я терпеливо и добросовестно выслушал все скучные выступления съезда, которые переводила моя очаровательная спутница, переводчица Наташа. Вечером, в загородном ресторане, на берегу Рейна состоялся ужин в узком кругу с Вилли Брандтом. Я передал ему послание секретаря ЦК. Мы откровенно обсуждали вопросы советско-германских отношений, в частности, возможность их смягчения в случае избрания Брандта канцлером. Он был очень оживлен, хорош собой, золотистые волосы, голубые глаза, волевой арийский подбородок. Одет изумительно, в великолепный костюм с розовым шелковым галстуком, в котором, едва заметная, была вколота маленькая золотая булавка с бриллиантиком. — Бобин поднял короткие пальцы, глядя на них сквозь люстру, и Коробейникову почудилось, что он держат сверкающий драгоценный бриллиантик. — Наташа переводила, угадывая и воспроизводя самые тонкие его интонации. Было видно, что она ему нравится, он ею увлечен, говорит для нее. Ибо переводчицы и те, кого они переводят, составляют классические пары. Такие, как художник и натурщица, писатель и редактор, жертва и палач. Сочетаются один с другим на глубочайшем чувственном и психологическом уровне. Кончилось тем, что Брандт поднялся и произнес тост за красоту русских женщин. Чокнулся шампанским с Наташей. Поцеловал ее тонкое запястье с голубоватой девственной жилкой. Оркестр, который до этой минуты скрывался в тени, наполняя ресторан едва различимой музыкой, внезапно озарился и грянул танго. Брандт пригласил Наташу. Они вышли на середину зала. Он — стройный сухопарый красавец. Она — прелестная, грациозная, юная. Стали танцевать. Наташа великолепно, артистически двигалась, словно балерина. Брандт не уступал ей, похожий на конкурсного танцора. Когда музыка смолкла, все аплодировали. Брандт преподнес Наташе букет цветов. Мы расстались с немцами, уехали в отель. Я простился с Наташей в холле, поднялся к себе. Намешал «мартини» со льдом, подошел к окну и увидел, как подкатил великолепный черный «мерседес», из дверей отеля выпорхнула Наташа, села в машину и укатила. Утром, когда мы встретились за завтраком, она была мила, очаровательна. Рассказала, что танцы — ее детская страсть, она хотела стать балериной. Вдруг я увидел на вороте ее платья тонкую золотую булавку с крохотным, как росинка, бриллиантиком. Позже, в Москве, я случайно узнал, что Наташа — майор КГБ…
Все аплодировали, одобряли рассказ, тянули из стаканов виски.
— Я знаю, формируется делегация Комитета в защиту мира в Бельгию и Нидерланды. Прошу включить в нее двух моих людей, специалистов по европейскому авангарду, — произнес Марк Солим, обращаясь к Цукатову, который тихо кивнул усохшей белесой головой. На его пергаментном лице с бесцветными губами мелькнула слабая тень согласия.
— Мы в прошлый раз обсуждали кандидатуры двух заместителей главных редакторов и ни к чему не пришли, — пробулькал своим толстеньким розовым хоботком Приваков. — Непростительное промедление. Борьба за газеты и журналы обостряется, и мы не должны допустить, чтобы во втором эшелоне редакций укрепились «славянофилы».
— Кстати, о «славянофилах», — подхватил его мысль доктор Ардатов, и его дремлющие, полуприкрытые желтой кожей глаза жарко раскрылись. — Выдвинуты претенденты на соискание Государственных премий в области литературы и искусства. Я просматривал списки. Явный перекос в сторону «славянофилов». Необходимо включить по крайней мере писателя и актера, разделяющих наши убеждения.
Все согласно кивали, одновременно затягивались сигаретами, отпивали из толстых стаканов. Приваков заостренными пальцами ловко расщеплял миндальный орешек, выколупливал зеленоватое ядрышко. Уронил на ковер две пустые костяные дольки.
— Мы должны понимать, что, по мере того как разрастается схватка между «западниками» и «славянофилами», начинает проседать основная идеология. У нее все меньше и меньше талантливых выразителей. А это опасно и нежелательно. Задуманные нами преобразования возможны только в рамках господствующей идеологии и направлены на ее эволюцию. А если она просядет или, не дай бог, исчезнет, то наружу вылезут такие монстры, такие палеонтологические реликты, что никакой Берия с ними не справится, — тихим, чуть надтреснутым голосом произнес Цукатов. Его иссушенное, без следов растительности, утомленное лицо, комочки несвежей кожи под бесцветными, вялыми глазами не мешали ему выражаться точно и властно. В этом тесном кружке единомышленников он выглядел неназванным лидером, теснее прочих приближенным к сокровенному центру власти. Бумаги в красных аккуратных папочках, которые он клал на пустынный зеленый стол генсека, таили в себе невидимый отпечаток этих домашних бдений. Тихий шелест бумаг превращался в грохот гигантских строек, рев бомбардировщиков, государственные перевороты и войны. И в каждом взрыве, сдвигавшем границы стран, толкавшем вперед грозную историю века, были малые поправки, неуловимые смешения, вносимые этими незаметными миру советниками, чьи слабые голоса были неразличимы среди рева машин и армий.
— В этой связи хочу обратить внимание на недавнюю публикацию нашего молодого гостя. — Цукатов направил на Коробейникова свои выцветшие глаза, напоминавшие сухие васильки, долгое время пролежавшие в толстой книге. — Ваша блестящая статья об архитекторе-футурологе Шмелеве, о будущем советской цивилизации снимает конфликт «славянофилов» и «западников». Возвращает нашей базовой идеологии присущее ей дерзание, устремленность в будущее, футурологический, свойственный коммунистам пафос.
Коробейникова эта фраза застигла врасплох. Он казался себе случайным соглядатаем, ненужным и обременительным посетителем, которого курьезные обстоятельства на краткий момент занесли в круг избранных. Но, оказывается, о нем здесь знали, его работы учитывались. Как малый элемент, они вносились в общее здание, возводимое этими искусными архитекторами.
— Статья в самом деле вызвала интерес своей свежестью, обилием новых мыслей, энергичным и ярким стилем. — Бобин одобрительно качал одутловатой головой с рыжими, жигулевскими усами. — Я положил ее на стол одному из секретарей ЦК. Он ее прочтет обязательно.
— Над чем вы сейчас работаете? Мне кажется, заявленная вами тема далеко не исчерпана. — Хищные, с ястребиной желтизной, глаза Ардатова смотрели в лицо Коробейникова, и он почувствовал их давление, как если бы в переносицу ему был направлен снайперский прицел.
Изумление Коробейникова росло. Возникло ощущение, что его здесь ждали. Ему устраивали смотрины. К моменту его появления главные темы были исчерпаны. Главные вопросы этого домашнего неформального заседания были решены, и после ужина, после основной дискуссии, его, Коробейникова, подавали на десерт. Но это ощущение было мимолетным. Газета, в которой он работал, была влиятельной и читаемой. Его статья, написанная не без блеска, была доступна вниманию множества влиятельных персон. И в этом он сейчас убеждался.
— Архитектор Шмелев — выдающийся мыслитель, — произнес Коробейников. — Он один — целая архитектурная и философская школа. Он проектирует не отдельную квартиру, не отдельный дом и даже не отдельный город. Он проектирует цивилизацию в целом. — Коробейников несмело и осторожно рассматривал внимавших ему жрецов, опасаясь разочаровать их вялым, неинтересным суждением или насторожить неверно произнесенной сентенцией. И вдруг пережил странное откровение, данное ему не разумом, а чуткой прозорливостью. Понял, чего от него ждут. Угадал тот узкий, направленный коридор, который ему предлагали окружавшие его мудрецы. Приглашали ступить в этот узкий коридор. Сомневались в его проницательности. И их наставленные лбы, нацеленные глаза подталкивали его в направлении этого коридора. — Шмелев неутомимо изучает развитие индустрии, посещает крупные промышленные центры и вахтенные нефтяные поселки. Исследует миграционные процессы в Казахстане, Сибири и на Дальнем Востоке. Его взгляды есть синтез технического прогресса, новейших представлений о человеке, сгусток идей, с помощью которых он описывает новый, назревший этап нашей социалистической цивилизации. Дает название многим вещам, данным в предощущении. Он формирует образ будущего, как его представляли отцы коммунистического учения. Эти воззрения Шмелев воплотил в футурологическом проекте, который мечтает повезти в Японию, в Осако, на Всемирную выставку, чтобы там представлять футурологическую философию СССР. «Города Будущего» как порождение нашей неповторимой цивилизации. Однако чиновники создают проекту препятствия. И, скорее всего, из-за бюрократических проволочек проект не попадет в Японию. — Коробейников был абсолютно уверен в правильности произнесенных слов, продвигавших его в глубину коридора, вдоль каменной колоннады недвижных фигур, придавленных страшной тяжестью огромной плиты. Он был свободен и необременен.
— А по какому ведомству направляется в Осако проект Шмелева? — поинтересовался Цукатов.
— Насколько я знаю, по линии Академии наук, — ответил Коробейников.
— Постараемся сделать, что в наших силах. — На пергаментном лице советника слабо процвела и померкла улыбка, будто появился и канул водяной прозрачный иероглиф.
Коробейников оглянулся. В дверях, прислонившись к косяку, стояла Елена, уже не в темно-синем, а в нежно-сером платье, в которое облачилась, совлекая с себя увлажненный дождем шелк, укрывшись в нежно-розовой глубине спальни. Ее глаза лучисто переливались, поощряли Коробейникова, вдохновляли, к чему-то побуждали. Желали ему немедленного успеха. Подсказывали, что он должен для этого сделать. И, вдохновляясь ее прозрачно-зелеными, изумрудными глазами, он снова пережил момент ясновидения, по наитию угадывая то, что от него ожидали. Что должен он произнести в кругу этих тонких игроков, вельможных краснобаев, чтецов пергаментных свитков, переписчиков священных книг, часовщиков спасских курантов, звездочетов, поддерживающих рубиновый свет в кремлевских пентаграммах.
— Со Шмелевым мы путешествовали в Казахстане, исследуя бурное развитие городов вокруг гигантских электростанций, металлургических комбинатов, угольных разрезов, военных полигонов. Он изучал движение огромных масс населения из русского центра в целинные степи, в зоны индустриального бума. Его интересовали смешанные браки, в которых рождалась новая, как он говорил, «советская раса». Круговорот ресурсов, когда иртышская вода поила заводы Темиртау, целинный хлеб питал гарнизоны Заполярья, дешевое электричество Ермака вращало моторы на авиационных предприятиях Омска, складываясь в огромную машину пространств. Он рассуждал о техносфере, которая разумно и гармонично взаимодействует с природой, не враждуя с ней, а сливаясь в долгожданный синтез. В этих рассуждениях мы оказались на крохотном аэродроме, пропустив все гражданские рейсы, потеряв всякую надежду выбраться из глухомани. На травяном поле стоял двухмоторный грузовой самолет. Молоденький пилот в форме и белоснежной рубахе шел из дощатого здания порта к своей кургузой машине. Мы попросились на борт. Он усмехнулся: «Если вас не смущают попутчики, то садитесь». Мы заглянули в фюзеляж, и что бы вы думали? На клепаном полу, среди шпангоутов, стояли два огромных буро-красных быка, тупые, глазастые, с острыми рогами, липкой слюной на губах. «Везем производителей в целинный совхоз. Там их ждет не дождется стадо», — сообщил жизнерадостный летчик. Запустил нас в глубь фюзеляжа, закрыл за нами округлую дверь. Мы остались с быками, с их жарким влажным дыханием, угрюмыми взглядами, кровавыми белками. Под брюхо быков были подведены кожаные попоны, прикрепленные стальными тросиками к потолку. «Это и есть синтез природы и техносферы», — воодушевленно заметил Шмелев. — Коробейников видел, как весело зажглись ястребиные глаза Ардатова, как заинтересованно потянулся к нему розовый хоботок Привакова, как распушились от удовольствия ячменные усы Бобина, и выцветшие, белесые васильки Цукатова налились едва заметной синевой. — Самолет запустил винты, разбежался, взлетел. Быки колыхнулись в одну, в другую сторону, страшно взревели и взбунтовались. Они чувствовали, что над ними совершают небывалое, несусветное насилие. Их отрывают от родных лугов, душистых цветов, чистых ручьев и любимых коров. Их уносят в небеса, и, быть может, они уже никогда не вернутся на землю, а останутся на орбите, посылая на землю свои позывные «Му-у-у!». Они решили, что мы со Шмелевым являемся главными виновниками их несчастья, и двинулись на нас. Били копытами клепаный пол самолета. Крушили рогами алюминиевую обшивку. Ревели и пялили на нас жуткие кровавые белки. В иллюминаторе мелькали нивы, текли дымы заводов, белели далекие города, а здесь, в небесах, шла коррида. Мы отбивались от быков, кидали им в глаза лежащую на полу солому, лупили по мордам какими-то прутьями. Они наступали, а мы, словно два тореадора, уклонялись от отточенных рогов. Казалось, еще немного, и обшивка самолета лопнет. Мы с быками вывалимся наружу, полетим к земле, продолжая сражаться, пока не шлепнемся на площадь какого-нибудь города. Это было страшно и восхитительно. Перед нами были крылатые мифические быки Вавилона. Красные рогатые звери, в груди у которых вращались стальные пропеллеры. Синтез природы и техники, о котором мечтал Шмелев. Наконец мы не выдержали, стали истошно орать, бить кулаками в обшивку. Дверь в пилотскую кабину растворилась. Выглянул все тот же молоденький ироничный летчик. Понял, что происходит. Стал крутить какую-то ручку. Тросики под брюхом быков напряглись, попоны потянули вверх. Быки оторвались от пола и беспомощно повисли под потолком, шевеля ногами, мотая рогами, отекая слюной и пеной. Так мы летели, забившись в хвост самолета. Когда опустились на землю и пошли, шатаясь, восвояси, Шмелев сказал: «А все-таки мы получили драгоценный опыт. Вот так будут перевозить быков-производителей на Луну, чтобы улучшить поголовье лунного стада»…
Коробейников, волнуясь, завершил свой экспромт, видя, как восхитительно сверкают и смеются глаза стройной женщины, меняя свой цвет от нежно-изумрудного до темно-голубого. И все, кто находился в гостиной, одобрительно усмехались, покачивали титулованными головами, и Ардатов несколько раз хлопнул своими породистыми, чисто вымытыми ладонями.
— Вы замечательный рассказчик! — с наивным восхищением произнес сосед Андрей. — Вижу как живых! Эти алые быки с жужжащими солнечными пропеллерами!
Коробейников торжествовал. Незваный, случайный, он включился в загадочную игру, в таинственное состязание и не проиграл. Выдержал первое предложенное ему испытание. Угадал правила изощренной игры, прошел по узкому коридору вдоль каменных статуй, не задев и не опрокинув. Был принят в тесный круг избранных на самых начальных ролях, и это наполняло его торжеством. Вместе с ним торжествовала прекрасная стройная женщина, прижавшая свое нежное золотистое лицо к косяку дверей. А ее величественный, седовласый муж не скрывал восхищения:
— Эту картину мог бы нарисовать великий Шагал. Крылатые алые быки и небесные голубые пастухи вращаются в невесомости.
В прихожей раздался звонок. Хозяин пошел открывать. Послышались голоса, смех, и в гостиную, к величайшему изумлению Коробейникова, вошел Стремжинский, его газетный начальник, которого он привык видеть в рабочем кабинете под зеленым электронным табло. Сейчас Стремжинский был возбужден, быть может, пьян, в распахнутом пиджаке и съехавшем на сторону галстуке. Его упрямые воловьи глаза бурно вращались, радостно озирая гостиную. Чуть вывернутые губы продолжали хохотать, а тяжелая рука обнимала Марка Солима. Тот нес это бремя, посмеивался какой-то шутке, быть может, непристойной, которую отпустил в прихожей новоявленный гость.
— Поклон всему честному собранию!.. Леночка, примите еще одного своего поклонника, который мысленно осыпает вас с ног до головы цветами!.. Ба, ба, ба, кого я вижу! — Глаза Стремжинского с радостным изумлением остановились на Коробейникове. — Молодое дарование!.. Какая приятная встреча!.. Вы уже вернулись из Праги? — Стремжинский был в прекрасном настроении, шумно и развязно шутил. Был встречен дружелюбными улыбками, как встречают своих, извиняя им невольные бестактности. А Коробейников вдруг испытал смятение, ощущение неслучайных совпадений, которые, складываясь в цепочку встреч, странным образом привели его в этот респектабельный уютный дом. Каменные исполины Бамиана, на которых намекал Стремжинский и которым служили сидевшие в гостиной жрецы. Статья об архитекторе Шмелеве, которую хвалил Стремжинский и о которой только что шел разговор в гостиной. Саблин, легкомысленно и изящно передавший ему сестру, с которой они промчались по Москве в упоительном стоцветном вихре, и он, опьяненный, словно в наркотическом сне, поднимался с ней в тесном старинном лифте, видя близко от себя ее сияющие, дрожащие глаза. Все это казалось неслучайным, было связано невидимой нитью. Но не было времени проследить цепочки событий и обнаружить в них глубинную, неслучайную снизь.
— Вы уже завершили свое состязание в риторике? — погружая одну стопу в пышную шкуру барана, а другую в черно-красный персидский ковер, Стремжинский пил виски из толстого стакана. — Я не приготовил никакого особого блюда, ибо жизнь моя проходит в стенах кабинета среди бесконечной бессмыслицы. Только иногда на мой закат печальный взглянет любовь с улыбкою прощальной. Да какой-нибудь острослов наградит смешным анекдотом. Кстати, вместо этюда по изящной словесности послушайте анекдот. — Он радостно осмотрел собравшихся, наивно готовясь хохотать по поводу того, что еще только намеревался поведать. — Один западный немец побывал в СССР, возвращается в Германию и рассказывает: «Знаете, я хотел привезти вам какой-нибудь советский подарок, но там в магазинах такие большие очереди, что просто невозможно их выстоять. Но вот я узнал, что у них есть такой большой магазин, где продают игрушечных мышей, — «Маус». Называется «Маусолеум», на Красной площади. Прихожу, а там огромная очередь. Я встал и думаю, что привезу домой русскую игрушку — мышь. Простоял три часа, а когда подошла моя очередь и я вошел в магазин, выяснилось, что всех мышей уже продали, а сам продавец умер». — Стремжинский радостно захохотал, запивая анекдот виски, озирая друзей воловьими, выпуклыми глазами.
Одни кивали головами, другие тонко и печально улыбались, не то анекдоту, не то своему подгулявшему, переутомившемуся на работе товарищу.
Коробейникова покоробила вольность политического анекдота, исходившая от того, кто в его глазах был ревнителем государственной идеологии. Стоял на страже ритуальных святынь, одной из которых являлся стеклянный саркофаг, озаренный мертвенным аметистовым светом, где в лучах, с желтоватым стеариновым лбом, рыжеватой бородкой, с чуть заметной капелькой бальзама на веках, покоился Ленин.
— Но это не для вас, — обернулся к Коробейникову Стремжинский, дурашливо мотая пальцем, словно угадал его недоумение. — Помните, я вам говорил? Вступайте в партию, и вам откроются новые горизонты. Нам требуются новые кадры.
— Мы вас ждали, — с неудовольствием заметил Бобин, строго устремив на Стремжинского косматые, цвета солода, усы, желая таким образом остановить вольнодумца. — Необходимо срочно организовать статью, которая бы нанесла удар одновременно по «славянофилам» и «западникам». Необходимо придавить оба враждующих фланга и отдать приоритет господствующей марксистской идеологии, которая как-то померкла в последнее время, уступив место этим «потешным» сражениям. Мы развернем кампанию в прессе против явлений антиисторизма, ссылаясь на «пражскую весну» как на пример пренебрежения основами марксистского мировоззрения.
— Я бы не стал делить поровну предполагаемый удар, — глубокомысленно заметил Марк Солим. — Главное внимание следует обратить на усиление шовинистического, «русского» фактора, чреватого проявлениями антисемитизма и скрытой религиозной пропаганды. Систему можно реформировать либо в сторону прогресса и мировой цивилизации, на чем настаивают многие умеренные «западники». Либо в сторону исторического регресса, реванша кулаков и попов, о чем предупреждает нас классик.
— Это тонкий баланс, и его по миллиграммам следует выверять уже после написания статьи, — произнес Цукатов, зорко щуря свои поголубевшие глаза, становясь вдруг похожим на провизора, который на одну чашечку аптекарских весов кладет маленькие блестящие гирьки, а на другую костяным совочком сыплет целебный порошок. — Вопрос, кому заказать статью?
— Я думаю, тут незаменим «Хромой барин», — гулко продул в розоватый короткий хобот Приваков. — День назад в ЦК мы обсуждали с ним эту тему, и он правильно расставлял все акценты.
— Ему и закажем, и пусть он в ней поменьше окает, а побольше грассирует, — довольно засмеялся Ардатов, заколыхав своим упитанным породистым подбородком.
— А теперь, товарищи, вернемся к китайской теме, — не давая простор иронии, Цукатов остановил смеющегося Ардатова. — Думаю, следует начать постепенное усиление антикитайской пропаганды, используя участившиеся пограничные инциденты на Дальнем Востоке и в Казахстане. — Он обратился к Стремжинскому: — Я бы вообще открыл газетную рубрику под условным названием «На границе тучи ходят хмуро». Мы должны отвлечь внимание населения от западной границы, перенеся его на восточную.
— Тогда добейтесь на это согласия у недоумков в ЦК, у трусливых клерков в МИДе и у «серых полковников» в КГБ! — сердито воскликнул Стремжинский. — Я хожу по лезвию бритвы и не хочу быть козлом отпущения.
Все умолкли и посмотрели в сторону Коробейникова, который не понимал до конца логику политического разговора, чувствуя лишь, что оказался в центре сложного и, быть может, опасного заговора. Его присутствие нежелательно, мешает свободному высказыванию суждений. Пора было уходить, не злоупотребляя гостеприимством, что он и сделал, раскланиваясь:
— Прошу извинить, мне пора. — Коробейников отвесил общий поклон, лишь одному своему соседу Андрею пожимая на прощание легкую горячую руку.
Его провожали до дверей Елена и Марк Солим.
— Приходите еще, — любезно говорил хозяин, обнимая талию жены. — Мне бы хотелось прочитать вашу книгу.
— Я непременно передам ее с Рудольфом, — обещал Коробейников, не глядя на женское улыбающееся лицо, а лишь на серый подол платья, на стройную ногу в легкой домашней босоножке.
На улице было темно, ветрено. Дождь перестал. Все так же во дворе стояли черные лимузины, в которых дремали возницы, поджидая барственных пассажиров. Коробейников сел в свой «Москвич», покатил домой в Текстильщики, чувствуя утомление и непонимание. Москва больше не являла ему разноцветного, волшебного чуда. Вечер, недавно казавшийся фантастическим, сулившим чудесные перемены в жизни, теперь сливался со множеством прожитых вечеров. Был уже в прошлом, тонул. Над ним смыкались волны обыденности.
Пьянящий наркоз, что впрыснули в его разгоряченную кровь, выветривался. В машине не пахло женскими духами. Устало и печально он вел автомобиль по черному асфальту.
9
«Моя жизнь прожита. Я глубокий, забытый миром старик, завершающий последние, истлевающие остатки бытия, чтобы исчезнуть, кануть навсегда, превратиться в ничто. Словно меня никогда не было и мое появление осталось не замеченным людьми, Богом, звездами, которые уже и теперь, покуда еще теплится моя жизнь, равнодушно от меня отвернулись. Без сил, с меркнущей памятью, в сумеречной дремоте, лежу — то ли на больничной койке с железной некрашеной спинкой, то ли на тюремных нарах, упираясь ногами в каменную холодную стену, то ли на утлом промятом ложе в дешевой гостинице на краю земли, завершая жизнь беглеца и изгнанника. Сквозь приоткрытые веки в сонных зрачках остановилась неясная искра света, — от зарешеченной лампы в бетонном потолке камеры, или синего ночника за перегородкой больничного бокса, или мертвенного фонаря в кроне дерева, что чахнет на окраине безымянного поселка, полузасыпанного песками пустыни.
Эта неясная искра скоро померкнет, и я исчезну. И, зная неизбежность моего превращения в ничто, я цепляюсь за эту последнюю точку света, от которой в прошлое тянется мерцающая длинная линия. Можно переместиться по ней и попасть туда, где я, мальчик, наивно и восторженно верю в неповторимость моего существования, уповаю на чудо, ожидающее меня за порогом милой тесной квартирки в Тихвинском переулке. Там я живу вместе с мамой и бабушкой, среди предметов, составляющих убранство комнат.
Эти предметы моего детства я помню лучше, чем ландшафты азиатских гор и африканских лесов, отчетливей, чем бульвары Парижа и туманные кристаллы Манхэттена. Эта утварь сохранена памятью свежо и чудесно, как изначальные, самые естественные очертания мира, где я оказался. Стал проступать из тумана, и в моем просыпающемся сознании начали возникать волшебные контуры столов, шкафов, окон, затейливые шкатулки, бронзовые подсвечники, фарфоровые вазы. Я их вижу теперь, на огромном от них удалении, во всей их материальной достоверности. Лишь зыбко меняются расстояния между ними, смещается их положение в комнате, словно комната наполнена темноватой текущей водой. Или они находятся в невесомости, расплываются один от другого. Бронзовый подсвечник с медведем тихо плывет к потолку, медленно перевертывается, и я вижу зеленую патину на медвежьем ухе, которое я любил трогать моей детской рукой, и старую капельку воска, которую я потом отломил. Я ловлю эти парящие в космическом корабле предметы, возвращаю на место, но они снова плывут из-под рук. Затея, которой я занят в моей немощи и которая наполняет мои ночные часы узника или неизлечимо больного, сводится к тому, чтобы расставить по местам предметы. Если мне это удастся, то время соберет свои растраченные секунды, и хотя бы на миг воскреснет мое детство.
Мне кажется, если я поставлю хрустальный тяжелый куб чернильницы в свободный от пыли квадрат, то над столом из золотистой мглы возникнет новогодняя елка, в блестках, в сверкающих нитях, в красных и голубых свечах, вокруг которых плавает жар, колышутся бумажные звезды, качаются хрупкие шары и фонарики, и мой сосед, такой же, как и я, мальчик, завороженно смотрит на высокую стеклянную пику с радужной сердцевиной, держа в просвечивающихся пальцах стеклянный серебряный дирижабль.
Если я установлю на вершине буфета высокую китайскую вазу, вокруг которой обвился фарфоровый, с алым зевом, дракон, и на стенках сосуда бьются саблями восточные воины, высятся крепостные стены и башни, то окно моей комнаты наполнится зимним янтарным солнцем, в синеве раскинет корявые ветви усыпанный снегом тополь, засверкает у водостока перламутровая волнистая сосулька, и я, охваченный студеной синью, потяну в форточку мою тонкую руку, стараясь достать заостренную книзу, пленительную ледяную отливку.
Если я выдвину на середину комнаты гнутую, оббитую стертой кожей качалку, в которую можно забраться с ногами, и, слыша усталый хруст деревянных завитков и вавилонов, раскрыть на коленях старинную мамину книжку, французские сказки с дивными гравюрами, с золотым тиснением обложки, то смогу уловить негромкий звяк тарелок за дверью, невнятные слова мамы и бабушки, которые говорят обо мне, и так покойно и радостно среди этих неразличимых слов, негромких родных голосов, тихого скрипа качалки.
Если встать на резную табуретку с мавританским узором, потянуться к деревянным кольцам, на которых висит тяжелая занавеска, сдвинуть их по темной полированной полке, то откроется утреннее, сумрачно-синее окно в переулок, желтые, еще не погашенные зимние фонари, туманные оранжевые окна в доме напротив, и в одном из них, лунно белея сквозь наледь, теплая после сна, обнаженная женщина поворачивается пред невидимым зеркалом, медленно надевает лиф на свои полные груди, и от этого ежеутреннего, головокружительного зрелища нельзя оторваться.
Моя память — удивительное, загадочное место Вселенной, где нарушаются неукоснительные законы мироздания, связанные с пространством и временем. Одно переходит в другое. Время изменяет направление и возвращается к истокам. Предметы перевоплощаются друг в друга, меняются местами, восхитительно и странно парят в незримых потоках. Моя память — поразительный инструмент, сконструированный природой, где она изменяет себе самой. Свидетельствует об иной закономерности мира, о волшебстве творения и, возможно, о преодолении смерти. Как невесомые лучи солнца по воле Творца превращаются в сочное яблоко, так память моя превращает смугло-алый текинский ковер на стене в хохочущее лицо белокурой девочки, которая подарила мне первую, ошеломляющую влюбленность. А полосатая мутака на кушетке оборачивается дедом, который явился с мороза, раздраженно кашляет в передней, пока бабушка помогает ему стягивать тяжелую старую шубу. Зажженный под потолком светильник в свинцовой оплетке, состоящий из множества стеклянных осколков, из которых, если неотрывно смотреть, возникают забавные изображения птиц, зверей, человеческих лиц, плавно перетекает в ангину, наполняющую меня страданием и жаром, и бабушка, трепеща от волнения, несет мне пиалу с горячим куриным бульоном.
Эти предметы и фетиши, окружающие меня таинственными хранящими силами, защитными оболочками, олицетворяющие целостность и гармонию маленькой данной планеты, на которой протекает мое детство, на самом деле являются остатками взорванного светила, откуда долетели до меня лишь разрозненные обломки. Усилиями мамы и бабушки они выхвачены из черного дыма, спасены от истребления. Являются свидетельствами цветущего уклада, где огромная дружная семья в прекрасном солнечном доме под южными небесами, как и множество других, теперь не существующих семей, была частью благословенного, навеки уничтоженного прошлого. Сквозь эту семью, колыхая штыками, прошли революционные полки. Проплыли тяжелые печальные пароходы, увозя за море остатки разгромленных армий. Пролегли тюремные этапы и пересылки. Прокатились военные эшелоны. Пролетели бессчетные похоронки, прощальные письма, постановления трибуналов и троек.
Но и милая планета моего детства с ландшафтом комодов, буфетов и тумбочек, с рукодельными коврами, цветными подушками и мягкими покрывалами, с восхитительными предметами, расставленными на столе, на полочках, за стеклами старинного буфета, тоже погибла от прямого попадания метеорита, разметавшего хрупкий, сберегаемый мир. Множество его осколков бесследно пропало, было раздарено, украдено, снесено в антикварные лавки, погибло в грудах хлама и мусора. Малая часть перешла во владение к моим детям, потерялась среди изделий другого времени, утонула в новом укладе, странно и нелепо присутствуя среди электронного дизайна квартир, яркой пластиковой красоты интерьеров и безделушек иной, синтетической природы. Мои дети от меня отреклись, забыли о моем существовании. Не ведают, жив я или умер. Не знают, на каком языке сделана надпись на воротах больницы, где я доживаю последние дни. В какой континент будет зарыт мой бездомный прах. За какие преступления я заточен в тюремную камеру. Но вдруг сын Василий, погрубевший, потемневший с годами под бременем житейских невзгод, внезапно наткнется на серебряную чайную ложечку с вензелем, и в его печальном сознании вдруг вспыхнет чудесный день. Мы вышли из избы и спускаемся к озеру. Он перебирает своими упругими стройными ножками в цветущей колее, путается в розовых, липких богатырских цветах. Я подхватываю его на плечи. И оттуда ликующим взором он охватывает перламутровые дали, голубое озеро, темную на стекленеющей воде лодку, где мать и сестра счастливо машут, зовут. И все мы, любящие и счастливые, окружены божественной сияющей сферой.
В моей немощи, когда обессиленное тело не способно двигаться и любое шевеленье вызывает страдание и боль, только одно сознание сохранило способность движения. Содержит в себе остатки того, что когда-то составляло личность, для которой естественным было ежеминутное творчество. Вот и теперь мой разум занят странной забавой, вовлечен в увлекательное предсмертное творчество, которое заменяет мне глубокомысленные размышления о смысле жизни, о тщете бытия.
Я вижу наш старинный, стройный буфет из орехового дерева, срезным навершьем, похожим на затейливую женскую прическу, с прозрачной легкостью створок, сквозь которые просвечивают драгоценные изделия из серебра, фарфор старинных сервизов. Этот бабушкин буфет напоминает прелестную даму. В нем столько женственности, прелести, хрупкого изящества, что хочется подойти и с поклоном поцеловать протянутую, теплую руку, где на запястье тикают крохотные часики, а длинные пальцы стиснуты золотым, с дедовским бриллиантом, кольцом. Дверца в буфет приоткрыта. Сквозь волнистое, старинной работы, стекло просвечивают голубые чашки, плетеная корзинка со столовым серебром, блюдо с орхидеями, ваза на толстой стеклянной ноге. Все это видят мои стариковские слипшиеся глаза, которые жадно, в своей слепоте, взирают на прозрачную дверцу. Вызванное этим пристальным ожиданием, не исчезнувшим во мне колдовством, совершается чудо. С легким звоном, ссыпая с плеч стеклянный блеск, сквозь дверцу проходят люди. Мои прадеды, бабки, прабабки. Мои деды и дядья. Многочисленная родня в старомодных камзолах, сюртуках и мундирах. Я смотрю без устали на их бесконечную вереницу. Некоторых узнаю, вспоминая старинный семейный альбом. Других воспринимаю на веру, угадывая по сходству фамильных черт. Они движутся сквозь дверцу буфета, достигают моих глаз, становятся прозрачно-пустыми, невесомо проходят сквозь меня, исчезают. Среди них, в стеклянной дверце, появляется мой отец, молодой, в красноармейской шинели, в обмотках, в тяжелых солдатских ботинках. Шагнув сквозь дверцу буфета, он выходит в бескрайнюю снежную степь, где летают солнечные ледяные поземки, и падает в ослепительный снег с красным рубцом во лбу.
Мне кажется, если пойти навстречу отцу, проникнуть сквозь хрупкую створку, не задеть сервизы, стеклянные блюда и вазы, то по другую сторону буфета можно выйти в Рай, где встретит меня многочисленная, ушедшая из жизни родня. Возьмет под руки, примет в свое многолюдье».
10
День прошел в раздумьях над новой книгой, в составлении плана, в перебирании черновиков и набросков, в которых, словно в ворохе палой листвы, шелестело, шевелилось, дышало невидимое существо романа. К вечеру Коробейников отправился в Тихвинский переулок, в дом, где прошло его детство и где оставались жить мама и бабушка. Была суббота, когда совершалось ритуальное купание бабушки, и мать половину дня посвящала приготовлениям. Мыла ванну, расставляла нагреватели, стелила чистое постельное белье, готовила заварку, мыла цветастый чайник, встряхивала над ним пышную лоскутную бабу. Но уже неделю, как маме нездоровилось, омовение откладывалось, бабушка нервничала и страдала. Наконец мать, жалобно и застенчиво, голосом, похожим на мольбу, попросила Коробейникова приехать и искупать бабушку.
Утомленно, в домашнем халате, мать хлопотала на кухне. Слабо кивнула бледным, увядшим лицом вошедшему Коробейникову. Из прихожей, в полуоткрытую дверь, он видел, как бабушка дремлет в маленьком белом креслице, укутанная в шерстяную кофту, выставив ноги в домашних шлепанцах, склонив маленькую серебряную голову. Была похожа на легкое белесое облачко, что залетело в дом, опустилось ненадолго в креслице, до первого дуновения ветра, который подхватит его и унесет. Он тихо вошел, но бабушка, не слухом, а чутким, постоянно направленным на него ожиданием, уловила его появление. На коричневом, морщинистом лице, в складках и углублениях, похожих на русло сухого ручья, по которому когда-то пронесся бурный поток, открылись глаза. И в этих маленьких милых глазах вдруг вспыхнул такой живой изумительный свет, такое умиление и обожание, что вся она ожила, похорошела, словно внутри лица загорелась теплая чудная лампа.
— Мишенька, ты пришел!.. Мой милый мальчик!..
Он опустился перед ней на колени, взял в свои большие нагретые ладони ее холодные, костлявые руки с коричневыми венами, видя, как ее темные негнущиеся пальцы скрываются в его белой, живой, сильной плоти:
— Ба, ты все время дремлешь. Что-нибудь снится? О чем-нибудь думаешь?
— Все думаю, думаю… Вспоминаю наш дом в Тифлисе, папу… Как утром в своих мягких сапожках выходил в сад и возвращался с букетом роз, чтобы мы, дочери, проснулись и увидели цветы. Вбегаем в гостиную — китайская ваза, букет целомудренных белых роз, папа со своей седой бородой…
— Разве можно часами вспоминать?
— Не только вспоминаю, но и обдумываю свою жизнь, свои поступки. Очень много было грехов, много людей, которым делала больно. Прошу у них прощения и каюсь…
Лицо ее сделалось серьезным, истовым, словно ее привели на суд, где ее окружает множество строгих, находящихся в глубоком раздумье людей, недоступных Коробейникову, но ясно и живо созерцаемых бабушкой. Все они умерли, соединились с несметными, отошедшими в прошлое толпами. И оттуда, куда отошли, взирают на бабушку. Молча ее поджидают, затягивают и свое многолюдье, похожее на церковную фреску, где мужские и женские головы, волна за волной, удаляются в неразличимую мглу. Бабушка все ближе к ним, все смиренней. Вот-вот коснется этой толпы, которая распадется, откроет ей узкий ход в свою глубину, и она шагнет и скроется в непроглядной мгле. Не желая ее отпускать, отвлекая, нарочито бодрым, легкомысленным голосом он произнес:
— Знаешь, ба, у меня поездка была замечательная. Сибирь, столько встреч интересных. Везде хорошо принимали…
Его хитрость удалась. Она вся осветилась. Руки ее потеплели и радостно дрогнули. В глазах появилось лучистое, обращенное на него свечение, которое он помнил с младенчества, стараясь оказаться в этих любящих лучах, переливаясь в них.
— Я горжусь тобой. Всегда в тебя верила. Всем говорила, что ты прав, выбрал свой путь и добьешься на нем своих целей. Кто может мне теперь возразить? Кто вправе осудить моего мальчика? У тебя чудесная добрая жена, милые красивые дети. Ты стал писателем, как хотел, выпустил первую книгу. У тебя автомобиль, дом, деревенская дача. Я горжусь и верю в тебя!..
Она исполнилась удовлетворения, ибо сбылись ее долгие ожидания, терпеливые верования и она вознаграждена успехом внука, в котором не сомневалась. Отстаивала и защищала от нападок родни, не понимавшей, как мог он, баловень и молодой сумасброд, бросить профессию инженера, покинуть Москву, пуститься в неверные странствия по деревням и лесам, ради прихоти и каприза, которые обрекали его на долю бродяги и неудачника. Его благополучие было ей наградой за непрерывные лишения и утраты, в которых неуклонно убывал и таял их род. Его успех вселял ей надежду, что кончились злоключения и началось наконец возрождение. Самая старшая в роде, прародительница, она сберегла священный огонь и может теперь спокойно уйти, оставив после себя продолжение. Коробейникову чудилось в этом нечто первобытное, библейское. Или еще более древнее, от матриархата, когда длинноволосая женщина с изможденным телом, хранительница очага, своей любовью и жертвенностью умягчала сердца мужчин, останавливала бойни, стук палиц, удары копья о кость. Собирала в пещеру к костру осиротевших детей, кормила от своих сосцов, согревая у своего живота, занавешивала от врагов пеленой своих нечесаных седых волос.
— Вот сейчас освобожусь от неотложных дел, напишу материал в газету и хочу перечитать некоторые книги Библии… Иов, притчи Соломона, Екклезиаст…
Ее лицо вновь озарилось, но уже восторженным, самозабвенным светом, словно фонарь, который в ней горел, каждый раз поворачивался новой светящейся гранью:
— Это такая тайна, такая непостижимая глубина… Я вчера читала Откровение Иоанна Богослова… Это умом не понять… Нужна глубокая сердечная вера…
Ее вера была женской, нецерковной, молокано-баптистской. Присутствовала в их доме, сопровождала его взросление, составляла теплоту и сердечность ее отношений с соседями, продавщицами, трамвайными кондукторшами, случайными встречными. Когда бабушка мыла посуду, или вышивала, или вела его по морозной улице в школу, сжимая сквозь пеструю варежку его хрупкие пальцы, она негромко, с душевным чувством, напевала какой-нибудь псалом: «Великий Бог, ты сотворил весь мир!» или «Открой, о Боже, чертог своей любви!» И при этом бойко семенила, зорко смотря вдаль, похожая на богомолку, паломницу.
— Не знаю, верую я или нет. Иногда чувствую, что сотворен, что нахожусь в чьей-то благой и могущественной воле, и от этого так чудесно. Но иногда в душе пустота, и только суетный ум в постоянных комбинациях, изобретениях, замыслах…
— Папа был верующий. Однажды он дал своему другу в долг все свои сбережения, очень большие деньги. А друг его обанкротился. Нам грозила бедность, нищета. Папа страшно переживал один, в своем кабинете. А потом среди ночи пошел к маме: «Ну, Груня, буди детей, зови в гостиную!» Нас, сонных, подняли, одели, повели к папе. Он всех обнял, усадил вокруг. «Может быть, мы с вами уже нищие. Придется продать дом с молотка. Я не уберег вас, пустил по миру. Давайте все вместе тихо помолимся». Мы сидели полночи, при лампах, всей большой, дружной семьей, все мои братья и сестры, и просили у Бога помощи. Наутро выяснилось, что папин друг преодолел затруднения и вернул долг. Папа был очень, очень религиозен…
Она затихла, словно благоговела перед непостижимой Премудростью, что распростерла над всеми свой незримый покров, посылая людям великие испытания и великие вознаграждения. Запечатленная в Евангелии, в маленьком томике с золотым обрезом и медным замочком на кожаном переплете, эта Премудрость придавала смысл всей ее долгой, исполненной любви и страданий жизни и теперь сопутствовала в дни старости, делая эту старость величественной и просветленной.
— Мне очень жаль Татьяну, — сказала бабушка шепотом, прислушиваясь, не идет ли из кухни дочь. — Конечно, я знаю, она со мной мучается, тратит на меня все свои силы. Я ее связываю. Но когда меня не станет, она будет очень одинока. Ты, Мишенька, будь всегда рядом с ней. Она тебя очень и очень любит…
Ему стало невыносимо больно. Глаза горячо увлажнились, В них расплылось вечереющее, со старым тополем, окно, хрупкий стеклянный буфет с китайской вазой и фарфоровым красноголовым драконом, ковер на стене с рукодельными бабушкиными маками. Все бабушкины помышления, воспоминания, дремотные мысли были связаны с близким уходом. И ему, молодому и сильному, исполненному энергичных и страстных замыслов, не было места в этом таинственном убывании.
— Будешь, будешь вспоминать свою бабушку-забавушку, — тихо прошептала она, освобождая из его ладоней свою остывающую слабую руку. Вновь погрузилась в сонное беспамятство, маленькая, белоголовая, похожая на легкое серебряное облачко, опустившееся в белое креслице, какой и станет ему являться по прошествии долгих лет.
Из кухни явилась мать, кутаясь в шаль, опасаясь малейших, гуляющих по квартире сквозняков, перепадов температуры. Лицо ее было одушевлено, глаза сияли, в бледных щеках дышал чуть заметный румянец, какой случался, когда она любовалась каким-нибудь восхитительным подмосковным пейзажем, или на выставке останавливалась перед холстом Коровина, или наивно и трогательно, словно восторженная гимназистка, читала стих Огнивцева о своем любимом городе: «Скажите мне, что может быть прекрасней дамы петербургской?»
— Ты знаешь, какая удивительная новость? Тася прислала Верочке из Австралии письмо! Не просто откликнулась на ее послание, но после долгого молчания вдруг разразилась таким нежным, пылким письмом на десяти страницах, где вспоминает нашу молодость, наших любимых стариков, друзей и знакомых. Вся горит желанием приехать и повидаться. Не просто желанием, а пишет, что уже получает визу и хочет заказывать билет на самолет!
— Неужели? — восхитился Коробейников, вслед за матерью изумленный этим неправдоподобным известием. — Значит, она нарушила обет молчания?
— Могу себе представить, как не верила, поначалу, когда к ней явился этот советский посланец, которому Верочка дала ее приблизительный адрес в Сиднее. Думала, что это агент КГБ, что ее отыскали и теперь вылавливают. Получала от Верочки письма и не верила в их подлинность. Откладывала прочь, перечитывала, пока вдруг не убедилась, что это мы, ее сестры. Живы, помним о ней, желаем ее обнять. И тогда лед в ее душе растаял, и хлынула эта слезная, радостная нежность, любовь! Она пишет, что колебалась, была полна подозрений. Но когда в очередном письме прочитала описание того, как мы втроем собирались в гостиной у рояля, и на клавиши, вместо отлетевших желтых, старых пластин, были приклеены новые, белые, и в нашем разноцветном светильнике, среди стекол в свинцовой оплетке, мы отыскивали изображения арлекинов, усатых гусаров и египетских фараонов, и Верочка утверждала, что это наши будущие женихи, после этого все сомнения отпали. Она поверила, что мы существуем, и все свои сбережения потратит теперь на поездку в Москву… Я все думаю, как произойдет эта встреча. У нас общее и драгоценное прошлое, но такое различное настоящее. Мы прожили совершенно разные жизни. Будет очень непросто найти общий язык. Столько всего неизвестного о тех, кто тогда уехал. Что сталось с дядей Васей? Что с Шурочкой? Что с Мазаевыми? Что с Салтыковыми? Ничего мы о них не знаем. Как и они о нас. Не знает о моем замужестве, о моем вдовстве. Не знает, как умирала ее мать. Как ушли наши любимые старики…
Эти слова мать произнесла с проникновением и болью, от которой задрожал ее голос и в глазах выступили прозрачные беззащитные слезы. Их вида с самого детства боялся Коробейников. Они были мучительны для него. Появлялись каждый раз, когда мать вспоминала о погибшем отце. Эти воспоминания были для нее столь свежи, что ее небольшие глаза переполнялись слезами, в которых, казалось Коробейникову, переливается образ молодого отца, лейтенанта с щегольскими усиками. Он старался ее обмануть, заговорить, увести прочь от воспоминаний, а когда не удавалось, роптал на нее за причиненное страдание.
— Тася была красавица, любимица своей матери. Ей отдавалось предпочтение, дарились самые красивые платья, приглашались учителя музыки, английского и французского. Ей в глаза говорили, что она одаренная, избранная. А Верочка считалась дурнушкой. Мать была к ней строга, постоянно ставила в пример Тасю, и это не могло не сказаться на их отношениях. — Теперь мать предавалась воспоминаниям, страстно и радостно погружаясь в те из них, где когда-то было ей чудесно, где о ней заботились сильные добрые люди, и было еще далеко до страшных бед, когда всех этих людей постигло несчастье, они исчезли, а она осталась одна среди враждебных и черствых чужаков. — Тася всегда была окружена кавалерами. Какой-то курсант был так в нее влюблен, что грозил застрелиться. Ей посвящались стихи и романсы. Она и уехала за границу, в Англию, поддавшись какому-то ветреному увлечению. Тогда, в двадцатых годах, с трудом, но еще можно было выезжать за границу…
Коробейников с самого детства был наслышан этих материнских воспоминаний, по два, а то и по три раза. Все они обрывались у какой-то черты, на которую упал непроглядный занавес, скрывая ту часть семьи, что, увлекаемая бегством, страхами, наущениями, исчезла в эмиграции. Неясные и неверные слухи, окольными путями доносившиеся время от времени об исчезнувшей родне, никогда не подтверждались. Теперь же, когда чудом уцелевшая родственница возвращалась домой, ей надлежало поведать повесть об остальной половине рода. И повесть эта обещала быть грустной. Ему, Коробейникову, предстояло раскрасить бесцветную контурную карту в цвета ее повествований, нанести название городов и стран, где покоились дорогие могилы. Так черепок от разбитой вазы точно и бережно прикладывают к обломку сосуда, чтобы кромки совпали. Однако за долгие годы кромки отесались, хрупкие зазубрины износились, и их соединение сулило разочарования. Так реставратор в разрушенной церкви подымает с земли расколотую, затоптанную фреску. Вставляет в картину малый золотистый осколок, ломтик крыла или нимба.
— Надо уже готовиться к приезду Таси. Где ей жить — у нас или у Верочки? Что показать — Москву, Ленинград, быть может, поехать в Тифлис?.. Непременно к тебе в деревню, чтобы она полюбовалась настоящей русской природой… Будет ли ей, как иностранке, это позволено? Мы рассчитываем на твою машину… — Она со свойственной ей педантичностью, привыкшая все отмерять и экономить по крохам, уже составляла план пребывания сестры. И его подключала к этому плану.
Он хлопотал, рассчитывал вместе с ней. Готовился к встрече. Эта встреча, среди громадных и грозных событий мира, была незаметна для остальных. Но для них являлась радостным праздником. Мир не видел, не замечал их радости, но они в своем маленьком мирке ликовали.
Настала пора купать бабушку. Ванна размещалась на кухне. Коробейников включил газовые конфорки плиты, прогревая воздух, покуда не воцарился душный, почти обжигающий жар. Запалил полыхнувшую колонку. Пустил в ванну воду, подставляя руку под падающую из крана струю, глядя, как разбивается об эмаль блестящая, лучистая брошка. Принес из комнаты стул. Повесил на него мохнатое полотенце и теплый халат, в который, после омовения, облачится бабушка. Мать, вместе с последними наставлениями, передала ему чистую ночную рубашку и штопаные чулки. Все это он отнес на кухню и повесил на спинку стула. Придвинул табуреточку, на которую, как на ступеньку, шагнет бабушка, преодолевая высокий край ванны.
— Ба, ванна готова, пойдем, — пригласил он ее, подымая из креслица, чувствуя, как панически хватают его локоть испуганные цепкие пальцы.
— О, господи!.. — охнула она, готовясь к желанному действу, страшась его, сконфуженная тем, что вынуждена вверять себя внуку.
Он провел ее по коридору, слыша шарканье шлепанцев. Отворил кухонную дверь, откуда пахнуло влажным тропическим жаром, булькающим звоном. Они оказались под яркой лампой, среди водяного блеска. Газовые конфорки были похожи на синие георгины.
— Готовься к купели, — полушутливо, сам смущаясь, сказал Коробейников, усаживая бабушку на стул, начиная расстегивать на ней костяные пуговицы по всей длине платья.
— О, господи, — повторила она, покорно уступая ему, позволяя себя раздевать.
По мере того как он совлекал с нее ветхие, несвежие ткани, обнажая дряблую, иссохшую плоть, состоящую из усталых волокон, обвислых оболочек, костяных выступов, в нем тонко и неуклонно увеличивалась боль; состраданье к ней, некогда деятельной, неутомимой, чья неиссякаемая бодрость была направлена на защиту и вскармливание его, любимого внука. Теперь же беспомощно, жалобно, стыдясь не наготы, а своей немощи, она вручала себя внуку и о чем-то беззвучно умоляла.
— Теперь давай, аккуратненько, — говорил он ей, как говорят с нездоровыми любимыми детьми, слегка подсмеиваясь над ними, обманывая их страхи, подчиняя своей благой и бесстрашной воле. — На табуреточку и через край, водичку попробуем.
Он поддерживал ее шаткое тело, состоящее из пустых костей, кривых ключиц, шелушащихся складок, помогая перешагнуть край ванны. В ней было что-то птичье. Что-то от большого, лишенного перьев птенца, не умеющего летать, боящегося высоты. Блеск воды, мокрая эмаль ванны, яркий слепящий свет лампы создавали ощущение операционной.
— Ну что, ничего водичка? Не слишком горячая?
— Ничего… Спасибо тебе. — Она успокаивалась, помещая себя в ванну, хватая ее края тощими руками, просвечивая сквозь воду скрюченными пальцами ног, костлявым худым крестцом, к которому вдоль сутулой спины спускалась редкая седая косица.
Он старался не смотреть на ее наготу, на длинные, как пустые чулки, груди, на складчатый, вислый живот, похожий на старый кожаный саквояж, на проступавший сквозь кожу, анатомически наглядный скелет. В созерцании ее наготы было нечто запретное, библейски грешное, первобытно табуированное. Находясь с ней рядом, он подсматривал какую-то грозную тайну, которая должна быть защищена и укрыта, в которой содержится идущая от поколения к поколению заповедь, связанная с первородным грехом, продолжением рода, бренной смертью, исходом души из тела.
— Сперва мне спину потри… — попросила она, шевеля худыми лопатками.
Он окунул в воду мочалку, жестковолокнистую, купленную на рынке люфу, которая отяжелела, пропитанная горячей влагой. Розовым мылом старательно натер пористую поверхность, покрывая ее ровной пеной и лопающимися перламутровыми пузырями. Из ковшика окатил бабушкину спину, которая чутко вздрогнула костлявыми лопатками, выгнула фиолетовый, неровный скелет. Стал тереть мочалкой рубчатые, резко выступающие позвонки, страшась их ломкости, боясь неосторожным нажатием причинить бабушке боль. Но она наслаждалась этими скоблящими прикосновениями. На ее изъеденной зудом, утлой спине всплывала бело-розовая, с голубыми переливами пена. Быть может, та самая, — мелькнуло в голове Коробейникова, — из которой на утренней заре, стоя в жемчужной раковине, возникла божественная Афродита.
— Сильнее, сильнее! — требовательно и даже капризно приказала бабушка, поводя в наслаждении лопатками.
Он с усердием тер, думая в странном изумлении, что из этого чахлого, немощного тела возник он сам. Ее клетки входят в состав его сильного крепкого тела. Ее кровяные тельца блуждают в его горячих молодых кровотоках. Они же, как неистребимый фермент, впрыснутые природой в упрямое движение рода, просачиваясь сквозь избиения, казни, безвременные кончины, живут теперь в нежной материи, из которой состоят его дети. Пристально, зачарованно он рассматривал ее худую костистую шею, где потемнела от воды слипшаяся косица. На розовеющий в залысинах череп, куда ненароком из ковшика попала вода. На иссушенное плечо, похожее на пропитанное смолой плечо мумии. Со страхом и недоумением думал, что она и есть тот стебель, почти лишенный соков, скрученный, как ботва, которым он, Коробейников, связан с исчезнувшим родом. Со всеми великолепными, в силе и красоте, дедами и прадедами, которые сочетаются с ним через это отсыхающее корневище. Когда оно отомрет и отсохнет, то бабушка сразу помолодеет, превратится в нежную, с точеным лицом красавицу, присоединится к сонму родни, и роль корневища станет играть мама, превратившись в вянущий хрупкий побег.
— Уши мне не залей, — строго, с неожиданной властностью, приказала бабушка, и он сдвинул блестящую струйку ковша с ее шеи на сутулую спину, посмотрев на ее уши и с изумлением, впервые в жизни, увидев, что уши у бабушки большие, кожаные, несоразмерные с ее маленькой головой.
Необъяснимость и загадочность происходящего оставались, порождая нежность, печаль, ощущение невыразимого таинства, соединяющего между собой людей, не дающего им пропасть среди жестокого бесчеловечного бытия. Когда-то бабушка держала его маленькое голое тело над жестяным корытом, а он, страшась колыхания темной горячей воды, поджимал ноги, истошно кричал, а она гулила, успокаивала, заговаривала, нежно ополаскивала. Бережно опускала его в продолговатую жестяную посудину, где он успокаивался, чувствуя, как плещет тепло в его голую грудь. Начинал шлепать по воде розовыми блестящими ладонями, хватал целлулоидного раскрашенного попугая, который не хотел тонуть, выталкивался на поверхность, звеня в своем полом птичьем теле сухими горошинами. За черным окном натопленной кухни стояла лютая зима, где-то рядом шла война, взрывались города, и горели танки, и отец бежал по степи, навстречу красным секущим вспышкам. Теперь же они с бабушкой поменялись местами. Он воздает ей по неписаным заповедям. Не успеет до конца заплатить свой долг. Станет расплачиваться, когда ее не станет, взращивая своих детей, которые когда-нибудь, с нежностью и печалью, станут поливать из ковша его сутулую костистую спину.
— Ба, ты мне руки подставляй, чтоб было удобнее. А то только мешаешь, — с мнимой строгостью произнес он, заставляя ее приподнять тощую руку, на которой отвисла дряблая, потерявшая наполнение кожа и обозначились, как в анатомическом театре, сухожилия и костные сочленения. И вид этой немощной, утратившей былую силу и проворность руки вызвал в нем благоговение, трогательное и слезное умиление, как если бы он совершал целомудренное и святое действо, омовение в купели, когда на плещущую воду, на погруженное в нее тело в тихом сиянии нисходит благодатный дух. Почувствовал лицом, как слабо налетела в накаленном воздухе тихая прохлада, качнулись синие лепестки в газовых горелках, и бабушка облегченно вздохнула.
— Да не бойся ты, сильней три… — понукала его бабушка с неожиданной бодростью, чувствуя облегчение. В ее порозовевшей коже, по которой прошлась мочалка, раскрылись и задышали поры. — Шею и грудь потри…
Это старушечье тело, задержавшись на земле, странным образом удерживало в себе исчезнувшее огромное время, не позволяя ему окончательно кануть в прошлое. Это немощное хрупкое тело, откуда почти излетел дух, неинтересное и ненужное кипевшей вокруг жизни, было свидетелем громадных событий, крушения империй, вселенских катастроф и свершений. И пока оно слабо дышало, вместе с ним дышало царствование Александра Третьего, которого она видела девушкой в Петербурге, среди медных кирас и плюмажей, на огромном тяжелом жеребце. Оставался неубитым последний император, чей изящный экипаж пролетел мимо нее по улицам старого Тифлиса, рассыпая звонкое эхо стальных ободов и конских подков. Жил Ленин, пославший на Кавказ отряды красных стрелков, колыхавших штыками среди грузинских намалеванных вывесок, простучавших орудийными лафетами среди лепных и узорных фасадов. Властвовал Сталин, одного за другим вырывавший из семьи ее любимых и близких, отправляя на войны, великие стройки, гнилые голодные нары. Ее тело было как вещее корявое дерево, на котором были нанесены письмена и зарубки, свидетельства великих событий, имена знаменитых людей. Хранило на своей изрубленной коре деревянную летопись. Удерживало в старом стволе слабые соки истории.
Он бережно мыл ей ноги, поливал из ковша ее голову, глядя, как прилипают к черепу тощие прядки. Мылил волосы, боясь, что они вдруг отлипнут и останутся у него в ладонях. И вдруг в прозрении, как сквозь толщу синеватого воздуха, увидел себя за столом, среди падающих тихих снегов, перед листом бумаги. Он пишет сцену в романе, где вспоминает омовение бабушки, звук падающей из крана струи, мокрый блеск электричества на эмалированной ванне, бабушкину руку, которой та отводит с лица потемнелую худую косицу. Бабушки уже нет, уже затерялся ее заношенный теплый халат и мягкие шлепанцы. Ее не существует в земной жизни, но она смотрит на него из стеклянной высоты, спокойно и внимательно наблюдая за тем, как он описывает сцену ее омовения.
— Как хорошо, — облегченно произнесла она, словно освобождаясь от бремени. — Спасибо тебе, Мишенька…
А в нем вдруг испуг. Это последнее ее омовение. Он смывает с нее последние блеклые краски земного бытия, прежде чем облечь в белые одежды и вынести под причитания смиренной родни. Он не внук, а выбранный кем-то жрец, провожающий ее в бесконечное странствие, омывающий на дорогу. И страстная к ней любовь, и бессилие, и ропот, и мольба к Тому, кто создал этот необъяснимый и мучительный мир, наполнив его любовью и болью, неизбежностью расставания, надеждой на грядущую встречу, упованием на чудо бессмертия. Он держал над ее головой ковшик, проливая на сутулые плечи блестящую струйку воды. Молил Творца, чтобы Тот продлил ее жизнь, их совместное существование в этой маленькой милой квартире, где было им так хорошо. Умолял Творца взять его молодые силы, изъять у него часть жизни, передать их бабушке. Беззвучно молился, проливая на нее дрожащую водяную струйку.
И в ответ на его молитву — головокружение и бесшумный вздымающий вихрь. Словно его и бабушку подняли в бесконечную высь, где не видно земли, а только они вдвоем среди загадочного, мерцающего пространства. Парят в невесомости, и он из ковша льет ей на плечи блестящую воду.
Он помог ей подняться из ванны. Поддерживая, почти перенес на стул, опустив среди пушистой белизны махрового полотенца. Укутал, оставил бабушку одну. Вырвался из душных, пахнущих мылом субтропиков, унося в прохладные комнаты вскипевший чайник. Мать поджидала его как вестника совершенного священнодействия. Заварила крепчайший чай, нахлобучив на чайнике с отколотым носиком пышнобедрую лоскутную бабу.
Через полчаса бабушка, укутанная во множество кофт, в теплом халате, с сиреневой косынкой на голове, покрытая шерстяным платком, степенно вкушала чай. Подносила к вытянутым губам голубую старинную чашку из своего свадебного сервиза. Громко отхлебывала. Закусывала крохотными кусочками сахара, которые заранее приготовила мать, орудуя щипчиками. Лицо бабушки выражало блаженство, утоление всех житейских забот и скорбей.
Не вытирая со лба блаженной испарины, она медленно укладывалась в приготовленную матерью постель. Надевала на высокий коричневый нос очки. Брала со столика маленькое, с золотым обрезом, Евангелие. Помещала книгу в желтое пятно настольной лампы. Коробейников со стороны смотрел, какое у нее серьезное, строгое, чудесное лицо. Как слабо и вдохновенно шевелятся ее губы. Поблескивают очки. Вздымается и опускается на груди одеяло. Как пламенеют на коврике в ее изголовье рукодельные маки. Старался угадать, какие строки текут мимо ее внимательных глаз.
Древний город вздымает над зубчатыми стенами каменные смуглые башни. Толпится темнолицый народ. Стелет в горячую пыль красные ковры, кидает шелковые подушки, сыплет свежие розы. На тонконогом хрупком осляти в овальные ворота въезжает Христос, и за край его белой хламиды прицепилась алая роза.
11
Коробейников решил навестить своего друга, архитектора-футуролога Шмелева, чья мастерская с макетом «Города Будущего» размещалась в полуподвале угрюмого, запущенного дома, невдалеке от Красной площади, по другую сторону ГУМа. Кварталы старинных купеческих лабазов, торговые склады, товарные хранилища, тяжелые, закопченные, грязно-желтого, ржавого цвета, напоминали откосы песчаника с зияющими провалами пещер, в которых таилась загадочная катакомбная жизнь. Путь в мастерскую пролегал через Красную площадь, куда Коробейников спустился по дуге моста, пропустив под собой солнечное ликование реки с легкомысленным белым корабликом, глядя, как вырастает впереди колючее и косматое, похожее на разноцветного петуха, несусветное диво Василия Блаженного.
Площадь с самого детства действовала на Коробейникова таинственной, пугающе-восхитительной мощью, чья природа оставалась невыясненной. Словно место вокруг Кремля являло собой неземную материю, от которой веяло загадочной инопланетной красотой.
Брусчатка, черная, с холодным блеском, напоминала намагниченное железо, которое округло выступило из сердцевины Земли, обнажая глубинную суть космического тела. Земное ядро вылупилось сквозь кору, мантию, неостывшие газы и жидкости и застыло, в зазубринах, вмятинах, с тусклыми каплями света, какие бывают на старинных чугунных ядрах, пропущенных сквозь взрыв и огонь. Красная площадь, ее выпуклость и округлость, тусклый, смугло-коричневый блеск заставляли думать, что Кремль построен на громадном железном метеорите, прилетевшем из отдаленной галактики, взрывная волна которого до сих пор сотрясает Землю. Порождает войны, революции, великие переселения, смущения умов, заставляя громадный народ действовать и творить среди трех океанов.
Алый, нежно-телесный Кремль был существом, поселившимся на этой стальной планете. Стены, прилепившиеся к черной поверхности, казались красной дышащей кожей морского моллюска. Или бархатным влажным грибом на мокром камне. Или огромной, с зубцами и колючками, сочной личинкой, по которой вдоль чувственного тела прокатывались едва различимые волны перистальтики. Слабые судороги, проталкивающие сгустки питательного вещества. Это алое гибкое животное было порождением инопланетной жизни, питалось металлами, магнитными полями, бьющим из небес излучением.
Такое же впечатление производил храм Василия Блаженного, казавшийся фантастической актинией моря. Колебался от подводных течений, поминутно менял цвет, выпускал и сжимал радужные щупальца и лепестки. Море, в котором поселилась актиния, было едко-синим, кислотным, с оттенком медного купороса.
Заросли серебряных и золотых крестов, солнечных чаш и соцветий были подобием хрупких мхов, выраставших под лазурью неземного неба. И эти мхи, наделенные разумом, обладали свойством вызывать в душе легкое веселящее чувство.
Мавзолей был кристаллом, взращенным среди колоссальных температур и давлений. Своей идеальной формой воспроизводил геометрическую теорему Вселенной, где конструкция соперничает с бесформенным хаосом, а интеллект — с бессмысленной бесконечностью. В недрах кристалла, запрессованный в грани и плоскости, таился загадочный сонный вирус. В дремлющем виде переносился из одной части Вселенной в другую. Попадая в благоприятные условия, просыпался, выступал на поверхности кристалла. Овладевал присутствующей на планете формой жизни, побуждая ее к революционным превращениям и катаклизмам.
На площади все было расставлено просторно, среди пустоты, ярко и красочно, на черной поверхности. В пустотах пульсировала незримая энергия, копилась прозрачная плазма, которая подчинялась ритмам небесного тела. Вдруг что-то начинало меняться. Алая стена становилась сиреневой, покрывалась волосистыми голубыми тенями. Шатры излучали слюдяной трепещущий блеск. Набухали колючие бутоны Василия Блаженного, готовые превратиться в цветы. По серебряным крестам пробегал невидимый ветер, и в них, как в легких тростниках, возникал таинственный звон. Потревоженные звоном, от Мавзолея, словно с малиновых и розовых вод, бесшумно возносились загадочные существа, похожие на журавлей. Вытягивая длинные ноги, отливая стальной синевой, плавно парили над площадью, не касаясь земли, исчезая в полукруглой арке ворот. И среди этой светомузыки очарованная душа, как в волшебном сне, вспоминала свое предшествующее, внеземное существование. Предчувствовала сладкое освобождение от плоти.
Особенно поражала Коробейникова колокольня Ивана Великого. Ее белоснежный ствол одиноко и мощно возносился в слепящую пустоту, завершался солнечным золотом, от которого расходились прозрачные животворные волны. На вершине, под куполом, располагались три черных обруча, как если бы острым ножом очертили березу и срезали ленты коры. В этих черных кольчатых вырезах были размещены золотые буквы, слагаясь в надпись, которую невозможно было прочесть. Старинные церковные знаки были начертаны вокруг колокольни, и, чтобы их разглядеть, следовало воспарить в небеса и трижды облететь колокольню, складывая древние буквы в священное написание. В этой надписи Творец объяснял истинное устройство Вселенной, смысл мироздания, закон, по которому движутся светила, рождается и умирает материя, Божественный Абсолют соотносится со своими бессчетными проявлениями. Все годы, что Коробейников являлся на площадь, он не мог прочитать эту надпись, казавшуюся криптограммой. Запрокидывал голову, пытался ее разобрать, но всякий раз начинало слепить глаза, надпись закрывалась золотым туманом, словно ее занавешивал непроглядный покров. И каждый раз он оставлял затею прочитать письмена. Откладывал на потом, веря, что наступит миг и ему откроется смысл сокровенного поднебесного текста.
Вот и теперь он пересек Красную площадь, чувствуя стопами ее громадную гравитацию, с трудом отклеивая подошвы от железной планеты. Воззрился на колокольню, испытав головокружение, слезную слепоту, обнаружив вместо надписи размытое золотое свечение.
12
Дверь подвала была покрашена в яркий малиновый цвет с лазурной каймой. Около кнопки звонка в старинное дерево была врезана легированная лопатка турбины сверхзвукового перехватчика. Возбуждающие цвета, остатки купеческого засова, очищенного от ржавчины, любовно смазанного глянцевитым маслом, стальная авиационная деталь превращали дверь в работу художника поп-арта.
Коробейников позвонил и был радостно встречен другом, хозяином подвала, футурологом Константином Шмелевым. Спустились по сырым ступеням в каменную глубину подвала, где мрачная катакомба внезапно превращалась в сводчатое, стерильно выбеленное помещение, слепящей белизной и сводами напоминавшее церковь. На белоснежных стенах, плоских, овальных, цилиндрических, любой предмет горел и слепил глаза. Коробка африканских бабочек, пойманных Шмелевым в Кении, с металлической зеленой пыльцой, потаенно сверкала прожилками, драгоценно переливалась узорами. Алое полотенце пленяло восхитительным северным орнаментом трав, вещих деревьев, волшебных зверей и птиц. Холст Филонова, жемчужно-серый, сложенный из множества корпускул, полупрозрачных фигур и знаков, мерцал сквозь водяные слои донными отражениями, размытыми, утонувшими образами.
— Ты пришел как раз к трапезе, которую и разделишь с нами. — Шмелев вводил Коробейникова в свою священную келью.
Коренастый, гибко подвижный, с пластикой дикого зверя и балетного танцора, Шмелев был облачен в неизменный, тонкой вязки, свитер с дырами и латками, из которого высовывались сильные руки с чувствительными пальцами, непрерывно мастерившими, клеившими, сжимавшими резец или кисть, пинцет или топорище. Этими пальцами расправлялись хрупкие бабочки, разглаживались старинные рукописи, снималась с крючка яркая хрустящая рыбина. Лицо Шмелева, сухое, скуластое, с узкими, мнительными глазами, было изрезано клетчатыми морщинами, как если бы долгое время было обмотано сетью. Такие степные азиатско-славянские лица рождаются в низовьях Урала, где долгое время воевали, торговали, обменивались товарами и женщинами ордынцы и казаки, создав порубежный народ, коварный, вольнолюбивый и стойкий.
— Шурочка, достань четвертый стакан для Михаила, — распорядился Шмелев, подводя Коробейникова к деревянному, без скатерти, столу, где двое других обитателей мастерской завершали приготовление к трапезе.
Шурочка, жена Шмелева, невысокая, прелестная, с лицом, какое бывает на млечно-туманных античных камеях, знающая свою прелесть и женскую власть над Шмелевым, приблизилась к Коробейникову. Слишком откровенно дразня мужа, обняла гостя, прижавшись к нему полной грудью с проступавшими сквозь голубой джемпер сосками:
— Мишенька, когда тебя долго нет, у меня начинает вот здесь щемить, — засмеялась она, указывая себе на сердце и при этом приподымая ладонью левую пышную, грудь.
За этим ласково и смущенно следил Павлуша, молодой помощник Шмелева, с чьей помощью тот готовил макеты «Города Будущего». Рисовал и вычерчивал графики, клеил подрамники, создавая экспозицию для Всемирной выставки в Осако, куда Шмелев не терял надежды попасть.
Лицо Павлуши было мягким, как пластилин. Казалось, если его нагреть, оно начнет отекать, размывая очертания полных безвольных губ, невыразительных носа и скул. Зная свою невыразительность и невнятность, Павлуша обожал Шмелева, был в его воле, преданно взглядывал в его коричневое, властное, с пронзительными глазами, лицо.
— Рады вам, Миша, — вяло улыбаясь, тихим бабьим голосом произнес Павлуша. Кивнул, но не подал руки, ибо в ней был острый столовый нож, которым Павлуша резал кусок копченой лосятины, отсекая тонкие розоватые лепестки. Тут же, на досках стола, красовалась бутылка грузинского вина, блюдо с фиолетовым виноградом.
— Ну что у тебя с Осако? — поинтересовался Коробейников, зная, что эта тема была для друга больной и неотступной.
— Боятся, не хотят решать. После твоей публикации интерес огромный. Приходят японцы, французы. Вчера заявились американцы. Перепечатки в иностранных газетах. Пишут в «Пари матч», что Шмелев — это архитектурный Гагарин, прокладывающий дорогу в непознанное. Во «Франкфуртер альгемайне цайтунг» написали, что этим проектом Советы восстанавливают свое футурологическое измерение, формулируют советский образ будущего. Все это пишут и говорят интеллектуалы, а чиновники смотрят оторопело, усматривают идеологическую диверсию. Не пускают в Японию.
— Ничего не могу обещать, но, мне кажется, появились влиятельные, властные люди, которые готовы помочь. Но не стану тебя обнадеживать.
— Ты и так сделал для меня очень много. Ты единственный, кто на ранней стадии оказался способным понять мои идеи. Потому что это и твои идеи. Мы добывали их вместе в наших путешествиях и беседах. — В этих словах было удивительное свойство Шмелева. Находящегося вблизи человека он вовлекал в вихри собственных откровений, делая соавтором. С помощью этой педагогики он создавал учеников и поклонников среди тех, кто хоть раз оказался рядом. Таким учеником стал закабаленный Павлуша, днями и ночами работавший над проектом, поверивший, что в футурологических фантазиях Шмелева есть и его прозрения. Такой ученицей несколько лет назад стала красавица Шурочка, утомленная легковесными обожателями, увидевшая в узкоглазом, похожем на азиата мыслителе неповторимую мощь, сулившую громадный успех. — Знаешь, я почти завершил создание оптической машины. Если поеду в Осако, смогу экспонировать идею «Города Будущего».
Он показал на белоснежные стены, на округлые своды и цилиндрические выступы, где ослепительно горели полотенца, иконы и бабочки. Чуть возвышался плоский подиум, где была смонтирована сферическая установка с окулярами, застекленными трубками, шарнирами и проводами, которые соединяли эту глазастую сферу с музыкальным проигрывателем. Эту систему по замыслу Шмелева изготовили его друзья, работавшие в секретном институте, где создавались спутники-шпионы, способные с высоты фотографировать объекты земли. Сама установка напоминала спутник, из которого выглядывали окуляры. Смысл этой фантастической системы был в том, что, начиная работать, она проецировала на стены и потолки множество сменявших друг друга слайдов. Воедино сливались природа и техника, памятники культуры и современные машины. По выгнутым и овальным поверхностям скользили цветы, авианосцы, махаоны и небоскребы. Космическая музыка в сочетании с лучами и спектрами создавала галлюциногенное ощущение полета сквозь пространство сна, сквозь миры и галактики, сквозь мистический разноцветный ландшафт головного мозга, в котором, словно в сладком бреду, возникали видения.
Они сидели за столом на струганых деревянных лавках. Шмелев держал в крепких, покрытых волосками пальцах стакан с черным вином. Играл напитком, качая в нем рубиновую каплю. Обращал свою речь к Павлуше, который внимал с благоговением, приоткрыв безвольный блаженный рот, наивно и восхищенно взирая на кумира водянисто-голубыми глазами:
— Павлуша, милый, позволь поблагодарить тебя за бескорыстную братскую помощь, без которой я бы не смог довершить мой грандиозный проект. В нем не только умение твоих талантливых неутомимых рук, но и твои замечательные идеи, твои оригинальные открытия, твоя удивительная просветленность, помогающая мне сформулировать мысли, до которых в одиночку я бы никогда не дошел. Ты настоящий артельщик, настоящий собрат. Я доверяю тебе. Пустил тебя в святая святых моего учения. Раскрыл замыслы, не ведомые никому. Я доверил тебе мою теорию, мой дом, мои тайные записи. Все самое святое, которым дурной человек мог бы воспользоваться мне во вред, а ты хранишь, сберегаешь, умножаешь. — Шмелев потянулся к умиленному Павлуше, чокнулся с ним, и тот дрожащей от волнения рукой поднес к губам стакан, стал пить. Красная струйка неопрятно побежала по его вялому подбородку.
— Ну что вы, право, Константин Павлович, вы гений! А я всего лишь подмастерье!
— Котя, не поперхнись! — Шурочка мило и насмешливо обратилась к мужу, видя, как тот жадно жует копченый лепесток лосятины. Этими легкими, метко вставляемыми насмешками она сбивала пафос шмелевских речей, прерывала неутомимые его рассуждения, в которых неудержимый ум футуролога, громоздя идеи и сведения, нагружал собеседника непосильной тяжестью.
Следующие восхваления были обращены Коробейникову.
— Миша, — испытывая неудержимую, нервную потребность говорить, произнес Шмелев, подымая стакан с вином, который на фоне белой стены казался полупрозрачной рубиновой призмой. — Нас связывает не просто дружба, но и судьба, быть может, до смерти, как возвестило нам солнечное затмение в Бюрокане, когда, ты помнишь, по земле, словно серые волки, побежали стремительные хищные тени. Или тот газовый взрыв в Салехарде, когда мы сидели в тундре, глядя издалека на огромный черно-рыжий клуб пламени. Словно два язычника-огнепоклонника смотрели на пламенный дух земли и пили водку. Или когда на танкере, на его огромной серебряной оболочке, плыли по Оби под легкими дождями и прозрачными радугами. Вышли на берег и стояли у кожаных чумов, в которых кашляли невидимые, прокопченные дымом, пропитанные рыбьим жиром ханты. На траве, легкие, как деревянные луки с тетивой, стояли распряженные нарты. Твои идеи о двух русских Космосах, техническом и духовном, легли в основу моей теории «русской цивилизации». Моя рациональная картина мира дополняется твоей религиозной. За тебя, мой любимый друг!
— Теперь о тебе, моя верная женушка, — на коричневом лице Шмелева, с острыми скулами, резкой сеткой морщин, страстно и нежно сверкнули узкие глаза. — Ты знаешь, вся моя жизнь посвящена приобретению знаний, созданию целостного мировоззрения. Я изучал геологию, проведя месяц на склоне Большого разлома в Эфиопии, где земля проломлена до сердцевины и в пропасти, едва заметная, мерцает речушка. Изучал этнографию, блуждая по Заонежью, рассматривая расстеленные по зеленой траве белые холсты с вышивкой, алые сарафаны, шитые жемчугами плащаницы. Я постигал боевую технику, управляя танком, забираясь в кабины бомбардировщиков, исследуя глобальную систему обнаружения ракет. Анализировал мировую политику и, чтобы слушать информационные агентства мира, выучил английский, немецкий и французский. Эгоцентрист, я наматывал вокруг себя пласты колоссальных знаний, окружал себя идеями и теориями, как кольцами Сатурна, стягивал распадающийся, непознанный мир. Но с некоторых пор в центре этого мира находишься ты, жена. Выдерживаешь страшное давление, которое я переложил на тебя. И если ты, не дай бог, сломаешься под его тяжестью, погибну не только я, но и Вселенная рассыплется на множество пылинок и бессмысленных мертвых частичек. Пью за тебя, за твое терпение, твою энергию и красоту! — Шмелев чокнулся с Шурочкой, потянулся к ее губам, но она отстранилась и со смехом сказала:
— Котя, ты смутил меня. Чувствую, что покраснела. Жаль, что нет у нас зеркала, а то бы увидела, как пылают мои бедные щечки!
На глазах Коробейникова протекал их роман, когда Шмелев, вернувшись из Африки, худой, некрасивый, одержимый фанатической идеей, появлялся в Доме архитекторов с Шурочкой, по-девически прелестной и легкомысленной. Все любовались ими, находя идеальным сочетание ее женственности и красоты с суровым обликом мужественного исследователя и фантаста. Она была его украшением, его драгоценной брошью, которую он постоянно держал перед влюбленными глазами, и на его суровом азиатском лице появлялась беззащитная нежность. Она забеременела, собиралась родить. Ревнуя ее к неродившемуся ребенку, страшась хлопот, отвлекающих от главного дела жизни, Шмелев настоял на аборте. Коробейников видел ее после операции — почерневшая, подурневшая, с помутненным рассудком, бормотала безумные речи о «чадоубийце» и «царе Ироде». Они почти расстались, она уехала от него. Но властью своей любви, подавляющей и страстной настойчивостью он вернул ее. Она вновь налилась прежней свежестью и красой, обрела былое легкомыслие и веселость. Вновь превратилась в нарядную драгоценную брошь, на которой лишь опытный ювелир мог различить паутинку трещины.
— Константин Павлович, я все не решался спросить, — сказал Павлуша, ненасытный слушатель и обожающий ученик. — Вы часто употребляете слова «русская цивилизация». Но чем же она отличается от просто цивилизации, например, западной?
Шмелеву только это и было нужно. Привыкший выступать в студенческих аудиториях, участник множества коллоквиумов и «круглых столов», думающий все время одну и ту же думу, он мог. подхватывать с любого места свою теорию.
— Запад отпилил у готических соборов их тонкие шпили, остановил порыв в небо, сохранив от церквей одни плоские пьедесталы. Запад вырвал у античных храмов удерживающие колонны, и небо упало на землю, расплющив завоеванную духом вертикаль. Запад сколол с фасадов орнаменты и узоры барокко, оставив голые стены, лишив человека неутомимого и бескорыстного творчества. Запад строит огромную, фантастическую мегамашину, которая, как страшная драга, жадно сжирает природу и культуру, создает свои валы и колеса из умертвленных народов, украшает свои машинные залы чучелами убитых китов и оленей, развешивает в своих салонах высушенные и раскрашенные маски великих учителей и творцов. Со скрежетом движется по земле, выстригая джунгли, расплющивая города, выпивая океаны. Западная цивилизация отнимает у человечества свободу воли, превращая историю в питательную среду, где вызревает небывалое чудище, в застекленной кабине которого восседает электронный жестокий робот. Центр Помпиду в Париже — архитектурный прообраз этой бездуховной мегамашины…
Павлуша приоткрыл рот, внимая не смыслу, а звуку произносимых слов, упиваясь сопричастностью к этому великому человеку, которому поклонялся, был готов безраздельно служить. Из его приоткрытых безвольных губ стекала розовая от вина слюнка.
— Русская цивилизация, — продолжал с энтузиазмом Шмелев, — предлагает великую гармоническую альтернативу. В жестокую неживую машину вселяет дух, который, как известно, дышит где хочет — в термоядерном «Такомаке» или в нефтепроводе «Сургут — Москва». Соединяет рукотворную технику и первозданную природу, исконного, непредсказуемого человека и его механическое подобие, доисторическое, стихийное время и управляемую историю. Наше русское прошлое наполнено такими страданиями, такими вселенскими скорбями, что они умилостивят и одухотворят машину, внесут в нее живую этику, испытают совершенство машины слезой ребенка, слезой оленя, слезой срезанного травяного стебля. Технический Космос, состоящий из космических кораблей и станций, инопланетных экспедиций и поселений, дополняется Космосом духовным — откровениями святых отцов, народными песнями, стихами Пушкина, учением Вернадского. Это сулит великое, возможное только в России открытие…
Коробейников слышал эти мысли не единожды, в ином изложении, заключенные в иные метафоры.
Каждый раз бывал взволнован этой проповедью русской гармонии. Захвачен музыкой смыслов, столь созвучной его душе, желавшей видеть в жизни блаженство, преодоление бед и напастей, трат истребленного рода, когда безвинные смерти не призывали к возмездию, но сулили светлое искупление. Как икона Бориса и Глеба, павших под ножом Святополка, не требовала отмщения, а целила, спасала. Два коня, алый и белый, шли по цветам и по травам, не оставляя кровавых следов. Открытие, о котором говорил Шмелев, уже было сделано. Следовало лишь трижды облететь колокольню Ивана Великого и прочитать золотую надпись.
— Константин Павлович, о каком открытии вы говорите? — завороженно улыбался Павлуша, бесцветными, обожающими глазами взирая на Шмелева, а тот, в кольчужном вязаном свитере, с азиатским лицом, с седеющей челкой на морщинистом лбу, был похож на степного батыра.
— Коммунизм — это советская власть. Плюс электрификация всей страны. Плюс абсолютное, объединяющее народы добро. Плюс Города Будущего на земле, в небесах и на море. Плюс овладение всеми науками и искусствами. Плюс постижение тайны генетического кода. Плюс искусственный интеллект. Плюс понимание языка птиц и цветов. Плюс использование гравитации. Плюс преодоление смерти. Плюс латание черных дыр галактики. Плюс воскрешение из мертвых всех, кто когда-то жил на земле. Плюс восстановление погибших участков Вселенной и возжигание потухших светил. Формула бессмертия существует, и она будет открыта в России. Русская история есть непрерывное приближение к бессмертию. Коммунизм, понимаемый как земной рай, станет обществом бессмертных людей. Русский авангард Платонова, Мельникова, Цаплина, Петрова-Водкина и Прокофьева — это лаборатория, где создавался эликсир вечной жизни. Не удивлюсь, если формула бессмертия прозвучит на сакральном языке Хлебникова…
В Коробейникове продолжала звучать музыка смыслов. Недавнее купание бабушки с молитвой о продлении ее тающей жизни. Тайное упование на чудо, связанное с воскрешением отца. Ожидаемый приезд тети Таси, с которым воссоздавалась умершая часть семьи, возвращалось в родовую галактику непогасшее светило. Коммунизм, о котором столь патетично говорил Шмелев, становился не аляповатой надписью на красном куске кумача, который из года в год носили над головами равнодушные, с пустыми сердцами люди, а был загадочным словом, начертанным на кругах колокольни. Если воспарить к вершине Ивана Великого, трижды облететь белоснежный ствол, то из золотых букв составится поднебесное слово «коммунизм».
— Котя, дорогой, своими разговорами о бессмертии ты можешь кое-кого вогнать в гроб. — Шурочка прижала свою точеную ручку к жестким губам Шмелева, запрещая ему говорить. Но тот быстро поцеловал розовые пальчики, отстранил ее. Шагнул к подиуму, где была установлена электронная сфера со множеством проекторов и окуляров. Схватил миниатюрный пульт и одним нажатием кнопки выключил в помещении свет и привел в действие волшебный фонарь.
В мерцающей темноте зазвучала таинственная, тягучая музыка. Множество электронных гармоник, подобно волнам, нагоняли друг друга, складывались в певучие мелодии, изливались из неведомых инструментов. В огромной пустоте были натянуты струны, сладостно дышали изогнутые и удлиненные трубы, ударяли звонкие печальные клавиши. Синусоиды струились, расплетались, словно косы, на множество тончайших мелодий. Превращались в тихую капель и вдруг устремлялись в бурное громогласное падение. Словно в мироздании открывалась плотина, и водопад звуков сливался в поднебесный ревущий хор.
В темноте, на ослепительной озаренной стене возникали слайды. Вечерние зори с малиновыми разводами туч. Пышные, падающие из-за облаков лучи. Яркие радуги в зеленоватой лазури. Туманное, окруженное кольцами солнце. Бело-голубая, в кристаллических оболочках луна. Слайды скользили по стенам, выпукло текли по сводам, омывали выступы и изгибы, порождая головокружение. Среди небесных явлений стали появляться океанские отмели, влажные, закутанные в перламутровые туманы утесы. Простирались громадные хребты с голубыми ледниками. Открывались снежные равнины с солнечными метелями. Возносились пышные заросли, сверкающие от дождя.
Постепенно в зарослях тропической зелени стали возникать едва различимые контуры оплетенных лианами статуй. Среди горячих песков просматривались контуры сфинксов. Вздымались ступенчатые пирамиды, испещренные фигурами богов и животных. Возникло ослепительно-синее диво рублевской Троицы. Ангельский лик с остроконечным крылом, работы Фра Беато Анжелико. Скульптура Лаокоона напрягала вздутые мускулы. Золоченые Будды улыбались в алом сумраке храмов. Скифская баба стояла в белесой высоте хакасской степи. На белых снегах пестрела собачья стая и толпа охотников Брейгеля. Казалось, Господь, пресыщенный творчеством, передал свой дар человеку, и тот, восхитившись, неутомимо продолжил божественное дело, украшая землю творениями рук человеческих.
Слайды, как бабочки, летали по комнате. Словно шелковые скатерти, соскальзывали на пол. Струились, как разноцветная вода, под ногами. Коробейников, захваченный в их прозрачный полет, вдруг обнаруживал себя среди кариатид, поддерживающих свод храма. Оказывался среди длинноносых чудовищ и перепончатых демонов Босха. Его лицо вдруг совпадало с золоченой китайской маской. Он мчался, разбрызгивая синюю воду, на алом коне. В его кулаке оказывался сияющий, из нержавеющей стали, пролетарский молот, а бедро громадно и мощно прижималось к ноге колхозной металлической девы.
От перевоплощений кружилась голова. Он потерялся среди бесчисленных лиц, утратив свое собственное. В этой толпе его никто не мог обнаружить. Желающий его умертвить разбивал амфору с изображением античного бога. Желающий его сжечь бросал в огонь фаюмский портрет. Желающий его зарезать полосовал ножом обнаженную Венеру Джорджоне. Он был неуязвим, менял обличья, был везде и всегда. Спустился на землю из серебристого небесного облака. Выпорхнул из кокона изумрудным мотыльком. Застыл с опущенными веками на высоком скифском кургане.
Музыка сфер постепенно превращалась в музыку отбойных молотков, рев летящих ракет, грохот поездов и составов. Коробейников вдруг обнаружил, что у него на груди шипит звезда электрической сварки. Его туловище совпадает с корпусом громадной подводной лодки. Его щеки протискиваются сквозь кружевные фермы моста. В его паху разверзается взрыв, пышно выталкивая прозрачный мистический гриб. Крылатые машины летали по комнате, станки крутили бесчисленными колесами, вращались легированные голубые валы. Коробейников чувствовал, как его вместе с грудой болотной гнили сдвигает отточенный нож бульдозера. Он подвешен под крыло самолета, захлебывается, пропуская сквозь открытый рог тугие потоки ветра. Он был турбиной, превращающей в пену волжскую воду. Металлической сферой, в которую вонзается фиолетовая вольтова дуга.
Гигантская центрифуга крутила его, перевертывала, перемешивала в нем все суставы, дробила кости, выплескивала на стены цветные кляксы. Казалось, с него содрали скальп. Сколупнули свод черепа. Срезали студенистую поверхность мозга, где обитает сознание. Добрались до зыбкой перламутровой слизи, в которой сонно дремлет подсознание, таится человеческая сущность, заложена сокровенная судьба.
Он посмотрел себе на грудь. Она переливалась лучистой лазурью, ибо с грудью его совпало изображение бразильской бабочки, занимавшей все пространство комнаты. И пока оно скользило, превратив Коробейникова в узор на синем крыле, окружило сетчатыми прожилками и голубыми чешуйками, в нем мелькнула сумасшедшая мысль: он и есть бабочка. Бабочка — его тотемный зверь. Он ведет от нее свою родословную, и этот крылатый лазурный пращур исторгнут из подсознания магическим волшебством светомузыки.
Перевел взгляд на Шурочку. Увидел увеличенную розетку ядовитого болотного цветка с огненной сердцевиной. Среди багровых лепестков, плотоядных тычинок, едкого клея улыбалось се лицо, безумное, мстительное и прекрасное, исполненное отравы, сладострастия и невыносимого страдания.
Пугаясь бездны, куда проник его опьяненный, ясновидящий взгляд, он посмотрел на Павлушу. Картина Брейгеля «Несение креста» текла по стенам, огибала углы, меняла пропорции. Павлуша слился с жуткой личиной благостного идиота, в чьих глазах переливались липкие бельма, изо рта сочилась слюна, губы выдували бессмысленные пузыри, и весь его расслабленный вид ужасающе подчеркивал громадную пустую Голгофу, где готовилось злодеяние.
Боясь своих прозрений, Коробейников посмотрел на Шмелева. Ротор шагающего экскаватора, усаженный стальными клыками, как черное железное солнце вращался на лице Шмелева, вырывал и выскабливал глаза, срезал губы, стачивал косые скулы. Смешивал с кристаллическими грудами антрацита, сваливая в железнодорожный вагон.
Коробейников испытал ужас. Хотел кинуться к подиуму, разорвать многоцветные покровы, отыскать пульт, выключить дьявольскую оптическую машину.
Внезапно музыка смолкла. Словно исчез сам воздух, через который передавался звук. В тишине, где все впечатления доставались только глазам, стали всплывать слайды. Загорались драгоценно на белой стене. Поражали свежестью, красотой. Как видения, сменяли друг друга. И на всех была Шурочка. Обнаженная, золотистая, среди поля горящих подсолнухов, прижимая к животу теплую чашу цветка. В голубой реке, изгибаясь плавным бедром, подымая ладонями серебристые брызги. Среди смуглых венцов избы, млечная, белая, воздев руки, открывая подмышки с косичками темных волос. На подоконнике зимнего окна, за которым голубые снега, прозрачная сосулька, и она сжимает колени, розовеют ее соски, темнеет узкий пушистый лобок.
Было ощущение, что все предшествующее многообразие образов — парение светил, земные красоты, живописные картины и статуи, труд упорных машин — все было для того, чтобы оказалась явлена миру эта чудная женственность. Эта женщина была творящей и сберегающей силой, вокруг которой вращались планеты, зажигались радуги, шли снегопады, возносились храмы, летели в небесах самолеты, плыли в морях корабли. Коробейников восхитился этой религиозной, языческой Вселенной, в центр которой произволом Шмелева была помещена любимая женщина. Лежала среди желтых кленовых листьев на шерстяном покрывале, щурилась на осеннее солнце, знала, что художник смотрит на нее с обожанием. На кончики голых ног. На округлую нежность колен. На голубоватую тень под грудью. На розовую свежесть приоткрытых насмешливых губ.
— Ненавижу!.. — раздался хриплый, ужасный, утробный крик. Сквозь прозрачные волны цвета нырнула тень. Слайды погасли. Загорелся ослепительный белый свет. Шурочка стояла с пультом в руках, с безумными глазами, уродливо перекошенным ртом, растрепанными волосами. — Ненавижу тебя!.. — кричала она Шмелеву, и тот заслонялся локтем, словно в него летели камни. — Палач!.. Изрезал меня!.. Вырезал из меня моего мальчика и съел!.. Царь Ирод!.. Ты тот, кто убивает и ест младенцев!.. — Она кинулась на него, колотила маленькими кулаками в его грудь, обтянутую вязаным свитером. Он заслонялся, молчал. Павлуша оторопело таращил водянистые рыбьи глаза.
Раздался громкий телефонный звонок. Шмелев пошел снимать трубку, Шурочка беззвучно тряслась, закрывая лицо руками.
Через минуту Шмелев вернулся. Затравленный, зыркая узкими степными глазами, смотрел на жену, на идиотического Павлушу, на Коробейникова.
— Как странно… Сейчас звонили из Академии наук… Сообщили, что проект «Города Будущего» утвержден к отправке на Всемирную выставку в Осако…
13
Все эти дни Коробейников испытывал странное беспокойство, тревожное предчувствие. Невнятными знамениями и едва уловимыми признаками ему давалось понять, что завершается еще один период его жизни, целостный, яркий и сладостный. Как в горячем пятне света, какой бывает в летних смоляных сосняках, среди красных благоухающих, нагретых стволов, пребывали рядом мама и бабушка, любимая жена и ненаглядные дети. Вышла в свет его первая долгожданная книга, где он с благоговением описывал это время. Но, описав, странным образом его исчерпал. Остановил безмятежное течение дней. Замер на шаткой, колеблемой грани, с которой не видно было, куда устремится жизнь.
Роман, который он замышлял, еще не имел сюжета. С несуществующими героями, с ненаписанными сценами, являл собой предощущение романа. Однако вымысел таил в себе будущую жизнь и судьбу. В своей бессюжетной стадии роман был наполнен событиями и героями, подстерегавшими его в скором будущем. Откладывая роман, он откладывал свое будущее. Но любое обдумывание и прописывание романа грозило реальным воплощением фантазий. Существовала необъяснимая связь между вымыслом и жизнью, фантазией и судьбой. Увлекаясь новыми знакомствами, погружаясь в свежие отношения и связи, он стремился превратить их в литературные образы и сюжетные линии. Но, изобретая будущие сцены и персонажи, он словно вносил их в свое реальное существование.
Это была рискованная и сладостная игра, где стиралась разница между вымыслом и реальностью. Вымыслом могла быть война, любовь, автомобильная катастрофа, политический заговор или смерть героя, которая странным образом сулила обернуться смертью автора. Он был создателем послушного ему литературного текста, но тот постепенно выходил из повиновения и сам управлял его жизнью.
С этими мыслями Коробейников погрузился в предполагаемую сцену романа, в пригородную зеленую электричку, которая понесла его со звоном и вихрем сквозь подмосковные березняки и поля в Новый Иерусалим. В разрушенный монастырь, где в старинной келье, в пристройке к убогому краеведческому музею, проживал его друг Левушка Русанов. Смотритель музея и краевед, он находился под мистическим воздействием великих монастырских развалин. Уверовал, крестился и теперь готовился к принятию сана.
В сводчатой палате, напоминавшей трапезную, стоял грубый стол, за которым восседали гости. Лампа под бумажным, прогорелым абажуром ярко освещала водочные бутылки и мокрые стаканы. Нехитрая снедь состояла из вареной картошки, квашеной капусты, грубо нарезанной селедки. Монастырская еда вполне соответствовала сотрапезникам, собравшимся на свою вечерю. Левушка, очень худой, с голубоватыми нервными пальцами, перебиравшими граненый стакан, с ввалившимися аскетическими щеками и золотистой бородкой, с добрыми, любовно сияющими глазами. Тяжелый, черноволосый бородач Верхоустинский, похожий на тучного дьякона, ведущий свою родословную от сельских священников. Худенький, с лысой шаткой головкой, косым вялым ртом и робкими мигающими глазками Петруша Критский, своей средиземноморской фамилией указывающий на происхождение от греческих христиан. Желчный худой человек с черными, навыкате, глазами, пышными, вразлет, усами, по прозвищу Князь, надменным видом, грассирующей речью, аристократической салфеткой за воротом подтверждающий присвоенный ему титул. Все уже не раз поднимались и чокались, выискивая для тоста патриотический или религиозный повод.
Коробейников, возбужденный выпитой водкой, чутко и радостно вслушивался в произносимые речи, в которых звучали грозные пророчества и чудесные, ожидания. Такими речениями во все века полнились полутемные паперти, куда во дни расколов и религиозных гонений стекались на тайные встречи единоверцы. Страшась доносов и казней, укрывая от гонителей светочи, были готовы пострадать за Христа.
На стене висел застекленный образ Богородицы в резной золоченой раме с засушенными цветами шиповника. За линялой занавеской прятался музейный склад экспонатов, состоящий из окаменелых ракушек, чучела совы, пшеничного снопа, заржавелой мосинской винтовки и портрета Маленкова, угодившего в музей после того, как попал в немилость. На другой оконечности комнаты притулились печальная, с изможденным красивым лицом, жена Левушки Андроника и их маленький сын Алеша, с худой птичьей шейкой, большой головой и печальными глазами отрока Варфоломея. Коробейников расширенными, запоминающими зрачками смотрел на черные закрученные усы Князя, на тяжелую и крепкую, как валенок, бороду Верхоустинского, на красные веки и фарфоровые синие глазки Петруши Критского. Вслушивался в застольные речи, напоминавшие исповеди.
— Братие, — обращался к застолью Левушка особым, проникновенно-любящим голосом. — Каждый из нас шел к Богу своей неповторимой тропинкой. Эта узкая тропинка в конце концов вывела нас на тернистую столбовую дорогу, по которой к Спасителю возвращается вся наша матушка Россия, в рубище, босая, с нищей сумой на плече… Какие только искушения не посылал мне лукавый на этом пути! В школе я собирался стать заговорщиком, собрать боевой отряд и с помощью динамита взорвать ненавистных партийных вождей. В университете углубился в историю, льстил себе мыслью, что овладею историческими и политическими науками, вступлю в партию и трансформирую изнутри эту богомерзкую власть, избавлю Россию от коммунизма. Отчаявшись что-либо сделать, я стал заниматься йогой, полагая, что это путь к индивидуальному спасению, и, стоя на голове, медитировал, пытаясь разорвать кармический круг. И только попав сюда, в эту обитель, я оказался под могучим животворным влиянием православных святынь, где из каждого расколотого алтарного камня, из каждой поруганной колокольни или оскверненного надгробия смотрит Христос. Святой патриарх Никон, к чьей могиле мы сегодня непременно пойдем и помолимся за великого духовника Земли Русской, стал являться ко мне во сне. Был таким, каким изображала его парсуна — огромный, чернобородый, в золотых ризах. Держа в руках кипарисовый крест, подаренный ему антиохийским патриархом, Никон вставал у меня в изголовье, произносил только одно слово: «Иди!» Так было не раз и не два. Однажды, после вещего сна, глубокой ночью я встал, зажег свечу и отправился в храм. Я ходил туда много раз, по разрушенной лестнице, зная каждый пролом в стене, каждую развалину. Держа перед собой свечу, вдруг увидел под ногами крест, тот самый, с которым являлся Никон. Поднял, прижал к губам и, представляете, братие, чувствую, что он дивно благоухает пахучей сладкой смолой. Самшит. Крест тот самый, с каким являлся мне Никон. Он позвал меня в храм и положил на моем пути крест. Это был знак. Я тут же крестился и теперь буду нести этот крест на Голгофу, как нес его наш Спаситель…
Все молча, с благоговением обдумывали услышанную исповедь. Верхоустинский ткнул щепотью в толстый лоб, косматую бороду, в нависшие сутулые плечи. Голосом простуженного басовитого дьякона произнес:
— Отцы, я вам вот что скажу. Душа — христианка, оттого отпадение русского человека от веры мнимо и временно. Мой дед по матери, протоиерей в Вятской губернии, был замучен жидами. Комиссары приехали в село на подводах, согнали прихожан, деда моего избили в кровь, поставили на пороге храма. Жидок с револьвером вынес образ Спасителя и говорит: «Плюнь в икону, жить будешь!» Дед в крови. Борода выдрана. Приход вокруг плачет. Солдаты в баб из ружей целят. Дед осенил себя крестным знаменем, поцеловал образ: «Господи, да будет воля Твоя!» Тут ему пуля в лоб. Меня растили в городе, в интернате. Отдали в училище. Токарем стал, комсомольцем. Вытачивал на секретном заводе детали к ракетам. Деньги хорошие, похвальные грамоты, фотка на доске Почета. А все что-то скребет, не дает покоя, тянет в родовое село. Приезжаю, Боже ты мой, — разорение. От храма голые стены, мерзостные надписи в алтаре, на паперти собаки склещились. И такая во мне сердечная боль, как инфаркт. Будто мне ангел копьем ткнул в сердце, я и упал без дыхания. Очнулся, дождик теплый меня окропляет, и будто кто из тучки смотрит ласковыми глазами. Лица не вижу, а знаю, что это дед. Вот так вот, отцы, упал атеистом, а встал христианином. Помолился на родном пепелище и с тех пор живу и верую, что опять зазвонят колокола в нашем храме над Вяткой… — Верхоустинский снова перекрестился толстыми пальцами, и казалось, в щепотке у него зажат тонкий лучик, коим он себя осеняет. Одутловатое, отяжеленное бородой лицо стало детским и нежным.
— А я, как говорится, был доходягой, — торопился поведать историю своего воцерковления Петруша Критский. — Помирал вчистую. Лечили меня, резали, кололи. Все органы из меня повынимали. Куда только не возили, каким докторам не показывали. Те отказались лечить. Отдали обратно матери, чтобы дома помер. Рука, не поверите, как нитка тонкая. Кожа, чуть потяни, слезает. Есть, дышать не могу. Скорей бы, думаю, помереть. Приехала к нам тетушка Феня, мамина сестра, богомольная, из Почаевской лавры. Подсела ко мне и говорит: «Петя, если мы сейчас с тобою помолимся и ты поверишь, что Господь вернет тебе здоровье, то и сбудется по вере твоей». Зажгла свечу, встала рядом с моей кроватью на колени, и стали мы молиться. Я из последних сил приподнялся на подушках и возопил: «Господи, говорю. Ты есть! Ты меня любишь! Верни здоровье, а я только Тебя и люблю!» Вдруг почувствовал, как что-то в меня влилось, будто молоко парное. И такое блаженство, такая благодать, что я тут же уснул. Спал трое суток, а проснувшись, стал выздоравливать. С тех пор ничего без Бога не делаю. Только Его и славлю!.. — Болезненной худобой, прозрачной кожей, хрупкими птичьими косточками Петруша Критский напоминал воскрешенные мощи, которые так и не сумели возвратить себе цветущую здоровую плоть, а лишь чудом сохранили ее остатки. Блаженные, умиленно слезящиеся глаза благодарили мир, который вновь его принял и которому он без устали был готов пересказывать принесенную благую весть.
— А я вам так скажу, господа, — захватив в кулак черный струящийся ус, сурово произнес Князь. — Жиды убили православного государя императора, а русский народ не заступился, да-с!.. Принял большевистское иго, за что и выпил полную чашу крови и слез, да-с!.. И еще, уверяю вас, пить будет, покуда не покается, не погребет останки августейшего монарха в Санкт-Петербурге, и на месте царской Голгофы не построит Храм-на-Крови!.. Я Кириллу Владимировичу Романову в Париж письмо написал, где присягнул на верность ему, законному наследнику русского престола. Сказал, что почитаю себя его верным слугой и прошу располагать моей жизнью. За что гэбэшники посадили меня в психушку на три года, стремясь превратить в идиота, да-с!..
Люди, которым внимал Коробейников, были скрытники, беглецы. Добровольно отринули яркую, полную внешних соблазнов жизнь. Предпочли неявное, тайное, почти не существующее бытие, увильнувшее от смертельных ударов. В глуши, на пустырях, в убогих склепах потаенно пережидали беду. Молили о чуде, ждали гласа небесного, уповали на возрождение православной империи. Были готовы погибнуть на кресте, на дыбе, у расстрельной стены. Коробейникову было сладостно погружение в эти катакомбы и подземные церкви, где движутся вереницы тихих людей, держа перед глазами тонкие свечки, закрывая их от подземного ветра прозрачными ладонями.
— Братие. — Левушка доверительно, понизив голос, преисполненный священного страха, делился с сотрапезниками. — Имею вам сообщить, что на прошлой неделе у меня произошла встреча с иеромонахом Амвросием, совершившим паломничество в Иерусалим. Ему доподлинно стало известно, что там народился Антихрист. Младенцу два года. К началу следующего века ему исполнится тридцать три. Это будет возрастом его воцарения. К тому времени уже должна прокатиться по земле Третья мировая война. Она опустошит планету, и на крови, среди остывающих ядерных пепелищ, воцарится Князь Тьмы. К этому моменту завершится восстановление храма Соломона, что знаменует собой начало последних времен. Отец Амвросий сообщил, что младенец красив и румян, на лбу у него, как у козлика, намечены рожки. Евреи держат его в секретном месте и откроют миру, когда исполнятся сроки…
— А вы слышали, отцы, о явлении Богородицы на крыше коптского храма в Каире? — Верхоустинский уткнул бороду в стол, понизил голос до сиплого восторженного шепота, словно боялся притаившихся за окном соглядатаев. — Доподлинно известно, что Святая Дева являлась в течение всей весны на кровле, в виде светящегося облака, повторяющего контуры Божией Матери. Ее удалось заснять на фотопленку. Это знамение в Египте, соседствующем со Святой Землей, многие толкуют как приближение Конца Света. Богородица таким образом подает знак христианам покаяться перед концом. Отцы, подумать только, что мы с вами окажемся свидетелями пророчества, данного нам в Откровении Иоанна. Ибо мы и есть последние хранители православной веры…
У Коробейникова начиналось головокружение от мысли, что они, здесь сидящие, и впрямь станут свидетелями пышного и жуткого действа, напоминающего золоченую картину с обилием красного, черного. Падает в море загадочная Звезда Горынь, превращая воды в рубиновое вино. Скатывается с неба Звезда Полынь, от которой по джунглям, степям и саваннам разлетаются рыжие пожары, гонят перед собой гибнущие табуны. На улице Горького, рядом с «Елисеевым», и на площади Маяковского, рядом с Залом Чайковского, появляются стрекочущие металлические чудища, именуемые саранчой, с зубьями, лезвиями, остриями, похожими на самоходные комбайны, от которых отлетают отрубленные головы в шляпах и женских платках. Угроза войны с ракетами, летящими через океан, ядерными грибами над столицами мира, ползущие по Европе и Азии толпища стреляющих танков обретали здесь, в застолье, вид экзотической притчи, в достоверности которой убеждали истовые лица присутствующих.
— Все говорят «мир, мир», а это значит «война, война». — Петруша Критский вносил свою лепту в список пророчеств. — В Священном Писании как сказано? Говорят о безопасности, значит, готовят по гибель. «И в доме Бога моего сделают овощехранилище». Это ведь тоже про нас. В каждой церкви — где склад картофеля, где зерно, а где колхозное сено держат. А еще говорят, в Москве, на правительственных машинах появились номера шестьсот шестьдесят шесть, число зверя…
— На прошлой неделе посетил Волочек, да-с. — Князь наматывал на палец черно-синий ус. — Там у матушки Ефросиньи икона государя императора мироточит. Меня по большому секрету, по рекомендации отца дьякона, к ней в дом провели. И что бы вы думали? Из бумажной иконы, где государь, государыня, дочери и наследник, а также сонмы мучеников за веру, от жидов убиенных, образ весь кровью обрызган, и кровь эта течет по иконе и капает на пол. Кроме того, весь потолок над божницей кровью набух, вот-вот польется. Это, видно, к большой русской крови, господа, не иначе, да-с…
Коробейников испытывал странное раздвоение, словно присутствовал в двух параллельных мирах, в двух историях, в двух текущих потоках времени. Одно, реальное, в котором родился и рос, читал газеты и книги, распевал пионерские песни, взирал на портреты вождей в дни государственных праздников, жил по законам и уложениям, стремясь в своих книгах и очерках изобразить яростную, восхитительную реальность, угадать в ней неявное, влекущее будущее. Другое время, потаенное и незримое, как грунтовые воды, куда ушла и укрылась изгнанная история, унеся с собой попранное величие, оскверненные святыни, искаженные предания. Продолжало течь, как подземный ручей, в сумерках подполья, в сказаниях и слухах, передаваемых из уст в уста, в ожидании чуда, когда в ослепительной вспышке лучей, под звон колоколов на белом коне въедет в Москву император, и в огромном, восставшем из руин соборе, среди золотых облачений, на царскую голову будет возложен алмазный венец. Тайное время станет явным, а явное будет изгнано и исчезнет в подполье. Времена поменяются местами. История красных знамен, революционных походов, сталинских строек и победных партийных съездов уйдет в катакомбы. На тайные посиделки, страшась гонений, станут собираться ревнители красной религии, ветераны партийной истории. Шепотом, из уст в уста, будут пересказывать апокрифы коммунистической веры, сохраняя их от забвения.
— Братие! — Левушка своими худыми аскетическими щеками, высоким лбом, огненной, с золотыми завитками, бородкой, огромными голубыми глазами, под которыми кисточкой были проложены фиолетовые тени, напоминал иконописный образ. Коробейникову хотелось накинуть ему на плечи долгополое облачение с черными крестами, вложить в руки раскрытую книгу, над которой стеблевидные пальцы друга сложатся в троеперстие. — Я все больше убеждаюсь, братие, что нам необходимо издавать рукописный православный журнал. Мы будем собирать в него знамения, описание чудес, философские и религиозные статьи наших верующих единомышленников. Будем отмечать все признаки приближающегося Второго Пришествия, которое неминуемо случится здесь, в нашей многострадальной России. Своим мученичеством Россия вымолила право приять у себя Христа. Я предлагаю назвать наш будущий журнал «Новый Иерусалим». Если агенты гэбэ выловят нас, что ж, мы примем муку Христову, как наши предшественники ее принимали. Быть может, эта мука и будет последней каплей, что переполнит чашу русских страданий, после которых и явится нам Спаситель.
— Россия на крестах и на муках стоит, — сурово согласился Верхоустинский. — Мы молимся на Христа Распятого.
— Пусть светлейший Князь расскажет, как ходил на могилу царя, — промолвил Петруша Критский, тихо ликуя при мысли, что им всем уготована мученическая кончина. — И его чудесный рассказ вставим в журнал. Расскажи, Князь, будь добр…
Князь строго повел бровью. Соблюдая манеры, отвернул голову и осторожно откашлялся в кулак. Суровое, со следами душевных мук лицо, перечеркнутое линией черно-синих усов, исполнилось благоговейного света.
— Да-с, господа, я в самом деле предпринял паломничество к месту тайного погребения государя императора. Мой друг, потомок белогвардейского генерала, с коим мы провели три мученических года в гэбэшной психушке, был родом из Екатеринбурга. Перед тем как умереть, не вынеся медицинских пыток, он, на больничной простыне, кровью из разрезанной вены, начертил карту с местонахождением царской могилы. Я оторвал этот кусок простыни и, выйдя на свободу, тотчас отправился в Екатеринбург, да-с… Доставал с груди этот писанный кровью чертеж, сверяя мой путь. Не стану утомлять вас рассказом о том, как в пригородном поезде я уклонялся от слежки гэбистов, переодетых контролерами. Как на сельской дороге меня чуть не сбил грузовик, за рулем которого сидел тот же следователь, что допрашивал меня перед тем, как отправить в психушку. Кровь моего несчастного друга пламенела на обрывке простыни, и казалось, что голос его указывает мне путь, да-с… С проселка я свернул на лесную тропинку и долго шел в суровом бору среди замшелых елей. Ни голоса, ни птичьего крика, ни шума ветра в вершинах. Тропка почти исчезла. Я шагал в заболоченной, поросшей красными цветами колее, понимая, что здесь когда-то двигался страшный грузовик с телами расстрелянной царской семьи. Кровь капала сквозь кузов на землю, проросла алыми сочными цветами. Я выбился из сил, мне казалось, что я заблудился, как вдруг, господа, я почувствовал, что стою возле царской могилы. Никаких внешних признаков, только малое углубление, залитое водой, окруженное красными соцветиями. Но из этого углубления, как из чаши, восходил прозрачный столп света. Как если бы глубоко в земле находился прожектор, его свет просачивался наружу, возносился к вершинам елей. Господа, я испытал такое непередаваемое счастье, такую любовь. Благодарность Богу за то, что Он сделал меня сопричастным великому таинству. Показал мне Свет Фаворский, что свидетельствует о святости царя-мученика, о нетленности его плоти, которую палачи сначала пробили пулями, потом облили кислотой, а затем сожгли. Но нетленность святых частичек обнаружила себя этим волшебным свечением, да-с… Я встал на колени и начал молиться. Просто читал Христову молитву единожды, дважды, десять, сто раз. Чувствовал, как меняется вокруг мир, как благоухает воздух елеем, как светлеет в сумрачном еловом бору. Вдруг на еловую ветку, что склонилась к моей голове, прилетела сойка. Розовая нежная грудь. Лазурные крылья такой синевы, как на рублевской «Троице». Не боялась меня, уселась рядом, смотрела своим чудесным маленьким глазом, как я молюсь, да-с… Господа, вы можете меня осудить, можете найти в моих словах признаки ереси и даже богохульства, но, видит Бог, господа, я был уверен, что это государь император. Превратился в птицу, прилетел взглянуть на меня, да-с… Я поклонился ему и присягнул на верность. Мне показалось, что вещая птица в знак благодарности наклонила свою головку. Потом она улетела, свет в лесу начал меркнуть, а у меня на душе такое тихое счастье, такое благолепие, вера в премудрость Божию, любовь к моему императору… Я зачерпнул в этом месте горстку земли и положил в клочок простыни с кровавыми письменами. Туда же положил красные цветочки, по числу убиенных мучеников. Теперь я ношу на груди эту подушечку со святыми частичками, и она хранит меня от напастей, да-с…
Князь плакал, слезы прозрачно висели на грозных усах. Расстегнул на груди рубаху. Показал малую, сшитую из полотна подушечку, висевшую рядом с нательным крестом. Снял с шеи грубую бечеву, притороченную к священной ладанке. Поцеловал подушечку, приблизив к ней дрожащие губы и мокрые усы.
— Князь, дай и нам приложиться!.. — попросил Верхоустинский.
Князь пустил в застолье подушечку. Каждый благоговейно припадал к ней губами, целуя горстку лесной земли из уральского леса, где содержались молекулы преображенной царской плоти.
Коробейников принял от Левушки подушечку с коричнево-ржавым отпечатком запекшейся крови. Держал секунду перед глазами, испытывая странное недоумение, робость, страх перед фетишем, отторжение от него. И сладостное влечение, мучительную веру в одоление смерти, в волшебное претворение бренной плоти. Перед глазами его возникло августейшее семейство, каким было явлено на фотографии, напоминавшей старинные снимки в его фамильном альбоме. Царь, сидящая подле него царица, прелестные великие княжны, стоящие за плечами родителей, цесаревич, нежный отрок на коленях у матери. В глазах у Коробейникова был горячий туман. Все они были в этой маленькой ладанке, среди перетертых волокон лесного грунта. Сердцу стало горячо, восхитительно. Он прижался губами к подушечке, почувствовал теплый запах сухого торфа.
Верхоустинский схватил бутылку водки. Наполнил граненые стаканы. Тяжко, мощно поднялся, распрямив сутулые плечи. Торжественно воздел сияющие глаза:
— Отцы, выпьем за скорое возвращение святой православной монархии на русскую землю! Пусть сгинет жидовская власть и вновь над Кремлем воссияют имперские золотые орлы!
Все бодро вскочили.
— За святую Русь! — воскликнул Левушка.
— За Владимира Кирилловича Романова, наследника русского престола! — Князь держал стакан, по-гвардейски отведя в сторону локоть.
Все чокнулись, выпили. Коробейников, глотая водку, чувствуя, как проливается внутрь жидкий огонь, начинал падать, стремительно летел куда-то вниз, в бездонность, закрыв глаза, перевертываясь, как в затяжном парашютном прыжке, покуда не ударился о бесшумную преграду, толкнувшую его обратно ввысь. Взлетел и очнулся от бесшумного удара света. Монастырская келья, куда он вернулся, показалась вдруг белоснежной, сверкающей, будто за узким окном взошло ослепительное ночное солнце. Все драгоценно сияло — истовые лица собравшихся, мокрые граненые стаканы, зеленоватая бутылка водки, невысохшие слезы на усах Князя, восхищенные голубые глаза Левушки. Опьянение было подобно солнечному удару, восхитительно изменило конфигурацию мира, в котором все предметы утратили симметрию, изменили перспективу. Одни, малозначительные, как разбросанные на столе вилки и ножи, ушли далеко в сужающуюся бесконечность. Другие, такие, как золотистая бородка друга Левушки, цветок шиповника в застекленной иконе, слезинки на усах Князя, придвинулись к самым глазам. Он встал из-за стола и, счастливо качаясь, ушел за занавеску, где прятались экспонаты музея. Там и нашел его Левушка.
— Миша, дорогой, хотел с тобой поделиться… Мне открылось величие Нового Иерусалима, величие патриаршего замысла. Никон ждал Второго Пришествия, промыслительно знал, что оно случится в России, и, затевая монастырь, готовил место, куда явится Господь, чтобы здесь, в этой дивной обители, всем клиром, во всем благолепии и вере встретить Христа… Он нарек это место Иерусалимом, а милую речку Истру — Иорданом, а берега с перелесками, где мы любим с тобой гулять, нарек Фавором. Здесь же, в пределах монастыря, он устроил Голгофу, насадил Гефсиманский сад, обозначил Крестный путь… Ты понимаешь, что он сотворил? Он перенес Святую Землю из еврейской пустыни сюда, в Россию. Не просто названия рек и холмов, но сами координаты святынь, что равносильно смещению земной оси, изменению ее места во Вселенной. Ибо Второе Пришествие и есть чудесное преображение Земли и всей Вселенной. Крест, на котором распят Спаситель, и есть хранитель всей Вселенной, как поется в акафисте… — Левушка восторженно сиял голубыми глазами. — Миша, ты только представь, именно сюда, при нашей с тобой жизни, через год, а быть может, через минуту, спустится Христос. Сейчас мы выйдем в темную ночь, а вдоль монастырских стен, окруженный сиянием, чуть касаясь босыми стопами травы, идет навстречу Христос…
Коробейников вместе с другом восхищался этим громадным открытием, которое порывало с обыденностью, прекращало изнурительное течение дней, вело к завершению времени, к свертыванию в свиток бесконечного летосчисления, стирало до белого листа всю бессмысленную историю, в которой теперь открывалась великая завершающая цель: идущий по ночным росистым травам Христос. Левушка произносил сейчас то, что было известно Коробейникову, было известно футурологу Шмелеву, известно патриарху Никону. Каждый из них, на свой лад и напев, своими верящими, жаждущими устами пел осанну, взывая к чуду, к преображению земли и неба, рисуя дивными красками, золотом и самоцветами, киноварью и лазурью образ Русского Рая.
Левушка угадал его мысли, ибо оба они переживали одно откровение:
— Ведь мы в раю!.. Новый Иерусалим воздвигнут!.. Христос среди нас!.. Миша, друг мой любезный, давай осушим с тобой эту чару за чудо нашей встречи, за удивительное время, в которое нам довелось жить… — Левушка, покинувший было музейный запасник, вновь появился. Откинув занавеску, держал два стакана с водкой, протягивал один Коробейникову. Следом проскользнул сын Левушки Алеша, худенький, с голубоватой шейкой, умоляющими большими глазами:
— Папа, не пей… Мама говорит, тебе нельзя пить… Она опять плакать будет…
Левушка, держа одной рукой стакан, другой обнял сына, нежно поцеловал в бледный выпуклый лоб:
— Алешенька, это ничего… не страшно… это я в последний раз… Эту пагубу мы одолеем… Я тебе обещаю… Ну иди, мой милый, иди. — Он ласково выпроводил сына, вновь обращаясь к Коробейникову: — Что я тебе хочу сказать, Миша… Давно собирался… Прости, ради Бога, но ты пребываешь в прельщении… Тебе Господом дан редкий талант, у тебя чуткое возвышенное сердце, но ты, поверь, на ложном пути… Твое увлечение атрибутами государства, упоение техникой, воспевание того, что ты сам называешь Мегамашиной… Это соблазн, уход от вечных животворящих истин… Нет правды в машине… Мегамашина — это и есть атеистическое безбожное государство. Это и есть Сатана, овеществленный в нынешней грешной цивилизации, Князь мира сего… Ты должен с этим порвать…
— Но ведь сказано: «Дух дышит где хочет…» — слабо сопротивлялся Коробейников, созерцая светящиеся сквозь запыленное стекло музейной коробки, словно драгоценные украшения, кремневые топоры и бронзовые наконечники. — Когда-то Дух дышал только в храме, только в обители жрецов, но потом он вырвался из чертога фарисеев и саддукеев и обнаружил себя среди нищих рыбарей, малых мира сего. Почему ты считаешь, что он не дышит в танке «Т-34», штурмующем Берлин, или в великолепном городе, возводимом в сибирской тайге?.. Задача художника — одухотворить машину, обезопасить ее, сделать вместилищем Духа Живого…
— Миша, это ересь, затмение… Мишенька, милый, ведь ты не от мира сего… Говорю тебе, приди ко Христу!.. Крестись!.. Через несколько дней я принимаю сан и готов крестить тебя первым из моих прихожан, здесь, в Иордане, под стенами Нового Иерусалима… Ты сразу почувствуешь, что приобщился истины… Христос войдет в тебя, преумножит твой талант, направит его на служение небесной красоте…
Левушка страстно взирал на него яркими глазами апостола, побуждая креститься, спасти заблудшую душу, успеть с этим дивным таинством к моменту, когда во всей своей грозной славе явится на землю Христос. И тогда вместе они встретят его ликующими псалмами.
— Мир чудесен, находится в руках Божиих. Как знать, мой друг, быть может, мы завершим свои дни монахами в этой разоренной ныне обители, которая воссияет из руин в божественном блеске…
Коробейникову было сладостно внимать. Он вдруг подумал, что многие борются за его душу, влекут в свою веру. Заместитель главного редактора Стремжинский манит в партию, обещая приобщить, к тайнам политики, повести к вершинам успеха. Друг Левушка зовет в церковь, побуждая креститься, обещая чудесное прозрение и нетленную жизнь. Но он повременит, еще задержится на таинственной развилке дорог, одна из которых ведет к великолепной, стомерной громаде, к прекрасной и пленительной башне, а другая — к тихому сельскому храму с покосившейся луковкой, с убогими сырыми могилками, на которых лежат поминальные гроздья рябины. Он сделает выбор, но не теперь, не сейчас. В романе, который ему предстоит написать, его герой, а значит, и он сам, Коробейников, пройдет путями искушений и трат и, умудренный скорбями, сделает выбор.
— Ну что, брат, давай опустошим наши чары… — Левушка тянул свой стакан.
Занавеска приоткрылась, и появилась жена Левушки, Андроника, со своим красивым изможденным лицом, на котором большие, греческие, обведенные темными кругами глаза глядели испуганно, умоляюще:
— Лева, ну я тебя слезно молю, ну не пей же!.. Это погубит тебя!.. Ты собираешься принять сан, проповедовать чистую жизнь, а сам отравлен этим пороком. Чему ты сможешь научить людей? Тебя ждет позор…
— Матушка Андроника, уверяю тебя, это последний стакан, который я выпиваю перед принятием сана, и затем отрекаюсь от вина. Не оно мной правит, а я им. Говорю ему «нет» и отвергаю его… Ты понимаешь, Миша, ее тревога естественна, — он обратился к Коробейникову, указывая стаканом на жену. — Она покуда не понимает меня, не понимает смысла моих деяний. Она гречанка, светская, суетная женщина. Мечтает о развлечениях, театрах, веселом обществе. А я предлагаю ей путь скитаний, путь служения. Нас ждет захолустье, какой-нибудь бедный глухой приход, где нет танцевальных залов и светских гостиных, но смиренное служение и подвиг… Милая моя жена, — он снова повернулся к Андронике, обратился к ней проникновенно и ласково, как говорят с малыми детьми или домашними, любимыми, несмышлеными животными. — Ты мне доверься. Постепенно ты полюбишь нашу тихую смиренную жизнь. Ты — гречанка. Значит, в твоей крови текут воспоминания о православной праматери Византии. Ты предрасположена к вере, будешь стоять на ней крепче меня, поддерживать меня в минуты моих слабостей…
— Миша, ну скажи ему, чтоб не пил… На что он себя обрекает? — безнадежно и горько произнесла Андроника, и ее темные, готовые к слезам глаза скрылись за пологом.
— Давай, брат, выпьем, — торопливо, жадно глядя на водку, сказал Левушка.
Они выпили, и Коробейников почувствовал, как полыхнуло у глаз голубое пламя и ярче, ослепительней засверкало ночное солнце.
— Братие! — Левушка вышел из-под полога, обращаясь к единоверцам. — Теперь, как мы и хотели, настало время отправиться к могиле Преподобного Патриарха Никона, помолиться и испросить у великого молитвенника Земли Русской ответных молитв.
Все они накинули кто кофты и куртки, кто поношенные пальто. Оставили жаркую, озаренную келью, ступили в ночной воздух.
Неровные гребни взорванных стен и башен, развалины монастырских соборов были похожи на черные скалы, накрытые сверху огромным дышащим небом. Пылали мириады созвездий, мерцали белые жемчужные сгустки, разноцветно переливались близкие и далекие звезды, проносились медные летучие искры, внезапно вспыхивали алые, голубые, изумрудные блески и тут же пропадали среди млечных туманов. Коробейников чувствовал святость этих ночных пространств, исходившую от них нежность, потаенное свечение, неуловимое для глаз, но ощутимое для любящего чуткого сердца. Великий Патриарх данной ему божественной силой совершил перенесение евангельских святынь в эти подмосковные поля и деревни. Коробейников вглядывался в ночь и видел на огромной многоцветной иконе евангельские жития.
То чудилась ему хвостатая голубая звезда, вставшая посреди неба, и под этой лучистой звездой, в деревенском хлеве Богородица, утомленная родами, подносила к груди новоявленное дивное чадо. То начинала мерцать река, озарялись омуты с дремлющей, серебряной рыбиной, в воду ступал Христос, и сверху на синем луче спускался сверкающий голубь. Вспыхивал прозрачными зарницами ближний лес, падали ниц апостолы, и над ними в голубом ореоле, в Фаворском сиянии являл себя грозный Бог. Гремели звоны, народ кидал на землю живые розы, в монастырские ворота на белой ослице въезжал Спаситель. Мерцала ночная листва Гефсиманского сада, дрожала в свете луны золоченая чаша, и Иисус подносил уста к переполненной чаше, проливал на одежды кипящее вино. Высоко, среди звезд, на кресте умирал Господь, струилась по ребрам горячая кровь, падала в далекие, за Истрой, луга, и в селе Бужарово, среди ночи у малой избушки расцветал от тех капель шиповник.
Коробейников качался на тропке, голова у него сладко кружилась, и он любил эти волшебные русские дали, благодарил Того, Кто посылал ему эти видения.
Они обогнули монастырь, остановились у стен, где открывался вид на близкий поселок. Желтели окна соседних домов. Катились по шоссе водянистые огни автомобилей. В ночное небо дико и пугающе, почти у самых монастырских стен, возносился белый громадный купол. Словно лежало непомерных размеров яйцо. В поселке размещался секретный научный институт, и под белой оболочкой купола скрывалась невидимая установка, то ли устройство для уловления молний, то ли громадная, шарящая в небесах антенна, посылающая к звездам закодированные земные сигналы. Вид купола был чужероден, нелеп, странен. Словно здесь побывало фантастическое существо, громадная змея или птица. Отложило яйцо, и теперь оно вызревало под туманными звездами.
— Вот она, твоя Мегамашина. — Левушка указывал Коробейникову на яйцо. — Гордыня человека, который тщится схватить рукой небесную молнию, вознестись выше Бога. Но, как Вавилонская башня, этот мерзкий кокон будет разрушен. Каждый раз, когда я его вижу, я молюсь: «Господи, сокруши Сатану!» И когда-нибудь, поверь, я буду услышан…
Коробейников не отвечал. Хотел угадать, что скрывается за глазурованной скорлупой. Какие вольтовы дуги проскакивают между невидимыми электродами. Какие плазменные вихри бушуют в коконе. Какой зародыш бьется внутри, стараясь выйти наружу. Восхитительная райская птица, в радужных перьях, с лучезарным хвостом. Или ужасный дракон с перепончатыми красными крыльями.
— Они разрушили Храм Бога Живого и возвели Храм Сатаны… — перекрестился Левушка и увел их всех от мерзкого яйца, в пролом стены, где они снова очутились среди звезд, лопухов и развалин.
У огромной сырой руины перед округлым проемом Левушка извлек из кармана пучок церковных свечек. Роздал сотоварищам. Они запалили робкие огоньки. Прикрывая ладонями, ступили в разрушенный храм. Звякали под ногами осколки изразцов. Мерцали на стенах остатки старинных узоров: глазурованные птицы, волшебные цветы, наивные львиные головы.
Из подземелья дул ветер, и Коробейникова слабо шатало вместе с огоньком свечи. Он хватался за стены, касаясь ладонью то глазурованных львиных губ, то холодного птичьего клюва. Видел, что и спутники его, колеблемые хмелем, ступают среди собственных зыбких теней. Только Левушка, зная дорогу в склеп, шел бодро, как поводырь, бросая косую тень.
— Вот здесь, — сказал он, останавливаясь перед плоской плитой, освещая ее выбоины, каменные морщины, рубцы. — Здесь покоится святой Патриарх. Помолимся, братие, о его душе, пребывающей в Райской обители, где он вкушает мед жизни вечной. Встанем, братия, на колени…
Он первый опустился на пыльную холодную землю, держа перед собой свечу, озарявшую его впалые щеки, мерцающие голубые глаза. Рядом грузно, мешком, опустился Верхоустинский, заслонив свечу непрозрачной литой бородой. Петруша Критский легко и счастливо поник, наклонив шею с маленькой беззащитной головкой. Князь для чего-то обмахнул штаны, с костяным стуком коснулся пола, отбрасывая длинную усатую тень. Помедлив, испытывая головокружение, последовал их примеру Коробейников, ощутив на пальцах горячую восковую капель.
— Иисусе пречудный, Ангелов удивление; Иисусе пресильный, прародителей избавление; Иисусе пресладкий, патриархов величание; Иисусе преславный, пророков исполнение; Иисусе предивный, мучеников крепосте; Иисусе претихий, монахов радосте; Иисусе премилостивый, пресвитеров сладосте…
Коробейников старался вызвать в себе сердечное чувство, разорвать изнурительные тенета думающего, вспоминающего, воображающего разума, чтобы перенестись в неразумное созерцание, открыть сердце для теплого, благостного дуновения. Но его разум отвлекался на блеск настенных узоров, на странные тени, падающие от согбенных фигур, на множество разбегавшихся мыслей и образов. Он видел бабушку в ванне, ее худые мокрые плечи, ковшик над ее головой. Архитектора Шмелева, стоящего в мельканиях проектора, и черный зазубренный ротор вращался у него на лице.
— Иисусе премилосердный, постников воздержание; Иисусе пресладостный, преподобных радование; Иисусе пречестный, девственных целомудрие; Иисусе предвечный, грешников спасение…
И вдруг, в темном сыром подземелье, среди холодного праха и мертвенных истлевающих стен, ярко и сладостно Коробейников увидел Елену Солим, ее обольстительную шею, сильную красивую ногу под шелковой тканью, приоткрытую загорелую грудь с нежной ложбинкой. Ощутил сладостный запах ее духов, ее прелесть, женственность и доступность. Желал ее до умопомрачения, зная, что им суждено оказаться вместе.
И потом, через несколько часов, когда уносила его в Москву утренняя электричка и он сонно и обморочно сидел на желтой дощатой лавке и мимо, занавешенные туманом, проносились березняки, болотца, спящие хмурые селения, он продолжал желать эту женщину. Целовал ее шею, грудь, приоткрытое округлое колено. Приближаясь к Москве, грешно и бесстыдно мечтал о ней, чувствуя ее приближение.
Часть вторая Хлеб
14
«Я — самоходный комбайн СК-4, заводской номер 275201, с размером жатки 4,1 метра, с пропускной способностью четыре килограмма зерновой массы в секунду, на десятом году моего бытия, утомленный и старый, стою на краю хлебной нивы, быть может, последней в жизни, и испытываю, как всегда, страх от ее белизны и нетронутости, предчувствие боли, ее и своей, высших, безымянно-жестоких сил, столкнувших нас в истребительной, смертельной работе.
Стою, грохоча красными трясущимися бортами, приподняв над землей мелькающий ветряный вихрь. Нива, как литое стекло, ожидает удара, первого надкола и хруста, чтоб начать ломаться и брызгать, искрясь надломами, покрывая меня порезами. И мне идти, глотая колючую жаркую боль, превращая ее в прохладу намолоченных зерен, оставляя сзади пустое, огненное шелестение ветра. Зерно льется в меня, распирает и бродит, стараясь раздвинуть мои железные бедра. В усилии и муке раскрывает мне чрево, выходит туго и мягко, ложась под солнцем. Исчезает, оставляя на поле копну ломаной, беззвучно кричащей соломы, слабую, сладкую боль в опустевшем железном нутре.
Солнце в белом свечении. Чувствую его, как раскаленный в кузнице шкворень, который касается моей шеи, спины, и от меня пахнет паленой металлической шерстью. Рычаги и колеса ходят и чавкают, раздувая шелушащуюся, ржавую кожу. Я бережно остужаю ее движением воды. В стертое до блеска нутро залетело, бушует живое, ломающееся зерно, рвущееся наружу вместе с перемолотым птичьим пухом, колючими семенами, кузнечиками. Раздувая зоб, в клекоте, просторно и плавно кружу по ниве, подчиняясь прикосновениям тяжелых угрюмых рук.
Это он, Михаил Коробейников. Чувствую его усталость и жажду. Откупорил флягу и пьет. Капли срываются с его губ, мгновенно высыхают, едва коснувшись меня.
Мне скоро умереть и исчезнуть, а ему еще жить. И хочется знать, как будет ему без меня. Я несу такое знание о нем, такую повесть о нем, драгоценный, укрытый от всех намолот. Когда меня рассекут и разрежут, разорвут и растащат крюками, из ржавого сора выпорхнут белоснежно его ночи и дни, незримая миру пшеница…»
Коробейников, выполняя задание редакции, колесил по казахстанской степи, собирая материал о целинной жатве. Подсаживался на трясущийся мостик красного самоходного комбайна. Перескакивал в грузовик, везущий на ток пшеницу. Лежал на прохладных грудах зерна, глядя на туманные звезды. Вечером сидел в убогой придорожной гостинице над белым листком бумаги, фиксируя свои впечатления. Расщеплял свою личность надвое и одну половину как в теории переселения душ, помещал в судьбу комбайнера, того, с кем весь день кружил на пшеничной ниве. Другую половину вдыхал в металлический короб комбайна, продолжая рискованную работу по одушевлению машины. Художник, он часть своей человеческой сущности собирался отдать машине, наделив ее болью и верой, ощущеньем добра и зла. Риск заключался в том, сможет ли он вернуться обратно — расстаться с машиной и снова стать человеком. Или машина завладеет им навсегда, и он, потеряв свою душу, будет вечно вращаться среди угрюмых валов и колес.
«Помню Михаила в первое хлебное лето, которое исчезло потом среди бесконечных зим и метелей. Он был молод, его мускулы посылали в меня мягкую могучую силу, я переводил ее в радостный стрекот и гул. Слышал над собой его внезапную песню, сам был алый и свежий, носил на себе Михаила без устали, подставляя спину ветру, брызгающим блестящим дождям. Оба ждали, когда же оно случится, то, что неслось на нас в ветряной степной карусели.
Однажды подкатил грузовик. Распахнули борта. В кузове был постелен ковер. Пели, плясали. Михаил кивал благодарно. Смотрел на ту, что топочет, выплескивая из ковра разноцветные брызги. Когда спустилась на землю, сказал:
— Дома небось все половики исплясала? Как зовут тебя?
Быстрым розовым пальцем черкнула мне по крылу — Валентина. Вспорхнула на мостик, и они сделали круг по ниве.
Я бежал, раздувая хлеба, легкий, сильный. Они тихо смеялись. Я чувствовал как люблю их. Конский череп, попавшийся мне под колеса, слабо проржал. Я толкнулся о землю, поднялся под тучу к парящей семье ястребов и кружил у белых туманов. И, глядя на глубокую ниву, на малую искру ковра, мы верили — нас всех ожидает небывалое счастье.
До сих пор в моем ржавом крыле теплится и звенит ее имя.
Теперь я разболтан и стар. Когда со скрипом и чадом качу по полю, из меня выпадают винты и гайки, высыпается сквозь щели зерно. Колос ломается от неверных ударов моего мотовила. К сердцу движется липкий масляный тромб, я задыхаюсь, чувствуя его приближение, мотор начинает сбиваться, сочась дурной липкой кровью. Я двигаюсь в обмороке, вслепую, готовый упасть и разбиться.
Поворот рычага и педали. Я могу отдышаться. Тромб отступает. Не знаю, сколько я еще продержусь. Должен убрать эту ниву до того, как наступит крушение.
На поле прикатил бригадир, измятый, исколотый сорным мякинным ветром.
— Ты свой чертов шкаф завари, а то не напасешься зерна. — Он ткнул меня сапогом, подбросив на ладони горстку просыпанной мною пшеницы.
Вечером на площадке, куда меня пригнали, подошли двое механиков. Кувалдой нанесли два коротких страшных удара в ребра. Я ослеп от боли, сжимая бока. А они опоясали меня стальной полосой и стали жечь автогеном. Наваривали крепь, так что трудно было дышать. Краснели ожоги, я кричал. Новенький соседний комбайн, в первый раз видя такое, покрылся холодной росой. Механики, окончив работу, устало ушли. А я остался, неся на бортах малиновые гаснущие пятна.
Всю ночь дул ветер, остужая меня, слабо гремя железом. И боль постепенно становилась частью любви к этим двоим, ушедшим, к спящему в копне Михаилу.
В ту исчезнувшую звездную осень мы любили оставаться в степи. Михаил лежал на копне. Мой прожектор долго, призывно светил. У прожекторной чаши толпились слюдяные прозрачные скопища. Совы перевертывались в луче, как подстреленные. Зайцы смотрели зачарованно зелеными глазами. Наконец вдалеке, чуть заметное, возникало туманное облачко. Появлялась Валя, медленно выбредала в луче. Михаил принимал ее, мокрую и холодную, окутывал курчавой овчиной.
Мой маяк угасал. Степь лилась и плескалась, как море. Черкала мне о борт тусклой рыбиной, забрасывала на меня голубую неясную водоросль. Их копна чуть светилась, как крохотный остров. Начался дождь, слабый, как туман. Они расстелили овчину под моими колесами. Я накрывал их просторным, не остывшим от дневного движения телом. Она тронула меня и сказала:
— Да он у тебя живой, хлебом пахнет…
Я счастливо гудел в дожде.
Утром она ускользнула, оставив ситцевый поясок. Михаил повязал его, как флажок. Мы кружили по ниве, и он целовал поясок, а я сквозь грохот и лязг чувствовал на себе пеструю перевязь…»
Коробейников писал героев по образу своему и подобию. Вселялся в чужие жизни, как в полые оболочки, начинал существовать внутри них. Наделял их своей судьбой, дарил им высшие состояния, подводил их к смерти, рискуя умереть вместе с ними. Это была опасная магия, но именно эта опасность заставляла его заниматься творчеством. Он рисковал не только собой, но и женой, чертами которой наделял других женщин, и детьми, которых любил безмерно, но при этом отдавал их во власть опасного вымысла. Иногда, предаваясь неудержимой фантазии, ему казалось, что он может их потерять.
«Я брошен на ниве в холодном ливне. Он колотит меня по бокам, заливает за жестяной воротник, течет по груди, копится на дырявом поддоне. И вдруг хлюпающей толстой струей протекает на землю.
Копны, пропитанные дождем, стоят, словно бочки с водой. Нива отяжелела, брать ее будет трудней. Мои зубья, сточенные до десен, предчувствуют ломоту ледяных, наполненных влагой колосьев.
Бабочка, сырая и слипшаяся, вползла в мою ржавую щель. Раскрыла с трудом красноватые перепонки, пульсирует росистым тельцем. Я чувствую среди масляных валов и колес ее малую, слабую жизнь.
Я знаю, что скоро умру. Думаю постоянно об этом. Чувствую смерть, как внезапное, готовое наступить упрощение моего механизма. Мне кажется, что я так просто и несложно построен, так наскоро сшит, что мое исчезание произойдет незаметно и быстро.
Но иногда мне кажется, что задуман я огромно и ярко. На мое создание пошло так много труда и мыслей, что смерть будет не в силах меня одолеть, она сотрет лишь самый верхний и неглавный чертеж. Под этим чертежом таятся другие, которых смерть уже миновала.
Я знаю, что прежде я был кораблем, самолетом. Я несу их в себе.
Когда я умру и расплавлюсь, моя гибель не коснется чистейшей стали, ей передам я клад накопленных прежде жизней.
Дождь кончился. Край тучи еще моросил разноцветно, но горячее солнце уже сушило мне спину.
Бабочка почувствовала сквозь железо тело. Выползла, высыхает, утончаясь, возвращая себе яркость и легкость. Вспорхнула, оставив на мне прозрачную капельку.
Михаил идет по стерне, тяжелый и черный, с тусклым светом воды на кирзе.
Неужели, темный и тусклый, он был когда-то бел и румян?
Их зимняя свадьба. Сладкий дым их свадьбы, который я ловил, стоя за селом в сугробе. До меня долетали душистые запахи дыма из их трубы, и я знал, что в саду под окном закололи свинью, варят брагу, расставляют столы. Звяк и бой каблуков, ухарский свист, громовые песни и застольные вздохи. На цепях метались и лаяли собаки. Тревожно мычали коровы.
Под вечер, когда лед на речке позеленел, а солнце на мой сугроб легло полосатым ковром, свадьба пошла по дороге. Среди размалеванных и хмельных гостей я увидел их, белолицых, держащих румяные яблоки.
— Миш, посмотри, не твой? Грустно ему, поди-ка, зимой? Ни поля нет, ни пшеницы, — сказала она, указывая в мою сторону яблоком.
— Ты моя пшеница, — засмеялся он.
Я смотрел, как течет их свадьба. Благодарил их и славил. А ночью видел, как из звезд на хрупкой блестящей ветке свисают над их крышей два яблока.
Я бросаю из ноздрей черную копоть. Бегу на коротких кривых ногах. Несу над землей лязгающую зубастую пасть. Набиваю ее пылью и хрустом. Мое брюхо разбухло от тяжести, вот-вот разорвется и вывалится требуха. Я бью эту ниву, стараясь ее свалить, но мне кажется, у меня за спиной она встает еще гуще и жестче.
Смеясь надо мной, подкинула ржавый трос, раскрошивший мои резцы, обломивший деревянные губы. Я остановился, беспомощно чавкая, пережевывая сталь, кровоточа изорванным ртом.
Михаил выпутал трос и, вздыхая, трогая мои десны и губы, очистил от осколков, вставил два новых ножа, тонкой медью срастил мотовило. Делал быстро, аккуратно и ловко, жалея меня.
Я напрасно сердился на ниву. Я убиваю хлеб, а он убивает меня, но я не испытываю к хлебу вражды. Как и он ко мне. Если я бываю жесток, то без злобы.
Мне страшно, когда в моем мотовиле бьются и погибают стрекозы. Страшно, когда зубья мои краснеют соком порезанных перепелок и зайцев. Каюсь перед ними, ибо мы, машины, железные звери земли. Мы все друг на друга похожи, ибо сделаны один для другого. Я похож на хлебную ниву, она на Михаила, а Михаил похож на меня. Ночами являюсь ему во сне. Огромный и красный, бегу по белым хлебам, а он стоит за штурвалом, белолицый, в красной рубахе.
Ночью, когда все успокоились, готовясь отдохнуть и забыться, к нашей стоянке подъехал трактор, подцепил старый, с перегоревшим мотором грузовик, который стоял всегда рядом со мной. Поволок. Тот послушно покатил следом, с легкими стариковскими стонами, дребезжа изношенной, полуживой сердцевиной. Мы молча провожали его, зная, что больше никогда не увидим…
В то лето степь бушевала, как стремительная зеленая буря. Брызгала дождем, хлебной пыльцой, свистящими молодыми колосьями. Рвала на себе зеленые сырые одежды, возникала то в красном, то в синем.
Михаил занимался ремонтом. Являлся по утрам, казался удивленным и ждущим. Замирал, держа инструмент, вышептывая что-то губами. Вдруг принимался холить меня, чистить и мыть.
Раз явилась к нему жена в колокольном широком платье. Встала, коснувшись меня животом. Смотрела на мужа, как тот, перепачканный маслом, держит блестящий подшипник.
— Миша, скоро уже, — тихо сказала она.
— Аккурат пойду молотить.
— Как назовем?
— Если девочка — Настенькой, а мальчик — Васюткой.
Она прижималась ко мне животом, и я сквозь тонкое платье, сквозь дышащее живое тепло ловил в ней с испугом другую жизнь, бившуюся о меня, отзывавшуюся во мне слабым эхом. В моих темных неведомых недрах, где таились самолет и корабль, и дальше, глубже, откликалась невнятная память о чем-то былом и огромном, к чему я был прежде причастен.
Моя хребтина гнется в ломоте, готовая треснуть. Топливо не сгорает, а черными брызгами летит на стерню. Михаил вцепился в мой железный загривок, сам черный и страшный, с наждачным лицом, с оскалом желтых зубов, сквозь которые со свистом вдыхает пыль.
Мне хочется упасть, ткнуться в землю. Но я знаю, что за мной прикатит тягач, утянет туда, где меня разрубят на стальные окорока, кинут в красное варево, где вскипают обломки колес и моторов. И страх при мысли об этом заставляет меня бежать.
Но не только страх, но еще и другая, записанная у меня на лбу то ли ложь, то ли истина — что смысл моей жизни в том, чтобы биться в степи, добывать урожаи, умирать за этой работой.
Эта истина не только моя. Она справедлива для людей и машин. Она досталась мне по наследству. Ею наградил меня самолет, весь недолгий стремительный век потративший на небесную жатву.
Я думаю о самолете, подарившем мне жизнь. И кругом — не хлеб, не шум мотовила, а белая туча и воющий блестящий пропеллер.
Летчик гонит меня по дуге, вычерчивая в небе спираль. Другой самолет идет по касательной к туче. Шлю ему вслед огненный пунктир пулемета. Распадаемся в разные половины неба, сохраняя чертеж атаки, снова тянемся в точку встречи, видя ее в пустоте сквозь перекрестье прицела.
Яростный клекот сближения. Другой самолет пулями терзает мой фюзеляж, выпарывая лоскутья. Я обкалываю его стабилизатор, осыпая блестящим сором. Он вгоняет мне в плоскость очередь, соскабливая и сдирая обшивку. Я вскрываю ему подбрюшье, набиваю огнем и дымом. И еще живые, на последнем отрезке сближения, коснулись моторов и баков, превращаясь в два длинных растянутых пламени.
Раскрылись два парашюта. Им, двоим, еще продолжать стрелять и биться. А я в падении прощаюсь со своим повелителем.
Очнулся. Чавканье, хрип. Выпадает сырая копна. Под кровельной жестью облупленных и измятых бортов чуть слышно звенит истребитель.
В ту осень, бог знает откуда, появились крохотные желтоголовые птички. Усаживались на хлеба, сгибая колосья. Будто их принесло косым и случайным ветром.
Михаил все оглядывался, все смотрел за бугры, где осталось село, порывался туда укатить. Но нива держала, и порхали над копнами желтоголовые птички.
На дороге возник грузовик. Несся одиноко в пыли, словно горела степь. Из кабины крикнули:
— Миша, Валентина твоя рожала!.. Миша, Валентина твоя померла!..
Михаил бросил меня и умчался, а я стоял на меже, лязгал и крутил мотовилом. Было одиноко и жутко молотить пустой воздух, выжигая вхолостую горючее. И свистели в темноте невидимые желтоголовые птички.
Ночь, молотьба. Чувствую, что Михаил заснул на мостике. Бегу, стараясь не растрясти его сон, минутное его забытье.
Верю, что не умру. Моя жизнь, бесконечная в прошлом, бесконечна и в будущем. Залогом тому бесцветная безымянная сталь, из которой я состою. Я бессмертен в бессмертном мире. Я самоходный комбайн с заводским шестизначным клеймом, построенный для временной цели, но мое бессмертие в том, что я создан из стали, готовой распустить в огне все клейма, формы и цели, той стали, что бесцветно кипит под камнями и травами в бездне земли, реет в голубизне метеорами, наполняет мир неслышной магнитной музыкой.
Михаил заснул за штурвалом. Ему снятся мать и отец, оба молодые, нарядные, играющие с ним на траве.
Я тоже заснул на бегу. Мне приснился корабль, белоснежный, в разноцветных флагах, плывущий по синей воде. И такая любовь к кораблю, к слюдяному дрожанию над трубами, к красному поясу вдоль сильного белого тела.
Очнулся. Молотьба. Смешанный с гарью дождь. Михаил, хрипя и кашляя, жмет на рычаги и педали…
…Он погибал эти годы. Так черная буря падает на готовое к севу поле. Терзает его и сосет, выхватывая соки и силы, выскабливая до твердых песчаников. И там, где замыслен хлеб — красная лебеда и полынь тянут из камня жар. Так выгорал Михаил.
Он являлся захмелевший и шаткий. Рылся, бормоча, в инструментах. Вдруг запевал хриплую песню. Или забывался на грязной ветоши. Однажды выхватил ключ и принялся бить меня свирепо и тупо, кляня и ругаясь. А то прижмется лбом к моему железу и плачет.
В нем что-то обломилось, опадало и гибло. И вдруг затихло, будто наступила зима. Он нес свою зиму несколько лет сквозь весны и жатвы, и трудно было понять, что там под снегом — застывшие зерна или пустая стерня.
Однажды, на третий год, когда выходили на ниву, он свернул с большака к кладбищу. Остановился пред чистой могилой с серебристой невысокой оградкой. Слез, бережно поставил стеклянную банку с цветами.
— Валя, слышишь меня? Это от меня и от Настеньки…
И я понял, что зима его подходит к концу и в сонных зернах начинается рост и движение.
Каждую осень бывает день, которого жду не дождусь. Воздушная даль над хлебами начинает волноваться сильнее. В ней, в синеве, возникает движение, плотное стремление и бег горячих тел и голов. Сайгачий табун, отделяясь от горизонта, мчит по хлебам. Рогачи взмывают свечами, озирая путь впереди, подгибая тонкие ноги. Самки чутко хватают ноздрями разорванный воздух, окружают серпом молодняк, уводя его к югу.
Смотрю им вслед, молю, чтобы их миновали встречные залпы.
Нива, казавшаяся бесконечной, стала быстро убывать. Две-три тонкие последние строчки. Бушевала, и вот ее нет, превратилась в зерно. Но и его уже нет, остались лишь сожаление о зерне и о ниве и огромная пустота и усталость.
Я затих. Михаил сидел, распустив пятерни, закрыв глаза, в которых было кружение, мелькание.
Тонко запела труба. Пионеры шли по стерне. Окружили комбайн. И, чувствуя, как умираю, я старался запомнить — сжатая степь, желтая над степью заря, в ней черная стая галок, девочка с красным галстуком. Протягивает моему комбайнеру зябкий букетик:
— Папка, это тебе… Прокати меня, папка…
Он посадил ее рядом на мостик. Из последних тающих сил я покатился, сжиная тонкую гриву пшеницы. И вдруг лошадиный череп, попавший мне под колеса, радостно и тихо проржал. И брызнуло светом, и мне показалось, что из усталого, старого тела у меня вырастают красные крылья и в счастливой буре мы несемся под белой тучей. Внизу пшеничная, не имеющая очертания нива, и мы никогда не умрем».
Коробейников сидел в убогой придорожной гостинице, посреди ночной казахстанской степи. На пустой лист бумаги, опалив о горячую лампу слюдяные прозрачные крылья, бесшумно упало крохотное зеленоглазое создание.
15
Коробейников явился в газету в тот день, когда на просторной, пахнущей краской полосе появился его «писательский» очерк о целинной жатве. С обилием красочных сцен, романтическим изображением людей и машин, с философией социальных проектов, где освоение целины приравнивалось к созданию океанического флота и высадке на Луне. Коробейников радовался этой крупной публикации. Принимал поздравления от газетчиков, одни из которых были искренни и сердечны, в других же проглядывала ревность к новоявленному фавориту. То же отношение к себе, как к баловню и любимцу, Коробейников обнаружил на пленительном лице полинезийской красавицы, восседавшей в секретарском кресле у кабинета Стремжинского. Взятая в плен экспедицией белых людей, она с первобытным талантом дикарки научилась ублажать прихоти утомленного командора. Была строга и неприступна для низших журналистских сословий и обольстительна для высшей касты. Улыбнулась Коробейникову обворожительным фиолетовым ртом, плеснула черным стеклом волос и с наивным изумлением произнесла:
— Миша, неужели столь романтично выглядит хлебная жатва? — И тут же доверительно, как другу и посвященному, добавила: — Проходите, он ждет.
Стремжинский пребывал в состоянии кратковременной праздности после подписания очередной газетной полосы, о чем свидетельствовала зеленая электронная цифра на табло, напоминавшая водоросль. Он был без пиджака, из закатанных рукавов торчали мясистые волосатые руки, галстук был сдвинут. На тарелочке перед ним красовалось большое яблоко. Он внимательно его рассматривал, словно решая, на сколько частей следует рассечь ножом сочный румяный плод.
— Здравствуйте, мой друг. — Стремжинский поднял на Коробейникова большие глаза упрямого буйвола, в которых залегли два тонких рубиновых сосудика. — Своей публикацией вы заслужили того, чтобы сесть. — Он усадил Коробейникова и некоторое время разглядывал. Но если на яблоко он смотрел рассекающе, выискивая линии для предполагаемых надрезов, то Коробейникова он рассматривал взвешивающе, как некую целостность. Так механик оглядывает деталь перед тем, как вставить ее всю целиком в механизм. Этот оценивающий взгляд наводил Коробейникова на мысль, что Стремжинский приготовился к важному разговору и в последний раз прикидывает, стоит ли его начинать. И еще одна мысль, вслед за первой: если Стремжинский разрежет яблоко и одну половину предложит ему, то это будет означать, что между ними установился новый уровень доверительности по сравнению с тем, что обнаружился при встрече в кружке Марка Солима.
— Должен не без удовольствия сообщить, что ваш «хлебный» очерк вызвал одобрение в ЦК. Только что мне оттуда звонили, и я полагаю, наша работа скоро ляжет на стол секретаря по идеологии. Задуманный нами проект находит поддержку. В мире есть не только Чехословакия, вопли диссидентов, антисоветская истерия на Западе, но и целинная благоухающая степь, мужественные трудолюбивые люди, вековечный русский хлеб…
Так, несколько патетично, в несвойственной для него манере, начал разговор Стремжинский. В этих словесных приготовлениях к основному разговору Коробейников усмотрел сходство с тем, как утаптывают снег вокруг места, где собираются разложить костер. Партийное здание ЦК, серо-сумрачное и помпезное, с золотыми литерами над подъездом, являлось таинственным вместилищем власти — той думающей и творящей субстанции, которой служили жрецы, подчиняясь строгой, невидимой миру иерархии. Один из них, именуемый секретарем по идеологии, с хищной головой беркута, каким изображали его на больших полотняных иконах, был похож на древнеегипетского бога. Мысль о том, что в этом храме могли о нем знать, волновала Коробейникова. В лабиринтах и анфиладах храма, напоминавшего огромную окаменелую ракушку, тускло-серую снаружи и нежно-перламутровую внутри, кто-то торжественно ступал в эти минуты, держа перед собой ритуальный поднос. На подносе лежала газета с напечатанным «хлебным» очерком. Верховный жрец с головой утомленного беркута, среди светильников и скрижалей, слышал гулкое приближение шагов. Таинственная субстанция, помещенная в хрустальную колбу, волновалась, дышала, пульсировала, сообщая жрецу свою бессловесную волю.
— Вы помните разговор у Марка Солима? Мы готовим серьезную идеологическую статью против «западников» и «славянофилов», «левых» и «правых» уклонистов. «Хромой барин» показал мне первый вариант статьи, которая нуждается в доработке. В целом же он справился с задачей блестяще. Однако, тесня фланги, нам следует усилить магистральное направление. Господствующая идеология должна избавиться от обветшалых слов, мертвых формулировок, утомленных неэффективных людей. Есть огромный социальный запрос на писателей-государственников. Мы готовы поручить им ответственные темы, открыть источники информации, допустить туда, где государством совершаются великие деяния. Вы, мой друг, подпадаете под эту категорию…
Коробейникову представлялась секретная лаборатория, где на столе был развернут чертеж, над которым склонились творцы, разглядывая устройство огромной спроектированной ими машины, где четким рейсфедером, с точными параметрами и сечениями, была изображена деталь «Коробейников». Эту деталь сконструировал Стремжинский и встроил в машину. Гордился изобретением, получил на него патент. Коробейников, которому предлагалось стать деталью в огромной машине, не испытывал протеста и недовольства. Соглашался стать изобретением Стремжинского. Притворялся деталью, как притворяется мертвым жук, чтобы его не склевала сильная хищная птица. Став деталью, проникал внутрь машины, получая доступ к ее познанию. Став мнимой частью машины, узнавал ее устройство. Приближаясь к загадочной субстанции власти, он, художник, получал возможность ее исследовать.
— Мы готовим новый курс газеты, который, по меткому выражению Марка Солима, получил кодовое название «Авангард». Хотим создать новые магистрали и коммуникации, с новой эстетикой, новым наполнением, как это было в двадцатых годах, когда накопившаяся в обществе революционная энергия хлынула на холсты художников, в тексты писателей, в киноленты режиссеров. Тогда было создано искусство мирового значения, ставшее эмблемой социализма. В каком-то смысле мы хотим повторить этот опыт. Для этого собираемся показать все самое лучшее, что было создано в недрах советского строя и что пока еще находится за семью печатями. Пора, как говорится, показать товар лицом. Однако этому товару нужен привлекательный товарный вид. Вам, одному из немногих, откроют объекты, доселе абсолютно закрытые. Я говорил о вас в политических кругах…
Вы получили доступ в салон Марка Солима, случайно или в результате чьей-то тонкой интриги. В любом случае, мой друг, это весьма престижно. С виду это неформальный кружок приятелей, попивающих виски, исподволь, вожделенно поглядывающих на очаровательную хозяйку, развлекающих друг друга анекдотами, каламбурами и забавными историями. На деле же это отдел кадров, где кропотливо подбираются исполнители для деликатных политических и культурных проектов, а также отправляются в отставку сильные мира сего, для которых иногда подбирается катафалк и ниша в кремлевской стене. Если угодно, это политический предбанник, где отдыхают вельможи в белых покровах. А за прикрытыми дверями бани стоят такой пар, хлюпанье кипятка, свист веников, что от этого свиста глохнут Америка, Европа и Азия. В этой раскаленной политической бане идет жестокая борьба. Пусть вас не обманывает дружная когорта вождей в шляпах и шапках-пирожках на трибуне Мавзолея. Днем матерчатые портреты членов Политбюро мирно висят на фасаде ГУМа, а ночью они набрасываются друг на друга, и утром охрана Кремля убирает лохмотья, заменяя истерзанные портреты новыми. Во власти идет непрерывная схватка, которая началась среди соратников Ленина, тайно продолжалась среди приближенных Сталина, стоила карьеры Хрущеву, не утихает в ближнем окружении Брежнева. Нужно хорошо ориентироваться в этой борьбе, коль скоро вам предложат заниматься актуальной идеологией и политикой…
Коробейникову предлагалось заглянуть в таинственный, околдованный храм власти с золотой надписью над гранитным входом. Предлагалось ступить в неведомые лабиринты со множеством ответвлений, тупиков, ложных коридоров и коварных ловушек. Для этого опасного странствия требовался поводырь, знаток лабиринта, служитель храма — Стремжинский. Двойственность этого человека объяснялась тем, что в одних своих проявлениях он являлся азартным политиком, неукротимым работником, утонченным сибаритом. В других же был жрецом, облаченным в темную мантию, на которой серебром был вышит циркуль. Этот второй, с серебряной эмблемой, возьмет Коробейникова за руку, словно слепца, поведет по спиралям и лабиринтам, уберегая от падений, пока не попадут в освещенную хрустальную залу, где в прозрачной колбе пульсирует, перетекает и дышит загадочная субстанция власти.
— В этой схватке политических группировок, если вы так или иначе в нее втянулись, важно не оступиться. Важно поставить ногу на твердую, а не на мнимую ступень, которая вдруг начнет проваливаться, и вы рухнете. Если мало собственного опыта, поможет опыт другого, например, мой опыт. Я стану вам помогать, но я должен быть в вас уверен…
Коробейникова охватила тревога. Ему предлагали подписать договор, текст которого был неразборчив. Обещали поддержку в том, что было сокрыто. Его программировали для опасной работы, не открывая ее сокровенную суть. Он согласился превратиться в деталь, которую вставят в машину, но ядовитая среда и огонь окислят машину, деталь намертво врастет в механизм и сгорит вместе с ним. Коробейников, как зверь, ощутил эту угрозу гибким хребтом, от чуткого копчика до похолодевшей затылочной кости.
— За власть в стране борются партия и КГБ. Эта борьба не видна невооруженным глазом. Госбезопасность формирует свои прослойки в армии, экономике, дипломатическом корпусе и в культуре. Создает информационные потоки, управляя политическими решениями и поступками лидеров. Ослабляет позиции неугодных преемников Брежнева. Чехословацкий кризис используется госбезопасностью для ущемления партийной группы, для усиления своей роли во всех сферах внутренней и внешней политики. После разгрома Берия и вытеснения спецслужб из политики, госбезопасность скрытно реализует реванш. Я небезучастен к этой борьбе. Вижу опасность в усилении КГБ, который рвется управлять государством. У меня репрессирован отец, расстрелян дядя, я помню, что такое ночные аресты. «Авангард», о котором я вам говорил, есть форма противодействия КГБ… Борьба, в которую вы, быть может сами того не сознавая, уже вмешались, ставит вас перед выбором. Вам придется выбирать между партией и КГБ. Или вы вступите в партию, получив от нее высшее доверие, высшее знание, путь к пониманию самых закрытых явлений, а также путь к литературному успеху и славе, которой вы, обладатель таланта, достойны. Либо, если вы отвергнете партию, вам придется стать агентом КГБ… Я вам сказал сейчас достаточно много. Быть может, избыточно много для первой откровенной беседы. В заключение сообщаю, что принято решение показать вам закрытые оборонные объекты. Военную техносферу, где сконцентрированы высшие достижения социализма, поставленные на службу национальной обороне. Это огромная степень доверия, которая потребует от вас не просто уменья описать стратегический бомбардировщик или палубный авианосец — здесь у меня нет никаких сомнений, — но и проникнуться до мозга костей государственной идеей, как говорил философ Ильин. Однако нужна гарантия, что вы окажетесь на высоте этой роли. Гарантией будет служить не секретный допуск, подготовленный органами КГБ, а ваше вступление в партию. На иной основе наше общение невозможно и будет выглядеть как нонсенс…
Стремжинский умолк, изложив Коробейникову тезисы их будущего взаимодействия, ограничив это взаимодействие рядом непременных условий. Коробейников, глядя на тяжелое, умное, в грубых складках лицо Стремжинского, на его выпуклые, фиолетовые глаза утомленного быка с кровавыми струйками в синеватых белках, вдруг в прозрении, с больным состраданием подумал: этот могущественный, виртуозный человек, изощренно управляющий сознанием миллионов людей, беззащитен и несвободен. Встроен в огромную анонимную Мегамашину, как одна из ее деталей. И если деталь вдруг выйдет из строя, или перестанет служить машине, или машине потребуется иная деталь, его извлекут из огромного механизма и выбросят на свалку обломков. Поставят на его место другую, более совершенную деталь, быть может, деталь «Коробейников».
— Вот так-то, мой друг, — улыбнулся Стремжинский, взглянув на электронное табло, где одиноко дрожала зеленая цифра.
— Красивое яблоко, — тихо произнес Коробейников, кивнув на плод с холодным глянцевитым румянцем.
— Хотите? — встрепенулся Стремжинский. Хрустя ножом, рассек яблоко. Протянул половину Коробейникову.
16
Наступил долгожданный, головокружительный день, когда из Австралии в Москву прилетала Тася, для Коробейникова — тетя Тася, чудом обнаруженная среди огромного, клубящегося, потустороннего мира, куда канула и бесследно исчезла половина рода. Корабли, переполненные обезумевшей толпой, остатки разбитых армий, вереницы беженцев и погорельцев, — все бежало, уплывало, спасалось за границей, преследуемое конниками, стреляющими бронепоездами, строчащими пулеметами и тачанками. Тася, как печально, вполголоса говорили о ней, уехала из советской России позднее, на стажировку в английский колледж. Да так и осталась на другой половине земли, заслоненная дымом войны, лязгнувшим «железным занавесом», гулом и грохотом, разломившим мир на две несопоставимые истории, на два несоединимых времени, в каждом из которых, словно чаинки в двух разных чашках, кружились судьбы разделенных семейств. Однако чудо случилось. Через четыре десятка лет Тася возвращалась в семью, от которой осталась ее родная сестра Вера, двоюродная сестра Таня — мать Коробейникова, бабушка Коробейникова, приходившаяся Тасе тетушкой, и много могил, известных и безвестных, где упокоились некогда сильные, добродушные и счастливые люди, что так любили очаровательную, смешливую девушку с белым бантом, в милой кокетливой позе сидящую на качелях. Когда мать рассматривала этот снимок в альбоме, ее глаза начинали тихо светиться и наполнялись слезами.
С утра в квартиру в Тихвинском переулке пришла тетя Вера, строгая, чуть ходульная, с манерами старой девы, коей она и являлась, проведя молодые годы сначала в уральском лагере на лесоповале, а потом на долгом поселении. Прямая, с плоской спиной и грудью, большим носом и седыми, расчесанными на прямой пробор волосами, она облачилась в старомодное долгополое платье, придававшее ей сходство с пожилой классной дамой. Ее волнение в связи с предстоящей встречей выражалось в том, что она застывала посреди комнаты и по многу раз бессмысленно протирала полотенцем тарелку из фамильного сервиза, забывая поставить ее на стол.
Мать, возобладав над болезнью, тревожно и вдохновенно светилась, став молодой и красивой в своем торжественном темно-малиновом наряде, который так любил Коробейников. Занималась изготовлением домашней «молоканской» лапши, раскатывая скалкой тонкое ароматное тесто, посыпала его белой мукой, рассекая живой, нежный пласт на тонкие лепестки и обрезки. Молоканская лапша должна была породить у Таси воспоминания о многолюдных семейных обедах в их прекрасном тифлисском доме и воскресить дух исчезнувшей, поредевшей семьи.
Бабушка, торжественная, в темном, пахнущем нафталином платье, сидела в кресле с величавым лицом прародительницы, готовясь к ниспосланному Богом свиданию, и ее губы беззвучно шевелились, словно она читала молитву. Мать подходила к ней, спрашивала того или иного совета, касавшегося изготовления лапши, толстотелых пирогов с капустой и яблоками, а также клюквенного мусса, именовавшегося в семье, на немецкий манер, «Химмельшпайзе». Наклонялась к бабушке, расправляла ее белый, кружевной воротник, купленный когда-то в Париже.
— Ну что, пора. — Мать в который раз посмотрела на часы, обращаясь к Коробейникову. — Поезжай в аэропорт, а то, чего доброго, опоздаешь.
По дороге, сидя за рулем «Строптивой Мариетты», он пребывал и сладостном предвкушении встречи, один из немногих, кто продлил на земле некогда плодовитый род. Поколение бездетных дедов и бабок поредело в тюрьмах и ссылках, в изгнании и в изнеможении невыносимых лет. В следующем звене род окончательно обмелел и выродился — не вернулся с войны, сгинул в лазаретах, в женской своей половине не обзавелся женихами, чьи молодые кости умостили поля сражений от Волги до Одера. В его, Коробейникова, жизни род сузился до робкого ручейка, струящегося в хрупком русле под бережной опекой мамы и бабушки. И только рождение двух его детей, его деятельная чадолюбивая жена Валентина вселяли надежду, что род не иссякнет. Слившись с другим, обмелевшим родом, начнет прибывать, наполняться жизнью.
Он оставил «Москвич» на стоянке и сквозь окно аэропорта смотрел на просторное зеленое поле с каменным, напоминавшим цветок сооружением, куда причаливали утомленные заморскими перелетами лайнеры, своими силуэтами, размерами, цветными клеймами отличавшиеся от знакомых советских марок. Вслушивался в мегафонные объявления на русском и английском, ожидал прибытие рейса из Сиднея. И когда наконец над полем снизилась большая, похожая на летающую корову машина, с отвислым брюхом и тяжелыми, словно вымя, двигателями, он угадал самолет из Австралии и представил, как устало сидит в кресле пожилая женщина, повторявшая тетю Веру чертами фамильного сходства.
Он толкался в толпе встречающих, отделенный перегородками, стенками, поручнями от далеких клубящихся пассажиров, над которыми совершалась продолжительная и мучительная процедура. Сначала их ярко освещали и долго, недоверчиво рассматривали из-под околышков жесткие глаза пограничников, перелистывавших паспорта с чужими гербами, доводя встревоженных визитеров почти до обморока. Затем они бестолково вылавливали на конвейере свои переполненные тюки и огромные кожаные чемоданы с колесиками и волокли их к таможенным пунктам, где подозрительные чиновники в форме рылись в дамском белье, вспарывали упаковку кассетников, вываливали на пластмассовые столы вороха диковинных заморских изделий, пугая хозяев резкими, на плохом английском, вопросами. Их подвергали дезинфекции, карантину, термической и химической обработке, помещая то в огненную печь, то в морозильник, уничтожая принесенные вирусы, тлетворные вещества, предохраняя от заражения здоровую, не подверженную заболеваниям землю, куда те явились. По одному, стерилизованных, сквозь узкие турникеты их выпускали наконец в зал аэропорта, соединяя с огромными пространствами загадочной, между трех океанов, страны, где им никогда не достичь тех целей, ради которых они явились.
Коробейников, подымаясь на цыпочки, видел, как медленно колеблется среди хромированных ограничителей вереница пассажиров. Среди заморских пиджаков, шляп и жакетов, среди лысин и париков углядел высокую, с мясистым лицом даму в голубом, в которой, несмотря на расстояние, угадал ту, кого поджидал с нетерпением. Когда дама, страшно взволнованная и огорченная, волоча огромную суму и трясущийся на колесиках чемодан, остановилась среди толкающих ее людей, Коробейников шагнул и, стараясь быть радушным и легкомысленным, произнес:
— Тетя Тася… Это я, Михаил Коробейников… С прибытием…
Увидел, как недоверчиво дрогнуло, радостно озарилось, благодарно осветилось ее мясистое немолодое лицо, окруженное седыми, с голубизной, волосами:
— Миша?.. Танин сын?.. Так вот ты какой!..
Они обнялись. Целуя пухлую теплую щеку, Коробейников уловил сложные запахи пудры, туалетной воды, медицинских снадобий, исходящие от новообретенной родственницы. Запахи иных континентов, иных народов и пространств, из которых явилась тетя Тася. Она была одета в сине-голубую гамму, с бирюзовым платком на шее, голубоглазая, с фарфоровыми, голубоватыми зубами, что создавало тщательно подобранный, сберегаемый стиль, в котором она замыслила себя, возвращаясь на русскую родину.
— Позвольте ваши вещи… Тут рядом машина. — Коробейников принял поклажу, видя, как все еще недоверчива, испугана путешественница. Как со страхом покосилась на милиционера. Как слабо шарахнулась от проходящего пограничника, словно боялась, что ее задержат, продолжат опрос и, не дай бог, арестуют в этой стране непрерывных насилий и притеснений. И только в автомобиле, сидя рядом с Коробейниковым, проезжая ажурный мост через солнечный канал, пролетая мимо нарядного Речного вокзала, оглядываясь на огромные помпезные здания у Сокола, она понемногу успокоилась. Спрашивала Коробейникова:
— А это что?.. Это что?.. — Смотрела на неузнаваемый, построенный без нее город, куда рискнула явиться и который переливался стеклом и солнцем в ее голубых изумленных глазах…
Они поднялись на четвертый этаж. Искоса глядя на взволнованное, испуганное, ожидавшее невероятной встречи лицо, Коробейников позвонил. Услышал быстрые, мгновенно откликнувшиеся шаги. Дверь отворилась, и возникло ощущение бесшумного взрыва, когда под огромным давлением соединяются два разделенных перемычкой объема. Тася и Вера оказались лицом к лицу, как два каменных ампирных льва на воротах. Встретились и окаменели две родные, порознь прожитые жизни, одна из которых покинула Вселенную, улетела в иные миры, а теперь вернулась, и обе были превращены в изваяния. Не умели кинуться друг другу на шею, зацеловать, облиться слезами, похожие одна на другую, с одинаковыми носами и подбородками, между которыми бесшумно вскипали два разных времени, не в силах соединиться в единое целое. Создавали непреодолимый барьер, мешавший губам слиться в поцелуе.
— Тася, боже мой!.. — Из-за спины тети Веры выглядывала мать, бессильно и немощно пытаясь сломать эту непроницаемую преграду, размягчить жесткий омертвелый рубец в том месте, где произошла ампутация, преодолеть отторжение, мешавшее срастить отсеченную плоть.
Так, неловко, путаясь и пугаясь, они вошли в комнату, где в креслице поджидала их бабушка. Увидала Тасю, с истошным воплем, словно ее толкнула больная пружина: «Тася, девочка моя!» — подскочила в кресле и тут же рухнула бессильно обратно, потеряв сознание. Бледная, бездыханная, с большим коричневым зобом на открытой шее, вытянула из-под платья тощие, обутые в шлепанцы ноги. И этот страстный, больной, почти предсмертный крик разбудил всех. Оживил каменные львиные лица. Размягчил до розовой кровоточащей плоти огрубелые швы. Бросил их всех сначала к бабушке, которая приходила в себя, слабо шевелила губами: «Девочка моя дорогая…», а потом и друг к другу. Все три сестры обнимались, целовались и плакали, склоняя друг к другу седые головы. В комнате пахло валерьянкой и заморскими духами. Коробейников, взволнованный, с увлажненными глазами, подносил всем по очереди стакан с водой. Сбиваясь со счета, опрокидывал целебные капли.
Они сидели в маленькой, ставшей вдруг тесной комнате, наполняя ее своими всхлипами, улыбками, глубокими вздохами. Их первое соприкосновение кончилось больным ожогом, и теперь они боялись обращаться друг к другу. Чего-то ждали, быть может, того, чтобы расточилась огромная, накопленная в разлуке разница переживаний, страхов, потерь, сделавшая их, когда-то дорогих, ненаглядных, отчужденными и неловкими, не умеющими произнести сокровенного слова, через которое они бы снова узнали и полюбили друг друга. Тася извлекла носовой платок, осторожно утирала голубые, с покрасневшими веками глаза. Коробейников заметил, что у платка была аккуратно вышита синяя каемка.
— Господи, ведь все эти вещи я видела когда-то в нашем тифлисском доме!.. Неужели они сохранились? — Тася всматривалась в кровати, стулья и тумбочки из ореха, вишни и дуба. — Этот буфет, его чудесные нежные створки! — Она поднялась, приблизилась к буфету, любовно и пугливо отворила легкие стеклянные створки, которые слабо и чудесно прозвенели, словно узнали ее, откликнулись на ее прикосновения мелодичными переливами. — Я помню этот звон! — Тася обернулась к сестрам своим помолодевшим восхищенным лицом. — Когда баба Груня открывала его и доставала посуду, это означало, что к обеду собирается вся семья, на стол ляжет бело-синяя тяжелая скатерть, на ней засверкает наш фамильный фарфор и хрусталь. Сколько раз в эти годы я слышала во сне этот перезвон! Просыпалась, молилась о вас, не зная, живы вы или нет. Умоляла Господа, чтобы он сберег вас среди невзгод!
— Боже мой, это наш любимый волшебный фонарь! — Тася подняла лицо к потолку, где на бронзовых зеленых цепях висел светильник в свинцовой оплетке, собранный из разноцветных стекол. — Вера, ведь он висел над роялем, ты помнишь? Мы всегда, даже днем, зажигали его, играя в две руки полонезы Шопена. Нам казалось, что светильник начинает переливаться, наполняется то золотым, то зеленым, то синим. Мой поклонник, немец-студент фон Штаубе, говорил, что, когда мы играем, в светильнике начинает звучать музыка сфер. — Она поискала на стене выключатель. Зажгла светильник и стояла под ним восхищенно, воздев к нему руки, словно молилась на волшебное, загоревшееся над ее седой головой светило, прислушиваясь к таинственным, витавшим под потолком звучаниям. — Это чудо какое-то!
Коробейников с благоговением наблюдал обряд поклонения фетишам, каждый из которых отзывался звуком, свечением, едва уловимым колебанием, признавая в Тасе ее подлинность, достоверность, сообщая другим, присутствующим при обряде, что эта престарелая дама в иноземных нарядах, явившаяся из иного уклада и времени, является не мнимой, а истинной родственницей, связана с остальными священными узами рода, поклоняется, как и они, деревянным идолам и богам из ореха и красного дерева, молится священным сосудам и вазам, светильникам и лампадам.
— Зеркало, милое, дорогое! — Она подошла к подзеркальнику, над которым, в старой высокой раме, сияло тусклое серебряное стекло. Приблизила одутловатое лицо в складках, припорошенное мертвенной пудрой, окруженное ненатуральной, голубоватой сединой. — Как я любила в него смотреться! Расчесывать волосы костяным гребнем! Прикреплять к груди белый бант! Перед тем как идти на свидание к фон Штаубе, целый час проводила перед этим зеркалом, примеряя поочередно сто разных платьев! Как я люблю тебя, милое зеркало! — Она приблизила губы к стеклянной грани, где застыла холодная сочная радуга, и поцеловала стекло. Затуманенное ее дыханием, зеркало вдруг отразило прелестный девичий лик с сияющими очами, кокетливой милой улыбкой, белый шелковый бант на невинной робкой груди.
Все зачарованно смотрели на Тасю, любя, сострадая, принимая ее в свой поределый круг, куда она стремилась, пересекая океаны и континенты, преодолевая необозримое пространство порознь прожитых лет.
— Что же я сижу! — спохватилась она. — Привезла вам подарки!
Она кинулась к чемодану, величественному, кожаному, с распухшими боками, на котором медные застежки, красивые замки, крохотные колесики свидетельствовали о добротном, продуманном, устоявшемся укладе. Прохрустела запорами, откинула крышку, и оттуда выдавилось и распустилось нечто пушистое, мягкое, золотисто-горчичного цвета.
— Тетя Настенька, я подумала, что тебе среди наших русских холодных зим будет очень кстати эта теплая кофта. Настоящая австралийская овечья шерсть, отлично выделанная! — Она выхватила из чемодана легкое, почти невесомое изделие. Держа за рукава, опустила кофту на колени бабушки, и та благодарно поймала и поцеловала ей руку. Светилась маленькими лучистыми любящими глазами:
— Какая ты чуткая, душевная… Тасенька моя дорогая!..
А та, вдохновленная, увлекаясь ролью дарительницы, извлекла из чемодана прекрасную плотную шаль с пушистой бахромой. Раскрыла ее, распространяя по комнате вкусный душистый запах. Ловко и изящно накинула шаль на плечи тети Веры, одновременно приобняв ее, прижавшись к ее худому плечу. Тетя Вера зарумянилась от удовольствия, женским движением запахнулась в шаль. Повернулась к зеркалу, приподняв плечо. Кокетливо, словно девушка, заиграла глазами, осмотрев себя.
— Спасибо. Это то, что я так люблю. Ношу старенькую, оставшуюся от мамы шаль. Вот бы она была рада такому подарку! — Она поцеловала сестру, и в этом поцелуе была благодарность, а также память об их ушедшей матери.
— Танечка, ты всегда любила улечься с книгой на нашей тахте и накрыться полосатым цветастым покрывалом, которое дядя Коля купил у турчанки. Вот тебе мой подарок, чтобы никакие сквозняки тебя не пробрали! — Она вынула сложенное многократно, смугло-коричневое, ворсистое покрывало. Развернула его и широким взмахом набросила на кровать, скрыв под пушистыми волнами все ложе с гнутыми овальными спинками. Мать, тихо ахнув, пробовала ткань на ощупь, подносила к лицу, целовала, благодарно и счастливо взирая на сестру.
— Миша, — обратилась она к Коробейникову торжественно, трогательно дрожащим голосом. — Твоя мама, моя любимая Таня, писала мне о тебе. О твоем творчестве, о твоей книге, которую я мечтаю прочесть. О том, что ты много путешествуешь по Сибири и по нашему Русскому Северу. Я долго думала, что бы тебе подарить. Ходила по магазинам и наконец остановилась на этом. Надеюсь, тебе будет тепло и комфортно, — на вытянутых руках она подала ему бежевый джемпер из тончайшей шерсти, легкий, элегантный, с красивым стрельчатым вырезом и маленьким нарядным ярлычком, где красовалась изящная аббревиатура.
Коробейников вспыхнул от удовольствия, принимая подарок. Вдыхал исходящее от джемпера благоухание, запах иной жизни, иной эстетики и благополучия, которые отсутствовали здесь, волновали своим несходством и совершенством.
— А это — твоей милой жене Валентине. Таня радуется вашему союзу, и я очень, очень хочу с ней познакомиться. — Она освободила от упаковки кожаную дамскую сумочку с прелестным тисненым ремешком, узорным замком и множеством вкусно пахнущих отделений, куда она сама с любопытством, по-женски, заглядывала, гладила внутренность сумочки большими белыми пальцами, на которых красовалось бирюзовое, в серебряной оправе кольцо. — Ну а это — твоим замечательным детям, Настеньке и Васеньке. — Тася выложила на кровать, поверх пушистого покрывала, ярко-голубое платьице с изумительным красным цветком, и нарядный комбинезончик с пряжечками, молниями, кармашками, украшенный блестящей эмблемой с хвостатым кенгуру. — Уж я старалась купить на вырост. Очень волнуюсь, угодила ли…
Коробейников поцеловал щедрую заморскую тетушку. Тася, исполнив обряд подношения, удовлетворенная, сияла васильковыми глазами, позволяя родне еще и еще раз осматривать и ощупывать ее подарки.
— Ну что же мы с дороги тебя не кормим!.. К столу, к столу!.. — разохалась мать, и они с тетей Верой принялись расставлять тарелки, резную деревянную хлебницу с пшеничным снопом, уцелевшую от стародавних застолий, раскладывать фамильные серебряные ложки с монограммами. Коробейников открыл бутылку красного грузинского вина. Помог бабушке пересесть из низенького кресла на высокий старинный стул. Принес и водрузил на подставку горячую кастрюлю с «молоканской лапшой». Все расселись, и когда Коробейников разлил вино, мать взялась за хрупкую ножку бокала. Не встала, а лишь потянулась вверх своим похорошевшим, помолодевшим лицом:
— Наша любимая, милая Тася… Мы приветствуем тебя в нашем доме и не верим глазам своим. Случилось чудо, о котором мы не смели мечтать. Ты исчезла на долгие десятилетия, и мы не знали, что с тобой сталось, жива ты или нет, но думали о тебе постоянно и тайно надеялись, что эта встреча возможна. Очень больно, что не дождались тебя твоя мама, наша любимая тетя Маня, и тетя Катя, и дядя Коля, дядя Миша, дядя Петя. Все они тебя любили и мечтали увидеть. Но мы, оставшиеся в живых, выскажем тебе чувства, что они не успели. Ты вернулась в свой дом, в свою семью. Мы хотим, чтобы ты почувствовала тепло, любовь после стольких выпавших тебе испытаний. Знай, что мы тебя бесконечно любим… За тебя, дорогая сестра!
Тася поднялась, подходила по очереди ко всем сидящим, чокалась, и по лицу ее катились обильные слезы.
Потом они ели горячую душистую «молоканскую лапшу» и говорили о Тифлисе, о семейных праздниках, и как чудесно готовила лапшу баба Груня: вешала на спинки стульев тонко раскатанное, нежно-желтое тесто, и они, девочки, тайно отщипывали сладкие лепестки и лакомились, убегая в сад. Мать разложила по тарелкам толстые «молоканские» пироги с капустой, и Тася, ссылаясь на диету, отказалась было от второго куска, но потом не удержалась и с наслаждением ела, щедро намазывая сливочным, тающим маслом чудесную еду своего детства. После чая с яблочным пирогом они отдыхали, все трое усевшись на кровать, набросив на себя необъятное австралийское покрывало. Коробейников приблизил к ним бабушкино креслице, и бабушка блаженствовала, видя, как близко, почти касаясь, светлеют их немолодые лица с фамильным сходством ртов, носов, подбородков.
— Ну как же ты жила эти годы? — задала мать вопрос, витавший в воздухе все время, покуда длился обряд сближения, после которого стало возможным обратиться с этим пугающим, роковым и неизбежным вопросом. — Что было после того, как ты уехала в Лондон?
— Танечка, дорогая, после этого случилась вся моя остальная жизнь, длиною в полвека, и краткая, как день единый, — ответила Тася, печально и беззащитно сжав губы, словно мыслью пробежала по жизни взад и вперед, по радостям и несчастьям, и эти воспоминания звучали в ней, как черно-белые клавиши рояля. — Вы помните, что я была направлена на стажировку совершенствовать мой английский язык, после неудачного романа с фон Штаубе. Я с радостью уехала в Лондон, предавалась учению, стараясь забыться. В Лондоне я была совершенно одна, но у меня был адрес. Если помните, в Тифлисе, когда в городе стояли войска Антанты, к нам в дом приходил английский солдат, Джефри Ллойд, такой белобрысый, веснушчатый. Баба Груня его привечала, кормила, и он, тоскуя на чужбине по дому, так любил бывать в нашем обществе. В Лондоне я нашла его. Он ответил добром на добро. Повел меня в баптистское собрание, познакомил с удивительными людьми. Я слушала лекции проповедника Фетлера и уверовала. Религия стала для меня второй родиной, и, когда срок стажировки окончился, я самовольно решила продлить пребывание в Лондоне…
Коробейникову казалось, что эти слова звучат в прозрачном, расплавленно-стеклянном воздухе, какой струится над раскаленным асфальтом, рождая загадочные миражи, когда одно и то же видение присутствует в разных слоях, и неясно, где явь, а где ее отражение. В одном и том же времени присутствовал Лондон, чопорно-серая башня парламента с кругом больших часов, ажурная готика Вестминстерского аббатства, пахнущий свежим сеном необъятный зеленый газон Гайд-парка, по которому быстро идет прелестная русская девушка в нарядной блузке и шляпке, и встречный велосипедист радостно ей улыбается, оглядывается на нее, уходящую. В то же время, в сумрачной, тревожной Москве ночью был арестован ее дядя Петя. Поднят с постели. Одевался под взглядом суровых чекистов. Спускался по лестнице под звяканье тяжелых винтовок. Скрывался в коробе тюремного грузовика. Катил по пустому городу в огромный дом на Лубянке, где жутко и жарко светились ночные окна.
— Я поступила на баптистские курсы, где готовили миссионеров для поездки в разные отсталые страны, к дикарям, чтобы проповедовать Слово Божье, открыть язычникам свет Божественного Писания. Нас учили оказывать первую медицинскую помощь, швейному искусству, уменью водить машину. Я решила посвятить себя служению людям, отказаться от мирских забот и целиком предать себя Богу…
Коробейникову представлялся чистый, с белеными стенами, молитвенный дом, дубовые лавки с партами, за которыми сидит и внимает усердная паства, слушая дородного, басовитого проповедника, чей голос сочными руладами возносится к гулким сводам, апостольски наставляя слушателей любить ближнего, как самого себя, любить великого Бога, который сотворил весь мир. Тася, в скромном платке, в длинном чопорном платье, восторженно слушает, желая служить божественному просветлению заблудших людей, любя их всех, надеясь пробудить в них огонь живой веры. А в это же время сестра ее Вера, молодой самоотверженный доктор, работает на Урале, где возводятся домны Магнитки, огромные поднебесные башни, окруженные кружевом деревянных лесов. Кипящие толпы рабочих, подводы лошадей и полуторки, красные транспаранты и флаги. Вера в новенькой двухэтажной больнице, обращенной окнами на громадную стройку, ощущает себя членом всенародной артели, на равных с монтажниками, кузнецами и сварщиками, с русскими, хохлами, мордвой. К вечеру совлекает с себя белоснежный медицинский халат, повязывает кумачовую косынку, отправляется в клуб смотреть кинокомедию, в гогот, хохот и свист. Там же, в клубе, она была арестована, увезена на допрос, длившийся двадцать лет.
— Моя первая миссионерская поездка была в Нигерию, на несколько лет. Миссия размещалась недалеко от Ибадана, почти в джунглях, в небольшом деревянном доме, где был молельный зал, медицинский пункт и комнаты для персонала. С утра я садилась за руль «форда», часто одна, и ездила по окрестным селениям. Заходила в хижины, проповедовала Слово Божие. Черные мужчины и женщины слушали меня вежливо, молча, а потом исполняли свои дикие африканские танцы, поклонялись деревянным идолам и расходились. Я ездила к ним недели, месяцы. Попадала в страшные ливни, утопала в раскисших дорогах, ночевала в ужасных джунглях. Молила: «Господи, просвети их!.. Дай им вкусить хлеба духовного!..» И какова же была мне награда, когда через несколько месяцев неустанных проповедей к зданию миссии пришли из леса идолопоклонники. Сложили к порогу своих идолов, и мы вместе, под огромным солнечным деревом, молились Господу. Пели хором мой любимый псалом: «Боже, ты светишь во тьме, и тебя узрит слепец…»
Коробейников чувствовал, как обморочно расслаивается стеклянное время, и в одном из текущих слоев, на красноватой африканской земле, под огромным изумрудным деревом, стоит деревянное строение с крестом, укрылся под навесом обшарпанный «форд», в горячей траве клубится ворох сверкающих бабочек. Тася опустилась на колени, окруженная полуголыми дикарями, вдохновенно поет псалом, и по ее счастливому лицу бегут слезы восторга и благодарности. В другом стеклянно струящемся времени ее двоюродная сестра Таня, молодой архитектор, проектирует новый город вокруг Днепрогэса. Возводит серо-стальные конструктивистские здания, монумент энергетикам, и вдали, среди сияющих вод, драгоценная, словно кристалл, сверкает прекрасная гидростанция. Вернулась после рабочего дня в общежитие, раскрыла письмо: арестованы дядя Коля и тетя Катя, тоскливые вопли родни.
— Моя вторая миссионерская поездка была в Полинезию, на острова, где когда-то жил Миклухо-Маклай, а позже обосновался Гоген. Огромный душистый океан, то солнечно-лазурный и нежный, то черно-кипящий и грозный. Рядом с миссией высились пальмы с кокосами, на деревьях верещали и хлопали крыльями изумрудно-алые носатые птицы. Помню, как меня вызвали в стойбище туземцев, недалеко от побережья. Там рожала женщина, мучилась, не могла разродиться. Я помогла ей, приняла ребенка, обрезала пуповину. Роженица, едва пришла в себя, подхватила младенца, пошла на берег океана, усыпанный белым горячим песком. Вываляла в песке сначала ребенка, а потом себя, чтобы целебный раскаленный песок исключил заражение. Помню, как они лежали на берегу словно в сверкающем сахаре, только ребенок открывал свой маленький красный зев. Я славила Господа за то, что есть и моя доля в рождении этого чудного младенца…
Коробейников испытывал странное головокружение, как если бы его жизнь протекала одновременно в двух несопоставимых измерениях, в которых существовали два разных пространства, тянулись два разных времени. Эти голубые лагуны с солнечным белоснежным песком, на которых нежились смугло-фиолетовые, похожие на шелковистых животных женщины, играя перламутровыми раковинами. Тася в матерчатых белых туфлях шла по песку, кланяясь, улыбаясь этим ленивым грациозным красавицам. А в это время в России начиналась война, немецкие танки рвались к Москве, его, Коробейникова, отец оставил университетскую кафедру, нарядился в долгополую шинель и ушел добровольцем на фронт. Тем же месяцем дядя Петя получил освобождение из лагеря и, когда ему зачитали указ, от радости, на пороге барака, умер от разрыва сердца.
— Началась война, японская армия высаживалась на островах, и мы очень волновались, слушая сводки с войны. За нами приплыл английский эсминец, забрал на борт сотрудников миссии и поплыл в Австралию. Океан был бурный, ужасный. Я страшно боялась, что мы повстречаемся с японским флотом, будет бой, и эсминец погибнет. Ночью я вышла на палубу. Была страшная тьма. Волны перехлестывали через борт. Я встала на колени на железную мокрую палубу и взмолилась, чтобы Господь пощадил меня, избавил от ужасной смерти в пучине. Впереди, среди вихрей и волн, что-то слабо засияло, будто зажегся маяк. Я знала, что это Господь идет впереди корабля по водам и указывает путь ко спасению…
Коробейникову было мучительно-странно. Будто раздвоенный мир был разделен непроницаемой прозрачной мембраной, и одна половина мира не ведала о другой. Жила по собственным законам страдания, веры, любви, позволяя другой половине гибнуть, верить, спасаться. Той ночью, когда английский эсминец рассекал своей сталью кипящие воды Индийского океана и русская женщина на клепаной палубе, ухватившись за мокрые поручни, о чем-то страстно молила, той же ночью его отец бежал в сталинградской степи навстречу мерцающим вспышкам, падал, пробитый пулей, остывал под синей холодной звездой, вмерзая в окровавленный наст. Тасина мать, тетя Маня, умирала в блокадном Ленинграде. Шатаясь на распухших ногах, несла на груди под шубейкой крохотный ломтик хлеба. Близко, в розовом инее, жутко и грозно вздымалась ростральная колонна, чернел в снегу замерзший ребенок.
— В Австралии я все так же служила Богу, занималась проповедью среди аборигенов. Как могла, облегчала их быт. Помню, однажды меня вызвали в поселение, где умирал ребенок. Я взяла с собой аптечку и Евангелие. Скоро была в хижине, где несчастная мать, в окружении родственников, держала в руках дитя. Оно было без сознания. Меня умоляли помочь. Я дала младенцу простой аспирин и стала читать Евангелие, то место, где описывается исцеление Лазаря. И, о чудо, — от простой таблетки аспирина жар быстро спал. Ребенок был вырван у смерти, заснул на груди у матери. Через несколько дней меня пригласили в то же селение. В мою честь была устроена трапеза. Мне подали на сковородке какое-то экзотическое блюдо. К моему ужасу, это была огромная запеченная гусеница. Чтобы не обидеть хозяев я, давясь, моля Бога, чтобы меня не стошнило, съела угощение. После этого многие из этих аборигенов уверовали…
А в эти же самые годы Вера работала и лагере на лесоповале, и какие-то охранники, напившись, пытались ее изнасиловать. Дядя Коля и тетя Катя, каждые в своей зоне, пилили доски, убирали на полях гнилую картошку, ходили строем в столовую, где в мутной бурде плавали листки капусты. Мать Коробейникова, архитектор, молодая вдова, приехала в отбитый у немцев Смоленск, где пылали пожары и в развалинах было множество смятых железных кроватей. По ее чертежам прокладывался водопровод, размещались пекарни, и на черном небе, среди обгорелых труб, полыхало огромное зарево. Коробейников слушал Тасю, глядя на ее крупное, благообразное лицо, красивую седую прическу, и думал, что она потратила свою жизнь, телесную и духовную свежесть на других людей, живущих в иных, бесконечно далеких странах, в то время как Родина горела, обливалась кровью и мучилась.
— Ну а последние десять лет я живу безмятежно. В нашем баптистском районе у меня своя уютная однокомнатная квартира, относительный достаток, покой. Я много молюсь, много читаю. Много размышляю о том, почему Господь таким образом распорядился моей судьбой. Благодарю Его за то, что он позволил мне всю жизнь провести в служении Его святым заповедям…
А в это время здесь, в Москве, старились и умирали любимые старики. По одному выпадали из жизни, как могучие истлевшие дубы.
Три сестры, накрытые теплым, великолепным австралийским покрывалом, молчали, сблизив похожие постарелые лица. Но их сближение было мнимым. Между ними присутствовало прожитое по-разному время, поместившее их в две несопоставимые истории.
— Скажи, — обратилась мать, — а что ты знаешь о Шурочке и о дяде Васе? Ведь Шурочка, совсем еще мальчик, с Белым войском ушел в Бессарабию. Сгинул где-то, не то в Югославии, не то в Болгарии. А дядя Вася уплыл пароходом в Стамбул, писал из Парижа, когда еще доходили письма, а потом замолчал. Ты о них ничего не знаешь?
— Дядя Шура попал в Чехословакию и прислал мне оттуда письмо. Он очень болел, кажется, чахоткой. Рассказал в письме, что шел однажды по пражской улице и услышал из окон религиозное пение. Это были баптисты. Они его приняли, и через них он узнал обо мне. Но потом началась война, Прагу заняли немцы, и я потеряла его след. Дядя Вася жил в Париже и работал таксистом. Потом переехал в Америку, в Калифорнию, в Голливуде работал лифтером. Он обнищал и очень хворал. Звал меня к себе, чтобы я за ним ухаживала. Но я была занята миссионерской работой, и он умер один, в окрестностях Сан-Франциско.
— Но как же можно, Тася? Они оба нуждались в тебе, звали. Ты не откликнулась на их зов о помощи. — Тетя Вера изумленно, с возмущением воздела брови, округлила глаза, став похожа на большую сердитую куропатку.
Тася сжала губы, насупилась и замкнулась, словно произнесенные резкие слова напугали ее.
— Я была слишком предана Богу, не могла отказать в служении, — сухо произнесла она. — К тому же я находилась сначала в Африке, а затем в Полинезии.
Все трое молчали. Коробейников чувствовал, как возникло между ними отчуждение.
— Тасенька, ты так долго к нам добиралась, — нежно и трепетно произнесла бабушка. — Таня, Вера, положите ее отдохнуть. Она очень, очень устала.
Этот сердечный, любящий голос умягчил их сердца. Все трое поднялись, отправились в соседнюю комнату. Там уложили Тасю на старую, фамильную, с гнутыми спинками кровать. Накрыли шалью. Тася улыбалась, устало закрывала глаза. Засыпала. И бог весть, что ей снилось на этой старой семейной кровати. Быть может, Тифлис, обрызганный ливнем сад, сладкий запах жасмина. На столе большая китайская ваза с драконом, где стоит букет свежих роз.
17
Коробейников расположился в своем кабинете, глядя в приоткрытую дверь, как в соседней комнате играют дети. На столе перед ним лежал лист бумаги, на котором был изображен самый первый, приблизительный план романа, в виде ветвящихся линий, по которым разрастался сюжет. Выведенная пером конструкция постоянно осложнялась, дополнялась ответвлениями, распространялась вширь и ввысь.
Неожиданно раздался телефонный звонок. Бодрый голос Рудольфа Саблина произнес:
— Мишель, дорогой мой, если бы вы знали, как я о вас соскучился… Некому слова сказать… Кстати, моя красивая сестра Елена сказала, что вы ей обещали подарить свою книгу. Если сочтете возможным, Мишель, сделайте ей дарственную надпись, а я передам. Кажется, она очарована вами. Да это и неудивительно… Так где же и когда мы встретимся?
Имя Елены Солим, прозвучавшее в телефонной мембране, ворвалось в дом, как ледяной сквознячок. Он вдруг остро ощутил ее телесное присутствие, запах ее духов, тепло ее загорелой кожи. Это было внезапным и опасным вторжением, испугавшим его. Он хотел побыстрей закупорить скважину, откуда бил опасный и злой родничок.
— Я выезжаю в город. Если хотите, Рудольф, мы можем встретиться через час у метро «Маяковская», — быстро, отключаясь от источника опасности, положил трубку. Словно заклеил пробоину, откуда внутрь подводной лодки била злая соленая струйка.
Они встретились под серыми колоннами Концертного зала имени Чайковского. Саблин приобнял Коробейникова, сжал его руку маленькой сильной ладонью. Его красивое, с ярко блистающими глазами лицо выражало жизнелюбие, радость встречи и ревнивое нетерпение, словно он хотел побыстрее вывести дорогого человека прочь из толпы, чтобы тот принадлежал только ему. Коробейников направлялся в дом на Малой Бронной, где проживали живописцы-«язычники» и собиралось литературное и художественное «подполье». Саблин был не помехой Коробейникову, тотчас согласился составить компанию.
— Мишель, как жестоко лишать меня вашего общества. Это просто бесчеловечно. Без вас я чахну, тупею, становлюсь мизантропом. В моей любви к вам есть что-то женское.
Эти экзальтированные комплименты Саблин произнес со смеющимися глазами и милой восторженностью, что придавало льстивым уверениям характер дружеской шутки. Коробейников улыбался, принимал комплименты, не тяготясь ими, соглашаясь с игровой манерой, в которой проходили их отношения с Саблиным.
— Если два таких человека узнают друг друга в толпе, они не разлучаются больше. Наша дружба, Мишель, задумана на небесах…
Коробейникова забавляла эта игра в аристократизм, в которой было нечто беззащитное и милое. Забавляло лукавство обольщения, которым наивно пользовался Саблин, боясь потерять их недавнюю и еще непрочную дружбу. Казалась забавной манера Саблина одеваться в особый, зауженный в талии пиджак, похожий на старинный камзол, носить рубашку с кружевами на груди, напоминавшими жабо, выставлять из нагрудного кармана угол платка, окаймленного нежными кружавчиками. Этими нехитрыми приемами Саблин старался выделиться из монолитной массы, тяготясь ее слепым и угрюмым однообразием, страшась, что она нахлынет на него и утянет обратно в свою неразличимую глубину.
— Я чувствую, как вы создали вокруг себя среду, в которой вам хорошо и которую вы, как коллекционер и эстет, собираете по крупицам. Хочу занять, пусть самое скромное, место в вашей коллекции. Может быть, в своей будущей книге вы посвятите мне малый абзац. Буду счастлив, если послужу прототипом для самого незначительного персонажа…
Коробейников удивился проницательности Саблина, угадавшего в нем пытливого наблюдателя, собирателя человеческих типов и жизненных ситуаций, дорожащего любой неординарностью, даже если она сомнительна с точки зрения этики, лишь бы обрести новый опыт, нырнуть в новую коллизию, подглядеть в мире еще одну сцену и краску, чтобы потом перенести их на лист бумаги.
И, как всегда во время общения с Саблиным, Коробейников испытал мгновенную тревогу. Зыбкость своей мнимой роли наблюдающего художника. Подозрение, что заблуждается относительно Саблина. Исследуя его, сам являлся объектом исследования. Эти благодушные комплиментарные шутки заключали в себе тревожащий смысл. Казалось, Саблин дразнил его гордыню, проверял такт, способность отличать искреннее проявление чувств от тончайшей игры и издевки. «Масонский кружок», где волею случая оказался Коробейников, странно и настойчиво напоминал о себе, то неожиданными откровениями Стремжинского, то внезапно подоспевшей помощью в деле архитектора Шмелева. И в этой случайности, открывшей ему доступ в «кружок», присутствовал Саблин, присутствовала его прелестная сестра, присутствовала неясная Коробейникову неслучайность.
— Вы обещали книжку для Елены. Она так настойчиво меня об этом просила, похоже, что она увлечена вами, Мишель. У нее щедрая душа, острый ум и неутоленное чувство жизни. Марк Солим, этот иудейский мудрец и политик, держит ее в доме, как держат красивую вазу. При гостях ставят в нее букет роз, а гости уходят — сливают в нее чайные опивки. Кстати, Елена была первой обнаженной женщиной, которую я лицезрел. В детстве мы лежали в одной ванне, и я помню сверкающую эмаль, блестящую прозрачную воду, и сестру, вытянувшую в мою сторону свои розовые ноги, ее смеющееся, в каплях, лицо. Давайте книгу, Мишель, чтобы я не забыл…
Передавая Саблину книгу, Коробейников уловил в словах Саблина тончайшее сладострастие. Нечто мучительное и больное, притаившееся в глубине души этого красивого, одаренного человека, играющего непрерывную увлекательную игру.
Саблин заметил тень, промелькнувшую на лице Коробейникова. Рассмеялся, держа в руке книгу:
— В училище к нам приходил балетмейстер из Большого театра, чуть ли не ученик Петипа. Давал курсантам уроки танца. Когда я бывал дома, я репетировал с Еленой мазурку. Подхватывал ее за талию, и мы кружились в нашей огромной солнечной комнате с видом на Тверской бульвар…
Саблин вдруг пробежал несколько шагов вперед. Ловко изогнулся, подпрыгнул, ударяя в воздухе ногой о ногу, в долгом повороте делая несколько танцевальных фигур. С поклоном поцеловал книгу, как если бы это была рука танцующей мазурку дамы. Прохожие оборачивались, а он счастливо смеялся, радуясь своей шалости, силе и ловкости своего ладного тела, приглашая Коробейникова вместе с ним потешиться над изумленными обывателями.
18
Старый доходный дом на Малой Бронной был похож на неряшливый огромный термитник, узкий, высокий, с грязными окнами и темными подворотнями, с гулкими подъездами, в которых пахло щами, канализацией, кошками.
Квартира, куда без звонка, в незапертую дверь, вошли Коробейников и Саблин, была подобна пещере, высоченная, озаренная багровым светом, полная угарного, витавшего у потолка дыма, под зыбкими слоями которого двигалась, терлась о мебель и стены, гудела, шелестела толпа. Пьяно и обморочно кружили по комнате странные персонажи в поношенной одежде, с немытыми волосами, испитыми голубоватыми лицами, на которых вспыхивали безумные глаза, растворялись в болезненном хохоте рты. Все это напоминало палату умалишенных, где каждый был сам по себе, развлекался как мог, впадал в забытье, разговаривал утробным голосом, закатывая голубые белки, сомнамбулически читал странные, бог весть кем сочиненные стихи. Стол был заставлен бутылками, блюдами с недоеденными салатами. И среди этих затуманенных и размытых предметов выделялся рабочий верстак, банки с краской, миски с размоченными и разжеванными газетами, и на верстаке — яркие, необыкновенно живые, устрашающе цветастые маски, слепленные из папье-маше и раскрашенные хозяином дома, художником-шизофреником Коком.
Оказавшись в этой первобытной пещере, куда сошлись и слетелись на шабаш колдуны и ведьмы, испуская едкие удушающие запахи, издавая звериные и птичьи крики, дразня друг друга амулетами из речных раковин, раскрашенных перьев, высушенных мышиных лапок, Коробейников мгновенно опьянел. Слегка потерял рассудок, подпав под воздействие колдовских чар.
— Уймитесь!.. А ну, тишина!.. Кто пикнет, вырву язык!.. Папочка к чтению приступает!.. — Этот визгливый крик издала молодая круглолицая женщина с белой, бурно дышащей шеей, рыжими глазами неистовой кошки, с пуком волос, который мотался у нее на затылке, когда она бросалась во все стороны, цапая когтями соседей, заставляя их замолчать. Ее называли «Дщерь», ибо она почитала себя духовной дочерью инфернального писателя Малеева, «Учителя Тьмы», кочующего по московским богемным домам.
Толпа гостей расступилась, и на середину комнаты вынесли огромное старое кресло с продавленным седалищем, высокой готической спинкой, напоминавшее трон средневекового короля. В это кресло удобно уселся толстеньким упитанным задом улыбчивый человечек в поношенном пиджаке и нечистой рубашке, ласково озирая обступивших гостей. В его руках оказалась школьная тетрадка, исписанная каллиграфическим почерком. Розовые губки Малеева шевелились, словно толстенькие, поедающие лист гусеницы. Глазки хитро и медоточиво блестели, с удовольствием оглядывая почитателей, как если бы те были пищей.
— Папочка, начинай читать свою восхитительную гадость, свою светоносную мерзость!.. Поведи нас за собой в адову бездну! — восторженно воскликнула Дщерь, обнимая Малеева худой рукой с голубыми загнутыми когтями, жадно и мокро целуя в шевелящиеся губы. Тот легонько пнул назойливую ведьму. Та с урчанием, изгибая бедра, отскочила, потирая ушибленную ногу. Встала рядом с Коробейниковым, и тот почувствовал исходящий от нее мускусный звериный запах.
«Федор Федорович, отставной майор Советской Армии, и Леонида Леонидовна, бухгалтер мукомольного комбината, вскрыли заиндевелую дверь морга и остановились у оцинкованного стола, где под синей лампочкой, обнаженная, с выпуклым животом, лежала умершая роженица…» — Малеев зачитал из тетрадки первый абзац и оглядел слушателей, довольный произведенным впечатлением. На одних лицах застыли жуткие улыбки ожидания. На других отразился вожделенный страх. Кто-то тихо вздохнул, кто-то осенил себя крестным знамением, начиная его от пупка ко лбу и слева направо.
— Все говорят: «Россия — Богородица», а она — Дьявородица. Папочка славит приход Антихриста. — Дщерь выдохнула в ухо Коробейникова струю едких звериных запахов.
Малеев продолжил чтение:
«Живот у роженицы был твердый, синий, с продольной полосой. Рыжеватый лобок был в инее. На голой стопе чернильным карандашом был начертан номер «6». На закрытых глазах лежали пятаки. «Комсомолкой была», — произнес Федор Федорович, снял с глаз пятаки и медленно, сочно их облизал… Леонида Леонидовна стряхнула с живота покойницы синеватую изморозь. Выковыряла из пупка ледяную крошку. «Не уберегла себя, красавица. Не стала пить настой пустырника». Федор Федорович достал из-за голенища сапожный нож. С прищуром примерился и провел лезвием по животу, от пупка к лобку, делая твердый хрустящий надрез. Аккуратно, как режут хлеб, сделал еще два надреза, перпендикулярно к первому. Стал растворять живот, отматывая в обе стороны рулончики сала с красными прожилками. В животе, похожий на замороженную курицу, твердый, льдистый, открылся младенец. Он улыбался…»
— Папочка — великий богоборец. Он к Богу через богохульство идет. Он в аду свой рай отыскал. Он в ад опустился и там Христа поджидает. Его в аду первым Христос обрящет. В России Бог опрокинутый. В аду вниз головой висит. — Дщерь бормотала, болезненно изгибалась в талии, мотала пучком волос. По лицу пробегала мучительная мелкая судорога. В ней билась неутолимая страсть. В ее теле не умещалась иная, нечеловеческая сущность. Рвалась наружу, и казалось, она раздерет на себе одежды, обнажит худые голые плечи, костлявые бедра, вся покроется шерстью, падет на четыре лапы и, мяукая, ссыпая с загривка искры, умчится, размахивая длинным полосатым хвостом.
«Гришенька, недоросль ненаглядный», — произнес Федор Федорович и сапожным ножом стал выковыривать из мерзлого лона заледенелый эмбрион, брызгая красными кристалликами льда, выдирая его, как выдирают из ледяного целлофана застывшую курицу. Вывалил на ладонь, синеватый, слепой комок с улыбающимся лягушачьим ртом. Соскабливал мерзлые пленки, соскребал розовый иней. Очистив, посадил эмбрион на оцинкованный стол, и тот послушно сидел, скрючив ручки, набычив толстый лобик, выпучив прикрытые веками глазки…»
Малеев держал перед собой дрожащую тетрадь. Губы его неустанно шевелились, словно две упитанные гусеницы выедали капустный лист. По лицу блуждала очарованная улыбка, и он, взирая на огромную, во всю стену, голубую картину, нарисованную художником Коком, куда-то плыл в вожделенных потоках.
— Большевики для русского человека святые врата доской забили и красноармейца со штыком поставили, а русский человек к Богу не через святые врата, а через черный ход доберется. «Мы свой, мы новый ад построим, кто был святым, тот будет в нем…» — Дщерь изнемогала от томительной муки и сладости, внимая своему кумиру и возлюбленному. Плыла вместе с ним в лазурных потоках огромной картины, где в золотых отражениях качались мужские половые органы, похожие на возбужденных морских коньков, женские лобки, напоминавшие остроносые рыбьи косяки. Гениталии разных цветов и размеров, как фантастические рыбины, впивались и поедали друг друга.
«Хочу строганинки отведать…» — торопила Федора Федоровича нетерпеливая Леонида Леонидовна. Федор Федорович ухватил эмбрион за головку и сапожным ножом стал стесывать младенцу ручки и ребрышки. Нежные лепестки, мерцая льдинками, тонко изгибались, ложились на стол розоватыми стружками, и пахло от них замороженной осетриной…»
Дщерь издала истошный вопль. Кинулась к Малееву. Рухнула перед ним на пол, обнимая его стоптанные неопрятные туфли. Ловила, целовала, сотрясалась гибким, неутолимо страдающим телом. Малеев улыбался, бил ее башмаками в лицо, негромко повторяя: «Дщерь духовная, девка кухонная…» Из разбитого носа у нее текла струйка крови, а из губ, из переполненного рта выступала желтоватая пена.
Ее унесли. Гениального чтеца и писателя подняли из кресла, увлекли в дальний угол, где он вступил в беседу с приезжим зороастрийцем, подносившим к зажигалке свой пропитанный нефтью платок.
Коробейников приблизился к деревянному, грубо сколоченному верстаку, на котором красовались размалеванные маски. Верстак, со своими перекладинами и винтами, напоминал гильотину, а маски были похожи на отрубленные, поставленные в ряд головы. Головы были живые, пучили страшенные глаза, оттопыривали малиновые губища, топорщили черные тараканьи усы, блестели рыжими кудрями, сооруженными из медной терки. Эти маски лепились из мокрой газетной бумаги, покрывались белилами, по-язычески ярко раскрашивались, создавая ощущения стоцветного ужаса. Здесь была пугающая маска солдата-усача с тупым выражением пропитого лица. Голова деревенской дуры Глафиры, дебелой, бурачно-красной, со слюнявыми, расцелованными до десен губами. Жутковатая башка рыцаря Родригеса, высоченная, с кривым носом и пышными, из кроличьего меха, бровями. Нарядно-отвратительной выглядела Смерть — костистый короб с глазницами, весь разукрашенный нежными лазоревыми цветами. Тут была маска Ярилы-Солнца, оранжевая и круглая, как подсолнух. Маска Козла, похожая на черта, с приклеенной к подбородку мочалкой. Все эти аляповатые, живописные чудовища, яркие и пугающие, предназначались для игрищ и волхвований, для ночных вылазок на московские улицы, где ряженые, закутанные в шали и балахоны, с чудовищными размалеванными головами, должны были наводить ужас на запоздалых прохожих.
Тут же, у верстака, находились создатели масок. Художник Кок, тощий, с вытянутым идиотическим лицом, золотым хохолком на макушке, с рыжеватым язычком бороды и изумленно поднятыми золотистыми бровками, под которыми сверкали хохочущие синие глазки. В своей стеганой, сшитой из цветных лоскутков безрукавке, с вытянутой тонкой шеей, на которой подрагивал остренький чуткий кадык, он напоминал нахохленного петушка. Стоял на тонких ногах, приподнимался на цыпочки, похлопывал себя по бокам тощими руками, словно собирался закукарекать.
Напротив него стоял второй художник, Вас, широкоплечий, с круглым лицом и маленьким сплющенным носом, чернявый, мягкий в движениях, с сонными ленивыми глазами, которые вдруг округлялись, становились большими и пылкими, если взгляд его падал на женщину. Он был облачен в малиновую шелковую косоворотку, осторожно сжимал и разжимал кулаки, как если бы прятал и вновь выпускал острые когти. Был похож на большого откормленного кота, дремлющего в тепле, готового мигом вскочить, страстно кинуться на добычу.
Оба художника выдавали себя за шизофреников, стояли на учете в психдиспансере, что давало им право нигде не работать, числиться инвалидами, получать небольшую пенсию. Раз в год они проходили комиссии, подтверждавшие их болезнь. Тщательно готовились к обследованию, изучали учебники по психиатрии, имитировали мании и бреды, вводя в заблуждение докторов. Однако эти опасные упражнения постепенно сказывались на их психике. Художники вживались в свое сумасшествие, прятались в нем от участковых, военкомов, домоуправов, всевозможных инспекторов и блюстителей, отвоевывая себе свободу умалишенных, независимость параноиков, раскрепощенное, бескорыстное творчество, которое в любой момент могло привести их в психушку.
Сейчас они готовились к магическому действу, в котором пытались, с помощью лингвистических знаний о праязыке, путем непрерывного повторения какого-либо слова или созвучия, прорваться сквозь обусловленность тварного мира к Абсолюту.
— Бычья кровь… — начал Кок, скосив головку, нацелив острый клювик, подергивая золотым хохолком, — бычья кровь, бычья кровь, бычья кровь…
— Бочаров, — отозвался Вас, раздвинув кошачий рот, показывая крепкие белые клыки. — Бочаров, Бочаров, Бочаров…
— Вы чего? — по-птичьи подхватил его причитания Кок, напрягаясь, долбя в одно место, продалбливая лунку сквозь трехмерность познаваемого мира в темную глубину, где вдруг влажно и жутко плеснет чернотой безразмерная бездна. — Вы чего? Вы чего? Вы чего?
— Вечерок, вечерок, вечерок, — частил Вас, производя колебания, расшатывая незыблемые опоры сознания, которое начинало вибрировать, разрушалось, а в него, как отбойный молоток, вонзалось многократно повторяемое слово, теряя свой смысл, выколупливаясь из кирпичиков мироздания, открывая разуму путь в бездну.
— Чирокко, чирокко, чирокко… — Кок умело поворачивал режущий инструмент, продолжая протачивать сферу разумного, выбрав на этой сфере одно отдельное слово, лишая его частыми повторениями смысла, погружаясь в бессмыслие, проходя один за другим лежащие под этим словом слои. Туда, откуда ударит чернильный фонтан сумасшествия, и разум, соприкоснувшись с Абсолютом, умрет.
— Ро-ко-ко, ро-ко-ко, ро-ко-ко… — вторил Вас, мучительно округлив глаза, с капельками болезненного пота, похожий на неистового бурильщика, погружающего бур в нефтяной пласт.
— Ко-ко-ро, ко-ко-ро, ко-ко-ро… — Кок надрывался в непосильной работе, золотой хохолок потемнел от пота, на тощей шее натянулась синяя жила, и казалось, он может лопнуть, порваться, превратиться в кучу жил и костей.
Коробейников с болезненной неприязнью прислушивался к этому стрекоту, щебету, скрежету, которые, подобно скрипу ножа по сковородке, травмировали психику, оставляя на ней множество одинаковых тонких царапин. Постепенно раздражение переходило в болезненное опьянение, странное головокружение, словно в мозг вонзили тонкую трубочку и выпивали слой за слоем, как жидкий коктейль. Мозга становилось все меньше, и под сводами опустевшего черепа начинали плавать зыбкие пьянящие туманы. Вместе с тонкой отточенной трубочкой он погружался в глубь самого себя, проходя слои, из которых состояло его сознание. Это были слои «советского», красные, словно спрессованный кумач. Слои «православного», в которых присутствовало золотое и белое, как Успенский собор в Кремле. Слои «крестьянские», белесые, словно сухие снопы, и смугло-коричневые, как венцы в деревенской стене. И под этими преодоленными слоями открывалось нечто первобытное, живое и сочное, зелено-голубое и косматое, как мхи и лишайники, водоросли и речные заводи — «языческое», до которого дотянулось его раскрепощенное «я».
— Волга… — Кок вбросил новое слово, покинув прежнюю, пробуравленную скважину, в которой обломился израсходованный, обессмысленный звук, как обламывается сверло, так и не достигнув вожделенного Абсолюта. — Волга, Волга, Волга…
— Влага, влага… — вцепился в подброшенное звукосочетание Вас, разминая его, как мнут и месят тесто, лишая внутренней кристаллической твердости, превращая в тягучее бесформенное вещество.
— Валгала… — переиначил слово Кок, сообщая ему мифологическую глубину, погружая в эту глубину тончайший щуп, отыскивая на дне самое непрочное и хрупкое место, сквозь которое можно досверлиться до бесконечности.
Коробейников чувствовал, как их безумие передается ему. Его мозг превращался в разноцветный студень, в котором разжиженно перемещаются видения и образы, словно в колбе, где, не смешиваясь, циркулируют подсвеченные глицерин и спирт, обретая очертания пузырей, грибов и медуз. Он уплывал от себя самого, погружаясь в обезличенное, ему не принадлежащее безумие, где открывалась умопомрачительная красота, абстрактная истина, изначальная внеземная идея, из которых усилиями творцов и художников извлекались обедненные земные слова и формы. Теперь же, словно жидкое стекло, он тянулся к далекой горловине, где что-то, пленительное и необъятное, влекло к себе и откуда не было возврата.
— Валгала, валгала… — как иволга, пел Кок, дрожа зобиком, трепеща цветными лоскутьями безрукавки.
— Влагалище, — эхом отозвался Вас, набухая под малиновой рубахой, как кот, раздувающий шерсть.
— Голенище… — ухнул Кок, превращаясь из иволги в филина.
— Нищий… — отозвался Вас, беря в рот одно слово, а выпуская другое, вслушиваясь, как убегает от него слово-оборотень. — Щи, — вдруг вякнул он и захохотал здоровым смехом веселящегося человека, которому наскучило корчить сумасшедшего. Углядел кошачьими глазами проходившую мимо художницу, облапил ее, стал целовать, а она отбивалась:
— Ну, Вас, ну пусти… Котяра проклятый…
Кок мелко посмеивался, дрожа сухим кадычком, приговаривая:
— Котяра и есть…
Некоторое время в комнате совершалось ровное вязкое движение, напоминавшее нерестилище, где люди терлись один, о другого, раздавались внезапные всплески, взлетала похожая на плавник рука, сверкало похожее на чешую украшение. Внезапно возвысил голос чернявый, цыганистый человек, с фиолетовой бородой, чернильными навыкате глазами, серебряной серьгой в розовом ухе, выступавшем из-под сальных кудрей.
— Граждане, прошу внимания!.. Ведунья Наталья будет сейчас летать!.. Ей удалось победить гравитацию!.. Два месяца она была на диете и сбросила шесть килограмм!.. Прошу освободить пространство!.. У кого есть ключи, часы и другие металлические предметы, просьба вынуть их из карманов и вынести в соседнюю комнату!.. — В этих крикливых, настырных призывах Коробейникову почудилось нечто от провинциального цирка, где готовился номер факира, под цыганской внешностью которого скрывался обычный шарлатан. Отступая к стене, освобождая пустое пространство истоптанного старого паркета, роясь в кармане, где звякнули дверные ключи и денежная мелочь, он приготовился к аттракциону, которым тешили себя доморощенные ведьмы и маги.
Середина комнаты очистилась. Толпа тесно прижалась к стенам. Высоко под потолком мутно желтел в табачном дыму светильник. На середину комнаты вышла босая, очень худая женщина, облаченная в полупрозрачную тунику, сквозь которую проглядывали маленькие девичьи груди, хрупкие ключицы, впалый живот с углубленьем пупка и рельефные, обтянутые кожей тазовые кости. На ней не было обуви, видимо, для того, чтобы не увеличивать вес. По той же причине она была пострижена наголо, ее розоватый череп выглядел трогательно, беззащитно, как у пациентки из инфекционной палаты. Глаза ее были прикрыты веками, словно она спала. Своей худобой и легкостью, прозрачностью одежд и грациозной пластикой она напоминала балерину из «Спящей царевны». И казалось, вот-вот страстно и нежно зазвучит адажио.
— Просьба всем присутствующим помогать Наталье взлететь! Медитируйте, сообщайте ей стартовый импульс! Берите ее гравитацию на себя! Верьте в возможность чуда! — Кудрявый факир с серьгой приседал, сгребая руками невидимые потоки энергий, устремляя их ввысь, к потолку, где светильник был похож на мутную осеннюю луну, под которой во мгле летают невесомые ведьмы. — Принцип полета очень прост. Биополе человека складывается с электромагнитными полями Земли, образуя параллелограмм, где сила гравитации уступает подъемной силе! — Факир раздражал Коробейникова своим упрощенным стремлением объяснить колдовское чудо научной теорией, которая сама по себе развенчивала чудо, превращая волшебное действо в физический эксперимент. — Прошу включить космическую музыку. Она способствует возникновению невесомости…
Из обшарпанного кассетника вдруг раздался одинокий, дребезжащий, тоскливый звук, словно запульсировала и задрожала одна-единственная, натянутая на доску струна, испуская печальное, больное стенание. Это был звук осенних болот, тягучих ночных туманов, свистящих гнилых камышей, над которыми в призрачном свете реяли бессчетные призрачные твари, несметные духи грустной луны, потерявшие плоть, сиротливо гонимые в пустом поднебесье. И, слушая эту одинокую больную гармонику, Коробейников испытал знакомую сладкую боль, сиротство неприкаянной, безымянной души, заключенной в бренную плоть, откуда зовут ее ввысь поднебесные заунывные звуки.
Женщина подняла голову, раскрыла веки, и все увидели на бледном изможденном лице огромные, темно-синие, лихорадочно блестящие глаза, в которых была неодолимая воля, молитвенная вера и страсть. Она воздела худые руки, сложила заостренно ладони, словно собиралась рассекать над собой плотный воздух. Привстала на носки, упираясь гибкими пальцами в растресканный паркет. Потянулась, утончилась, задрожала от напряжения, силясь превратить соприкосновение с полом в малую точку. По ее телу побежали мелкие судороги, от приподнятых пяток, по икрам, бедрам, впалому животу, худым хрупким ребрам, и выше, вдоль тонких жилистых рук. Судороги сотрясали ее, ввинчивали в воздух, как веретено. Она мучительно боролась с землей, порывала с ней, одолевала ее непомерную тяжесть, стремилась оттолкнуться, остро вонзиться ввысь. Земля не пускала, угрюмо тянула вниз, навешивала на ее хрупкое тело непосильные вериги, неподъемные жернова, громадные валуны, затягивая в каменную непроглядную тьму. Женщина не сдавалась, тянулась ввысь, как растение, направляя стебель зыбкого тела навстречу невидимому лучу, что звал ее в небеса.
Коробейников, оставаясь недвижным, стремился к ней, помогал ее взлету, отрывал от паркета ее голые пальцы, молился, направляя на нее жаркий страстный порыв. Его заостренная умоляющая мысль, ставшее огромным сердце превратились в двигатель, который помогал женщине взлететь. Бренная, отягощенная плоть тянула вниз. Грехи, привязанность к земным наслаждениям, ожесточенный и дерзкий разум не пускали ввысь. Но душа, услышав печальный звук одинокой струны, откликаясь на музыку сфер, хотела взлететь туда, где была его родина, где реяли родовые духи, гуманно мелькали родные, полузабытые лица, звали к себе, и он, порывая с землей, желал оказаться среди их прозрачного, невесомого сонмища.
И все, кто стоял вокруг, преобразились, перестали ерничать и смеяться, молились, отдавали свои силы, веря, что женщина утратит последние остатки телесности и в прозрачном луче взмоет к потолку, к желтому, как луна, светильнику, уйдет сквозь него в бескрайний простор небес.
Женщина вдруг опала, сникла, словно соскользнула с тончайшей спицы. Бессильно опустилась на пол, уронив безвольные руки. Глаза, еще секунду назад огромные, темно-синие, выпукло-блестящие, потухли, запали, обмелели, будто из них вытекла живая влага, и женщина стала похожа на сухую мертвую бабочку с оборванными, пыльными крыльями. Музыка смолкла.
— Кто-то нам сильно мешает! — рассерженно закричал чернобородый факир, гневно тряся в ухе серебряной серьгой. — Среди нас находится вредный колдун! Мешает образованию биополей!.. Перестань мешать, сатана, иначе сокрушу тебя встречным ударом!.. Заговариваю тебя, устраняю, отключаю твое биополе! — обращался факир к невидимому врагу, вращая перед толпой руками, словно вычерпывал из комнаты злую энергию, выплескивал горстями в окно. — Совершаем вторую попытку!.. Поможем Наталье!.. Думаем все о небесном!.. О рублевской «Троице»… О Гималаях… О Юрии Гагарине…
Снова заиграла музыка, заунывная, печально-тягучая, словно жук излетал из нагретых солнцем камней в рыжей безводной пустыне, над которой несется солнечный прах истлевших библейских костей.
Женщина ожила. Поднялась в полупрозрачном облачении, в котором слабо сквозило хрупкое тело. Потопталась гибкими пальцами по паркету, как балерина на пуантах. Воздела руки, сделав несколько волнообразных движений, щупая воздух, собираясь взмахнуть и излететь. Вытянулась по лучу, упираясь стопами в слабое зеркальце, от которого вверх, туманно и призрачно восходил столп света, пропадая в стекле плафона. Ее тело превратилось в дрожащую тетиву, трепетало, вздрагивало. Вступило в страшную неравную схватку с земной гравитацией, планетарной угрюмой мощью. Уповало на чудо, на высшую волю, которая вырвет ее из кромешного бытия, где властвует смерть, господствует ограниченное неверное знание, примет ее на небо.
Коробейников молился, глядя на хрупкую танцовщицу. О том, чтобы совершилось чудо и их обоих заметили свыше. Услышали их искренний страстный зов. Освободили от гравитации смерти, от бессчетных земных могил, утягивающих в свою глубину. Живыми, не познавшими тленья, взяли на небо. Его умоляющая, верящая в чудо душа взывала к Господу, чтобы тот на мгновенье сместил непреложные земные законы, раскрыл беспощадный волчий капкан, в который уловлена жизнь, и он, утратив вес и вещественность, прозрачный для света, не отбрасывая тени, вознесся на небо.
Вокруг все молились, как в храме. Эта коллективная жаркая мольба помещала женщину в едва заметное серебристое облако. Словно вокруг нее распадались молекулы воздуха, создавалось иное, не подвластное тяготению вещество, копились неведомые неземные энергии. Вот-вот из-под ног ударит пышный огонь, толкнет ввысь, к законченному лепному потолку, к замутненному плафону, утянет сквозь этажи и железную кровлю, в дымное московское небо, и женщина, удаляясь, сбрасывая серебристое облако, растает, словно звезда.
Коробейникову казалось, что ее гибкие пальцы отрываются от паркета, она начинает облекаться в фиолетовый лепесток Фаворского света. Но фиолетовый свет померк. Женщина слабо вскрикнула, стала подламываться. Состоящая из нескольких переломившихся отрезков, упала на пол, похожая на подстреленную худую цаплю. Медленно вытянулась в предсмертной муке. Из узких ноздрей по бледному лицу покатились две тонкие струйки крови.
Все бросились к ней. Стали подымать. Факир отгонял их гневными взмахами:
— Не прикасайтесь!.. Не мешайте выйти из астрала!.. Возможны деформации… Пусть восстановится кривизна магнитных полей… Земля, Юпитер и Сатурн сложили свою гравитацию, и это привело к неудаче…
Женщину осторожно подняли, понесли в соседнюю комнату. Разочарованному Коробейникову это напоминало балет, в котором уносят со сцены станцевавшую смерть балерину.
Чувствуя опустошенность и слабость, стал искать глазами Саблина, чтобы позвать и уйти.
Однако музыка продолжала звучать, утрачивая заунывную мелодичность, обретая жаркий, горячечный ритм. Казалось, в кассетнике дышит огромное, жаркое легкое, сквозь свищ вырывается накаленный шумный воздух. Выскочил дюжий парень в косоворотке, подпоясанный красным ремешком, с белыми, расчесанными на прямой пробор волосами. Лицо его было со следами загубленной в пьянстве красоты. На лбу красовалась золотая перевязь. Он был похож на состарившегося Леля. Под музыку мощно, ритмично стал водить плечами, двигать сжатыми кулаками. Синие глаза яростно зыркали, ухарски подмигивали. Из раскрытых губ, сквозь желтоватые зубы, стала вырываться неистовая песня:
Товарищ Ленин, ты не виноват. Тебя надул товарищ Карла Маркс. Он жил давно, почти сто лет назад, А на Руси тогда варили квас.Парень водил глазами налево-направо, выхватывая из толпы себе на помощь других певцов, и те начинали петь. Как и он, сжимали кулаки, вздували бицепсы, начинали топтаться, наклонялись в разные стороны, медленно двигались по кругу.
Теперь над Русью грай веселых птиц. Они сидят у нас на головах. Клюют глаза у мертвых кобылиц, Справляют свадьбы в рухнувших церквах… Хоровод становился тесней. Огромное легкое в кассетнике свистело, шумело. Но мы опять наточим топоры, Опять уйдем в зеленый шум дубрав. И веселиться будем до зари. Ах, старый Карла, ты совсем не прав…Коробейников начинал подпевать. Его затягивало в топочущий хоровод, влекло вокруг горячего костра, озарявшего вершины ночных деревьев. Он был, как и все, партизан, беглец, скрытник. Не лег под тяжкую пяту государства. Не устрашился жестоких законов, черных воронков, опутанных проволокой зон. Отверг парады и демонстрации, помпезные песни и лозунги. Не искусился на угрозы и лукавые уговоры, а ушел в леса, облекся в льняные одежды, волчьи меха. Водит колдовской хоровод, выдыхает жаркую безумную песню, от которой сотрясается воздух, гул идет по окрестным лесам и долам, и от этого трясенья начинают трескаться кремлевские стены и башни и от рубиновых звезд откалываются заостренные наконечники.
Мы запалим горючие костры, У бочки выбьем золотое дно, И встретим песней алый свет зари, И с нами Бог наш светлый заодно. И пусть над Русью грай веселых птиц, И на крестах могильных свежий снег. Мы оседлаем белых кобылиц И на зарю направим резвый бег…Кто он такой, Коробейников? Восторженный певец гигантских строек, целинных жатв, атомных реакторов и циклотронов, воспевающий державную красоту и величие государства? Или «повстанец», беглец, лесной язычник? Он художник, свободный в своем одиночестве, жадно внимающий звукам земли и неба, ненасытный в погоне за впечатлениями, свой со всеми, зорко и радостно взирающий на картины и образы, которые, данным ему от Бога талантом, перенесет в свою новую книгу.
Товарищ Ленин, ты не виноват. Тебя надул товарищ Карла Маркс. Он жил давно, почти сто лет назад, А на Руси тогда варили квас.Песня кончилась. Все, кто пел, горячие, жарко дышащие, не хотели прерывать пляс. Играли бицепсами, словно сжимали в кулаках топоры. Двигали плечами, похожие на косцов. Топотали, будто обминали огромное, в снегах, костровище. Кассетник продолжал грохотать, завывал, извергал безумную музыку, в которой дышали сделанные из овечьих шкур волынки, свистели берестяные дудки, звенели бубны, верещали трещотки, и кто-то неистово, по-разбойничьи, посвистывал.
— Ряженые, выходи! — тонко, с клекотом, прокукарекал Кок. Метнулся к верстаку, где пялились размалеванные жуткие маски. Схватил ту, что изображала деревенскую дуру Глафиру, сунул в картонный короб свою длинную, с золотым хохолком и острой бородкой голову. И по комнате поплыла набеленная, с бурачным румянцем девка, озирала всех огромными, словно синие блюдца, глазами, норовила лобызаться толстенными, малиновыми, размазанными в поцелуях губами, похабно подставлялась гостям, и те ее лапали.
Художник Вас ухватил скуластый костяной череп с пустыми глазницами, весь изрисованный нежными лазоревыми цветами. Опрокинул себе на голову. И улыбчивая беззубая Смерть, ласковая и нарядная, заглядывала всем в лица, приговаривала:
— А ты мне люб. Я твоя невеста. Айда венчаться.
И тот, к кому она приникала, в страхе отскакивал и крестился.
И уже танцевало, кружилось яростное, желто-оранжевое, как подсолнух, Ярило, обжигая всех пышными лепестками. Скакал и блеял уродливый страшный козел с заостренным клочком бороды Рыцарь Родригес, мотал длиннющей, в шляпе чуть ли не до потолка бровастой башкой, выкрикивая испанские слова. Красноносый солдат-пропойца бражно шатался, отдавал честь, подносил к усам граненый стакан.
Маски взлетали с верстака, накрывали человеческие лица, и с теми, кто их напяливал, случалась мгновенная перемена. Маска сразу впивалась в лицо. Выедала человеческий лик, становилась личиной. Человек утрачивал свое «я», принимался реветь, хохотать, говорил на непонятном языке, двигал животом и бедрами, подчиняясь личине, которая обретала над ним безграничную власть.
Коробейников схватил с верстака тонконосую, с подведенными глазами и напомаженными губками маску француженки Жизель, в кокетливой шляпке с сетчатой вуалью. Всунул голову в просторную глубину, пахнущую сырыми газетами, клеем и красками. Выглянул сквозь прорези в блудливых зеленых глазах куртизанки. Обнаружил себя внутри тесной, скачущей, беснующейся толпы, в которой орали, визжали, сталкивались коробами, больно били и щипали друг друга. И вдруг почувствовал, что личность его рассасывается, тает, улетучивается. Его спрятанное в маску «я» освобождается от имени, пола, памяти, от правил приличия, от манеры говорить и одеваться. Освобожденная, осчастливленная своей внезапной свободой, его личность возликовала. Ощутила себя невидимой для остальных глаз, неуловимой для соглядатаев, неподвластной законам и правилам. Эта свобода позволяла подскочить к молодой полногрудой женщине и сунуть руку в вырез ее платья. Или больно пнуть пританцовывающего лысоватого парня. Или, если того возжелает его раскрепощенное «я», подойти убить ту печальную, с немытыми волосами девицу, похожую на серую мышь. Восхитительная, лихая, небывалая свобода опьянила его, словно он выпил стакан спирта. Руки его взлетели, тело обрело летучесть и легкость. Он вскочил на верстак и стал танцевать канкан, подбрасывая ноги, видя с высоты крутящиеся, ярко размалеванные рожи.
Внезапно в дальнем конце комнаты раздался женский крик, истошный, визжащий, ненавидящий. Музыка смолкла. Визг продолжался, обрастая другими гневными криками, клекотом, звериным хрипом. Коробейников сбросил душную маску. С высоты верстака увидел Саблина, улыбающегося, с бледным лицом, перед которым извивалась визжащая женщина, тощая, как ободранная кошка. К ней присоединились другие. Обступили Саблина, указывали на него пальцами, грозили, плевали.
— Это психиатр!.. — вопила женщина. — Кто его привел?.. Он вызвал санитаров!..
Это известие ошеломило присутствующих. Все придвинулись к Саблину, воззрились ненавидяще, боялись подступиться, оставляли вокруг него свободное пространство. Так ведет себя нечистая сила, если ее вдруг осеняют крестным знамением. Начинает истошно вопить, страдать, стремится истребить источник страдания. Но невидимая святая защита очерчивает неприступный круг, через который не в силах перескочить бесы.
— Что случилось? — Коробейников, вслед за Коком, протолкался к Саблину.
— Ничего особенного, Мишель. Здесь все шутят, и мне пришло в голову пошутить. В беседе с этой эксцентричной дамой я назвал себя психиатром. Рассматривая публику, стал давать диагнозы бредов, маний, психозов, параноидальных синдромов. Видимо, я угадал. Это и вызвало бурную реакцию.
Общество шизофреников было потрясено известием, что к ним проник психиатр. Саблин своей жестокой шуткой угодил в больное, сокровенное место. И за это мог поплатиться. Его могли расклевать, разорвать на клочки. Улыбаясь, он побледнел, не ожидая такой концентрированной ненависти. Напоминал растерянного ястреба, оказавшегося вдруг в стае несметных пичуг, атакующих врага своим верещащим множеством.
— Друзья, это шутка! — успокаивал всех Коробейников. — Это мой приятель, никакого отношения к психиатрии не имеет. Он просто любитель забав, как и все мы.
— Он правильно указал мой диагноз! — не унималась женщина, по лицу которой пробегали больные гримаски, и круглые злые глаза люто смотрели на Саблина. — Откуда он мог знать мой диагноз?
— Твой диагноз у тебя на лице, Антонина, — примирительно сказал Кок. — Ведь ты тростниковая кошка. И все это видят. И всем это нравится, мать твою так-то.
— Да, всем это нравится, — согласилась женщина, быстро успокаиваясь, гибко, по-кошачьи, выгибая худую спину. Изображала хищную, чуткую тростниковую кошку, как это делала каждый год на приеме у психиатра, продлевая свою инвалидность, дающую право нигде не работать, праздно слоняться по московским богемным квартирам, толковать о знаках зодиака, экстрасенсорных полях, вступать в краткосрочные любовные связи с такими же, как и она, шизофрениками.
— Нам пора. — Коробейников увлекал за собою Саблина. — Сюда, как в ад, легко войти, но трудно выйти.
Кок провожал их до дверей:
— Через несколько недель у нас состоится выставка-продажа наших картин. Будут иностранцы, представители посольств. Хотим провести эту выставку где-нибудь в укромном месте, подальше от глаз гебистов. Может, в парке, в лесу. Если у тебя есть знакомые иностранцы и прочие богатенькие, зови их. Я тебя извещу о времени.
Они с Саблиным вышли на воздух, двинулись по Малой Бронной. Казалось, им вслед несется невидимый рой летающих кошек, разукрашенных ведьм, козлоногих существ, желая убедиться, что они действительно удаляются, покидают их растревоженный шабаш.
19
Они вышли на Тверской бульвар и шагали под коричневыми, гнутыми деревьями с полуопавшей листвой, сквозь которую светило нежное осеннее солнце. Пахло тончайшим тленом от сухих красно-бурых куч, в которые дворники метлами сгребали палый сор. Коробейников направлялся на встречу с архитектором Шмелевым, но Саблин не отставал от него, потешался над перепуганной полубезумной богемой, с которой удалось сыграть веселую шутку. Коробейников улыбался, посмеивался, искоса поглядывая на своего веселого спутника в аристократически белой кружевной рубашке, от шуток которого веяло ледяным холодком жестокости. Саблин обнаруживал виртуозное умение отыскать в человеке больное, беззащитное место и со смехом вонзить отточенную спицу. Так поступил он с пьяным писателем Дубровским, бывшим зэком, усадив его «под конвоем» в такси. Так только что всласть натешился над пугливыми шизофрениками, пригрозив психиатрической лечебницей. Его шутки питались страданиями незащищенных людей, и, видимо, именно это доставляло Саблину особое удовольствие. Маленькие театральные сценки, которые он постоянно разыгрывал, были остроумным и неистощимым театром жестокости. Коробейников, не чувствуя себя в безопасности, вдруг подумал, не слишком ли он приблизил к себе Саблина. Не слишком ли увлекся исследованием этого оригинального человека, непредсказуемого в своих бесчеловечных забавах. И тут же продолжил исследование, роняя невинное замечание, которое должно было вызвать у Саблина его эксцентричное многословие:
— Мне кажется, Рудольф, вы очень рисковали. Эти сумасшедшие могли вас растерзать. Они не понимают шуток, связанных со смирительными рубахами.
— Я просто поставил эксперимент, Мишель. Кинул спичку в вещество, напоминавшее порох, и оно полыхнуло. Сумасшедшие до времени прячутся в гнилых подвалах, в психиатрических клиниках, в художественных мастерских. Они укрылись от дневного света в подполье и кишат там несметными скопищами. Большевиков разбомбят не американцы. Кремль падет не от удара атомной бомбы. Его разрушат сумасшедшие, когда выйдут из подполья. Они наполнят министерства, партийные комитеты, творческие союзы и руками раздерут большевистские танки, свалят с пьедесталов большевистские памятники, заплюют и захаркают большевистские святыни. Предвижу «революцию сумасшедших», их безумную, размалеванную, в пучеглазых масках толпу. Перед ней, огромная, на ходулях, шествует Смертушка, разукрашенная голубыми цветочками, подпоясанная по костлявым бедрам красным флагом, который она содрала с кремлевского шпиля. Мы побывали в штабе революции, Мишель, среди революционных шизофреников…
Они оказались у Никитских ворот. Ампирная белая церковь, глухая и заколоченная, казалась тихой усыпальницей, где витали прозрачные тени исчезнувшего, невозвратного прошлого. Темный фрак влюбленного Пушкина, свадебная фата Натали, тихие золотые огни, колеблемые венчальными песнопениями. Коробейников, печально любя эту церковь, продолжил свою опасную игру с Саблиным:
— Мне кажется, дорогой Рудольф, вы преувеличиваете роль шизофреников в борьбе с советским строем. Мы имеем дело с горсткой запуганных и не всегда талантливых художников, каждый из которых состоит на учете если не в КГБ, то в психушке.
— Мишель, когда в социальной жизни прохладно или холодно, когда в политике лед и снег, тогда эпидемия сумасшествия подморожена, безумцы прячутся в подвалах, на чердаках, в загаженных коммунальных квартирах. Но как только наступает оттепель и все начинает таять, течь, вонять, разлагаться, то сумасшедшие размножаются с необычайной скоростью, проникают во все слои общества, заражают огромные массы людей. Сталин понимал опасность сумасшедших. Он построил для них ГУЛАГ, своеобразный Рай сумасшедших. Чтобы дать им занятие, он заставлял их рыть каналы. Цивилизацию Марса погубили расплодившиеся сумасшедшие, которые перестали рыть каналы. ГУЛАГ, этот сталинский Рай сумасшедших, где апостолом Петром был поставлен Лаврентий Берия, ангелами служили охранники, серафимы и херувимы были исполнителями приговоров, пускавшими неисправимым безумцам пулю в затылок, тем самым приобщая мучеников к лику сумасшедших святых. Над архитектурой ГУЛАГа работали лучшие архитекторы страны — Жолтовский, братья Веснины, Щусев. Павильоны ВДНХ с их изумительными колоннами, фризами и фронтонами были прообразом концентрационного Рая, задуманного Сталиным для спасения Родины.
Коробейников не мог понять, шутит ли Саблин в своей обычной жестокой манере или говорит серьезно, обнаруживая глубинную патологию, которая облекалась им в поэтическую форму, в непрестанную, возбуждающую его игру.
Они проходили здание Консерватории, которое всегда тайно тревожило и волновало Коробейникова. Было вместилищем музыкальных бурь, симфонических ураганов, в которые превратились бушевавшие некогда войны и революции, человеческие взлеты и грехопадения. Эта музыка, как синие грозовые тучи, копилась под потолками здания, среди портретов великих композиторов, мерцая ртутными проблесками, рокоча потаенными громами. Еще один изящный полонез, взлет смычка, удар в костяную клавишу, и тучи вырвутся из окон Консерватории, наполнят мир яростью ожившей истории.
— Дорогой Рудольф, ваши оригинальные образы мешают увидеть в сталинских репрессиях результат внутрипартийной борьбы, столкновение разных концепций развития. Вы кладете начало новой отрасли знаний — психиатрическому обществоведению, — осторожно возражал Коробейников.
— Гитлер и Сталин — два великих психиатра, определивших симптомы мировой шизофрении и ее носителей — евреев. Они взяли на себя великую миссию исцеления зараженного человечества и построили грандиозные клиники — концлагеря в Германии и ГУЛАГ в России. Санитары в черной форме СС, братья милосердия в синих околышках НКВД отделяли этот химерический параноидальный народ от остальных народов, изолировали его, проводили радикальный курс лечения под наблюдением медиков Гиммлера и Берия. Газификация евреев — это вершина углеводородной энергетики. Празднования майских и октябрьских торжеств в ГУЛАГе с массовыми расстрелами заключенных под звуки «Интернационала» — это и есть истинный театр Мейерхольда, в котором сам он играл роль полосатого зэка. Однако евреи, используя магические методики, которые мы только что наблюдали на Малой Бронной, из газовых камер умудрились воздействовать на медицинский персонал. Инфицировали Гитлера и Сталина и умертвили их, что привело к свертыванию оздоровительной, в масштабах планеты, операции. Сумасшедшие уцелели, свили осиные гнезда на чердаках и в подвалах. В урочный час вылетят из укрытий и насмерть изжалят все человечество. Вы наблюдали, как я слегка потревожил осиную семью. Повторяю, Мишель, Советский Союз будет уничтожен не бомбардировщиками «Б-52», не ракетами «Атлас», а будет изжален вылетевшими из гнезд сумасшедшими евреями, отравлен их смертельными иудейскими ядами.
Впереди, в узком прогале улицы, начинало розоветь и желтеть, словно там завершался город и открывалось небо с розовой и желтой зарей. Это были кремлевская стена и нежный янтарный дворец, с детства вызывавшие у Коробейникова предвкушение чуда, которое он воплощал в восторженных рисунках: красная зубчатая стена, огромные звезды и желтый дворец с наличниками, похожими на белые кружевные воротники, словно их вынули из бабушкиного сундука.
— Ваше мировоззрение, Рудольф, делает вас одиноким. Могу представить, сколько разочарований вы испытали, пытаясь найти в людях отклик.
— Вы единственный, Мишель, с кем я могу говорить, рассчитывая на душевный отклик. В мире царит такая пошлость и скука, что иногда просыпаюсь ночами от этой скуки, которая темнее тьмы кромешной. Жизнь кажется склепом, где давно истлел покойник, какой-нибудь величественный камергер или фельдмаршал, выигрывавший великие сражения, составлявший блистательную славу империи, и теперь в его могиле поселилась тихая бесцветная плесень. Просыпаюсь и ненавижу этот пошлый город, который хочется поджечь со всех сторон и, как Нерон, наблюдать из окон его испепеление. Ненавижу этот тупой, утоленный своей животностью народ, который дружно хрюкает у корыта величиной в шестую часть суши. Народ, который отказался от своих князей, царей, праведников, великих мыслителей и духовидцев и сотворил себе кумиров из двух Павликов — Павлика Морозова и Павлика Корчагина. Народ, состоящий из сплошных Павликов, одни из которых уродливые калеки и паралитики, а другие предатели отцов. Ненавижу…
Этот жаркий, как спирт, наполненный синим пламенем выдох совпал с моментом, когда они выходили на Манежную площадь, всегда вызывавшую у Коробейникова благоговение и религиозное любование. Женственная, благородная белизна Манежа, величественная царственная громада Кремля, гордая красота Дворца с огромной пустотой и свежестью площади. Сладкий ветер осени выдувал из полуоблетевшего Александровского сада сиреневые и голубые листья, делавшие красное островерхое здание Исторического музея туманно-фиолетовым. Гостиница «Москва» закрывала площадь от остального города, создавая незанятое пространство, в котором чему-то было уготовано свершиться. Это несовершившееся, предстоящее будущее, в ожидании которого торжественно замерли великолепные строения, порождало в душе предчувствие грядущей великолепной истории, свидетелем и участником которой станет и он, Коробейников. Жестокая мизантропия Саблина казалась неопасной и выспренней среди этого великолепного, надежного ансамбля.
— С этим чувством нелегко жить, Рудольф. Такая ненависть, если она не находит выход в действии, может привести к разрыву сердца.
— Вы правы, Мишель. Я готов перевести мою ненависть в действие. Признаюсь, в часы ночной бессонницы я обдумываю способы убийства Брежнева и членов Политбюро. Мои ночи напоминают теракты. С пистолетом за пазухой прокрадываюсь на правительственный прием в Кремль, и когда генсек произносит поздравительный тост, я подбегаю к его столу и в упор стреляю из пистолета в пиджак с наградными колодками. Или добываю заряд динамита, закладываю фугас по маршруту правительственного кортежа и подрываю, когда черный лимузин проносится мимо Поклонной горы. Или исследую вентиляционные люки и воздухозаборники Кремлевского дворца, где проходят партийные съезды. Дожидаюсь, когда вся партийная сволочь сойдется в зале. Залезаю на крышу и вбрасываю в люк капсулы с газом «Циклон». Газ мгновенно наполняет помещение, и все эти рабочие и колхозники, прерывая аплодисменты, валятся в кресла, и на губах у них выступает зеленая пена. А весь президиум с секретарями ЦК и членами Политбюро начинает дергаться в припадке, и у них из ноздрей и ушей выталкиваются зловонные ядовитые пузыри. Лежат, как отравленные крысы, и над ними — статуя Ленина работы скульптора Меркулова…
Они шли вдоль белых великолепных колонн Большого театра, над которыми в нежно-голубых небесах мчалась неистовая квадрига, и Аполлон, черный, как эфиоп, натягивал невидимые вожжи, готовый перенестись через сияющую пустоту в Китай-город, где неясно розовели полуразрушенные колокольни.
— Хорошо, что в ваши сны, Рудольф, не заглядывают осведомители КГБ. По традиции прокурора Вышинского, мысли и сны наказуемы.
— Мишель, я знаю вас недолго, но убедился, что вы благороднейший и честнейший человек. Я решаюсь сделать вам предложение. Мы можем составить тайное общество, священное братство, ставящее целью освобождение нашего Отечества от большевистского ига. Вы идеолог, человек необычайно глубоких взглядов на судьбу России, блестящий стилист, очаровательный человек и писатель. Ваши связи с интеллигенцией, ваша репутация в литературных кругах, ваш дар газетчика и публициста будут незаменимы. Я беру на себя роль организатора, создателя тайных ячеек, боевых групп, разработчика политических и военных стратегий. Нам нужен финансист, человек, способный проводить экспроприацию, налеты на банки и ювелирные магазины, на тайных богачей, ибо любая организация требует денег — на печатную продукцию, оружие, содержание активистов…
Они подымались вверх к площади Дзержинского, где крутилась многоцветная глянцевитая карусель автомобилей, напоминающая танец жуков-плавунцов на темной поверхности вод. Первопечатник Федоров, бронзовый, отекающий зеленью, рассматривал бронзовый лист, стоя на пьедестале, подле которого Коробейников назначил свидание Шмелеву, чтобы отсюда вместе направиться в мастерскую архитектора.
Михаил испытал обморочное чувство опасности, исходящее от этого обаятельного, с голубыми глазами человека, который, обольщая, тянул его в погибель. Но смертельная опасность не остановила Коробейникова. Оставаясь исследователем, он продолжал изучать попавшийся ему прототип, полагая, что теперь непременно поместит его в свой роман. И эту прогулку по осенней Москве, и Тверской бульвар, и пушкинскую венчальную церковь, и фиолетово-розовую стену Кремля с янтарным дворцом, и бронзового Первопечатника, на голову которого уселся раскормленный голубь, и это смертельно опасное предложение о политическом заговоре, которое могло быть сценкой театра жестокости, столь излюбленного Саблиным, или продуманным замыслом с целью его погубить.
— Кого же первого мы подвергнем экспроприации, дорогой Рудольф? Что и у кого мы отнимем? — простодушно засмеялся Коробейников.
Саблин, не слыша иронии, стиснул зубы, играя желваками, отчего на висках у него вздулись синие вены и красивое минуту назад лицо стало почти уродливым:
— Мы нападем на этого отвратительного жида Марка Солима и отнимем у него Елену!..
Коробейников был поражен. Вся извилистая, в разрывах и противоречиях, логика Саблина, с падениями в преисподнюю, с непредсказуемыми взлетами в несуществующий, мифологический мир, внезапно сошлась на мысли, ради которой и был затеян весь разговор. Площадь Дзержинского свертывалась в пульсирующую живую спираль, словно была сердцевиной часов. Двигала невидимые колеса, отсчитывала неслышное неумолимое время, дарованное им обоим в этом осеннем солнечном городе, чтобы выполнить каждому свое предназначение, перед тем как бесследно исчезнуть. Оставить без себя этот вечный город, меняющий обличья, названия переулков и улиц, царей и властителей, идеологии и символы веры. Город пускал в свои теснины временных обитателей, даруя им краткую жизнь среди колоколен и труб, чтобы забыть о них навсегда.
— Мы должны уничтожить страшную скользкую гадину… Он украл у меня сестру, обесчестил, осквернил наш род… Обольстил ее, опоил дурманными зельями, утащил в свой сатанинский замок… Осыпал бриллиантами, оковал золотой цепью, лишил разума… Она его рабыня, слуга, моет ему ноги в тазу… Он касается ее лица своими мерзкими толстыми пальцами… Целует слюнявыми губами… Валит в свою засаленную постель… Она прислужница в доме, танцует на потеху таким же, как и он, жидам танец живота… Скрашивает их еврейские посиделки, на которых они замышляют чудовищные планы… Они все — сумасшедшие, и их надо убить…
Здание КГБ, напоминавшее громадный торт, взирало на них множеством окон, украшениями и вензелями из желтого крема, красными марципанами, зелеными дольками мармелада. За этим сладким фасадом таилась железная сущность, стальной непроницаемый сейф со множеством замков и секретов, где хранилось сокровенное знание, таинственные коды страны. И пока они разговаривали, стоя на солнечной открытой площадке перед клумбой осенних цветов, кто-то, невидимый и спокойный, смотрел на них из окон дома, из-под кремовых виньеток, сквозь зеленый лепесток мармелада.
— Елена Прекрасная, она как царевна у врат, которую выставили трусливые горожане на поедание Змею… Мерзкий дракон Марк Солим разевает зловонную пасть, готов ее проглотить… И только святой наездник, непобедимый герой, отважный Победоносец может ее спасти… Вы герой, Мишель, вы Победоносец… Вы спасете ее… Вы вхожи в дом… Этот хитрый лукавый семит испытывает к вам доверие… Елена нуждается в вас… Мы обязаны вырвать ее из пасти змея… Должны разрушить сатанинский чертог с его мерзкими обитателями… Если мы это сделаем, то убережем страну от великих, неисчислимых несчастий… Поверьте, Мишель, нас ждут катаклизмы… Сумасшедшие из кружка Марка Солима готовят великие потрясения… Москва станет местом погибели…
Лицо Саблина было белым, губы дрожали. На висках выступил больной голубоватый пот. Глаза закатились, белки жутко вздрагивали. Казалось, он вот-вот упадет. На Москву пала странная сиреневая дымка, словно солнце занавесили полупрозрачным платком. Коробейников испытал помрачение, будто пророчества Саблина начинали сбываться, и Первопечатник Федоров, отламываясь от постамента, падал на него бронзовой гулкой громадой.
Дула свирепая поднебесная медь, и в клокочущем горле пророка вздувались проклятья обреченному городу. С липкой, залитой чернилами площади, словно на нее испражнилась громадная каракатица, катил «бэтээр» с башенным номером 666, волочил на железном тросе изуродованную статую, которая колотилась на асфальте затылком, высекая зеленые искры. Внизу, у Манежа, кипела толпа, визжали ораторы, плескали многоцветными флагами, кого-то проклинали и славили, и Манеж казался громадным рыхлым сугробом. Баррикады перегородили Смоленскую, люди тащили строительный мусор и хлам, и в толпу вонзались режущие пулеметные очереди, превращаясь в визжащие волчки, выстригали коридоры и просеки. Танки, выбрасывая синюю гарь, наводили орудия на мраморное белое здание. Били в упор, осыпая этажи, вгоняя в окна багровые взрывы. По белому мрамору вверх ползли черные черви копоти, летело в небо рыжее пламя, и кто-то, похожий на горящую куклу, выпрыгивал из окна. По улицам провозили огромную клетку, и в ней, тесно сбитые, словно на трибуне мавзолея, стояли члены Политбюро в фетровых шляпах, кепках и смушковых «пирожках». Небо над городом было черным, из него выпадали метеориты и звезды, прожигали крыши бенгальскими огнями, превращали Москву в пожарище. Под ноги Коробейникову, на асфальт упала крохотная злая комета. Извивалась, тлела, разбрасывала колючие острые искры, скалила на Коробейникова маленький хищный рот.
Помрачение продолжалось секунду. Кончилось. Опять было солнце. Первопечатник Федоров молча рассматривал таинственный бронзовый лист. Саблин, как ни в чем не бывало, нагнулся к клумбе, сорвал фиолетовую осеннюю астру, ловко прицепил к пиджаку. Коробейников не мог понять, что это было. Краткое помешательство?.. Сеанс гипноза, проведенный кем-то, кто наблюдал за ним из помпезного желтого здания? Или обычная жестокая шутка Саблина, его неподражаемая мистификация.
— Миша!.. — услышал Коробейников. Обернулся. К ним подходил архитектор Шмелев, издалека радостно улыбался.
20
Скуластое степное лицо Шмелева было смуглым и аскетичным, каким оно бывает у кочевников, проводящих время в седле среди белесых казахстанских просторов. Рука, что он подал Коробейникову, была натружена постоянными работами по дереву и металлу, которые он предпринимал, завершая архитектурный макет. Он был полон энергии, как всякий одержимый творец, чье открытие находило долгожданное признание.
— Это Рудольф Саблин. — Коробейников знакомил их, радуясь появлению друга, положившего предел изнурительному общению с непредсказуемым спутником.
— Разумеется, я слышал о вас. Мишель мне много рассказывал, — оживился Саблин, милый, радушный, с фиолетовой астрой в петлице, пуская в ход все свое обаяние, будто это не он только что с помертвелым лицом, голубоватыми каплями пота был готов упасть в обморок. — Ваши проекты, как я их понимаю, порывают с архитектурой прошлого, неподвижной и омертвелой, как раковина, куда прячется пугливый моллюск. Эта архитектура ГУЛАГа, с античными портиками или готическими шпилями, куда властители во все века загоняли рабов, из которых по большей части состоит человечество. Вы же своими летающими городами, которые собираются в фантастические соцветия в любой части света, а потом, словно одуванчики, разлетаются во все концы земли, создаете архитектуру свободных людей, порываете с историческим рабством. Ибо движение в пространстве есть признак свободы, которая в конце концов обеспечит движение во времени.
Шмелев удивленно и радостно воззрился на Саблина, так что его монгольские глаза стали шире, тонкие морщины расправились, открыв тончайшие светлые линии незагорелой кожи. Саблин безошибочно угадал в Шмелеве его чувствительный нерв, тронул его, мгновенно располагая к себе одержимого футуролога. Коробейников в который раз испугался прозорливости Саблина, делающей других людей беззащитными перед его жестокими выдумками.
— Вы абсолютно правы. Это архитектура свободных людей, порывающих с зависимостью от природы, переносящих свою судьбу из стихийной природы в управляемую историю, а историю подчиняющие одной-единственной цели — преодолению смерти. Мои Города Будущего создаются для бессмертного человечества. Являются воплощением Земного Рая, который провозгласил коммунизм. Удивительно, как вы, столь мало зная о проекте, так точно его истолковали.
— Я внимательно прочитал статью, которую написал о вас Мишель. Изучил вашу философию. Это философия духовного централизма, в центре которой вы поместили себя со своими уникальными знаниями, с непрерывно возрастаемым опытом, куда включены пространства, исторические эпохи, философские и религиозные школы, тенденции современной цивилизации. Вы с вашей идеей свободы и есть тенденция цивилизации. Как и Мишель, вы являетесь редким примером свободного самодостаточного человека, вокруг которого, словно кольца Сатурна, располагаются бесконечные картины мира. Когда-нибудь мы трое поселимся в ваших городах-одуванчиках и полетим в бесконечные просторы Вселенной, бессмертные и безгрешные, навсегда порывая с косностью, несовершенством, греховной земной природой.
Синие глаза Саблина счастливо сияли, и было неясно, восторгается ли он учением Шмелева или тонко над ним иронизирует. Шмелев, не привыкший к столь полному и быстрому пониманию, изнуренный противодействием скептиков, недружелюбных коллег, неумных и непросвещенных чиновников, был благодарен Саблину, испытывал к нему полное доверие.
— Мой централизм смотрится таковым лишь извне, — торопился он пояснить. — В центре, в сердцевине ядра, в его сверхплотной огненной точке происходит преломление внешней Вселенной во внутреннюю. В нежность, в любовь, в молитвенное созерцание, которое сопряжено с вечной женственностью, с Берегиней, Богородицей, Хранительницей Мира. Я говорю о Шурочке, — обратился Шмелев к Коробейникову, который с мучительной тревогой следил за тем, как льстивый и тонкий Саблин располагает к себе Шмелева. — Это ей посвятил я мои открытия. Она является хозяйкой моего Города Будущего. Ее изображение будет послано мной в другие миры, как благая весть о совершенном земном человечестве. Я приглашаю вас к себе в мастерскую, — повернулся он к Саблину. — Покажу вам проект в том виде, в каком его отправят на всемирную выставку в Осако. Представляешь, — он благодарно схватил Коробейникова за локоть, — поразительные сдвиги! Что ни день, ко мне в мастерскую приезжают академики, министры, крупные чиновники. Проект наконец заметили. Хотят сделать центральным экспонатом в советском павильоне.
Они прошли в каменную арку, пересекли улицу 25-го Октября и углубились в тесные кварталы складов, торговых хранилищ, угрюмых нагромождений, напоминавших вырытые в песчанике пещеры с темными углублениями, зловонными сквозняками, запущенными и загроможденными проходами, из которых тянуло склепом и тленом.
— Мне уже поступило предложение от Военно-Морского флота, — рассказывал на ходу Шмелев. — Они планируют обитаемые лаборатории на дне Ледовитого океана, где будут исследоваться гидрология, рельеф океанского дна, направление подводных течений. Как я понимаю, это предпосылка для размещения ракетных установок на дне океана. Шурочка мечтала побывать в Арктике, вероятно, мы с ней скоро поедем…
Они дошли до мастерской. Знакомая дверь в подвал выкрашена малиновой краской. Яркая голубая кайма. Возле замка в дубовую дверь врезана лопатка авиационной турбины. Остатки купеческого замка тщательно очищены, смазаны маслом, глянцевито чернеют.
— А еще ко мне обратились из Министерства геологии. В Каракумах, на золотых приисках, они хотят построить современный город, способный функционировать в пекле пустыни. Предстоит поездка. Шурочка будет счастлива увидеть пустыню…
Он отомкнул запор, стал спускаться по каменным ступеням в глубину подвала, откуда доносилась изумительная космическая музыка, будто в центре земли реяли бестелесные духи.
— Осторожно, не оступитесь, — обращался он к Коробейникову и Саблину. — Наверное, Шурочка пришла раньше меня. Я вас сейчас познакомлю…
Они спустились в подвал, миновали рабочую комнату, заваленную планшетами, красками, столярными инструментами. Вошли в основное помещение, где находился подиум с макетом Города Будущего. Казалось, божественная музыка изливается из бесконечной Вселенной, где реют бестелесные магнитные поля, дуют солнечные ветры, брызгают пучки космических лучей. Магическая сфера на подиуме вращалась, посылая на своды и овальные выступы стоцветные слайды тропических зарослей, лазурных бабочек, африканских масок. Город Будущего, состоящий из золотых чаш, хрупких соцветий, воздушных прозрачных зонтиков, колыхался, трепетал, готов был вспорхнуть и лететь. На подиуме, среди скользящих изображений, лежала голая Шурочка, страшно и бесстыдно расставив ноги, поддерживая их руками под коленками. На ней, вращая тощими ягодицами, двигался Павлуша, мотал стриженым затылком. Изображение ажурного папоротника на его спине казалось татуировкой.
— Что это!.. — немощно ахнул Шмелев.
Павлуша услышал голос. Продолжая биться, оглянулся безумным лицом, с выпученными глазами, мокрыми, захлебывающимися губами. Увидел Шмелева, но не мог остановить нахлынувшую на него судорогу, пока она не прокатилась по его худым лопаткам, гибкому позвоночнику, разрядилась больным тонким стоном. Он отпал от Шурочки, пополз по подиуму, попадая голым телом под огненные отпечатки тропических жуков, перламутровых улиток, буддийских статуй. Вскочил и побежал в темный угол, где стал, путаясь, одеваться.
Шурочка мгновенье оставалась все в той же бесстыдной позе с приподнятыми ногами, на которых мучительно растопырились пальцы. Затем сдвинула колени, утомленно встала, глядя на вошедших, не желая прятаться, показывая им свои полные груди, выпуклый живот, распущенные по голым плечам волосы. По ней бежали пальмовые листья, цветущие кусты, и было что-то первобытное, лесное, языческое в ее наготе и бесстыдной поступи.
— Ты этого хотел? — спросила она, выходя на край подиума, словно из зарослей. — Ты думал, что я — Берегиня? Ты думал, я Прекрасная Дама? А я шлюха!.. Я женщина с истерзанной маткой, у которой зарезали сына в утробе!.. Ты казнил во мне сына, а я казнила тебя в твоем «Городе»! В центре твоего «Города» — не Богородица, не Матерь Мира, не Дева Гималаев, а окровавленный эмбрион с монгольским разрезом глаз, твой недоношенный сын!.. Твой Город Будущего не Рай Земной, как ты любишь повторять, а абортарий с красными рассеченными трупиками!.. После насильственной смерти они населят твои летучие кладбища и станут носиться по орбитам, капая тебе на голову кровью… Ненавижу тебя!..
С ней совместилось увеличенное изображение лазурной бразильской бабочки. Казалось, из-за обнаженных плеч у нее вырастают сверкающие драгоценные крылья, но лицо было не ангельским, а злым и ужасным.
Шмелев закрылся руками, тихо, по-звериному выл.
— Пойдемте отсюда, — сказал Коробейников, утягивая за собой Саблина. Они вышли на улицу и быстро расстались. Коробейникову показалось, что на спокойном лице Саблина, когда тот отворачивался, мелькнуло беспощадное выражение.
21
Катастрофа Шмелева была и его, Коробейникова, катастрофой. Ужасающим образом была разрушена уникальная судьба, неповторимое мировоззрение, погребено великое открытие. После случившегося не существовало Города Будущего, как если бы подвал с макетом и чертежами забросали гранатами. Не существовало мужчины и женщины, которых он почитал друзьями, любуясь их гармоничным союзом. Не существовало авангардного пути, по которому могло устремиться утомленное общество, ведомое прозревшим, одухотворенным государством. Взрыв, который случился в подвале, породил взрывную волну, что неизбежно настигнет Коробейникова, и он будет вынужден метаться в вихрях чужого несчастья, расшибаться об острые углы разрушенного благополучия. Сострадая одному своему другу, Шмелеву, он отправился ко второму, к Левушке Русанову в Новый Иерусалим, надеясь укрепиться в духовном общении.
Приехал в сумерках и обошел вдоль стены разрушенный, нагретый за день монастырь с поникшим бурьяном, расколотыми башнями, щербатым кирпичом и сумрачными огромными ивами, сквозь которые чернела вечерняя река и туманно белела уходящая вдаль дорога. В городке начинали загораться желтые окна. Близко от стены, там, где размещалась секретная лаборатория, высилось огромное, гладкое, иссиня-белое яйцо, словно его снесла фантастическая птица, опустившись подле монастырских развалин. Было душно. Где-то надвигалась далекая, из-за Москвы, гроза, создавая перед собой, на всем пространстве Русской равнины, объем недвижного густого воздуха.
Он вошел в тесную комнатушку краеведческого музея, где обитал Левушка, и застал все семью, занятую сборами, готовую к трудному переезду. Левушка за эти недели принял долгожданный сан. Был облачен в черный подрясник, узкий в талии, широким колоколом ниспадавший книзу. Расцеловавшись с другом, красовался перед ним в облачении, то и дело поворачиваясь, заставляя черный пышный подол мести пол, поправляя на груди большой серебряный крест.
— Ну вот, брат, свершилось, — торжественно возвестил он. — Теперь, прошу тебя, Миша, как требует того мой сан, называй меня «отец Лев».
Коробейников несколько раз, несмело, словно пробовал губами новое словосочетание, назвал друга отцом Львом. Отметил совершившиеся в нем перемены. Лицо его стало еще более худым и бледным, с ромбовидными провалами щек. Волосы стали длиннее, тянулись к плечам. Золотистая борода и усы срослись, стали гуще. Большие сияющие голубые глаза смотрели глубоко и восторженно, и он, в своем церковном наряде, с крестом, стал походить на иконописный образ, на котором изображают аскетического, одухотворенного праведника.
— Вот, брат, получил приход. Смоленское село Тесово, за Вязьмой. Глухомань. Батюшка местный умер, и я заступаю на его место. Начинаю служение.
— Куда мы едем? Как это все довезем? Под самую зиму, с ребенком… Никогда не жили в деревне! — трагически возроптала жена Левушки, усталая и красивая Ника, беспомощно глядя на тюки, чемоданы, разбросанный скарб, среди которого, не находя себе места в поклаже, лежали большая сальная сковородка и зонтик.
— Матушка Андроника, — ласково и смиренно утешал ее отец Лев. — Я знаю, как тебе тяжело. Как любишь ты светское общество, наряды, театры и прочую мишуру. Но кончилось наше светское, суетное бытие, и начинается служение. И служим мы не прихотям мира сего, а Христу, и в этом служении, вот увидишь, мы обретем неведомые прежде радости, несравнимую ни с чем благодать. А что касается трудностей, Бог нам поможет… Правда, Алеша? — обратился он к маленькому сыну, который стоял посреди комнаты, держа поломанный игрушечный грузовик, не желая с ним расставаться. Худенький мальчик с тонкой открытой шеей и большими взволнованными глазами был возбужден предстоящим путешествием, ожидая от него увлекательных развлечений.
Они ужинали в разгромленной комнате, и на столе была простая, уже совсем деревенская еда — вареная картошка, хлеб, подсолнечное масло, копченая рыба, и, на удивление Коробейникова, не было водки. Отец Лев угадал этот недоуменный взгляд и твердо произнес:
— С этим, брат, покончено навсегда. Когда я принял сан, я дал завет Богу — в рот ни капли. Матушке Андронике приказал от соблазна не брать в дорогу рюмки. Теперь, брат, трезвость, ясность души, чистота помыслов, стояние на молитве.
— Это правда, — подтвердила Андроника, умоляюще устремляя на мужа свои черные греческие глаза. — Это одно примиряет меня со всеми предстоящими трудностями. Я каждый вечер молюсь, чтобы эта пагуба отстала от Левы. И он пока что держится.
— С Богом нам все по плечу, — изрек отец Лев, прекращая эти неуместные сомнения жены. — А мы с тобой, Миша, давай-ка пройдем по монастырю, простимся с обителью святого Патриарха Никона…
Они вышли в сухую ночную тьму, стоящую среди обглоданных башен, рухнувших сводов, поломанных куполов. Сюда не долетали звуки городка, стуки электричек, мерцавшие на дороге огни. Пространство, ограниченное вокруг каменной кладкой стен, подымалось вверх, расширялось в туманной черноте неподвижного осеннего неба, в котором застыли желтые звезды. Надвигалась гроза, было безветренно, душно. В остановившемся воздухе накапливалась таинственная энергия, от которой светились ночные камни, едва заметно вспыхивал бурьян. Молча обходили монастырь, и подрясник отца Льва шелестел по сухой траве, сметал камушки, и они рассыпались с легким шорохом.
— Давай зайдем в храм, где я провел столько одиноких счастливых часов в молитвах и созерцаниях. Именно здесь произошли самые важные духовные события моей жизни. Здесь я уверовал. Здесь получил от Патриарха Никона знамение в виде самшитового креста. Здесь, по наущению Патриарха, решил принять сан. Отсюда, по его неслышному наставлению и благословению, отправляюсь в мой путь.
Они вошли в проем, прошествовали по битому кирпичу, по нежно хрустящим, расколотым изразцам и оказались в центре громадного собора, возносившего ввысь свои величественные стены, на которых когда-то держался необъятный шатер с росписями и поливными изразцами. Теперь шатер рухнул, лежал под ногами грудами камня, обломками глиняных цветов и птиц, а вместо него раскрывался овальный, огромный прогал в небо, окруженный чернотой стен, полный звезд, небесных ночных лучей, несущих на землю таинственную весть мироздания.
— Давай постоим на этих святых камнях, от которых я начинаю мой путь и которых мне будет так не хватать, — сказал отец Лев, подымая лицо вверх. Коробейников видел его худой профиль с бородкой, округлую скуфейку, окруженные мириадами звезд, которые здесь, в соборе, утратили свою недвижную желтизну, обрели мерцающее разноцветье, блеск, дыхание. Слабо переливались за край пролома, наполняли зияющий овал новым сверканьем, цветной росой, млечными живыми туманами.
— Наш народ богоносный. Русская душа — христианка, — произнес отец Лев взволнованным голосом, восхищенный величественной красотой развалин, от которых ему предстояло отправиться в странствие. — Оттого-то русский народ избран Сатаной для своих атак и хулений, ибо Сатана, хуля и оскверняя русский народ, тщится осквернить Бога. Но Бога осквернить невозможно. Можно лишь на время ослепнуть и потерять из виду образ Божий, как случилось со множеством наших заблудших братьев. Путь, который я начинаю, есть путь апостольский. Я отправляюсь туда, где порушены храмы, осквернены святыни, в самую глубь народа, забывшего свое божественное предназначение. Стану вновь открывать ему очи, напоминать Евангелие, крестить его заново, приуготовляя ко Второму Пришествию. И пусть на моем пути меня постигнут муки, страдания, даже смерть, как было со многими святыми апостолами. Буду счастлив умереть за Христа. Буду благодарить Господа, что он избрал меня, грешного, и дал пострадать за себя…
Предстоящая крестная жертва волновала отца Льва, придавала его начавшемуся служению мессианскую истовость. Коробейников внимал с благоговением, любил его, осознавал величие и красоту выбранного другом пути. Смотрел на звезды, как в купол обсерватории, увеличивающий и приближающий драгоценное разноцветие. Пытался угадать безмолвную, несущуюся на землю весть. Найти в ней подтверждение только что услышанных слов.
— Миша, родной, зову тебя с собой. Крестись. Приезжай ко мне в Тесово, и я сам приготовлю тебе купель. Ты не от мира сего. Господь наградил тебя талантом. Ты, как никто, чувствуешь красоту природы, тайну человеческой души, обладаешь удивительной способностью изображать и описывать. Тебе не хватает богооткровенности. Когда ты приобщишься Христу, ты увидишь красоту, доселе тобой не замечаемую. Увидишь духовную глубину человека, доселе от тебя сокрытую. Все сюжеты, которые ты обнаруживаешь в жизни, есть в Евангелии. Поняв это, ты поднимешься на огромную высоту, на какую возносились русские верующие писатели, такие, как Гоголь и Достоевский. Пора и тебе креститься, брат, а то будет поздно…
Отец Лев в этом обращении к Коробейникову уже начал свою проповедь. Начал апостольскую ловлю человеческих душ. И это не раздражало Коробейникова. Он хотел быть уловленным. Был готов уподобиться тем рыбарям, что услышали на берегу Галилейского моря дивную проповедь, оставили свои снасти и лодки и пошли за божественным проповедником. Звезды сверкали, окруженные черным овалом, словно из Космоса приставили к груди Коробейникова огромный раструб, насыщая его душу могучим безымянным дыханием. За пределами храма приближалась гроза, начинал дуть ветер, наполняя пролом чуть слышными посвистами, шуршанием падающих песчинок и камушков.
— История России есть мистическое повторение жизни Христа. Святое крещение, когда наши предки — поляне, древляне и кривичи — с радостью и благодарностью встали в купель равноапостольского князя Владимира, было подобно крещению Иисуса в Иордане Иоанном Предтечей. Распространение православия по всем пределам Русской земли, от моря и до моря, соответствовало проповеди Христа, обошедшего с учениками многие земли. Величие славы, расцвет православной империи, торжество благодати и веры, параллелью которым был въезд Спасителя в Иерусалим по красным коврам, усыпанным свежими розами. Предательство учеников и народа, судилище Пилата, поношения и муки Христовы — это революция, отпадение от веры множества русских, что привело к падению православной империи. Крестный путь на Голгофу, кровавые слезы, казнь на кресте, страшные гвозди, вбиваемые в Христову плоть, — это период богоборчества, разрушения храмов, избиения духовенства, торжества палачей и безбожников. Смерть Иисуса на кресте, когда палачи делили его одежду и не было рядом ни матери, ни любимых учеников — это нынешний период безбожия, духовной немоты и материализма. И следующий, предстоящий период, который выпадает на нашу с тобой долю, — это снятие с креста, положение во гроб, покрытие бездыханного тела Иисусова благоуханной плащаницей. И, наконец, представь себе, — Воскрешение, восстание из гроба в Фаворском свете, дивная Пасха Второго Пришествия, до которого, я надеюсь, мой друг, мы с тобой доживем. Встретим Христа на многострадальной русской земле кликами: «Аллилуйя!»…
Голос отца Льва звучал певуче, радостно, возглашая неизбежность чуда, которому они сопричастны. Гулкое пространство собора подхватывало его вдохновенные, похожие на песнопение, слова, усиливало многократно. Храм наполнялся гулом и рокотом, словно в нем протекала служба. Звезды разноцветно сверкали, будто вышитая жемчугами и самоцветами плащаница. Ветер дул в вышине, колебля пламя в небесных лампадах. Задевал кромки развалин, издавая тонкие звуки, будто звучала невидимая труба. Сверху, словно крохотные метеориты, на плечи Коробейникова посыпались камушки.
— Миша, ты очень близок ко Христу. Одно усилие, одно движение души — и ты христианин. Тебе нужно отойти на маленький шаг от реальности, которую ты воспринимаешь как подлинную, в то время как она мнима. Отречься от мегамашины государств, которая в лучшем случае бездуховна, а в худшем наполнена сатанинским смыслом. Эта мегамашина, поверь, лишь внешне кажется всесильной и могущественной, имеет у себя на службе армию, ракеты, КГБ, психушки и тюрьмы, послушных чиновников. Но одно помышление Господа, и она падет, как пала Вавилонская башня. Ничего не останется от большевистского государства, ибо оно безбожно и стоит на песке. Как знать, на месте этих унылых развалин вновь воссияют дивные купола, колокольный звон огласит окрестные равнины, и мы с тобой, постаревшие, умудренные в служении Господу, станем монахами этой чудной обители! Очнись, брат. Узри немеркнущие ценности, которые предлагает тебе Господь. Скажи, ты готов выбрать Бога? Готов пойти одним со мною путем?..
Ветер усиливался, гудел в уступах и скважинах, словно дуло множество больших и маленьких труб, выдувая многоголосую грозную музыку. Звезды быстро гасли, покрывались мглой, будто их смахивала огромная метла в чьих-то могучих руках. Небо в прогале померкло, лишь мгновениями жутко, розово вспыхивали зарницы, и тогда виднелись несущиеся рыхлые тучи.
— Ответь, ты готов креститься? — требовательно, по-пасторски грозно вопрошал отец Лев.
— Не знаю… — Коробейников слабо сопротивлялся властным настояниям друга. — Ты меня не неволь… Время мое не пришло… Мне нужно испытать и изведать себя… Меня влекут путешествия, приключения… Я не насытился зрелищами земель, городов… Меня поглощают страсти, людские отношения, судьбы — все, без чего невозможен писатель… Я должен пройти этот путь, познать его до конца, а исчерпав, очнуться и сказать: «Господи, вот он я, грешный. Прими меня, если можешь…»
— Как бы не опоздать, брат… Ведь Господь может от нас отвернуться…
Сурово сказал и пошел к выходу, слабо светлевшему в черной толще.
Они выбрались за монастырские стены, откуда открывалось небо с высокой, близкой грозой, розовыми и голубыми рытвинами зарниц. Огромное, белое яйцо лаборатории казалось набухшим, пульсирующим. Вокруг него дрожал и светился воздух. Оно перезрело. Разбуженный ненастьем, в нем проснулся и стучал птенец. Ветер овевал исполинское яйцо, железно свистел в бурьяне, туманил оранжевые огни городка. Было слышно, как шумят над рекой раздираемые ветром ивы и булькает вода. Гроза была осенняя, сухая, пропитана больным электричеством, от которого подымались волосы, начинала болеть голова.
Отец Лев вдруг опустился на колени у откоса, воздел руки. Его черная скуфейка, задранная вверх борода, раздуваемый подрясник озарялись беззвучными вспышками. И тогда Коробейников видел выпуклые, безумно блестящие глаза, белые зубы в открытых губах.
— Господи, сокруши Сатану!.. — молился он, глядя на фосфорно-белое яйцо, просвечивающее изнутри мерцающей плазмой, словно там ядовито дышал огромный птенец. — Господи, яви свою силу, сокруши Сатану!.. Христос милосердный, спаси Россию!.. — Ветер ревел в развалинах, будто их расшатывали великаны. С деревьев срывались суки и с треском летели в небе. Отец Лев восторженно и безумно взывал к небесам, моля Господа явить непомерную мощь, поразить поселившегося в жутком яйце дракона, пронестись очистительной бурей над обездоленной Россией, испепелить на ней скверну. — Господи, верю в тебя!.. Верю в твою любовь, в твой праведный гнев!..
Коробейников задыхался. Было страшно от безвоздушного, мерцающего пространства, красных и синих зарниц, пророческого горлового клекота, которым в худеньком и немощном отце Льве вещал могучий невидимый дух. Ветер дул с такой силой, словно срывал с земли жизнь, выдирал с корнями стволы, выплескивал из реки вместе с рыбами воду. Яйцо было окружено фиолетовым свечением. Вокруг него извивались электрические молнии, проникали сквозь скорлупу, жалили кого-то внутри. Яйцо вдруг начало продавливаться, морщилось, разрывалось на лохмотья, сквозь которые прорывались вольтовы дуги, ручьи голубой плазмы. Раздался громкий хлопок. Коробейников почувствовал, как через реку, из расколотого яйца, принесенное ветром, ударило спертое тепло, влажное зловонье. Яйцо распалось, и из него наружу, похожий на птичий скелет, вырвался пучок плазмы, колеблясь, улетел в небеса, словно скорлупу покинул перепончатый хвостатый дракон. Колыхались на земле белые лохмотья, в них что-то горело. Ветер срывал липкий огонь и хлопьями нес по небу. Отец Лев упал на землю лицом, ужасаясь, не смея взирать на явленное жестокое чудо. Коробейников, потрясенный, не знал, что это было, — слом параболоидной, не выдержавшей ветра конструкции или явленное ему в назидание божественное чудо.
22
Они сидели в кафе на Новом Арбате с Еленой Солим. Пили вино перед огромным стеклом, за которым струился вечерний, акварельно-размытый проспект. Бежала бесшумная толпа, похожая на сонмище крылатых существ. Вспыхивали первые водянистые фары автомобилей, будто проносили графины, полные света. В витринах на бархатных подушках переливались ожерелья, серебрились дорогие меха, разноцветные шелка были вольно наброшены на плечи смуглых манекенов. Коробейников, все это время мечтавший о Елене, отгонявший ее пленительный, возбуждающий образ, теперь сидел напротив — руку протяни, и коснешься светлых, гладких, на прямой пробор расчесанных волос, тонкой переносицы, от которой изумленно и насмешливо расходились приподнятые брови, розовой мочки уха, где нежно и трогательно вздрагивал крохотный бриллиантик. Ее лицо было так близко, что он чувствовал исходящее от него тепло. Видел, как поминутно, непредсказуемо меняют цвет ее глаза, каков восхитительный рисунок ее приоткрытых губ, в тончайших прожилках, как на розовом лепестке. Он взглядывал на нее жадно, с восхищением и тут же, пугаясь своего откровенного взгляда, опускал глаза. Начинал говорить, смущаясь, боясь, что ей может быть скучно с ним. Но, вымученно произнося слова, думал совсем о другом. Хотел еще и еще неотрывно смотреть на ее пальцы с кольцом, которыми она обнимала бокал. На ее острые локти, которые она поставила на стол, двумя руками поднося стеклянный сосуд к губам. Оглядывать ее приподнятые плечи, которыми она слегка поводила, поигрывая вином.
— Знаете, какая-то нас тесемочка связывает, честное слово. Сначала ваш брат Рудольф нас познакомил как бы случайно. Затем ваш уютный дом, где собрались на тайный совет вельможные мужи, среди которых я вдруг обнаружил Стремжинского, моего шефа, а он накануне сделал мне загадочные намеки, словно предрекал этот вечер. Кто-то из влиятельных посетителей вашего «салона» способствовал успеху моего друга, архитектора Шмелева — через головы чиновников направил проект его Города Будущего на Всемирную выставку в Осако. И вот теперь мы с вами сидим как ни в чем не бывало. Встреча, о которой мечтал, на которую не смел надеяться, вдруг состоялась. Словно нас привели сюда на невидимой, связывающей обоих тесемочке.
— Интересно, сколько этой тесемочке виться? — засмеялась она, и черное, с рубиновой искрой вино заколыхалось под ее белыми пальцами. — И сколько будет на ней узелков? Должно быть, такая ниточка связывает всех людей, но только они об этом не знают. Знаете, эти античные пряхи, Парки, которые сидят и прядут нить жизни. «Парок бабье лепетанье…» Глядишь, и порвалась пряжа. Вот этой хрупкой нитью мы и повязаны.
Ее глаза меняли цвет и ширину зрачков, а голос менял тембр, как это случается у лесной певчей птицы, которая вдруг засвищет гулко и сладостно, с нежными переливами, а потом вдруг замрет и через мгновение возьмет совсем иную ноту, выше или ниже, отчего у слушателя сладко остановится сердце.
— Вы правы, я очень чувствую эту нить, — поспешил он согласиться, не слишком понимая, о чем говорит. — Иногда эта нить тянется напрямую, от человека к человеку, от события к событию. А иногда вдруг уходит ввысь, в чьи-то невидимые властные руки, и лишь потом спускается обратно на землю. Соединяет людей, которые не должны были встретиться. Сочетает события, не имеющие логической связи. И тогда мерещатся удивительные совпадения. Происходят нежданные встречи. Обнаруживаются необъяснимые случайности. Может, и с нами такое?
— Я узнала о вас раньше, чем вы обо мне. Мой брат Рудольф очарован вами, рассказывает о вас постоянно. Все уши мне прожужжал. Прочитал вашу книгу и говорил о ней столько лестного, что мне захотелось ее иметь. Захотелось познакомиться с вами. Признаюсь, Рудольф по моей просьбе устроил наше знакомство в Доме литераторов. А потом благородно ушел под дождь, оставив нас вдвоем в машине. Потом передал мне ваш подарок — книгу…
Он вдруг почувствовал себя неуверенно и стесненно. То начинал неловко умничать, путаясь в непроверенных, непродуманных мыслях. То впадал в неуместный флирт, пугаясь показаться навязчивым и бестактным. Искал простых естественных слов, которые бы могли их сблизить, избавить от утомительных фраз, без которых можно просто протянуть руку, коснуться ее хрупких пальцев с кольцом.
— Вы сказали о вашем брате — произнес он, хватаясь за ее последние слова. — Рудольф — удивительный человек. Такое ощущение, что он постоянно излучает вспышки, как зеркало. И, как зеркало, имеет две стороны — сверкающую, яркую, и обратную — глухую и темную. Две эти сущности борются в нем непрестанно и придают эту пугающую неповторимость. У меня даже есть искушение сделать его прототипом одного из моих героев. В этом герое постоянно сражаются божественный свет и адская бездна. Борьба невыносима и в конце концов приводит героя к гибели. Я только не могу придумать истоки этой мучительной двойственности.
— Вы угадали, мой брат — один из самых незаурядных людей, каких я знаю. Природа наделила его талантом, пылкостью, честолюбием. Ему внушали, что его ждет блистательное будущее. Учили языкам, наукам, танцам, блестящим манерам. Высокие покровители сулили карьеру военного дипломата, с детства взращивали в нем интеллектуала-разведчика. Но потом произошел слом. Сталинская элита не состоялась, ее задушили в зародыше. Брат пережил катастрофу. Пил ужасно, совершал безумные поступки, едва не попал под суд, опустился. Только благодаря непомерным усилиям, собственной воле и помощи близких, в том числе и моего мужа Марка, он поднялся на ноги. Получил сносную должность в министерстве. Но, конечно, надлом остался. Больная трещина сохранилась. Чутьем художника вы уловили его внутреннюю драму, его духовное противоречие.
Коробейникову вдруг стало необъяснимо легко. Он почувствовал себя свободным, изящно и точно выражающим мысли. Почувствовал, что он ей нравится, ей интересен. Необязательный разговор, который они ведут, лишь скрывает их молчаливое влечение друг к другу. Это влечение с каждым незначащим словом растет, созревает, словно сочный, с алым отливом, плод, скрываемый тенистой листвой. Еще немного, еще несколько фраз, и плод чудесно отяжелеет и оторвется. Коробейников ощутил ладонью тяжесть и прохладу спелого душистого яблока. Мысленно поцеловал ее мягкие, потемневшие от вина губы.
— Мне кажется, когда Рудольф говорит о вашем муже, то испытывает к нему сложные чувства. Похоже, он ревнует вас. С чем-то не может никак примириться.
— Марк — замечательный. Очень щедрый, благожелательный, благородный. Бог знает, скольким людям он помог. С его влиянием, с его культурными и политическими связями он мог бы возгордиться, возвыситься над людьми. Но он откликается на любой зов о помощи. Он и мне помог, спас меня. Ввел в свой дом, познакомил с замечательными людьми, открыл двери в мир художников, музыкантов, актеров. Познакомил меня с политиками, объясняет самые сложные политические хитросплетения. В тот вечер у нас вам кое-что удалось увидеть. В этих разговорах решаются участи проектов, спектаклей, художественных выставок. Как в случае с вашим другом Шмелевым. Вы понравились Марку, он открывал вашу книгу. Если вам нужна какая-нибудь помощь, он вам ее окажет.
Коробейников понимал, что, сказав это, она очертила круг, который ему не следует преступать. Ее муж, уклад, ее семейная жизнь остаются за пределами их отношений. А все остальное, все, что не связано с домом на Сретенке, может принадлежать им обоим. Как этот сверкающий вечерний проспект. Как осеннее, благоухающее Подмосковье. Как это черно-красное вино, что колышется в ее чудесных пальцах, с крохотной, как зернышко граната, огненной сердцевиной. И, принимая ее условия, не посягая на пространство, ограниченное запретным кругом, он вдруг мучительно и сладострастно вспомнил приоткрытую дверь в ее спальню, что-то розовое, полупрозрачное, пленительное, от чего захватило дух.
— Какая такая помощь нужна писателю? — легко мысленно засмеялся Коробейников. — Его помощники — талант и трудолюбие. Успех гарантирован, даже если внешне он выглядит как неудача. Настоящий писательский успех должен наступать с некоторым опозданием, как у Чехова или Бунина.
— Однако ваша первая книга принесла вам успех. У нее есть критика, поклонники. Считайте, что и я в их числе. Ваша книга гармонична, чиста, целомудренна. Мне кажется, она завершает собой очень важную, наивную часть вашей жизни. И вы прощаетесь с ней. Находитесь в ожидании, в предчувствии новизны. Ждете и одновременно страшитесь. Готовы кинуться с головой в новые переживания, приключения, чтобы жадно описывать их. И одновременно боитесь расстаться с драгоценным накопленным опытом, с обретенным стилем, с музыкой одному вам свойственных слов.
Его легкость и ликование усиливались. Она произнесла упоительные слова. Оценила его дар, почувствовала красоту, что побуждала его писать. Между ними редкое совпадение. Она его желанный критик, его бескорыстный ценитель, о котором художник может только мечтать. Умна, проницательна, угадала тот перекресток, на котором он замер в предвкушении нового опыта. Она и есть новый опыт, которым одаряет его судьба. И в этом опыте уже существует недавний фантастический полет по Москве в окружении разноцветных фонтанов, и запретный розовый свет в ее приоткрытой спальне, и гранатовая ягодка в бокале вина, ее близкие улыбающиеся губы с тончайшим орнаментом, как на лепестке мака.
— Счастлив, что обрел в вашем лице тонкого, восприимчивого критика, — произнес он благодарно и искренне. — Вы чувствуете слог, красоту, способны понять мировоззрение другого.
— В этом нет ничего удивительного. По образованию я филолог. Всю жизнь имею дело с литературными текстами. Когда устаю от суеты, от гостей, от Марка, закрываюсь в комнате, беру с полки любимых русских классиков и зарываюсь в их чудесную прозу с головой, как лесной еж зарывается в душистую груду кленовых, дубовых, осиновых листьев.
— Рад, что в эту груду я добавил один малый листочек.
— Мне кажется, прочитав вашу книгу, я хорошо почувствовала вас. Ваши переживания и мысли созвучны моим. Вы все хотите изобразить, «все сущее увековечить». У вас мучительная, неутолимая страсть к изображению.
Ему вдруг захотелось поделиться с ней новым замыслом, рассказать о романе, который медленно, по частичкам мерцающей космической пыли, среди таинственных, бессознательных движений души, турбулентных полей и причудливых линий, обретает сюжет, наполняется голосами героев. И сегодняшняя их встреча, еще не завершенная, с непредсказуемым концом, уже превратилась в страницы романа, и неясно, — он ли, художник, пишет роман, или роман, еще не написанный, властно направляет его жизнь и судьбу.
— Мне кажется, все русские писатели испытывали эту страсть изображать, неутолимую муку ускользающих описаний и образов. Пытались изобразить все, что дано в ощущениях, — предметы, лица, ландшафты, запахи, человеческие переживания, при этом посягая на неизобразимое. Стиль, сопутствующий каждому большому писателю, от Гоголя до Набокова, — результат мучительных и неудачных стремлений изобразить неизобразимое. Прорваться из мира, данного нам в ощущениях, в сверхчувственный мир бесконечного. Русская литература — это непрерывный штурм бесконечного. В этом штурме каждый отдельный художник погибает, как ратник, оставляя после себя свой стиль, свой доспех. На кладбище умерших художников с затейливыми надгробиями литературных приемов и стилей вырастает вечно живая, великая, незавершенная литература.
— Должно быть, это можно сказать о любом человеке, которому сопутствует особый стиль жизни. Например, мой брат. У него очень яркий стиль. Он тоже штурмует неизобразимое и бесконечное. Атакуя эту неприступную стену, он рискует сорваться. Превратить неизобразимое в безобразное. Совершить вместо небывалого жертвенного подвига несусветное злодеяние.
Коробейников переносицей, тем местом на лбу, где сходятся брови, вдруг ощутил щекочущий холодок опасности, словно кто-то целится из снайперской винтовки, и перекрестье ползает по лбу, как малая щекочущая мошка. Он испытывал беспокойство, словно кто-то незримый послал ему предостерегающий знак. Не мог понять, откуда исходит знак, кто целит в него сквозь большое окно, за которым переливается драгоценный проспект.
— Вы снова о Рудольфе. — Он старался скрыть волнение, приближая к губам бокал, выглядывая из-за стеклянной кромки на ее прекрасное, безмятежное лицо. — Вы и в самом деле занимаете в жизни друг друга очень важное место. Мне показалось, что он ревнует вас к вашему мужу. А порой мне чудится, что он смотрит на вас как влюбленный.
— Сейчас и вы смотрите на меня как влюбленный. А это просто игра света. Иногда так падает свет, что человек может показаться влюбленным.
Он физически чувствовал, как в пространстве, разделяющем их близкие лица, появляется крохотное углубление. Зарождается малое завихрение. Вытачивается темная воронка, в глубине которой, еще невидимый и удаленный, содержится разрушительный вихрь. Мгновенно приблизится, расширит воронку, превращая в клокочущую страшную бездну, закрутит обоих и умчит в непроглядную глубину.
— Я не имею права влюбляться в вас. Я был в вашем доме. Ваш муж оказал мне гостеприимство. Я чту святость домашнего очага.
— О да, я это поняла из вашей книги. Вы изумительный семьянин. У вас поразительное чувство родословной. Вы сберегаете память предков, как целомудренная весталка сберегает жертвенный огонь. В своей книге вы пишете об одном из своих дедов. Кажется, дед Николай? Расскажите мне о нем.
Воронка пульсировала, словно в ней дрожала сверхплотная спиралька, готовая распрямиться со свистом и хлестнуть смертельным ударом. И надо встать и уйти. Прервать их встречу во благо обоим. Остановить произвольно возникший, ускользающий из-под власти сюжет романа, который сулит превратиться в разрушительный смерч. Прервать сюжетную линию, как срезают заболевшую ветку, дожидаясь, когда на срезе из уцелевших почек возникнет свежая развилка побегов. И, чувствуя, как начинается паника, Коробейников улыбался, прятался за рубиновый бокал, стараясь сохранить непроизвольность речи.
— Дед Николай был один из братьев бабушки. В Тифлисе, в большом двухэтажном доме моего прадеда Тита Алексеевича и прабабушки Аграфены Петровны жила огромная цветущая семья. Восемь детей — три сестры и пять братьев. В нашем фамильном альбоме есть удивительная фотография — все восемь, девочки и мальчики, сидят на веранде, среди больших кубиков, с деревянными ружьями, кто в турецких фесках, а кто в фуражках, и играют в русско-турецкую войну, в одну из бесчисленных кавказских войн.
— В самом деле? А у нас в семейном альбоме тоже есть фотография. Дед, унтер-офицер с «Георгием», с шашкой, с лихо закрученными усами, только что вернулся с германской войны и сфотографировался на какой-то сельской ярмарке на фоне клеенчатого коврика с аляповатым замком. Видите, в наших с вами родах есть воины.
И вдруг паника его улетучилась. Пугающая черная выбоинка сомкнулась, и в ней успокоилась, улеглась коварная змейка беды. Волшебный, волнующий перепад в ее голосе, сродни певучему переливу лесной чудной птицы, тронул его сладко и нежно. Снова вернул недавнюю легкость и счастливое обожание. Ему захотелось поведать ей сокровенное, исповедоваться перед ней, пустить ее в глубину своих родовых священных преданий, зная, что она обойдется с ними бережно и благоговейно.
— Дед Николай был очень талантлив, как, впрочем, и все остальные братья и сестры. Выучился в университете на химика и преуспел в создании синтетического бензина. Занимался живописью и был принят в кругу «мирискусников». Во время последней русско-турецкой войны пошел добровольцем на фронт и стал командиром батареи горных орудий. Отличился под Карсом, когда наш отряд попал в засаду и был атакован турецкой пехотой. Дед не растерялся, приказал развьючить лошадей, которые тащили порознь стволы и лафеты. Их тут же на склоне собрали, и батарея открыла огонь прямой наводкой по наступающей турецкой цепи. Деда наградили золотым оружием. Вручал награду в Тифлисе приехавший Великий князь, с ним маленький цесаревич Алексей. Получая «Золотого Георгия», дед так разволновался, что, в нарушение всяческого этикета, приблизился к цесаревичу и поцеловал его. Был прощен за искренность и сердечность поступка. Когда случилась революция и в Тифлис из Петербурга и Москвы бежали именитые писатели, художники, музыканты, он принимал их у себя в доме, где образовался своеобразный салон. Ушел воевать в Белую армию и окончил войну под Перекопом, чудом избежав плена и жестокой казни, в которой, как говорят, участвовал и ваш красногвардейский дед, приказавший зарубить шашками цвет русского офицерства. Позже он прошел лагерь в Каргополе, чудом выжил и старился в Москве, уделяя мне много внимания. В его комнатке на Страстном бульваре все стены были увешаны подаренными картинами Судейкина, Коровина, Лансере. На полке стояли переплетенные подшивки «Аполлона», «Весов», «Золотого руна». Видимо, в ту пору, в начале века, использовали особый типографский клей, долго сохраняющий горьковатый миндальный запах. Этим клеем пахло у него в комнате. И этот же запах я уловил в вашем доме, когда вошел. Видимо, где-то в библиотеке стоят книги тех лет. Дед Николай умер два года назад. Помню, как после похорон я шел, смотрел на огромную желтую луну и плакал. Это была не жалость к деду, а недоумение, непонимание смерти, которое источалось из меня в виде слез.
— Вы правы, в нашей библиотеке есть много книг начала века. Изумительные живописные альбомы Врубеля и Левитана. «История русской архитектуры» Грабаря. Собрание исторических и философских трудов Милюкова. И конечно же «Аполлон» и «Весы». Из них я узнавала поэзию Серебряного века, читала Кузмина, Гумилева, Вячеслава Иванова, Максимилиана Волошина.
Елена на секунду задумалась, чуть сдвинула золотистые брови. Глаза ее поменяли цвет от лучистого изумрудно-зеленого до глубокого темно-синего. Стала читать наизусть:
Из крови, пролитой в боях, Из праха обращенных в прах, Из мук казненных поколений, Из душ, крестившихся в крови, Из ненавидящей любви, Из преступлений, исступлений — Возникнет праведная Русь.Коробейников закрыл глаза, ощутив горячий, смоляной, медовый, горько-миндальный, сладостно-пряный стих. Вторил ей:
Я за нее за всю молюсь И верю замыслам предвечным: Ее куют ударом мечным, Она мостится на костях, Она святится в ярых битвах, На жгучих строится мощах. В безумных плавится молитвах.Молчали, окруженные эхом произнесенных божественных звуков. Будто вместе, рука об руку, прошли через горячую, озаренную смоляным солнцем горницу.
— Мой род, — сказала она, одаривая его той же откровенностью и доверием, — это гремучая смесь русских крестьянских мятежников, разбойников и колодников, от которых произошел мой легендарный революционный дед. И дворян, к которым принадлежала мама, ведущая родословную от Вяземских. Этот взрывной коктейль бушует в брате, который никак не может выбирать между государевым служением и пугачевским бунтом. И во мне есть нечто, что заставляет одной рукой собирать библиотеки, а другой сжигать их в огне.
— Когда будете сжигать свою библиотеку, очень прошу, отложите в сторону мою книгу.
— Конечно. Испепелив мою прежнюю библиотеку, я поставлю на обугленную полку вашу книгу и стану собирать все заново. В вашей книге столько лесов, озер, цветущих лугов, что если их выпустить на пепелище, то опустошенная планета вновь зацветет. Вы так остро чувствуете природу, как язычник.
— Я несколько лет был лесником. Сам сажал леса. Сейчас они еще молодые, но когда-нибудь птицы совьют в них гнезда, поселятся белки, ежи. И какой-нибудь милый лесной еж зароется в душистую груду кленовых, дубовых и осиновых листьев.
— Боже, как давно я не была на природе! И некому вывезти меня, показать золотую осень.
Он вдруг почувствовал приближение обморока, похожего на тот, что испытал при первой их встрече. Это было страстное желание, необоримая страсть, направленная на нее. От силы этой страсти стали дрожать и разрушаться молекулы воздуха, создавая из ее облика стеклянный размытый мираж, словно по ее отражению бежали волны. Он качнулся к ней, был готов протянуть к ней руку. Но глаза ее стали смеющимися, водянисто-голубыми, словно в них отразилось его побледневшее лицо.
— Давайте поедем хоть сейчас, — пролепетал он. — Покажу вам золотую осень.
— Быть может, в другой раз? — смеялась она, и этот смех приводил его в чувство.
— Вам нельзя? За вами наблюдают? Вы несвободны? — глухо произнес он.
— Я совершенно свободна. Марк часто бывает в поездках. Я предоставлена себе самой. Хожу на выставки, в театры, консерваторию. Я вольная птица.
Он уже овладел собой. Воздух, разделявший их глаза, успокоился. Прозрачные частицы больше не преломляли свет. Стеклянный мираж растаял.
— Когда я был у вас дома, мне показалось, вы — птица в золотой клетке, — слабо улыбнулся он.
— Да, но дверца всегда открыта.
— Куда полетим?
— У меня с собой есть два приглашения на просмотр коллекции заезжего французского модельера. Кажется, Жироди. При содействии Марка он привез в Москву свои экзотические модели. Будет много красивых женщин, великолепных тканей и именитых гостей.
— Вы самая красивая женщина, — сказал он тихо, на нее не глядя.
— Значит, едем?
— С вами — куда угодно.
Подхватив такси, они через несколько минут оказались в Доме архитекторов среди нарядной, возбужденной, изысканно одетой публики, явившейся на элитарный праздник западной культуры. Обычно подобная публика собиралась, словно эмигранты, поневоле оказавшиеся на варварской, недружелюбной чужбине, на просмотр итальянского эротического фильма, или на концерт американского саксофониста, или на выставку рисунков Сальвадора Дали.
Среди гостей, привлекавших внимание каким-нибудь громким словом, или вольным жестом, или вызывающим саркастическим смехом, Коробейников приметил модного поэта с фамилией приходского священника, в изящном французском пиджаке, с шелковым бантом, артистически повязанным вокруг шеи. Он разговаривал с другой знаменитостью, театральным режиссером, чьи модернистские спектакли то собирали пол-Москвы, то скандально запрещались властями. Окруженный поклонницами, лобастый, стриженный под бобрик, похожий на энергичного бычка, жестикулировал московский модельер, чей оранжевый пиджак походил скорее на фрак с двумя фалдами, одна короче другой, а на груди красовалась дамская бриллиантовая брошь. Среди толпы скользила гибкая, как змея, вся в черном блестящем стеклярусе, восточная предсказательница, ярко накрашенная, с пышным пуком волос, похожих на черную стеклянную вату.
Некоторые из гостей останавливали Елену, любезно здоровались: «А Марк Ильич тоже здесь?» «Почему вы не пришли на вернисаж Фалька? Я надеялась вас там повидать». «Какая прекрасная статья вышла у Марка в «Литературке»!» «Елена, вы, как всегда, блистаете!» На все любезности она свободно и дружелюбно отвечала, не смущалась присутствием рядом с собой Коробейникова. Провела его в зал, где был установлен подиум, окруженный рядами кресел. Заглянув в приглашение, указала на кресла в первом ряду:
— Хочу, чтобы вы получили удовольствие. Женщин, которых вы увидите, выводят особым способом. Путем медленного вытягивания, в невесомости, на околоземной орбите, питая исключительно соком садовых цветов, облучая звездным небом и фотографическими вспышками, — произнесла она, и он видел, как дрожат в улыбке ее близкие губы. Сел с ней рядом, чувствуя ее живое тепло, тонкий аромат духов и прелестную телесность, отделенную от него воздушной материей.
Свет в зале погас. Матовое голубоватое свечение озарило подиум, превратив его в лунную дорогу на море. За открытый рояль сел пианист в черном фраке, с ярко-белыми руками и таким же мертвенно-белым, гипсовым лицом. Стал наигрывать негромкую джазовую импровизацию. И под эту пульсирующую, слабо булькающую музыку из полутемной глубины, словно высокая тень, обретая с каждым движением все больше плоти, высоты, стати, показалась женщина. Шла как завороженная, глядя перед собой огромными, немигающими глазами. Ее длинные, обнаженные до бедер ноги помещали стопу на прямую линию, незримо прочерченную на подиуме, худые узкие бедра плавно вращались. Она была одета в короткую юбку, гораздо выше худых колен, в полуоткрытую прозрачную блузку, сквозь которую просвечивала маленькая розовая грудь. Сзади, вырастая из поясницы, колыхался белый пышный плюмаж, делая ее похожей на страуса. Прическа была приподнята, пышно взбита. Она царственно шагала по подиуму, постукивая высокими каблуками, и казалось, что она, достигнув края, либо сорвется и упадет в темный зал, либо махнет плюмажем и медленно полетит. Она прошла мимо Коробейникова, и он услышал дуновение душистого ветра от ее танцующего тела. Заметил, как напрягается тонкая, помещенная в остроносую туфлю стопа. Манекенщица дошла до края. Остановилась. Мгновение стояла, уперев руку в выгнутое бедро, картинно выставив согнутую в колене ногу. А потом грациозно развернулась, гордо держа голову на высокой шее. Как сомнамбула прошествовала обратно. И снова на Коробейникова пахнуло душистым запахом садовых цветов. Прошелестели ее легкие облачения, проплыл белоснежный птичий плюмаж.
— Теперь вы убедились? — произнесла Елена. — Ее выращивали в темноте, оставляя сверху маленькое отверстие света, к которому она тянулась. И поили соком маков и хризантем.
Он не успел ответить, как вдали, из розовых сумерек, появилась розовая, в волнуемых одеяниях женщина, на длинных ногах, которые она странно приподымала, а потом втыкала в подиум, распушив сзади нежно-розовый хвост. В темную прическу были вколоты длинные булавки с крохотными самоцветами. Женщина была похожа на птицу фламинго, переступавшую по отмели на утренней заре. Качала маленькой головой на высокой шее, мерцала росинками. Как и первая, спала на ходу с открытыми глазами, вышагивая словно лунатик. Ее худые бедра описывали полукружья, колыхались маленькие девичьи груди. Прошествовала туда и обратно, вызывая аплодисменты у зрителей.
— Месье Жироди известен как кутюрье, который черпает вдохновенье в мире живой природы, — сказала Елена, наклоняясь к Коробейникову, и он почувствовал у виска ее взволнованное дыхание.
Играла негромкая, завораживающая музыка. Призрачно мерцали вспышки фотографов. Женщины околдовывали, вызывая необъяснимое, похожее на сон, наслаждение. Напоминали фантастических птиц, пойманных загадочным орнитологом среди сказочных лесов и озер. Великолепные существа, рожденные от соития птиц и людей. Пернатые девы, чьи плечи украшали ворохи раскрашенных перьев, из худых лопаток вырастали пышные крылья, на голове колыхались чуткие хохолки, а глаза, то круглые и золотые, как у сов, то выпуклые, как у журавлей, не мигали, оставаясь стеклянно недвижными, будто их вставили в чучела.
Мимо шли женщины-сойки с перламутровыми боками. Женщины-попугаи в ядовито-спектральных расцветках. Женщины-орлы, тяжело волоча по подиуму ворохи коричневых перьев.
«Зачем она меня сюда привела?» — опьяненно думал Коробейников, боясь взглянуть на Елену, чувствуя, как волнуется она.
Птицы сменились бабочками. Хрупкие, с чувственными телами, осыпанные драгоценной пыльцой, с огромными сияющими глазами, выходили женщины, неся за спиной великолепные резные крылья. Их выпускал из сачка невидимый энтомолог, собравший живую коллекцию в африканских джунглях, на островах Полинезии, в пойме Амазонки. Ткани, облекавшие женские тела, были прозрачны, туманны, преломляли свет, струились пропадающими орнаментами. Их шествие, волнообразные движения обнаженных плеч, тонкие длинные ноги, голые руки, перламутр и лазурь крыльев, изумрудная зелень и красное золото причесок порождали галлюцинации. Переносили Коробейникова в мифологическое пространство и время, когда жизнь не была разделена неодолимыми оболочками и свободно перетекала из растения в бабочку, из бабочки в женщину, а из той — в сверкающую росу, звезду, луч солнца. Оживали античные метапсихозы, буддийские и индуистские культы, сказочные видения, о которых не забыла душа, перелетающая из одной плоти в другую, вольная сбросить с себя необременительные покровы прозрачных одежд и, как легкий туман, вспорхнуть и кануть в сумерках зала.
«Зачем она меня сюда привела?» — задавался он все тем же вопросом, находясь под гипнозом лепечущей, булькающей музыки, не отрывая глаз от худого голого тела, на котором мерцала пыльца, от острых подвижных лопаток, за которыми волновались белые, в черных прожилках, лопасти, как у бабочки боярышницы, подхваченной теплым ветром.
Теперь свое волшебство являл искусный садовник, выпуская на подиум живые деревья с прекрасными женскими лицами. Ноги манекенщиц напоминали переступающие лианы. Взмахивающие руки были подобны ветвям с зеленой и алой листвой. Прически и головные уборы были собраны из причудливых букетов, как маленькие икебаны.
Шла женщина-роза, вся покрытая красными резными бутонами, в ожерелье и венке из шипов. Ее сменила женщина-магнолия, окруженная млечно-желтыми лепестками, с сердцевиной, из которой выступал обнаженный целомудренный бюст, чудесно и наивно смотрели большие глаза. Казалось, их привели из волшебного, небывалого сада, где женщины-деревья составляют дивные рощи, а лежащие у прудов красавицы подобны цветущим клумбам, и случайный путник, заблудившийся в волшебном саду, протягивая губы к виноградной кисти, целует женскую грудь.
Это было восхитительно — созерцать чистую красоту, где не было места вожделению, отсутствовала психология и мораль, а царила одна фантазия, похожая на сны. Эти сны сталкивались, перетекали один в другой, порождали пленительные химеры, ошеломляющие по красоте гибриды. Среди них мог оказаться кентавр, наяда, фавн, женщина-рыба. Или морской конек, дремлющий в локоне красавицы. Или кленовые листья, вырастающие из женской спины. Или огненно-золотые глаза совы, раскрывшиеся жестоко и хищно на невинном девичьем лице.
Елена, на которую он боялся взглянуть, казалась из этих же снов и фантазий. Его отношение к ней не объяснялось психологией или моралью, не было обычным влечением. Она околдовывала его, лишала воли, сладко гипнотизировала, помещая в пространство странных иллюзий. В сад, где зрели запретные плоды. В цветник, где благоухали отравленные цветы и наливались ядовитые бутоны. Такие гибриды рождались на таинственных аномалиях, и такая аномалия угадывалась в Елене, пугала Коробейникова, неодолимо влекла к себе.
Одни видения сменялись другими. Теперь на подиум ступали озаренные, в хрустящей фольге, в разноцветных клеенчатых пластиках, неземные существа. Их женственность была самодостаточной, не предполагала мужского начала, не побуждала любить, обожать, а только изумляла своим совершенством, блеском загадочных металлов и сплавов. Казалось, женщины были синтезированы в условиях Космоса из неземных элементов, с иными, нечеловеческими органами. Не нуждались в любви и страсти. У тех из них, у кого под короткими; серебристыми лифчиками открывались подвижные матовые животы, не было пупков, что указывало на их внематеринское рождение, появление на свет без зачатия. Их совершенство не нуждалось в словесном общении. Они объяснялись при помощи беззвучных сигналов, которые излучали антенны на их головах, чувствительные участки кожи на груди и на бедрах, молчаливые яркие взгляды. Они обладали способностью ежеминутно менять свои формы, обретая вид прозрачных водянистых грибов, или голубых светящихся водорослей, или сгустков розовой плазмы, помещенной в реторту, сквозь которую смотрели недвижные окуляры. Рожденные в иных мирах, в других, совершенных, цивилизациях, они давали понять, какими станут люди будущего. Женщины-инопланетяне шагали одна за другой, прямые, холодные, прекрасно-жестокие, не замечающие примитивную, недоразвитую, ютящуюся у них под подошвами жизнь. Вонзали в нее отточенные каблуки, попирали стройными восхитительными ногами. Смотрели надменно вдаль, держа высоко свои прекрасные безмятежные лица.
— Не правда ли, в них есть что-то фашистское? — шепнула Елена.
И Коробейников вдруг понял, зачем она его сюда привела. Она окунула его в эту холодную женственность, словно в жидкий азот, где он застыл, остекленел, стал хрупким и ломким. Утратил волю, весь во власти прекрасных и беспощадных амазонок, великолепных длинноногих валькирий, явившихся из ледяных миров, чтобы властвовать, попирать красотой все иные, теплые, из боли и нежности чувства, оставляя вместо них одну совершенную пластику, оптику полярных лучей и сияний.
Внезапно музыка смолкла. В зале зажегся свет. Подиум утратил скользящую синеву лунной дорожки. Под яркие люстры вышла толпа манекенщиц, блистая улыбками. Среди обнаженных тел, стройных ног, струящихся вольных одежд появился маленький горбатый мужчина, лысый, с провалившимся ртом, нелепыми короткими лапками. Модельер месье Жироди щеголял своим великолепным гаремом, состоящим из античных богинь и весталок. Обнимал их цепкими ручками, касался горбом стеблевидных тел. Власть амазонок была мнимой. Они были в плену. Их муштровали, дрессировали, а потом выставляли напоказ, как женщин-гладиаторов или дорогих куртизанок.
Коробейников испытал разочарование. Острую неприязнь к отвратительному карлику, вначале создавшему волшебные иллюзии, а потом жестоко их отобравшему. Во всем, что он пережил, был обман, и в этом обмане была повинна Елена, утонченно над ним посмеявшаяся.
Опустошенный, опечаленный, он вышел вслед за ней из Дома архитекторов. Не разговаривали, молча шли переулками, мимо особняка, принадлежавшего когда-то Берия, к Садовому кольцу, сыпавшему красные и желтые огни. Поймали такси. Он пропустил ее в глубину салона, уселся рядом. Катили от площади Восстания к Колхозной, чтобы там повернуть к Сретенке. У Самотеки она молча качнулась к нему, с силой притянула. Властно, жадно поцеловала, и он, ошеломленный, страстно впился в ее сладкие, душистые губы, глядя, как мелькают тени и свет по ее закрытым векам.
Во дворе ее дома он попытался выйти вслед за ней, но она остановила его:
— Так будет лучше. Спасибо. Когда-нибудь еще повидаемся, — и исчезла в высокой узорной двери, печально лязгнувшей в гулком дворе.
23
Он вернулся домой в Текстильщики. На пороге его встретила жена Валентина, простоволосая, с потрясенным лицом. Дрожащим голосом, в котором была паника, упрек, беспомощная мольба, сообщила:
— Что-то с Васенькой!.. Задыхается!.. Все было днем хорошо… К вечеру участилось дыхание!.. Весь горит!.. Не может дышать!.. Тебя нет!.. Не знаю, что делать…
Вслед за женой он прошел в детскую. На одной кровати спала дочь, белея безмятежным лицом. На другой разметался и хрипло дышал сын, мучительно вздрагивая маленьким страдающим телом, из которого, вместе со свистящим дыханием, вырывались слабые стоны. Тут же, в полутьме, среди разбросанных игрушек, узорных деревянных коньков, стояли какие-то чашки, кувшин, эмалированный таз — свидетельства паники, в которой пребывала жена.
— Звонила сейчас в больницу!.. «Скорая помощь» в разъезде!.. Сказали, чтобы срочно везли ребенка!.. Надо собираться!..
А в нем — мгновенный ужас, пронзительная, очевидная мысль. Болезнь, поразившая сына, — плата за его грех, за шальной поцелуй в такси, за проведенный с Еленой вечер, во время которого он вожделел ее, погружался в ее обольстительную женственность, отворачивался от этой тесной прихожей, маленькой детской спальни, от деревянных коньков, которыми играли дети, от милого, родного лица жены, на котором от постоянных хлопот легли первые неисчезающие тени.
Он наклонился к сыну, чувствуя, как горит и страдает его маленькое беззащитное тело, в которое вселился злой невидимый дух. Переполнил крохотные легкие, изъедает тонкие свистящие трубочки. И этот злой дух — его грех, которым он отравил сына. Тот гибнет из-за его отцовского вероломства, отступничества, отдавших на растерзание беспощадных сил драгоценный мир, основанный на верности, жертвенности и любви. Это ужасающее чувство вины было острым, страшным и очевидным. Мир, казавшийся бессмысленным скоплением несвязанных событий, побуждений и дел, обнаружил прямую связь его, Коробейникова, греха с благополучием его близких. Облетев по невидимым орбитам, побывав в чьих-то грозных беспощадных руках, грех ударил как молния, поразил острием хрупкое и невинное тело сына.
— Чего же ты ждешь?.. — торопила Валентина, теребя в руках какое-то полотенце. — Ведь он умирает!.. Неси его в машину!.. Пойду к соседке, пусть покараулит Настеньку!.. Нам надо скорей в больницу!..
Она продолжала метаться, беспорядочно хватая какие-то вещи. А в нем побуждение — надо немедленно перед ней покаяться, вымолить у нее прощение. Она простит, и грех его будет отпущен. Тот, Невидимый, Грозный, кто наслал воздаяние, возьмет назад свою молнию, выдернет из сына острие, и сын исцелится. Но не было сил признаться, и он молча стоял над сыном, слыша, как свистят его легкие и из маленьких приоткрытых губ вырываются стоны.
Пришла соседка, увещевала, успокаивала. Коробейников вынул из кровати сына, почувствовав, как мало весит его щуплое, горящее тело. Сын приоткрыл невидящие глаза и опять закрыл, не узнав отца. Жена укутала сына в одеяло, и Коробейников спустился по лестнице, прижимая сына, беспомощный в своем малодушии, жалкий в неумении сбросить с души разрушительное бремя. Жена, держа на руках Васеньку, что-то бормоча, всхлипывая, уселась сзади. А он погнал «Строптивую Мариетту» по ночной Москве, слыша за спиной тихие стоны, страстные всхлипы жены:
— Васенька, сейчас, мой милый!.. Глубже дыши!.. Не умирай, мой сыночек!..
Они мчались мимо огромного ночного автозавода с тускло горящими окнами, где на конвейере собирались машины, возникали поминутно новые рокочущие механизмы, и одновременно с их рождением на коленях жены умирал сын. Пролетали теплоцентраль с серыми тупыми градирнями, из которых, как из вулканов, валил пар, и рядом с их слепой мощью, угрюмым огнем топок сгорала и улетучивалась жизнь сына. Миновали бойню, где бетонные стены были пропитаны кровью, на мокрых цепях качались горячие туши, свесив языки, раскрыв огромные, в муке глаза, и среди убиенных животных и товарных составов, в которых ревел обреченный на заклание скот, умирал по его вине драгоценный, ненаглядный сын.
Он мчался по Москве с погибающим сыном, и грех гнался за ним по пятам, под фонарями, не отставая, принимая образ розовой птицы фламинго с женским лицом, перелетающей от фонаря к фонарю, или лазурной бабочки с обнаженной девичьей грудью и крохотными самоцветами вместо глаз. Встречные машины слепили. В летучих огнях, в проблесках металла и лака неслись жестокие длинноногие амазонки с голыми матовыми животами, вонзая в воздух острые каблуки. Среди безумных валькирий, окруженная женщинами в цветочных венках, вдруг возникала Елена, ее царственное, с торжествующей улыбкой лицо. И не было сил остановить машину, пасть на колени под фонарем и молить о прощении, чтобы Господь внял раскаянию, сохранил сына.
Они приехали в больницу, внесли сына в приемный покой. Утомленная пожилая сестра мельком взглянула на маленькое, выглядывающее из одеяла лицо.
— Разверните… Что случилось?.. Имя… адрес…
— Он умирает!.. Задыхается!.. Приступ удушья!.. Да сделайте что-нибудь!.. — плакала Валентина, не выдерживая вида равнодушной сестры, обшарпанных масленых стен, больничного лежака с несвежей простыней и мятой клеенкой. — Он умирает, наш мальчик!..
Пришел врач, спокойный, в накрахмаленной шапочке, пахнущий свежестью. Помог развернуть одеяло. Прикладывал блестящую трубку к голой, вздрагивающей груди сына, на которой сходились хрупкие, трепещущие ребра. Заглядывал сыну в рот, засовывая деревянную палочку. Сын плакал, открывая крохотный розовый зев, мучительно кашлял, переходя на свист.
— Аллергия… Небольшой отек дыхательных путей… Что-нибудь съел?.. Грибы?.. Ягоды?..
— Доктор, он не умрет?
— Сделаем укол, уберем воспаление. Полежит у нас денек-другой… Вы можете пройти с ребенком, а отец пусть останется, — произнес врач и пошел к дверям, увлекая за собой Валентину, взглядом останавливая Коробейникова. Тот отпускал жену, слыша, как удаляется по больничному коридору жалобный плач сына.
Ночь. Приемный покой. Усталая пожилая сестра в очках что-то заносит в журнал, какую-то надпись, которая исчезнет и канет среди исписанных бумаг, как и другие строки и надписи, сделанные человеческой грешной рукой, страницы поэм и романов, обреченные на исчезновение. Среди бесчисленных строк и надписей существует одна, им до сих пор не прочитанная, вознесенная на столб колокольни. В трех черных кругах золотыми буквами начертана формула жизни, главный закон бытия, заповедь Бога, недоступная для прочтения. Беспомощный перед жизнью, не понимая ее грозных законов, бессильный прочитать золотую поднебесную надпись, он молча, страстно молился:
«Господи, прости мой грех… Сохрани жизнь Васеньке… Я отвернусь от всех искушений, отвергну все соблазны… Стану служить Тебе, Господи, как того хотел отец Лев!..»
Задремал, прижавшись затылком к стене. Проснулся, когда вернулась жена, бледная, измученная, с темными, исстрадавшимися глазами.
— Кажется, легче… Заснул… Боже, как он плакал, наш Васенька!.. Я останусь здесь на ночь… Поезжай… Тебе надо отдохнуть…
Его молитва была услышана. Благодарно, виновато обнял жену. Устало побрел к машине, думая, как он любит эту родную милую женщину, родившую ему детей, с которой суждено ему прожить до смерти. И когда-нибудь в старости, на исходе дней, в какой-нибудь тусклый осенний вечер, когда все меньше тепла и света, он покается перед ней за свой грех. Расскажет, как молил о прощении Господа и молитва его была услышана.
Часть третья Соль
24
«Я — авианесущий корабль, флагман Тихоокеанского флота, истребитель американских подводных лодок, носитель штурмовой авиации для поддержки десантных береговых операций, убийца авианосцев врага, являю собой совершенство оружия, воплощение советской науки и техники, сгусток сверхмощных энергий, меняющих ход истории. Я — оружие Судного дня. Создан самыми умными и талантливыми людьми государства для нескольких часов скоротечного глобального боя, когда будет согнута земная ось, расплавлены континенты, вскипят океаны, и «младенцы содрогнутся во чревах матерей». Тогда небо надо мной будет красным и ядовитым от жара, в нем станут кружить карусели воздушных боев, загораться и падать в океан самолеты, и мои скорострельные пушки будут резать на части атакующие штурмовики неприятеля, роняя в воду белые струи металла. Мои бомбометы станут топить подводные лодки врага, подрывая их ядерными глубинными взрывами, переломленная надвое лодка будет выхвачена из глубины океана шипящим столбом кипятка, поднята в небо вихрем огня и пара, обрушится вниз вместе с мертвыми китами и рыбами. Мои бортовые контейнеры ахнут страшным ударом, пошлют к горизонту ракеты, превращая авианосец противника в жидкую текучую сталь, ломая башни и рубки, сметая с палубы легкий сор самолетов, вздымая из океана гигантские, до неба, грибы.
Я создан для этих «последних времен», сконструирован для них каждым плавным изгибом моего огромного корпуса, каждой хрустальной призмой в прицелах и дальномерах, каждой золотой драгоценной клеммой моей электроники. Спокойно, с угрюмой верой в правоту и замысел создавших меня людей, знаю, что погибну, изодранный взрывами, с оплавленной палубой, с громадными рваными дырами в раскаленных бортах. Стану медленно тонуть, созерцая ослепшими от боли глазницами, как трепещут смертельным заревом распахнутые горизонты, как парят над океаном розовые и голубые медузы ядерных взрывов, и за сотню километров, не доплыв до меня, посылая мне предсмертный поклон, тонет убитый мною авианосец.
Безропотно, в стоицизме металлической воли и электронного разума, принимаю мою судьбу. Не знаю для себя другой доли. Но, созданный для потрясений и смерти, окруженный кружевами невидимых электронных полей, пронизанный невесомыми магнитными линиями, преломляя в моих окулярах прозрачные спектры, я предчувствую возможность иного бытия. Иное постижение жизни. Об этом свидетельствует белая, присевшая на палубу чайка, ее теплые, охватившие поручень лапки, ее оранжевый, зоркий, наполненный солнцем глазок…»
…Сбылись посулы Стремжинского. В газете запускалась программа «Авангард», где Коробейникову отводилась не последняя роль. Молодой газетчик получил задание написать об авианосце, поступившем на Тихоокеанский флот. Холодная война становилась все злей. Запад, не в силах примириться с подавлением «пражской весны», потрясал оружием, наводнял Европу войсками, строил базы по периметру советских границ, посылал корабли во все акватории мира. Взрывал пропагандистские бомбы, от которых лопались сосуды в глазах обывателей. Репортаж об авианосце должен был успокоить растревоженное общественное мнение, убедить его в неодолимости советской мощи. Показать фрондерам и диссидентам, на какую силу они посягают, сидя на маленьких тесных кухнях, распевая под гитару песни Высоцкого, рассказывая шепотом антисоветские анекдоты.
Коробейников дорожил оказанным доверием. С жадным предвкушением небывалого опыта, в молодой гордыне страстного, отмеченного Богом художника, отправился в эту поездку, отодвинув ненужные и обременительные связи с московской богемой, экзотическими кружками, завистливыми и недоброжелательными писателями. Государство, певцом которого ему предлагалось стать, оснастило его охранными грамотами, предоставило в распоряжение автомобили, самолеты, военные корабли. По телефонным линиям секретной правительственной связи штаб Тихоокеанского флота был извещен о его прибытии…
«Я — часть мирового пространства, создан из земных элементов, движим теми же силами, что двигают мировую историю. Меня сотворил интеллект человека, достигший своей вершины, соединивший во мне все науки, искусства, умения. В чертежах, по которым меня возводили, присутствуют образ древней ладьи, туманная церковная фреска, запись в священной книге.
Мои приборы позволяют мне чувствовать пульсы и биения мира. Мои эхолоты, спрятанные в днище локаторы, видят рельеф океанского дна, косяки проплывающих рыб, коварные лодки противника. Радары на мачтах просматривают берега, следят за перемещением войск, озирают простор океана, отмечая скольжение чужого эсминца, тихоходный рыбацкий траулер, пушистый фонтан кита. Средства космической связи, соединяясь с пролетающим спутником, связывают меня с отдаленными береговыми штабами, аэродромами, центрами военной разведки. Доставляют на борт снимки из Космоса с нанесением вражеских целей, объектов для ракетных ударов. Мой электронный мозг пульсирует от несметных, ежесекундно получаемых данных, собираемых с орбит, материков, океанов.
Я вижу, как в соседнем Китае идет революция. Толпы молодых агитаторов с портретами вождя неистово маршируют по улицам. Избивают престарелых партийцев. Оплевывают и оскверняют святыни. Колют топорами золоченого деревянного Будду. В душной пустыне Синьцзян, в запретной зоне, строят секретный реактор, обогащают уран, готовят первую бомбу.
Слышу, как в Японии звенит поминальный колокол. Монахи в оранжевых хламидах в память жертв Хиросимы жгут благовонные палочки. На электронных заводах Токио собирают суперкомпьютер для военной системы слежения, на экранах которого буду виден и я, с указанием подлетного времени выпущенной с Хоккайдо ракеты.
В Калифорнии, в Сан-Диего, на палубе авианосца идет концерт рок-н-ролла. Безумный кумир разбивает гитару о железную палубу. Экипаж ревет и неистовствует, несет на руках певца. В командирской рубке вскрывают пакет с секретным маршрутом похода — к берегам СССР, в сопровождении лодки и крейсера.
Я смерть мира, созданная этим миром из лучших своих компонентов. Я мировой абсурд, где начало истории, как змея, глотает свой собственный хвост. Я последняя вспышка, испепеляющая человечество, предсказанная на острове Патмос одним из древних пророков.
Но в моем электронном разуме, в котором сменяют друг друга картины океанских баталий, в невесомых вихрях, бушующих в чашах антенн, присутствует внерациональное знание. О бесконечном продолжении жизни. Об иллюзии смерти. О том, что я никогда не умру.
Чуткими лопастями сонаров щупаю океан. Слышу, как рожает самка кита. Стонет от боли, выдавливая из себя скользкий вишневый плод. Рассол океана охлаждает страдающее лоно. По огромному телу пробегает судорога. Младенец среди порозовевшей воды оживает, открывает фиолетовый глаз. Начинает слабо скользить. Мать брызжет в океан молоком, отзывается нежным утомленным курлыканьем…»
Ночь Коробейников летел над страной, глядя, как на близком крыле и рубиновых вспышках возникает и гаснет надпись «СССР». Встретил зарю во Владивостоке и видел, как красное солнце подымается из океана. Был принят адмиралом в штабе флота, и тот рассказал ему о предстоящих учениях, в которых задействован авианосец. Штабная «Волга» отвезла его на маленькое взлетное поле, окруженное осенними рыже-коричневыми деревьями. На бетон, срывая с деревьев листву, опустился морской вертолет. Через час Коробейников, ослепленной красотой океана, подлетал к авианосцу, стоящему на рейде в заливе.
Авианосный противолодочный крейсер — громада серой холодной стали, взметенной уступами в небо, врезанной в угрюмое свечение вод. Надстройка — бронированная, в глыбах, гора с дымящей туманной вершиной, стеклянным дыханием кратера. Ковши и чаши антенн чутко, жадно процеживают струи тумана. Бугры крутобоких контейнеров хранят в сердцевине туловища ракет и торпед, незримых и сонных, готовых скользнуть и метнуться, превратить в пожары и взрывы вражеские корабли и подлодки. Колючие, воздетые зенитно-ракетные комплексы, ведущие остриями по тучам, ожидают молниеносной атаки разящего штурмовика. На тусклой палубе, на стартовом белом кругу застыл самолет, остроклювый, хищный, готовый пружинно сорваться, дунуть огнем, превратиться в исчезающую точку. Экипаж, невидимый; упрятанный в палубах, рубках, припал к прицелам, приборам, окружил машины и топки, наполняет корабль биением команд и сигналов, непрерывной работой, толкая остров брони в океане. Вышло, бледное солнце, позолотило высокую сталь, и она зажглась, как колокольня. Крейсер, утратив страшные тонны, невесомый, лучистый, скользит среди вод и небес.
«Моя железная оболочка кишит людьми. Качают орудия башен. Вращают зенитные комплексы. На бессчетных экранах следят за отметками целей. Склонились над картами военных учений. Стоят у ревущих топок, где сгорает мазут и огненный пар бьет в лопатки турбин. На камбузе в огромных кастрюлях вскипает душистый борщ. В лазарете на операционном столе лежит пациент. В глубоком ангаре, озаренные мертвенным светом, со сложенными крыльями, стоят самолеты. Оружейники толкают тележки с ракетами, похожие на люльки с младенцами. Я послушен им, выполняю их волю. Но их разрозненные отдельные воли складываются в мою, нераздельную, и я, сконструированный для войны, заставляю их действовать по образу моему и подобию. Сигнальщик на мостике машет флажками проходящему минному тральщику. Адмирал по рации связывается с командующим флотом. В кубриках, отработав ночную смену, спят матросы. Мичман в кают-компании играет на кларнете, и я тихо вторю ему чуть слышным гулом железа.
Чувствуя каждого из моего экипажа, воспроизвожу в себе его нрав. Я строгий, молчаливый, крикливый. А также наивный, лукавый и верящий. Осторожный, задумчивый, пылкий. Любящий, обидчивый, злой. Каждый из них отражается в моих железных конструкциях, оставляет на мне отпечаток, питает своей жизнью мою огромную железную жизнь.
Они любят меня. Моют и чистят мои холодные палубы. Красят борта, едва заметив метину ржавчины. Смазывают меня маслами. Промывают оптику спиртом. То и дело касаются меня своими руками, отчего вращаются мои валы и колеса, вспыхивают и гаснут прожектора, мчатся вдаль незримые коды. В моих коридорах постоянно гудит их быстрый бег. По громкой связи звучат их резкие, с металлическим дыханием, команды.
Я — их дом, их крепость, их стенобитное орудие, пробивающее глубины и горизонты. Я — их могила, их плавающее железное кладбище, и порой мои тихие гулы напоминают церковное пение, когда отпевают дорогого покойника.
Я отвечаю им той же любовью. У меня нет способа ее показать. На койке, закрывшись одеялом, плачет матрос-первогодок. Получил из деревни письмо, где пишут, что ему изменила невеста. Не знаю, как помочь парню. Моя железная, близкая к его уху стена начинает слабо звучать. В ней слышится песня, которую пела в застолье его деревенская большая родня. «Ох ты са-ад, ты мой са-ад, сад зеле-о-о-нень-кий, ты заче-ем ра-ано цветешь, осыпа-а-а-ешься…»
Матрос слушает знакомую песню. Постепенно его всхлипы стихают…
В моей утробе расположен просторный ангар, где тесно, плотно, со сложенными крыльями, стоят самолеты вертикального взлета. Словно птенцы дремлют в сердцевине гигантского стального яйца. Проклевываются, выходят на поверхность, на взлетную палубу, изумленно и радостно взирая на огромное небо, на бескрайний простор океана, на тусклый луч серебра, падающий из тучи на воды. Я посылаю их к далекому берегу, где происходит захват плацдарма. Пикируют на доты, громя их из пушек. Поджигают ракетами танки. Бомбят окопы, уничтожая живую силу противника. С моря подходят тяжелые десантные корабли. Опускают в океан аппарели. В воду тяжко сползают танки, соскальзывают юркие, как ящерицы, «бэтээры». Плывут к побережью, вздувая за кормой буруны, под обстрелом врага, среди фонтанов и всплесков. Открывая ответный огонь, как пятнистые земноводные, выползают на отмель. Морская пехота сыплется из десантных отсеков. Черные, с развевающимся знаменем пехотинцы, с нестройным «ура», захватывают передовые окопы, в рукопашной добивая противника.
Самолеты — часть моей металлической плоти. Они мои дети. Семена, которые я выбрасываю из моей стальной сердцевины. Этими семенами я засеваю побережье, и они прорастают красными клубнями взрывов, черными зарослями пожаров, жуткими цветами горящих танков, окропленных кровавой росой. Так меня сконструировали люди, воплотив свои великие открытия и замыслы в машине вселенского зла, которую я представляю.
Иногда мне мерещится, что меня могли бы создать, как вселенскую машину добра. Соединить во мне все упования на любовь и на благо. Все мифы и сказы, воспевающие красоту и блаженство. Все священные трактаты и тексты, сулящие людям бессмертие. Я выпускаю из себя крылатые семена. Они засевают далекий берег. И там, где они касаются пустынной земли, вырастают райские сады, возносятся дивные храмы, и счастливые бессмертные люди населяют чертог, из которого на лазурных водах виден Божий ковчег…
Начинаю выдвижение из базы в район учений. Мои топки жадно сжигают мазут, вращают турбину. Винты проворачивают тяжелые массы воды, медленно выводят меня на середину залива. Осторожно обхожу с кормы юркий торпедолов, посылающий с мостика колючие вспышки сигналов. С середины залива мне видны осенние, рыже-красные сопки, у подножий которых, слившись серым железом, стоят корабли. На сопках круглятся белые полусферы, где укрыты локаторы. Черные стрелки зенитных ракет прикрывают базу, готовые прянуть в дождливую муть горизонта.
От далекого пирса, от стального скопления похожих на ножи кораблей отделяется узкий корпус ракетного крейсера. На рейд выходит подводная лодка, вяло, сонно скользя, неся свое черное, змеиное, со связками мускулов тело. Застыла, гася движение среди белесых вод. Обмениваюсь с лодкой и крейсером кодами радиосвязи. Касаемся друг друга через пространство залива невесомыми лопастями радаров. Нам втроем идти в океан, в квадрат полигона, где уже поджидают мишени — изношенные траулеры, имитирующие авианосный «ордер» врага. В него полетят наши заряды. Его подымет на воздух сокрушающий тройной удар наших боеголовок. В него вонзится огненное копье, запущенное бомбардировщиком морской авиации, который на далеком береговом аэродроме, громадный, с хищно разведенными крыльями, заканчивает подготовку к полету, крепит под брюхо длинное тулово крылатой ракеты.
Осторожно, бережно ласкаю лодку ладонями радаров. Чувствую ее гладкое, мягкое тело, выпуклости на ее корпусе, ее обтекаемые совершенные формы. Испытываю к ней нежность. Обмениваюсь с ней воздушными поцелуями электромагнитных сигналов. Через несколько недель лодка уйдет в океан в автономное плавание, погрузится на месяцы, скроется среди подводных течений, между двух полюсов, выслеживая лодки врага, уклоняясь от самолетов разведки, от противолодочных кораблей неприятеля. И я буду хранить в моей железной дремотной памяти ее образ.
О нашем выдвижении оповещен неприятель с пролетающего спутника. В район учений устремляются самолеты-разведчики «Орионы». Туда же выдвигается разведывательный корабль «Локвуд». Не заходя в квадрат полигона, станет фотографировать взрывы, записывать частоты наших радиостанций, направлять информацию в далекие центры Америки. Увлекшись разведкой, «Локвуд» приблизится к морской границе, и тогда навстречу заспешат скоростные погранкорабли, отгоняя его в океан.
Мне важно знать обстановку на море в районе учений. Принимаю из Космоса фотографии океана с точками кораблей. Мои эхолоты мерят глубину под днищем, вычерчивая рельефы морского дна. На индикаторах кругового обзора вытачиваются зеленоватые контуры побережья.
Но среди укрытых систем оружия, артиллерийских батарей, сторожевых постов и дозоров мои антенны видят, как в тихих, роняющих листву лесах по мягкой земле ступает самка оленя и за ней на тоненьких ножках семенит олененок…
Я вычерчен по законам геометрии, рассчитан математическими методами. Надо мной трудились металлурги и химики, электронщики и баллистики. Я логичен, разумен. Соответствую наукам об электричестве и магнетизме, теориям игр и конфликтов. Надо мной трудились ученые и инженеры, дизайнеры и психологи. Я — средоточие знаний, освоенных человеческим разумом. Однако органы чувств, данные мне человеком — окуляры, прицелы, антенны под водой и на мачтах, — фиксируют загадочные, неоткрытые в мире законы, утраченные древние знания. Я существую среди таинственных неоткрытых материй, незафиксированных полей, необъяснимых явлений и тайн. Мои стальные борта едва уловимо трепещут, соприкасаясь с неведомой людям реальностью.
Однажды в Атлантике, ночью, я попал под дождь метеоритов, когда с неба летели бессчетные золотистые брызги, вспыхивали салюты, на палубу оседала небесная роса, состоящая из разноцветных частичек. Навстречу невесомому драгоценному ливню из океана выскакивали дельфины, рыбы, глазурованные киты. Стеклянно мерцали, стремились ввысь, словно слышали беззвучную, прилетевшую из Космоса весть. Хотели умчаться туда, откуда явилась когда-то жизнь. Желали вернуться на свою небесную родину.
В Индийском океане среди ночных безветренных вод возникло сияние. Лунный прозрачный столп напоминал ступавшего по волнам человека. Была видна его высокая голова, окруженная нимбом. Его полупрозрачное тело, охваченное свечением. Прозрачный великан шагал по океану, перемещал босые стопы, и было видно, как волнуется его лунный хитон, развеваются светлые кудри. Я направил на великана локатор, стремясь получить на экране его отражение. Но экран оставался пустым, исполин безмолвно удалялся по водам и скоро исчез.
В открытом море, вдали от всех берегов, ко мне прилетели бабочки. Огромное, белое, трепещущее облако приблизилось над морем, опустилось на мою влажную железную палубу, покрыв меня легкой шевелящейся шубой. Мои пушки и бомбометы, мои лебедки и краны, окуляры труб и прицелов, — словно бабочки, посланные чьей-то божественной волей, желали умягчить жестокие выступы моего железного корпуса, затмить глаза наводчиков и стрелков, закупорить своими хрупкими телами и крыльями жерла орудий. Матросы сметали бабочек швабрами, чистили залепленные стекла рубки, шагали по бабочкам, но безгласные существа, словно крохотные белые ангелы, парили, трепетали над палубой.
Огибая Китай вдоль далеких туманных гор, я почувствовал, что оказался во власти дремотных таинственных сил, выпивавших из моих машин и приборов, из турбин и моторов их неутомимую волю. То же и с людьми, — засыпали на ходу, забывали команды, обморочно бродили по палубе, будто к ним присосался невидимый огромный упырь, высасывая их соки и жизни. Ими овладел невидимый демон востока, погружал в помешательство, вдувал им в души отравленный дым.
Я не знаю, как завершу мою жизнь. Погибну в бою, среди ядерных грибов и разрывов, медленно погружаясь на океанское дно? Или состарюсь, буду пришвартован в отдаленной бухте, на кладбище кораблей, и меня станут пилить автогеном, выламывая из бортов стальные окорока, обнажая утомленные ребра? Но иногда, в неразумном прозрении, мне чудится другая страна, огромный, залитый огнями китайский город. Без ракет и орудий, расставшись навсегда с самолетами, я перестроен в плавучий дворец. Мои ангары, отсеки, помещения для турбин и для топок превращены в великолепные залы, украшены мрамором, алыми и золотыми драконами. В них танцуют, пьют вино и играют в карты. В адмиральской каюте, переделанной под пышную спальню, мужчина с восточным лицом возлежит на подушках, и девушка приближает к его губам свою обнаженную грудь…
Среди моряков экипажа, обремененных круглосуточной бесконечной работой — прокладывают маршруты на карте, слушают дно океана, регулируют обороты винтов, выпекают хлеб, драят до блеска поручни и ручки кают, заглядывают в душную глубину контейнеров, где притаились ракеты, — среди трудолюбивых, понятных мне моряков, опекающих мое огромное тело, присутствует человек, загадочный для меня и неясный. Писатель, командированный на флот, чтобы принять участие в стрельбах и потом описать учебное сражение на море. Поведать людям, не знавшим никогда океан, как корабли и подводные лодки проведут скоротечный ядерный бой, уничтожая авианосец противника. Я наблюдаю писателя, который не захвачен корабельной работой и существует отдельно. Созерцает сияющие туманы моря. Обходит стороной матросов, драящих палубу. Ненадолго заглянет в командирскую рубку, прислушиваясь к незнакомым командам. Выйдет на мостик сигнальщика и стоит, обдуваемый ветром, рядом с железной стенкой, на которой красной краской начертаны контуры вражеских кораблей, самолетов. Или же бродит по моим нескончаемым железным коридорам, останавливаясь перед стальными дверями, словно за ними притаилось его будущее, не решаясь войти. И я, обладающий даром провидения, играю с ним в странные игры.
Вот он толкает железную дверь, полагая, что за ней разместились акустики, слушают в наушники море, следят за млечным, бегущим по экрану лучом. Но вместо этого на него вдруг пахнет сладким дымом афганских предгорий, он идет вдоль глинобитной стены, над которой виднеется дерево с красным урюком, свисает плетеная клетка и скачет лазурная птичка, пыль кишлака набита множеством овечьих копыт, с ребристым отпечатком прокатившего танка, и он шагает в своем, еще не случившемся будущем.
Или входит в дверь, за которой ожидает увидеть асбестовый кожух турбины, стеклянный блеск циферблатов, сияющий маслом металл. Но нога его погружается в зеленую жаркую жижу никарагуанских болот, в лицо ударяет душная ядовитая прель, качаются желтые водяные цветы, и хлюпающий впереди изнуренный солдат несет на плече избитый ствол миномета.
Эти видения пугают его. Он объясняет их галлюцинациями, вызванными обилием железа, действием электрических и магнитных полей, непрерывными вибрациями, бегущими по моему огромному телу. Писатель уходит в каюту и долго лежит, не понимая, кто присылает ему из будущего эти цветные слайды. Не знает, что это я, обладающий даром провидения, затеял с ним странную, увлекательную для меня игру.
Вот он стоит перед дверью, за которой в стальной квашне восходит тесто, дышит хлебная печь, матросы вытягивают из раскаленного зева горбатые смуглые буханки. Переступив железный порог, вдруг очутился на московской улице, где ревут свирепые толпы, топчут сорванный красный флаг, сбивают с помпезного фасада золоченую надпись. Отколотые буквы со звоном падают на заплеванный асфальт.
Входит в кают-компанию, где длинный, накрытый к обеду стол, картина с изображением Цусимской битвы. Но оказывается среди колючего мусора нелепой, рыхлой баррикады, по мокрому асфальту бежит бородач в казачьей папахе, с лампасами. Подстреленный невидимым снайпером, начинает падать, хватая руками воздух.
Ладонями своих ажурных антенн, изгибами стального огромного корпуса я вычерпываю из будущего отдельные видения и образы. Прикладываю их к векам писателя, как переводные картинки, и он воспринимает их, как сны наяву, как странные миражи, как особенности своей творческой незаурядной натуры.
Однажды, когда он переступил порог орудийной башни, ему, вместо винтовой, подымавшейся к орудию лестницы, открылось пространство церкви, тихое свечение лампад. В цветах, окруженный смиренной родней, стоит гроб, и в нем остроносый, с запавшими губами старик — он, писатель, на лице которого — облегчение от завершенной неразгаданной жизни.
Этот странный человек принял мою игру. Бродит по моим железным лабиринтам, как по лабиринтам своей будущей судьбы…
Входим в квадрат полигона. Адмирал наклонился над картой, сверяет направление ударов. Весь экипаж — на местах. Мой громадный короб мощно дрожит от рева турбин, от яростного полыхания топки. Страстно трепещет каждой стальной заклепкой, драгоценной клеммой прибора. Время утратило ленивый размытый ход, превратилось в заостренный вектор, нацелено в слепящую точку. Эта точка — смысл моего бытия, вершина моего назначения, ради которого сотворил меня Бог. Руками людей, построивших мое грозное тело, совершат свою работу. Я — божий ковчег, и имя мое — «Кара Господня».
Море туманное, в холодном металлическом блеске. Невидимый в облаках, разведя громадные крылья, летит ракетоносец, засекая в океане незримую цель. Крейсер, заостренный, в сиянии вод, идет параллельным курсом, оставляя за собой блестящую полосу. Лодка, узкая, словно игла, прокалывает море, скользит среди лучей и течений.
Время «Ч», Сомкнулись стрелки хронометра. Бомбардировщик сбросил ракету, отпустил от себя ее длинное тело, направил к горизонту. На подводной лодке за рубкой ртутно задымило. В молнии света прянуло острие, словно сорвался с тетивы черный зубец. Крейсер, задрав контейнер, окутался белой гарью, накрылся рыхлой дымной копной, и оттуда, ахнув, гася за собой струю света, умчалась ракета, отточенная, как стеклорез.
Мой черед. На палубе, в поднявшемся на дыбы сером цилиндре ярко вскипело. Задергались кинжальные лезвия синих шипящих огней. Словно ударило по корпусу громадной кувалдой. Огромный огненный шар прокатился по палубе, пропуская сквозь себя корабль. В пламени, исчезая, возникло на миг буравящее веретено и умчалось. Обжигающий запах горячей стали. Пороховое облако, сносимое ветром. Горячий ожог на палубе. Лысое, со сгоревшей краской железо.
Море кипит от взрывов. Полыхают пожары. Тонут разодранные в клочья траулеры. Цель поражена, авианосец врага уничтожен. Самолет разведки кружит над районом, фотографирует с воздуха пораженные мишени.
Море успокаивается. На огромном пространстве всплывают белобокие, оглушенные взрывом рыбы. Под удар попало идущее на нерест стадо горбуши.
Опустошенный, усталый, возвращаюсь в базу…»
25
Коробейников, еще оглушенный грохотом взрывов, гулом корабельного железа, ошеломленный гигантским чертежом военных учений, на несколько дней, перед отлетом в Москву, поселился в прибрежной избушке. Над замшелой крышей нависли разноцветные осенние сопки. В бревенчатые стены плескалась волна океана. На кольях торчали рыбьи скелеты, висели круглые, из бутылочного стекла, поплавки, принесенные из океана приливом. В избушке проживал легкомысленный русский странник Федор, рыбак и охотник, вольный скиталец и бессребреный бражник. Не Докучал Коробейникову, занятый промыслом, копчением рыбы, доживая в избушке последние недели, присматриваясь веселыми хмельными глазами к туманным пространствам, словно примеривался, куда податься по необъятной стране — на горные озера Тувы, или на Туркменский канал в Каракумах, или на молдавские виноградники, где станет босыми, малиновыми ногами танцевать в деревянной давильне, выбрызгивая из-под пяток черно-красный сок. Федор ссудил Коробейникову большие резиновые сапоги, отпустил его вдоль кромки океана, далеко и стеклянно блестевшей под тихим безветренным небом, с хрупким прозрачным перышком пограничной наблюдательной вышки.
Он шагал по отливу, среди вялых колебаний воды, мерцающих далей, дуновений прохладного ветра. Его сотрясенная душа, взвинченный разум постепенно входили в согласие с таинственными синусоидами, в которых плавно переливалась природа — текли и волновались воды, опадали леса, скользил по океану далекий туманный луч. Его сердце откликалось на плеск волны, лизнувшей заблестевший камень. Он чувствовал запах рыжей водоросли, истлевавшей на песке. Глаз замечал упавший под ноги красный осенний лист, рядом с которым наступила его нога. В отпечаток подошвы медленно натекала вода, и по отмели тянулась слюдяная цепочка следов.
Ему казалось, что ветер легонько подталкивает его к какой-то близкой невидимой цели. Волны подсказывают, куда он должен идти. Далекое, серебряное перо, лежащее на океане, сулило таинственную встречу. Он думал о романе, но не рассудком, а бессознательным созерцанием, как думают о неподвижном, необъятном, стоящем над головой облаке.
Океан отступал, и на отливе обнажались мокрые камни, покрытые водорослями, рыжие, зеленые, красные, остро пахнущие, хрустящие под ногами. Лежали фиолетовые раковины, сочились ручьи, бежали врассыпную мелкие бесцветные крабы.
Океан у берега странно волновался, подергивался слабыми, пробегавшими в глубине судорогами. Натягивался, словно был переполнен невидимой жизнью, которой было тесно в воде. Иногда пролегал мягкий выпуклый след, будто пролетала глубинная торпеда, и все вновь успокаивалось. Коробейников не понимал, чем объяснялась упругость воды, ее глубинное трясение. Лишь чувствовал напряжение, незримый напор, живое поле, которое слабо сотрясало воздух, рябило свет и на которое испуганно откликалась душа.
Внезапно из-под ног ударил всплеск, сверкнула зеркальная вспышка. В ней возникла зубастая рыбья башка, круглый зеленый глаз. Рыбина шарахнулась, ушла, виляя хвостом. Он забрел в сапогах поглубже. Несколько темных теней прянуло от него веером, и на поверхности возникли колыхания.
Он шел, и с каждым шагом рыб становилось больше. Шарахались, утыкались в камни, сталкивались с другими рыбинами. Океан у берега светился, отливал синевой толкавшихся рыб, закипал бурунами, в которых извивались мощные рыбьи тела, взбухала горбатая черно-зеленая спина, шлепал розовый хвост. Вода была набита рыбой, лопалась, переполненная могучей жизнью, едва сдерживала ее молчаливый напор.
С горы сбегала мелкая речка, бурлила в глинистом устье, поблескивала высоко по склону. И Коробейников понял, что оказался там, где пресная вода вливается в рассол океана и где сгрудилось стадо горбуши, приплывшей на нерест. Проталкивается по мелководью к устью, которое шипит и пенится от рыбьих плавников и хвостов.
Было чудесно оказаться среди несметного множества жизней, у безлюдных багряных сопок, на краю океана, где высокое небо положило на воды отсвет, словно божественное знамение.
Он боялся шагнуть, чтобы не наступить на скользкую спину. Увидев близкую тень, окунал в воду руки, чувствуя холодное, мощное скольжение. Был в гигантском скоплении жизней. Отделен от молчаливых морских существ и связан с ними безымянным напором, который привел косяк горбуши из необъятных океанских глубин к устью маленькой речки. Как и его, Коробейникова, привел из отдаленного огромного города к этим осенним кручам на краю земли.
Голова его сладко кружилась. Высокий отсвет лежал на океане. У ног скользили темные тени, не замечая его; словно и он был рыбой. Приплыл вместе с ними из океанских глубин, повинуясь вращению Земли, ветрам и течениям, магнитным полям и лунным затмениям. Одна и та же божественная воля привела их сюда. Одна и та же, разлитая во Вселенной жизнь, наполняла их мускулы, кровь, вращала в орбитах глаза, мучительно и сладко давила изнутри, подвигая к бурлящему устью речки. Звала вверх, на гору, где в зарослях мерцала вода.
Он приблизился к устью, где пресноводная речка соскальзывала с кручи, вторгалась в океанский рассол, и место их встречи кипело, шелестело, бурлило. В бурунах взлетала костяная, блистающая доспехом рыбья башка, круглился сине-золотой, страстный глаз, хлестал раздвоенный слизистый хвост. Вдоль речки, на мокрой глине, стояли большие чайки, толстые, отяжелевшие, приспустив серые крылья, приоткрыв загнутые желтые клювы. Глина была в белых кляксах помета. На берегу были разбросаны исклеванные рыбьи тела, у которых отсутствовали спины, бока, хвосты, из розового мяса выступали голые позвонки и кости. Обожравшиеся птицы зло смотрели на скользящие в потоке голубоватые тени, не в силах двинуться. Упирали в скользкую глину перепончатые оранжевые лапы, свесив между ними неопрятные толстые животы. Лишь одна чайка стояла у самой воды, наблюдала стремящихся мимо нее огромных рыбин. Время от времени била клювом в глаз, выхватывая с корнем рыбье око. Держала в костяных щипцах стеклянную, желто-синюю бусину, не торопясь проглотить. Ослепленная рыба продолжала плыть. Из пустой глазницы за ней тянулись красные волокна, вода вокруг головы была мутной и розовой.
Это зрелище ужаснуло Коробейникова. Он ощутил слепящий удар в глаз, вспышку боли, ломоту в черепе, словно птичий клюв проник в глазное яблоко и вырвал его с корнем. Одна и та же жизнь, воплощенная в рыбе, в человеке и птице, мучила и истребляла себя. Не узнавала себя в другом. Существовала за счет самоистребления. Была невозможна без боли, без мучительной смерти. Была пронизана силовыми линиями мира, острыми клювами, гарпунами ракет, молниями боли и смерти, пронося среди них свою божественную, непосильную для разума загадку. Коробейников, обремененный своим неясным замыслом, словно сгустком неоплодотворенной икры, был рыбой с пустой окровавленной глазницей, толкаемый этим роковым замыслом к своей собственной смерти. Его всевидящее, восхищенное миром око было вырвано и слепо блестело в клюве страшной гарпии, а он сам, в кровавых волокнах, продолжал стремиться вверх, на гору, охваченный ужасом смерти, паникой не успеть и погибнуть раньше, чем замысел его воплотится.
Он шел вверх по гремучему ручью, и у него под ногами то и дело вздувались рыбьи горбы, хлюпали жабры, туго плескали хвосты. Рыбы, изнемогая, стремились вверх по камням, одолевая гравитацию, возносясь над уровнем моря, к вершине горы. Покидали свою морскую стихию, словно там, на поднебесной высоте, сотворялось мистическое действо, приносилась вселенская жертва, совершалась задуманная божеством мистерия, в которую была вовлечена жизнь. Действовал загадочный закон, не позволявший погаснуть Вселенной, расплыться в бесконечную однообразную туманность, в которой рассосутся спирали галактик, растворятся сгустки звезд и планет, но вечно вскипают протуберанцы и взрывы. Побеждают унылую энтропию, тусклую ординарность и пошлость, унылое смирение. Закон продолжения жизни через жертву и смерть.
Коробейников чувствовал, как в страшном напряжении колотятся рыбьи сердца, страстно хлопают жабры, плавники цепляются за камни, противодействуя падающей к океану воде. Речка срывала за собой рыбин, сволакивала вниз, откуда они снова в страстном упорстве двигались вверх по горе.
В мелкой заводи под кустами скопились отдыхающие рыбы. Коробейников, бурля сапогами, приблизился. Окунул руки, подводя ладони под скользкие холодные животы. Несколько горбуш, почувствовав горячие прикосновения, ускользнули. Он осторожно поддел руками большую утомленную рыбину. Выхватил из воды, получив в лицо удар сверкающей слизи. Ощутил литую тяжесть длинного мокрого туловища, пряный запах могучей жизни. Рыба расплющила о ладони переполненный белый живот, вяло шевелила хвостом, тускло сияла голубой чешуей, отражая снег неба. Склеила черные жабры, поворачивая в костяной голове золотой телескопический глаз. Она была совершенна, выточена божественным мастером. Своими изгибами, остриями, плавными линиями была соразмерна с морской глубиной, ледяными течениями, непроглядной тьмой, в которой, не мигая, золотился ее плоский глаз.
Возможность держать на руках морское диво, рассматривать близко прекрасные, дикие формы, быть рядом с таинственным обитателем вод, который был упрятан природой в недоступную человеку пучину, отделен немотой океана, мерцающим звездным Космосом, восхитила Коробейникова. Он взирал на рыбу, приближая глаз к ее огненному рыжему оку. Силился понять, какое послание она ему принесла.
Рыба безмолвствовала, слабо дрожал ее хвост, сверкали плавники, будто отлитые из стекла. Две их жизни, заключенные каждая в свою оболочку, в свой тварный временный панцирь, узнали друг друга. Смирились с тем, что на время разлучены. Согласны ждать, покуда не разомкнутся удерживающие их створы и они вновь сольются с безымянным безграничным сиянием, откуда вышли и куда непременно вернутся. И такой восторг перед этим сияющим небом и бескрайним океаном испытал Коробейников, такое благоговение и благодарность к невидимому, сотворившему их Божеству, что прижал к груди рыбу, как мать прижимает младенца. Поцеловал ее ледяную мокрую голову и, наклонившись, выпустил в реку. Рыба скользнула, провела горбатой спиной вялый след и навеки исчезла. А он стоял, восхищенный, растроганный, чувствуя тождество с рыбой, неся на губах сладкий холодный ожог.
У вершины, где речка принималась петлять, сочилась в кустах, омывала траву и ветки, шло страстное бурление. Рыбы секли поверхность, ложились на бок, выгибая серебряные бугры. Ударяли хвостами в коряги, высекая жидкий огонь. Застывали, содрогаясь растопыренными плавниками, раскрывая красные дышащие жабры. Из набухших животов вытекали оранжевые студенистые сгустки, лепились к траве, к корявым сукам, удлинялись, жемчужно светились. Рыбы сотрясались в конвульсиях, выдавливали из себя клейкие гроздья, выгибали костлявые спины, на которых в муке дрожали растопыренные плавники, и, казалось, вместе с икрой из рыб выходила сама жизнь. Они становились пустыми, вялыми, неустойчивыми, бессильно ложились на бок. Их начинало сносить, и они обморочно сопротивлялись течению, окруженные розовой мутью.
Коробейников стоял посреди нерестилища, окруженный плодоносящими самками, которые, не замечая его, стремились разродиться холодной оранжевой плазмой. Ударялись о его сапоги, и он, пугаясь этих ударов, чувствовал себя средоточием безымянных бессчетных жизней, которые слепо рвались наружу, покидали темное лоно, отдавая себя во власть лучей и потоков. Ему, художнику, обремененному неясным замыслом, было явлено творчество Бога, законы живой и неживой природы, по которым создавались планеты, твари, художественные тексты и образы.
Опустошенные самки, сонные, с померкшими глазами, потускневшей, утратившей блеск чешуей, отплывали. Застревали на перекатах, обморочно шевеля жабрами. Вновь оказывались во власти гравитации, которая стягивала их с горы, влекла к подножью. Навстречу им рвались самцы. Не замечая самок, неистово пробивались к траве, к сплетеньям корней и веток, на которых колыхалась икра. Бросались на нее жадно, страстно, целовали, давили, щекотали об нее белые животы, опрыскивали студенистые гроздья млечной жижей. Вода мутнела, словно в нее лили молоко. Икра, охваченная белой мутью, начинала немедленный рост и движение. Гроздья тучнели, взбухали, теряли оранжевый цвет. Становились прозрачней, пышней, словно происходила химическая реакция, создавалось новое вещество. Нерестилище, промываемое студеной водой, пронизанное светом небес, было лабораторией, в которой синтезировалась жизнь. На самых ранних этапах творения в эту жизнь закладывались напряжение магнитных полей, очертания континентов, расположение звезд. Таинственные ориентиры, по которым потянутся в океанах будущие рыбьи стаи.
Океан бугрился, и в нем чудилась кривизна Земли. На округлых водах лежал огромный, ясный отсвет небес. Коробейников стал спускаться с горы по берегу речки. Мимо в воде катились мертвые рыбины, отдавшие свои жизни на вершине, где совершалось жертвоприношение.
Вернулся в избушку, где поджидал его хмельной Федор. Сидел на пороге перед деревянным ящиком, в который, как поленья, были уложены рыбы. Брал одну на колени, острой финкой вспарывал белое брюхо. Из пореза взбухал влажный пузырь, напоминавший полиэтиленовый мешок, переполненный красными сгустками. Федор мокрой пятерней залезал вглубь рыбы, выдирал из нее мешок. Держа на весу над большим эмалированным тазом, легонько ударял финкой. Пакет распадался, из него с хлюпаньем валила красно-оранжевая жижа. Наполняла таз зернистой огненной гущей. Федор захватывал в мокрую пятерню горсть соли, кидал в таз. Едкая соль пропитывала живую икру, и она еще больше краснела.
— Возьмешь икорки в Москву. Будешь Федьку-странника вспоминать, — весело и хмельно подмигнул, кивая на стол, где их поджидала початая бутылка водки.
26
Вернувшись в Москву, Коробейников много времени уделял австралийской гостье. Тетя Тася поселилась у сестры, тети Веры, в тесной однокомнатной квартирке, и обе часто навещали дом в Тихвинском переулке, где их поджидала третья сестра, мать Коробейникова. Оттуда три сестры направлялись в театр или на прогулку по городу. Коробейников сажал их в красный «Москвич», подвозил то к Новодевичьему монастырю, то к ВДНХ, то на Софийскую набережную, откуда они любовались Кремлем. Или к высокому старомодному дому на Страстном бульваре, в котором жил до самой смерти дед Николай. Или в глубокое мрачное подворье в Успенском переулке, где завершили свои дни дед Михаил и Тасина мать, баба Маня. Утомленные, умиленные, возвращались на Тихвинский, обедали. Коробейников, выполнив родственный долг, не уходил, а пристраивался на табуреточке подле бабушкиного белого креслица. Слушал разговоры сестер, наблюдая, как трудно склеивается из черепков расколотая фамильная чашка.
Не сразу, не в первые после приезда дни, Тася собралась навестить отеческие гробы — маленький семейный некрополь на Ваганьковском кладбище, где на крохотном участке земли, перемешавшись костями, лежала усопшая родня и находилась могила бабы Мани. Тася словно чего-то страшилась, откладывала посещение кладбища. Наконец решилась. Удалившись от сестры Веры на кухоньку, долго читала Евангелие, дорожный томик в кожаном переплете, на английском языке. Облачившись, как обычно, во все голубое: юбка, пальто, изящная шляпка, она повязала на шею темный траурный шарф, заготовленный в Австралии специально для этого случая. Коробейников усадил в «Строптивую Мариетту» обеих сестер и повез на Ваганьковское.
— Вера, помнишь, как мама нам говорила: «Доченьки, синие оченьки»? Усадит нас утром за стол, наливает чай со сливками, а потом вдруг глянет и ахнет: «Вера, Тася, да какие же у вас голубые глаза!.. Доченьки, синие оченьки!» — Тася обращалась к сестре, будто хотела с ее помощью облегчить пугающее, предстоящее ей свидание, и Коробейников в зеркало видел, какое у нее напряженное, боящееся лицо.
— Она тебя больше любила. Считала тебя красавицей, — отзывалась тетя Вера, спокойная и задумчивая, не помогая сестре в ее переживаниях.
— Помню, как она подарила мне плетеную корзиночку и в ней игрушечный детский сервиз. Чашечки, чайник, кофейник, чудесные фарфоровые тарелочки. Мы с тобой любили играть в «именитых гостей». Ты случайно разбила кофейник, и мне так было жалко.
— Последний раз видела эту корзиночку с остатками сервиза, когда приходили меня арестовывать. При обыске перевернули весь дом и откуда-то, с антресолей, достали этот сервиз. Больше его не видала.
— Все эти годы, каждый вечер, я молилась за вас. Начинала молитву с мамы. Просила у Господа продлить ей годы и всегда боялась, что молитва моя напрасна, что ее нет в живых.
— Мама рассказывала, что в Ленинграде, во время блокады, когда она умирала от истощения, в голодном бреду ей привиделась ты, подносящая буханку хлеба.
— Вот видишь, — оживилась Тася, — может, это и был хлеб духовный, моя молитва. Она и спасла ей жизнь.
— Не знаю, — сухо ответила Вера. — Жизнь маме и многим другим ленинградцам спасла Красная Армия, которая прорвала блокаду и разгромила немцев.
И они замолкали, в отчуждении друг к другу, не умея объединиться в своих чувствах к покойной матери.
Ваганьковское кладбище — огромное, из ветвей и сучьев, воронье гнездо. Медленные трамваи вдоль изгороди, у которой торгуют бумажными, ярко-химическими цветами. Окруженная голыми деревьями грязно-желтая церковь. Мокрые дорожки, уходящие в железные заросли могильных оград. Вороны в низком ветреном небе, из которого с короткими всхлипами брызгает дождь. Могилы, тесные и колючие, будто смели их граблями в неопрятные рыхлые ворохи, из которых торчат кресты, мраморные и бетонные плиты, пирамидки со звездами, смотрят выведенные на камне лица, остановившиеся, изумленные, как беззвучный крик. Имена, под каждым из которых два четырехзначных числа, разделенных аккуратной черточкой. Купцы, мещане, статский советник, какой-то попечитель гимназий под мраморным черным крестом, с поминальной строчкой псалма. Московские обыватели, советские служащие, офицеры и герои войны под бетоном, гранитом, с трогательными словами прощания, с букетиком в пол-литровой стеклянной банке. Ограда из нержавеющей стали — последний приют конструктора самолетов. Ступенчатый красный гранит, напоминающий мавзолей, с печальным еврейским лицом — почивший директор гастронома. Кладбище казалось огромным вольером, куда были пойманы черные, с изогнутыми вершинами деревья, у подножья которых тускло серебрился металл, пестрели ядовито-бумажные, проволочные веночки, лежала неубранная сырая листва, двигались редкие молчаливые люди. Были готовы остановиться, вытянуться вверх, в дождливое небо, превратиться в черные деревья, в бетонные пирамидки, и жестяные красные звезды, и четырехзначные числа, между которых, по тоненькой жердочке проскользнула человеческая жизнь.
Сестры шли по дорожкам — Вера, сутулясь, усохшая, с выцветшим болезненным лицом, в поношенном, неловко сидящем пальто, с торопливой, птичьей походкой. Тася, статная, строгая, в стильном голубом ансамбле, с розовым пухлым лицом, твердой поступью, держа в руках букетик голубоватых хризантем, подобранных под цвет пальто и шляпки. Коробейников отмечал их разительное несходство. Если Вера была созвучна этим наспех, кое-как соединенным деревьям, оградкам, веночкам и крестикам, была еще живой, но уже неотъемлемой частью этого русского кладбища, то сестра ее, своей гордой осанкой, дорогим иностранным пальто, испуганными, бегающими по сторонам глазами, не желала для себя этого металлического чертополоха, черных птиц в мокром небе, тесной толпы усопших, проживших без нее другую жизнь, в другой, незнакомой стране.
Поблизости, сквозь стволы и могилы, надсадно, сипло ахнул духовой оркестр. У раскрытой ямины, на деревянных козлах, стоял кумачовый гроб, топтался немногочисленный люд. Из белых пелен, сырых, кроваво-красных цветов, виднелся костяной лоб, коричневые орехи набухших век, склеротический, со склеенными ноздрями нос. Могильщики, молодецки опершись на лопаты, стояли поодаль, словно любовались целостностью картины. Оркестр инвалидов, в серых пальтишках, в замызганных башмаках, в мятых кепках и обвислых шляпах дул в нечистую, продавленную медь, тузил в барабан. Огромная, в несколько оборотов, труба, как хомут, лежала на плечах трубача с сизыми щеками. Тарелки сходились и расходились в руках костлявого старика, отсылавшего стенающие удары к вершинам деревьев, где их расхватывали, растаскивали на частички возбужденные черные птицы.
Тася, ужасаясь рева трубы, грома натянутой на барабан свиной кожи, ахающих, словно пощечины, медных тарелок, старалась поскорее пройти. В ее глазах мелькнул ужас, словно боялась, что к ней подскочат разбитные могильщики и толкнут в раскрытую яму.
Тут же, рядом, на соседней дорожке, находился фамильный некрополь. Коробейников подвел своих спутниц к низкой оградке, за которой поникла осенняя трава, стояли три каменных плиты с родными именами. Надписи отчужденно и холодно закрепляли факт смерти, были внесены в бесконечный список, в каменную книгу, в которую кто-то, не мигая, смотрел из дождливого неба.
— Боже мой, дядя Коля, дядя Миша, мамочка… — пролепетала Тася, боясь подойти ближе, будто кто-то запрещал ей приблизиться, наказывал за вину столь долгого отсутствия, сурово ее отторгал. — Как могилы запущены… Вы здесь совсем не бываете, — обратилась она к сестре и тут же осеклась, боясь услышать резкость в ответ.
Коробейников смотрел на потно блестевшие камни, на три вытянутых бугра, под которыми, как под черными одеялами, усыпанные жухлой листвой лежали любимые старики. Представлял их живые лица, блестящие глаза, говорящие рты, фамильные обеды и чаепитья, застольные крики и ссоры, умильные воспоминания. Все это было здесь, на свету, где еще оставался он сам, а там, под черными одеялами, не было ничего, кроме ржавых костей и наполненных землей черепов. И хотелось унести подальше от могил эти чудесные воспоминания и любимые образы. Уберечь от бесстрастных начертаний на камне, на которые из неба, сурово, не мигая, взирали чьи-то глаза.
Оркестр умолк. Сквозь деревья было видно, как прощались с покойником. Тася что-то шептала, не могла ступить за оградку, прижимала к груди букетик голубоватых цветов, беспомощно оглядывалась на сестру, чтобы та за нее заступилась, испросила разрешения приблизиться. Но та, оцепенев, стояла на ветру в своем продуваемом пальто, забыв о сестре.
Внезапно ахнула страстная, жуткая медь оркестра. Удар звука толкнул Тасю в спину. Она страшно побледнела, шагнула, цепляясь за поперечину ограды. Упала на мокрую землю, накрыв бугор своим голубым пальто. Обнимала материнскую могилу, заходясь истошным, нечеловеческим, русским воплем:
— Мамочка, прости!.. Как же я к тебе стремилась!.. Как я по тебе тосковала!.. Опоздала к тебе, не успела!.. Не увижу, не поцелую твое любимое лицо, твои нежные руки!.. Хочу к тебе!.. Лечь с тобой навсегда!..
Казалось, из земли наверх просунулись две прозрачные живые руки. Обняли упавшую Тасю, и та целовала землю, рыдала, вздрагивала спиной, уронив с головы изящную голубую шляпку.
Коробейников ее поднимал, смахивал с пальто прилипшую грязь, укладывал на могилу букетик голубых хризантем. Тася, с мокрым лицом, распухшим носом, шарила по карманам, извлекала голубенький, с кружавчиками, платочек, прижимала к покрасневшим глазам.
Они уходили с кладбища, и за ними все неслись ошалелые уханья оркестра, пронзительные крики ворон.
Дома, на Тихвинском, после чаепитья, три сестры расположились на широкой тахте, прижав свои похожие седые головы к настенному коврику с малиновыми маками — бабушкино рукоделье. Коробейников поместился на деревянной табуреточке, подле бабушки, которая из своего белого креслица умиленно взирала на дорогие лица, и ее карие глаза лучисто светились.
В воздухе, попадая в оконный свет, загорались крохотные разноцветные пылинки, которые казались Коробейникову посланцами из далекого счастливого времени, где собралась семья, наблюдала за ними сквозь прозрачную толщу.
— Мама все эти годы мне постоянно являлась. — Тася еще переживала посещение материнской могилы, хотела поделиться с сестрами сокровенными чувствами, которые могли быть понятны лишь самым родным и близким. — Она часто являлась во сне. Помню, в Полинезии, дом нашей миссии на берегу океана. Ночной ливень, ветер, гул близких волн. За окном шумит, потрескивает костяными звуками огромная пальма. И я, не просыпаясь, чувствую, как входит мама. Кладет мне на лоб свою теплую руку, и я знаю, что это она. Только ее рука может быть такой теплой, душистой, любимой. Значит, мы вместе, не расставались, она жива и любит меня.
— Она в это время умирала в блокадном Ленинграде, — потупясь, замечала Вера, и было неясно, печалится ли она о страданиях, выпавших на долю матери, или этими страданиями желает укорить сестру. — Когда над тобой шумела пальма, над мамой в ленинградском небе стреляли зенитки и падали немецкие бомбы. Она ела клей, который сохранился на старых книгах, на подшивках «Аполлона» и «Весов». Ходила с ведерочком к Неве, где возле сфинксов была пробита прорубь, и таскала ледяную воду. Рука, которая казалась тебе душистой и теплой, распухла от голода, посинела, и на ней были язвы.
— Господи, за что ей такое? — слезно воскликнула Тася. — За что вам всем выпали такие мучения? Знать бы, так всем бы уехать, убежать от этих проклятых гонений.
— И что же? Вот Шурочка уехал и сгинул где-то, не то в Бессарабии, не то в Праге. Дядя Вася уехал и умер лифтером в Голливуде, больной, никому не нужный. Разве не было горя? — Вера возражала, что-то упорно отстаивая, защищая какую-то неясную Коробейникову истину.
— Конечно, были болезни, одиночество, горести, которые Господь посылает каждому человеку, — смиренно, поджав губы, с пасторской интонацией отвечала Тася. И тут же страстно вспыхивала: — Но не было этого жуткого насилия, арестов, пыток! Не было этих бесчеловечных истязаний, которым подвергались у вас миллионы ни в чем не повинных людей!
— Тася, пойми, мы жили так, как жил весь народ, как жила страна, — осторожно, присоединяясь к Вере, заметила мать, желая этим замечанием не противопоставить себя сестре, а только теснее соединиться с грозным, выпавшим ей на долю временем.
— Несчастный народ, несчастная страна! Попала в руки палачей и изуверов! Я читала о зверствах, которыми вы здесь подвергались, и сердце мое обливалось кровью. Я молилась за вас. Всю жизнь вы прожили в неволе, в кандалах.
— Не всю жизнь! Не в неволе! — исполненная упорства, противоречила ей Вера, сердито взглядывая на сестру. — Я по зову сердца поехала на Урал строить Магнитку. Мы построили самые крупные в мире домны. Наша сталь, наши танки выиграли войну. Огни Магнитки, которые сверкают на весь Урал, — это и мои огни. Огни моей жизни!
В этом страстном, патетическом возражении Коробейников уловил нечто от газетных статей, в которых, пропаганда прибегала к испытанному набору патриотических слов, оправдывающих страдание и жертвы. И было неясно, является ли его тетушка жертвой этой пропаганды, делающей ее многострадальную, проведенную в лагерях и ссылках жизнь осмысленной, или сама эта пропаганда верно отражала живущую в людях неколебимую веру, оправдывающую случившиеся с ними несчастья.
— Большевики не жалели народ, — вспыхивала встречной страстью Тася. — Я читала статью, где рассказывалось, как солдаты НКВД вылавливали по деревням крестьян и миллионами гнали на фронт. А чтобы те не сбежали, за их спинами ставили пулеметы, выстрелами гнали в атаку. Эту войну с Германией выиграли палачи, гнавшие на бойню свои бессчетные жертвы!
И здесь Коробейникову чудилась пропаганда, воздействие иных газетных статей, которые оправдывали нечто, что мучило Тасю. Объясняло ее бегство, отчуждение от семьи, от семейных страданий и утрат, что были для нее источником постоянных мучений, угрызений совести, чувством неискупленной вины.
— Неправда, — твердо и истово отвечала мать, этой строгой истовостью отдаляя от себя сестру. — Мой муж Андрей ушел на войну добровольцем. Он был молодой ученый, у него была «бронь», но он ею пренебрег, поступил в пулеметную школу. Он погиб под Сталинградом за Родину, как гибли миллионы других.
— Таня, милая, ты такая тонкая, талантливая, нежная. Так чудесно рисовала, чувствовала литературу, стихи. Выучила три языка, но все это не пригодилось тебе. Ты ни разу не была за границей, твои дарования пропали впустую. Ты не смогла их реализовать в этой ужасной жестокой жизни. — Тася сострадала, но в ее искреннем сострадании было тайное превосходство над сестрой, неявное оправдание своего выбора, позволившего уцелеть и прожить в осмысленном духовном служении.
— Нет, Тася, ты не права. Я реализовала себя. В войну, уже вдова, я была послана в освобожденный Смоленск. Только что прошел фронт. Ночами небо было в зареве, грохотала канонада, На площади еще стояла виселица, где немцы повесили троих партизан. Не было ни одного уцелевшего дома. Деревни вокруг были сожжены, торчали бесконечные обугленные печные трубы, и люди жили в земляных норах. Среди этих развалин я проектировала бани, прачечные, столовые, детские сады и школы, которые строили наспех, из сырого дерева, лишь бы наладить жизнь. Потом, через несколько лет, я проектировала новые города, на месте испепеленных, которые замышлялись как античные полисы, где должны жить совершенные, счастливые люди. Я служила людям, моя совесть чиста, моя этика не страдает. Я отдала лучшее, на что была способна.
— Хочешь, я расскажу тебе, о чем я думала в лагере, на барачных нарах? — вторила Вера. — Хочешь узнать, что помогало русским людям вынести все мучения?
— Не хочу о мучениях!.. Не желаю слушать! — Тася закрыла ладонями уши, словно спасалась от огромного ветра, который возникал при перепаде давления, когда убирали мембрану, разделявшую две половины земли, две истории, два разных смысла жизни, и начинал дуть и реветь ураганный ветер, и она спасалась от него, прижимая к седой голове ладони с голубым камушком бирюзы. — Не хочу о ваших страданиях!
— А ты послушай! Ведь это и твоя Родина, твоя Россия! — с острым, почти жестоким блеском в глазах сказала Вера. — Не какая-нибудь Полинезия иди Африка, где в результате твоих неусыпных трудов дикари сносили к порогу свои деревянные маски, и ты их сжигала, исполненная торжества! В это время Россия истекала слезами и кровью, в деревнях стояли обгорелые трубы, и сколько сирот нуждалось в добрых деяниях, в ласковом слове, в твоем слове, сестра!
— Вы обе оправдываете зло, оправдываете палачей!
— А разве Бог, о котором ты говоришь к месту и не к месту, не учит любить своих врагов, молиться за своих палачей? — язвительно, с едким злорадством, воскликнула Вера, угадав больную точку Таси.
— Это в тебе говорит рабство и безбожие! Ты стала жертвой безбожной власти, которая действует против людей и Бога!
— А в тебе говорит ханжество, которым ты стараешься заглушить голос совести, оправдать бегство с Родины! В этом ты похожа на князя Курбского, который изменил России, делая вид, что поссорился с Иваном Грозным!
Это неожиданное сравнение с Курбским, произнесенное Верой с беспощадной жестокостью, прозвучало как обличение. Тася побледнела, прижала ладонь к губам, чтобы из них не вырвался стон. Замерла в больной немоте. Ее сестры очнулись, испугались этой смертельной бледности, своей невольной жесткости, от которой страдает любимый, беззащитный человек, явившийся к ним за спасением.
Бабушка, не слыша слов, лишь наблюдая распрю, угадывая их страдание, протянула к ним руки из своего уютного креслица:
— Вера, Таня, Тасенька моя дорогая!.. Вы опять поссорились!.. Бог дал вам свидеться на краткий миг, и это несомненное чудо! Так давайте же дорожить этим чудом!..
Сестры, остановленные бабушкиным слезным возгласом, словно прозрели. Тесно прижались друг к другу. Коробейников смотрел на их побледневшие, похожие лица, на разноцветные пылинки, беззвучно летающие в свете окна.
Сидели, молчали. Боялись неосторожным движением или неверным словом потревожить хрупкую тишину, за которой притаилась подстерегающая безымянная воля, растерзавшая семью, разделившая их жизни и судьбы, не желающая их соединения. Как обманывают и заговаривают свирепого зверя, следя за жуткими злыми глазами, гася их свирепый блеск вкрадчивыми звуками голоса, так Тася заговорила первая, уводя разговор от бездны, в которой они едва не пропали.
— Спасибо Мише. — Она благодарно взглянула на Коробейникова. — Он так внимателен ко мне. Тратит на меня свое драгоценное время. Мне так понравилось у него в деревне. Эта чудесная русская изба. Березовые рощи над озером. Простые деревенские люди, которые были так ласковы со мной. Мне все это очень важно. Это та Россия, к которой я стремилась и которой мне так не хватало.
— Ну что ж, я могу гордиться сыном, — сказала мать, редкая на похвалы. — Он добился, чего хотел. Стал писателем. Работает в известной газете. Его признали, посылают в ответственные командировки. У него своя квартира, дом в деревне, машина. И, главное, замечательная жена, чудесные дети. Радуют нас. Вселяют надежду, что их жизнь будет счастливее нашей.
— Да, да, замечательные дети — Васенька, Настенька! — восторженно подхватила Тася, и в этом неподдельном восторге была тайная горечь от своего одиночества, от жизни, проведенной в скитаниях, без семьи, без детей, без любимого человека. — Вот это мне особенно дорого. Мои милые прелестные внуки! Русские березы! Русские родные колокольни!..
— Но ведь Россия — это не только березы и колокольни, — тихо возразила Вера, и ее изможденное старое лицо обрело строгое выражение, какое бывает у классных дам и музейных работников, дающих уроки непосвященным ученикам. — Россия — это и Космос, и великая Победа, и многие достижения в науке и технике.
— Все это так, Верочка. И русский спутник, и русский Гагарин, — всем этим можно и должно гордиться, — ненастойчиво возразила Тася. — Но люди уж больно бедно живут. Бедно одеваются, плохо едят. Дома на улицах какие-то серые, вечером мало огней. Лица угрюмые, напряженные, словно за ними следят. Мало улыбаются и смеются. Значит, все еще боятся КГБ? Я присматриваюсь и все думаю: если останусь в России, как и на что мне жить? Как впишусь в этот уклад?
— Какое там КГБ? — раздраженно сказала Вера. — А уклад будет улучшаться. С каждым годом люди живут все лучше, растет благосостояние. Все больше машин, телевизоров. Ты ведь религиозный человек, пуританка, зачем же тебе роскошный быт?
— Ты не понимаешь меня. У меня в Сиднее своя отдельная уютная квартирка, пенсия. А здесь все неопределенно. Вдруг снова начнутся репрессии и припомнят мое прошлое, мой отъезд, мою миссионерскую деятельность за границей?
— Ты просто напугана вашей западной пропагандой, которая делает из Советского Союза жестокое чудовище. Вы там все ненавидите Советскую Россию.
— Но ведь, Верочка, это не пропаганда, что столько людей уничтожено. Твои лагеря — не пропаганда. Бегство стольких русских людей за границу — и это не пропаганда. И Шурочка, и дядя Вася…
— Почему же, если жалеешь изгнанных русских людей, не навестила Шурочку в Праге и дядю Васю в Калифорнии? Они так нуждались в тебе. А ты в это время ела жареных жуков и кузнечиков и думала, что тем угождаешь Богу.
— Я боялась. Боялась, что за мной следят даже в Англии. Поэтому и попросилась в Африку и Полинезию. Агенты КГБ действуют за границей. Газеты писали о политических убийствах, которые они совершают.
— Прости, но это или болезненная мнительность, или ханжество, которым ты прикрываешь душевную черствость. За все эти годы не написала мне и матери ни одного письма.
— Боялась!.. За вас боялась!..
— Вера, Тася, прошу вас, не говорите об этом! Давайте лучше о том, что нас объединяет, роднит. О нашем тифлисском доме, о бабе Груне. Хотите, еще раз посмотрим фамильный альбом? — Мать старалась умягчить сестер. Не дать в который уж раз разгореться болезненной распре, в которой сгорали драгоценные сердечные чувства.
— Да, да, — поспешно соглашалась Тася. — Давайте откроем Богу сердца и вместе помолимся за всех наших близких, кто покинул эту грешную землю. Попросим у них и друг у друга прощения…
— Прощения? — Вера уже не владела собой. Находилась во власти едких, язвительных сил, которые действовали в ней помимо воли. — Проси у своего Бога, чтобы он простил тебя!.. Потому что ты виновата!.. Уехала, а нас за тебя преследовали!.. Таскали на допросы в НКВД… Арестовали меня, все выпытывали, почему ты уехала!.. Тетю Катю, дядю Колю сослали в лагерь, будто бы они тебя научили уехать!.. Дядю Петю пытали, сажали в яму, выливали ему на голову нечистоты, и он в конце концов умер… Ты во всем виновата… И все эти годы боялась писать, потому что жила с этим знанием!.. Молилась там своему пуританскому бесцветному Богу, в то время как мы страдали и погибали!..
— О-о-о! — с горловым бульканьем, с больным страшным всхлипом возопила Тася. — За что вы меня ненавидите? Я так стремилась к вам, так мечтала перед смертью вас повидать, а вы приняли меня для того, что бы мучить… Я сейчас уеду, и больше вы меня не увидите…
Она рыдала, сотрясалась большим рыхлым телом в голубой шерстяной кофте, издавая воющие, хлюпающие звуки. Бабушка, не понимая их речей, лишь видя, как страдают и мучаются ее близкие и ненаглядные, потянулась из своего креслица и, рыдая, воскликнула:
— Дети мои, что вы творите!.. Пощадите себя!.. Я вас так люблю!..
Опять все умолкли, словно их завалило камнями. Только слышались всхлипы и летали по комнате невесомые цветные пылинки.
27
Кабинет Коробейникова. Стол с пишущей машинкой. «Рейнметалл». Деревянная коняшка с маленькой вмятиной, оставленной детским молочным зубом. Телефонный аппарат с надколотой трубкой. Лист бумаги, на котором начертан, перечеркнут, с выбросами строчек и слов, с кляксами и гневными линиями, план будущего романа, напоминающий фотографию взрыва, столкновение метеорита с земной поверхностью, удар элементарной частицы в ядро атома — загадочная графика творчества. Он сидит, оцепенев, чувствуя, как невидимо трепещет вокруг него воздух, сотрясаемый едва ощутимой вибрацией. Словно что-то приближается, грозное, стремительное, как снаряд. Гонит перед собой спрессованный воздух, прорывает его, с грохотом вносится сквозь стекло, превращая кабинет в бесформенный огненный взрыв.
Он чувствовал приближение еще не случившегося события. Предвосхищал телефонный звонок, бодрый, чуть припудренный металлической пыльцой голос Саблина, выманивающий его на свидание с Еленой. Свое краткое борение, беспомощную попытку отказаться. Панические мысли о жене, о болезни сына, исцеленного после жаркой мольбы и раскаяния. Слабость, раздражение на жену, молчаливо, одним своим милым, любящим, беззащитным лицом мешающей его ненасытной страсти к познанию, жажде нового опыта, без которого невозможно творчество. Его мессианская одержимость, оправдывающая любые броски и метания, сулящие либо бесславную гибель, либо небывалое божественное откровение.
Когда раздался телефонный звонок, расшвырял по кабинету острые осколки звука, и голос Саблина, чуть искаженный мембраной, бодро произнес: «Доброе утро, Мишель, как я рад вас слышать…» — Коробейников отрешенно подумал, что любое событие уже существует где-то в бесплотной неявленной форме. Спроектировано невидимым Инженером. Опускается на землю, как прозрачный чертеж. Догоняет замысел, наполняя плотью нарисованный контур.
Они сидели с Еленой Солим в кафе на улице Горького, у окна, за которым переливалось, текло и сверкало. Вдруг становилось сумрачно, брызгал дождь, и все наполнялось перепончатыми торопливыми зонтиками. А потом вспыхивало жгучее солнце, лепные фасады становились красными, синими, и казалось, мимо стекла проплывает большая перламутровая рыба, от Белорусского вокзала к Пушкинской площади и Манежу.
Перед ними стояли два коктейля «шампань-коблер». Коробейников тянул сквозь трубочку тонкую сладко-жгучую струйку, наблюдая, как летят в бокале пузырьки. Находился под воздействием странного наркоза, как если бы его укололи невидимой иглой. Парализующий безболезненный яд проник в кровь, и он, продолжая видеть и слышать, не мог шевельнуться, пребывал в оцепенении, околдованный ее близостью, мучительной и влекущей красотой, мнимой доступностью. Не умел понять, в чем тайна ее наркотической власти над ним, использует ли она эту власть ему во благо или, видя его беззащитность, испепелит и разрушит.
— Ваш очерк об авианосце лежит на столе у Марка. Он очень высокого мнения. Кому-то по телефону сказал, что вы — «военно-морское светило». — Елена улыбалась, щурила глаза, ощущая свою колдовскую власть над ним. Пузырьки зарождались в глубине золотистого бокала с плавающей вишенкой, летели вдоль пластмассовой трубочки вверх, и этот беззвучный полет, серебристые цепочки пузырьков действовали на него завораживающе. — Марк хочет пригласить вас и сделать какое-то лестное предложение.
— Как хорошо, что есть Марк, — машинально произнес он, находясь под гипнотическим воздействием всего ее облика, который, как витраж, распадался на отдельные драгоценные части, и каждая существовала самостоятельно, гипнотизировала и влекла.
— Как хорошо, что есть вы, — пленительно улыбалась она, сжимая губами трубочку, и он воспринимал ее губы как отдельное существо, мягкое, плавное, чуткое, в нежно-розовых прожилках, которые тонко прочерчивались, словно рисунок на лепестке, когда она стискивала трубочку, и почти исчезали, когда она начинала медленно улыбаться, приоткрывая губы, и тогда среди нежной розовой мякоти становились видны влажные белые зубы.
— На корабле я думал о вас. Там бесконечные коридоры, палубы, замкнутые железные двери. Открыл одну, и вдруг увидел вас, как наваждение.
— Вы и сами как «Летучий голландец». Летаете, плаваете, возникаете, как мираж. Вот и теперь мне мерещитесь.
Он смотрел, как из-под светлых, с золотистым отливом, волос, из-под гладкой чудесной прически выглядывает маленькое ухо с розовой мочкой. В этой мочке переливался бриллиантик. Он чувствовал тонкий металл серьги, проникшей сквозь нежную плоть, ловил опьяненными зрачками розовые, зеленые, летящие из бриллианта лучи, их волшебную игру. Хотел потянуться к ней, поцеловать эту розовую, с драгоценной капелькой мочку, ощутить языком податливое тепло, твердое ядрышко камня.
— Мне тоже кажется, что наши встречи — это миражи. Протяну к вам руку, и она пройдет, как сквозь облако. Ваше появление в Доме литераторов напоминало мираж. Полет по Москве, где в черном небе взрывались салюты, били фонтаны света, распускались над крышами великолепные букеты, и на улицах шумел бразильский карнавал. И женщины на подиуме, похожие на птиц, на бабочек, на амазонок, на бесплотных ангелов, прилетевших из иных миров. И тот поцелуй, которым вы меня наградили, когда машина неслась вдоль Самотеки. Все это миражи.
— Вы правы, миражи. Не было поцелуя.
Ее глаза постоянно меняли цвет, и не оттого, что на улице воздух становился голубым и лиловым, или ртутно блестел асфальт, или прорывалось сквозь тучи слепящее солнце. Они насмешливо дрожали, пленительно переливались, изумленно увеличивались или страстно сжимались, повинуясь особой, скрытой в них жизни, которая вдруг делала их малахитово-зелеными, или серо-стальными, или янтарно-желтыми, в зависимости от того, пугалась ли эта жизнь, вожделела, испытывала любопытство или внезапную боль и печаль. Ему хотелось, чтобы погас свет и он увидел, как ее глаза светятся в темноте.
— Вот и вы говорите, что все мираж. Встретимся с вами в каком-нибудь благородном собрании. Поклонюсь вам, а вы меня не узнаете. «Вы ошиблись. Мы с вами не знакомы».
— Я так не скажу. Ведь я читала нашу книгу, слышала ваш рассказ о крылатых быках. Кажется, в Вавилоне были такие быки.
— Там были священные звери с бычьими телами, львиными головами, змеиными жалами и орлиными крыльями.
— Вы мой священный зверь.
Все, что он говорил и слышал, не имело отношения к тому, что он чувствовал. Он испытывал действие ее колдовских чар, которые рождали в нем страсть и влечение, но не давали им проявиться, оставляли в глубине. Они копились, душили и мучили, а она запечатывала их. Играла с ним, влекла и отталкивала. Он видел, что эта игра доставляет ей наслаждение. Она наслаждалась его мукой, его беспомощностью, своей властью над ним. Была ведьма, ворожея, красивая и злая колдунья.
— У нас с вами роман? — слабо произнес он, глядя на ее светлые, шелковистые брови, витавшие отдельно от белого высокого лба, на котором, когда брови сближались, возникала тонкая, нежная морщинка.
— Разве что платонический. Мы не свободны. Окружены обстоятельствами.
— Ну конечно, я понимаю. Вы замужем. Благородный седовласый муж, который доверил вам свою честь, свой домашний очаг; Я побывал в вашем доме, обезоружен его гостеприимством, его доверием. Я не вправе думать о вас. Не вправе любоваться вами.
— Но ведь и вы несвободны. У вас чудесная жена, очаровательные дети, семейный уклад, из которого вы сделали культ. Я читала вашу книгу и думала: «Боже мой, вот счастливый гармоничный человек. Дай бог сохранить ему эту гармонию».
Ее близкая, белая, высокая шея, в которой звучит пленительный голос с таинственными переливами лесной певчей птицы, от которых сладко и восхитительно замирает сердце. Хочется медленно приблизить лицо, чувствуя тепло этой шеи. Прикоснуться губами, ощутив биение родничка над серебряной цепочкой. Жадно, сильно прижаться, стремясь проникнуть в глубину горячих жарких потоков, в звучащий волшебный голос, а потом отпрянуть, видя, как белый отпечаток губ наполняется малиновым жарким цветом.
— Вот если бы нас подхватил ураган, унес из этого кафе, из Москвы, от наших любимых и близких, опустил на каком-нибудь необитаемом острове, посреди океана, вот тогда, быть может, сидя на белом песке, я подарила бы вам перламутровую морскую ракушку, а вы мне розовую ветку коралла, и у нас бы возник роман, как между Адамом и Евой.
Серебряная цепочка соскальзывала в вырез ее платья, в смуглую ложбинку, окруженную округлостями незагорелых грудей. Он мучительно желал превратиться в эту струящуюся, из мелких колечек, цепочку, скользнуть под платье, в жаркий дышащий сумрак, в душистый аромат ее тела. Оказаться среди налитых грудей, смуглых сосков и ниже, глубже, где выпукло, стесненный шелком, дышит ее горячий живот.
— Разве у вас не бывало такого? — спросил он, опуская глаза. — Где-нибудь в вагоне ночного метро или во время одинокой прогулки, какой-то миг, какая-то шальная частичка, прилетевшая бог знает откуда. Пробила в пространстве крохотную скважину, и вы можете нырнуть в эту скважину, исчезнуть из виду, перейти в иную жизнь, в иное бытие, где у вас появится новое имя, новое обличье, судьба. Это длится секунду, вы не решаетесь. Скважина затягивается, как удар песчинки о воду, и прежняя жизнь смыкается вокруг вас. Усталый, вы сидите в ночном вагоне метро у станции «Кропоткинская» или бредете по вечерним Мещанским, слыша, как из форточки звучит цыганская музыка.
— Мне это — знакомо. Один раз у меня было такое. Нырнула в скважину, проникла сквозь игольное ушко и стала женой Марка. Той, которая сейчас разговаривает с вами и, кажется, нравится вам.
Она обольщала его, смеялась над ним, кружила голову. Продолжала впрыскивать в кровь легчайшие разноцветные брызги, от которых он утрачивал волю, оставался во власти ее колдовства, Терял силы, которые она наматывала, как пряжу, на волшебный клубочек, крутившийся в ее шевелящихся пальцах.
Ее пальцы жили самостоятельной жизнью. Казались странными, чуткими, молчаливыми существами, находящимися в постоянном движении. Белые, гибкие, струящиеся, с падкими розовыми ногтями, нежными подушечками пальцев, они касались друг друга, ласкали, гладили, совершали таинственный танец, словно две морские актинии. Распускали и сжимали длинные лепестки, пропуская сквозь щупальца прозрачные потоки. И он не мог оторваться от ее пальцев, они гипнотизировали его, усыпляли, порождали у висков крохотные теплые вихри, туманили глаза.
— Вы обещали показать мне осень, — сказала она. — Хотите, поедем?
— Хочу, — ответил он, обессиленный этим сеансом гипноза, наркотическим воздействием, от которого мир утрачивал оси симметрии и начинал обморочно опрокидываться.
Они сели в красный «Москвич». Елена кинула клубочек под колеса автомобиля, вдоль улицы Горького. «Строптивая Мариетта» покатила вслед за мелькающим зайчиком света, мимо Пушкинской с бронзовым памятником, на Манежную с розовой зубчатой стеной, к Лубянке с Политехническим музеем, похожим на кекс, к набережной, где синяя, с золотым отражением, мелькнула река, к Симонову монастырю, чьи закопченные башни напоминали заводские трубы, сквозь конструктивистские кубы и призмы автозавода, на Варшавку. Скоро уже катили по голубому, с отблеском вечернего солнца асфальту, в сторону Подольска, и Коробейников послушно, не удивляясь, направлял машину туда, куда катился волшебный клубочек.
Они оказались в Дубровицах, в небольшом сыром поселке, окруженном оголенными лесами и рощами, с высокой горой, под которой, черно-коричневая, как настой палых листьев, текла Пахра, а на вершине стояла странная заброшенная церковь, чье изображение Коробейников встречал в архитектурной хрестоматии.
— Вы знали это место? — спросила Елена, выходя из автомобиля, запахивая ворот легкого стального плаща, перекладывая из кармана в карман изящные кожаные перчатки.
— Мне кажется, вы его знали. Вы меня сюда привели.
Они приблизились к церкви, и вблизи она производила еще более странное впечатление. С плоским ступенчатым основанием, напоминавшим розетку цветка. Высокая, как башня, вся снизу доверху покрытая затейливой резьбой, виноградными кистями, каменными узорами и виньетками. Была увенчана не куполом, а сквозной ажурной короной, ржавой и тусклой, с легчайшими проблесками сохранившейся позолоты. У основания, высеченные из песчаника, стояли четыре скульптуры, евангелисты с каменными раскрытыми книгами, а выше, по фасаду, теснились скульптуры пророков, ангелов, шестикрылых серафимов. Построенная по прихоти богатого князя, посмевшего, в нарушение православных канонов, воздвигнуть среди русских лесов католическое барочное диво, церковь волновала своей одинокой красотой, беззащитностью и неприкаянностью, которые усиливались видом заколоченных окон, замшелых фигур с отбитыми носами и пальцами.
— Старинные русские церкви напоминают русских вдов. Такая же тихая красота, благородное смирение, потаенная печаль и любовь, — сказала Елена, подымая лицо к жестяной короне, на которой сидела нахохленная зябкая птица. — Когда-то здесь венчали, отпевали. Золотые окна светились. Рокотали басы. Набожные люди подымались по ступеням и кланялись. А теперь — тишина, мгла, грязные доски в окнах, печальная птица на осеннем ветру.
— Мой друг священник, отец Лев, верит, что все разоренные церкви встанут из руин в красоте и блеске, — сказал Коробейников, приближаясь к изваянию апостола, касаясь каменных замшелых страниц. — Опять засияют золотые кресты, загорятся погашенные лампады.
— Значит, он верит в чудо. Слышал о каком-то пророчестве, — сказала Елена, вставая рядом с ним возле евангелиста, державшего на весу известняковую книгу.
— Может, об этом написано в апостольской книге? — Он извлек из кармана маленькую финку с отточенным жалом и костяной черной ручкой, подарок скитальца Федора, коим тот вспарывал белый рыбий живот, извлекая икру. — Какие здесь письмена и пророчества? — Стал тихонько соскабливать мох с известняковой страницы, слыша шуршание камня, видя, как ветер подхватывает частички материи и уносит в студеную пустоту. — Пусто, нет ничего, — произнес он разочарованно, пряча финку в карман.
— Как же нет? А это? — Она коснулась пальцем страницы, стала медленно водить и читать: — «Кругом говорили жадно, то захлебываясь, то со страхом, о растущей в мире беде, о военных маневрах, ядерных бомбах, о насилиях и убийствах. А он думал о крохотном кусочке земли, залитом горячим солнцем, в дурманах вянущих трав. И если лечь, запрокинув голову, то озеро улетало в небо всем своим блеском, и кони, неспутанные, бродили у самой воды…»
— Боже мой, ведь это строчки из моей книги… Вы запомнили…
— Ведь я увлечена вами…
Он положил руки ей на плечи, почувствовав сквозь тонкую ткань плаща ее подвижность, шаткость и легкость. Хотел притянуть к себе, но она гибко выскользнула:
— Здесь нельзя. Мы не одни. С нами апостолы. Пойдемте, погуляем немного.
Разочарованный ее недоступностью, порицая себя за этот невольный порыв, он двинулся вслед за ней по краю обрыва. Путался пожухлый бурьян. Медлительно, отражая вечернее небо, текла река. На другом берегу облетевшие осины зеленели высокими стволами. Чуть розовели их рогатые сквозные вершины с остатками листвы. Темно-синие, густые, предзимние, возвышались островерхие ели.
Они шли краем поселка по сырой песчаной дороге, над которой в зеленоватом небе стояло розовое облако. Навстречу вышли два парня. Небритый здоровяк в неряшливой, распахнутой телогрейке, в растерзанной, выбившейся из брюк рубахе. И короткогогий, в резиновых сапогах крепыш с нечесаной головой. Оба были пьяны, лица обоих, когда они заметили Коробейникова и Елену, загорелись нетерпеливой неприязнью.
— Баба какая спелая, — произнес небритый детина, вываливая мокрую губу, шевельнув бедрами и поелозив локтями, чтобы поддержать сползавшие штаны.
— Этих сучек в лес водят и там дерут, — ухмыльнулся второй парень, раздвинув рот и показывая в ухмылке желтые зубы. — Эй, мужик, дай попользоваться, — качнулся он к Коробейникову.
Тот увидел испуганное, с брезгливой гримасой, лицо Елены. Выпученные, плотоядные, с безумной искрой глаза небритого. Сальный, щербатый рот коротконогого. Испытал мгновенную неуверенность, непонимание того, что должен сделать сейчас, в ответ на эти оскорбительные, глумливые возгласы. Шагнул вперед, отодвинул плечом верзилу. Потянул следом за собой Елену, увлекая ее вниз по дороге, на пустынный берег реки.
Они шли подавленные. Розовое облако недвижно пылало в зеленом вечернем небе. С горы, сквозь деревья, виднелась странная церковь.
Он услышал за спиной, на дороге шорох песка, неровный топот сбегавших ног. Опасность, что минуту назад зацепила его на вершине и мнимо отстала, теперь вновь надвигалась. Не оборачиваясь, он ощущал ее приближение, как обвал. В нем начиналась мучительная паника, страх не за себя, а за идущую рядом, побледневшую женщину, на глазах которой через мгновение должно произойти ужасное — унизительное для него и смертельно опасное для нее. И он должен встретить эту опасность на безлюдном берегу, на песчаной дороге, под розовым облаком.
Оглянулся. Парни сбегали, осыпая песок. Здоровяк размахивал большими руками, сквозь расстегнутую рубаху белел его пухлый живот. Его сотоварищ хлюпал резиновыми сапогами, голенища которых были подвернуты, продолжая на бегу улыбаться. В их торопливом неровном беге была яростная жестокость, обращенная на Коробейникова, и похотливое нетерпение, направленное на Елену. Сбежали, тяжело надвинулись, и тот, что был поменьше, вклинился между Коробейниковым и Еленой и, пятясь, спиной оттеснил ее на обочину. Не оборачиваясь к ней, произнес:
— Сучка, стой… Дернешься — придушу…
Верзила свирепо и ревниво косил на Елену кровяной бычий глаз. Ненавидел Коробейникова и своего напарника, который для него оставлял тяжелую и грязную часть затеи, а себе выбрал легкую и доступную.
— Ну, курва, что ты сказал? — Он приблизил к Коробейникову пухлое, синеватое, в черной щетине лицо, дохнув на него сквозь мокрую, с фиолетовым пятном, губу. — Что ты тявкнул на меня?
Коробейников ощутил струю теплого зловонного воздуха, излетевшего из утробы парня. Пахнуло перегаром, несваренной мерзкой пищей, гнилью нездоровой отравленной плоти. Этот трупный запах был вонью животного, наглотавшегося падали. Отравлял своим ядом, подавлял, делал из Коробейникова добычу. И, чувствуя эту свирепую животность, смертельную опасность, безвыходность и неизбежность случившегося, заметив боковым молниеносным зрением почерневшие от ужаса синие глаза Елены, близкий лес, темную реку, недвижное, освещавшее землю розовое облако, Коробейников сам преобразился в животное. В энергичное, без мыслей, с оскалом мокрых зубов, с одной ненавидящей встречной страстью, словно выпал из человеческой кожи, из неудобной одежды. Покрылся шерстью, как оборотень с поднятым злым загривком.
Ударил первый в близкое лицо, в щетину скулы, выше грязной набухшей шеи, ниже выпуклого, слизистого глаза.
Удар оказался неточным, недостаточной силы. Парень не упал, а лишь откинул голову. Удерживая равновесие, нелепо взмахнул руками. Оглушенный, балансируя на дороге, ошалело оглядывался. На лбу собрались глубокие изумленные морщины. Его взгляд упал на обочину, сосредоточился на чем-то. Морщины расправились. Он метнулся к обочине, согнулся и выпрямился, держа в кулачище большой круглый камень. Коробейников видел мокрую, отшлифованную поверхность булыжника, кофейный кремневый блеск, прилипшие к нему золотистые, в последнем солнце, песчинки. И какую-то особую позу парня, отведенную назад руку дискобола, плечо молотобойца, озаренное каким-то особым, радостным зверством лицо.
— У-у-убью, гад!..
Этот радостный рык, освобождавший в парне слепую, первобытную страсть истребления, отозвался в каждой клеточке Коробейникова прозрением — его сейчас убьют. Здесь, на этой дороге, под розовым облаком, наступают последние секунды его жизни. Эта оттянутая назад, сжимающая камень рука, крутое, готовое к повороту плечо и есть его смерть. Прозрение было ослепительным, раскрепощало его, избавляло от последних остатков человеческого. Делало абсолютно безжалостным зверем, бьющимся за жизнь, выживающим ценой истребления и убийства врага.
Это просверкало в его сознании, превратилось в бросок, в разящий удар. Опережая взмах парня, видя, как, утяжеленная камнем, медленно подымается его рука, Коробейников метнулся вперед. Страшным, изо всех сил толчком сшиб парня на землю. Тот рухнул на спину. Стал перевертываться, отжимаясь руками и ногами, а Коробейников навалился на него с хриплым сквернословием. Захватил его руку, выворачивая назад.
Парень тяжело ворочался под ним, желая сбросить. Горбился, не выпускал булыжник. Завернутая за спину рука продолжала сжимать скользкий камень. Между грязных пальцев на кофейной поверхности булыжника нежно и ослепительно сверкали песчинки. Коробейников выламывал камень, выдавливал его из мокрой скрюченной лапы.
Второй малый, наблюдая драку, все ее стремительные перемены, очнулся, кинулся на помощь товарищу. Оббежал сзади Коробейникова и стал бить наотмашь по лицу из-за спины, что-то слюняво и визгливо выкрикивая. Коробейников получал в лицо слепящие удары. Глохнул от них и слабел. Продолжал выламывать камень, понимая, что, если сдастся, отпрянет, уберет из-под ударов лицо, камень останется в пятерне, и это превратится в отвратительную, мерзкую смерть от камня, которая раздробит нежные кости и хрящи лица, проломит череп, уйдет в розовую мягкость мозга.
Видение собственной смерти, очередной, слепящий удар в глаза, выдавил из Коробейникова последнее усилие, состоящее из крика, хриплого сипа, конвульсивного напряжения мышц. Камень медленно, как кусок мыла, выскользнул из пятерни, оказался в грязном кулаке Коробейникова. Перед глазами была красная, натруженная шея, бритый затылок, пепельная, с завитком, макушка. И в эту макушку, в розовеющий сквозь волосы завиток Коробейников направил неандертальский удар, вломил первобытный булыжник, его вытянутую яйцевидную оконечность, чувствуя, как погружается она сквозь волосы, тонкую кожу в податливую, оседающую кость. Бессознательным, прилетевшим бог весть откуда запретом сдержал удар. Остановил камень, не пуская его в глубь черепа, видя, как выступают из-под булыжника черные гроздья крови.
Парень обмяк, плоско лег. Его напарник понял, что остался один на один с Коробейниковым. Отпрянул. Коробейников, выпустив камень, с избитым, ослепленным лицом, поднялся. Стоял, пошатываясь, глядя, как кривляется перед ним, строит устрашающие блатные гримасы малый. Не решается напасть, лишь отпугивает зверской мимикой более сильного врага. Коробейников, обретая человеческое обличье, вдруг вспомнил, что в кармане у него лежит финка. Вытащил маленькое обоюдоострое жало. Упер в ладонь костяную ручку. Нацелил финку на противника и пошел на него, что-то вышептывая, бессвязное и беспощадное. Ужасаясь этого шепота, маленького стального жала, парень повернулся спиной и побежал, издавая заячий вопль, мелькая мокрыми сапогами.
Коробейников устало повернулся и увидел, что поверженный здоровяк встал и идет к нему. И такую тоску, безысходность, необходимость драться, биться, умирать, убивать на этой безвестной лесной дороге испытал Коробейников, что выставил вперед руку с ножом, желая насадить на короткое острие огромную рыхлую тушу. Малый шатался, держал обеими руками голову, таращил тусклые от боли глаза.
— Хорош… Конец драке… Башку проломил… — глухо произнес, стоя на подломленных ногах, готовый рухнуть. А в Коробейникове — пустота, безразличие, тупая усталость, желание поскорее покинуть это гиблое место. Шагнул к Елене, которая прикрыла рот бледной рукой, словно беззвучно кричала.
— Идем отсюда, — повел ее на гору. Увидел стоящее над горой облако, погасшее, серое, как мешковина. Только на кромке истлевала последняя розовая нитка.
Гнал машину по темнеющему шоссе, навстречу первым водянистым, плещущим вспышкам, все дальше от Москвы, за Подольск, мимо сумрачных голых полей, печальных опушек. Елена сидела, притихшая, робкая, лишенная своих недавних чар, колдовских ухищрений. Поникла, утратила власть над ним… Изредка, испуганно и почти умоляюще взглядывала, не спрашивая, куда и зачем они мчатся с безумной, головокружительной скоростью.
Коробейников чувствовал, как саднит разбитое кулаком лицо, как ломят сжимающие руль пальцы, помнящие скользкую поверхность булыжника. Был ожесточен, яростен. Эти ожесточение и ярость были обращены не только к поверженному врагу, но и к ней, которая еще недавно мучила его изысканной женской игрой, опутывала утонченной ворожбой его безвольный, послушный разум. Он был победитель, отбил ее у диких соперников тяжелым камнем, кремневым наконечником, дубовой палицей. Драка была первобытным боем за женщину, за пещеру, за обладание самкой, за главенство над племенем. Добытая в этом кровавом смертельном бою, свидетельница страшного, с хрустом костей, с воплями ненависти и предсмертными стонами боя, она признавала его господство. Была послушной пленницей, завоеванным трофеем. Следовала за ним, смиряясь с долей рабыни и военной добычи.
Он выбрал участок шоссе, где не было окрестных селений, деревенских огней, а тускло, сливаясь в сплошную темень, тянулись перелески. Свернул на проселок, на скользкую, в длинных мерцающих лужах, колею. Подскакивая, не жалея машину, озаряя фарами рытвины, жухлую траву, косматые кочки, въехал в кусты, услышав хлесткие удары ветвей. Выключил фары. Вышел из салона, под порывы холодного, дикого ветра с брызгами дождя. Ощутил тоскливую осеннюю пустоту предзимней опушки, кривизну проступавших во тьме стволов, голую землю с истлевшей, мертвой травой. Обогнул машину и, открыв дверцу, где сидела она, молча, не глядя на нее, стал поворачивать регулировку сиденья, опуская спинку навзничь. Вместе с сиденьем она опрокидывалась, укладывалась, отрешенно и бессловесно. Молча, грубо, рывками, расстегнул ей плащ. Быстро, на ощупь, раскрыл ей грудь и жадно впился в горячее, живое, дышащее. Как насильник, нервно, торопясь, стал ее раздевать. Стаскивал белое белье, туфли, безумно целуя дрожащий живот, сверкнувшие белизной бедра. Сильно и тяжко навалился, сминая ее до боли, не помещаясь в салон, свирепея и торопясь. Она слабо воскликнула:
— Боже, мне больно…
Он и хотел причинить ей боль. Испытывал по отношению к ней жестокость, страсть, подчинял ее своей страсти и похоти, слепой и жестокой воле. Делал ее навсегда своей, отнимал навсегда у другого. За стеклами, запотевшими от дыхания, беззвучно неслись по шоссе аметистовые пучки. Когда страсть достигла вершины, была готова хлынуть жаркой, терпкой, клокочущей силой, порождая на дне глазных яблок бенгальскую вспышку, вместо этого счастливого озарения он почувствовал резкую, нестерпимую боль, от низа живота до горла, словно ему сделали харакири. И эта режущая, полоснувшая боль была желанна, смертельна и сладостна. Была огненной чертой, хлестнувшей по всей его жизни, разрубившей его душу и плоть на две половины. Он лежал, разрубленный надвое, как лежит на плахе расчлененная бездыханная жертва.
Медленно поднялся, видя, как она сдвигает ноги, закрывает низ живота ладонями. Вышел из машины. Побрел к деревьям, устало вдыхая холодный ночной ветер. Она в темноте, прячась за автомобиль, поправляла одежду, искала туфли, размыто белела лицом. Он думал о ней отрешенно, как о пятне света.
На обратном пути они молчали. Въехали в Москву, подкатили к подъезду ее дома. Выходя из машины, она сказала:
— Потеряла свои перчатки… Так и будут всю зиму лежать на опушке… Ты мне позвонишь?
Не дождавшись ответа, скользнула к подъезду. Он услышал слабый стук двери…
Вернулся домой. Дверь открыла жена, и он почувствовал, как в прихожую вломилось все, что произошло с ним за день. Мокрый булыжник, матерщина, харкающий кровью рот, смрад обросшего щетиной парня, свирепая ненависть, желанье убить, слепая жадная страсть, запах духов, душный жар разогретых потных тел. Все это хлынуло в дом, по коридору, в детскую, где в кроватках спали сын и дочь, в кабинет, где стояла машинка и лежали листки с пометками, в комнату жены с ее тумбочкой, трюмо и флакончиками. Духи ненависти, страха и похоти витали под потолком, завладели его жилищем, мерцали рубиновыми глазками из темных углов.
— Миша, что случилось? Что у тебя с лицом? — ахнула жена, разглядев его ссадины.
— Подрался… У Дома литераторов… Какие-то подонки пристали…
— Но они могли убить… пырнуть ножом… Надо было сразу в милицию…
— Ничего, они свое получили… Извини, я приму душ…
Сторонясь жены, пряча глаза, боясь, что тлетворные, пропитавшие одежду запахи коснутся ее домашнего, милого лица, розового халатика, поспешно прошел в ванную. Разделся и встал под душ. Пустил горячую, с паром, воду. Обжигался, подставлял себя под тугие шумные струи. Намыливался, тер лицо, подмышки, пах. Соскабливал вместе с кожей приставшую невидимую коросту, соскребал мочалкой, ногтями. Но короста оставалась, была не только на коже, но и под ней, не растворялась в мыльной пене.
Он вдруг заметил, что по его мокрому блестящему телу, от паха до груди и выше, проходит тонкий розовый след, как надрез. Место, по которому в машине, во время слепого безумия, хлестнула боль, теперь взбухло тонким рубцом. Вдруг вспомнилась белобрюхая рыбина, которую за жабры держал на весу дальневосточный странник Федор. Провел тонким лезвием линию, из-под которой полезла красная икра. Это видение было ужасно. Он насухо вытерся, запахнулся в халат, чтобы Валентина не увидела рубец. Быстро прошел в кабинет. Не включая свет, лег на диван.
— Может быть, марганцовкой помазать?.. Не было сотрясения мозга? — Жена испуганно возникла, вглядываясь, желая помочь.
— Да нет, все нормально, — сдерживая раздражение, произнес он. — Я бы хотел заснуть… Подробнее потом расскажу…
Она ушла. Были слышны в коридоре ее шаги, тихие звяки на кухне. Он испытывал к жене отчуждение, враждебность. Своим неведением, своей целомудренной беззащитностью она причиняла ему страдание. Была повинна в его страдании. В том, что он вынужден лгать. Вынужден скрывать свою новую тайну. В том, что впустил в их милый уютный дом свирепых демонов. И этот тонкий взбухший рубец прошелся не только по его паху, животу и лицу, но и по деревянным коняшкам детей, по туалетному столику жены, по его книге, где столько веры, любви, чистоты.
Лежал, чувствуя этот рубец. Поймал себя на том, что губы его в темноте раздвинулись в длинную волчью улыбку и он не может избавиться от уродливой гримасы.
28
Архитектор Шмелев после измены Шурочки погибал, взывая о помощи. Звонил Коробейникову, выманивал на прогулки, боясь переступить порог дома, чтобы не обнаружился во всей огромности и уродливости его позор. Несчастье, его поразившее, было заразой, которую он боялся вносить в дом друга. Водил Коробейникова по вечернему городу, надеясь, что холодный ветер развеет тлетворные токсины и в тусклом воздухе, под редкими фонарями люди не разглядят его ужасное, изуродованное язвами лицо. Коробейников выбегал навстречу другу, выслушивал бесконечные, полубезумные монологи, в которых тот старался отыскать источник поразившей его беды. В этом исследовании Шмелев использовал весь свой огромный неукротимый интеллект, который в результате попадания снаряда утратил свои свойства. Блистательно настроенный механизм пошел вразнос: скрежетал, страшно искрил, из него вываливались изуродованные валы и колеса, со свистом вылетали пружины, падали на грязный асфальт расплавленные драгоценные металлы. И все, что еще недавно казалось великолепной мегамашиной, теперь низверглось в лавину крушения и вовлекало в это крушение окружающий мир, сносило взрывами цветущие и возделанные участки Вселенной. Коробейников изнемогал от этого общения, от жуткой разрушительной работы, попадая в жернова и ковши гигантской, сошедшей с ума драги. Старался спасти друга, отдавал ему свою энергию, свежесть, любовь. Кормил его своей плотью, как сказочный царевич насыщал орла, отсекая от себя живое мясо, заталкивая в жадный голодный клюв.
Теория Города Будущего создавалась Шмелевым из огромного количества элементов по закону планетарных систем. Распределенные по кругам, словно кольца Сатурна, вокруг единого центра вращались учения древних и современных философов, религиозные школы и свидетельства пророков, суждения великих путешественников и проекты инженеров, прозрения фантастов и открытия антропологов и генетиков. Его личный опыт странствия по Сибири и Африке, дворцы и заводы, сооруженные по его чертежам. Коллекции минералов и бабочек, почтовых марок и крестьянских рушников с алыми вышивками. Все эти бесчисленные знания были объединены в гармоничное целое, в центре которого находился он сам, вписанный, как фигура Леонардо, в контуры континентов, в окружности исторических эпох. На его теле, там, где в грудь упирался невидимый циркуль, сходились все радиусы и пересечения. А в самом центре, в потаенной молельне стояла драгоценная, неведомая миру икона — его любовь, его ненаглядная жена, его Шурочка. Одухотворяла женственностью и красотой стальные конструкции мегамашины. И когда эту молельню осквернили, а икону попрали, когда сердцевина этого совершенного централизма была разрушена, то стала падать, страшно разрушаться вся громадная мегамашина.
Вдвоем, без устали, они блуждали по ночной Москве, и Коробейникову казалось, что вслед за ними на асфальт падают фрагменты космических кораблей, рушатся фермы небоскребов, ударяют ломти громадных конструкций. Из разбитых коллекций сыплются легкие крылья бабочек, валятся белые рушники с алым узором. Они шли по мокрым тротуарам, наступая на белые, с вишневым орнаментом холсты, на разноцветные крылья африканских бабочек.
— Я убью ее топором, кувалдой!.. Забью камнями, как забивали блудниц!.. Вышвырну труп на помойку, и пусть голодные собаки обгладывают ее груди!.. Пусть вороны гнилыми клювами выдалбливают ей гениталии!.. Сожгу заживо, как сжигали колдуний и убивали весталок!.. Я ввел ее в храм, возвел над ней великолепный купол из звёзд!.. Сносил к ее ногам сокровища мира!.. Она была моей Берегиней, увешанной жертвенными лентами, Орантой, которую я поставил в центр иконостаса!.. Она коварно заняла это место!.. Терпеливо и вероломно ждала, когда я завершу храм!.. Я уложил последний кирпичик, позолотил последнюю главку, застеклил последний витраж, и тогда она, эта сучка, взорвала мой храм!.. Обломки летят мне на голову, и там, где был Город Будущего, теперь котлован с гнилой водой и тухлыми трупами!..
Шмелев говорил истошно, срываясь на клекот, испытывая такую боль, что от этой боли у Коробейникова ломило виски. Его друг был окружен таким страданием, что фонари, под которыми они проходили, одевались пепельной дымкой. Казалось, кто-то невидимый выдирает из него печень, выклевывает сердце и мозг, и эти выдранные волокна разбрызгивались, словно огненные линии, оставляли в воздухе шипящие спирали, белые вспышки. Будто Город Будущего, испепеляясь, наносил на московское небо свои огненные отпечатки.
— Костя, ты должен вынести эту боль. Преодолеть страдание, — утешал друга Коробейников. — Все великие свершения, будь то открытия континентов, написание симфоний и книг, создание мировых религий, были овеяны трагедией. Трагедия — признак величия. Ты переживаешь трагедию, как переживали ее герои античности и мученики наших дней. Твой Город Будущего, одухотворенный любовью, будет одухотворен трагедией. И через это обретет недостающую ему полноту.
— Нет, она невиновна!.. — Шмелев в безумных поворотах сознания совершал виражи и петли, желая сбросить жуткое, вцепившееся в него чудовище. Испытывал перегрузки, стараясь выдавить из глазниц страшное видение: два обнаженных тела в орнаментах трав и цветов. — Она слаба, беззащитна!.. Нуждалась в моей поддержке, в моем постоянном внимании!.. А я парил в небесах, летал по орбитам, нагружал ее непомерной тяжестью моих идей!.. А всего-то нужно было купить большое зеркало, чтобы она утром могла расчесывать перед ним свои чудесные волосы!.. Не купил ни зеркала, ни губной помады, ни настоящей кровати!.. Я, архитектор, замысливший Город Будущего, не создал мой собственный дом!.. Заставил ее жить в шалаше, в утлой убогой хижине!.. Этот Павлуша, мягкий слизняк, бесшумно вполз в нашу жизнь!.. Жалкий, убогий, без мыслей, без чувств, вызывал одну только жалость!.. Она по-бабьи его пожалела, сердобольно снизошла до него, а он воспользовался ее кротостью, беззащитностью!.. В нем, в слизняке, — главное зло!.. Пока герои сражаются на войнах, в их дома вползают слизняки!.. Пока открыватели новых земель плывут в океанах, погибают в пустынях, одолевают хребты, слизняки бесшумно вползают в их жилища!.. Пока мученики томятся в застенках, качаются на дыбах, в их опустелых чертогах селятся слизняки!.. Смерть ему!.. Раздавлю, как гадину!.. Пятно слизи!.. Зловонная мокрая клякса!.. Скребком, негашеной известью!.. А потом огнеметом — все углы дома, очистительным огнем!..
Коробейников видел, как иссякают жизненные силы друга. Старался ему помочь. Вливал в его закупоренные, со свернувшейся кровью сосуды свою живую кровь. Подключал к его разорванному вялому сердцу свое молодое сильное сердце. Замещал захлебнувшиеся, опавшие легкие своими, дышащими. Усыплял обезумевший, в кровоизлияниях и сотрясениях мозг, отдавая на время свой:
— Костя, ты — герой, ты — странник, ты — мученик!.. Как Одиссей, вернешься из Трои, тебя встретит твоя Пенелопа, и ты натянешь лук своей могучей рукой!..
— Они думают, что меня сразили!.. Что я опозорен!.. Хотели меня унизить!.. Показать, что я немощный жалкий самец, не способный покрыть молодую похотливую самку!.. Залили тухлой, прокисшей спермой мои чертежи!.. Запачкали мои проекты!.. Я отвечу им оргией!.. Сколько молодых и прекрасных женщин желают меня!.. Готовы целовать мои чресла!.. Созову красивых, веселых куртизанок, молодых и развратных жен и устрою свальный грех, содомское сборище, вавилонское кровосмешение!.. Чтобы адским грехом, черным огнем преисподней испепелить их мелкий кухонный разврат!.. Жалкое собачье соитие!.. Я хотел создать Райский Город, населить его праведниками, совершенными, богоподобными людьми!.. Но теперь создам Адский Город, великолепный чертог Сатаны, прибежище тьмы, вместилище разврата и смерти!.. Опрокину мой Город с неба в глубины ада и тьмы, населю отцеубийцами, растлителями малолетних, клятвопреступниками, богохульниками, святотатцами!.. На Всемирной выставке в Осако это будет лучший проект!..
— Костя, ты выдержишь испытание!.. Обугленный, — с ободранными стропами, оплавленный, как космический корабль, ты пролетишь сквозь пылающую сферу, пробьешь сверхплотные пласты бытия и вернешься из Космоса с небывалым знанием!.. Твое страдание — цена за открытие!.. Твое поражение — спутник твоей великой Победы!..
Они шли по осенней Москве, туманной, промозглой, в грязно-желтых мазках фонарей, с сырыми фасадами, на которых поселилась синеватая плесень, с обглоданными колокольнями, убогими пятиэтажками, с кривыми липкими улицами, по которым воровато проносились редкие автомобили. Но над всеми домами и крышами, из бесформенного, холодного камня возносился мистический град. Блуждали по небу алые и голубые снопы. Сверкали, ниспадая, пышные золотые фонтаны. Над, черными пробитыми куполами расцветал, исчезал в небесах божественный храм. Над ядовитыми полосатыми трубами простирался хрустальный чертог, где, казалось, идет вечный праздник. Над скучным однообразием мучнисто-белых кварталов вспыхивали огромные цветные букеты, взвивались спирали и змеи, проливались салюты. Река переливалась волшебными струями, качала огромное павлинье перо. Висели стеклянные мосты, прозрачные аркады. Улицы казались алмазным живым потоком. Горели в черном небе громадные чудесные надписи с изречениями мудрецов и поэтов. Вспыхивали среди звезд огромные табло с ликами святых и пророков. Город утрачивал свои обыденные очертания, его материя превращалась в энергию, в световые лучи и вспышки. Улетал и вновь появлялся, поражая невиданными прекрасными формами. Кристаллическими призмами, прозрачными параболоидами, хрустальными сферами, где, как молнии, пульсировали синусоиды, крутились эллипсы, вычерчивались таинственные графики законов, по которым развивается земная история и вселенская жизнь.
— Вся моя жизнь — абсурд, отвратительная бессмыслица!.. Тупиковый вариант развития!.. Болезненное заблуждение человечества!.. Мое стремление к совершенству обернулось уродством!.. Любовь превратилась в ненависть!.. Коммунистическое будущее, в которое я религиозно верил, привело к неандертальскому прошлому!.. Я должен исправить ошибку и уничтожить себя… Я болен проказой, туберкулезом, сибирской язвой… Меня надо сжечь вместе с Городом Будущего, закопать в могильник, оградить колючей проволокой… Я должен повеситься на макете Города, как Иуда… Я убил в ней ребенка и должен убить себя!.. Я — детоубийца, царь Ирод!.. По ту сторону смерти меня встретит сын, страшно изрезанный эмбрион с окровавленным лицом…
Они шли по Котельнической набережной. Безумное лицо Шмелева было обращено в дождливое небо, в котором расплывался шпиль высотного здания. Коробейников, сопереживая другу, вдруг увидел, как высоко, из-за шпиля, словно жуткая красная планета, выплывает огромный эмбрион, перевитый пуповиной, с обрезанными ручками, отсеченными ножками. Лицо эмбриона повторяло узким разрезом глаз, выпуклыми скулами, твердым, с ямочкой, подбородком лицо Шмелева.
— Костя, не смей сдаваться!.. Не смей отступать!.. Ты один страдаешь за все человечество!..
Они шли сырыми бульварами с искривленными, ищущими и не находящими неба деревьями. На ветвях, словно черные продолговатые плоды, сидели спящие вороны. Мимо прошел трамвай, скрипучий, с озаренной, мертвенной сердцевиной. Проскрежетал на повороте колесами, уронил на рельсы длинную зеленую искру.
— Миша, ты настоящий друг. Выдерживаешь мой страшный натиск, мою истерику. Я должен выстоять. Если погибнет мой Город Будущего, может погибнуть вся советская цивилизация, весь вектор развития, куда устремилось человечество. Назревают новые великие открытия — биоинженерия, генетика, глобальная коммуникация, связывающая воедино все человечество, искусственный интеллект, синтезированная жизнь, биомашины. Либо все это станет служить гармоничному человечеству, строящему мировой коммунизм, либо превратит человечество в управляемую антропомассу, подчиненную фашистскому меньшинству. Мой проект придает нашей остановившейся цивилизации новый динамизм, спасает социализм от застоя. Я должен, должен выстоять…
Коробейников страшно устал. Шмелев вампирически выпил его живую энергию. У Коробейникова было чувство, что из него извлекли живые органы, пересадили другому, а он с пустой грудью, лишенный сердца и печени, вяло колыхался в зыбких сумерках. Так выкапывают дерево, пересаживают на другую почву, оставляя пустую яму. «За други своя…» — повторял он беспомощно, чувствуя яму в груди.
Мимо, с тяжелым урчанием, прошла колонна военных грузовиков. В зачехленном кузове мелькнули лица солдат, пахнуло сырым брезентом и ружейной смазкой.
— Либо страна совершит небывалый рывок, продолжит проект, именуемый «СССР», либо рассыплется. Советский Союз был задуман как огромное конструкторское бюро, в котором непрерывно идет проектирование. Наша страна как самолет, который постоянно усложняется во время полета, меняет двигатель, виды топлива, совершает дозаправку в воздухе. Сотворяет себя и небо, в котором летит. Лишь на минуту прекратится творчество, как небо исчезнет и самолет упадет. Мой Город Будущего — очередной этап грандиозного проекта. Тот объем, куда переместится жизнь, которой тесно в изношенной оболочке, как созревшей бабочке тесно в коконе. Либо после сонного созревания кокон раскроется и из него вылетит прекрасная бабочка, либо куколка сдохнет, наполнит кокон смердящей гнилью…
Коробейников устал от метафор друга, которыми тот обгладывал любое живое чувство. Устал от его мышления, работающего как камнедробилка, перетирающая любую живую мысль. «За други своя…» — повторял Коробейников, испытывая не волнение от этих заповедных слов, исполненных любви, а только усталость. Ибо сердце, призванное любить, было извлечено из груди и, пересаженное, билось в Шмелеве.
Вверх по бульварам, разбрасывая безумные фиолетовые вспышки, промчалась «скорая помощь», огласила ночь истошной сиреной и канула, словно обморок.
— Миша, я должен выстоять любой Ценой. Должен выиграть социальное время, завершить Город Будущего и спасти страну от крушения. Я использую мою драму как мощный ускоритесь, как рывок вперед. Энергия моего страдания превратится в энергию творчества. Ты поддержал меня в ужасную минуту, напоил своими силами, и я твой вечный должник. Ты должен знать, что служишь не просто мне, не просто Городу Будущего, но идее бессмертия, к которой устремлен мой проект. В моей лаборатории есть банк данных, куда занесены все, кто участвовал в этом проекте. Там есть Аристотель, Эйнштейн, Циолковский. Есть русский космист Федоров, святые Борис и Глеб, Ленин и скульптор Цаплин. Там есть и ты. Когда новое человечество, заселившее Город Будущего, приступит к воскрешению мертвых, ты будешь воскрешен. Так я верну мой долг…
Коробейников понимал, что это была гордыня, безумная мечта, неосуществимое дерзновение. В своем эгоизме и ослеплении друг был беззащитен.
Мимо проехал медлительный хлебный фургон с ночной выпечкой. Пахнуло теплыми ржаными буханками. Изнемогая, без сил, Коробейников тянулся на этот чудесный исчезающий дух.
— Твой друг Рудольф Саблин совершенно прав. Он требует исключить из проекта «человеческий фактор» как несовершенный элемент конструкции. Как непредсказуемую, внесенную в проект составляющую, способную разрушить великое целое. Женщина — источник предательства. Несет не рождение, а смерть. Не красоту, а уродство. Одинокий мужчина, освобожденный от женщины, творящий подвиг, и есть античный герой.
— Ты сказал — Саблин? — Коробейников изумленно глядел на друга, полагая, что ослышался. — Ты виделся с Саблиным?
— Он был у меня вчера в мастерской, и я ему благодарен. Он понимает мой замысел как проявление высшей свободы, которая избавит человека от извечных пут бытия. Исправит ошибку природы, разделившей человечество на два противоположных пола, что создает великое напряжение, бессмысленную трату сил, отвлекает человека от творчества. Бессмертный человек не имеет нужды размножаться, а значит, избавит себя от женщины. Женщина — признак смертного человечества, воспроизводящая в своем чреве не жизнь, а грядущую смерть. Саблин считает, что женское чрево — источник всех зол и всех преступлений. Скальпель, вторгающийся в женское лоно, вычищает из него скверну. По его словам, я не убийца ребенка, а человек, выбирающий вечную жизнь, не нуждающийся в продолжении рода. Скопцы кастрировали себя, чтобы не отвлекаться на женщин и всецело служить Богу. Я кастрирую себя, чтобы служить Городу Будущего.
— Извини, все это бред. Не слушай Саблина. Он сам — жертва неведомой мне катастрофы. Он купается в твоем страдании, чтобы забыть свое собственное. Иногда мне кажется, что он сумасшедший.
— Я тоже кажусь сумасшедшим? Сам себе не кажешься сумасшедшим. Все художники и творцы — сумасшедшие.
Они приблизились к помпезному дому, выходившему на бульвар. На уступах фасада высились алебастровые фигуры, олицетворяющие волю и молодость. Они охраняли несуществующую эпоху, как два стража, забытые на посту. В этом доме, в коммунальной квартире, в комнатушке жили Шмелев и Шурочка. Впервые после измены жены Шмелев возвращался домой.
— Ну что, я пойду? — спросил он неуверенно, боясь расстаться с Коробейниковым и оказаться вдвоем со своей мучительницей.
— Ступай, — отпускал его Коробейников. — Собери всю свою мудрость, благородство, любовь и прости ее. Она тебя ждет. Ждет твоего прощения.
Шмелев обнял Коробейникова:
— Благородство, любовь… Меня ждет… — и пошел в туманную арку.
А Коробейников, изведенный, измученный, остался один, чувствуя в душе глубокую пустоту, И эта пустота стала вдруг наполняться, как овраг наполняется талыми водами, над которыми зацветает черемуха, и в белых душистых кущах начинает свистать соловей. Он думал, как опишет в романе эту ночную прогулку, а также возвращение Шмелева домой, его свидание с Шурочкой.
29
Под вечер, когда рука устала колотить в кнопки и клавиши портативной машинки, а с темного резинового валика соскользнул очередной лист бумаги, Коробейникову позвонил Саблин:
— Мишель, у меня к вам неотложное дело. Мой любезный родственник Марк Солим хочет видеть вас у себя. Я гонец, передающий высочайшее приглашение.
— Он выбрал для этого вас?
— Не мог же он послать к вам Елену. Он не знает, что вы общаетесь.
— Зачем я понадобился Марку?
— Мишель, я совсем недалеко от вас. Позвольте, я зайду. По телефону не совсем удобно.
— Заходите, я жду.
Саблин говорил так дружелюбно и весело, с такой любезной, но неодолимой настойчивостью, что Коробейников не мог отказать. Испытывая раздражение перед этой простодушно-бесцеремонной навязчивостью, допустил к себе Саблина.
Тот возник быстро, словно звонил из телефонной будки возле дома и адрес Коробейникова был ему известен заранее. Появился в прихожей, оживленный, красивый, пахнущий свежестью, миндальным запахом хризантем, которые он держал в руке. Тут же преподнес вышедшей в коридор Валентине:
— Боже мой, именно такой я вас представлял! У вашего гениального мужа удивительный изобразительный дар. Молодая матрона, мать семейства, любящая, нежная, благоговеющая! — Он улыбался, слегка шутил, радостно оглядывал убранство прихожей, Коробейникова, Валентину, выскочивших детей, глазевших с порога детской комнаты на симпатичного визитера. Саблин кинул на вешалку-плащ. Валентина, польщенная комплиментами, погружала лицо в сиреневые хризантемы. Показывала Саблину гостиную, кухню, кабинет. Саблин охотно окидывал потолки, полы, стены быстрыми наметанными взглядами, словно снимал планировку, прикидывая, какую обветшалую мебель предстоит убрать, а какую, на свой вкус, поставить. Эта энергия вторжения, веселая бесцеремонность и цепкость раздражали и пугали Коробейникова. Он уловил в своем состоянии что-то звериное, первобытное — страх за свой выводок, самку, убежище, куда вторгся другой, сильный и агрессивный самец. Блестя загривком, упруго переступал лапами, жадно оглядывал чужое гнездо, метил его, присваивал, закреплял в нем свое присутствие.
— Рудольф, прошу ко мне… — Коробейников заслонил детей, легонько отсылая их в детскую, любезно и властно направлял Саблина в свой кабинет.
— Так вот где создаются великие творения. — Саблин, без всякой иронии, трепетно и благоговейно осматривал стол с пишущей машинкой, рукопись, лист бумаги, на котором сложными иероглифами был нанесен план романа — магический чертеж, напоминавший волшебное дерево. — Здесь витают ваши замыслы, Мишель, живут незапечатленные образы будущей книги! — Он озирал углы, где в легчайшей дымке дремали ненаписанные сцены романа, теснились лица будущих героев, и среди них лицо Саблина, как прозрачная тень, еще не нашедшая места в будущем сюжете. — Благодарю, что вы показали мне свое святилище.
И опять Коробейников испытал смятение, как если бы совершал ошибку, допуская в свою молельню энергичного чужака, исповедующего иную религию и заглянувшего в чужой алтарь из любопытства, прицениваясь к священным сосудам и дароносицам.
— Так что желает от нас августейший Марк Аврелий? — нарочито легкомысленно произнес Коробейников, усаживая гостя в кресло, боясь, что его неприязнь и смятение будут угаданы Саблиным.
— Какое-то у него к вам дело, Мишель. Какая-то интрига, в духе тех, что он обычно затевает с людьми. Он как паук развешивает паутину и улавливает людей, которые ему чем-то важны. В этой паутине множество уловленных и обескровленных им существ. Разноцветные жучки, комарики, всяческие мушки, мотыльки, которые прельстились на его посулы, потянулись к нему и влипли в паутину. Там бьются и существа покрупнее, всякие птахи, зверьки. Похоже, вы чем-то ему интересны. Или, не дай бог, опасны. Конечно же вы не мушка, не мотылек, а великолепная певчая птица. Он хочет вас видеть сегодня, и, если не возражаете, мы поедем. Но будьте осторожны, Мишель.
— Значит ли это, что и вы в его паутине? И ваша сестра? — Коробейников не смотрел на Саблина, боясь отыскать в его лице сходство с Еленой. Пугался чувственной, звериной проницательности Саблина, которая угадает смятение Коробейникова, нащупает в нем тщательно укрытые, сберегаемые зрелища — скачущая в свете фар колея, мгновенная тьма, среди которой светятся зеленые циферблаты панели, спинка сиденья, медленно опадающая вместе с вытянутым неподвижным телом, горячий, дрожащий под его губами живот, мучительная в темноте белизна ее голой ноги, затуманенные стекла машины, сквозь которые летят невесомые прозрачные спектры, сладкий, страшный полет в глубину, в провал, в центр земли, откуда навстречу, как факел огнемета, рвется душное пламя.
— Этот обходительный седовласый еврей с бархатным голосом и благосклонным дружелюбным взглядом — опасный и беспощадный делец, обладающий первобытной интуицией, библейской мудростью, мстительностью красных комиссаров, вырезавших поголовно казачьи станицы. — Саблин говорил страстно, покрываясь легким румянцем ненависти. — Его деятельность до конца не понятна, скрывает под безобидными культурными начинаниями какой-то жестокий замысел, хлюпающий кровью. Из своего домашнего салона он управляет международной политикой, идеологией, расставляет угодные ему кадры. Если в какую-нибудь неспокойную восточноевропейскую страну назначается новый посол, или в газете появляется разгромная статья на русский роман, или молодой еврейский скрипач награждается государственной премией — это результат кропотливой работы Марка Солима, с которым считают за честь дружить помощники генсека и генералы разведки.
— Но ведь такому могущественному родственнику можно только позавидовать?
— Ненавижу его. Он держит в заложниках сестру. Ее красотой, ее божественной русской женственностью прикрывает свои еврейские каверзы. Не приму от него ни одной услуги, не обращусь к нему за помощью. Все мои усилия направлены на то, чтобы вырвать у него сестру. — Саблина сотрясала легчайшая нервная дрожь, предвестница истерики. Тема, которой он коснулся, была для него навязчивым бредом, затрагивала душные, больные глубины его натуры, куда хотелось заглянуть Коробейникову, как хочется заглянуть в горячий кислотный кратер.
— Ваша сестра находится под постоянным неусыпным надзором? — осторожно выпытывал он, совершая опасные круги вокруг своей тайны, чувствуя, как эти круги сжимаются и тайна становится все беззащитней. — Елена тяготится мужем?
— Он пользуется ею как приманкой. Выставляет, как цветок, и смотрит, как вьются вокруг шмели и цветные мухи. Он может ее продать на время, если это принесет ему политическую выгоду. Может запереть и мучить в домашнем застенке, если она откажется ему подчиняться. Мне кажется, он гипнотизирует ее и лишает воли. Подливает ей какие-то адские парализующие снадобья. Он может отдать ее другому мужчине и сквозь замочную скважину в спальне наблюдать, как наблюдали за Сюзанной похотливые старцы. Не исключаю, что он постоянно следит за ней, сам или с помощью наемных соглядатаев. Подталкивает ее к измене, а потом пользуется плодами этой измены.
— Вы говорите чудовищные вещи. — Коробейников чувствовал, как утончается, становится прозрачной оболочка, скрывающая тайну. — Мне кажется, Рудольф, это плод вашей фантазии.
— Не сомневаюсь, он знает о ваших свиданиях, Мишель. Знает, что вы сидели в кафе на Новом Арбате, у большого окна, за которым переливался проспект и катились стеклянные водянистые фары, и вы пили с Еленой вино, и в ваших бокалах танцевали крохотные рубиновые искры. Вы смотрели на Елену с обожанием, и она вам читала стихи, быть может, свои любимые, волошинские, о мессианской России. Вы отправились в Дом архитекторов, где маленький отвратительный карлик и уродливый злой колдун Жироди превращал очаровательных женщин в букеты цветов, в экзотических птиц, в волшебных стрекоз и бабочек. Ваше лицо было бледным, как перед обмороком, а у Елены глаза торжествующе и прекрасно сверкали.
— Как вы узнали? — воскликнул Коробейников, слушая сомнамбулические, нараспев произносимые слова, видя, как страдальчески полуопущены веки Саблина, из-под которых влажно блестят, слезно переливаются глаза, будто видят озаренный аметистовыми лучами подиум, длинноногих обнаженных красавиц, втыкающих в ковер отточенные туфли.
— Он мог наблюдать за вами. Мог послать громилу, способного причинить вам и Елене вред. Не сомневаюсь, он знает, как вы сидели в очаровательном кафе на улице Горького, и асфальт то пузырился от холодного тяжелого дождя, то сверкал расплавленным блеском, отражая влажную синеву, словно мимо проплывала огромная голубая рыба, шевеля плавниками. Сделав всего два винных глотка, вы пьяно, с обожанием смотрели, как в ее нежной розовой мочке переливается бриллиантик. Вслушивались, как сладко, с переливами певчей птицы звучит ее голос, отчего на белой высокой шее нежно вздрагивает голубоватая жилка. Вы встали, повели ее к своей маленькой красной машине и, сажая в салон, взяли ее запястье. По вечернему шоссе вы мчались в Подольск, где в голых, сизых лесах, на берегу ленивой Пахры стоит странная церковь, напоминающая увитую виноградом колонну, четыре евангелиста держат каменные книги, желтоватые мхи и лишайники покрыли священные тексты.
— Вы наблюдали за нами? Следили за сестрой?
— Оберегал вас, Мишель. Боялся за вас. Марк — страшный человек. Он мог подослать убийц. Мог из ревности совершить преступление. Елена рассказала о драке. Как вы разбили камнем голову наемному убийце. Вы спасли сестру. Совершили рыцарский, благородный поступок. Я в вечном долгу перед вами, Мишель.
Коробейникова охватило смятение. Тайна, которую он, крадучись, пронес в дом, тщательно скрывал, окружая непроницаемой завесой, была раскрыта и, как бомба с проводками и мигающим взрывателем, где водянистые электронные цифры отсчитывали время до взрыва, ждала своего страшного часа. Бледное, предсмертное, с синеватым оттенком лицо Саблина, его полузакрытые, в муке глаза, безумная, на бескровных губах улыбка выдавали его. Он проник в тайну, знал расположение бомбы. Замкнутся контакты, и взрыв разнесет кабинет с листками романа, детскую с деревянным табуном коняшек, гостиную, где вчера с Валентиной они повесили под потолком нарядный абажур. Его дом, его семейный уклад заминирован, и Саблин, непредсказуемый в своем артистическом, беспощадном садизме, способен его взорвать.
— Женщина — запрограммированное природой уродство, изувечившее человечество. Прорва, в которую мужчина сбрасывает свой воинственный дух, стремление к творчеству, военному и религиозному подвигу. Свирепая тлетворная пасть, выгрызающая в мужчине лучшие качества, лишающая его сил, подвижничества, заражающая вирусом сентиментальности, слезливой и жалкой поэтичности. Половину своей жизни мужчина тратит на женщину, скармливая ей свои лучшие качества. Женщина — замедлитель, не дающий истории развиваться с естественной скоростью. Брак — глухой тупик, куда врывается мужская судьба и застревает там навсегда в нелепой и уродливой позе. — Красивое лицо Саблина было бело-мраморным, отливало лунной синевой. Губы, произносящие женофобские речи, были без кровинки. — Я понимаю этику героев СС, отрицавших женщину, вносивших в свои отношения античную самодостаточность. Подлинная, ожидающая нас революция, та, что покончит с делением на мужчин и женщин, избавит человечество от женского пола, выделит мужчин в единственную форму, достигающую своего совершенства. Но если на промежуточной стадии этой революции мужчина не может до конца отказаться от женщины, пусть выбирает самую близкую, одной с ним крови — тогда антагонизм и противоположность полов снимаются абсолютной генетической родственностью, почти тождественностью, что равносильно любви мужчины к себе самому. В противном случае будут повторяться отвратительные и смешные трагедии, подобные той, что случилась с вашим другом футурологом Шмелевым. Он построил Город Будущего в промежностях своей ненаглядной жены, и стоило ей чуть шире раздвинуть ноги, как все это восхитительное сооружение провалилось в зловонную яму.
Произнеся это жестокое и скабрезное сравнение, Саблин вернул себе бодрость, хохочущий блеск в глазах, розовую свежесть губ и щек. Коробейников пугался той зависимости, в какую попал к этому малознакомому, непредсказуемому человеку, за короткое время сумевшему его обольстить, обворожить утонченными комплиментами, очаровать оригинальными суждениями, оплести кружевом затейливых и занятных историй. Вовлечь в интригу, смысл которой был до конца неясен, но которая увлекала Коробейникова в свои опасные лабиринты.
— Рудольф, вы виделись со Шмелевым. Он находится на грани помешательства. Способен на безумные, разрушительные поступки. Зная вашу склонность использовать людские слабости для своих веселых забав, чувствую себя ответственным за то, что сделал вас свидетелем несчастья и позора Шмелева. Поэтому прошу, Рудольф, воздержитесь от психологических экспериментов над Шмелевым. Вам — очередная забава, а он может оказаться в петле.
— Дорогой Мишель, вы художник, и, быть может, несравненный. Вы знаете законы творчества, которые идентичны законам, по которым развиваются философские системы, человеческие отношения или в течение века выстраивается огромный город. Крушение моста или небоскреба, умирание дерева или разрушение государственной системы происходит по обратному закону. Тот, кто наблюдает это крушение или его инициирует, испытывает творческое наслаждение. Нерон, наблюдающий пожар Рима. Герострат, сжигающий храм Артемиды. Пилот «летающей крепости», кидающий бомбу на Хиросиму. В разрушении присутствует акт творчества. Разрушая нелепые и уязвимые конструкции, я испытываю художественные переживания, что в некоторой степени сближает меня с вами. Высший, божественный акт творчества связан с самоистреблением. Самый великий художник тот, кто вслед за разрушением своего творения истребляет себя самого. Гитлер, уйдя из жизни вместе со своим государством, совершил великий акт творчества. «Гибель богов» — это траурный гимн самоиспепеляющегося человечества. Шмелев обречен. Он отождествил себя с женщиной, которая ему изменила. Его Город Будущего будет испепелен им самим, как в конце концов будет испепелено это отвратительное пролетарское государство, построенное на измене великим аристократическим принципам. Мишель, вы гармонический человек. Ваша эстетика связана с идеалом созидания. Но когда-нибудь вам придется описывать крушение мира и использовать для этого эстетику катастроф.
Лицо Саблина было насмешливым и беспощадным. В нем метались стихии его революционной родословной, взрывались демоны истребленных элит, жили неутоленные страсти и неисполненные честолюбивые замыслы. В его душе как будто ходили тучи, сталкивались угрюмые башни, проскакивали молнии, на мгновение мелькала ослепительная лазурь, и вновь громоздились уродливые чудища. Чтобы поместить его образ в роман, его следовало изучить, а для этого погрузиться в котлован его загадочных страстей и пороков. И это было смертельно опасно.
Взволнованный, чувствуя исходящую от Саблина беспощадную угрозу, Коробейников постарался побыстрей увести его из дома, подальше от жены и детей. Так саперы, прижимая к груди, уносят подальше от людей невзорвавшуюся бомбу с потревоженным взрывателем, боясь оступиться на маленьком камушке.
На машине они приехали на Сретенку, к знакомому дому с желтыми вечерними окнами. Продолжая опасаться, Коробейников не прекращал своего исследования. Изучал Саблина, как эпидемиолог изучает загадочный вирус, делая прививку себе самому. Рисковал умереть от неизвестной инфекции, наблюдая, как растекается болезнь по отравленному телу, порождает жар, озноб, бред с лихорадочными видениями. Подымались в лифте, стоя бок о бок, Саблин, опустив глаза, загадочно улыбался, будто вел Коробейникова на очную ставку с Марком, чтобы увидеть выражения их смущенных лиц, недоверчивые пугливые взгляды, услышать лукавые отвлекающие фразы, которыми оба постараются скрыть страшную, связывающую их тайну. Коробейников соглашался на этот жестокий эксперимент, полагая, что добытый опыт станет опытом его литературных исследований. Поможет поместить в роман героя, прототипом которого является Саблин.
Подымались на старом лифте. Среди запахов утомленного железа, ветхого дерева, табака, ощутил мимолетное дуновение духов, пугаясь того, что через минуту увидит Елену.
Дверь открыл Марк, пышно-седовласый, с крепким, розовым, будто с мороза лицом, в вольном домашнем джемпере. Радостно, как старому знакомому, пожал Коробейникову руку большой теплой ладонью. Приобнял родственника, бодро и дружелюбно, с легкой насмешкой посмотрев на Саблина, как смотрят на занятных, строптивых, но вполне симпатичных людей.
— Спасибо, что откликнулись на мое приглашение. Леночка вот-вот должна подойти. — Хозяин принимал у гостей плащи, размещая на рогатой деревянной вешалке. Гостеприимным жестом направлял в кабинет. Коробейников обрадовался отсутствию Елены. Боялся встречи с ней. Испытывал смущение и чувство вины перед хозяином. Отвращение к себе, посмевшему явиться в дом, который осквернил, воровски обобрал. Был виноват перед этим красивым, гостеприимным пожилым человеком, желающим ему добра, наивно и доверчиво растворившим перед ним свои двери. И одновременно переживал мучительное и сладостное торжество, упоение своим грехом, порочное превосходство. Желал поскорее встретить Елену и увидеть, как на мгновение радостно, страстно вспыхнут ее глаза и тут же смиренно потупятся.
— Сегодня поздно ночью уезжаю в Ленинград. Там открывается изумительная выставка Шагала, из запасников Русского музея и частных зарубежных коллекций. Ах, какие там мистические работы, какой чудесный старинный Витебск! Эти летающие в поднебесье петухи! Парящие, словно в невесомости, молодые барышни и кавалеры! Шагал гениально предвидел космические полеты, чувствовал жизнь как волшебный сон. — Марк усаживал гостей, делясь переживаниями, прерванными их визитом.
Саблин вальяжно расселся в кресле, демонстрируя Коробейникову, как свободно и вольно чувствует он себя в этом уютном, богато обставленном кабинете.
— Знаешь, Марк, почему так волнует Шагал чувствительное еврейское сердце? Потому что бессознательно еврей, созерцая этих влюбленных витебских женихов и очаровательных черноглазых невест, знает, что назавтра они сбросят провинциальные долгополые сюртуки и платья с кружавчиками, сбреют пейсы и скинут ермолки, облачатся в галифе и кожаные куртки. Навесив маузеры, возглавят ЧК и ревкомы, станут расстреливать белых офицеров и насиловать русских курсисток. Плавающий в небесах красный, с набрякшим фиолетовым гребнем петух — это русский кровавый бред, задуманный местечковыми портными и малевателями вывесок, с библейской мстительностью шагнувших из-за черты оседлости в русскую революцию.
— Быть может, ты прав. — Марк в знак согласия наклонил седовласую голову, не уязвляясь оскорбительным замечанием Саблина. — То же странное психоделическое впечатление производят герои Чехова. Все эти телеграфисты, офицеры, уездные барышни, земские врачи. Они еще любят друг друга, шалят, говорят смешные пошлости или высокопарные глупости, но уже где-то над их усадьбами и вишневыми садами начинает дуть железный ветер истории, за рощей на станции слышны бронепоезда. Барышня в косынке сестры милосердия умрет в тифозном бараке, любящий ее молодой офицер будет расстрелян на днепровской круче, а Ионыч станет личным врачом наркома путей сообщения. И Шагал, и Чехов создали искусство, в атмосфере которого уже проявились молекулы катастрофы. Мы, пережившие катастрофу, воспринимаем их как пророков.
— С той лишь разницей, что еврейское сердце перед картиной Шагала наполняется торжеством победы. А русское сердце, начитавшись Чехова, рыдает от невосполнимых утрат. Революционный петух Шагала выклевал глаза актрисе Раневской. Витебский портной Блюмкин застрелил в застенке дядю Ваню. В этом русско-еврейский смысл революции.
Саблин ярко и вызывающе блестел глазами, дразнил и провоцировал Марка. Казалось, протягивает румяное, пропитанное ядом яблоко, желая, чтобы тот надкусил. Но Марк не притрагивался к отравленному плоду. Снисходительно и мягко отвечал, как терпеливый врач отвечает нервному пациенту, стараясь не дать повод для его больной раздражительности.
— В революции русские и евреи встретились, как встречаются в раскаленном тигеле два расплавленных драгоценных металла. Образовали сплав, в котором соединились навек. Эти два потока современной русской истории уже не разделить никогда. Об этом свидетельствует наше с тобой родство. Ты ведь сам говорил на нашей с Еленой свадьбе, что это династический брак — династия Саблиных сочетается с династией Солимов.
— Два «С», или «СС», — засмеялся Саблин, страшно побледнев. Его красивое секунду назад лицо, свежее и молодое, вдруг постарело, подурнело, обтянулось голубоватой кожей с проступившими костями черепа. — Всякий брак — лаборатория генной инженерии, где улучшается порода. Однако еще не родился венценосный младенец, и рано говорить о сплаве двух драгоценных металлов. Может быть, тигель слабо нагрет? — улыбнулся он уродливой улыбкой.
На этот раз оскорбление достигло цели. На розовом лбу Марка, под пышной купой седых голубоватых волос образовался белый желвак, словно ударили молотком, и стала взбухать болезненная дутая шишка. Губы оттопырились, гневно задрожали. Казалось, из них вырвется бешеный, опрокидывающий Саблина крик. Он с трудом овладел собой, сжал рукой горло, не пуская спазм бешенства. Глухо, беспощадно произнес:
— К общему благу, мы сменим тему разговора, иначе она неизбежно приведет нас к таким подробностям, от которых тебе станет тошно.
Саблин вдруг стушевался. Его спина ссутулилась, голова вжалась в плечи. В лице появилось что-то пугливое, кроличье.
— Ты прав, Марк, прости. Моя проклятая бестактная ирония, от которой больше всего страдаю я сам. Кстати, очень тебе признателен за протекцию в министерстве. Командировка в Роттердам утверждена, состоится через месяц. Ну я пошел, — произнес он, вставая из кресла. — Вам, как я понимаю, есть о чем побеседовать. Отправлюсь-ка я домой и послушаю Вагнера. Недавно приобрел великолепный диск: «Нибелунги» в исполнении Берлинского оркестра.
Стараясь держаться молодцом, накинул в прихожей плащ. Его лицо выражало нарочитое смирение, почти побитость. Лишь в выпуклых кошачьих глазах затаилась живая ненависть, которая обнаружится за пределами дома, под ночным дождем, когда можно будет запрокинуть лицо к размытым фонарям, раздвинуть по-звериному губы и хрипло, булькая горлом, завыть.
Оставшись вдвоем с Марком Солимом, Коробейников испытывал мучительную несвободу. В доме присутствовала больная тайна, завязанная крепким узлом, в который он, по воле обстоятельств и по собственному неуемному вожделению, оказался затянут. Вместо того чтобы встать и, пока не поздно, вырваться из губительной петли, он оставался сидеть среди книг, картин, бронзовых подсвечников кабинета, на стене которого, нарисованный чьей-то изящной рукой, висел портрет Елены.
— Эти антисемитские выходки Рудольфа меня не обижают, — примирительно произнес Марк, чувствуя неловкость гостя. — Они вовсе не свидетельствуют о юдофобских настроениях в стране, как шепотом, пугливо предупреждают некоторые евреи. Мой личный опыт говорит об обратном. Я, обыкновенный еврей, без особых заслуг перед обществом, добился влиятельного положения, объездил на государственные деньги весь мир, участвую в культурной и политической жизни и считаю Россию моей единственной Родиной. Хотя без всяких предубеждений отношусь и к сионистским организациям, этим ловцам еврейских душ… Конечно, у евреев в революции есть историческая вина. Они совершили не только социальное, но и геологическое насилие, выхватив Россию из земного развития. Так Луна была вырвана когда-то из Земли, оставив огромный, затопленный океаном котлован. Евреи вышли из черты оседлости, но распространили эту черту на шестую часть мира, которую вывели за пределы земного сообщества. Это астрономическое насилие дорого обошлось России. Теперь историческая задача евреев искупить вину недавнего прошлого. Опустить Луну на Землю. Вернуть Россию в сообщество цивилизованных стран…
Коробейников согласно кивал, изображал заинтересованность, но в уме пульсировала душная, страшная мысль — признаться во всем Марку Солиму. Повиниться перед ним и этим признанием навсегда отрезать себе вход в его дом. Отсечь разрушительный, смертельно опасный сюжет романа, на который одна за другой нанизывались увлекательные сцены. Волшебная, как ночной фейерверк, Москва, сквозь которую они летели с Еленой. Подиум с длинноногими амазонками, которые пленили его по ее наущению. Свирепая неандертальская драка у дубровицкой церкви… Но он молчал, был не в силах признаться. Был в плену у сюжета, который развивался сам по себе, неподвластно художнику. Складывался из крохотных, поминутно возникавших отрезков, из произносимых Марком слов, из сумасшедшей, невыполнимой мысли во всем признаться, из чудесного, изысканного портрета Елены, смотрящей на него с укоризной.
— Историческая задача евреев — объединить разорванное человечество. Через мировую, во многом еврейскую, культуру. Через науку, технологии, машины, во многом еврейского изобретения. Через политику, указывающую человечеству общую цель. Это не просто. Требует от евреев жертв. Обрекает их на гонения. На обвинения в масонском заговоре, в предательстве национальных интересов стран, где они проживают. Но прогрессивные евреи идут на эти жертвы. Я, в силу моих скромных возможностей, принадлежу к их числу…
Своими откровениями Марк усиливал в Коробейникове чувство стыда. Этот стыд и вина рождали в нем подобье истерики, приближали к той черте, за которой он может перебить Марка и во всем повиниться. Но эта страшная, сокрушительная мысль тоже была искушением, потребностью больного сознания, и он продолжал молчать, едва внимая рассуждениям Марка.
— Тот небольшой круг людей, с которыми вы у меня познакомились и, надеюсь, продолжите знакомство сегодня, связан упомянутой грандиозной, планетарной задачей — возвращением Луны на Землю. Этот круг, разумеется, состоит не из одних евреев, но все мы, по расхожим характеристикам нынешних славянофилов, являемся «вольными каменщиками». Работаем каждый в своей видимой области — в науке, культуре, политике, — но незримо объединены мессианской задачей. Строим на Земле космодром, куда из пустыни Космоса должен спланировать межпланетный корабль Луна. Это сложнейшая операция. Луна должна занять то место, откуда ее вырвала русская революция. Должна поместиться в котлован, не сломав, не повредив его кромки. Не плюхнуться с размаху на другой континент, на головы ничего не подозревающих народов, породив жуткую катастрофу. Должна уцелеть во время приземления, не рассыпаться на груды уродливых обугленных осколков. Это требует колоссальных знаний, колоссальных, видимых и невидимых, усилий. Самоотверженной воли тех на Западе, кто находится на земном космодроме и принимает корабль, и тех, кто находится здесь, на этой огромной летающей тарелке, именуемой «СССР», и идет на снижение. В этой космогонической работе вам и предложено участвовать.
В Коробейникове от этих слов — озарение, жадное, всепоглощающее внимание, предвкушение нового ослепительного опыта, которого ждала и искала душа. Ему, творцу и художнику, вдруг открылся путь в сокровенные, невидимые миру пространства. В подземные лаборатории, где в условиях строжайшей тайны сотворяется реальность, происходит колдовство, рождаются новые формы, которые потом выходят на поверхность, превращаются в политику, войну, освоение целины, полеты в Космос, вторжение в Чехословакию, в книги маститых писателей, в фильмы известных режиссеров. И это озарение, страстное предчувствие освободило его от мучительной неловкости, от чувства стыда и вины. Проникновение в эти подземные штольни, пребывание в секретных лабораториях требовали компромиссов и жертв. Путь, который ему открывался, предполагал сосредоточенность на главном направлении, с пренебрежением сопутствующими коллизиями, к числу которых относилась его случайная близость с Еленой, его чувство вины перед Марком. Этим следовало пренебречь, как разведчик пренебрегает этикой в своих знакомствах и связях, если они помогают продвигаться к заветной цели, к драгоценному опыту, ради которого он был внедрен. Писатель — тот же разведчик, внедренный в загадочное бытие, призванный добывать информацию из самых засекреченных, потаенных пластов.
— Я хотел сообщить вам две, на мой взгляд, важные, касающиеся вас вещи, — продолжал Марк. — Ваш очерк об авианосце высоко оценен не только в журналистских кругах, но и в военном и международном отделах ЦК. Появились комментарии в зарубежной прессе. Откликнулись американцы, англичане, японцы. Усиление советского Тихоокеанского флота является фактором воздействия на Китай, вокруг которого начинает разыгрываться сложная военно-политическая комбинация. Поздравляю, ваше творчество становится инструментом большой политики.
— Как бы оно, в результате этого, не перестало быть творчеством, — усмехнулся Коробейников, испытывая удовлетворение от похвалы. — Принято считать, что политика противопоказана и опасна для творчества.
— Все полезное опасно, мой друг. Ядерная энергия полезна и очень опасна. Электричество полезно и опасно. Солнце полезно и опасно. Неопасны фантики от конфет. Эстрадные конферансье. Надувные шарики на демонстрациях. Теперь второе, мой друг. Приближаются Октябрьские праздники. Будут, как обычно, парад, демонстрация, правительственный прием в Кремле. Будет обязательная казенная риторика телетрансляций, ритуальный набор речей, от которых устал слух, притупилось восприятие. Что, если вам написать праздничный текст, который в вашем исполнении прозвучит прямо с Красной площади, от кремлевской стены? Молодой писатель, романтический государственник, выражает свое отношение к государственному празднику. Вы найдете для этой речи необычные слова, нестандартные мысли. Используя свой богатый романтический лексикон, произнесете все, что следует произнести во время «красного богослужения» с амвона нашей «красной коммунистической церкви», но иными словами, с иной интонацией и музыкой, которая должна освежить обветшалые казенные словеса. Вдохнуть новую энергию в государственные символы. Я думаю, это у вас получится. Такая поэтическая миниатюра, «стихотворение в прозе» о смысле великой Революции будет сразу замечена. Еще больше выделит вас. Обратит на вас внимание высшего руководства страны. Я сам позабочусь об этом.
— Право, не знаю. Предложение очень лестно. Смогу ли?
— Ваша книга, которую мне показала Елена, во многом религиозна. Вы относитесь религиозно к женщине, природе, земле. Этот редко встречающийся религиозный взгляд необходим в разговоре о государстве. Ибо наше государство в своей глубине, у истоков своего создания, окрашено религиозным смыслом. Красная площадь — это храм, икона, некрополь красных святых. Дважды в год, весной и осенью, здесь происходит «красная литургия». Если вы это выразите, ваш текст станет акафистом, а вы превратитесь в псалмопевца государства. В той огромной, скрытой работе, о которой я вам поведал, нам необходим свой псалмопевец, который бы вплетал в сладкозвучные тексты несколько новых, не сразу заметных слов.
— Попробую стать псалмопевцем, — ответил Коробейников, решив про себя принять это почетное и увлекательное поручение для того, чтобы глубже проникнуть в таинственную реальность, приоткрываемую перед ним многомудрым заговорщиком Марком.
30
В коридоре раздался звонок. Коробейников вздрогнул, вновь испугавшись появления Елены. Но вошел знакомый Коробейникову миловидный молодой человек, Андрей, с которым он успел сблизиться во время первого визита. Уже из коридора, снимая плащ, гость улыбнулся и кивнул Коробейникову как старому знакомому. Они вновь оказались рядом, в просторной гостиной с лепным потолком, под которым драгоценно переливалась хрустальная люстра, и под ней, по паркету, были расстелены черно-красные персидские ковры, пушистая, белоснежная шкура барана.
— Очень рад нашей встрече, — искренне произнес Андрей, с удовольствием оглядывая уютный дом, тумбочку на колесиках с заморскими бутылками, нарядную бадеечку, полную льда, блюдо с маленькими бутербродами. — Мало в Москве домов, куда хочется прийти, зная, что встретишь приятных людей, общение с которыми обогащает. Марк, искусный театрал, превращает каждую встречу в небольшой увлекательный спектакль.
— Насколько я понял из прошлого посещения, это не просто развлекательные спектакли, но и деловые встречи единомышленников, занятых многосторонней общей работой, — сказал Коробейников, пытаясь понять, какую роль играет Андрей в этом тайном собрании, в чем род его деятельности, если он, молчавший всю прошлую встречу, столь осведомлен о ее участниках.
— Видите ли, каждый из нас погружен в свою узкую специальность, поневоле имеет ограниченный кругозор, суженный круг общения. Заслуга Марка в том, что он собирает вместе столь разных людей, которые одну и ту же проблему рассматривают с разных сторон, открывая в ней множество неожиданных ракурсов. Проблема перестает быть запутанной, распутывается, становится очевидной. Тогда ее можно решать. Это напоминает комок пластилина, куда вклеено, вмазано множество разных цветов, многократно смятых, слипшихся, отчего комок кажется серым, грязным. Здесь же, в результате «мозговых атак», пластилин распадается на разноцветные составляющие, и из него можно снова лепить.
— Прекрасный образ. Сразу видно, что вы аналитик.
— Меня здесь ценят за аналитические методы, которыми я владею. Поручают исследовать и оценить сложные, а иногда и сверхсложные явления, к которым относятся общественные процессы. У вас же, в отличие от меня, развит противоположный дар. Ваша образность и метафоричность — это уникальная способность синтезировать, соединять несоединимое, выстраивать иерархию явлений. Этот дар очень редкий. Полагаю, что Марк, у которого удивительное чутье на таланты, собирается использовать вашу уникальную способность.
— Вам знакомы мои тексты? — заинтересованно спросил Коробейников.
— Ваш последний очерк об авианосце великолепен. Вы пишете о машинах и механизмах как о живых существах. Одушевление машины — это огромная философская задача, которой занималось русское искусство начала века, но потом, к сожалению, с этим рассталось. Сегодня военные инженеры вплотную заняты проблемой «человек-машина», решая ее в интересах боя. Вы же одушевляете и очеловечиваете технику, как язычники одушевляли камень, воду, дерево, находя в них живую душу.
— Самая сложная, сконструированная человеком машина — это государство, не так ли? — Коробейников чувствовал неординарность собеседника, глубину его познаний, сходство своих и его представлений. — Мегамашина государства начинает выдавливать из себя человека, утрачивает человеческое и духовное, и тогда возникает опасный конфликт. Государство начинает давить и угнетать человека до той поры, пока человек не взбунтуется и не разрушит сконструированную им мегамашину. Мы с Марком до вашего прихода как раз обсуждали эту тему.
— Именно это и объединяет всех, кто сюда приходит. Одушевление советской мегамашины, которая начинает ветшать и черстветь. Возвращение ей духа творчества. Кстати, быть может, вам будет интересно. Я имею возможность просматривать американские газеты. Так вот, ваш очерк о Тихоокеанском флоте был отмечен в «Нью-Йорк таймс». Во время слушаний в Конгрессе один конгрессмен, кажется от штата Айова, заявил, что Коробейников, рассказавший о тайнах океанической стратегии СССР, никакой не журналист, а начальник советской военно-морской разведки.
— Ну это слишком, — засмеялся Коробейников, польщенный похвалами.
— Ваш дар — это ресурс государства. Его надо использовать, как используют бомбардировщик новой конструкции, — засмеялся в ответ Андрей, милый, изящный и дружелюбный.
В прихожей зазвонили. Зазвучали голоса, шарканье ног. Марк кого-то обнимал, помогал раздеться. В гостиную вошли сразу двое, удивившие Коробейникова своим несходством, разительным внешним несоответствием. Первым появился прихрамывающий, начинавший полнеть человек в носках, который оставил туфли в прихожей, но не воспользовался мягкой домашней обувью. Он был лысоват, некрасив. Лицо простецкое, деревенское, нос картошкой, губы оттопырены, из-под вздернутых бровок смотрели маленькие, умные, настороженно-хитрые глазки. Он был в неудобном, мешковатом костюме, с жилеткой, из которой выглядывало выпуклое сытое брюшко. Поклонился с порога, зорко, с любопытством осмотрев Коробейникова, просеменил к креслу, тяжело плюхнулся, скрестив ноги в сморщенных носках. Следом возник изящный худой человек с утонченным смуглым лицом, большим кавказским носом, гибкими чувственными губами, на которых играла надменная ироничная улыбка. Он был в дорогом, прекрасно сшитом костюме, в начищенных дорогих штиблетах, грудь его украшал щегольской шелковый галстук с золотой булавкой. Он изящно поклонился, осторожно и грациозно проследовал к креслу, опустился, положив ногу на ногу, доставая из кармана пачку заморских сигарет. Марк подошел к ним, продолжая что-то выспрашивать, а Коробейников, как и в прошлое посещение, обратился к Андрею за разъяснением:
— Кто сии джентльмены?
— Первый, в носках, колченогий — восходящая звезда идеологии. Работник идеологического отдела ЦК Исаков, по прозвищу «Хромой бес». Казалось бы, простой деревенский мужик, а прочитал лекцию в Колумбийском, университете, которая вызвала восторг американской профессуры. Очень коварен и вероломен. Второй — членкор Академии наук Гришиани, технократ и управленец, ратующий за новые формы управления производством, подобные тем, что используются на автомобильных конвейерах Форда. Говорят, большой любитель дам, превращающий свой роскошный рабочий кабинет в будуар.
— Тоже своеобразный конвейер, — заметил Коробейников, отдавая должное лаконичным исчерпывающим характеристикам собеседника, который как будто бы заглядывал в миниатюрную картотеку с досье на членов «кружка».
Опять зазвучал звонок. Марк пошел открывать, а Андрей приветливо и услужливо наполнил тяжелые стаканы золотистым скотчем. Ухватил щипчиками и метнул кусочки льда. Отнес стаканы Исакову и Гришиани. Передал Коробейникову литой, с золотистым напитком, стакан, источавший горьковатый обжигающий дух.
В гостиной появились двое. Маленький, круглый человечек с безбровым, бабьим лицом, без всякого намека на щетину, с малиновыми яблочками щек, детски голубыми глазами и пунцовыми губками-бантиками, которые, казалось, сосали вкусную карамельку. И бодрый, с твердым носом, решительными яркими глазами мужчина, свежий, промытый, с целлулоидным отливом, большими ладонями, которые он потирал, издавая шелестящий горячий звук, словно добывал огонь трением. Оба здоровались, усаживались, с благодарностью принимали от Андрея стаканы с выпивкой, заглядывали в какую-то брошюру, которую подсовывал им Марк.
— А кто эти двое? Один напоминает умного скопца, а другой — умелого фокусника. — Коробейников, уже сблизившись с Андреем, позволил себе легкую иронию, которая была воспринята.
— Этот скопец, который не нуждается в бритве, — Заметин, работающий на стыке Центрального Комитета и Министерства иностранных дел. Усилил свое влияние после пражских событий, которые заранее предсказывал. Второй — доктор Миазов, получивший доступ к геморроям, предстательным железам и астматическим легким высшего кремлевского руководства. Практикует методы тибетской медицины, приглашая для диагностики экстрасенсов. Говорят, обладает даром гипноза и телекинеза. К его ладоням прилипают предметы различной величины и веса, в том числе и сделанные из драгоценных металлов.
Коробейников тихо засмеялся, оценив эти утонченные характеристики.
Все сидели, отпивая из стаканов, закусывая аппетитными бутербродиками. Радовались тому, что удалось сменить рабочие кабинеты на красивую гостиную с удобным диваном и креслами, располагавшими к необязательным дружеским излияниям.
— Думаю, какой же я молодец, что выкроил в сентябре две недельки и смотался в свою ярославскую деревню на завершение грибного сезона, — ласково мигая масленистыми карими глазками, произнес Исаков. Сильно окая, с наслаждением вытянул ноги в носках, предаваясь сладостным воспоминаниям. — У нас в этом году грибов тьма. Косой коси. Ставишь под елку корзину, походишь вокруг минут пятнадцать, и уж, глянь, наполовину полна. Красноголовики бархатные, замшевые, крепенькие, как добры молодцы. Боровики богатыри, один к одному. Рыжики — сломаешь, к губам поднесешь, поцеловать хочется. У нас на сенокосах, помню, мой дядя Прохор рыжики солил. Возьмет, сорвет лист лесной смороды. На него, как на тарелочку, положит шляпку гриба. Посыплет щедро солью и другим листом смороды накроет. Кладет гриб под сенной лежак в балагане, где ночуют косцы. Утром встал, достал гриб и ешь. Объедение — аромат лесной дух. Раз в году в деревню обязательно езжу.
Его добродушное лицо светилось лаской. Он наслаждался бесхитростными воспоминаниями, приглашая слушающих его горожан полюбить вместе с ним умилительные радости деревенских сенокосов, лесных прогулок, речных и озерных рыбалок, среди которых взрастала его народная, искренняя душа, складывалась певучая, с распевными, окающими звуками, речь.
— Вы у нас известный грибник и ягодник, — благодарно отзывался Марк, не позволяя себе иронизировать над бесхитростным рассказом, над вытянутыми ногами в носках, которые лишь подчеркивали фольклорную сущность Исакова. Свидетельствовали о нравах деревни, когда явившийся с улицы гость разувался у порога избы, ступал по вымытым половицам в носках, не затаскивая уличную грязь в чистую горницу. — Послушаешь вас — и хочется перечитать наших замечательных писателей-деревенщиков. Кстати, как обстоят дела с черносотенным журналом, о котором мы говорили в прошлый раз? Будут ли какие-нибудь оргвыводы?
— Ну это, доложу я вам, превысило все ожидания. — Исаков напрягся в кресле, подтянул разутые ноги, и его масленые минуту назад, хитроватые глаза деревенского мужичка нацелились остро и жестко, обретя металлическую беспощадность. — Мне подготовили обзор журнала за последний год. Это, скажу я вам, рассадник монархизма, лютой поповщины, скрытой антисоветчины, кулацкой агитации. Оттуда так и брызжет лютой ненавистью ко всему советскому, а крестьянский вопрос освещается в духе тамбовских восстаний атамана Антонова. Главный редактор, которого мы проглядели, носит, говорят, на груди золотую цепочку с николаевским пятирублевиком, где изображен двуглавый орел и профиль царя. Авторский коллектив — журналисты, поэты, писатели — сложился в настоящий идеологический центр по подрыву советской власти.
Коробейников знал, о каком журнале идет речь. Читал в нем талантливые статьи о русской истории, славянофилах, биографии русских полководцев, исследования об иконах и народных лубках. Писатели-деревенщики воспевали красоты русских селений, обливались слезами при виде гибнущих деревень, видели зло в городах, бездушных стройках, мертвящем технократизме. Журнал собрал вокруг себя ревнителей русской культуры, враждовал с другим популярным журналом, объединившим цвет еврейской интеллигенции. Вражда и соперничество этих двух изданий обнаруживали содержание скрытых разладов и столкновений под благополучным куполом незыблемого марксизма.
— Эти архаические философы воспевают соху, икону, умиляются виду старой избы и баньки. Зовут туда, откуда мы, деревенские люди, вырвались к вершинам науки и техники, пересели с клячи на сверхзвуковой самолет, шагнули из курной избы в хрустальные залы атомных станций. Это самое реакционное, опасное направление, которое обозначилось в современной культуре, и мы подавим его во что бы то ни стало!
Коробейникова изумила случившаяся с Исаковым перемена. Белесые, рыжеватые волоски на лысеющей голове, казалось, вдруг почернели, погустели, обрели волнистость. Сама округлая голова вытянулась, похудела, стала жесткой, горбоносой, с непреклонными узкими губами и колючим подбородком. Он словно на глазах изменил расу. В нем проступил какой-то иной, ассирийский тип, невозможный в ярославских селениях. Его ядовитое негодование, яростное неприятие были адресованы той народной среде, из которой он вышел. Он искренне ненавидел деревни, мужиков, уклад и традиции, о которых только что умилительно и любовно рассказывал. Это перевоплощение поражало.
— Если откуда и исходит истинная угроза советскому строю, то не из Праги, а из Троице-Сергиевой лавры, от попов и монахов, которые ведут тайную пропаганду и уже контролируют значительную часть культуры, печатные издания, слои богомольствующей интеллигенции. Борясь с «самиздатом» и диссидентами, мы можем проглядеть основную опасность для государства. Мы должны быть беспощадными к проявлениям русского национализма и великодержавного шовинизма. Должны локализовать очаги тлетворных влияний. Мы разгоним эти подпольные журналы-монастыри, а редактора-игумена вызову к себе, погляжу на его царский пятирублевик и пошлю редактировать магаданскую многотиражку. — Лютая жестокость блестела в фиолетовых глазках Исакова.
— Я согласен, что профилактика русского национализма необходима, — осторожно заметил Марк. — Но не следует забывать, что в определенный момент этот фактор может оказаться полезным. Управление обществом — он посмотрел на Гришиани, все это время безмятежно попивавшего виски, — это не уничтожение факторов, а манипуляция ими. Через «русский фактор» мы можем воздействовать на самые высокие уровни власти, включая Политбюро. А что касается ярославских соленых рыжиков, мечтаю как-нибудь отведать ваш грибочек с духом смородинного листа.
Марк дружески улыбнулся. Исаков вдруг стал расплываться, как акварель на мокром стекле. Потекло фиолетовое, чернильное, черное. Куда-то исчезли синеватая волнистая шевелюра, ассирийский жреческий нос. Он вернул себе прежний облик добродушного деревенского толстячка, неумело обрядившегося в городскую жилетку. Робко подобрал под кресло ноги в носках, один из которых слегка прохудился и в нем начинал белеть палец.
— Как прошла ваша поездка на Мальту? — Марк обратился к Гришиани, оставив в покое Исакова, как трудолюбивый шмель оставляет в покое цветок, забрав с него капельку сока и горстку пыльцы. — Ваш цвет лица свидетельствует об обилии средиземноморского ультрафиолета.
— Погода отличная, лазурь незамутненная, — ответил Гришиани, и на его худом, аристократически-надменном лице появилась туманная, сладостная улыбка. — Каждый день приносил свои неповторимые удовольствия. Казалось, мою программу подготовил талантливый режиссер, изучивший мои склонности и привычки.
— Тогда он должен был иметь под рукой гастрономическую книгу, карту изысканных вин, а также список балерин из Большого театра, — польстил ему Марк.
— Меня повели в театр средневековых марионеток, на куртуазный спектакль кукол. Не представлял, чтобы куклы, сделанные из кусочков парчи и шелка, разноцветных блесток и бусинок, могли бы рождать у зрителя такие острые эротические переживания. Я понял на спектакле, что такое истинный фетишизм, позволяющий через знаки и символы вызывать образ желанной женщины.
— А что запомнилось из средиземноморской кухни?
— Суп из мидий. Передо мной поставили большую фарфоровую супницу, полную горячего ароматного бульона, в котором были сварены моллюски прямо в ракушках, с добавлением специй. Нужно было черпать бульон серебряным половничком, переливать в пиалу и отпивать небольшими глотками, чтобы не обжечься. Вы не поверите, я пережил небывалое гастрономическое сладострастие. Бульон так возбуждал слизистую оболочку рта, что его хотелось пить и вкушать без остановки. Я наливал себе еще и еще, гортань и язык пылали неутолимым наслаждением, которое с каждой новой пиалой лишь разгоралось. Я понимал, что околдован, что меня опоили каким-то волшебным отваром, но не мог прервать вожделение. Думаю, бульон приготовили по какому-то древнему эллинскому рецепту, доводившему до экстаза Перикла и Фемистокла. Я вычерпал всю супницу, пока на дне не открылась горсть черно-лиловых раковин. Громадным усилием воли запретил себе брать руками эти благоухающие продолговатые створки, вырывать из них розоватые, пряные язычки.
Коробейников наслаждался законченностью образа утонченного гедониста, которого можно было писать прямо с натуры. Умное надменно-ироничное лицо кавказца, покрытое бронзовым загаром, выдавало в нем эстета, знатока философских учений, умеющего среди грубой, наскучившей реальности совершать редчайшие, Доступные немногим открытия, делающие жизнь чередой непрерывных развлечений, удовольствий, услад, добытых ценою усилий, денег, а иногда — преступлений. Он напоминал искателя приключений, какими изобиловали итальянские города во времена Казановы. Художник, дуэлянт, неистощимый любовник и тайный агент, который, выйдя из дамского будуара, еще пахнущий духами, с незастегнутым камзолом, мог обрядиться в сутану иезуита и с папским посланием отправиться на другой конец света. Он источал ядовитую привлекательность, как отравленный клинок, предчувствующий упругость жаркой разрезаемой плоти.
— А что господин Лучиано? — как бы невзначай поинтересовался Марк. — Успел он что-нибудь сообщить среди застолий, спектаклей марионеток, прогулок на яхте «Святая Лукреция»?
— Он передал мне выдержки из секретного доклада Римского клуба, посвященного возможностям реформировать советскую экономику по образцу западной. Назвал имена наших экономистов, политиков и технических экспертов, с кем бы они хотели иметь дело. Сказал, что в клубе существует понимание громадных трудностей, сопутствующих такой перестройке. Что она потребует своеобразного «Плана Маршалла» для России. Необходимо время, чтобы среди советской элиты сформировался слой, готовый начать перестройку.
— Если вам не трудно, подготовьте краткий отчет о поездке. Разумеется, в одном экземпляре, — сухо, с начальствующей интонацией произнес Марк и тут же изменил тон на дружественный, обволакивающе-комплиментарный. — И какова же была культурная программа на яхте? Я помню, там есть замечательный бар, выложенный мрамором из какого-то храма, принадлежащего крито-микенской культуре.
— Меня развлекали ночной рыбалкой с подсветкой моря. С палубы вывесили огромный аметистовый светильник, который озарял воду на большую глубину. На его лучи всплывали морские твари, огромные усатые рыбины, громадные жемчужные медузы. Мерещилось, вот-вот увижу зеленые волосы прекрасной наяды, ее голые блестящие плечи и обнаженную грудь. Я закинул удочку и вытащил небольшого розового осьминога. Он сорвался с крючка и упал на палубу, завивая кольцами свои щупальца. Матрос поднял его и ударил о палубу. До сих пор слышу этот хрустящий, сочный, хлюпающий звук, лишающий осьминога жизни.
Коробейников лишь догадывался, что из этой московской гостиной тянутся тайные нити в мир, где существуют неназванные Центры, безымянные клубы и общества, в которых заседают неведомые миру люди, чьи имена не значатся в списках президентов и премьер-министров, богатых банкиров и могущественных промышленников. Их власть над миром сильнее власти денег, разведок и армий. Зиждется на древнем неписаном договоре, передаваемом из поколения в поколение, из эпохи в эпоху, где действует магический ритуал, каббалистический символ, таинственная шпага, тихо шуршащая мантия. И все, кто собрался в этой уютной гостиной, узнают друг друга по тайному знаку, по тихому поклону, по скрещенным пальцам, по положению разъятых ступней. И он, Коробейников, введенный в этот круг, не должен ли так же, как Исаков, соединить стопы пятками и широко раздвинуть мыски? Или, как Заметин, сплести пальцы на левой руке в странное троеперстие, изображающее единство воздуха, воды и огня?
— Мы, конечно, люди простецкие. Охотимся не на осьминогов, а все больше на кабанов и лосей. Никакого там бара из родосского мрамора, а просто избушка бревенчатая, водочка охлажденная. Никаких там мидий или устриц, а сковородку на угли шмяк, кровь кабанью налил, лучок покрошил и ешь, пальчики облизывай, стаканчик успевай подымать. — Заметин, разыгрывая простака, крутил фарфоровой головкой без всяких признаков бороды, с яблочками румянца, голубыми, моргающими, как у китайского болванчика, глазками.
— Да, ведь вы же ездили с маршалом Гречко на лосиную охоту в Завидово, — подхватил Марк, обращая все свое внимание на Заметина и словно забывая о предыдущем собеседнике. — Ну что маршал, хорошо стреляет? Я слышал, у него стало катастрофически падать зрение? — Марк оглянулся на присутствующего здесь кремлевского медика Миазова, давая понять, откуда у него сведения о здоровье министра обороны.
— Стреляет в очках с двумя окулярами. А может, просто на звук. Егеря поставили его на первый номер, так что бык прямо на него вышел. Маршал в него из карабина три пули всадил. Подошел к лосю, открыл ему мертвый глаз и долго всматривался. «У лосей, — говорит, — человечьи глаза. И слез много». Сел в телегу, на которую тушу взвалили. «Чтобы греться», — прижался к лосю и грелся, пока в быке тепло оставалось. Егеря на дворе свежевали зверя, печень и сердце из него доставали, мы с маршалом на бильярде играли. В двойных окулярах, а шары кладет без промаха, как снайпер.
Заметин производил впечатление человека, использующего свои жизненные силы для какой-то одной, напряженной, всепоглощающей цели, так что этих витальных сил не хватало на пигмент глаз, волосяной покров, гемоглобин щек, а все они шли на поддержание мыслительной функции. Его простецкая манера держаться была маскировкой, под которой скрывалась точная, осторожная, проницательная натура, поднаторевшая в рискованных политических комбинациях, где неосторожный, шаг, неверный контакт, неправильно истолкованный намек стоил репутации, карьеры, а быть может, и жизни.
— А как вел себя на охоте адмирал Вудроф? — поинтересовался Марк.
— Мы уединились с ним в беседке и обсудили некоторые аспекты прекращения гонки вооружений. В переговорном процессе важна достоверность данных о числе ракет и боеголовок у каждого из противников. А эту достоверность может подтвердить только разведка. Экспертная группа, состоящая из разведчиков обеих сторон, будет гарантией честного ведения переговоров. Адмирал употребил важный термин — «конвергенция разведок». Как я его понял, клуб объединенных разведок мог бы явиться неформальным органом, под патронажем которого могли бы вестись переговоры о конвергенции политической. Там, где бессильны публичные политики и набившие оскомину идеологи, эффективно разведывательное сообщество.
— Это сверхважно, — взволнованно произнес Марк Солим. — Об этой встрече немедленно должен узнать Юрий Владимирович.
— Я уже направил Андропову запись разговора с Вудрофом.
Коробейников, не понимая всей сути услышанного, прозревал устройство невидимого механизма, когда неповоротливые, громадные массивы явлений — тяжеловесные армии, упрятанные в шахты ракеты, неуклюжая, ведущаяся из года в год пропаганда, сеющая недоверие и страх, — приводятся в движение негромко сказанным словом, тайной встречей, брошенным вскользь намеком. Слабые, умело приложенные силы поворачивают громадные колеса истории, сдвигают материки, перемещают границы. В этой уютной московской гостиной находится невидимый пульт, на который жмут бесшумные тихие пальцы. От этих осторожных нажатий корабль истории меняет курс на ничтожные доли градуса, приплывая в конце концов совсем в другой порт. Заметин, похожий на фарфорового болванчика, мог значить для истории больше, чем генералы ракетных войск, подводные лодки новейших проектов или локальный конфликт.
— Ну а что нам ждать от «лаборатории бессмертия»? — Марк Солим обратился к доктору Миазову, который спокойно рассматривал окружающих, словно перед ним собрались его пациенты.
— Мы открываем чудесное отделение клинической терапии, где все оборудование создано на отечественных электронно-космических заводах, — ответил доктор так, как если бы делал краткий научный отчет. — Старость чем-то напоминает выход в открытый Космос. Становятся ненужными прежние функции жизни. Возникает потребность в новых, доселе отсутствовавших. Геронтология — это наука о вечной жизни, где человек, по мере старения, меняет среду обитания. Мы создаем аппараты, где создается среда, способствующая бесконечному продлению жизни. Только что установили барокамеру из титана, где пациент подвергается целебному воздействию кислорода, аномальное давление в сосудах сердца и головного мозга уравновешивается давлением в камере, в дыхательную смесь добавляются необходимые ионы и катионы, а ультрафиолетовые источники уничтожают вредоносную флору и фауну. Очень красивая барокамера напоминает космический аппарат. Думаю, через пару недель мы сможем пропустить через камеру всех членов Политбюро и секретарей ЦК.
— Нельзя ли и нам, хотя бы в ночное время, когда Политбюро спит, воспользоваться чудодейственной камерой? — мягко пошутил Марк.
— Приглашаю. Если вы здоровы, то испытаете блаженство. Если больны, почувствуете облегчение. В этой камере можно делать операции, принимать роды, снимать болевые шоки и психологические стрессы. Я провел эксперимент на себе. Заснул в камере, и мне снилось, что я летаю.
— Значит ли это, что вы помещаете в камеру секретаря ЦК, а через час выпускаете из нее летающего ангела? — наивно мигая голубыми глазками, спросил Заметин.
— В принципе, теория утверждает, что возможно создание таких условий, в которых наступает быстрая регенерация органов. У человека, хранящего в себе архетип птицы, могут вырасти крылья. Аппеляция к прарыбе может привести к появлению жабр. Человек, погруженный в архаическое, может покрыться волосяным покровом. Или, напротив, ускоренно эволюционируя, утратит волосы. Он даже может при известных условиях поменять пол. — Миазов говорил серьезно, словно учил студентов. И только в проницательных умных глазах блестела целлулоидная искорка смеха.
— Будьте очень осторожны с вашим изобретением. Иначе в Политбюро могут появиться пожилые женщины, — заметил Гришиани.
Все засмеялись, пригубили виски. Качали головами, представляя, как на заседание Политбюро, вместо медлительных, стареющих мужчин входят энергичные, с промытыми морщинами, старухи.
— Кстати, в прошлый раз вы упомянули о диагнозе «Первого», — мимолетно, словно о чем-то незначительном и нестоящем, спросил Марк Солим Миазова. — Он подтверждается?
— Развивается гипертония и прогрессирует отек печени, — сухо ответил Миазов.
— А у «Третьего»?
— Признаки язвы желудка и отложения в аорте.
— Вы говорили о тревожных симптомах у «Шестого».
— Они никуда не делись. Все признаки нарастающей опухоли.
— А как проходит лечение «Четвертого»?
— Вы же знаете, почка — его слабое место. Зато сердце отличное.
Они замолчали. Коробейников видел, как на лицах присутствующих отражается сосредоточенная работа ума. Словно каждый в отдельности решал математическую задачу, где «Первый», «Третий», «Шестой» входили в сложное уравнение со многими переменными, коими являлись сердечные приступы и нервные расстройства, микроинфаркты и злокачественные образования. Это уравнение описывало положение самых крупных политических фигур на шахматной доске власти, где они перемещались, менялись местами, выбивали друг друга из клеток. Ослабевали или усиливались. Образовывали замысловатые комбинации, объединяя многих против одного. Снимали с доски неугодного. Возвеличивали второстепенную пешку, делая ее проходной. Болезни тех, кто стоял на Мавзолее в дни государственных праздников, были невидимы из ликующих, проходящих мимо колонн. Являлись причинами роста или падения. Выстраивали политических лидеров в иерархию пациентов, над каждым из которых витал диагноз. Иерархия власти оказывалась иерархией недугов, а история государства была во многом историей болезней утомленных вождей и правителей.
Коробейникову вдруг явилась ужаснувшая его мысль. Благообразный моложавый Миазов владел государственной тайной, сравнимой с дислокацией ракетных шахт и районами патрулирования подводных лодок. Был способен предсказать уход из жизни вождя, смену политического курса, очередные государственные похороны. Контролируя опухоли и язвы, старческое слабоумие и отложение солей, помещал немолодых изнуренных политиков под капельницы, прописывал оздоровительные массажи и родоновые ванны. Мог незаметно, исполняя рекомендации незримых советников, замедлить или ускорить болезнь. Вносил в алгебраическое уравнение малую переменную, менявшую весь контур власти.
Здесь, в этой благообразной гостиной, собрались советники и наставники Миазова, после встречи с которыми бесстрастная рука кремлевского лекаря выписывала рецепт секретарю ЦК, назначала процедуру члену Политбюро. И если заглянуть в секретную картотеку Марка Солима, не значится ли в ней никому не известный партиец, второй секретарь обкома Красноярского или Ставропольского края, которому через десять лет, после десятка государственных погребений, уготована роль первого человека в стране? Не заведена ли на него еще почти пустая «история болезни», где не значится ничего, кроме плоскостопия, отсутствия «зуба мудрости», слабого изменения пигмента на кожном покрове лба?
В дверях появилась Елена. Вошла без звонка, видимо, воспользовалась ключом. Ее появление застало Коробейникова врасплох. Ощутил пустоту в груди, среди которой испуганно, редко ухало сердце. Искал ее взгляд, тайную, обращенную к нему радость. Но ничего подобного не было. Она была красива, свежа, тонкое, продолговатое лицо чуть разрумянилось от холодного ветра. Держалась со всеми приветливо-ровно, дарила каждого ласковым взглядом зелено-серых внимательных глаз.
— Девица-краса! — Исаков вскочил, топтался в носках, сжимал ее руку своими пухлыми, сдобными ладонями.
— Вас так не хватало, сеньора! — Гришиани элегантно склонил голову и осторожно поцеловал ее пальцы.
— Марк, не ревнуйте! — Заметин потянулся к Елене, потерся о ее щеку своей белой безволосой щекой.
Доктор Миазов взял ее запястье и держал, щупая пульс:
— Душа моя, вас можно демонстрировать как эталон красоты и здоровья!
Елена пожала руку сначала Андрею, а потом и ему, Коробейникову. Пожатие было незначащим, лицо бесстрастным, с любезно-равнодушной улыбкой. Он изумился: неужели это она сидела с ним рядом в машине, покорная, сдавшаяся, с умоляющим взглядом? Неужели эту тонкую серебряную цепочку он хватал у нее на груди жадными губами? Неужели под легким стянутым шелком находится ее горячий, белый, дышащий живот?
Ни тени смущения. Ни намека, ни жеста, выдававшего их недавнюю близость. Гордая голова, с откинутым золотистым пучком волос. Равная ко всем, милостивая улыбка. Мерцающие под люстрой великолепные прищуренные глаза. Случившееся между ними на лесной опушке не имело продолжения. И Коробейникову на миг показалось, что их приключение было всего лишь ритуалом «посвящения в рыцари». Сопутствовало введению в этот загадочный масонский кружок, и каждый, кто здесь присутствовал, прошел через этот обряд.
— Кстати, если вернуться к нашей восточной политике, — Заметин аппетитно почмокал пунцовыми губками, поморгал кукольными голубыми глазами, — похоже, ситуация на китайской границе сама собой накаляется. На Уссури, южнее Хабаровска, китайцы высаживаются на принадлежащие нам острова. Приходится их оттуда со скандалом вылавливать. В Казахстане уйгуры гоняют скот по нашей земле, и это тоже приводит к столкновениям, к кулачным боям. Вопрос, не перегибаем ли палку?
— В любом случае напряженность с маоистским Китаем компенсирует наше охлаждение с Западом, возвращая политику к золотой середине, — многозначительно заметил Исаков. — Этим конфликтом мы как бы подчеркиваем: «Нам не подходит железный вариант коммунизма, и наша расправа с пражской весной — лишь временный, преодолимый кризис».
— На Мальте, кроме прочего, мы коснулись советско-китайских отношений, — произнес Гришиани. — Мне было сказано, что союз СССР и Китая затруднит процесс разоружении. Ибо Китай находится в самом начале своей ракетно-ядерной программы и будет не склонен идти на ограничения.
— Поскольку на восточном направлении накапливается множество эмпирических фактов, их следует подвергнуть тщательному обобщению. О чем я уже просил наших друзей из Институтов стран Азии и Африки, США и Канады, Приваков и Ардатов подготовили записки в КГБ и ЦК. — Марк Солим точно и моментально фиксировал малейшие оттенки разговора. — В этой связи я предлагаю дать нашему китайскому проекту условное обозначение — «пекинская опера».
— Почему так? — поинтересовался Гришиани.
— Представьте себе фигуры в долгополых древних одеяниях. Лица, покрытые слоем белил, на которых выведены огненные красные губы. Трагически воздеты иссиня-черные брови. Движения напоминают порывистую, с замиранием, готовую взлететь птицу. И странная музыка, похожая на звуки тонких, повизгивающих пил. — Марк Солим, грузный, седовласый, в домашнем джемпере, вдруг замер посредине комнаты. Его мясистое розовое лицо мертвенно побледнело, словно его посыпали мукой. Брови страдальчески изогнулись. Губы стали плоские и пунцовые, как у маски. Он сделал несколько волнообразных движений руками, резко повернулся и замер, похожий на чуткую, сидящую на ветке птицу. Издал печальный, стонущий, дребезжащий звук, и по гостиной поплыла загадочная, в белых одеяниях кукла, в черном парике, с торчащими костяными булавками, похожая на призрак, под странную мелодию дрожащих струни унылых стонущих флейт.
Преображение было столь чудесным, что гости вначале обомлели, а потом дружно зааплодировали.
— Марк, вы кудесник! — восторгался Гришиани.
— Фокусник, иллюзионист! — хлопал в ладоши Заметан.
— Магическое воздействие «пекинской оперы» в двойной абстракции восприятия. — Марк вновь вернул себе облик благодушного московского домоседа. — Когда кукла играет человека, происходит абстрагирование человеческих качеств и создается упрощенный образ, остро волнующий зрителя. Но когда живой актер начинает играть куклу, то упрощается и абстрагируется сама кукла, до этого уже упростившая подлинного человека, отобравшая у него живую плоть. Эта двойная стерилизация действует на сознание ошеломляюще, как если бы вместо живого тела показали не просто скелет, а скелет раскрашенный. Там, где европеец мыслит позитивными категориями живой, естественной личности, китаец оперирует категориями человека, играющего куклу, которая до этого уже сыграла человека. Это и есть «теория двойной условности», которую я очень ценю.
— Это и есть настоящая пропаганда, когда воздействуют на глубинное подсознание, проникая сквозь поверхностные слои первичных впечатлений. — Исаков возбужденно двигал ногами в носках. — Об этом мне читали лекции в Колумбийском университете.
— Я думаю, европейское искусство получит свой аналог «пекинской оперы». — Марк, воодушевленный вниманием, продолжал развивать теорию «двойной условности», которая казалась Коробейникову теорией колдовства, ворожбы и магических таинств. — Робот — это механическая, электронная кукла, имитирующая человека. Артист, играющий робота, играет машину, которая до этого уже сыграла человека, что приводит к двойной абстракции. — Он вновь преобразился, превратившись из грузного, благодушного барина в механический аналог человека, резкий, импульсивный, покрытый панцирем, в скафандре. Вращал шарнирами и сочленениями, мигал на голове индикаторами. Перемещался по комнате прерывистыми, дискретными движениями, издавая утробные, мембранные звуки: — По-жа-луй-ста, налей-те вис-ки… На-лей-те вис-ки…
Все снова аплодировали. Елена любовалась мужем, невольно копируя его движениями плеч, подбородка. У Коробейникова голова шла кругом от превращений, совершаемых в этой московской квартире, пространство которой расслаивалось, обнаруживая иную геометрию, преломлявшую лучи, как в волшебной призме, создавая иллюзии и обманы.
В прихожей раздался настойчивый длинный звонок. Марк, словно рыцарь, вылезающий из доспехов, сбросил образ робота, поспешил открывать.
Появился Стремжинский. Шумный, возбужденный, навеселе, с полураспущенным галстуком. Оглядел всех хохочущими красноватыми глазами, выбирая, к кому обратиться первому. Выбрал Елену:
— Марк, ты думаешь, почему я к тебе прихожу? Чтобы засвидетельствовать почтение твоей великолепной жене! — Он держал Елену за обе руки, поочередно покрывая их поцелуями. — Елена, милая, вас нужно поместить в «алмазный фонд» и приставить охрану с сигнализацией!
Вторым, на кого обрушилась его шумная энергия, оказался Исаков.
— Как вам удается так тонко балансировать между жидофилами и жидоморами? Побьют и те, и другие!
Следующим под руку попался Гришиани:
— Ваш любимый художник Дега? Почему? Да по тому, что он, как никто, рисовал голые ножки балерин!
Обойдя своим вниманием Заметана, он предстал перед Миазовым:
— Дышите!.. Не дышите!.. Любезный доктор, кажется, я уже мертв, но все еще существую… Хотите, я вам завещаю мой скелет?
Он бегло кивнул Андрею и воззрился на Коробейникова, расставив руки, словно тот хотел убежать:
— Ба-ба-ба!.. Молодое дарование… Вы тоже приходите, чтобы полюбоваться на хозяйку дома?.. А где заявление в партию? Вы что, брезгуете состоять вместе с нами в родной коммунистической партии?
Все это он говорил бурно и бестолково, не дожидаясь ответа, поворачиваясь под люстрой во все стороны, полагая, что остроумен и неотразим. Желая сгладить неловкость от слишком шумного, невпопад, появления запоздалого гостя, Марк приобнял Стремжинского, усадил на мягкую, без спинок, кушетку:
— Где ты был? Похоже, тебе было там хорошо!
— Я был на Таити, вслед за Гогеном. Одна моя любовница говорит другой: «Ты ревнуешь?» Обе фиолетовые, как виноград, с маленькими белыми пятками, оставляющими на берегу лагуны легкие отпечатки!
— Выпей и успокойся. — Марк протянул Стремжинскому стакан с виски. — Мы как раз обсуждали «китайский проект».
Упоминание о «китайском проекте» не успокоило, а еще больше распалило Стремжинского:
— «Китайский проект»… «Китайский проект»… А я вам говорю, если исполнением этого проекта займется исключительно КГБ, то его результатами воспользуются не политики, не партия, не «клуб реформ», а Лубянка со всеми вытекающими идиотскими последствиями!.. Будьте внимательнее и обратите внимание на тенденцию… Все меньше влияния у партии, все больше у КГБ… Это еще не свершившийся факт, но ведь сами говорите: «Мы ловим тенденции»… Ловите, а не то будете пойманы…
— Ошибаетесь, такой тенденции нет. Вы утрируете, — возразил Заметин, морщась от заявления Стремжинского, которое не разделял и которое причиняло ему страдание.
— А я вам говорю, наденьте на свой большой «цековский» нос очки… КГБ рвется к власти… Этот рывок еще не виден, ибо находится в стадии сжатых мускулов. Как у гепарда. Но прыжок состоится… Берия почти привел госбезопасность к вершинам власти, но у него вовремя отняли шляпу. Теперь госбезопасность стремится к реваншу. Мы очнемся, когда гепард опустится нам на загривок… Повторяю, нельзя поручать КГБ реформы, ибо мы получим вторую Венгрию и вторую Прагу…
— У вас разыгралось воображение. Тому виной ваши фиолетовые островитянки, — пытался урезонить его Исаков, слегка набычась, давая понять, что не принимает безумные высказывания Стремжинского.
— Вот что я вам скажу… У меня репрессирована вся родня. Мой дядя Павел Стремжинский — выдающийся экономист, создававший теорию экономики социализма. Читал лекции в Оксфорде. Его арестовали как врага народа и английского шпиона. Не расстреляли, нет, а забили насмерть камнями. Размозжили булыжником голову, чтобы не думал. Не исключаю, что такая же участь ожидает и нас. Весьма возможно, что наш кружок спровоцирован КГБ. В конце концов, каждому из нас разобьют булыжником голову.
— Но вы же сами добиваетесь встречи с Юрием Владимировичем? Неужели для того, чтобы все это ему сказать? — с возмущением произнес Гришиани.
— Пусть ответит наш кремлевский эскулап: в каком состоянии находится почка Юрия Владимировича? К моменту, когда КГБ достигнет вершины власти, почка Андропова перестанет существовать. Реформы под контролем КГБ — это огромный сливной бачок, куда сольют страну…
Он вдруг смолк, обмяк. Бессильно ссутулил плечи, опустил веки на красные бычьи глаза. Казалось, что он упадет со своей кушетки на пол. Его оставили в покое, старались не замечать. Говорили о пустяках.
— Вот молится еврей, — рассказывал анекдот Исаков. — «Господи, дай мне смерти!.. Хочу смерти, Господи!.. Господи, смерти прошу!.. Не для себя прошу!..»
Все хохотали. Стали собираться. Устремились в прихожую, разбирая плащи и пальто. Осоловевший Стремжинский обнял Марка, безнадежно тряхнул руками, вывалился на лестничную площадку.
— Пора и нам, — сказал Андрей, тихо улыбаясь Коробейникову. — А то как в «пекинской опере». Стремжинский играет куклу Стремжинского.
Коробейников оценил тонкую, незлую иронию Андрея, еще раз убеждаясь в его мягкости и интеллигентности.
— Леночка, вызови мне такси, — попросил жену Марк. — Через сорок минуту и мне на Ленинградский вокзал.
— У меня есть машина, — неожиданно для себя сказал Коробейников. — Если не возражаете, я вас довезу.
— Прекрасно! — воскликнул Марк. — С удовольствием воспользуюсь вашей машиной.
31
Марк облачился в модное длинное пальто, повязал малиновый шарф, легкомысленно и изящно надел на пышную шевелюру модный берет. Накинул через плечо ремень дорожной сумки, вальяжный, элегантный, напоминающий художника. Елена поправляла ему шарф, укладывала под берет непослушную седую прядь. Они вдвоем почти не замечали Коробейникова. Опускаясь в лифте, нежно прижались друг к другу. Коробейников правил «Строптивой Мариеттой», в зеркало наблюдая, как они разговаривают на заднем сиденье, смеются, касаются друг друга плечами, словно молодожены, не успевшие наговориться и насытиться друг другом.
Площадь трех вокзалов в этот ночной час продолжала сверкать, вспыхивала фарами, зелеными и синими искрами проходивших трамваев, желтым пунктиром текущей по мосту электрички. Кишела темной толпой. Справа громоздился золотой мозаичный терем Казанского вокзала, от которого поезда уходили за Урал, в рыжие пески Средней Азии, в туманную голубизну Тихого океана. Казалось, из него на площадь валят смуглые, косоглазые толпы, тюбетейки, бурнусы, стеганые халаты, цокают ослики, скрипят арбы, качают головами величавые верблюды.
Ярославский вокзал напоминал перламутровую раковину, привезенную с северного побережья полуночных морей. Сказочный, изразцовый, казался театральной декорацией из «Садко» и «Хованщины». Если заглянуть под его своды, то увидишь бородатых бояр в соболях и драгоценных каменьях, стрельцов в красных кафтанах, монахов в клобуках и мантиях, царя в пышной ризе: картинно опираясь на посох, поет знаменитую арию, прижимая к груди руку в перстнях.
Ленинградский вокзал был частью Невского проспекта, начинавшегося в Москве. Шагни на ступени, пройди сквозь сутолоку пассажиров, носильщиков, нарядных морских офицеров, интеллигентных стареющих женщин с печальными, поблекшими, сугубо ленинградскими лицами, и по другую сторону откроется великолепный проспект, дворцы на Фонтанке, в сиреневой дымке туманная золотая игла.
На перроне стояла «Красная стрела», умытая, холеная, с глазурованным блеском готовых тронуться вагонов. Пахло сернистым дымом каменного угля. Татары-носильщики катили груженные чемоданами тележки, блестели бляхами, гортанно переговариваясь на ходу.
Отыскали нужный вагон. Марк, поглядывая на вокзальные часы, давал жене последние наставления:
— Должны позвонить из Комитета защиты мира. Скажи, что состав делегации я утвердил, пусть сообщают в Копенгаген… — Елена кивала как исполнительная секретарша, готовая выполнить указания шефа. — Если позвонят из Общества дружбы, пусть не созывают собрания до моего возвращения. А то опять не тех, кого нужно, назначат… — Елена понимающе кивала, посвященная в дела мужа жена, единомышленница и помощница. — Если пришлют приглашение из Театрального общества, позвони кому-нибудь в «Современник». Скажи, что положительную рецензию я заказал…
— Все сделаю, — успокаивала его Елена, поправляя на груди Марка шарф, чтобы не продул холодный сырой ветер.
— Ну а вы, мой друг, — обратился Марк к Коробейникову, — подумайте над моим предложением. Вернусь через пару дней, и, если вы согласны написать «красный акафист», я соединю вас с редактором, который отвечает за трансляцию с Красной площади.
Буду думать, — ответил Коробейников, видя, как дрогнула стрелка в желтом циферблате часов, как стайка морячков потянулась к соседнему вагону, цепляясь за поручни. Проводник в черной шинели равнодушно смотрел на сцену расставания:
— Через минуту отправление. Пассажирам занять места в вагоне.
— До свидания! — Марк притянул к себе Елену, быстро, сладостно целуя ее в губы. — До скорого! — по-товарищески кивнул Коробейникову и грузно, с изяществом пожилого маститого мэтра, шагнул в вагон. Через минуту появился в желтом запотевшем окне, снимая берет, разматывая шарф.
Поезд беззвучно, мягко тронулся, медленно поплыл. Окно сместилось. В нем Марк прикладывал ладони к груди, посылал воздушные поцелуи. Елена шла вслед за вагоном, удаляясь от Коробейникова. Все быстрей и быстрей, ускоряя шаг, попадая в свет фонаря и снова погружаясь в тень. Остановилась, обращенная лицом к удалявшемуся поезду, к красному хвостовому огню, который, словно сочная ягода, катился над блестящими голыми рельсами. Еще пахло едким дымком. Мимо носильщики толкали пустые тележки. Провожающие покидали перрон. Елена стояла в отдалении под фонарем спиной к Коробейникову, провожая далекую красную ягоду.
Он медленно приблизился, глядя на металлические белые рельсы, убегающие далеко, в туманную тьму, из которой светили низкие фиолетовые огни, как глаза изумленных животных. Елена медленно оборачивалась, и он совсем близко, под фонарем, увидел ее бледное лицо, худое, лихорадочное, с дрожащими губами, темными, сверкающими глазами.
— Ну что? — глухо произнесла она.
Изумляясь этому глухому, без переливов, страстному голосу, он захотел тут же, на перроне, у всех на виду, обнять ее, поцеловать. Закрепить этим грубым, напоказ, поцелуем свое на нее право, отобрать ее у исчезнувшего в вагоне Марка, отделить от блестящей колеи, по которой еще совсем недавно, отражаясь, уплывал красный огонь. Понял, что все это время, все эти суматошные дни, весь продолжительный, наполненный разглагольствованиями вечер, страстно ее желал, ревновал, по-звериному, чутко ждал, когда она останется одна, будет принадлежать ему одному, нераздельно. Взял ее крепко под руку, повлек по перрону.
Молча, не глядя друг на друга, поднялись в лифте. Вошли в прихожую. В гостиной горел свет, стояли сдвинутые с места кресла, тележка с бутылками. На паркете, усыпанные пеплом, оставались пепельницы. Под люстрой витал дым, храня обеззвученные голоса, изреченные мысли, тени тех, кто еще недавно наполнял дом.
Слепо совлекали с себя плащи, роняя их тут же, около вешалки. Елена шагнула к затворенной двери в спальню, включила свет. Коробейников жадно, дерзко ступил в розовое пышное пространство, сверкающее зеркалами, с просторной шелковистой кроватью, в запретный, заповедный, с волнующими запахами мир, о котором помышлял с греховной, сладостной неотступностью. Раздевались, отворачиваясь друг от друга. Задыхаясь, сбрасывая рубаху, расстегивая ремень, он видел в зеркалах ее отражение, бесконечно повторяемое, уходящее вдаль, открывающее со всех сторон ее белизну, полные, в наклоне, груди, изогнутый гибкий желоб спины, на которую хлынули распущенные волосы, ее сильные, с округлыми коленями, переступающие ноги, оставляющие на ковре легкий ворох белья. Она повернулась к нему, яркая, ослепительная, с блестящими сине-зелеными глазами, словно появилась из розового тумана и стеклянного слепящего света. Он шагнул, обнимая, чувствуя тепло, мягкость, благоухание великолепного, принадлежащего ему тела, и они упали в глубину необъятной кровати, на шелковое покрывало, проваливаясь в розовые волны. И он ослеп и задохнулся. И хрустали, стекло, шелковое покрывало, душный горячий воздух, рассыпанные волосы вокруг кричащего, с искусанными губами, лица взорвались ослепительным взрывом, как взрывается гибнущее мироздание, расшвыривая длинные сверкающие осколки Вселенной, разбрызгивая млечную плазму. В центре взрыва открылась зияющая пустота, сквозь которую просачивалась исчезающая, бурлящая молния.
Этот взрыв породил сверхплотный, предельно сжатый, моментально исчезающий импульс, который распадался и расслаивался на множество составляющих, на большие и малые гармоники, разноцветные пляшущие синусоиды, каждая из которых уходила в бесконечное прошлое, продлевалась в бесконечном будущем.
В этом будущем он увидел еще не наступившее мгновение, когда слабо приоткроет глаза и в зеркале вознесется и опустится ее медленная, с поникшими пальцами рука. И другое мгновение, которое случится через несколько месяцев, нежно-голубое соленое озеро посреди выжженной голой степи, и вдоль берега тяжело пылит грузовик. И какой-то пестрый восточный город, жаркие сумерки, мимо катит нарядная, похожая на табакерку тележка, в огоньках, погремушках, блестках, бородатый возница посмотрел из-под чалмы сумрачным жгучим взглядом.
Этих видений было не счесть, как цветных черепков от расколовшейся вдребезги вазы, и он, обессиленный, отпускал от себя эти удалявшиеся черепки. Лежал как мертвый, лишенный ракушки моллюск.
— Ты жив? — услышал он ее слабый, нежный, издалека раздавшийся голос.
Не было сил отвечать, повернуться к ней лицом. Лежал без мыслей, без чувств, в темной пустоте, в которой тянулись гаснущие траектории, улетали последние меркнущие частицы.
Ее невидимая рука коснулась затылка. Услышал, как шелестят в волосах ее пальцы. Испытал от прикосновения нежность, благодарность, сладостную беззащитность, словно пальцы ее осторожно проникли в потаенную сердцевину, где еще продолжали пульсировать слабые биения жизни. Она овладела этими биениями. Безропотно, благодарно он вручил ей свою робкую жизнь, свою ослабевшую волю.
Громко, резко зазвонил телефон, стоящий возле кровати на столике. Звук был подобен внезапному визгу циркулярной пилы, рубанувшей по розовой спальне, по его обнаженной спине, по черепу, куда погрузились звенящие зубья.
Елена взяла трубку.
— Нет… — произнесла она тихо, помедлив мгновение. — Нет… — повторила она чуть громче, отвечая на чье-то настойчивое требование. — Да нет, говорю же тебе, я сплю!.. Сплю, одна, и очень устала!.. Не вздумай, сейчас не время!.. Можешь звонить сколько хочешь, я тебе не открою!.. Если в тебе осталась хоть капля благородства, сохранились хоть какие-то родственные чувства, оставь меня в покое!.. Все, вешаю трубку, не вздумай больше звонить!..
Коробейников, не оборачиваясь, услышал, как тихо чмокнул телефон. В зеркале поднялась, подержалась в воздухе ее рука с поникшими пальцами и бессильно опустилась.
Он лежал с открытыми глазами среди недвижного зеркального блеска, словно запаянный в громадную призму.
— Рудольф? — спросил он.
— Да, — отозвалась она.
Больное, опасное, ужасное притаилось рядом, за хрупким зеркальным блеском. Казалось, раздастся звон разбиваемого стекла, и в колючую звездообразную дыру, вместе с осколками, просунется железная башка, похожая на ковш экскаватора, с зубьями, цепями, соскребет их обоих с шелкового покрывала.
— Что он хочет?
— Не знаю…
Где-то рядом, в темном дворе, среди ночных сквозняков, кругами, как волк, бродил Саблин. Караулил у подъезда. Задирал хищное, обостренно чувствующее лицо к высокому, одиноко горящему окну. Обнюхивал дрожащими, ненавидящими ноздрями углы дома, ступени, водостоки, стоящую в тени «Строптивую Мариетту». Вылавливал дразнящие запахи, выискивал следы, дико, ревниво, с зеленым блеском в ночных совиных глазах, старался проникнуть сквозь кладку стены, оконные стекла в розовую зеркальную спальню, оглашая двор тоскливым бессильным воем.
Опять зазвонил звонок, истошно, истерично, в ночной тишине, в недвижном зеркальном блеске, словно с этим звуком просунулась в спальню отточенная блестящая спица, искала обоих на розовой постели, желая проткнуть острием обнаженные тела.
Болезненное, порочное чудилось Коробейникову в этих сумасшедших звонках. Саблин, как и он, Коробейников, поджидал, когда хозяин покинет дом. Быть может, таился в темных углах двора, когда отъезжала «Строптивая Мариетта». Следил за ней из окна другой машины, преследуя до Площади трех вокзалов. Наблюдал из толпы, как Марк в щегольском пальто и берете обнимает на прощанье Елену, как та идет, убыстряя шаг, вдоль сместившегося, поплывшего состава, как уменьшается, отражаясь в блестящих рельсах, малиновая ягода хвостового огня. И не он ли в форме носильщика с металлической бляхой прокатил мимо Коробейникова свою тележку? Не он ли в фуражке таксиста зазывал ночных пассажиров, наблюдал, как садится Елена в «Строптивую Мариетту» и они с Коробейниковым молча, не глядя друг на друга, стремятся в опустелый дом?
Звонок продолжал грохотать, надрывно, без остановки, будто на пустынной улице, в телефонной будке стоял безумный человек, истерично требуя, чтобы его услышали, пустили в дом, дали выход его страданию.
— Скажи, в чем дело? Что у тебя с братом? — спросил Коробейников, когда звонки наконец прервались, как если бы перегорел провод или человек в будке упал без чувств. — Какая между вами тайна?
— Не спрашивай, — ответила она, и он увидел, какая она бледная, несчастная, с поблекшими, выцветшими губами.
— Я хочу знать. Он познакомил нас. Преследует меня. Преследует тебя. Здесь кроется что-то болезненное, может быть, даже преступное. Ты считаешь, я не должен знать?
— Если хочешь, чтобы мы продолжали встречаться, не спрашивай меня об этом. Никогда…
Она лежала бледная, подурневшая. Золотистые волосы вдруг выцвели, приобрели тусклый, серый оттенок, словно в них проступила седина. Переносица утончилась, стала хрупкой, беззащитной, и на ней обозначились тонкие морщинки. Брови болезненно изогнулись, дрожали. Губы, без кровинки, стали синими, а в глазах появился ужас.
— Мне плохо… — сказала она. — Сердце…
Положила ладонь на грудь, в глубине которой стучало, замирало, перевертывалось, начинало бешено колотиться сердце. Не слыша этих прерывистых стуков, он видел, как на ее шее бьется, пульсирует, пропадает и опять возникает прозрачная голубая вена.
— Что с тобой, милая? — испугался он, беря ее руку, чувствуя, как похолодели и мелко дрожат пальцы.
Со мной случается… Сердце… — прошептала она, еще больше бледнея, отворачивая лицо. Видя ее маленькое прелестное ухо с бриллиантовой каплей, которую только что целовал, ее белую чудесную шею с лучистой цепочкой, на которой висела драгоценная ладанка, ее бессильные, длинные, вытянутые вдоль тела руки с голубыми жилками на сгибах, он испугался, что она умрет. Страх за нее, сострадание, паника и бессилие включали в себя отвратительную, пугливую мысль, что она может умереть сейчас, в этой спальне, на мятом шелковом покрывале, и он не будет знать, что делать. Одеваться и трусливо, как преступник, гадко бежать, стараясь не оставить следов? Или, не трогая здесь ничего, не набрасывая покрова на ее обнаженное тело, немедленно куда-то звонить — в больницу или в милицию. Ждать появления чужих людей, которые застанут его в этой спальне, у чужой постели, с чужой женой, которой он дал умереть.
Эта мысль была мерзкой, гадкой. Он с отвращением ее в себе обнаружил и постарался изгнать.
— Я вызову «неотложку»… — Коробейников схватил телефонную трубку, в которой ему почудился притаившийся голос Саблина, его яркие, совиные, навыкате, глаза, которыми он углядел его страх, неблагородный, жалкий порыв.
— Не вызывай… — остановила она его. — Пройдет… Накапай мне капли… в тумбочке…
Он нашел флакон и маленький хрустальный стаканчик. Путаясь, сбиваясь со счета, накапал душистые, пряные капли. Шлепая босыми ногами, сходил на кухню, из чайника долил воды. Принес. Поддерживая ее голову, видя, как мелко дрожат ее веки, помог выпить.
Она откинулась, лежала, прикусив губы, словно боролась со слезами, огорченная своей немощью, беззащитная, среди сильных, здоровых, мучающих ее мужчин. Коробейников испытал острое сострадание, жаркую вину перед ней, слезную нежность. Был готов принять на себя ее несчастья и огорчения, сидеть подле нее, дожидаться ее исцеления, заступаться, беречь.
Понемногу сердце ее успокоилось. Она затихла. Бледная, среди сверкающих жестоких зеркал, лежала, накинув на себя полог покрывала.
— Ступай, — тихо сказала она. — Все хорошо… Спасибо…
Коробейников оделся, поцеловал ее порозовевшие сонные губы. Вышел, щелкнув дверью. Спускался в лифте, переполненный сложными, сменявшими друг друга переживаниями. Страсть и неутолимое влечение сочетались с нежностью и печалью. Острая любовная интрига, в которую он был вовлечен, соседствовала с мучительным недоумением перед лицом нераскрытой больной тайны.
Спустился во двор, ожидая увидеть Саблина, его стерегущую в подворотне тень. Но было пусто, ветрено в каменной теснине двора. Лишь в полосе света, выгнув горбатую спину, промчалась ошалелая бездомная, кошка, породив мысль об оборотне.
Сел в машину, смахнув стеклоочистителями туманную сырость, видя, как оседает на стекло мелкая роса. Выехал на Садовую, липкую, черную, с гирляндами желтых туманных фонарей. Редкие машины мчались, шелестя млечными брызгами. Здание больницы, нежно-зеленое, с белой колоннадой, проплыло мимо, когда он услышал сзади каркающий, хриплый, мегафонный голос, называющий номер его машины, требующий, чтобы он остановился. Оглянулся. На него налетала, разбрызгивая истерические фиолетовые вспышки, милицейская машина с громкоговорителем. Продолжала называть его номер, но уже проносилась мимо, пристраиваясь в хвост другого автомобиля. Он причалил к тротуару, остановился. Вышел, недоумевая.
Улица была пустой, покрыта мокрым лаком, оголенная, среди ночных фасадов, с блестящей паутиной проводов. Казалось, по ней промчался гонец, выкликая грозную весть, от которой шарахалась в стороны жизнь, открывая путь чему-то опасному и неведомому.
Коробейников всматривался в черную, с размытыми фонарями, мглу, где что-то приближалось, пугающее, безымянное, перед чем расступались дома, открывалась пустота, воспаленно горел на перекрестке светофор, поочередно меняя цвет, проливая на черный асфальт зеленые, золотые, малиновые ручьи.
Показался грузовик с большим деревянным коробом, с рыжей мигалкой. Выкатил на перекресток. Из короба медленно выдавилась башня, коснулась троллейбусных проводов, приподняла их, натянула, открыв под ними большие пустоты. Грузовик с мигалкой стоял посреди Садовой, опрыскивая ее апельсиновым соком.
Далеко чуть слышно зашумело, заурчало, застенало. Далекая пустота наполнилась мерцаньем, призрачными вспышками, тонкими истошными всхлипами. Что-то огромное, бесформенно-пугающее выплывало из тьмы. Увеличивалось, приобретало неясные, уродливые очертания. Показались две милицейские машины. Медленно, параллельно приближались, занимая всю проезжую часть, визгливо, наперебой, завывая. И за ними мощно, упорно, охваченный дымом тягач волочил на платформе громадную, укутанную брезентом поклажу. Приблизились, непомерно увеличиваясь в размерах. Толстолобый, окрашенный в рыжее тяжеловоз и громадное, вытянутое, зачехленное пузырящимся брезентом тулово. Накатили, продавливая асфальт, сотрясая фасады, заставляя звенеть окна. Коробейников потрясенно смотрел, как пузырится и морщится брезент, скрывающий невидимого исполина. Дохнуло жаркой соляркой, мокрой военной тканью, запахом металла, масел, тонких лаков, сладковатых химических испарений.
Тулово катилось мимо. Коробейников вдруг подумал, что это везут статую Бамиана, перевозят из далекого афганского ущелья, чтобы поставить в Москве, над речной кручей. Отовсюду будет видна исполинская рыжая статуя с блаженной неземной улыбкой, обращающая к городу молитвенные ладони.
Громада продымила. Вслед за ней опять возникла завывающая милицейская машина. Второй тягач, такой же дымный, ревущий, протащил другое, непомерно длинное, укутанное в балахон изваяние.
Коробейников знал: это были баллистические ракеты новых конструкций, выдавливающие брезент своими рулями и стабилизаторами. Или стратегические гигантские бомбардировщики со снятыми крыльями. Громадные фюзеляжи, предназначенные для полета над Северным полюсом, к другой половине Земли. Их изготовили на одном из московских заводов и теперь везли в загородный испытательный центр, где находились аэродинамическая труба и моторные стенды. Их поместят в потоки и вихри воздуха. Заставят работать их огнедышащие ревущие двигатели.
Все это знал Коробейников. Но эти мистические, закрытые брезентом громады, идущие сквозь ночной спящий город, представлялись ему загадочными хранилищами будущего. Вариантами неосуществленной истории, каждый из которых мог развернуться в ослепительное и прекрасное чудо либо в ужасную вселенскую смерть.
Третье изделие, подобное первым двум, проревело мимо нарядных фасадов, хрупких колонн, узорных окон. Коробейников чувствовал укрытые под уродливым брезентом великолепные, совершенные формы, их металлическую голубоватую наготу, исполинскую женственность, способную родить великолепного сияющего младенца или ужасного, уродливого выкидыша.
Гул и фиолетовый блеск исчезли. Грузовик с оранжевой мигалкой опустил на перекрестке контактную сеть. Коробейников сел в машину и отправился домой в Текстильщики.
Посреди ночи жена открыла ему дверь, и он отразился в лице жены, как в черном зеркале.
Часть четвертая Мозг
32
Пятнистый ангар из ребристого, в военном камуфляже, железа. Металлическая пещера, в которой дремлет огромный невидимый зверь. Его присутствие ощущается сквозь стены словно могучее, переполняющее пещеру давление. Оно натягивает, раздувает железо, Как раздувает кожу громадный, напряженный бицепс. Офицер нажимает кнопку пульта. С тихим урчаньем стальная стена раздвигается, открывая угрюмый зев. Из непроглядной глубины ударяет парная, теплая, уксусно-едкая струя — дух живого спящего зверя. Так из лесной берлоги, из оплавленной снежной дыры излетает вонь могучего лежалого тела, газов, переваренной пищи, свалявшегося влажного меха. В ангаре загорается призрачный тусклый свет, голубые, оранжевые огни. В сумраке, едва различимая, уходящая в глубину, громадная и литая, с округлой сияющей головой, возникает ракета. Мобильная установка, разбуженная для марша по вечерним зимним дорогам, ускользающая от спутников неприятеля, от вражеских систем наведения, от налета его бомбардировщиков и ракет. Подвижная, не подверженная поражению стартплощадка, откуда сорвется и улетит за океан удар возмездия.
Стою на снегу перед стальным камуфлированным логовом. Смотрю на стеклянный воздух, в котором тускло сияет ракета.
Африканская бабочка нимфалида, перебирая лапками, с восходом солнца выбралась из-под мокрого листа. Прилипая к влажной, маслянистой поверхности, замерла в изнеможении. Полная ночной слабости, с охлажденным ворсистым тельцем, была не в силах расправить черно-зеленые узорные крылья. Ее выпуклые, из студенистых ячеек, глаза создавали калейдоскопическое изображение мира, в котором присутствовало множество красных солнц, множество слепящих росинок, множество птиц, пролетевших к близкому, из синих лоскутьев, океану. Бабочка медленно, напрягая тугие кромки, растворила крылья, поворачивая их навстречу лучам. Застыла, окруженная туманными испарениями, чуть заметно дрожа хрупкими усиками. Солнце сушило […] становился горячим и гладким. Черно-зеленые бархатные крылья жадно поглощали лучи. В гибких прожилках взыграли соки. Тельце бабочки, напоенное теплом, сладостно вздрагивало, переливалось ворсинками. Изумрудные полосы крыльев драгоценно, сочно зажглись. Хоботок пульсировал словно крохотная часовая пружинка. Сердце, заключенное в хитиновый панцирь, билось как маленький барабанчик, выстукивая свой пульс среди ритмов лес океана и солнца. Усики чутко ловили запахи влажной земли, древесной коры, пахучей океанской воды. Ощутили сладкое дуновение цветущего в отдалении куста. Дразнящий медовый аромат был пойман усиками, определившими его направление. Бабочка оттолкнулась от теплого листа. Рассекая крыльями воздух, создавая легкие вихри, радостно полетела на волнующий запах нектара, похожая на балерину в изумрудных одеждах.
Громадный тягач с застекленной башкой дракона медленно, на толстенных колесах, выкатывает из ангара ракету. Своим появлением она меняет пространство. Раздвигает окрестные поля и леса. Подымает небо. Продавливает землю. Словно пространство отшатнулось от угрожающего мрачного тулова, требующего для себя непомерного объема, расталкивающего мироздание для огромного прыжка и удара. Тягач с ракетой, охваченный легкими испарениями, окруженный студеным воздухом, медленно выезжает на снег, шевеля колесами, похожими на двенадцать лап. Ему в хвост пристраивается тяжелый фургон — машина связи и электронного обеспечения. Накаленный, постоянно думающий мозг, хранящий в памяти карту земного шара, округлость Земли, параллели и меридианы, среди которых туманится Эйфелева башня, готика Вестминстерского аббатства, арки Колизея, статуя Свободы. Электронный циркуль неутомимо мерит, вращается. Проводит отрезки дуг, воображаемые параболы, прозрачные кривые — от этой лесной поляны до отдаленных, под Гамбургом, аэродромов, пирсов Барселоны с подводными лодками, железнодорожных узлов Антверпена до туманной, едва различимой дымки Нью-Йорка, к которой, приближаясь из космоса, примчится раскаленный болид. Прянет, как кара Господня, расшвыривая небоскребы гигантским взрывом. Накроет город огромной ядовитой медузой. Зарябит взрывной волной поверхность океана, оставляя вместо города оплавленную красную яму, гаснущий синий пепел, гнилые зубы обломанных небоскребов.
Два «бэтээра» занимают место в голове и хвосте колонны. Тягач с ракетой, фургон, транспортеры, зеленые, в металлических гранях, глазастые, низколобые, с могучими мышцами, напоминают громадных ящеров, первобытных хищных рептилий. Неодолимо, угрюмо устремились к добыче, готовы рвать, ударять хвостами, терзать и кроить зубцами.
Стою, наблюдая колонну, готовый занять место в головном «бэтээре».
Ракета укрыта длинным цилиндрическим коконом. Незримая, живая, полусонная, окружена таинственным блуждающим электричеством, беззвучными биениями, пробегающими вдоль громадного тела. Топливо, холодное, черное, готовое вспыхнуть, превратиться в раскаленную плазму, в слепящую огненную метлу, на которой умчится ввысь живущий в ракете демон. Рули управления, драгоценные раструбы и сопла, вписывающие ракету в огромную, проведенную в мироздании дугу. Блок управления с гироскопами, с таинственными веретенами, наматывающими незримую невесомую нить, на которой хрупко подвешена земная жизнь среди туманных лун и светил, недвижных звезд и комет, — крохотная бусинка, выбранная Богом для жизни. Головная часть с полушариями боевого плутония, — машина взрыва, порождающая громадный огненный шар, окруженный бурями, ядовитыми радугами, дымными смерчами, из которых вопиет апостольский голос, возвещая скончание века: «Большая гора, пылающая огнем, низверглась в море, и третья часть моря сделалась кровью…»
Ракета, порождение рук человеческих, коими исполняется замысел Бога. Сначала сотворил землю, всякую жизнь, цветок, «Весну» Боттичелли, розовые губы младенца, а потом содеял ракету, с помощью которой, разочарованный своими творениями, убирает назад созданное им мироздание.
Хватаюсь за железную скобу транспортера. Взлетаю на броню. Погружаюсь в глубину люка. Колонна взревела, двинулась, сотрясая землю. Над моей головой — вырезанное люком зеленое вечернее небо.
Куст на берегу океана казался прозрачным малиновым пламенем от множества раскрывшихся благоухавших соцветий. Пряная листва, корявые, с каплями прозрачной смолы, ветки, розовые колокола цветов источали облако испарений. Его подхватывал ветер океана, уносил к близким зарослям, отдаленным рощам, к волнистым синим холмам. Улавливая молекулы меда, со всех окрестностей мчались бабочки. Куст сотрясался, нежно мерцал, слабо вздрагивал от бесчисленных всплесков, бесшумных ударов, страстных прикосновений. Множество возбужденных крылатых существ врывалось в туманную сладость.
Колыхались, боясь присесть, прозрачные, робкие, как крохотные миражи, папильониды. Черно-алые, сносимые ветром, еще не касались цветка, но уже пьянели от восхитительных дурманов. Водили над вершиной шаткие, зыбкие хороводы.
Полосатые как зебры геспериды маленькими табунами пробирались в блестящие заросли. Впивались лапками в лепестки, разворачивали пружинку хоботка, запускали тончайший зонд в сочную мякоть пестика.
Носились вокруг куста огненно-красные вихри, острокрылые и секущие как алебарды, словно срезали лезвиями соцветья. На мгновение припадали к чашечкам сладкого сока, и тогда удавалось разглядеть удлиненные красные крылья, пурпурные чувственные тельца. Бабочки слизывали липкую капельку и уносились, совершая под солнцем виражи и мертвые петли.
Тяжело и мощно, песчано-желтые, с голубыми кругами, падали на цветы махаоны. Топтали лепестки сильными лапками, окунали в алую глубину глазастые головы, жадно тянули нектар, опустошая до дна сладкую амфору.
Бражники, толстотелые и мохнатые, в сиреневых шубах, с зелеными лопастями, трепетали, не садясь на цветок. Вращая винтами, протягивали к цветку тончайшие трубочки. Насыщались и внезапно исчезали, словно проваливаясь в иное пространство.
Толстоголовки с фиолетовыми переливами взлетали из травы, достигали пламенеющей вершины, окунались всем телом в розовую глубину цветка, который их заглатывал и усыплял. Опивались, замирали, ошеломленные и пресыщенные.
Червонно-красные данаиды сбивали с цветов соперниц, сгребали розовые лепестки, словно мяли батистовые простыни, укладываясь поудобнее. Застывали, раскрывая пленительные жаркие крылья.
Куст трепетал, чуть слышно звенел от множества столкновений. Переливался, наполненный солнцем, бабочками, сладостным вожделением.
Черно-зеленая нимфалида углядела розовый куст, который был явлен множеством алых подобий. Слепо и жадно спланировала на вершину, где покачивался одинокий душистый колокол. Накрыла крыльями амбразуру цветка. Окунула в чашу пестика чуткий хоботок. Чувствовала, как начинают сочиться пьяные струйки, проникают в тельце, превращаясь в тепло, в горячую сладость, в пульсирующую страстную силу. Солнце горело в вышине над кустом, пропитывая бабочку ультрафиолетом. Куст насыщал ее бражным нектаром. Бабочка наполнялась пьянящей радостью, ликующей красотой, божественным вдохновением.
Марш по вечерней лесной дороге с тяжелым ревом и ветром. Колонна, сотрясая землю, несет свои тонны, тусклые цилиндры, бруски. Стальные грани переливаются в свете прожектора. Учебный бой с «диверсантами», атакующими стартплощадку. На обочине взрывы фугасов, клочья пламени, хлопки горячего ветра. Из кустов вырываются красные нити трассеров, летящий уголь гранаты, рваный шматок огня. Прожектор освещает выбегающие на дорогу фигуры, стрелка с гранатометом, автоматчиков, ведущих огонь. «Бэтээры» конвоя принимают бой, вращают стальными башнями, бьют пулеметами. Чувствую дрожь брони, вижу у пулеметного дула белый факел огня. Колонна прорывает засаду, воспаленно светя огнями, мчится в лесах среди мелькающих, заснеженных сосен.
Я часть ревущей подвижной системы из моторов, электронных машин, сверхмощных зарядов. Помещен среди солдат, офицеров, мигающих индикаторов, пиликающих радиостанций. Включен в громадный военный процесс, как его наблюдатель, свидетель. Допущен в святая святых государства. Оно в ракете сконцентрировало свою непомерную мощь, таинственный стратегический замысел, израсходовало на создание ракеты историческое время, спрессованное в боеголовке. Если распилить ракету, как пилят древесный ствол, то на срезе, из годичных колец, из слоев застывшего времени вырвутся конные армии, великие плотины и стройки, победный Сталинград и Берлин. Восстанут и оживут поколения, запрессованные в громадное тело ракеты, сохраненные в ней для будущего воскрешения. Боеголовка, укрытая в кокон, — не оружие Судного дня, не вместилище жуткого взрыва, а дремлющий дивный бутон, в котором притаился цветок еще не расцветшего заповедного будущего.
Я баллистическая ракета с ядерной головной частью. Лежу на платформе в цилиндрическом стальном саркофаге, на котором разводами ветра нарисован мой лик. Мои вытянутые недвижные ноги с гибкими, на шарнирах, ступнями, как ласты, выполняют роль поворотных рулей. Мой пах — вместилище могучего пламени, свирепой толкающей силы, способной вознести меня в пустыню сверкающих звезд, вернуть в дышащее свечение мира. Мое сердце — в непрерывных биениях, чутких неслышных ударах, с крохотной огненной точкой, где записана координата Земли. Фиксирует меня в бесконечном пространстве Вселенной. Моя голова — вместилище гигантского взрыва, откуда в космах огня вырвутся демоны зла, изгрызут и изгложут планету, умчатся с опустошенной Земли вихрями зловонной копоти.
Изгоняю демонов из моей головы. Думаю о Рае небесном. Среди цветущих деревьев ступает розовый олень. Обнаженная женщина на нежной траве дремлет с дивной улыбкой.
Нимфалида, черно-бархатная, с драгоценной зеленой каймой, изумрудной волнистой рябью, пульсировала на цветке нежным мохнатым тельцем. В хитиновой чашечке, как крохотная гроздь, таилась россыпь незрелых яичек. Вскормленная соком цветка, согретая излучением солнца, тревожила бабочку своей неоплодотворенной набухающей силой. Нимфалида страстно повела лакированными кромками крыльев, качнула цветок и взлетела. Понеслась от куста вдоль синевы океана, подхваченная прохладным ветром, раздувавшим ее паруса. Калейдоскопы глаз многократно повторяли лазурь воды, белую пену прибоя, желтый горячий песок, темную зелень леса. Бесчисленные запахи окружали ее. Мельчайшие, пахнущие йодом кристаллики соли. Комочки пыльцы, источавшие пряную сладость. Пылинки праха, оторванные от огромных лесных деревьев. Микроскопические едкие брызги, оставляемые в воздухе другими бабочками, призывавшими самцов с помощью пряностей и благовоний. Нимфалида, ощущая свою привлекательность, свою женскую прелесть и готовность к соитию, напрягла переполненное соками тельце, впрыснула в воздух мельчайшее облачко благовоний, которое было подхвачено ветром и разнеслось по окрестным пространствам.
Летела, описывая на кромке океана и суши волнистую линию. Разбрызгивала микроскопическим пульверизатором душистую влагу. Слышала через пространство солнца и ветра, как на этот запах откликнулся черно-зеленый страстный самец. Обезумел, помчался в погоню. Не мог надышаться, жадно рыл крыльями воздух, отыскивая среди блеска, в огромной пустоте, источник дразнящих благоуханий.
Марш ракеты по безлюдным пространствам, вдали от больших городов, по треугольнику с длиной бедра в сто километров. Мчимся в ночи в дымных снежных полях. Желтые огни деревень. Запах холодного дыма. В сельском клубе танцуют молодые парочки. В избах лежат на печах старики. На скотном дворе, на влажной соломе, дремлет сонное стадо. Все слышат дрожание стекол, глухое трясенье земли — проходит ночная колонна.
Сижу в «бэтээре» на днище, на брошенном толстом матрасе, среди цветных индикаторов. Качаются каски солдат. Сутулятся плечи водителя. Белые фары озаряют лед на проселке.
Я певец государства, художник мощи и силы, жрец сокровенной религии. Описываю мегамашину, ее невиданную красоту и величие, ее непомерную пластику, потаенное, скрытое от глаз совершенство. Силой полученного от Бога таланта мне дано описать ее грубые валы и колеса, громадные рычаги и канаты, драгоценные электронные клеммы, стожильные жгуты волноводов, тончайшие мембраны и пленки, драгоценные кристаллы и стекла. Ее вершина с чашами и зеркалами антенн блуждает в открытом космосе, чертит земные орбиты, ловит свет голубой звезды. Ее корни окунаются в магму, сосут подземные соки, черпают металлы и руды. Ее тонкие щупальца, чуткие световоды проникают в сознание людей, неустанно сосут прану человеческих жизней, питаются мыслями и мечтами людей, их любовью и ненавистью.
Мегамашина — живая, исполнена духа Божественного Промысла. С ее помощью Бог соединил человечество для огромной задуманной им работы по преодолению смерти. Власть, государство, политика, теории революций и обществ — различные приемы и средства для достижения бессмертия. Я, художник, заключенный в броню «бэтээра», среди железных солдатских касок, думаю о мегамашине. Рисую ее божественный образ. Верю в ее благую задачу.
Под снегом, в безвестной братской могиле, дремлют кости солдат. Слабо вздрагивают от гула и рокота, когда мимо проходит колонна. Терпеливо, под тусклым месяцем, ждут своего воскрешения.
Нимфалида услышала бурный шум крыльев, тонкие посвисты вихрей. Тень залоснила солнце, плотный удар скомкал полет. Большой нетерпеливый самец настиг ее и накрыл пластинами крыльев. Мешая взмахам, цепляясь лапками за глянцевитую спинку, целил набухшим кончиком туловища в нежное хвостовое отверстие. Оглушенная ударом, бабочка стала падать. В падении вырвалась из-под хлопающих крыльев самца, прянула в сторону, заметалась среди слепящего света.
Ее пульверизатор продолжал разбрызгивать душистую росу. Самец, обезумев, жадно глотал благовония. Повторял ее иероглифы, броски, вертикальные свечи, стремительные скольжения. Нимфалида мчалась низко над блестящими травами, и за ней с широкими взмахами гнался неукротимый самец. Нимфалида взмыла к вершине огромного дерева, огибая листву, и следом ринулась ввысь черно-зеленая, резная тень. Бабочка облетала стеклянную, с оранжевыми плодами, крону, и неотступно, повторяя ее вензеля и росчерки, гнался безумный самец в черно-траурном, с изумрудной каймой, облачении.
Нагнал над стеклянным куполом дерева. Упал, придавливая зонтиками растопыренных крыльев. Вонзился острыми коготками в мохнатую горбатую спинку. Нимфалида, лишенная возможности лететь, колотила крыльями в тугие крылья самца. Стала падать, планировала, чувствовала, как в тельце ее ударяет напряженная, страстная плоть. Протиснулась внутрь, впрыскивая горячее едкое семя, от которого вся ее нежная, защищенная хитином мякоть стала сотрясаться, дрожать. Не сопротивляясь, спланировала в траву, замирая на стебле. На ней верхом, сложив крылья в плотный черно-изумрудный конус, восседал самец, вталкивая раскаленные, жгучие капельки в ее лоно, переполненное яичками. Огненная роса касалась яичек. Оплодотворенные, они начинали свой рост. Бабочки сидели в траве, сжимали и разжимали спирали хоботков, сотрясали склеенные тельца.
За лесами проплыло зарево удаленного города. В открытом люке — бело-синяя, драгоценная, трепещущая звезда. Вторая сотня километров по пустынным снежным пространствам. В свете прожектора просверкала стеклянным мехом грациозная, перебегавшая дорогу лиса. Сквозь броню, как сквозь линзу, вонзается в бок сфокусированный ледяной язычок, жалит ребро. Колонна мчится в ночи, перепрыгивает пустые поля, перелетает застывшие реки. Кажется, летит над лесами огромный дракон, поджав когтистые лапы, выгибая железный хвост, брызгая в ночь слепящим жестоким светом.
Крохотный придорожный поселок. Старинный монастырь, беленые стены, мучнисто-белая церковь с каменными завитками наличников. Узкое, янтарно-розовое, светящееся окно. За морозными стеклами, среди свечей и лампад, монахи в черных одеждах творят всенощное бдение. Кладут поклоны перед золотыми иконами. Перелистывают тяжелую, с красными буквицами, книгу. Читают апокриф. В нем рассказано о ином бытии, иной возможности жить, иной истории, которая не кончается Страшным судом, падением звезд на землю, океанами крови, но не имеет конца, превращая землю в дивный Рай с бессмертными, достигшими совершенства людьми…
Дремлю, прислонившись плечом к ватному бушлату солдата. Ракета, идущая следом за мной, присутствует в моем сновидении. В ее голове — тихая золотая часовня. Раскрыта священная книга. Краснеет узорная буквица. Ангел с золотыми крылами перелистывает страницу, произносит тягучие, сладкие, как мед, словеса. Второй ангел в прозрачных лунных одеждах летит над броней транспортера.
В морозном небе, среди дымных, мерцающих звезд, скользит чуть заметная искра. Американский спутник-разведчик чертит русское небо, выискивая в полях колонну.
Бабочки-любовники притихли на тонкой травинке, наклонив ее своей тяжестью. Нимфалида выгибала вверх дужку сочного тельца. Самец сладострастно прилип, выдавливая в лоно бабочки клейкие животворные капли. Крылья самца, черные, с изумрудными лампасами, были тесно сжаты. Крылья самки раскрыты, с непрерывной, сладостной дрожью. Казалось, их окружает едва различимое свечение. Крохотные золотистые нимбы сияли над их головами. В нимфалиде созревали малые корпускулы жизни. В каждой таился образ будущей бабочки, микроскопическая изумрудная искра, хрупкий луч невидимой синей звезды, под которой в первые дни творения была создана родоначальница нимфалид.
Самка утолила влечение, поглотила семя самца. Прислушивалась к росту в переполненном жизнями чреве. Теперь самец был ей в бремя. Она попыталась освободиться. Лапки самца, как в судороге, вцепились в нежный загривок. Крылья, как створки раковины, сомкнулись намертво. Он был не в силах прервать наслаждение.
Бабочка, неся на себе самца, медленно поползла по травинке. Как стеклянный луч, мелькнула изумрудная ящерица, ударила в бабочек раздвоенным языком, промахнулась. Нимфалида вспорхнула.
Медленно подымалась вдоль дерева, не в силах освободиться от ноши. С ветки сорвалась шумящая, в переливах синевы, хохлатая птица. Ударила длинным загнутым клювом. Удар достался самцу, сломал ему крылья, оторвал от самки. Смятый самец, пронзенный клювом, исчезал в горле голодной птицы. Самка, почувствовав облегчение, перепуганная птицей, неслась что есть силы, совершая броски и взлеты, с колотящимся крохотным сердцем, с драгоценной живой поклажей, распиравшей мягкое тельце.
Глухая ночь с красным туманным месяцем над кромкой густого леса. Колонна достигла района пуска.
В запретной зоне, окруженная по периметру постами и следящими системами, в бронированной непроницаемой капсуле, таится «координата» — широта и долгота безвестной точки, ускользающе-малой, не отмеченной на карте ни городом, ни хутором, ни деревенским проселком. Сосна с мерцающей сквозь крону звездой, посылающей в «координату» свой голубой хрустальный луч.
Колонна замирает, окруженная ртутным паром, призрачными тенями пробегающих мимо фар автоматчиков. Спрыгиваю в мелкий снег, хрустнувший мерзлыми травами. Регулировщики в белых касках машут флажками, заманивают ракету в лесную белесую просеку. Установка, качаясь, переваливаясь на тяжелых колесах, медленно уходит вперед, неся перед собой пылающий сноп лучей. Озаряет стволы, снег на ветвях, опушку с бурьяном. Машина сопровождения, колыхая коробом, следует в ребристой колее, выдавливая из-под снега воду разбуженного болота. Остаюсь за чертой оцепления, наблюдая приготовления к старту.
«Координата» перенесена в эту лесную русскую глухомань с далекого острова Патмос. Ее взяли чьи-то невидимые ладони, как пригоршню лазурной средиземноморской воды, как горячую белую пыль скалы, и бережно опустили в снег, под корень русской сосны, отмечая место, где апостолу будет явлено скончание времен, конец изъязвленного грехами и пороками мира. Я — апостол, наделенный даром пророчествовать, наблюдаю приготовление к старту термоядерной баллистической ракеты, нацеленной на Нью-Йорк.
«И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как власяница, и луна сделалась красной, как кровь…»
Месяц, красный и дымный, коснулся рогом черного леса. Синим мертвенным светом пылает прожектор. На платформе медленно, черной тяжелой башней, подымается ракета. Смотрю на огромный, выше деревьев, столп. Не верю в Судный час и скончание века. Пророчествую о бесконечной жизни, о «красном рае», о возможности иной, вопреки предсказаньям, истории, которая, подобно ракете, отклонится от расчетного курса, и там, где она коснется земли, возникнет не взрыв, не кромешный вихрь, не адский огонь, а божественный Рай, цветение земли, блаженная, бесконечная жизнь.
Связист с катушкой пробегает мимо, протягивая по снегу телефонный кабель. Слышу его хриплый, простуженный кашель.
Бабочка, переполненная зреющей жизнью, летела ввысь, к вершине дерева, и выше, в ослепительную пустоту, из которой, невидимая днем, сквозь горячий блеск, светила далекая голубая звезда, посылая бабочке первозданный луч.
Небо над деревом клубилось горячим паром. Набегала пепельно-серая туча. На ней горела огненная кромка. В синей сердцевине дрожало и ртутно вспыхивало. Бабочка летела к туче, словно хотела пробиться к далекой звезде. Небо треснуло, слепящий длинный рубец пролег по туче. Ливень рухнул внезапно, сначала толстыми стеклянными струями, а потом все гуще, темней, непроглядной, шумной стеной.
Литая капля ударила в бабочку, оглушила. Вторая сбила, пропитала крылья холодной влагой, помчала вниз вместе с громом и шорохом. Бабочка ударилась о мокрую ветку, зацепилась лапками, окруженная хлещущим ливнем. Среди брызг, шумных всплесков, едва передвигаясь, заползла под широкий лист, повисла вниз головой, сложив тесно крылья, спрятав в недрах пластин драгоценную ношу.
Бушевала гроза. Хрустели ветки. Падали сбитые ливнем плоды. Дерево было окружено серым, кипящим потоком. Вдоль ствола по корявым морщинам бежала вода. Смывала жуков, птичьи гнезда, неповоротливых гусениц, летучих мышей, превращая землю в кипящее море. Бабочка висела под грохочущим, дрожащим листом, теряя силы, чувствуя в себе средоточие беззащитной жизни.
Ливень кончился. Вышло солнце, раскаленное, жарко горящее. Вода мгновенно обратилась в пар. Все затуманилось, сквозь ветви вздымались пахучие жаркие испарения. Бабочка медленно выползала на поверхность листа, окруженная липким блеском, среди прелых ароматов.
Черный, среди звезд, вертикальный цилиндр. Уперся подножием в платформу. Вознесся над лесом тупой вершиной. Циферблат на руке офицера показывает четыре часа. На другой половине Земли солнечный людный Нью-Йорк, с кристаллами небоскребов, уходящими ввысь зеркалами, гигантскими, устремленными в небо утесами. Кишенье толпы, скольжение нарядных машин, многоцветье реклам и витрин. Сюда, из лазури, из черного русского леса, примчится ракета. Раздует в небе белый огненный шар. Саданет гигантской кувалдой, сметая город, плавя стекло и сталь, превращая в пепел бессчетные жизни.
Молюсь о Нью-Йорке, о ночной, перебежавшей дорогу лисице, о маме и бабушке, о жене и о детях, о безвестной африканской бабочке. Встаю на пути пророка, возвещающего гибель Земли. Запечатываю его уста моей торопливой молитвой. Заслоняю видения гибнущей, обреченной Земли видениями Рая. Чувствую, как взбухает сердце, словно в него вкатился тромб, разрывает аорту. В сердце давит завещанная, предсказанная пророком история, протыкает меня острием. Не пускаю, гну острие, меняю направление истории. Всей своей волей, молитвенным желанием блага, божественным, отпущенным мне добром воздействую на ракету, искривляю ее траекторию, отклоняю от цели.
У подножия столба слабо полыхнула зарница. Вырвались две узкие слепящие струи. Вершина цилиндра окуталась белым паром. Из пылающей плазмы, медленная, стеклянно сверкая, длинная, с отточенным носом, возникла ракета. Встала над лесом, распушив огромную белую юбку, озаряя снега и деревья. Кинулась ввысь, оглашая пространства ревом, сотрясая землю, изрыгая косматый огненный вихрь. Удалялась, превращалась в факел, в колючую звезду, в крохотную белую искру. В стратосфере вошла в прозрачное облако, как в батистовый невесомый платок, источая нежные спектры, и канула.
Затихающий гул, пустота, химический запах гари.
Ракета летела, сопровождаемая лучами антенн. Вдоль кромки ледовитых морей, за Урал, над великими сибирскими реками, на Камчатку, в район учебного полигона. Там, где она приземлилась, ударила в мерзлые камни, расцвел огромный нежный цветок. Изумрудно распушились деревья. По райским цветам и травам прелестными босыми стопами пошла обнаженная дева в венке незабудок и роз.
Иду к опустевшей платформе. Опаленное, пахнущее окалиной железо. Лужи талой воды. Тлеющие, в красных искрах, ветви обгорелой сосны.
Красное солнце колеблется над океаном, отражается в красно-зеленой воде. Бабочка на вечернем листе растворила усталые крылья с черно-зеленым узором, с нежной пыльцой металла, с драгоценной резьбой. На этих крыльях начертаны контуры исчезнувших континентов, образ молодой Земли, когда дышали вулканы, застывали самоцветы и руды, изливалась густая, сочная сердцевина планеты. На мерцающих черных крыльях — орнамент звездного неба, застывшее отражение светил, оттиск мгновения, когда Бог сотворил это диво, вдохнул в него жизнь. На черных крыльях, как на бархатной плащанице, тончайшим серебром вышит лик Бога.
Бабочка изогнула набухшее тельце, напрягла головку и грудь. Как в хвосте самолета, растворилось отверстие, и оттуда показались яички. Крохотные живые жемчужины приклеились к пластинке листа. Бабочка в сумраке ночи трепетала, поводила усиками, и в ее глазах, многократно повторенная, горела африканская голубая звезда.
33
Коробейников испытывал к Елене страсть. Не любовь, не нежность, не обожание, не поклонение, а жадное, непрерывное влечение, превратившее его жизнь в непрестанное о ней мечтание, неутолимое вожделение, посекундное помышление. В душной, ненасытной памяти не исчезал ее пленительный образ — откинутая на розовом покрывале голова с перепутанными волосами, поднятая белая рука с горячей подмышкой, куда тянулись его торопливые губы, сильная, согнутая в колене нога, по которой скользили его ладони, приближались к золотистым завиткам живота. Утром, просыпаясь, он тотчас думал о ней. Эта обжигающая мысль делала его бодрым, резким, устремленным в разгоравшийся день, где присутствовала она, — в чудесном холодном солнце, или в блестевшем от дождя карнизе, или в первой мокрой, снежной метели. Садился перед листом бумаги, размышляя о романе, собираясь вывести несколько беглых строчек. Но лист бумаги превращался в зеркало, где бесчисленно отражались их сплетенные тела, напоминавшие античный фриз. Перо рисовало ее профиль, голые плечи, круглую прекрасную грудь, и он понимал, что она испепелила и уничтожила замысел романа, была значительней, желанней всех его сюжетов и коллизий. Сама была романом, увлекательным, неповторимым, бесконечным. Двигаясь по городу, оказываясь в разных московских домах, проезжая по улицам и опускаясь в метро, он физически чувствовал ее присутствие сквозь камень зданий, из-под земли, из металлического тела автомобиля. Казалось, в нем открылся чуткий орган, теменное око, таинственная антенна, откликавшиеся на ее излучение. Угадывал ее, единственную, среди миллионов людей. Чувствовал ее перемещение по городу, испытывая внезапный жар в груди, в паху, в кончиках пальцев, которые на расстоянии улавливали ее тепло и прелесть.
Это было небывалое, не случавшееся с ним наваждение. В него вселилось неутомимое, дразнящее, неусыпное существо, питавшееся его страстью и вожделением. Заняло весь объем его тела. Поместилось в него, как в живой футляр, повторяя формы, изгибы, пропорции. Было на дне глазных яблок, воспроизводя бесконечно все искусительные зрелища, где она была явлена в своей обнаженной и бесстыдной красоте. Жило в губах, испытывающих постоянную неутолимую сладость от ее поцелуев, требующих их повторения. В дрожащих, нервных ноздрях, запомнивших все ее запахи, ее горячие телесные ароматы, утонченные, исходящие от белья благовония. В паху, где мучительно и животно существовала потребность быть с ней, причинять ей боль, от которой закатывались ее глаза, наливались голубизной белки, и его пальцы больно и свирепо втискивались в ее плоть, оставляя на бедрах белые отпечатки, в которые, как в бесцветные лунки, мгновенно наливался розовый жар. Быть может, тот, кто в нем теперь обитал, был демон с распущенной черной гривой, хрустально-темным зраком, сидящий перед малиновым ночным чертополохом, как на картине, перед которой в детстве замирал, пугаясь своих туманных влечений. Этот демон завладел его разумом и талантом, насыщался его безвольным духом и телом. И мелькала устрашающая мысль: когда, насытившись, демон излетит из него, взмахивая бархатными заостренными крыльями, останется пустота и тоска, полая, бездушная оболочка.
Демоническая природа страсти подтверждалась тем, что он начал испытывать враждебность ко всему, что хоть как-то мешало его одержимости, отвлекало от пленительного образа, упрекало и укоряло в грешном слепом влечении. Раздражался на детей, которых обожал и которые до недавнего времени были источником его ликующей целомудренной радости. Чурался и сторонился жены, которая чувствовала случившуюся с ним перемену, молча вопрошала, настойчиво и бессловесно преследовала своей отвергнутой женственностью. Почти перестал посещать маму и бабушку, которая на глазах слабела, впадала в беспамятство, неодолимо приближаясь к концу. Его перестало занимать общение с заморской тетушкой, завершавшей свое печальное пребывание в Москве, готовой отправиться обратно в Австралию, и теперь уже навсегда. Роман, о котором прежде он думал поминутно, просыпаясь и засыпая в сладком предвкушении творчества, теперь усох и зачах, будто корни его съел поселившийся в почве червь. Больше не питался его воображением, которое принадлежало теперь грозному и великолепному демону, управлявшему его влечениями.
С Еленой они искали встреч с помощью ухищрений, напоминавших детскую игру. Коробейников звонил ей и, если подходил Марк, клал трубку, и это было сигналом для Елены, что он находится один дома и можно ему позвонить. Через некоторое время раздавался звонок, Елена выходила на улицу и звонила из телефонной будки. То же было и с ее звонками ему. Если к телефону подходила жена и следовало молчание, он знал, что она звонит одна из дома, вызывает его. Под разными предлогами он выскакивал на улицу, торопился к телефону-автомату.
Он подхватывал ее где-нибудь на углу, и, оказавшись в машине, они целовались, доходили до безумия, рискуя привлечь внимание прохожих. Она была так же неосторожна и безудержна, как и он. Безрассудно теряла голову, своими смелыми ласками и жалящими поцелуями доводила его до жаркого обморока. Они уезжали в глухие, безлюдные улочки возле Сокольников, останавливались в стороне от фонаря, охваченные дождем, с запотевшими непрозрачными стеклами. Он распахивал ее плащ, нащупывал на ее горячей спине застежку лифчика, расстегивал, погружал лицо в душистые, принадлежащие ему груди, к которым она прижимала его голову, словно желала, чтобы он задохнулся. Или вдруг сильно, властно убирала его руки, падала лицом ему на колени, и он, стиснув веки, чувствовал, как приближается головокружительный сладостный взрыв. Однажды, после очередного сидения в кафе, когда оба опьянели от бессвязных и чудесных разговоров, от «шампань-коблеров», он проводил ее в знакомый, безлюдный, полный темного сверкающего дождя двор. Не пустил к подъезду. Прижал к холодной, сырой стене, рядом с гремящим водостоком и слепо, пьяно овладел ею, не обращая внимания на желтые окна, среди которых светилось и ее высокое, неспящее окно.
Наконец он совершил то, что собирался сделать и что положило конец их бездомным скитаниям, пугливым и опасным встречам среди огромного каменного города. Снял комнату, утлую, маленькую, почти не пригодную для жилья, находившуюся среди кривых закоулков, там, где спуск к бульвару в районе Самотеки был застроен деревянными особнячками, мещанскими домами, остатками купеческих и дворянских усадеб и чиновничьих жилищ. Обреченное на снос, изъеденное трухой, с козырьками над шаткими крылечками, с витыми решетками и чугунными поручнями, все это обветшалое скопище подлежало разрушению. Рядом уже грохотали сваебойные машины, текли ручьи сварки. Там возводилось нечто огромное, стальное, огненное, напоминавшее летающую тарелку. Именно здесь, в обреченных закоулках, среди заборов, булыжных мостовых и каменных тумб, Коробейников нашел комнатушку, чьи хозяева переехали в новый дом. Напоследок, за бесценок, выгадывая гроши, сдали случайному постояльцу свое ветхое жилье.
Лучше было не придумать. Одноэтажный, покосившийся домик. Отдельный, с улицы вход. Дубовая, облысевшая дверь со старинным замком, к которому подходил тяжелый большой ключ. На фасаде остатки лепнины, осыпавшиеся грифоны и девы, обнажившие сырую штукатурку. Комната высокая, узкая, с одним окном, с камином, давно не топленным, чья чугунная решетка была покрыта старинной копотью. Оставшаяся от хозяев кровать, шаткий стол, пара стульев. Коробейников вымел сор, вытащил наружу ненужную рухлядь. Оклеил стены недорогими обоями, предвкушая, как изумится Елена, увидев эту кровать, стол с небогатой посудой, чистые стены, на которые он повесил деревянный раскрашенный крест — подарок художника Кока и глиняное среднеазиатское блюдо, привезенное из Самарканда. Жилище было чудесным. Посреди Москвы, казалось, из иного времени, из былого, несуществующего уклада. Из какого-нибудь провинциального захолустья. И если прислушаться, сквозь открытую форточку услышишь цоканье копыт по мостовой, стук кареты, трогательную, наивную игру клавесина.
Готовясь удивить Елену, он уложил у камина расщепленные доски, предварительно убедившись, что дымоход не засорился и из трубы опадает сладкий смолистый дым. Купил бутылку «Мукузани», сочные ломти мяса, специально для шашлыка, предварительно изготовив из толстой проволоки два заостренных шампура. Застелил кровать теплым покрывалом, тайком принесенным из дома. Отправился к метро «Новослободская» встречать Елену, куда вызвал ее заговорщицким условным звонком.
Он видел, как она выходит из-под высокой помпезной арки метро, заслоняемая другими людьми, непохожая на них, восхитительная и желанная. Красивый отливающий плащ, туго перетянутый в талии. Непокрытая, расчесанная на пробор голова, вокруг которой нежно светился воздух. Прямая, на высоких каблуках, шла, опустив глаза, слегка улыбалась, зная, что он ее видит, любуется.
— Почему здесь, у «Новослободской»? Какое-нибудь новое кафе отыскал? — поцеловала его в висок. Он притянул ее к себе, вдыхая чудное дуновение духов, ощутив упругую силу колыхавшегося, прильнувшего к нему тела.
— Хотел погулять с тобой по моим любимым местам. Юношей, вечерами, уходил из дома и кружил по этим улицам и бульварам. Мои романтические мечтания были о творчестве, о женственности. Может быть, я предчувствовал тебя? Это сегодняшнее наше с тобой свидание?
— Не думаю. Я просто тебе подвернулась. — Она быстро, зорко осмотрела его своими разноцветными глазами, словно этими требовательными взглядами отнимала его у тех, кому он принадлежал в ее отсутствие, заново присваивала себе. — Веди меня по своим заповедным местам.
А в нем — острое, головокружительное ощущение бесценности этих мгновений, вырванных из бесконечных миллиардов лет, тех, когда его не было и в помине, и тех, когда его больше не будет. Драгоценных, отпущенных здесь, в вечерней Москве, такой родной и любимой, с первыми фонарями, блестящим асфальтом, перепончатыми зонтиками, над которыми близко, в черной Вселенной, летают дикие метеориты, взрываются звезды, крутятся спирали раскаленных галактик. А здесь — трепещущая вереница секунд, которыми отмечено его пребывание в мире, откуда его вырвут и бесследно, невозобновимо истребят. Он вел ее под руку по этим драгоценным секундам, в каждой из которых зажигался высокий голубоватый фонарь, падала на лицо холодная роса, встречались и исчезали под зонтиками встречные лица.
На Селезневку сворачивал медлительный трамвай, с мягким, нестрашным лязгом, водянистыми окнами, сбрасывая с крыши длинную изумрудную искру. Этот трамвай был им явлен однажды, чтобы через секунду навсегда исчезнуть, но перед этим наградить видом трогательных старомодных вагонов, розоватой тенью мелькнувшего за окном пассажира, длинной электрической брызгой, упавшей с медного провода. Чуть в стороне, на Подвесках, высилась в сумерках белая мучнистая церковь с оградой, воротами, приоткрытой округлой дверью, где в медовом свете что-то струилось, тихо плавилось и текло. Эта церковь была явлена как знамение их краткого появления в мире, где столько красоты, возвышенной нежности и любви, и неотступная тревога и боль при мысли о неизбежном расставании. Пожарная каланча, похожая на прибрежный маяк, словно ждала их приближения, выпуская навстречу красную, бренчащую, нахохленную и растопыренную машину, которая ошалело сверкала фарами, неслась на какой-то несусветный пожар. И это тоже напоминало устроенный для них праздник, бодрый грохот и звон, глянцевитый алый бок машины, ослепительный блеск огня.
— Хотела бы я поглядеть, как ты юношей бродишь по этим улицам. Ты бы меня заметил, одарил своим взглядом.
Он не ответил, благодарный за восхитительное звучание неповторимого, с переливами, голоса, который звучит для него в этой краткосрочной, таинственной жизни, где было им суждено повидаться.
Вышли на Божедомку с просторными ампирными корпусами чахоточных клиник, где в белых колоннах желтым больничным светом горели высокие окна. Чернели корявые деревья. В мокром стылом сумраке стеклянно блестел под дождем памятник Достоевскому. Болезненно сутулый, с голым плечом, в больничном халате и шлепанцах, выбежал под дождь из этих корпусов, чтобы им показаться, перед тем как его настигнут и снова уведут санитары.
Театр Советской Армии казался огромной морской звездой, оставшейся посреди Москвы после потопа. Зацепился пятью щупальцами за крыши соседних домов, сочился влагой, источал запах морского дна, йода, рыбьей молоки. Над ним в ночной синеве в луче прожектора трепетал алый, ветреный, стучащий полотнищем флаг.
Они шли под колоннами в сыром сквозняке. В высоких капителях дремали замерзшие голуби.
— Если бы мы познакомились тогда, в твоей юности, то к сегодняшнему дню уже наверняка бы расстались. И я бы не шла с тобой под этой угрюмой мертвенной колоннадой, ты не обнимал бы меня.
Он опять ничего не ответил, завороженный драгоценным, посетившим его всеведением — о чуде их появления в мире и неизбежности их ухода, навсегда, невозвратно, отчего — не боль, не бессилье, а сладостное недоумение, непонимание этого загадочного и чудесного таинства.
Площадь Коммуны казалась сверкающей каруселью, где каждый несущийся по кругу огонь оставлял блистающий след. Стройный, с тонкими линиями, дворец выглядел так, словно в нем длился нескончаемый бал. Из окон доносилась музыка духового оркестра, старинные пушки у входа на высоких колесах казались вылитыми из стекла, из дверей появлялись разгоряченные танцами и шампанским генералы, к ним подкатывали черные автомобили, мелькала алая генеральская подкладка, и машины уносили красавцев военных в дождливый холодный блеск.
— Эти румяные генералы, этот вечер и вкусный холод чем-то напоминают корзину краснобоких осенних яблок, крепких, глянцевитых, — произнесла она, любуясь дворцом.
Он не ответил. Этот дворец, эти пушки на высоких лафетах, мелькнувший у подъезда генерал, ее неожиданный красочный образ были для того, чтобы он острее ощутил бесценную неповторимость мгновений. Хрупкий, посекундно исчезающий мир, куда по чьей-то милости его ненадолго ввели, чтобы через мгновенье бесследно убрать. И нет ни ропота, ни протеста, а лишь недоумение, любование великолепием вечерней Москвы.
Они шли по бульвару, среди высоких просторных деревьев, напоминавших сросшимися кронами пустынный собор. В этом безлюдном соборе, как единственный его обитатель, стоял памятник маршалу Толбухину. Черно-блестящий, отчужденный, не принадлежащий этому времени, покинутый полками и армиями, с немецким осколком в груди.
— Куда мы идем? — спросила она, когда они свернули с бульвара и стали подыматься по косой улочке, среди разномастных домишек. — Закоулки, где ты искал свою первую любовь?
Он подвел ее к особнячку с лепниной из грифонов и дев. Остановился перед дубовой обшарпанной дверью. Извлек из кармана большой ключ с рукояткой в виде кольца.
— Это что такое? Откуда ключ? — изумилась она.
— От райских врат, — ответил он, погружая ключ в скважину, прозвеневшую печально, как старинный сундук. И этот звук был послан из бесконечных далей, где кто-то напоминал ему о краткосрочном пребывании в мире, о драгоценности неповторимых мгновений.
Но когда они переступили порог и зажгли свет, чувство хрупкого, как паутинка, времени сменилось ощущением крохотного, как молекула, пространства, выделенного для них из бесконечной Вселенной. Из громадных бескрайних пространств, из всех миров и галактик, отданных только им, как малая суверенная страна с непреодолимыми границами, с неприкосновенной территорией, где властвовали только они.
— Боже мой, что это? — Она изумленно оглядывалась, уже вступая во владение этим малым пространством, обживая его. Повернулась на каблуках, раздувая полы плаща, сообщая кружение недвижному воздуху. Протянула руку и коснулась висевшего на стене азиатского блюда. Слегка передвинула стул, будто убеждалась в его материальности. Уселась на кровать, отчего по накидке разбежались мягкие складки. — Ты это придумал? Какая умница!
Он был счастлив, что замысел его удался. Что ими отвоевана у города эта крохотная комната, где их не настигнут люди, телефонные звонки, следящие глаза, угрызения совести, подстерегающие всюду опасности. Они перехитрили город, укрывшись в этой тесной комнатушке, как в каюте парохода, который отчалил от пристани и поплыл, оставляя позади очертания знакомых домов, лица провожающих. За окном потянулись незнакомые берега, чудесные рощи, церквушки на зеленых холмах, окружая их необременительной красотой.
— Здесь нет телефона, почтового ящика, номера на фасаде? Нас не могут найти?
Они были невидимы для города. Среди его многолюдья, наполненных автомобилями проспектов, среди строек, транспарантов, требовательных и назойливых лозунгов они словно выпали из времени. Провалились сквозь время в другую, миновавшую жизнь, а нынешнее время сомкнулось и сделало их невидимыми. Они жили среди мещанских домишек, купеческих лабазов и лавок, церковных подворий. Мимо их окон стучали экипажи, скрипели телеги, покрикивали возницы, тянулись в церковь богомольные прихожане, торопились на службу усердные чиновники, и румяная купчиха в цветастом платке возвращалась из бани, окутанная сдобным душистым паром.
В этом малом драгоценном пространстве она принадлежала ему безраздельно. Была доступна, желанна, сию секунду он мог ею насладиться. Но, предвкушая наслаждение, он не торопил его. Смотрел на спинку стула, куда она повесит платье, кинет прозрачное невесомое белье. На выключатель в стене, к которому протянется его рука. На самаркандское глазурованное блюдо, в котором, когда погаснет свет, загорится льдистая зеленая капля.
— Отметим новоселье. Я приготовлю ужин, — сказал он, чувствуя, как нежилая комната наполняется духами их живого присутствия.
Она сидела на кровати, наблюдая, как он священнодействует, а он и впрямь все свои движения и хлопоты истолковывал как языческий обряд новоселья, заселяя новое жилище духами мира и благоденствия.
Развел камин, запалив сухие смолистые доски, наполнив закопченное жерло скачущими языками, сочным треском, вкусным кудрявым дымом. Тепло неохотно и медленно пробивалось в сырую трубу, дым сочился в комнату, селился в углах, покуда не зашумело обильное горячее пламя. Улетело в горловину, наполняя дымоход сладким гулом и рокотом. И это значило, что он возжег священный домашний очаг.
Брал из миски красно-коричневые ломти мяса, протыкал остриями, нанизывал на шампуры, не забывая прокладывать куски пластинками лука. Клал тяжелые грозди на каминную решетку, помещая в летучий желтый огонь. Видел, как мясо смуглеет, шипит, выпрыскивая огненные струйки. Начинает благоухать, насыщая комнату духом жертвенного тельца, пронзенного ритуальными пиками. И это означало, что тельцы, овны и прочие жертвенные животные принесены на алтарь благосклонного, охраняющего дом божества.
Вынул из огня и разместил на столе шампуры. За неимением бокалов наполнил красным вином две высокие фарфоровые чашки. Это были жертвенные сосуды, священные чаши, в которые божество излило свою мудрость, всеведение и благое знание, передавая обитателям нового дома.
— Трапеза готова. Приглашаю вкусить яств и плодов земных. — Коробейников любовался простым убранством стола, напоминавшего алтарь, над которым витали благосклонные, принявшие жертву духи. — Прошу к столу.
Ели, запивали из чашек вином. Он смотрел на нее, и все в ней нравилось ему, волновало, казалось замечательным. И то, как сильно и молодо вонзаются в мясо ее белые, влажные зубы и она наклоняет голову, помогая себе этими сильными звериными движениями. И то, как погружаются в вино ее губы, и после глотка на них остаются черно-красные винные капли. И то, как ее красивые, сильные пальцы, испачканные мясным соком, сжимают металлический шампур. Каждое ее движение, звук, любое, самое физиологическое, проявление казались прекрасными, пленяли, вызывали обожание.
Она подняла чашку. Готовилась говорить, глядя длинными глазами, в которых отражалось множество световых оттенков. Малиновый — от вина. Зеленоватый — от самаркандского глазурованного блюда. Золотистый — от горящего в камине огня. Нежно-голубой, блистающий, — природный цвет ее глаз. Опьянев, он чувствовал, как оба они спрятаны, укрыты в другом пространстве и времени. Недосягаемы для всех, кто мог бы им помешать. Затеряны среди стародавней Москвы в ее подворьях, монастырях и базарах, будто вошли в картину Кустодиева, и их занавесил огромный цветастый платок.
— Знаешь, я все порывалась сказать и не решалась. Но теперь, когда голова моя идет кругом и я опьянела и буду еще пьянеть, хочу тебе, милый, сказать. Ты мой спаситель и избавитель. Сам не знаешь, от чего меня уберег. К тому времени, когда мы познакомились, мне уже не хотелось жить. Обдумывала, что лучше: выброситься из окна или наглотаться сонных таблеток? Я была в западне, в страшном капкане, искала выход. Выходом этим был черный туннель в метро с железными острыми рельсами, по которым приближается ревущий, слепящий поезд. Ты меня спас, вывел из жуткой ловушки, показал другую жизнь. Я тебе так благодарна…
Он слышал звук ее слов, но они, облетая комнату, в акустике ветхого дома, словно лишались смысла. Превращались в сладкозвучные переливы лесной певчей птицы, доносящиеся сквозь шум дождя. За темными занавешенными окнами текла несуществующая Москва, окружившая их своими маковками, розовыми печными дымами, слюдяным блеском сусальных крестов. И эта восхитительная иллюзия кружила голову. Не вникая в смысл ее слов, а лишь наслаждаясь чудесными любимыми звуками, он видел, как за окнами катят расписные возки, шныряют разносчики, на лотках пестреют свистульки, матрешки, хохломские тарелки и миски. Дородная красавица, румяная, синеглазая, несет на плече коромысло, качает могучей грудью. В ведрах колышутся литые синие зеркала, сыплются на бабий подол солнечные сочные капли.
— Я не обманываю себя. Понимаю, как хрупки наши отношения. Они краткосрочны, не имеют будущего. Быть может, нас подстерегает близкая катастрофа, беда, которая разрушит нашу близость, утянет в жуткую воронку. Но, зная и предчувствуя это, я все-таки тебе благодарна. Ты продлил мою жизнь. Показал, сколько в ней увлекательного, прелестного, чудного. Та изумительная церковь в Дубровицах с апостолами, читающими каменные книги. Наш первый дождь, в котором мы неслись на огненной карусели. Твой рассказ о летающих быках, которые мчались по небу, и у них в груди вращались солнечные пропеллеры. Ты мой ангел, мой спаситель. Взял меня за руку и вывел из подземелья на солнце…
За окнами травяная зеленая круча спускалась к Неглинке. По речке плыли барки, груженные дровами, копнами сена, мешками с мукой. Бабы на сходнях полоскали белье, шлепали белыми простынями, терли мыльные доски, раскладывали по траве красные, белые, золотые полотна. В купальне визжали девки, сбрасывали через голову долгополые рубахи. Опрометью, мелькая ягодицами, закрывая ладонями грудь, бежали к воде. Громко плюхались, барахтались, оглашая воздух русалочьими визгами…
— Но иногда я надеюсь на чудо. Мы будем с тобой неразлучны. Нас никто не станет удерживать, никому мы не сделаем больно, все устроится легко и волшебно. Уедем в какой-нибудь город, в Ярославль или Кострому, где нас никто не знает. Ты будешь писать свои книги, читать мне отрывки из рукописи. Я стану тебе помогать, печатать на машинке, хлопотать в местном издательстве. И скоро все удивятся: «Боже, какой замечательный писатель появился в провинции». Будут повторять в один голос: «Только в провинции рождаются подлинные таланты, тонко чувствующие русскую жизнь, природу и душу». А мы с тобой станем тихо посмеиваться, не мешая им так думать…
На улице купцы торговали в лавках. В одних выкладывали рулоны сукна, кипы цветного ситца, узорные заморские ткани. В других сыпали на прилавки струганые топорища, гнутые коромысла и дуги, черные масленые замки, блестящие, кисло пахнущие гвозди. В огромные зеленые бутыли сквозь жестяные воронки лили душистый желтый керосин. Наполняли ведра тягучей медовой олифой. Приказчик в жилетке, плутовато зыркая, орудовал деревянным метром, валил на прилавок волны алого ситца.
— Ты чудесный писатель. Твой язык родился на водоразделах фольклора и русской классики. Тебе доступно описание крестьянской избы и стальной машины, жизни сельской старухи и судьбы политика. Ты стремишься выразить невыразимое — заглянуть за черту смерти, угадать Бога в травинке, в человеке, даже в бездушном устрашающем механизме. Не сомневаюсь, тебя ждет великое будущее. Ты напишешь книгу, которой станет зачитываться вся Россия. И в этой книге будет страничка, где, затерянные в огромном городе, в ветхой комнатушке, у прогорающего камина, сидят мужчина и женщина, она держит в руках чашку с темным вином и говорит, как благодарна, как любит своего избавителя…
Ярмарка крутила свои карусели, гнала по кругу деревянных коней и верблюдов. Парень, упираясь босыми стопами в шест, карабкался вверх, где висела сумка с конфетами. Фокусник, строя смешные рожи, выхватывал из-за пазухи кричащего петуха. Силачи, раздувая мускулы, подымали пузатые чугунные гири. Разносчики торговали леденцами, кулебяками, сладким мороженым. Барышня ставила на оградку развязавшийся остроносый башмачок, и влюбленный студент завязывал ей шнурок, касаясь пальцами тонкой щиколотки.
— Иногда мне кажется, что я скоро умру. Буду лежать в церкви, в гробу, молодая, с белым лицом, среди холодных цветов, окруженная лампадами и свечами. Сквозь синий кадильный дым ты станешь всматриваться в меня и думать: «Неужели я был с ней на вечерней осенней опушке, целовал ее горячую грудь, слышал ее жаркие шепоты?» Тебе захочется поехать на эту опушку, отыскать мою потерянную перчатку, чтобы из нее, как в сказке, возродилось то время. Эта мысль меня волнует до слез. Но иногда мне кажется, я доживу до ста лет, горбатая старуха, слепая, глухая, всеми покинутая и забытая, стану вспоминать чудесный блеск ночного дождя, твои блистающие, округлившиеся от страсти глаза, шум воды в водостоке и мучительную сладость, от которой черное небо над крышами становилось золотым, изумрудным, алым, будто по нему пробегали волшебные сполохи…
Колокольный звон у Троицкого подворья. Тянутся к службе согбенные старухи. В долгополых рясах, грубых башмаках ступают истовые сухие монахини. Нищие у ограды вытягивают из лохмотьев жадные руки. Богомольные мещане и набожные купцы гнут спины перед входом в церковь. В глубине золотого храма тучный дьякон в фиолетовой ризе, разевая в бороде черный рокочущий зев, восклицает жутко и сладостно.
— Я ужасная грешница. На мне проклятье. Мне снятся ужасные сны. Меня ждет погибель. Когда Бог призовет к себе мою душу и я, бездыханная, буду стоять перед ним, то стану просить прощение. За то, что ввела тебя в искушение, соблазнила тебя, отнимаю от жены и детей. Столько людей страдают из-за меня и будут еще страдать! Но я не жалею об этом. Принимаю весь грех на себя. Пью за это мою чашу с вином. Пью за тебя, мой милый…
Она поднесла чашку к губам и медленно, закрыв глаза, пила. Он видел, как дрожат ее веки и белая шея волнуется от обильных глотков.
Потом было все, как он и предвидел. Его рука протянулась к выключателю, и в погасшей комнате ярче и драгоценней загорелся камин, просвечивая сквозь черный чугун решетки. В самаркандском блюде задрожала зеленая капля. Ее платье вознеслось на белых руках и плавно опустилось на спинку стула. Сверху прозрачным стрекозиным блеском легло легкое белье. Она стояла, озаренная камином. Он опустился перед ней на колени, целовал ее ноги, восхищаясь ее красотой и доступностью. Она прижимала его голову к своему животу, и он чувствовал, как превращается в яростное, неутолимое существо, с жарким дыханием и темным демоническим зраком. Среди ее белых ног у него под губами расцветал малиновый косматый чертополох, и он падал в глубину душистого опьяняющего цветка, который затягивал его в сердцевину, смыкал над ним малиновые пышные кущи.
Его страсть не была слепящей, но в зрачках, сотрясаемых страстью, появлялись видения, которых не было в комнате. Округлившимися, трепещущими глазами он видел перед собой ее выгнутую спину с гибкой, наполненной блеском ложбиной, округлые дрожащие плечи, ладони с раскрытыми пальцами, смявшими покрывало. И перед ним проносился случайный, вырванный из другого времени кадр, — зеленый хохолок селезня, скользящий среди желтой стерни, голубая круглая лужа, из которой взлетают солнечные утки, и он вскидывает ружье с мелькнувшим вдоль ствола лучом.
Видел ее горячий затылок, рассыпанные на две стороны волосы, маленькое ухо, озаренное камином. Протягивал руку, дотягиваясь до мягкой влажной подмышки, до плещущей груди. А в зрачках на долю секунды возникала фарфоровая японская ваза с летящими журавлями, что стояла на высоком буфете в пятне апрельского солнца.
Сжимал ее округлые бедра, оставляя на них розовые отпечатки. Выгибаясь назад, ловил ее узкие стопы, сухие щиколотки, маленькие твердые пятки. Но кто-то, на миг, показывал ему картину в раме, перламутровые мазки, окружавшие синие луны, золотые месяцы, волшебно пылающие в космосе фонари, как привиделись они ясновидящему, побывавшему в иных мирах художнику.
Страсть, которую он испытывал, сотрясала его память, вырывала из нее драгоценные осколки, сыпала их, как бисер, на дно глазных яблок. И эти наркотические видения были проявлением демонизма, доставляли дополнительную Сладость, открывали в сознании доселе не ведомые свойства.
Наклонялся над ее лицом, на котором сверкали зелено-золотые глаза, растворялись дышащие губы, влажно, белоснежно блестели зубы. Прижимаясь к ее жадному рту, странно, в головокружительном вираже, видел заиндевелую колоннаду, тусклый снег Петербурга, черных пешеходов в шубах — моментальную черно-белую фотографию, прилетевшую в его жизнь из другой, исчезнувшей, памяти.
Камин догорал, краснея. В темных углах сумрачно расцветали чертополохи. Страстно и больно она сжимала его коленями. Стиснув веки, он погружался в сердцевину малинового цветка, на жаркое дно, слепящее и расплавленное. Оно взрывалось бесцветным блеском, бесчисленными брызгами, расширявшими комнату до бесконечности. В этом вселенском взрыве, уничтожавшем пространство и время, истреблявшем материю, возникали частицы из несуществующего, ненаступившего будущего. Сухая каменистая сопка, мелкие осколки кремня, стреляные латунные гильзы. Близко от глаз запекшийся окровавленный бинт. Вверх по склону бегут туманные тени, к остроконечной вершине, окруженной солнечной пылью.
Это длилось доли секунды. Кануло, подхваченное и унесенное взрывом. Без чувств, лишенный плоти, он лежал в пустоте, испытывая великое облегчение смерти.
— Ты жив? — прошептала она у него за спиной. Откликаясь, он слабо шевельнул плечом. Был все еще оглушен ударом о землю, как космонавт в круглой капсуле, которая пролетела сквозь пламя и у которой сгорел парашют.
— Ты меня слышишь? — настойчиво повторила она. Он не хотел отзываться, продлевая сладостную отрешенность, лишенную мыслей и чувств, похожую на пустую светлую стену, с которой осыпалась фреска и лежала вокруг в виде множества измельченных крошек.
— Я хочу с тобой говорить. — Ее рука гладила его волосы, он чувствовал ее пальцы в своих волосах.
Лежал на высохшем дне, откуда взрыв расплескал и унес воду, и теперь она медленно, по каплям, по ручейкам просачивалась обратно в водохранилище.
— Ты потерял дар речи? — Она дотянулась до его губ, и он слабо поцеловал ее пальцы.
Ему не хотелось возвращаться в это пространство и время, откуда его унесла взрывная волна и куда настойчиво звал ее шепот.
— Я тебе хотела сказать. В этом заповедном кружке, который собирает у нас дома Марк, тебя очень ценят. Считают тебя почти своим. Сулят большое будущее. Готовы помогать. Это залог успеха. Эти люди очень влиятельны. Видишь, какая я умница, что тебя заманила.
— Спасибо, что заманила, — слабо отозвался он, видя, как опавшая фреска восстанавливается на стене, заново собираясь из разбросанных разноцветных крупиц.
— Но ты будешь осторожен, милый. Это далеко не безобидное общество. Мне кажется, они заняты очень опасным делом. Плетут какие-то сети, затевают интриги. Иногда это напоминает политический заговор. В один прекрасный вечер, когда они станут распивать виски и обсуждать очередную кандидатуру на пост редактора или референта, постучат в дверь, войдут люди с наганами и всех увезут в тюрьму. Не попасть бы тебе в этот заговор. Я этого себе никогда не прощу.
— Все есть заговор. Вся жизнь — это заговор Господа Бога, и мы все в нем участвуем. — Он неохотно расставался с восхитительной прострацией, когда, улетая, сбросил с себя жизнь, как сбрасывают на скаку тяжелую косматую бурку, испытав огромное облегчение. Теперь эта бурка снова наваливалась ему на плечи, и он чувствовал ее тяжесть.
— Они заключили между собой неписаный договор. У них есть разветвленная сеть сторонников в партии, в культуре, в органах безопасности. Наверное, у них есть свои пароли, опознавательные знаки, тайные ритуалы. Они — заговорщики, подпольщики и, как любые подпольщики, беспощадны к изменникам. Не дай себя связать обязательствами. Не заходи слишком далеко в этом опасном общении. Я их боюсь.
— Буду внимать твоим советам. Я бываю в разных обществах, в разных кружках. Как, впрочем, и надлежит писателю. Меня интересует не личный успех, а новый опыт. Здесь, в твоем доме, мне открылся новый опыт, и главное в этом опыте не кружок твоего мужа, а ты. — Он пребывал уже в реальном пространстве и времени. Восхитительная невесомость и пустота опять сменились вещественностью материального мира, который властно тянул своей гравитацией.
— Иногда мне кажется, что Марк догадывается о нашей связи, но делает вид, что не замечает. Он мой муж, но я до сих пор его до конца не знаю. Он благородный и низменный. Проницательный и одновременно слепой простачок. Тяготится своим еврейством и его культивирует. Быть может, он и есть «масон», о котором говорят шепотом, но никто никогда их не видел.
— Чувствую, между вами есть какая-то тайна, но не хочу ее знать. Как есть тайна между тобой и твоим братом. И тоже не хочу ее знать.
— Рудольф несчастный. Он родился для великих дел, мечтал о славе, готовил себя для служения и подвига. Но оказался выброшенным из жизни, сломленным, озлобленным. С ним случилась ужасная пагуба, и он едва уцелел. Он мой любимый брат, но я его ненавижу. Он самый дорогой, но и самый ненавистный. Он причинил мне столько страданий, что я иногда желаю ему смерти. Он может убить тебя, меня, он очень опасен. Его оставляет разум, будто вселяется дьявол, и в своем исступлении он готов разрушить весь мир, после чего провалиться в пылающий ад.
— Быть может, это от вашего бунтарского, революционного деда?
— В нашей семье смешались и слились столь разные крови, что их состав образовал гремучую смесь. Дед Саблин — народный герой, гуляка, всадник, явившийся из поволжских степей как Разин и Пугачев, кровушкой Волгу румянил от Казани до Астрахани. А бабушка, которую он то ли взял в плен под Саратовом, то ли отнял у какого-то расстрелянного камергера, была дворянкой и чародейкой, гадала на картах и читала мадам Блаватскую, останавливала взглядом облака и верила в то, что земля внутри полая и в ней живет загадочный подземный народ. Дед саморучно шашкой зарубил два десятка взятых в плен белых офицеров, а бабушка закопала в лесу своего незаконно-прижитого младенца. Два этих преступления гуляют в нашей крови, рождая в потомках ад.
— Ты очаровательная, прелестная, дорогая.
— Я ведьма, колдунья. Соблазнила тебя, приворожила. Завязала свой длинный бабий волос вокруг твоей пуговицы. Кинула волшебную бусинку на пол твоей машины. Нарочно обронила перчатку на лесной опушке, чтобы ты вечно ее искал. Иди ко мне, хочу тебя.
Опять в темноте над ее коленями расцветал косматый багровый цветок. Коробейников задыхался среди огненной сердцевины, поражаясь прилетавшим видениям, словно кто-то показывал крохотные моментальные кадры, выхватывая из бесконечной киноленты, где была вся его жизнь. Опять приближалась расплавленная магма, выступавшая из глубины цветка. Последовал галактический взрыв, уничтожая материю. В слепом пятне, оставшемся от материального мира, летели микроскопические осколки Вселенной. Один из них, прилетевший из будущего, был свидетельством его будущей смерти. Пробил навылет, оставив лежать бездыханное тело. И он испытал бесцветность и бесчувственность небытия.
Очнулся от слабого журчанья воды, от робкого, скользнувшего лучика света. Открыл глаза. В комнате было темно. Дверь в коридор была приоткрыта. Сквозь коридор виднелась вторая, отворенная в ванную дверь. Елена, освещенная, белотелая, стояла в ванной, набирала в пригоршню воду, плескала себе на живот, на ноги. Изгибалась, и в ее движениях было что-то оленье, лесное, озерное. Было сокровенное, грациозное, женское. Поглядывая, видя ее в беззащитной интимной позе, он вдруг испытал к ней острую нежность, мучительно-сладкое обожание, понимая, что любит ее.
34
Приблизился день отъезда Таси. Все это время сестры прожили в неурядицах, ссорах, в горьком стремлении друг к другу, в раскаянии, после которого тут же, из-за какой-нибудь малости, неверного замечания или неосторожного слова, вспыхивала размолвка. Переходила в ссору, с упреками, с несправедливыми укоризнами, после которых все трое плакали, обнимались, просили прощения. Чинно, надев праздничные туалеты, отправлялись в театр, или на экскурсию в подмосковную усадьбу, или в Троице-Сергиеву лавру. Возвращались усталые, полные возвышенных впечатлений, и какое-нибудь маленькое бытовое неустройство вновь их ссорило, повергая в печальное, горькое недоумение. И вот наконец пришел день прощания. Билет на самолет в Австралию лежал в кожаном Тасином портмоне. Коробейников доставил австралийскую тетушку на Тихвинский, где тетя Вера и мама приготовили прощальный обед, все с теми же молоканскими угощениями. Бабушка болела, не вставала, впадала в беспамятство. Ее уложили на кровать, на высокие подушки, лицом к столу, и она дремала, выступая из подушек маленьким сморщенным ликом, над которым вдоль стены висел ее рукодельный ковер с шелковыми красными маками.
— Как я это все увезу?.. Как вы щедро меня одарили!.. Надо было еще сумку или чемодан купить!.. — Тася волновалась, наклоняла крупное, розовое сквозь пудру лицо над чемоданом, в котором в очередной раз старалась разместить подношения. Множество деревянных матрешек, расписных шкатулок и ложек — русские сувениры для австралийских знакомых. Черную, с огненными цветами, шаль, окаймленную кистями, — подарок мамы. Дивный, воздушный, словно легкий душистый дым, оренбургский платок — подарок тети Веры. Серебряная фамильная ложка с монограммой, столовый нож с тяжелой серебряной ручкой и крохотным двуглавым орлом на лезвии — остатки давнишнего обилья, родовые фетиши, отправляемые на другую половину Земли. Желтоватые, кремового цвета, старинные вологодские кружева, украшавшие когда-то бабушкино платье, все эти годы пролежавшие в старом сундуке, — они понравились Тасе и были тут же подарены, после чего она по-молодому, кокетливо, смотрелась в зеркало, прикладывая кружева к груди. Тут же был альбом с фотографиями, сделанными Коробейниковым, — Тася с сестрами стояла на фоне Кремля, Василия Блаженного, усадьбы Кусково, сидела за столом деревенской избы, обнимала на лесной опушке березу. Все это, и еще банка с красной икрой, красочные русские сказки, хрупкие большие пластинки с записями «Хованщины» было в конце концов упаковано и упрятано в чемодан, на который Тася взирала со страхом и благоговением, — придется открывать на таможне!.. И потом опять упаковывать!..
Коробейников наблюдал хлопотавших сестер, их озабоченные, взволнованные лица с чертами фамильного сходства, — подобие крупных носов, сильных подбородков, надбровных выпуклых дуг. Они были торжественны и нарядны. Тася, как всегда, в бирюзовом, с голубоватой, уложенной на голове сединой, с выцветшими синими глазами. Вера, худая, с отпавшей прядкой серо-седых волос, отвисшими складками шеи, в старомодной кофте, на которой красовалась дорогая, из слоновой кости, брошь. Мама, строгая, красивая, с благородным стареющим лицом, в темном платье с нарядным вышитым воротом. Все три сестры, прожившие огромные, исполненные страданий жизни, казались Коробейникову воплощением русских женщин, достойно и величественно переносивших отпущенные им на долю испытания. Их встреча после долгой разлуки и предстоящее расставание, теперь уже навсегда, представлялись Коробейникову возвышенной мистерией, куда были вовлечены страна и народ, многолюдная, претерпевшая беды семья, оставшиеся от нее три стареющие женщины, рядом с которыми не было мужчин. Он, Коробейников, на ком сошелся убывающий род, принимал от них неизреченный завет продолжения рода. То, что происходило в этой маленькой комнате с накрытым столом, где в фарфоровой супнице дымилась молоканская лапша и на блюде лежали пухлые, нарезанные ломтями молоканские пироги — было исполнено таинственного вещего смысла. Протекало не в комнате, не в осенней дождливой Москве, не на сырых просторах Русской равнины, а на Земле в целом, где, разбросанные по континентам, покоились кости умершей родни. А также в бескрайней Вселенной с полетом светил, метеоритов, где обитал всеведущий и загадочный Бог, кому была угодна их родовая судьба.
Ели лапшу, густую, домашнюю, из тонких ленточек теста, на курином бульоне, и, глотая жаркий отвар, приобщались к старинному укладу молоканских деревень, где женщины носили долгополые просторные юбки, высокие рогатые платки, серебряные и стеклянные бусы. Клали на тарелки пышные, с картофелем и грибами, с капустой и луком, пироги, те самые, что брали с собой в дорогу ямщики, пуская тройки по кавказскому тракту, вдоль озаренных хребтов.
— Хорошо бы взять рецепт, — говорила Тася, откусывая от пирога, а сама исподволь, беспомощно, смотрела на стенные часы, приближавшие миг расставания. И все трое, чувствуя, как неумолимо утекает отпущенное для свидания время, торопились напоследок наговориться, насмотреться, наслушаться. Успеть то, что не удалось за ссорами и бессмысленными распрями.
— А знаешь, — обращалась к Тасе мать, — чем закончились музицирования дяди Миши? Перед войной он еще иногда брал скрипку и играл. Но потом запер в футляре, засунул на антресоли, где она пролежала лет двадцать. Я помогала ему разбирать антресоли, достала футляр. Отерла пыль, положила на стол. Дядя Миша долго не открывал, смотрел на свои распухшие, негнущиеся пальцы. Потом наконец отомкнул замок, отворил крышку. Скрипка лежала в темно-синей сафьяновой глубине. Он медленно, дрожащей рукой, попытался тронуть струны, но они от прикосновения все разом осыпались, превратившись в пыль. Не забуду его лицо…
— Помните, как тетя Катя рассказывала нам о своей поездке в Италию, где вместе с археологами раскапывала Помпеи, зарисовывала сохранившиеся фрески? — Это уже говорила Вера, хватаясь наугад за одно из бесчисленных, драгоценных воспоминаний. — А потом наша Катюша, «бестужевка», кисейная барышня, после лагеря, в ссылке преподавала немецкий в школе рабочей молодежи. Если бы вы видели, как она водочку пила в окружении своих учеников, как могла под горячую руку пульнуть в них острым словечком…
— А дядя Коля продолжил свои занятия живописью? — спрашивала Тася, и лицо ее исполнилось нежности при воспоминании о дорогом человеке. — Помню его картину, написанную зеленой краской. Огромное зеленое дерево, под ним зеленая скамья, на скамье девушка в зелено-изумрудном платье, и перед ней на коленях, весь в зеленом, молодой человек. Мой знакомый увидел эту картину и тихонько съязвил: «Не люби — позеленеешь!»
— Дядя Петя, вернувшись из лагеря, смастерил чудесную низенькую скамеечку, которую инкрустировал перламутровыми пуговицами. «Тифлисская скамеечка» — так он ее называл. Он подарил ее тете Мане, а та в Ленинграде, в блокаду, спасаясь от холода, истопила эту скамеечку в печке. — Это говорила мать, покрываясь от нежности легким румянцем, отчего увядшее ее лицо на мгновение расцвело и помолодело.
— Наша мама была удивительная. — Вера подхватила воспоминание о матери, торопясь наделить им Тасю. — Уже в старости, за восемьдесят, не могла усидеть дома. Обожала ходить по магазинам. Ее знали все продавщицы, оставляли ей самые лучшие мясные косточки. Когда ехала в трамвае, могла подойти к вагоновожатой, и та останавливала трамвай в том месте, которое указывала мама, далеко от остановки. Неугомонная!..
Все трое громко, радостно засмеялась, похожие в смехе, одинаково вздрагивая плечами, прикрывая смеющиеся лица ладонями. И тут же осеклись, погрустнели, разом посмотрели на часы, приближавшие время их расставания.
— Нам бы хорошо помолиться втроем, — робко сказала Тася, будто предстоящее расставание предполагало прощальную молитву.
— Ну ты же знаешь, что мы атеисты! — вспылила Вера, заряжаясь негодованием. И тут же притихла, понимая, что нет больше времени на пререкания и скоро они навсегда разлучатся.
Пили чай со сладким яблочным пирогом, черный, душистый, как любили заваривать его старики. Мама подала чашку бабушке, и та в постели с наслаждением пригубила дегтярный напиток, взяв в рот крохотный кусочек сахара.
— Как хорошо, — благодарно сказала бабушка, возвращая чашку.
— Мои милые сестры. — Тася пугливо и умоляюще посмотрела на часы, а потом на сестер, и ее величавое, большеносое, с благородной сединой лицо стало торжественным, проникновенным. — Я счастлива тем, что Господь дал мне на старости лет возможность испытать это чудо — свидание с вами, с Россией, с дорогими могилами. Я так благодарна вам за прием, за гостеприимство. Вы окружили меня таким вниманием и любовью, столько сделали для меня. Впервые за долгие годы я почувствовала, что такое семья, отчий дом, бескорыстная родственная любовь. Я виновата перед вами, причиняла вам хлопоты, огорчения. Не всегда понимала вас. Была порой бестактна, стараясь обратить вас в мою веру, не сознавая до конца, какую трудную жизнь, исполненную страданий и утрат, прожили вы. Виновата, что столько лет не извещала вас о себе, но просто боялась причинить вам вред. Какая боль, какая любовь охватывает меня при мысли, что не успела повидаться с мамой, с дядей Колей, дядей Мишей, тетей Катей, со всеми нашими дорогими и близкими. Я уношу в моем сердце нежность к вам. Буду вспоминать ваши любимые лица. Тетю Настю, как она лежит сейчас умиротворенно под алыми маками, которые когда-то сама вышивала. Тебя, Верочка, как ты хорошо и красиво сидишь сейчас в своей кофте с резной брошью, которую я помню еще на маме. Тебя, моя драгоценная Татьяна, твое участие, твою необыкновенную сердечность, которую ты сберегла невзирая на все невзгоды и горести. Буду вспоминать тебя, дорогой Миша, твою добрую жену, великолепных, очаровательных детей, вашу чудесную русскую избу среди неповторимой родной природы. Всем вам огромное спасибо и низкий поклон!
Она наклонила тяжелую, с белыми буклями, голову. Ее бирюзовые глаза наполнились прозрачными слезами, веки покраснели, и она быстро приложила к глазам платок с синей каемочкой.
Все были взволнованы этими словами прощания. Мать справилась с волнением, дождалась, когда успокоились ее дрожащие губы.
— Дорогая Тася, твой приезд, твое пребывание среди нас — это свидетельство нерасторжимости наших родственных уз, единства семьи, которая всегда, в самые тяжелые и страшные времена, была едина. Сберегалась этим единством, сходилась над очередной могилой, жила любовью и светом, исходившим от тех, кто ушел и кто еще остается с нами. Известие о тебе, казалось пропавшей навсегда в пучинах эмиграции, твое чудесное явление среди нас, стало торжеством нашего рода, некогда такого обильного, а теперь оскудевшего. Мы все наполнены тобой, озарены нашей встречей. Ты продлила наши жизни, омолодила нас. Прости, если и мы были иногда невнимательны к твоим переживаниям, не до конца понимали тебя, иногда обижали. Ведь мы прожили такие разные жизни, разные исторические эпохи, принадлежа этим эпохам, неся на себе их неизгладимый отпечаток. Нам хочется, чтобы ты поняла, почему мы, пережив столько напастей, потеряв на войнах и в лагерях самых дорогих нам людей, испытав страдания и мучения, все-таки любим свою Родину, гордимся ею, простили личные неурядицы и обиды, веря в великую русскую судьбу. Мы жили в такую эпоху, когда наши маленькие жизни были в созвучии с огромной, трагической и великой жизнью народа. А это счастье, которого ты, по воле обстоятельств, была лишена. Мы верим, что во искупление всех страданий и бед наша Родина будет счастливой. В это верили, не всегда выражая вслух свою веру, наши скептические старики — скептический дядя Миша, едкий и насмешливый дядя Коля. Конечно, мы не религиозны в том смысле, как ты понимаешь веру. Но наша религия — это Победа в войне, благополучие и величие страны, ради которой мы принесли жертвы, торжествующее в нашей жизни добро. Теперь, когда близится пора расставания, — мать пугливо и беспомощно оглянулась на стенные часы, — еще есть время принять решение. Я повторяю тебе, сестра, — оставайся с нами. Оставайся в России. Тут твоя Родина, твой воздух, твой народ, твои родные могилы. Мы любим тебя. Сделаем все, чтобы твоя старость была спокойной, счастливой. Оставайся с нами, сестра, и поверь, нам будет хорошо. — Губы ее опять задрожали. Она умоляюще посмотрела на Тасю, предвосхищая набежавшими слезами ее ответ.
— Я все время думала об этом. — Тася комкала платок с синей каемочкой. — Примеряла, прикидывала. Где я буду жить? Вместе с Верой, которая привыкла к своему одинокому укладу, обзавелась тысячами привычек? Живя вместе с ней этот месяц, я постоянно нарушала ее уклад, раздражала ее. Наша совместная жизнь сложившихся, обремененных привычками людей выльется в одно раздражение, в непрерывную ссору. Жить с тобой, Таня? Но ты обременена уходом за матерью. Неизвестно, что ляжет на твои плечи в ближайшее время, когда тетя Настя окончательно сдаст. Отдельную квартиру мне здесь никто не подарит. В то время как в Сиднее у меня есть уютное отдельное жилище в нашем баптистском общежитии. Под старость мне будет обеспечен уход, сиделка, достойная пенсия. Эти бытовые мелочи, непреодолимые психологические препятствия мешают мне остаться в России. Я побывала здесь, вдохнула воздух Родины, этого глотка мне хватит до конца моих дней. Буду вспоминать вас, перебирать ваши подарки и фотографии, жадно ждать ваших писем. Спасибо вам!
Они сидели молча, ссутулясь, с мокрыми глазами. Часы стучали, приближая вечную разлуку.
— Тетя Настя, — Тася встрепенулась, поднялась из-за стола, пересела на кровать к бабушке, — давай помолимся вместе!
Бабушка, не в силах поднять голову из подушек, в знак согласия опустила и снова подняла веки. Протянула Тасе слабые руки, коричневые, костистые, обтянутые сухой кожей. Тася взяла их в свои, большие, пухлые, белые. Минуту они сидели молча, взявшись за руки. Потом Тася громко, истово, подымая глаза к потолку, стала читать:
— Отче наш, сущий на небесах… — Бабушка услышала слова чудесной любимой молитвы, с которой столько раз отходила ко сну и столько раз встречала свой новый день. Стала вторить шепчущим голосом, умиленно и восторженно возведя глаза. — Да святится имя Твое, да приидет царствие Твое… — Коробейникова поразило это хоровое чтение, где Тасин сильный, настойчивый голос с неуловимой нерусской интонацией и родной, бабушкин, с благоговейным порывистым шепотом, выговаривали простые, идущие от сердца слова. — Да будет воля Твоя и на земле, как на небе… — Обе верили в благодатную волю Творца, благодарили за чудесный дар, позволивший им повидаться после стольких лет невыносимых страданий, еще раз в этой земной юдоли налюбоваться друг другом. — Хлеб наш насущный дай нам на сей день… — Коробейников шептал вместе с ними, чувствуя себя включенным в бесконечную череду поколений, которые исчезали одно за другим и были явлены этими дорогими женщинами, которые тоже исчезнут. — И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. — Две их души просили у Бога прощения за несуществующие грехи. Исполненные благоговения, не роптали за понесенные утраты, благодаря за отпущенные любовь и добро. — И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого… — среди страшных бурь и великих злодеяний, отнявших самых ненаглядных и близких, они просили Господа принять в свой чертог дружную большую семью, рассадить за широким столом ее старых и малых, — ибо Твое есть царство, и сила, и слава вовеки. Аминь! — Молились за всех, кто когда-то, окруженный красотой и любовью, жил в большом чудном доме, выходившем окнами в сад, и величественный бородатый хозяин, в мягких сапожках и вельветовой блузе вносил на веранду букет белых роз. Молились за всех, кто лежал под могильными плитами в далеких краях и странах, о чуде их встречи, о ниспосланной радости наглядеться, налюбоваться друг другом, перед тем как навеки расстаться.
Коробейников смотрел на темные, сухие, как у птицы, руки бабушки, потонувшие в Тасиных белых ладонях. Понимал, что присутствует при таинстве, касавшемся и его, и детей, и еще не рожденных внуков, которые, пройдя земные пути, неизбежно исчезнут в бездонной глубине этой чудесной молитвы.
— Ну вот, теперь можно и в путь, — опавшим голосом произнесла Тася, отпуская бабушкины руки, обращая лицо к циферблату. Но бабушка, которой молитва вернула силы и разум, продолжала тянуться к ней. Страстно, слезно, с бурлящим горлом, воскликнула:
— Тася, девочка моя!.. — Та уронила голову бабушке на грудь, и бабушка гладила ее, по-матерински целовала, прощалась с ней навсегда.
На аэродром мать не поехала, потому что бабушке стало плохо. Капала капли, вызывала «неотложку».
Коробейников вез в Шереметьево Веру и Тасю на «Строптивой Мариетте». Обе сестры молчали. Тася беспокойно взглядывала на мелькавшие за окном дома, будто каждый беззвучно хватал ее за голубой шелковый платок и хотел удержать.
В аэропорту Тася разволновалась, пугаясь паспортного контроля, таможни, проходивших мимо замкнутых и строгих пограничников.
— Ты таблетки взяла? — спрашивала отрешенно Вера.
— Куда я очки положила? — шарила по карманам Тася.
Коробейников поднес чемоданы и сумки к металлической стойке. Тася обняла его, поцеловала, и он почувствовал сладковатый запах пудры, теплоту рыхлой большой щеки.
Сестры взялись за руки. Молча смотрели одна на другую. Склонили головы, прижались лбами и недвижно застыли, закрыв глаза. Это было продолжением таинства, освещавшего их пребывание на земле, любовь, невысказанность, обреченность расстаться и больше никогда не увидеться. Упокоиться на разных половинах Земли, так и не сказав друг другу самое важное, сердечное, невыразимое. Над их седыми головами горело табло, оповещавшее о самолетных рейсах, туманился потолок аэровокзала, а выше, в бескрайней Вселенной, реяли светила, неслись метеориты, загорались и гасли солнца. Присутствовал безымянный Бог, наблюдавший их прощание.
Тася подхватила чемоданы и сумки, неловко потащила сквозь ограду. Исчезла в толпе. Еще раз, издалека, оглянулась, отыскивая их глазами. Вера что есть силы махала, но сестра не видела, и ее унесло с толпой.
Возвращались обратно на «Строптивой Мариетте». Тетя Вера окаменела рядом на сиденье, словно он вез статую.
35
Ноябрь начинался чудесными морозными днями, когда в синеве сверкало холодное солнце, сквозили пустые вершины бульваров, замерзшие лужи были длинные, стальные, с пузырями застывшего воздуха, провода блестели как стеклянные, упавший снег со следами собак и ворон не таял. Москва казалась перламутровой, и ее хотелось рисовать розовыми, голубыми, нежно-зелеными красками.
Коробейникову позвонил его приятель, художник Кок, творец языческих масок, символист, пребывающий среди шизофренических галлюцинаций, в которые прятался от назойливых участковых милиционеров. Те считали его трутнем и тунеядцем, желали видеть среди трудоустроенных граждан, грозили высылкой из Москвы на трудовое поселение.
— Как живешь? — услышал Коробейников смешливый, кудахтающий голосок Кока и тут же представил его золотой хохолок, круглые птичьи глаза, бегущий кадычок. — Как дела, Коробей?
— Скарабей, — откликнулся Коробейников, пускаясь в игру созвучий, принятую в кругу «язычников», пытавшихся таким образом пробиться сквозь шелуху современного, порченого, языка к древнему праязыку, где не было согласных, а одни певучие, мычащие и аукающие гласные.
— Скоро ешь, скоро бей…
— Ох, много скорбей…
— Минога в горбе…
— В гербе и в вербе…
— В яме, брат, в ярме…
— Ермила…
— Ярило…
— Свиное рыло…
— Ыло, уыло…
— Ола, аола… — завершил лингвистическую разминку Кок и кудахтающе рассмеялся, отчего на другом конце телефонного провода затрепетало золотом и изумрудом его бойцовское оперение. — Я тебя приглашаю.
— На похороны ведьмы?
— На роды колдуньи.
— Дуни-колдуньи?
— Нюни-колдуньи.
— У нюни слюни.
— У Лени в паслене.
— Лене в колени.
— Каленый.
— Алена.
— Холеный…
— Куда приглашаешь? — боясь сорваться в брехню, поинтересовался Коробейников.
— Я тебе говорил при последней встрече, когда ты привел ко мне на Бронную психиатра, и у Людки — тростниковой кошки случился выкидыш.
— Да это не психиатр. — Коробейников вспомнил камлание шаманов, магов и колдунов, которых напугал Саблин, назвавшись врачом-психиатром.
— Не имеет значения. Он отбрасывал тень, значит, был сделан из мертвой, непрозрачной материи. В это воскресение мы устраиваем выставку наших работ. Естественно, не в Москве, не в выставочном зале, а тайно, на природе, в лесу. Приглашены люди из посольств, может быть, что-нибудь купят. Будут все наши. Устроим праздник Зимы священной, по первому снегу. Повеселимся, совокупимся, снесем яички, вылетят птички.
— Где это будет?
— Двадцать первый километр Киевского шоссе. Съезд направо, на недостроенную дорогу. На опушке леса встречаемся. Только бы гебисты не пронюхали.
— Приеду, конечно. Давно не трясли хохолками.
— Кстати, Матерый вернулся из фольклорной экспедиции, привез матерные частушки…
— Непременно буду, — сказал Коробейников, радуясь приглашению, подумывая, не взять ли с собою Елену на это языческое, солнечно-снежное действо.
Однако Елена, выполняя поручение мужа, не могла отлучиться из дома, и Коробейников поместился в «Строптивую Мариетту» и отправился на Киевское шоссе. За Внуковом, пропуская над головой ревущие, сияющие, как алюминиевые слитки, самолеты, на указанном километре дороги, Коробейников отыскал ответвление асфальта, проехал по нему среди снежных обочин, белых, нетоптаных опушек, серых, безлистных, вознесенных в синеву лесов и оказался на условленном месте, где уже начиналось действо. Стояло несколько легковых автомобилей, в том числе и с посольскими номерами. Притулился разболтанный грузовичок с брезентовым тентом. От асфальта к лесу была протоптана тропинка. На кустах, на сучках деревьев были развешаны картины, казавшиеся издалека разноцветными платками, — переливались драгоценно среди снега, голых стволов, под голубыми небесами.
Коробейникова встретили как своего. Затормошили, защипали, повели по тропинке к экспозиции, перед которой Кок выгуливал стайку иностранцев, отличавшихся от прочих модными долгополыми пальто, песцовыми и лисьими воротниками, длинными, почти до земли, шарфами. Тут же орудовал оператор с кинокамерой, снимая фильм о русских художниках-авангардистах, гонимых властями, вынужденных выставлять картины под открытым небом.
Среди старых знакомых Коробейников узнал мистического писателя Малеева, толстенького, умильного, с шевелящимися румяными губками, готовыми прошептать какую-нибудь эстетизированную гадость. Рядом увивалась его «духовная дщерь», тощая, неистовая, с рыжими кошачьими глазами, готовая вцепиться в каждого, кто посягнет на обожаемого «духовного отца». Цыганистый живописный мужик с черно-фиолетовой бородой, красным плотоядным языком и выпуклыми, как у осьминога, глазами, отражающими мрак подводного царства, вел под руку ведунью Наталью, пытающуюся преодолеть гравитацию. Она была настолько измождена диетой, столь страстно умертвляла в себе плоть и культивировала дух, что казалась прозрачным стеблем водянистого хрупкого растения, и хотелось к ней подойти и сломать, как неудержимо влечет подойти и сломать придорожный зонтичный цветок. Здесь были неприкаянные московские художники, одетые в обноски, с заискивающими голодными глазами, вожделенно взирающими на иностранцев, в надежде запродать богачам холст, получить кусок на пропитание. Были подпольные искусствоведы, тайно печатающие рецензии о «новом русском авангарде» в зарубежных изданиях, помогающие заезжим ценителям собрать за бесценок великолепные коллекции непризнанных московских художников. Был здесь известный фольклорист по прозвищу «Матерый», то ли потому, что имел вид породистого русского мужика в ладном тулупчике, отороченной мехом шапке, в красных рукавицах, то ли оттого, что знал множество матерных частушек. Исполнял их под гармошку в обществе московских интеллигентов, отчего рафинированные дамы притворно, со сладким ужасом, ахали, а мужчины старались записать и запомнить похабные лихие четверостишия.
— Тут вашему вниманию, господа, предлагается диссидентское миросознание, впрямую конфликтующее с официальным взглядом на общество и человека. Каждого из этих отважных художников ожидает в лучшем случае ссылка на поселение, а в худшем они разделят участь Ивана Денисовича. — Это говорил искусствовед Буцылло, тучный, с кольчатой ассирийской бородой, радостно выпученными жизнелюбивыми глазами, чей мокрый красный рот аппетитно обсасывал каждое произносимое слово, будто это был сладкий хрящик.
Иностранцы из посольств понимающе кивали. Оператор вел кинокамерой по картинам, которые висели на ветках берез, были укреплены среди голых кустов или стояли прямо на снегу.
Здесь выделялась серия нежно-розовых, с переливами перламутра, холстов, где были изображены упитанные задницы разных размеров, в «фас» и в «профиль», на досках Почета и увешанные орденами, среди вымпелов и знаков отличия, большими и малыми группами, в заводских цехах и на стройках, вплоть до гигантского скопления, заполнившего раздвоенными, бесчисленно повторяемыми ягодицами Красную площадь. Среди прочих картин обращала на себя внимание пятиконечная звезда, жутко багровеющая в чернильной синеве над мертвенным опустошенным городом. Звезда была наполнена кровью, обрывками кишок, раздавленными эмбрионами, и на ней сидели нахохленные, обкормленные трупами вороны. Был выразителен портрет писателя Дубровского с изможденным мученическим лицом, сидящего за письменным столом, где на стопке исписанных листков лежали обрезок колючей проволоки и ржавые кандалы. Эти и другие работы отталкивались от бесчисленных соцреалистических полотен, изображавших ударников и стахановцев, величаво позирующих на фоне плотин и прокатных станов, воспевавших творцов социалистической науки и культуры, чьи благородные просветленные лица в золотых багетах давали представление о человеке-мыслителе, человеке-создателе.
— А этот ряд, господа, продолжает традиции авангардных двадцатых годов, когда расцвели таланты Кандинского, Филонова, Татлина, чьи работы, я знаю, украшают и ваши коллекции, к чему и я приложил мои скромные усилия. — Буцылло колыхал кольчатой декоративной бородой, словно персонаж из оперы «Аида». Благосклонно, с лукавым блеском в выпуклых ассирийских глазах, заманивал покупателей, предлагая товар, причудливо размещенный на прилавках из снега, березовых суков и ольховых прутьев.
Тут были представлены кубисты, разлагавшие пространство на множество разноцветных кристалликов, сшивавшие мир из раскрашенных лоскутков, демонстрирующие дробность и атомарность мироздания, что обесценивало доктрину уникального, единственно-возможного социалистического общества, несводимого к элементарным деталям конструктора. Абстракционисты, вместо того чтобы изображать новые города в пустыне, а также полные величавого психологизма лица сталеваров, физиков и защитников Отечества, создавали спектрально-яркие пучки света, переливы каплевидных форм, сгустки цветов, таинственное плетение нитей, что напоминало снимок головного мозга, сделанный сквозь электронный микроскоп. Интересен был портрет пожилого мужчины с шелушащейся склеротичной кожей, щербинами и пигментными пятнами, с глазами, в которых, как в канифоли, застыло множество пузырьков. Но, если присмотреться, каждая конопатина и оспина лица, каждый склеротический капилляр или пузырек в глазу был крохотной миниатюрой, где люди дрались, совокуплялись, мочились, висели в петлях или торчали, посаженные на кол, что напрочь ломало представление о человеке — оптимистическом строителе коммунизма.
— Ну, и наконец, — Буцылло завершал экскурсию, которая вполне могла бы перейти в аукцион, — здесь представлено целое направление, которое я бы определил как «неоязычество». Художник порывает с омертвелостью материальной доктрины, с гнетущим миром технических и социальных машин и прорывается к первозданному, неистово-фольклорному, радостно-демоническому. Для России это означает истинный ренессанс, своеобразный эллинизм, где место эллинских языческих богов занимают славянские Перун, Велес, Сварог, Берегиня.
Эти картины, стоящие на снегу, напоминали букеты цветов. Вокруг них пританцовывал художник Кок, в островерхом колпачке, нарядной курточке и сафьяновых сапожках, похожий на дурашливого скомороха. Танцы и игрища вокруг костров. Любовные мистерии и ночь на Ивана Купалу. Жертвоприношения деревянным и каменным идолам. И огромная красочная картина художника Васа — «Мать Земля». Сочно и натуралистично, величиной во весь холст, были изображены женские гениталии, окруженные кудрявыми дубравами, цветущими лугами, скачущими наездниками, хороводами и гульбищами.
— Мы созданы из спермы земли!.. Мы — дети снега!.. — втолковывал Кок гостю из французского посольства, с непокрытой головой, картинно обмотанному длинным вязаным шарфом.
— Прекрасная экспозиция, — это произнес за спиной Коробейникова полный, колыхающийся, словно розовый студень, Александр Кампфе, критик из Гамбурга, частый гость Москвы, где он поддерживал отношения со множеством неформальных художников, совершая регулярные инспекции их бедных мастерских. Составлял каталоги, писал рецензии, оказывал денежную помощь, создавая в Германии репутации непризнанным московским мастерам. Находил для них богатых покупателей, беря комиссионные за эти экстравагантные покупки. — Русские и немцы близки своим нерастраченным язычеством. Два живых народа, которые сохранили связь с древними дохристианскими культами. Мертвые народы за это им мстят. Немецкое язычество раздавили танками в сорок пятом. Русские, как мы видим, сберегли своих богов до наших дней. — Кампфе завладел вниманием Коробейникова, пускаясь в свои любимые разглагольствования. Он родился в довоенной Москве от брака русской женщины и чиновника германского посольства. Наполовину русский, он обожал Москву. Наполовину немец, занимался идеологической разведкой в пользу Западной Германии, окормляя диссидентствующих московских интеллигентов. — Духовная близость немцев и русских объясняется близостью их языческих пантеонов. Будущий неизбежный союз Германии и России — это союз Одина и Перуна, Лорелеи и Берегини, нибелунгов и русских богатырей. Так я и напишу в моей рецензии, посвященной этой снежной выставке.
Среди картин двигался кинооператор из Германии, увлеченный, длинноволосый, с выбритым худощавым лицом. Пригибался перед полотнами, водил окуляром по березам и елям, охватывал снежную поляну и снова возвращался к холстам, пламенеющим среди белых снегов.
— А теперь, господа хорошие, начинаем праздник «Зимы священной». — Кок, пританцовывая и приплясывая, остро взглядывал круглым птичьим глазком. Заискивал перед иностранцами и одновременно потешался над их готовностью восторгаться всем экзотическим, русским. — Первые самолеты, господа, были построены в Москве в шестнадцатом веке при дворе Великого князя Московского Ивана Третьего. И звались они — «змеевелы»!
От дорожной обочины, где притулился грузовичок с брезентовым тентом, на белый солнечный простор поляны вылетел велосипед, ярко и дико раскрашенный, с трещотками на спицах, с матерчатыми лентами за седлом. В седле, дико вращая педалями, трясся наездник в дурацком колпаке, в пестрых лохмотьях, увешанный бубенцами, погремушками, пустыми консервными банками. За ним бежал скороход, поддерживая на весу огромного перепончатого змея, — красного, золотого, зеленого, ярко пылающего под солнцем. Когда велосипед вырвался на поляну и, подскакивая, оставляя неровный след, натянул бечеву, скороход отстал, отпуская змея. Тот, волнуясь тряпичным хвостом, взмыл в синеву, заиграл, затрепетал, устремляясь в высокую лазурь, как фантастический, прилетевший на Русь дракон. Велосипедист с размалеванной хохочущей рожей что есть мочи крутил педали, оглашал поляну звоном и треском, а над ним ныряло, взвивалось, горело оперением, мотало волнообразным лоскутным хвостом пернатое диво. И все, кто был на поляне, кричали, улюлюкали, хлопали в ладоши, по-детски ликуя, приветствуя языческое божество, забавную игрушку, первобытную машину, сочетавшую хрупкий земной экипаж, летательный аппарат, пилота, управлявшего с земли своим изделием, а также солнечную снежную поляну, небесную лазурь и испуганную, летящую над лесом сороку.
— Давай, немец, снимай русского змеевела!.. — Кок подбадривал оператора, который страстно водил в небесах кинокамерой, ловя языческое божество, прилетевшее из неведомой запредельной сказки. Той, до которой так и не добрался отец оператора, что вместе с группой «Центр» пришел под Москву в сорок первом году подивиться на русское чудо и теперь лежал в безвестной подмосковной могиле.
Лихой наездник обогнул поляну, вернулся на шоссе, и змей, теряя высоту и скорость, плавно опустился на распростертые руки подоспевшего скорохода. Что-то хлебниковское, молодое, первобытно-восхитительное чудилось Коробейникову в этой потехе, частью которой был и он сам. Как и все, ликовал, хлопал в ладони, улюлюкал, прославляя летающего небесного идола и земную священную колесницу.
— А теперь вы увидите народную гадалку, ведунью, предсказывающую судьбу по птичьему гребню, куриной ноге, ячменному зерну, — возгласил Кок. — Русская ведьма — «куровея», как сказано о ней в «Велесовой книге».
От грузовичка стала приближаться женщина с распущенными волосами. В широкой домотканой юбке, с золотым обручем на голове, несла на плече коромысло, на котором покачивались две ноши, покрытые холстами. Таинственно улыбаясь румяным ртом, полузакрыв глаза, женщина вышла на поляну. Опустила с плеча коромысло. Отцепила обе поклажи. Обвела собравшихся проницательным вещим взглядом. Сорвала с поклажи холсты, и все увидели клетки. Яркие, как павлины, брызгая золотом, бирюзой, изумрудной зеленью, в клетках сидели волшебные птицы. Набухли алым их горячие гребни. Зло и пристально смотрели немигающие круглые глазки. Это были куры, разукрашенные художницей, которая, нуждаясь, не в силах заработать на хлеб живописью, съехала в деревню. Разводила кур, держала огород и хозяйство, в свободное время рисуя великолепные, по-женски щедрые и чувственные, ею самой придуманные цветы.
— Русская «куровея» Ирина, — представлял ее Кок, заставляя изумляться немцев, итальянцев, французов, подталкивая вперед оператора с камерой. — Предскажет вам, кто когда умрет, кого Бог, а кого черт приберет!
Женщина стала отворять клетки. Вынимала птиц, ставила осторожно на снег. Куры, ослепшие от солнца и снега, завороженные собственной красотой, не расходились, горели на снегу, как слитки. Женщина запустила руки в растопыренные карманы юбки, извлекла полные пригоршни зерна. Метнула их в птиц, в собравшихся зрителей, в белизну поляны. Куры ожили, нацелились в упавшие зерна, стали клевать, тряся огненными зубцами на головах, оставляя на снегу трехпалые птичьи отпечатки.
— Зима будет снежной, а любовь будет нежной, — говорила ведунья, рассматривая узоры птичьих следов, словно в этом орнаменте отпечаталась сама судьба, водившая сказочных птиц по снегу, рассыпавшая по белизне золотой ячмень, управлявшая острыми ударами голодных клювов. — Реки ноне стали рано, приставь муж к жене охрану. — Это она выговаривала щеголеватому, богемного вида французу, артистично запахнувшему через плечо алый шарф. — На ручье ледок, на губах медок. — С этим она обратилась к Александру Кампфе, в ком взыграла его русская кровь, и он по-детски, восхищенно раскрыл водянистые голубые глаза. — Хворь твою — хворостиной, беду — в лебеду, горе — в синее море, кручину — в лучину. — Это она пообещала ассирийцу Буцылле, завороженно взиравшему на волшебных птиц, словно желал взять одну из них, прижать огненный гребень к черно-синей своей бороде.
Коробейников глаз не мог отвести от райских птиц, прилетевших на белоснежную поляну поклевать золотое зерно. В кружевном узоре птичьих отпечатков ему мерещились обращенные к нему предсказанья о его избранности, богооткровенном творчестве, любви к Елене. Он был язычник, наивный, верящий, радостно поклонявшийся пылающему светилу, промерзшим ягодкам красной калины, величавым павлинам, расхаживающим по снежной поляне.
Оператор близко подносил камеру к птичьей голове, и казалось, она клюнет выпуклое стекло.
Ведунья собрала птиц. Они замирали в ее руках, словно засыпали. Посадила в клетки, накрыла холстинами. Подцепила на коромысло и унесла, оставив на поляне вафельные отпечатки куриных ног.
— А теперь, мать вашу так-то, немчура проклятая, французики хреновые, специально для вас, милостивые государи, — русские «цветолеи»! — Кок изогнулся в поклоне, приглашая гостей взглянуть на белую поляну, сиреневый лес, синюю пустоту, в которой вращалось белое негреющее солнце.
И там, где скрылась грациозная «куровея» с коромыслом, из-под брезентового покрова выскочили гибкие голые люди, мужчины и женщины, раскрашенные в ярчайшие цвета. Красный, как стручок перца. Зеленая, как молодая трава. Синий, словно лазурь. Золотая, будто слиток. Длинноногие, стремительные, вынеслись на середину поляны. Прожигая снег до травы, отталкивались голыми пятками, совершали кувырки, ходили колесом, вставали на руки, метались, как разноцветные вихри. Казалось, на белый снег ложатся жаркие мазки, на которые больно смотреть. Танцоры исполняли неистовые пляски, придуманные языческим хореографом. Плотно сходились, вознося грациозные руки, превращаясь в сочный, с раскрашенными лепестками, цветок. Разлетались, словно ветер разбрасывал по поляне оборванные лепестки. Сбегались попарно, мужчина и женщина. Ударяли друг в друга красные и зеленые ягодицы. Терлись один о другой синий и золотой животы. Эротические телодвижения изображали зачатие земли, плодоношение дерева, тучность стада, колошение нивы. Танцоры вытягивались в вереницу, подобно журавлям, и неслись, не касаясь земли, над поляной. Кидались на четвереньки, кувыркались через плечо, как оборотни, и по-звериному рыскали по поляне. Ложились в снег, начинали струиться, извиваться, как змеи, вытапливая жаркими телами влажные травяные тропы. Это были первые люди, только что сотворенные в мастерской Бога, который вдохнул жизнь в обожженную глину, а потом раскрасил в чудесные цвета, как до этого он раскрасил землю и небо, цветы и камни, птиц и животных. Они были представители юных рас, от которых повелось человечество. Их первобытная нагота, неистовая радость говорили о райской поре, когда снег был не признаком холодной зимы, а всего лишь белоснежным покровом, на котором, в утешение Господу, восхитительно и волшебно смотрелись красочные танцы.
«Цветолеи» сложились в хоровод, более прекрасный и радостный, чем хоровод Матисса. Проскакали мимо восторженных зрителей. Ярко-зеленая женщина прошлась перед Коробейниковым колесом, и он видел, как плещутся сильные груди с изумрудными сосками, напрягается и дрожит литой живот, отороченный кудрявым зеленым мхом.
Не успели они укрыться в грузовичке, как показался величавый фольклорист Матерый, в полураспахнутом тулупе, беличьей шапке. Раскрывал малиновые мехи голосистой гармоники. Его пальцы небрежно бегали по перламутровым кнопкам. Синие глаза ласково и дремотно осматривали собравшихся. Негромко, прислушиваясь к сладким переливам, награждая слушателей бархатным благородным баритоном, пропел:
Гармонист у нас хороший, Как цветочек аленький. Сам большой, гармонь большая, А х… маленький.Все ахнули, прыснули. Кок восхищенно повернулся вокруг оси на одной ноге. Вас присел, охлопал себя по коленям и загоготал. «Дщерь» повисла на шее Малеева и поцеловала взасос. Буцылло укоризненно и всепрощающе осматривал всех выпуклыми оленьими глазами. Ведунья Наталья, истощенная и бледная до синевы, не дерзавшая вступать в поединок с гравитацией, чуть порозовела от этих земных слов, подействовавших на нее, как ложечка березового сока. Александр Кампфе затряс от смеха прозрачным розовым подбородком, вкушая терпкий язык своей русской родины. Иностранцы, не понимая до конца фольклорную прелесть частушки, тем не менее улыбались. Оператор, чья камера еще не остыла от огненных плясок на снегу, крутился возле Матерого, словно облизывал его от голубоватого меха беличьей шапки до нарядных сапожек с подковками.
Матерый, избалованный успехом, щедро сыпал жемчугами:
Я милашечку — разок, Она прищурила глазок. Я еще одинова — Она и рот разинула.Слова, произносимые ленивым затрапезным голосом, не казались скабрезными. Звучащие на снегах, на белой поляне с черными цепочками следов, с разноцветными лежками, оставшимися от раскрашенных танцоров, эти слова были не непристойностью, а народной веселой шалостью, такой же, как сбитая снежком сосулька, или брошенный в воду уголек, или кинутый на сковородку масленый блин. Коробейников любил этого поющего охальника, совершающего экспедиции в русскую глухомань, привозящего из северных деревень драгоценные песни, которые он спасал от забвения. Матерый тешил друзей озорными частушками, не отделяя проперченные четверостишия от великолепных протяжных песен, мистических, как восходы и закаты, приливы и отливы, рождения и погребения.
Все неудержимо заскакали, затанцевали, затормошили Матерого, который рванул наотмашь гармонь, открывая ее сочные красные внутренности. От грузовика бежали ряженые, в юбках, портках, ветошках, с напяленными масками. Чернобородый Цыган с кольцом в ухе. Долгоносый Солдат с деревянной саблей. Деревенская дура Глафира с бурачным румянцем на длинном дебелом лице. Огненное, с рыжими языками, Солнце, похожее на рыжий цветок. Смертушка с костяной головой, в лазоревых цветиках, в белом балахоне, с клюкой. Маски приближались, гармонь ревела. Коробейников, захваченный общим весельем, пьяный без вина, радостный беспричинно, любил этих разномастных людей, тешивших душеньку на белой поляне. Кока, скачущего, как бойцовый петушок. Васа, извивающегося, словно ненасытный котяра. Александра Кампфе, который забыл о своей идеологической разведке, превратился в добродушного толстяка. Француза, отплясывающего на снегу в модных штиблетах.
Коробейников увидел, как на дороге, из-за клина серого леса, появляется пульсирующая, брызгающая дурным светом мигалка. Милицейская машина медленно катила, дрожа фиолетовой вспышкой, вытягивала за собой три одинаковых тупоносых автобуса грязно-зеленого цвета. За автобусами, стараясь не отстать, лязгал бульдозер, качая блестящим ножом, торопливо крутя гусеницы.
Гульба на поляне прекратилась. Гармонь умолкла. Все ошалело смотрели на приближающуюся колонну.
Автобусы остановились. Двери открылись, и оттуда посыпались милиционеры, в серо-синих шинелях, сапогах, в фуражках с красными околышками. Их был целый отряд. Они умело и быстро развернулись в цепь, кинулись от дороги на поляну. Приближались, одинаковые, целеустремленные. Энергично месили сапогами снег. Их молодые румяные лица выражали атакующую непреклонность.
Бульдозер съехал с асфальта, неуклюже заторопился через поляну к опушке, где пестрели расставленные и развешанные картины. Гусеницы ярко вращались, оставляя на снегу двойной рубчатый след. За бульдозером поспевала группа милиционеров.
— Ни фига себе! — растерянно произнес Матерый, складывая прорыдавшую гармонь.
— Нас заложили! — фальцетом воскликнул Кок и кинулся опрометью в ширь снегов. Многие устремились за ним, рассыпаясь по поляне. Цыган с кольцом в ухе мчался, оглядываясь огромной, пучеглазой, чернобородой рожей. Гулящая девка Лизетта с медной челкой и исцелованными развратными губами улепетывала, издавая глухие вопли. Смертушка, развевая балахон, спасалась, вращая костяным коробом с лазоревыми цветами.
— Картины раздавят, уроды! — возопил Вас и гибкими, кошачьими прыжками помчался наперерез бульдозеру спасать драгоценные полотна.
Милиционеры, ведомые тяжеловесным командиром, действовали осознанно, как на учениях. Цепь окружала поляну, отсекала бестолковых беглецов от леса, стягивалась, словно набрасывала на добычу невидимую сеть, в которой беглецы начинали биться, трепыхаться, выбивались из сил. Пинками, понуканиями их подгоняли к обочине. Отловленный Цыган, забыв снять маску, шел под конвоем, что-то гудел сквозь картонную оболочку. Смертушка, освободившись от желтоватого черепа, являла собой худосочного юношу с растерянной виноватой улыбкой, а рядом победно шествовал милиционер, держа под мышкой добытый трофей — костяную глазастую маску, размалеванную цветочками.
В этой охоте было много азарта, жестокости, удальства. Испуганных, бестолковых художников травили, как зайцев. Делали подножки и валили в снег. Хватали за рукава, выворачивая руки. Подталкивали в спины, доставляя обратно к дороге. Слышалась ругань, женские вопли, крики.
Бульдозер двигался вдоль кустов и тонких берез, срезал их ножом. Валил в снег картины, наезжая отточенной сталью. Вминал в грязный снег, превращая холсты и сучья в хрустящий ворох. Шла корчевка. Выкорчевывались сорные виды деревьев, неполноценные художественные творения, болезнетворные направления культуры. Бульдозерист в кабине деловито давил рычаги. Отъезжал, наезжал, наваливался на экспозицию, от которой летели яркие ошметки. Казалось, в кустах ощипывали большую разноцветную птицу.
Коробейников созерцал панораму побоища, которую кто-то разворачивал перед его ошеломленными глазами. Ему казалось, что началось затмение солнца. Все так же ослепительно белел снег, покрытый дорожками человечьих следов, перечеркнутых клетчатой колеей бульдозера. Крутилось в синеве бесцветное светило. На картонной голове блудливой Лизетты блестела золотая челка из металлической проволоки. Но на все это набежала прозрачная тень. Недавняя радость и ликование превратились в бесцветный ужас, в реликтовый страх, от которого жутко взбухало сердце и слабели ноги. Казалось, в Коробейникове восстал и беззвучно кричал весь его род, вся измученная, истребленная родня, которую уводили под конвоем из дома, мучили на ночных допросах, вели по этапам, держали в бараках и зонах с пулеметными вышками. Бесстрашный и свободный писатель и вольнодумец, он вдруг почувствовал себя ничтожным, безропотным перед лицом невидимой безжалостной машины, которая вдруг обнаружила себя туманной, затмившей солнце тенью, помутившим рассудок страхом, тусклой бессердечной расцветкой грязно-зеленых автобусов. Захотелось уменьшиться, скрючиться, заслониться локтем, защищаясь от милицейского кулака, свирепого окрика, облака пара, вылетающего из жаркого, по-собачьи растворенного зева.
— Давай их всех в автобусы, капитан! — Человек в плотной куртке, в добротной кепке, единственный штатский среди серо-синих шинелей, повелительно приказал милицейскому командиру. — Осмотри грузовик, — кивнул на притулившийся у кювета грузовичок. — Посади за руль своего шофера.
Милиционеры повели пленных художников в автобусы.
— Сударь, батюшка, пошто пихаешься? Мне бы человечинки отведать, косточку берцовую поглодать!.. — Писатель Малеев сделал идиотское лицо. Перевоплотившись в олигофрена, растягивал рот в длинной акульей улыбке, смотрел на конвойного мутными рыбьими глазами.
Дщерь, безо всяких усилий изображая безумную ведьму, распустила длинные лохмы, задрала юбку, обнажая тощие ноги:
— Я беременна!.. Я с волком сношалась!.. Волчонка рожу!..
— «Среди миров, в сиянии светил, одной звезды я повторяю имя…» — отрешенно, нараспев декламировала ведунья Наталья.
— Товарищ капитан, мы не тунеядцы. Мы члены профкома научных работников экспериментального гравитационного центра. — Ее поводырь извлекал из кармана какое-то удостоверение, подсовывал под нос офицеру.
Кок, уловленный среди снегов, поколоченный, с полуоторванным рукавом, выглядел вполне шизофреником. Предъявлял человеку в штатском какую-то замусоленную бумажку:
— Доктор Брауде… параноидальный синдром… Ловейко — жалейко, русамы — усамы, Артюр Рембо — тебе бес в ребро… — забулькал, заголосил на неведомом праязыке, окружая себя непроницаемой магической защитой.
Всех подталкивали к автобусам, запихивали внутрь. Их мутные лица светлели сквозь немытые стекла.
Александр Кампфе извлекал из кармана респектабельное пухлое портмоне, предъявлял иностранный паспорт.
— Среди нас есть представители иностранных посольств. Надеюсь, будет соблюден статус дипломатической неприкосновенности, — пояснял он сотруднику органов.
— Кинокамеру придется изъять. После досмотра пленки аппаратуру вам вернут, — бесстрастно заявлял представитель власти возмущавшемуся оператору, у которого милиционеры отобрали кинокамеру.
— Ваши документы? — Капитан милиции обратился к Коробейникову. — Ведите его в автобус, — приказал он двум здоровякам милиционерам.
Все тот же ужас, парализующий страх, унизительное безволие и слабость испытал Коробейников, дрожащими руками пробираясь в карман пиджака. Был готов объяснять случайностью своего здесь появления, несвязанность с этими полубезумными, социально-опасными людьми, к которым не имеет ни малейшего отношения. Молодой известный писатель, корреспондент влиятельной газеты, он поддерживает усилия государства в борьбе с тунеядцами и фрондерами, шельмующими основы советского строя. Эта гадкая слабость держалась мгновение. Он осознал ее в себе как отступничество. Поборол непомерным усилием, предъявляя журналистское удостоверение, готовый стоически занять место в грязно-зеленом автобусе, разделить судьбу уловленных художников.
Капитан принял удостоверение. Вертел, разглядывал. Передал человеку в кепке. Тот некоторое время переводил глаза с лица Коробейникова на фотографию в документе.
— Разве вам больше не о чем писать? — спросил он, возвращая удостоверение. — В нашей жизни столько достойных примеров. Впредь будьте разборчивей в выборе тем, — вернул Коробейникову книжечку, отвернулся, теряя к нему интерес.
Иностранцы поспешно уходили туда, где стояли их автомобили. Коробейников, ссутулясь, шел к «Строптивой Мариетте», боясь смотреть на грязно-зеленые переполненные автобусы.
Услышал тонкий крик. Из-под тента грузовичка выскочила обнаженная ярко-зеленая женщина. Длинноного и гибко помчалась по поляне, развевая длинные волосы. За ней гнались два милиционера, настигли жертву, повалили в снег. Был слышен истошный визг. Среди шинелей и фуражек с околышками металось обнаженное изумрудное тело. По поляне, качая солнечным ножом, катил гусеничный бульдозер.
36
Все дни он был подавлен случившимся. Вспоминалась солнечная поляна с наивным весельем шалунов и фантазеров, разукрашенные вещие птицы, огненный хоровод языческих богов. И жестокая расправа милиции, лязгающий среди картин бульдозер, зеленая дева, затоптанная сапогами. Самым больным воспоминанием были его собственные трусость и слабость, унизительное подобострастие, отречение от приятелей, которых власть травила, как зайцев, и увезла в клетках, — кого на допрос в КГБ, кого в психиатрическую лечебницу. Именно это минутное отречение, которое он безуспешно пытался сравнить с отречением апостола Петра, доставляло особенное страдание. Воспевавший величие и красоту государства, он увидел его грубую и жестокую сущность. Тупую, лязгающую гусеницами мегамашину, которая сметала робкие холсты, затаптывала в снег нежное женское тело, принуждала к унизительному смирению и подобострастию. Испытывая презрение к себе, он роптал против слепого механизма, напоминавшего огромный, с грубой нарезкой, болт, пропущенный сквозь хрупкую беззащитную жизнь, на котором завинчивалась тяжелая шестигранная гайка.
От искусствоведа Буцыллы он узнал, что одним устроителям выставки грозит штраф, других поместили под стражу на две недели, третьих готовят к выселению в отдаленные городки и деревни. Некоторых же, состоявших на учете в психиатрических лечебницах, насильно заточили в палату для душевнобольных, подвергают принудительному лечению. Среди этих пациентов оказался и Кок. Коробейников, пользуясь рекомендациями влиятельной газеты, созвонился с главным врачом психлечебницы. Испросил позволения в журналистских целях посетить палату, в которой содержался художник.
Больница помещалась в кирпичных, закопченных корпусах, напоминавших заводские постройки. Парк, окружавший клинику, был голый, пустой, с черными искореженными деревьями, словно их ломала и терзала невыносимая мука. Корпус, куда ему указали идти, был длинный, двухэтажный, с решетками на окнах, похожий на тюремный централ. У входа стоял могучий охранник, на ременном поясе которого висела связка больших ключей. Поглядывая на Коробейникова исподлобья тяжелыми глазами, он поочередно отомкнул несколько железных дверей, и в Коробейникова ударил теплый воздух замкнутого помещения, где пахло прелью, больной человеческой плотью, медикаментами и чем-то еще, чем пахнут зверинцы и бойни. В длинном, тускло освещенном пространстве повсюду стояли железные койки. На них лежали, сидели, скрючились или непрестанно шевелились одетые в халаты, пижамы, ночные рубашки люди. Врач, предупрежденный о визите Коробейникова, устало и дружелюбно рассказал ему о режиме, укладе, злоключениях и заботах этой переполненной палаты, напоминавшей ковчег, куда сошлись спасенные от катастрофы люди, каждый из которых нес в себе вмятину страшного удара, от которого погибла большая часть человечества, а уцелевшие были изувечены и сотрясены неизгладимым ужасом. Сам врач, маленький, чистенький, лысоватый, в белом халате, тоже казался одним из спасенных, кому суждено плыть в этом зарешеченном трюме, среди черного, плещущего за окнами потопа. Такими же обреченными казались немолодая некрасивая сестра, перебиравшая стеклянные ампулы, вонзавшая стальной лучик в прозрачный раствор. И тучный, заплывший мясом санитар в тесном, грязно-белом халате, в какой обряжаются рыночные мясники перед своей розовой хлюпающей плахой.
— У нас сейчас обход, прием лекарств, процедуры, — произнес врач. — Вы походите, присмотритесь, а потом, если будут вопросы, я вам дам пояснения. Если что, сразу зовите Федора. — И он посмотрел на санитара, чей мясистый лоб казался красным куском отбивной, а огромные пухлые руки двигались, словно искали кочергу, чтобы согнуть.
Коробейников был рад отсутствию опеки. Отправился по палате, отыскивая несчастного Кока.
У окна стоял большой деревянный стол. За столом сидели трое в пижамах и шлепанцах. Перед ними была раскрыта коробка с акварелью. Пол-литровая банка с водой была грязно-бурой от смешения цветов. Рисовальщики держали одинаковые кисти, макали в воду, окунали в коробку, вели по листам бумаги, где у каждого складывался свой рисунок.
Бледный невзрачный человек, терпеливый, утомленный, с лицом одинокого путника на степной, между двух горизонтов, дороге, бредущий к бесконечно удаленной, недостижимой цели, нарисовал малиновую мокрую кляксу, из которой вытягивал неровную дрожащую линию. Вел ее покуда хватало краски, освежал кисть, макая ее наугад, продолжая неровную линию, теперь уже другого цвета. Линия тянулась, занимала весь лист бумаги, и когда для нее не хватало места, рисовальщик подкладывал чистый лист, переносил на него линию, продолжая вытягивать ее из малинового клубка, как бесконечную нить. Разматывал, тянул. Но клубок не уменьшался, нить не кончалась. Труд, который был затеян художником, был рассчитан на бессчетное количество лет, был образом непрерывного, тягучего, изнурительно-одномерного времени, на котором откладывались эпохи, царства, судьбы народов, вытягивались из загадочной, рождавшей их сердцевины.
Рядом поместился тощий язвительный человек с колючим, нервным лицом, по которому пробегал яростный тик, дергался подбородок, гневно вспыхивали и гасли глаза. Он пропитывал кисть водой, набирал в нее краску, переносил на бумагу, создавая мокрую, влажную кляксу, переполненную цветом сферу, а потом резким росчерком вырывал из этой сферы брызгу, оставлял на бумаге колючий выброс. Снова насыщал кисть водой. Весь лист был покрыт разноцветными мокрыми сгустками, из которых вырывались росчерки, словно взрывные протуберанцы и выбросы. Мир, который грезился рисовальщику, являл собой бесконечно повторяемые сгущения, накапливаемые насыщения, до момента взрыва и выброса. Вселенная откладывала яйца, из которых вырывался птенец, опустошал яйцо, исчезал в пустоте. Разум человека, сотрясенный болезнью, открыл этот закон мироздания. Рисунок был графиком постоянно возобновляемой и истребляемой Вселенной. Дергающееся лицо художника напоминало осциллограф, отмечавший взрывы и успокоения мира.
Третий рисовальщик покрывал лист однообразными косыми отрезками, напоминавшими покосившийся штакетник. Каждый нарисованный отрезок сопровождался утвердительным кивком головы, словно художник соглашался с самоценностью каждого однообразно повторенного обрубка. Их могло быть бесконечное множество, но они не выражали движения, не содержали развития, были лишены стремления. Так в Заполярье терпеливые изнуренные зэки клали на мхи и болота шпалы, на которые никогда не улягутся рельсы, не протянется колея, не помчатся поезда. Вселенная выражала абсурд непрерывного бессмысленного строительства. В ней возводилась мертвая дорога из ниоткуда в никуда, и занятый в ней работник не подвергал сомнению эту бессмысленную деятельность, тупо с ней соглашался, с каждым кивком продолжал воспроизводить абсурд. Сам был одной из бесчисленных шпал, брошенных в пустоту, — в тусклое пространство сумасшедшего дома.
Коробейников смотрел на трех рисовальщиков, каждый из которых перенес травму обыденного сознания. Изувеченный разум, лишенный ограничений, получил доступ к запредельному миру, выражая в графиках его образы и подобия.
На кровати, среди скомканных простыней, лежал человек. Одно колено подтянул к подбородку, другая нога была вытянута, с напряженной стопой, какая бывает у прыгуна. Один стиснутый кулак был выставлен вперед, другой, на полусогнутой руке, был отведен назад. Неподвижный, с каменными рельефными мышцами, он выглядел как упавшая статуя атлета. Такие изваяния находили в окаменевшем пепле Помпеи. Засыпанные, изжаренные заживо люди хранили позы последних жутких минут, когда над ними разверзлось небо, пролился раскаленный дождь, хлынули расплавленные синие молнии. Лежащий на кровати человек затвердел, покрытый непомерными пластами упавшего Космоса, запечатлел остановившимся лицом ужасное, последнее в жизни видение.
На соседней кровати, свесив босые ступни, сидел жилистый, с истовым лицом пациент. Находился в непрерывном движении. Сильно надавливал ногами в белых кальсонах, мотая подвязками. Тянул на себя воображаемый рычаг, перемещая незримую деталь, и тут же, обратным движением, возвращал ее на место. Другая рука перебирала пальцы, что-то поддерживала на весу, тщательно выравнивала, бережно оглаживала. Тело резко отклонялось назад, натягивая мышцы шеи. Выпрямлялось, давая мгновенный отдых утомленной мускулатуре. Его ритмичные многомерные движения напоминали действия ткача, сидящего за ткацким станом. Стан, его балки, перекладины, шкивы, натянутые трепещущие нити, сотканный покров были невидимы. Их присутствие, конструкция, формы обозначались движениями ткача, который надрывался, блестел от пота, дрожал каждым мускулом и сухожилием. Создаваемый им покров мог быть непомерных размеров саваном, в который завернут умершего исполина. Или разноцветным половиком, от горизонта до горизонта, по которому пройдет белоногая божественная великанша. Человек своей неутомимо работающей плотью был здесь, в видимом мире душной полутемной палаты, а результаты его труда пребывали в ином измерении, недоступные для глаз.
Третий пациент сидел на корточках, охватив костлявыми ладонями голову. Вжался, скрючился, придавленный чем-то громадным и угрожающим. Его пальцы медленно соскальзывали к ушам, словно раздвигали купол головы, и тогда лицо сморщивалось от невыносимой муки и он издавал крик боли. Потом ладони возвращались обратно на темя, будто он сдвигал костяные створы головы, боль прекращалась, и лицо выражало непомерную усталость. Через минуту костлявые пальцы снова соскальзывали к желтым длинным ушам, что-то незримое вонзалось в обнаженный открывшийся мозг. Производило невыносимое страдание, отчего несчастный издавал вопль. Затем невидимое острие извлекалось из мозга, черепные кости сходились, заслоняя содержимое головы. Было неясно, кто пытал человека, какую тайну хотел из него вырвать, кто придумал для него жизнь, напоминавшую пытку.
Врач и сестра продолжали обход палаты. За ними следовал массивный санитар, переставляя неуклюжие толстые ноги.
— У меня сифилис!.. У меня сифилис!.. — повторял оплывший жиром, плохо выбритый пациент, вращая желтыми белками. Принимал от сестры, таблетки, кидал в раскрытый зев с рыхлым белесым языком. Жаловался, испытывал брезгливость к себе самому. Кошмары, его преследующие, обретали вид прилипчивых постыдных болезней.
— Будет не больно!.. Будет не больно!.. — радостно и слюняво возглашал олигофрен с белым сдобным лицом, вывернутыми губами, из которых одиноко торчал желтый зуб. Он с готовностью заголял толстый зад, в который сестра вонзала шприц, прикладывала проспиртованную ватку. — Будет не больно!.. — повторял он счастливо, и лицо его напоминало мелкую лужу с отражением белесого солнца.
— Я Коля!.. — Маленький человек, недоразвитым тельцем напоминавший обезьянку, вытягивал из пижамы худую темную ручку, предлагая врачу знакомиться, и тот охотно пожимал сморщенную ладонь, в то время как сестра набирала в шприц лекарство.
Коробейников расхаживал по палате, созерцая больных, у которых был потревожен разум, разрушена трехмерная, осознающая мир конструкция, разомкнута оболочка, запрещающая уму соприкасаться с непознаваемым Абсолютом. Рассудок, познающий мир в категориях пространства и времени, начинал взаимодействовать с бесконечным, непознаваемым Космосом. Как в раздавленную подводную лодку сквозь брешь в обшивке устремляется черная слепая вода, так в разрушенный сосуд ума прорывается черная бесконечность. Взрывается в мозгу, как удар ужаса, порождает неземные кошмары, запускает в пробоину глубоководных чудовищ, которые протягивают хлюпающие щупальца, нацеливают жуткие клювы, наводят умопомрачительные чернильные глазища.
Эта болезнь ума была заразительна. Перекидывалась на Коробейникова. Он чувствовал, как начинают трещать опоясывающие разум обручи. Как ломит виски. Как внутрь черепа давит непомерная тяжесть, стараясь раздвинуть черепные швы, разомкнуть кости, хлынуть в глубину сознания разящим ужасом. Он пугался, трогал пальцами глаза, оглаживал голову, ловя себя на том, что повторяет движения скрюченного на корточках больного. Готов окаменеть в позе опрокинутой помпейской статуи. Руки начинают дергаться и пружинить, как у безумного, потного от напряжения ткача. Губы раздвигаются в слюнявой улыбке, как у бело-розового, клюквенно-молочного олигофрена.
— Вон там находится больной, которого вы искали, — обратился к Коробейникову доктор, взглядывая пристально, словно желал обнаружить в нем пациента. Они прошли в дальний угол палаты, и Коробейников увидел Кока.
Кок сидел на кровати, обняв колени. Из коротких штанин пижамы выглядывали босые тощие ноги с нечистыми пальцами. Бородка и хохолок, еще недавно золотые и радостные, поблекли, утратили свечение, были грязно-серого цвета, словно их прокипятили, обработали кислотами, извлекли содержащийся в них драгоценный металл. Клювик кадыка испуганно дрогнул, когда Кок заметил подходивших медиков. Печальные, думающие, остановившиеся на каком-то потаенном видении глаза округлились под вздернутыми бровями, приобрели идиотское выражение, и лицо, секунду назад одухотворенное и задумчивое, превратилось в маску радостного энергичного идиотизма.
— Ао эо иуе, уе айя юае, уо ыо айяы, эе эйю уаы… — продекламировал он вдохновенный стих, состоящий из одних гласных звуков. Это напоминало длинный, неистовый крик младенца, добывающего тягучие, горячие звуки из утробы матери, от которой он не успел до конца оторваться и через которую был связан с неразумной, творящей, первородной силой, стремящейся оповестить о себе мир.
— Синдром перевоплощения, сопряженный с навязчивыми бредами, — прокомментировал врач услышанное. — Слуховые галлюцинации, сопровождающие манию преследования. — Он бережно взял Кока за хрупкое запястье и слушал, как бьется жилка. Жилка была на месте, испуганно пульсировала. Владея этой жилкой, врач полностью контролировал Кока. Мог сдавить ее и прекратить тщедушную жизнь. Мог вогнать в нее острую иглу, впрыснуть тонкие яды, и либо усыпить, либо вызвать приступ неистового, смертельного бешенства. Кок держал на весу голубоватую, с заостренными пальцами, кисть, не пытаясь вырваться из плена. Отдавал свою изможденную плоть во власть маленького лысоватого доктора, некрасивой мужеподобной сестры, громадного санитара, мрачно нависшего над больничной койкой.
— Как мы себя сегодня чувствуем? — Доктор прикоснулся к лицу Кока, большим пальцем оттянул нижнее веко сначала одного, потом другого глаза, обнажив красные ободки белков.
— Ыоао ююо, эоюю уао… — продекламировал Кок стих, произнесенный на праязыке, когда несколькими переливающимися из одного в другой гласными звуками описывалось все мироздание, смерть и рождение, продолжение рода, молитва земным и небесным богам.
— Ну вот и хорошо, и ладно, — поощрял врач, извлекая из кармана хромированный молоточек с резиновыми набалдашниками. Стукнул по тощим коленям Кока, которые не откликнулись на удары, словно это были бесчувственные ноги паралитика.
— Оа эа ыа у-у-у!.. Ао ео ыо ю-ю-ю!.. — не замечая врача, окликал кого-то Кок. Аукал, словно бродил в гулком весеннем лесу среди пахучих дождей, где в светлых березняках, под зелеными полотенцами веток, гуляла прекрасная дева, ступала по голубым и белым цветам.
— Не будем сегодня профилактировать. — Врач обратился к сестре, которая готовила шприц. — Сегодня к нам пришлют группу студентов. Предъявим этого пациента с неподавленными симптомами. А вечером проведем сеанс лечения.
— У-у-у-ооо!.. Ы-ы-ы- ooo! А-а-а-ооо!.. — не слыша, не замечая медиков, восторженно и страстно промычал Кок, словно звал из глубины леса на солнечную опушку дикого лесного быка… И тот, слыша призывные звуки, выбредал из чаши. Стоял на опушке, влажный, дышащий, поводя солнечным сиреневым оком, вздымая ревущую морду к огненному светилу, оглашая окрестности первобытным могучим ревом.
— Вы можете с ним пообщаться, если получится, — произнес врач, оставляя Коробейникова рядом с кроватью Кока. Отправился дальше вдоль железных коек, зарешеченных окон, где ждала, пугалась его появления сотрясенная космическим ужасом жизнь.
Кок, не оборачиваясь, чувствовал удаление медиков. Его лицо медленно меняло выражение, словно совлекалась маска идиотизма, и под ней появлялся измученный, похудевший, находящийся в непрестанных борениях человек. Воздел на Коробейникова тревожные, вопрошающие глаза:
— Как ты здесь очутился?
— Хочу тебя вытащить. Использую связи, через редакцию, через влиятельных людей. Все сделаю, чтобы тебя выпустили.
— Тебе не удастся. За мной следят врачи КГБ. У тебя нет влияния на КГБ. Как только узнают, что кто-то за меня хлопочет, меня умертвят.
— Что произошло? Почему случился разгром? Это нельзя было предвидеть?
— Кто-то навел КГБ. Кто-то был среди нас, знал о месте и времени, знал об участниках и навел КГБ.
— Ведь не было ничего незаконного. Просто пикник, самодеятельный театр, языческие шалости, невинные проказы.
— Был агент КГБ. Я не стараюсь вычислить. Им мог быть Буцылло. Или ведунья Наталья. Или духовная дщерь Малеева. Или двойной агент Саша Кампфе. Или, не обижайся, ты. Им мог быть я сам. Мне под кожу вшили зонд КГБ. В глазницу вставили глаз КГБ. В горло вмонтировали микрофон КГБ. И я донес сам на себя. В КГБ создан секретный отдел, где работают экстрасенсы и парапсихологи. Они слышат и видят на расстоянии. Среди нашей компании много шизофреников, и их психика входит в резонанс с секретными приборами КГБ. Происходит считывание мыслей. Целый отдел на Лубянке занимается магией, древними культами, изучает тексты пророков, шаманизм, демонологию, чтобы предсказывать будущее, воздействовать на психику политических лидеров, травмировать операторов атомных лодок. Меня могли посадить в тюрьму и сгноить в камере уголовников. Но они знают историю моей болезни. Поэтому доставили сюда, чтобы ставить на мне психиатрические эксперименты.
— Тебя здесь мучают?
— Меня здесь любят. Любят всадить мне в зад полный шприц и смотреть, как я закатываю глаза и вываливаю язык. Я шизофреник, а не стахановец. Шизофреник, а не член КПСС. Шизофреник, а не защитник Отечества. Шизофреник, а не агент КГБ. Они гонятся за мной с милицией, ищут с собаками, окружают пограничниками, пугают военкомами, ставят в очередь, выписывают карточки, ведут на демонстрации, зовут на выборы, а я делаю им: «А-о-у-ы-ы-ы-ы!..» — и они тащат меня в психлечебницу. Я скрываюсь в этом чертоге от военкоматов, профкомов, завмагов, ревтрибуналов, соцреализмов, райздравотделов. Они думают, что я эмигрирую во Францию или в Израиль, а я эмигрирую в шизофрению, и они меня не достанут. Старообрядцы убегали в леса и дебри, скрываясь от стрельцов, а я убегаю в шизофрению, и это мой тайный скит, моя сокровенная молельня, моя матерь-пустыня. В песне, которую ты привез из валдайских деревень, поется: «Млад сизой орел…» А я пою: «Млад шизой орел…» Летаю выше всех, свободней всех, вижу бесконечно далеко. Шизофрения — моя свобода, моя духовная Родина, мое несказанное Отечество. Господи, благодарю Тебя за то, что создал меня шизофреником!..
— Кок, они могут тебя залечить, замучить! Своими уколами и таблетками сделают тебя идиотом!..
— Не могут. Моя кровь состоит из шизоидных шариков. Красненькие живые клубеньки, которые плавают во мне и тихонько поют. Они распевают ангельские песни, ибо в каждом колобке живет крохотный чудный ангел. Когда приходит этот лысенький врач Раппопорт, работавший раньше в спецотряде СС под именем доктора Менгеля, и эта престарелая медсестра, настоящее имя которой Эльза Кох, и этот громила-санитар Федор, исполнитель приговоров в гестапо, когда они приносят инструменты истязания и орудия пыток, вгоняют в меня раскаленную иглу с сывороткой трупного яда, я призываю на помощь моих крохотных ангелов-хранителей, моих красных поющих колобков. Мириадами сбегаются они на мой зов. Вступают в схватку с драконами, поселившимися в каплях яда, с демонами смерти, проникшими сквозь иглу в мою кровь, с гнойными брызгами бытия, которыми меня заразили. Происходит сражение. Моя плоть становится ареной вселенской битвы — Куликовым полем, Бородино, Сталинградом. В то время, пока происходит битва и ангелы сражаются с демонами, Тьма со Светом, бесчисленные Святые Георгии побивают сонмище змей, ко мне является Бог. Навешивает мне на плечи белые крылья и берет меня в Рай. И я вижу картины Рая.
— Мне кажется, всех, кто тебя здесь окружает, мучают видения ада. Им откупоривают череп и вливают адскую тьму.
— У меня иначе. Моя голова — это чудесный арбуз, который черенком прикреплен к Раю. По этому черенку, по этой тоненькой трубочке я ускользаю от своих мучителей. От пошляков, дураков, ударников труда, героев страны, членов Политбюро, лауреатов Государственной премии, генералов армии, всех восьми колонн Большого театра, Большой советской энциклопедии, поэзии Симонова, — и попадаю в Рай, где они меня не достанут. И там я рисую. Одну картинку я покажу тебе.
Кок потянулся к тумбочке. Опасливо оглядываясь, открыл. Извлек лист бумаги. Протянул Коробейникову. Тот принял. Лист был абсолютно чист, с нетронутой белизной.
Коробейников смотрел на эту белизну, девственно-чистую, первозданную, среди больничных масляных стен, зарешеченных окон, железных кроватей, на которых шло непрерывное шевеление, постанывание, разложение утомленной, болезненной плоти. Белизна дышала, как чистая снежная поляна. По ней, вращая педалями, с веселыми свистками и тресками мчался потешный «змеевел», неся над собой расписное перепончатое диво. Расхаживали по снегу великолепные павлины, распуская радужные хвосты, и вещая «куровея» сыпала пригоршни золотого зерна. Летели в неистовом хороводе ослепительные обнаженные «цветолеи», похожие на лепестки цветов. И ангел в голубых одеждах, свешивая до земли чудесные крылья, вел по поляне Кока, нежно сжимая его хрупкое запястье.
Медики, обойдя палату, вновь приближались. Маленький доктор недовольно наставлял санитара:
— Федор, сколько раз говорю: не бей. Последний ум выбьешь. Возьми простынку, смочи, приторочь к кровати. А Надежда Никитична вколет ему успокаивающий.
Их приближение вовремя заметил Кок. Его лицо утратило задумчивое, печально-мечтательное выражение, рот слюняво раскрылся, глаза идиотски округлились, и он издал языческое, мычащее-аукающее: «Эуэ-э-э!.. Ауя-и-и-и!.. Айя-о-о-о!..»
— Так, мой милый, весьма интересно… Давайте-ка вам укольчик на доброе здравие…
Отходя, Коробейников слышал хруст расколотой ампулы.
37
В день государственного праздника, в холодное ноябрьское утро, Коробейников стоял на Красной площади, на гостевых трибунах, окруженный взволнованным многолюдьем. Вокруг дышали морозным паром именитые люди страны, ветераны войны, гости со всех континентов. За спиной, малиновая, в легчайшем инее, увенчанная зубцами, огромно возвышалась стена. Островерхие темно-синие ели были деревьями священной кремлевской рощи. Спасская башня в тусклых серо-стальных небесах блестела золотым циферблатом. Блестящий черно-розовый кристалл мавзолея казался магнитом, окруженным намагниченной сталью брусчатки. На здании ГУМа, на узорном фасаде, среди алых знамен, были развешаны на холстах лики вождей государства. В гулком пространстве площади, среди пустоты, стояли каре, окаменело-недвижные, в легчайшем тумане спрессованных в монолит жизней. Коробейников, волнуясь и робея, чувствовал себя живой, неотъемлемой частью загадочного огромного целого, созданного невидимой волей, которая вымостила площадь таинственными черными метеоритами, расставила грозные полки, приземлила в центре Москвы инопланетный корабль мавзолея, в тусклом морозном небе начертала магическое золотое кольцо, воздела шатры и главы Василия Блаженного, напоминающие фантастический каменный сад, поставила его, Коробейникова, у малиновых стен, уготовив неясную, недоступную для понимания роль, отметив прикосновением незримого вещего перста. Уже звучала в радиоэфире написанная им ода, уже внимали его страстному тексту миллионы людей, и он, певец государства, был участником священной мистерии, религиозного таинства, воспроизводящего священный смысл красной страны.
Площадь была храмом, где готовилось выкликание духов, поклонение красным богам, воспевание космических сил, прянувших из бескрайнего Космоса. Религия Революции, воплощенная в обрядах государственного праздника, выбрала Красную площадь своим алтарем и святилищем. Черная, из метеоритов, брусчатка напряженно и тайно светилась небесной энергией. Остроконечные красные звезды, прилетев из отдаленной галактики, застыли над площадью, источая тончайший свет. Храм Василия Блаженного был образом желанного Рая. Черно-алый кристалл мавзолея был драгоценной ракой, где покоились нетленные мощи вероучителя и пророка. Могилы, вмурованные в алую стену, хранили священный прах героев и мучеников, отдавших жизни за торжество красной веры. Громадные холсты с ликами партийных вождей были иконами, на которые надлежало молиться. Небо, морозное и стальное, накрывало площадь прозрачным куполом, сквозь который струились таинственные небесные силы, соединявшие площадь с бескрайним плодоносящим Космосом. Коробейников, в молитвенном ожидании, был прихожанин, которого впустили в мистический храм, поставили среди рубиновых лучистых лампад, окружили источниками священных энергий, поместили в поле магнита, соединив с живыми и мертвыми.
Рядом стоял смуглолицый, глазастый индус, — приколол к пальто красный бант, взволнованно шевелил фиолетовыми губами. Тут же старик ветеран ссутулил плечи с пыльным золотом полковничьих погон. За спиной возвышался широкоплечий шахтер с морщинами на усталом лице, в которых залегла неистребимая подземная копоть. Мимо трибун, журавлиным шагом, блестя сапогами, проскользили линейные, неся карабины с флажками на блестящих штыках. Площадь, пустая, звонкая, казалась напряженной мембраной, чуть слышно пульсировала гулом приближавшихся из неба энергий.
Коробейников увидел, как у стены мавзолея движется вереница людей. Подымается по лестнице вдоль красного камня. Выходит на вершину кристалла. Исчезает за отточенной гранью, занимая место над площадью. Их обыденный вид, грузный шаг, темные, одинакового покроя, пальто, их шляпы, каракулевые зимние шапки, теплые шарфы, малиновые банты в петлицах придавали сходство с наполнявшими трибуны людьми. Но сходство было обманчивым. Это были жрецы, хранители смысла, держатели сокровенного знания. Мистики тайной веры, имя которой скрывалось под словом «революция». Они ведали, откуда, из каких пределов Вселенной, приблизились к земле рубиновые звезды, встали над шестой частью суши, обвели автогеном, вытачивая алую кромку, выводя расплавленные огненные буквы «СССР». Они были книжники, держатели священных скрижалей, где религия Революции проповедовала другую историю, другое человечество, другие небо и землю. Они знали притчу о красном рае, красном бессмертии. Владели искусством перемещения земной оси, рецептом воскрешения мертвых, небесной механикой, менявшей орбиты планет и начертания созвездий. В черных, охваченных смертью галактиках зажигались молодые светила, вспыхивали угасшие звезды, черные дыры смерти расцветали лучами и радугами. Эти грузные, с тусклыми лицами, люди были великанами Бамиана. Их строгие лики смотрели с холщовых икон. Их ноги упирались в гранит пирамиды, откуда исходил незримый, прозрачный свет грезящего в сновидениях пророка.
Коробейников чувствовал громадную напряженность площади, своей кривизной повторявшей округлость Земли. Чувствовал вибрацию брусчатки, удерживающей давление мира. Ощущал незримую ось, проходящую через площадь в обе стороны мирозданья. Мавзолей укреплял ось алмазным подпятником. Храм Василия Блаженного зубцами и шестернями сообщал вращенье оси. Мистерия, в которой он был участник, утверждала проходящий сквозь площадь столп мира. Трибуна мавзолея была пультом, откуда велось управление историей, сохранялись ее вектор и скорость.
В воздухе переливчато, нежно зазвенело. Звук излетел из высокого золотого кольца, будто над суровой площадью вспорхнули легкокрылые прозрачные духи. Чудесно перелетали над военными каре, восхищенными трибунами. Рассаживались на малиновых зубцах, голубых еловых вершинах, крестах и шпилях, наполняя серое небо легчайшей позолотой. И уже падали из неба литые сосуды звуков, звонко разбивались о стальную брусчатку, и из каждого изливался чудесный свет. Шумно, пышно, как листва огромного, наполненного ветром дерева, дохнул оркестр. Черная сухая брусчатка ожила, затрепетала, словно растревоженная золотистой рябью вода. Из высоких Спасских ворот скользнула длинная, с открытым верхом, машина. Ее черный лакированный корпус напоминал плывущую ладью. В ней возвышался сухощавый военный в золотых погонах, с блестевшей на фуражке кокардой. Автомобиль, как жреческий челн, выплывал на площадь, оставляя за собой позолоту ветра. На другой половине площади возникла вторая машина. Другой военный, в генеральской шинели, похожий на стоящего в рост гребца, возвышался в ладье. Машины сближались, как два ковчега, и один плывущий по водам гонец нес священную весть другому.
Коробейников знал: принимающий парад министр обороны слушает рапорт начальника гарнизона, который извещает о построении войск. Бессловесные возгласы, как песнопение, летели над площадью. Воздух начинал вибрировать, отзывался эхом, переходил в пульсацию морозного неба, в дрожание темных камней, в трепет алой стены. Вибрация передавалась в небесные сферы, и они откликались чуть слышной музыкой, таинственными поднебесными бубнами, космическими барабанами. Разбуженная вибрацией, вызванная заклинаниями, сквозь миры и галактики летела к земле неистовая красная буря. И все повторялось.
Мчались, сверкая саблями, неукротимые конные армии. Отплывали в море печальные пароходы. Окруженные смоляными стропилами, вставали стены плотин. Шли трактора, взрывая плугами пашню. Загорались стеклянные лампы в тусклых промозглых избах. Шарили в букварях заскорузлые пальцы крестьян. Пламенели знаменами улицы городов и поселков. Летел через полюс серебряный молодой самолет. Мчались танки, врываясь в окопы японцев. В заволжской степи колыхался дым Сталинграда. Над берлинским расколотым куполом трепетал флаг Победы. Летела к орбите сияющая ракета Гагарина. Ледоколы с атомной топкой выпаривали океанские льды.
Две длинные черные машины скользили по площади. Подплывали к военным каре. Раздавался негромкий возглас, и в ответ срывалась лавина, ревел разбуженный воздух, оживало сонное время. Из красных стен, растворяя мертвенный камень, выходили воскресшие мученики. Павшие в боях пехотинцы. Сгоревшие в небесах космонавты. Сгинувшие в пучине подводники. Все, кого опалил жертвенный огонь революции. Кто пал в пулеметных атаках. Сгнил в ледяных болотах. Надорвался в непосильных трудах. Разбуженные ритуальными возгласами, вылетали из безвестных могил, всплывали с океанского дна, собирались из прозрачных лучей. Войска троекратным громом выкликали их несметное сонмище, и они слетались на площадь. От их прозрачных теней туманился кристалл мавзолея.
Коробейников постигал происходящее не разумом, а восторженным, благоговеющим сердцем, таким же лучистым и алым, как горящая в небе звезда. Индус с красным бантом сложил перед грудью руки, шептал лиловыми губами загадочные мантры. Ветеран-полковник молодо выпрямил спину, поблекшее золото на погонах просветлело и сочно горело. Горняк раздвинул могучие плечи, стал похож на памятник герою-шахтеру.
Площадь казалась Коробейникову громадной каменной чашей, где вскипал священный напиток. Над чашей творились заклинания. К ее краям припадали уста. Вселялись бесплотные духи. Проникало излучение звезд. Сотворялась живительная влага, побеждающая тление и смерть.
Министр обороны с гранитной трибуны читал рокочущую бессловесную речь. Над чашей круглилось золотое кольцо, набухали цветные бутоны Василия Блаженного. И уже заахала, застенала медь оркестра, дунули яростные трубы, ударили рокочущие барабаны. Качнулись ожившие стены каре, двинулись грозно боевые полки, шагнули на площадь неукротимые батальоны, качая бархатом красных знамен, тускло сияя оружием, разбрызгивая сапогами черные искры брусчатки.
Душа Коробейникова исполнилась страстного напряжения, которое искало выход, просилось на уста словами молитвы. Глаза бегали в небе, надеясь, что там оживет молитвенная, начертанная на облаках строка. Перелетали на алую стену, где вот-вот сквозь камень всплывут священные тексты. В душе расцветали грозные славословия, звучали молитвенные стихи, чьи рифмы впечатывались идущими батальонами, а образы туманили глаза горячими слезами веры.
Из крови, пролитой в боях, Из праха обращенных в прах…Колыхая плечами, сжимая на груди автоматы, шли мотострелки. Литые, нерасчленимые, нацеленные в сокрушительный удар, готовые пройти сквозь пожары мира, руины городов, стенающие континенты. Их твердые лица, огненные глаза, ударяющие в брусчатку подошвы превращались в грозное ритуальное шествие. Офицер-знаменосец нес перед строем багряно-золотое, с письменами и эмблемами, знамя. За красным полотнищем тонко сверкали отточенные сабли. Колонна подошла к мавзолею, офицеры строевым шагом прогрохотали по черно-стальной брусчатке. Коробейников разглядел желваки, яростные брови, восторженные глаза знаменосца.
Из мук казненных поколений, Из душ, крестившихся в крови…Шли десантники, раскрыв на груди тельняшки, лихо, в такт, качая голубыми беретами. Отмашки рук, масленый свет автоматов, красивые, на подбор, молодые, сильные лица.
Опустились на площадь, как боги, из бескрайних небес, где медленно, серебристо проплывал самолет, из которого сыпались легчайшие семена. Нежно засевали пустое небо. Каждое семечко раскрывало бесшумный белоснежный цветок, волшебно летело в мир. Превращалось в огненный шквал атаки, в свирепую рукопашную, в прорыв обороны. Грудь знаменосца была усыпана плещущим золотом. На обветренном лице сияли голубые глаза.
Из ненавидящей любви, Из преступлений, исступлений…Марширующие шеренги колыхали пространство. Воздух трепетал, рассекаемый взмахами. Батальонами двигала воля и страсть, неодолимая сила и вера. Они были бесстрашны, готовы к смерти. Верили в бессмертие пославшей их в бой Революции. Шли моряки в черных бушлатах. Бескозырки золотились именами кораблей и подводных лодок. Революция разносила благую весть по всем морям, океанам. Опускалась в пучину, вырывалась гигантскими фонтанами света. Коробейников любил их всех, был вместе с ними. Был готов, сжимая оружие, идти среди пожаров и взрывов, умирать беззаветно за священное преображение земли.
Возникнет праведная Русь, Я за нее за всю молюсь…На площадь, из-за красно-седого здания Исторического музея, текли железные колонны бронетехники. Упругие, на резиновых лапах, похожие на ящериц, катили зеленые «бэтээры». Звенели натертыми гусеницами заостренные «бээмпэ». В открытых люках стояли командиры машин. На башнях сочно, с блеском, красовалась гвардейская геральдика. Красное знамя с золотой бахромой и кистями развевалось над стволом пулемета. Машины шли бесконечными вереницами, словно бессчетно рождались из земли. Сотрясали площадь сиплым гулом моторов. Уходили за Василия Блаженного, окутывая в синюю гарь стоцветные купола.
Коробейников чувствовал, как густеет воздух, натертый сталью. Чаша с напитком пламенела, словно в глубине накалялся кристалл, посылая пучки напряженного алого света. Над жертвенной чашей мертвые соединялись с живыми. Священный прах героев, отдавших за Революцию жизнь, сочетался с плотью живущих, передавая заветы красного смысла. Обретал в живых свое продолжение, возрождался в марше полков. Коробейников ощущал дуновение бестелесных сил. Бессчетные души летели над священной площадью, целовали край чаши. Отец бесплотно и страстно встал из степной могилы, обнял его, оставляя на губах поцелуй.
Я верю замыслам предвечным, Ее куют ударом мечным…На выпуклую площадь, словно из-за горизонта, выезжали танки и самоходки. Тяжкие, как огромные слитки, качали толстыми пушками, отливали грубой броней, скребли брусчатку, окутываясь синей копотью. Тяжесть их была непомерна. Площадь прогибалась, пружинила, неся на себе непосильные тонны. Танки напоминали пришельцев иных планет. Проплывали мимо мавзолея, уходили вниз, за самоцветный трепетный храм, за горизонт, в поля и дубравы, к Варшаве, Риму, Парижу, выдавливая из континента грунтовые соки, огненные капли Революции.
Коробейников чувствовал, как густеет в чаше напиток, волшебно дымится, источает прозрачные лопасти света. Поверхность чаши дрожала от рокота стальных механизмов. В глубине светился рубиновый священный кристалл, в котором преломлялось время. В этом расщепленном, распавшемся на слои времени протекали еще два парада. Серый, суровый, в тусклой снежной поземке, в колыханье штыков, в дребезжании утлых полуторок, уходящий прямо с площади в метельные поля Волоколамска, и с гранитной трибуны вслед полкам, уплывавшим в бессмертие, неслось: «Дорогие братья и сестры…» И второй парад, среди пламенеющих весенних букетов, алых победных знамен, когда обветренные в сраженьях полки кидали к мавзолею штандарты поверженных немецких дивизий, и на белом кителе вождя сверкала бриллиантовая звезда. Священная чаша копила в себе драгоценный эликсир Победы. Алое вино революции. Волшебную кровь воскрешения. И уста тянулись коснуться живительной влаги, шептали слова молитвы.
Она мостится на костях, Она святится в ярых битвах…Площадь принимала на себя ракетные установки. Зенитные ракеты — двухступенчатые, с серебристым опереньем, отточенные гарпуны, воздетые остриями в небо, где они чутко выискивали стремительную тень самолета, чтобы прянуть, полыхнуть, умчаться в синеву, превращая в прозрачный взрыв вражескую машину. Ракеты среднего радиуса, длинные тяжкие рыбины, сонно возлежащие на упругих шасси, в чьих головах дремали кошмарные сны о сожженном Париже, провалившемся в преисподнюю Риме, расплавленном Лондоне. Продавливая в площади колеи, расплющивая брусчатку, катились на тягачах межконтинентальные громады, — гигантские иерихонские трубы, которые проревут свою жуткую весть погрязшему в пороках миру, и ангел с гневным ликом, выпученными очами, сбрасывая с крыльев пучки огнедышащих молний, опрокинет на землю чащу огня. Бог, разочарованный в своем творении, пошлет на гиблую землю испепеляющий огонь.
Ракеты шли нескончаемо. Глазастые тягачи, похожие на реликтовых динозавров, гусеничные ракетовозы, напоминавшие библейских животных, тянули таинственные изделия, изготовленные не на заводах, не в конструкторских бюро, а в мастерской Господа Бога, который сначала по образу своему и подобию изваял возлюбленного человека, а теперь, готовясь погубить свое неблагодарное чадо, приготовил орудие гнева.
Ракетные установки шли мимо мавзолея. В кристаллической пирамиде, в хрустальном саркофаге, в недвижном сиянии лежал пророк. Его лик напоминал голубоватую луну. Он первым различил среди космических гулов потаенные звуки летящих стихий — космическую музыку Революции. В саркофаге, среди черно-красных покровов, он не был мертв. Пребывал в дремотном забвении, источая таинственное излучение. Его голова была выточена из неведомого, принесенного из Космоса, минерала. Содержала элемент, отсутствующий в таблице Менделеева. Всякий, кто входил в саркофаг, совершал ритуальный круг, обходя светящуюся голубоватую голову, получат микроскопическую порцию излучения. Смертная плоть преображалась, принимала в себя частичку бессмертия. Луч излетал из гранитной толщи мавзолея, касался боеголовок ракет. Уран и плутоний утрачивали свою гибельную адскую мощь. Превращались в сосуды драгоценной светоносной энергии — в цветные бутоны и почки, подобные куполам Василия Блаженного. Умчатся с угрюмых платформ, достигнут других планет и галактик, и в черном безжизненном Космосе, словно радуги, подымутся райские храмы.
На жгучих строится мощах, В безумных плавится молитвах.Священная чаша трепетала ритуальным напитком. Пламенела воскресительная алая кровь. Созревало молодое вино Революции. На края чаши уселись невесомые шестикрылые духи. Пространство над площадью плескалось множеством крыл. Бессчетное количество губ тянулось испить бессмертия. Парад уходил под гору, исчезал за кромкой земли, оставляя тягучий дым, который ветер сносил к реке, словно отводил покров. На площадь, чеканя шаг, легкие, бодрые, ступали юные барабанщики, рокоча ликующим громом, возвещая чудесное воскрешение, славя радостного бессмертного Бога.
Коробейников испытал удар света, словно прянуло с высоты крылатое диво, поцеловало огненными устами в сердце, и оно исполнилось ликованием, верой, бесстрашием, бесконечной любовью. В любящем сердце соединились живые и мертвые, отец и любимые дети, истребленная родня и еще не рожденные внуки. Все были здесь, на этой священной площади. Ликовали, обнимали друг друга. Небо сверкало чистейшей лазурью. Алые звезды пылали неземным светом, приблизились, взирали на площадь, как восхищенные пятиконечные глаза. Храм Василия Блаженного возрос, наполнился живыми соками, превратился в цветущее райское дерево, под которым сошлись все воскрешенные сонмища в своей любви и бессмертии.
Индус шептал фиолетовыми губами бессловесную молитву. Ветеран-полковник плакал счастливыми слезами. Из черных морщин шахтера улетучилась подземная копоть, и он молодо славил кого-то. И уже валила на площадь огромная, многоцветная демонстрация. Несла транспаранты, знамена, букеты. Каждый припадал к священной чаше, пил святое вино Революции. Вкушал бессмертие.
В тот же день, через несколько часов, предъявив в кремлевских воротах пригласительную карту, Коробейников явился на прием в честь государственного праздника Революции. В обширном вестибюле, настойчиво и упорно наполняя его до краев, скапливались гости. Государственные мужи, генералы, конструкторы кораблей и ракет, именитые писатели и художники, директора могучих заводов, герои войны и труда, космонавты и прокуроры, — весь цвет государства, вся его мощь, красота и величие, без которых не могла существовать громадная красная страна, ее стройки, военные базы, национально-освободительные войны на всех континентах, «марсианский проект», для которого уже конструировался космический корабль, подбирались космонавты, высаживались в стеклянных теплицах деревья для будущих марсианских рощ, выращивались олени, лисицы и сойки для будущих марсианских лесов, и поэт-сладкопевец, известный своей поэмой о Ленине, делал первые наброски марсианской оды.
Все эти прославленные и значимые люди тесно скапливались в вестибюле, отделенном от главного зала прозрачной стеной, за которой, в великолепной пустоте, под хрустальными люстрами стояли бесконечно длинные столы, белели скатерти, сверкали стекло и фарфор, были расставлены дивные яства, редкие деликатесы, красная и белая рыба, копчености, соленья, бутылки с вином, коньяком и водкой. Огромный, приготовленный к пиру зал, великолепно сиял сквозь стеклянные панели и двери, не пропускавшие копившуюся массу людей. Чопорная охрана с раздувшимися от пистолетов боками стояла на страже великолепного царского застолья, оберегая его от вторжения.
Коробейников, стиснутый со всех сторон, чувствовал напряженное ожидание, упорное стремление сквозь хрупкое стекло в сияющую пустоту, жадные взоры, голодную перистальтику, слюноотделение, течение сока в мужских и женских желудках, раздражающее веселье, которым люди маскировали свой голод, неудобное стояние, неловкость ожидания, когда, невзирая на звания, титулы и награды, все были скучены, обезличены, отделены от желанной еды и питья, собраны в накопитель, напоминавший огромное стойло, переполненное живой, спрессованной массой. Драгоценная свежесть банкетного зала была застекленным вакуумом, куда давила громадная масса. Навалится на хрупкую оболочку, продавит с хрустящим звоном, мощно и тучно вломится в желанную пустоту.
— Не пора ли по маленькой в честь праздничка пропустить? — подмигнул Коробейникову навалившийся на него адмирал, кивая на большие, висящие над входом часы.
— С морозца бы оно того, не мешало! — бодро, по-шаляпински, отозвался с другого бока известный оперный бас, надавливая на Коробейникова животом.
Оба были смущены, тайно унижены и обезличены, поставлены вровень со всеми. Были равны друг другу, как бывают равны люди в бане, без одежды, с одинаковыми шайками, на каменном мокром полу. В этом Коробейников усматривал тайный замысел, скрытый ритуал государства, борьбу с гордыней своенравных, вознесшихся мужей, которые в одночасье могли превратиться в ничто.
Стрелка часов, которую торопили и подталкивали тысячи нетерпеливых глаз, достигла наконец долгожданной отметки. Прозрачные стены раздвинулись. Толпа, черная, жадно-топочущая, устремилась в банкетный зал, топорща пиджаки, путаясь в платьях, давясь и гудя. Стала растекаться вдоль белоснежных столов. Протягивали руки с вилками к семге и белорыбице. Ухватывали с блюд ломти копченого мяса. Спешили наполнить рюмки, недовольно оглядывались на соседей, торопясь опередить в обретении лакомств. Теснимый, проволакиваемый вдоль столов, Коробейников зацепился за угол, где нарядной клумбочкой стояли бутылки с наклейками, краснела и чернела икра, быстро исчезавшая под ударами ножей и вилок. Исподволь замечал, как в дальней части зала, где стоял отдельный, перпендикулярный остальным стол, появлялись неторопливые, властные люди, тщательно отделяемые от зала охраной. Размещались в том же порядке, что и на трибуне мавзолея. Переговаривались, будто не замечали шумного многолюдья, — одна семья, одна товарищеская компания, один трудовой коллектив, собравшийся перекусить. И едва блеснула белой искрой рюмочка водки в руках широкоплечего генсека, едва эту мимолетную искру уловили глаза во всех концах зала, сразу же началось мощное, яростное поедание.
Вокруг Коробейникова шевелились мокрые жирные губы, обнажались зубы и десны, вываливались и пропадали языки, щурились или выпучивались глаза. В открытых ртах исчезали куски рыбы, ломти сочного мяса, хрустящие соленья. Булькала водка. Ходили ходуном кадыки. Напрягались желваки. Было видно, какое удовольствие получает едок, когда в его желудок падает кусок пищи, обволакивается желудочным соком, начинает разлагаться, впитывается в кровь через стенки кишечника. Под пиджаками и дамскими блузками в набухающих животах шло усвоение пищи, трепетала перистальтика, выделялись газы. Это коллективное поедание было жутким. Напоминало толчею у корыта. Хрусты и хлюпанья у огромной кормушки. Тварность, животность были лишены одухотворенности. Одна живая биомасса поедала другую, умертвленную. И он сам, подтаскивая к губам розовый лепесток семги, с неестественной улыбкой чокаясь с незнакомцем-соседом, был отвратителен себе, пугался своей тварности и обезличенности, тому, что стал частью огромного липкого комка пластилина.
Азарт, с каким эти неголодающие, привилегированные люди поедали дармовую вкусную пищу, с какой готовностью они утратили свою индивидуальность, как легко и охотно превратились в стадо, не замечая изощренного унижения, которое учинила над ними власть, — все это пугало Коробейникова. Пугало в других и в себе. Эта стадность, в которой терялась всякая организация и иерархия, была прямой противоположностью недавно пережитого восхищения, когда на священную площадь слетались бестелесные духи, осеняли великое красное государство, наполняли его высшим божественным смыслом, сулили бессмертие.
Эта концентрированная алчная животность была могущественней тонких энергий. Требующая пропитания плоть отворачивалась от горнего света. Была готова изгрызть, изжевать, залить кислым желудочным соком драгоценный кристалл мавзолея, каменные кружева Спасской башни, райские цветы Василия Блаженного. Само государство, состоящее из великолепных плотин, могучих подводных лодок, космических кораблей, страна, защищаемая непобедимой армией, вдохновляемая мудрой партией, воспеваемая цветущей культурой, могла быть изъедена и изгрызена жадными ртами, впивающимися ненасытными зубами, как бывает изъеден капустный кочан, когда на него нападают несметные толстые гусеницы, ненасытные жирные черви.
Это прозрение ужасало Коробейникова, который перестал есть, наблюдал мерцающие по всему залу вспышки вилок, блеск рюмок, слышал нарастающий утоленный гул разомлевших голосов. Бессмертие, которое сулил ритуал священного красного праздника, побеждалось смертью обреченной на гниение плоти, рыхлой, сырой материей, в которую не проникал дух.
Перпендикулярный стол, оберегаемый охраной, отделенный от банкетного зала пустым пространством, привлекал внимание гостей. Все, кто насыщался за общими столами, продолжая жевать, разговаривать, исподволь, ревниво взглядывал туда, где разместилось политическое руководство страны. Стремился туда, хотел быть замечен, хотел вкусить высочайшего внимания. Но дюжие, в черных костюмах, охранники, прикрывая ладонями пах, суровыми взглядами оберегали пустое разделительное пространство.
Коробейников тоже смотрел. Те, кто утром на мавзолее казались величественными жрецами, недостижимыми небожителями, чьи строгие одухотворенные лики красовались на полотняных иконах ГУМа, — теперь выглядели обыденными людьми, немолодыми, неинтересно, небрежно одетыми, с помятыми лицами, на которых, как и у остальных, двигались губы, раскрывались рты, сощуривались после выпитой водки глаза. В них не было ничего от священных статуй Бамиана, от задумчивых исполинов, ведающих судьбами мира. И утрата ими величия, обретение обыденного человеческого облика вызывало у Коробейникова разочарование, почти печаль.
Издали он узнал Брежнева, с большим желтоватым лицом, обильной порослью на голове, угольно-черными бровями. Крупный бесформенный рот его энергично двигался, отчего волновались рыхлые складки на подбородке. Был узнаваем Косыгин, худощавый, землистый, с пепельным ежиком, с небольшим, странно перекошенным ртом и нездоровой сутулостью. Очень похож на него был Громыко, с нарушенной симметрией лица, сдвинутым на сторону маленьким стиснутым ртом, сжимавшим невидимую соломинку. Суслов был очень худ, пиджак висел на нем, как на вешалке, из него выступала длинная костистая шея, на которой держалась небольшая, хищная, с заостренным носом голова. Маршал Гречко, в военном мундире, в орденах, был странно похож на Суслова, — такой же худой, с острым кадыком, надменной костистой головой усталого грифа. Там были и другие, не узнаваемые Коробейниковым люди, лысоватые, крепкие, не вмещавшиеся в пиджаки. Все странным образом были разбиты на пары, обладали чертами сходства. Словно властное содружество состояло из пар, где один нуждался в другом, был заменяем, имел для себя на всякий случай двойника.
Утратив черты идолов и кумиров, разочаровав и огорчив Коробейникова, они продолжали остро его занимать. Занимало его то расстояние, что отделяло этих обыденных людей от священных помазанников, в которых превращала их власть. Власть обладала загадочным магнетизмом, намагничивала ее носителей, сообщала им величие и блеск металлических памятников. Исчезал магнетизм власти, гасло магнитное поле — и они теряли металлические свойства, становились деревянными, картонными, тусклыми. Разжалованные, выведенные из Политбюро и правительства, превращались в безобидных растерянных пенсионеров, играющих в домино.
Коробейников чувствовал себя на приеме одиноким, затерянным. Остальные узнавали друг друга, чокались, обнимались. Накланялись и вполголоса обращались один к другому с деловыми или деликатными просьбами. Все были связаны знакомствами, высоким положением в обществе, взглядом, мимолетным поклоном возобновляли сословные связи. Были многочисленным избранным слоем, в котором существовала неписаная солидарность, ревнивое соперничество, стремление возвыситься над соседом, уменьшить расстояние, отделявшее от перпендикулярного правительственного стола. Он же, Коробейников, был новичок, случайный гость, кого, быть может, не пригласят в другой раз и который должен воспользоваться этой уникальной возможностью, чтобы запомнить, увидеть, понять.
Он покинул свое место и двинулся вдоль столов, на которых уже царил ералаш, жирно блестели опустошенные тарелки и блюда, вкось стояли опорожненные бутылки. Опьяневшие гости манили официантов, которые чопорно подносили бутылки и нещедро, сдерживая аппетиты, подливали в бокалы. Он старался увидеть какое-нибудь знакомое лицо, чтобы подойти, завязать непринужденную беседу. Продемонстрировать, что и он здесь свой, неслучайный, принят в круг избранных.
Ему попался американист Ардатов, член кружка Марка Солима, но сделал вид, что не заметил, не узнал Коробейникова. Мимо, приобняв за талию какого-то генерала, прохромал идеолог Исаков, хромой черт, тоже член кружка. Их глаза на мгновение встретились и тут же разбежались. Исаков не пожелал его узнать. Так же повел себя лейб-доктор Миазов, рассказывавший совсем недавно о чудодейственной барокамере в своей правительственной клинике. Коробейников хотел было подойти и раскланяться, но тот рассеянно отвернулся. Это было не обидно. Лишь подтверждало закрытость, законспирированность кружка, члены которого не должны были себя обнаружить. Явилась мысль, что в этот тайный кружок входят многие из присутствующих. И тот космонавт, весь в наградах, который был окружен почитателями. И тот генерал, что подымал шумный и бравый тост. И та седовласая, похожая на императрицу актриса, протягивающая для поцелуя желтую, перевитую венами, усыпанную кольцами руку. Однако на банкете не было Марка Солима, который устроил ему приглашение и встреча с которым была для него нежелательна. Не было Стремжинского, с кем хотелось бы ему чокнуться рюмкой, показать всем, что они не просто знакомы, но и близки, оба из влиятельной газеты.
— Михаил Васильевич! — услышал он и обернулся. Перед ним стоял Андрей, все из того же кружка заговорщиков, милый, изящный, с тонкой переносицей и мягкими добрыми глазами. Улыбался искренне, чуть насмешливо, столь непохожий на остальных из вальяжной, перегруженной пищей и самодовольством толпы. К нему, как к другу, мгновенно расположилась душа Коробейникова. Он был счастлив встретить такого же, как и он сам, новичка, не избалованного почестями, знающего цену погонам, лампасам, звездам героев, лауреатским медалям, о чем и говорила его чуть насмешливая улыбка, где была ирония и над самим собой, вовлеченным в этот коллективный биологический процесс. — Вы знаете, Михаил, я думал о вас. Слушал по радио вашу праздничную революционную оду. Должен заметить, она, как, впрочем, и все, что вы пишете, производит сильное впечатление. Пожалуй, никто сегодня, даже из самых маститых писателей и поэтов, не говорит о государстве, о Революции, о народе такими свежими словами, в таких необычных, почти религиозных понятиях.
— Признателен за добрые слова. Я волновался. Эту идею мне подал Марк. Он же взялся отнести мою оду на радио.
— Марк — человек удивительный. К нему приходят идеи и прозрения, до которых никогда не дорастут официальные идеологи, отделы ЦК или идеологические академии и институты. Вот мы и вращаемся вокруг него, как вокруг солнца.
— Тут я заметил несколько знакомых планет, но они проплыли на большом от меня удалении.
— Мне тоже почему-то не поклонился академик Гришиани и умный востоковед Приваков. Такая уж, видно, этика заговорщиков — виду не показывать. Масоны есть масоны, — усмехнулся Андрей.
А Коробейников в который раз спросил себя, чем занимается этот обаятельный просвещенный человек, интересы которого простираются в область философии, литературы, политики. В каком из гуманитарных институтов — истории, философии или управления — руководит он отделом, где ведутся разработки оригинальной гуманитарной проблемы.
— Так вот, о вашей поэтической оде. Марк называет это религией Революции. Наше государство создавалось как непрерывно обновляемая, усложняемая и улучшаемая машина, в которой клокочет энергия Революции, одухотворяющая машину, толкающая ее к космической цели. Этот красный дух есть топливо, которым движется СССР. Если топливо иссякнет, СССР остановится. Замрет на обочине, и мимо него промчатся другие машины, основанные на иной энергетике…
Рядом вкушали два скромных молодых человека, одинаково аккуратно одетых, как одеваются и держатся дисциплинированные референты ЦК. Оба что-то негромко и сдержанно комментировали, не позволяя себе дерзких взглядов, резких жестов, громких высказываний. Осторожно и бегло выпили из рюмок водку, быстро закусили ломтиками вяленого мяса, тут же отерли салфетками губы, словно прятали следы преступления.
— К сожалению, мы наблюдаем омертвение и перерождение правящего слоя, откуда уходят творческие энергии государства. Когда-то живая, пропитанная кровеносными сосудами, чуткая и эластичная плоть, тонко чувствующая окружающий мир, дышащая порами, постоянно растущая, теперь омертвела, ссохлась. Стала жесткой, как мозоль, как роговое вещество, как копыто, куда больше не проникает животворная кровь. Жизнь государства и общества закупоривается, тромбируется, начинает умирать. Партия — виновник тому. Задача развития состоит в том, как удалить эту омертвелую мозоль, как отстричь этот неживой, начинающий загибаться ноготь. Именно над этим размышляют члены нашего тайного общества, собираясь на квартире у Марка…
Поблизости обнимались два дюжих Героя Труда, крупные, с багровыми лицами, монтажники или нефтяники. Держали в огромных кулаках рюмки с водкой. Хохотали, толкали друг друга. Разом умолкли. Опрокинули в себя стопки, одинаково закрыли веки, а потом выпучили яркие синие глаза. Обнялись, ударяя друг друга под микитки.
— Вы, как я заключил, читая ваши очерки, слушая ваше сегодняшнее праздничное «слово», возвращаете государству его первородные энергии, одухотворяете машину власти. Окропляете живой водой своей поэтики и философии два распавшихся периода русской истории — «белый» и «красный», — возвращая истории ее единство, резко увеличивая потенциал «красного», давая прорасти в него «белому». Это оживление, одухотворение государства под силу только большим художникам, отважным идеологам, таким, как вы и ваш друг Шмелев. Но это будет встречать все нарастающее сопротивление партии. Вы должны быть к этому готовы…
По соседству образовалась группа немолодых почтенных гостей с благообразными холеными лицами. По виду академики, маститые ученые, они что-то обсуждали, то и дело взглядывая на далекий правительственный стол, куда из общего зала, сопровождаемые охраной, подходили избранные гости, вступая в общение с руководителями страны. Академики обсуждали какую-то общую, касавшуюся науки проблему, судьба которой зависела от верховной власти. Сформулировали вопрос, чокнулись бокалами с вином, стали аккуратно подвигаться поближе к заветному столу, надеясь попасть в поле августейшего внимания.
— Я не уверен в том, что прав. Для полной уверенности надо быть более информированным, обладать более разветвленными связями. Но мне кажется, что интеллектуальным центром возможных реформ становится Комитет государственной безопасности. Там исподволь концентрируются новые идеи, создается команда интеллектуалов, подбираются кадры, ведутся закрытые альтернативные исследования. Мне, в моей деятельности, оттуда несколько раз приходила помощь. И это, естественно, вызывает опасение партии. О чем, если вы помните, свидетельствует эмоциональный взрыв нашего компаньона Стремжинского. Пусть и подшофе, но он высказал партийную тревогу по поводу усиления КГБ, тревогу, разделяемую партией. Смею предположить, что мы вступили в закрытый политический период соперничества партии и госбезопасности. Исход этого соперничества зависит от воли, такта и прозорливости Юрия Владимировича Андропова. Видите, как раз сейчас он разговаривает с Брежневым. Интересно бы знать, о чем?
Коробейников посмотрел на правительственный стол. Брежнев, откинув темноволосую, большеротую голову, держал перед тучной грудью бокал. Его собеседник — лысоватый, широкое лицо, чуть вывернутые губы, вместо глаз сверкающие стекла очков — не чокался с генсеком наполненной рюмкой, что-то терпеливо ему пояснял. Коробейников прежде не выделял Андропова из многочисленной когорты вождей, среди которой тот занимал второй, не слишком афишируемый эшелон. Теперь же, после замечаний Андрея, он постарался запомнить залысины на лбу, слепящий блеск очков, вывернутые африканские губы.
— Помните, я говорил вам, что писатель, если он талантлив и обладает государственным сознанием, является стратегическим ресурсом, как дальний бомбардировщик? Хотите посмотреть на настоящего государственного писателя? Оглянитесь…
Коробейников повернулся и у соседнего стола, в окружении множества людей, увидел Шолохова.
Невысокий, в черном пиджаке и косоворотке, лобастый, с вихрами седоватых волос, лихими казачьими усами, он выстаивал под натиском разгоряченных сильных людей, которые стремились к нему, протягивали полные рюмки, мечтая чокнуться с его хрупкой рюмочкой, которую он держал перед собой, как стеклянный цветочек. Иным удавалось коснуться желанного стекла, другие издалека только улыбались, мокро и радостно мигали глазами, выпивая свой коньяк или водку во славу любимого писателя. Среди обожателей, ищущих внимания кумира, были могучие краснощекие генералы, разогретые выпивкой, — командующие округами, ударными армиями, танковыми армадами. Были крепкие, властные, обильные телесами директора крупнейших комбинатов, громадных заводов, начальники сибирских строек. К нему желали пробиться и подышать одним с ним воздухом партийные функционеры, повелители отделов ЦК, перед которыми трепетали председатели творческих союзов, лебезили нуждающиеся в поощрении художники. Вся эта полнокровная, яростно-радостная толпа людей, воля которых перемещала армии, перегораживала сибирские реки, возводила города в пустынях и топях, — все они были затянуты неодолимой гравитацией, сверхмощным магнитом. Стремились к невысокому, изящному человеку с веселыми голубыми глазами, державшему в руках хрустальную рюмочку. На эту рюмочку мчались сорванные с мест живые куски материи. Так легкое стремится к тяжелому, пустое к полному, малое и беспомощное к громадному и всесильному. Было страшно, что все это неуклюжее слоновье стадо затопчет и сомнет Шолохова. Но разгоряченные туловища, щекастые красные лица, приближаясь почти вплотную, вдруг замирали. Останавливались у невидимой черты, отторгались неведомой запрещающей силой, оставляя незанятое пространство, в которое им было невозможно проникнуть, запрещалось втиснуть свою неодухотворенную плоть.
Коробейников видел, как в этом просторном многолюдном зале существуют два центра, два притягательных полюса. Один — за правительственным столом, где поместились представители политической власти и куда, избирательно, из нетерпеливой толпы ожидающих, охранники приводили счастливцев. Чокались с партийными лидерами, истово объяснялись в любви, заверяли в преданности, а потом, осчастливленные, с блаженными лицами, покидали застолье, унося на руках золотые пылинки власти. И второй центр — невысокий, с хрупким запястьем писатель, держащий хрустальную рюмочку, зорко и смешливо поглядывающий на водоворот генеральских погон, лампасов, орденов и знаков отличия. Два эти центра, как электроды, опущенные в раствор, управляли пространством, соперничали между собой, перетягивали друг к другу заряженные частицы:
— Страна, у которой есть писатель такого масштаба, непобедима, — произнес Андрей, серьезно и задумчиво наблюдая за происходящим.
Внезапно к толпе, окружавшей писателя, подошли два охранника. Вежливо, властно стали раздвигать хоровод, освобождая пустой коридор. В этот коридор, в сопровождении телохранителей, большой, рыхлый, похожий на растрепанную, идущую по земле птицу, прошествовал Брежнев. Приблизился к Шолохову, издали открывая объятия. Подошел, обнял, запахивая вокруг него черные просторные рукава… Страстно, от души поцеловал. Коробейников видел дряблую, трясущуюся щеку генсека, острый казачий ус, отведенную в сторону хрупкую руку, сжимавшую хрустальную рюмочку. Осознал случившееся. В зале больше не существовало двух центров. Оставался только один. Дух в который раз победил материю. Доказал, что он движет царствами, управляет полетом планет, зажигает и гасит галактики.
Коробейников восхищенно смотрел. Кто-то, Невидимый, преподал урок, который он будет помнить всю жизнь.
Он покинул банкет утомленным, растерянным, не умея справиться с обилием впечатлений, среди которых красное богослужение и животное, плотское поедание противоречили друг другу, не помещались одно в другом. Вместо желанной возвышенной целостности приводили к неразрешимому конфликту, частью которого был он сам.
Из теплого дворца он попал в метель, в дикое кружение снега. Слабо проступали размытые очертания соборов, серо-золотые тени куполов, мимо которых ветер гнал секущую пургу. Колокольня Ивана Великого была видна лишь у основания. Уходила своим мучнисто-белым стволом в известковую белесость, в неразличимую снежную муть. Там, в высоте, на трех черных, отороченных золотом обручах, была начертана надпись, которая могла разрешить все сомнения, обнаружить смысл бытия. По крупицам, в путешествиях, в книгах, в непроверенных догадках и мыслях, он отыскивал смысл, пускаясь для его обретения в рискованные авантюры, опасные злоключения, не сулившие откровений, а лишь умножавшие печаль неведения. Он стоял, запрокинув лицо. Чувствовал секущий наждак метели и молил, чтобы всемогущая сила подхватила его на снежных крыльях, воздела к вершине столба, обнесла троекратно вокруг колокольни и он прочитал золотую надпись. Но небесная сила не слышала его, оставляла на земле, занавешивала от него смысл жизни, погружая в метель, сквозь которую мутно проглядывали контуры колокольни, контуры размытого мира.
Вышел на Красную площадь. После парада и демонстрации она была пустынна, в цветных пунктирных разметках, направлявших движение войск. По брусчатке неслась метель, не задерживаясь на отшлифованном, черно-стальном, метеоритном камне.
На фасаде ГУМа оставались висеть громадные холсты с портретами членов Политбюро. Но если утром они казались величественными окаменелыми иконами с просветленными строгими ликами, то сейчас под них нырял ветер, теребил, волновал. Материя вздувалась и опадала, морщилась и натягивалась. По лицам пробегали непрерывные судороги и гримасы. Распухали и проваливались щеки. Выпучивались и сворачивались на сторону глаза. Кривились носы и губы. Казалось, под холстами шевелится и ворочается нечто безымянное, огромное, жуткое. Тонкая ткань не удерживала, а лишь слабо скрывала бесформенные уродливые массы, которые выдавливались из непомерных глубин. Лица вождей были тенями на вспученных волнах угрюмой лавы. Холсты казались ветхими декорациями, за которыми таилось неочерченное, бесформенное, жуткое. Лики чувствовали это жуткое подступившее давление. Содрогались, тяготились один другого, вступали в борьбу и схватку. Гримасничали, норовили укусить, садануть зубами, плюнуть. Среди знакомых, только что виденных лиц Коробейникову бросился в глаза странно улыбающийся Андропов, струящийся от невидимых, проносящихся под холстом течений.
Стоял, глядя на гигантские пузырящиеся портреты, чувствуя, как из-под них выдавливается в мир непознанное, безымянное будущее.
38
Коробейников шел по Неглинной, мимо магазина «Ноты», неприятного здания, нелепыми вавилонами напоминавшего загнутый гриф виолончели. Думал: в какую странную конструкцию сложились его отношения с людьми. Эта конструкция своими опорами и связями напоминала высоковольтную вышку, состоящую из пучков, лучей, перекрестий, где с другими людьми его связывали любовь, родственная нежность, дружеская привязанность, писательское любопытство, общность интересов, профессиональная солидарность, страстное влечение, меркантильная зависимость. Сочленения, соединявшие его с окружающими, были выполнены из разных материалов, обладали различной стойкостью, по-разному, с неодинаковой прочностью, скрепляли отношения. Среди прочных и незыблемых скреп были хрупкие и ненадежные, гибкие и шаткие, едва ощутимые и предательски зыбкие. И если отыскать самую уязвимую связь, ударить по ней и сломать, то потеряет равновесие и рухнет вся конструкция отношений, как упала однажды на его глазах высоковольтная мачта, великолепная, серебристая, наполненная воздухом и солнечной сталью, — завалилась, искря разорванными проводами, превращаясь в груду железного лома.
Едва воображение справилось с возникшим образом, помещая в пространственную лучистую схему лица жены, Таси, отца Льва, Елены, Васеньки, художника Кока, как на тротуаре, перед витриной с партитурами и скрипичными ключами возник Саблин, словно настойчиво, просился в стереометрическое изображение, где ему было уготовано место.
— Боже мой, Мишель, вот так встреча! — радостно сияли чуть выпуклые голубые глаза, румянились губы с чистым блеском зубов, красивое лицо источало неподдельное приятие. Голову Саблина украшала экстравагантная тирольская шапочка с остатками рябого пера. Он был облачен в длинное, похожее на шинель, пальто. В руках пузырился набитый до отказа портфель. Под мышкой торчал сухой березовый веник с серой, блеклой листвой. — Думал о вас, и вы материализовались из моих нежных дум. Видит бог, и вы обо мне думали!
— Рудольф, что за странная эмблема у вас под мышкой? — столь же дружелюбно и весело откликнулся Коробейников, стараясь не обнаружить мгновенное чувство опасности, как если бы эта встреча была засадой, именно здесь, у магазина нот, с раскрытыми на витрине партитурами, где была записана истерическая музыка их не выявленных до конца отношений. — Что означают эти прутья? Дикторский пучок, символ римской власти? Или метлу опричника, которой вы изгоняете крамолу?
— Ваше писательское воображение, Мишель, во всем видит образ, не довольствуется обыденным и земным. Это веник, обычный банный веник. Ибо я направляюсь в Сандуновские бани. И вас с собой приглашаю.
— Вы? В бани? С вашим аристократизмом? С пренебрежением к простонародью? С презрением к плебсу? Вы отправляетесь в плебейскую мыльню, где предстанете нагишом перед немытым людом с шайками и мочалками? Попросите одного из темных мужиков отхлестать ваше нежное барское тело? Это похоже на мазохизм.
— Ничего необычного. Мой аристократизм — это народность русского офицера, который в полевых условиях делил с солдатами котел, походный шатер, лазаретную койку. Первым подымался в атаку, перехватывал знамя из рук убитого знаменосца. Приглашаю вас, Мишель, окунуться в гущу народности, ибо нигде не открывается человек столь полно и обнаженно, как в бане. — Саблин шутил, но в его шутке была настойчивая уверенность, что приглашение его будет принято.
— Спасибо, дорогой Рудольф. Предпочитаю пользоваться не народной баней, а тривиальной домашней ванной.
— Никакого сравнения, Мишель. Баня — это прообраз огненного ада, где мучают людей кипятком, но и святого чистилища, где смывают грехи. В бане мы являем образ грешников, ввергнутых в геенну за похоти, но и мучеников, принимающих смерть за праведность. Баня — это метафизический Рай, куда возвращается множество обнаженных потомков Адама, обретая единство с праотцом. Ритуальное прохождение сквозь огонь, хлестание веником, горячее и холодное омовение помогают преодолеть разделение. Люди идут в баню из соображений религиозных, братаются, чувствуют себя чадами своего праотца Адама. В некотором роде мы с вами братья, Мишель. Наша связь глубже, чем обычная дружба. Быть может, она глубока, как бездна. Чтобы понять ее бездонную сущность, нам нужно оказаться в парилке, среди бурлящей воды, огнедышащего пара, стенаний обожженной, исхлестанной плоти.
Это было обычное саблинское многословье, но в веселом сумбуре слов чудилось Коробейникову нечто осмысленно-глубинное, угрожающее, касавшееся его бытия. Словно в многомерной ажурной башне, высоковольтной конструкции стала накаляться тонкая лучистая связь, соединявшая его с Саблиным, как если бы в ней заструился электрический ток замыкания, превращая сталь в расплавленную вольтову дугу. Повинуясь не собственной воле, а странному велению свыше, облекавшему его на повиновение, он вдруг согласился:
— Почему бы и нет, Рудольф? Пойдемте попаримся в баньке.
Сандуновские бани дохнули теплой сыростью, душистой затхлостью, запахом тропических потных болот. Отстояв небольшую очередь из серьезных, с вениками и кульками, людей, они очутились в раздевалке. Коробейникову хоть и не впервой, но в диковинку было созерцать ряды замызганных деревянных шкафчиков, стертых седалищ, узких столиков, за которыми восседали пропаренные, промытые, розовые, словно клюквенный мусс, люди, закутанные в белые тоги, и моргающими глазами новорожденных младенцев созерцали желтое пиво в тяжелых кружках, разбросанную на газете воблу. Блаженно сосали кислую жижу, глотали белую пену. Под туманным потолком с отвалившейся штукатуркой витали пивные испарения, запах размоченных веников, банный дух.
— Эй, любезный! — по-барски щелкнул пальцами Саблин, подзывая банщика, который шустро, как расторопный слуга, откликнулся на повелительный оклик. — Размести-ка нас рядом, братец, и две простынки, почище да посуше, как благородным, а не какой-нибудь голытьбе замоскворецкой! — Банщик тотчас отозвался на этот начальственный оклик. Охотно играя в барина и слугу, с поклоном, сладко улыбаясь, открыл два соседних шкафчика, плюхнул белые, спрессованные простыни. — Ну вот, Мишель, мы в гуще народа!
Они раздевались, вешая в шкафчик одежду. Коробейникову было неловко обнажать свое тело в присутствии Саблина, неловко было видеть его наготу. Их связь, мучительная невысказанность и запутанность отношений не предполагали этой непосредственной близости, телесной обнаженности. Казалось, Саблин, чувствуя неудобство Коробейникова, сознательно поместил его в несвойственную среду, тонко мучая видом своего обнаженного тела, соседством распаренных, хлебающих пиво мужиков. К чему-то готовит, подвергая психологической обработке, ставит в неудобное положение, добиваясь для себя психологического преимущества.
— В Сандунах, Мишель, еще остался дух старой Москвы, допетровской, исконной, удивлявшей иностранцев своими золотыми церковными тюрбанами, деревянными мостовыми, краснощекими девками, звероподобными бородатыми мужиками. В этой бане есть что-то от старой мыльни, от народной купальни, построенной на берегу Неглинки, где визжали бабы и девки, полоскали в реке белье, стелили на траву сырые белые простыни. Там, за стеной, в женском отделении, тесно от обнаженных бабьих тел, распаренных грудей, влажных волос, сквозь которые толстобокая кустодиевская красавица продирает грубый деревянный гребень. — Саблин разглагольствовал, потирая голый торс, крепкие плечи, мускулистую грудь с золотистой курчавой шерстью. Болтал, фантазировал, но в его болтовне Коробейникову чудилось что-то знакомое, недавнее, им самим пережитое, и это совпадение настораживало, предполагало какой-то замысел, усиливало чувство опасности. — Я люблю здесь бывать, Мишель, чтобы ощутить этот дух московской старины и народности, который не встретишь в конторах и учреждениях, в тесных пятиэтажках, в обезличенном советском быту. Тут есть такие улочки в районе Мещанских, заповедник старой Москвы, увы, обреченный на слом. Малые домишки, особнячки, купеческие хоромы, лавки, лабазы. Еще можно прочитать на кирпичной стене — «Колониальные товары», «Ситников и сыновья». Люблю бродить по этим тесным улочкам, среди покосившихся тумб, ржавых козырьков, гнутых кронштейнов. Вдруг из форточки донесется звук фортепьяно, какая-то барышня, дочка коллежского асессора, запоет сентиментальный романс. Или сквозь неплотную штору в сумраке закраснеет пламя камина, чугунная решетка, чье-то чудное обнаженное тело мелькнет и канет. Конечно, дурно подглядывать в окна, но во мне говорит краевед, любитель старой Москвы. Приглашаю вас, Мишель, как-нибудь погулять вместе по этим прелестным заповедным местам.
Коробейникову стало не по себе. Его испытывали. Он был под наблюдением. Был прозрачен для смеющихся, выпукло-синих глаз, которые смотрели с веселой беспощадностью и превосходством. Ожидали от него неверного поступка и слова. Побуждали к проявлению страха, раздражения, негодования. Коробейников, владея собой, оставался невозмутимым и ироничным:
— Дорогой Рудольф, все дети заглядывают в плохо занавешенные окна, надеясь узреть запретную наготу. У некоторых это с годами проходит, другие же на всю жизнь сохраняют детскую непосредственность.
Вешая рубаху в глубину шкафчика на алюминиевый крюк, невольно коснулся голого плеча Саблина, ощутив электрический удар, как если бы рядом скользнул морской скат.
Покинув раздевалку, они оказались в огромном, тускло-туманном зале, где в мокрой, гулкой мгле двигалось множество голых людей. Ставили под толстые краны гремящие шайки. С шумом открывали бьющую воду. Плюхали наполненные жестяные посудины на каменные мокрые лавки. Мылились, терлись, скреблись. Окатывались водой, стоя среди шипящих брызг. Отдыхали, сутулясь, на лавках. Охали, перекрикивались, стучали жестью о камень. Молодые, мускулистые, отливающие глазурью. Пожилые, деформированные, с отвисшими животами и венозными ногами. Полуживые старики с костлявыми позвоночниками, тощими немощными мослами. Было нечто пугающее в этом гуле, бессловесных возгласах, парной мгле, топочущих по мокрому кафелю голых стопах, вдоль которых текли мыльные ручьи, пропадая в зарешеченных дырах. Люди, лишенные одежд, имен, званий, совершали омовение в этом огромном боксе, готовясь то ли к сошествию Святого Духа, то ли к массовой казни.
— Мне нравится здесь бывать. — Саблин подставил шайку под медный кран, повернул деревянную, вколоченную в вентиль рукоять, пуская бурлящую струю, окутавшую шайку паром. — Эти картины питают мое воображение. Мне здесь интересней, чем в любом театре. — Он завернул кран. Перенес шайку на каменную скамью и замочил веник. Сухие листья пропитались кипятком, разомлели, раскисли. От них пошел нежный лесной дух. — Я думаю, что вот так же, в Майданеке или Освенциме, обреченные евреи ополаскивали в последний раз свои изголодавшиеся, лишенные жировых отложений тела, натираясь крохотным мыльцем, что им даровал напоследок рейхсканцлер. А сквозь узкие форсунки потолка, смешиваясь с банным паром, уже вдувались струйки газа, опускались на мокрые плечи и головы тяжелым бесцветным удушьем…
Он ворочал хлюпающий веник в кипятке. Коробейников стоял на теплом скользком полу, воспринимая шокирующие высказывания Саблина как психологическое воздействие, должное травмировать его психику, ослабить и обезоружить волю, создать преимущества в предстоящем объяснении. Рядом на лавке сидел старик с обвисшей кожей, сквозь которую проступали кости. Кожа была желтая, складчатая, на ней синели сморщенные наколки, — грудастые русалки, голые задастые девицы, сердца с якорями, надписи: «Не забуду мать родную», «Да здравствует Сталин», «Век воли не видать». Он был исколот сплошь, по всему телу. Надписи и изображения украшали руки, грудь, бедра, даже жалкий, сморщенный отросток с обвисшей пустой мошонкой. Свирепая сильная плоть давно улетучилась, а вместе с ней память о бандитских налетах, перестрелках с ментами, о тюрьмах, «воронках», барачных нарах. Остались младенческие блаженные глаза и улыбающийся беззубый рот пустынника. А также кожа, предмет исторического исследования. Если ее растянуть, просушить и разгладить, то на ней, как на пергаменте, откроются таинственные знаки минувших эпох, руны и иероглифы лагерей, отрывки из священных тюремных текстов.
— Или, представьте себе, такие же голые толпы сбредались к глинистым кручам реки Иордан, оставляя на камнях хламиды, ветхие, иссушенные солнцем покровы. Изможденные старики с увядшими чреслами горбились, опираясь на посох. Мускулистые, полные сил работники, с черными от солнца, горбоносыми лицами и белыми, робеющими телами, окропляли себя водой. Целомудренные отроки стыдливо переступали по мелководью, распугивая рыбешек. Все взирали на кручу, куда указывал седовласый старец в овечьей шкуре, вознося жилистую руку с жезлом. И там, куда он указывал, воздух начинал светиться, и в легком зареве утренней пустыни появлялся дивной красоты человек, долгожданный Спаситель, шествовал легкими стопами к реке…
Коробейников слушал восторженный голос Саблина, звучавший среди банного эха, плеска воды, гула и звяканья. Думал: где, с какой витиеватой фразы, оборвется лукавое разглагольствование, прозвучит роковое слово? Рядом заботливый отец наклонял над маленьким сыном лоханку. Лил бережно водяную струю, которая разбивалась серебряной звездой о белесую макушку ребенка, текла на хрупкие плечи, нежную грудь и живот, омывала стеблевидные ноги. Мальчик задыхался от воды, пучил яркие голубые глаза, отдувался пунцовыми губами. Весь розовый, блестящий, перламутровый, сиял, как изделие стеклодува, рожденное из света и дыхания, остывая под плещущим потоком воды. Был воплощением ликующей красоты, чудодейственной творящей любви, явлен в мир для бесконечной радости.
— Мы сейчас отправимся с вами туда. — Саблин кивнул на толстую, обитую мокрой клеенкой дверь, откуда в облаке пара выскакивал дымящийся человек, за плечами которого бушевало синее пламя. — Там, в парилке, меня посещают видения Ада. Темная преисподняя с чадом огромных печей, бульканье котлов, кипение смолы. Стоны, мольбы, обожженные грешники, кровавые волдыри, облезшая кожа, вытекшие от жара глаза. Я оказываюсь в этом Аду, и мне кажется, вместе со мной, неустанно стеная, стоите вы, Мишель, и Марк, и Елена, и ваша милая жена Валентина, и ваши чудные добрые дети. Все мы окажемся вместе в Аду. Отправляясь к этой клеенчатой склизкой двери, над которой написано: «Оставь надежду, всяк сюда входящий», — мне кажется, что я попадаю на генеральную репетицию спектакля, в котором нам всем уготована роль…
Казалось, Саблин своими разглагольствованиями водит круги, сжимая и тесня Коробейникова, и эти круги — адовы, и в центре этого искусно сотворяемого Ада находится громадное волосатое чудище с клыками, с сернистой вонью, с фиолетовым блеском в глазищах. Сжимает в когтях бледную беззащитную душу, похожую на блеклую личинку, грызет ее, заталкивает в зловонную пасть. И эта личинка — душа грешника, и этот грешник — он, Коробейников, попавший в пасть Вельзевула.
Средневековое, устрашающее, реальное проступало сквозь мокрый туман, где на каменных лавках, как на операционных столах, лежали обнаженные люди. На соседней скамье, похлопывая себя веничком по груди, нежился безногий инвалид.
— Все эти попики, приходские кликуши, монастырские книжники утверждают, что Россия — страна-Богородица. А ваш дружок, незаурядный писатель Малеев, утверждает, что Россия — страна-Дьявородица. Эти голые мужики и отроки, благополучные водители трамваев и фрезеровщики завода «Калибр», тихие инженеры НИИ и зачуханные учителя словесности в один миг превратятся в разрушителей и бунтарей. Одержимые дьяволом, выскочат из бани, блестя нагими телами, выломают из Красной площади черную брусчатку, забросают правительственные лимузины, грозные транспортеры и танки. По кирпичикам, по винтикам разберут это тупое самодовольное государство и запалят здесь такой костер, что будет виден по всем континентам. Вот почему, Мишель, я хожу в эту баню. Полюбоваться на будущих революционеров, разрушителей пошлых устоев, погромщиков советской страны…
Коробейникову было нехорошо, неуютно от своей наготы, от наготы Саблина, который чувствовал неловкость Коробейникова. Демонстрировал свой торс, ягодицы, густую шерсть на груди, — признаки сильного, агрессивного самца, стремящегося своим видом подавить соперника.
— Рудольф, я завидую вашему воображению, с помощью которого обычная московская баня становится сюжетом «Божественной комедии», — иронично ответил Коробейников. — Принимаю вашу систему образности и говорю вам: «О Вергилий, веди меня по кругам сандуновского Ада!»
Саблин весело рассмеялся, подхватывая веник, неся его, как дикторский пучок, и они оба направились в парилку.
Парилка напоминала огромную пещеру, с высоким туманным сводом, где плавали зеленовато-серые пласты мокрого грязного пара, сквозь которые мутно проглядывала больная желтизна подземных светильников. В пещере было два уровня. В нижнем на лавках, поместившись в различных позах, голые люди остервенело хлестали себя вениками. Секли прутьями, норовя побольнее, через голову, достать лопатки. Задирая локоть, наносили удары по ребрам и дымящимся подмышкам. Лупили со свистом по голым ляжкам. Молотили друг друга по спинам. Ахали, восклицали, выпучивали глаза, высовывали языки, оттопыривали красные, налитые кровью уши. Это было похоже на пытку, самоистязание, наказание лозой, где жертвы менялись с палачами, передавали друг другу орудия истязания, мстя за перенесенные страдания.
На верхний уровень, напоминавший обширный деревянный эшафот, вела мокрая дощатая лестница, по которой забредали понурые люди. Казалось, кто-то невидимый ведет их по скользким ступеням. Лишенные воли, сломленные, они безропотно приняли свою страшную участь. На эшафоте, под сводами темного грота, застыла голая стиснутая толпа. Стояли бок о бок — старцы, младенцы, цветущие мужчины, изнуренные понурые мужи. Никто не убегал, не роптал. У всех были покорные, обреченные лица, и эта обреченность, потусторонность, приобщенность к чему-то неизбежному, уже случившемуся, действовали как таинственное притяжение, мрачная гравитация подземного мира. Чувствуя эту гравитацию, проходя сквозь невидимую тень, как проходят сквозь смерть, Коробейников, вслед за Саблиным, прошагал вверх по сырым ступеням. Занял место в толпе, прикоснувшись к кому-то испуганным телом.
Они были в центре Земли, в мрачной сердцевине планеты, где дул жаркий железный ветер, опалял своим сиплым дыханием безропотную, приговоренную к мучениям толпу. В углу стояла закопченная печь с каменной трубой, уходящей вверх, в неведомые лабиринты Земли, где что-то шипело, вскипало, сипло завывало и хлюпало, словно земное нутро было живое, косматое, выдыхало ядовитые газы сквозь черные горячие ноздри.
Ад, сконструированный как пыточный застенок, не имел служителей, стражников, палачей. Все делали сами грешники. Растапливали печь, готовили инструменты пыток, мучили и терзали друг друга. В мучителей вселялась неистовая энергия истязаний, которая вырывала их на краткое время из пытаемой толпы. Толпа же, парализованная невидимой волей, безропотно замирала, принимая страшные муки.
Коробейников увидел, как один из грешников, жилистый, косматый мужик, лоснящийся потом, с заостренным лицом, узколобый, с опаленными бровями, вооружился жестяным ковшом. Черпнул из ведра. Взмахом мускулистой руки отодвинул толпу. Освободил путь по мокрым доскам к закопченной печи, в которой зияла дыра, пепельно-белая, в свечении нестерпимого жара. Держа перед грудью ковш, напрягая мускулы, как античный дискобол, стал разбегаться. Налетел на печь, навстречу дующему адскому пламени. Вбросил в зев сверкнувшую воду, от которой что-то ахнуло, взорвалось в печи, дунуло жуткой струей огня, бестелесной прозрачной плазмой. Расширяясь, плазма превратилась в огненных духов Ада, крылатых, хвостатых, неистовых. Прянули на несчастных людей, стали драть, терзать, впивались когтями, язвили жалами, сдирали и соскабливали кожу. Толпа, окутанная дымом, возопила. Заслонялась руками, приседала. Но духи выжигали им глаза, вырывали языки, ломали ребра, подрезали поджилки, вспарывали животы, наматывая на крючья трепещущие, шипящие внутренности. Лица кругом искажались от мук, истекали слюной и слезами. Как резиновые маски, соскальзывали с черепов, оставляя блестящие кровавые кости.
Коробейникову стало дурно. Ему казалось, что у него взбухает мозг и глаза белеют и свариваются, как у рыбы в ухе.
Мужик-мучитель обмотал руку грязной тряпкой. Черпнул из ведра ковшом. Заостренный, стремительный, покрытый пленкой стеклянного пота, помчался к печи, виляя красными ягодицами. Нацелился в сизый зев, метнул ковш воды. И оттуда с треском вырвалась шаровая молния. Ворвалась, как плазменное ядро, в толпу мучеников. Прожигала насквозь тела, выпаривала кровь, срывая с плеч головы. Металась, сея смерть и мучения. Исчезла под сводом, оставив светящийся синий туман, рыдающую толпу.
Коробейников едва стоял на ногах. Ему казалось, что голова его горит, подожженная молнией, и на плечах у него смоляной факел. Хотел уйти вниз, но толпа сжимала его, окружала клейкими потными телами.
Это был Ад, средневековый, описанный Отцами Церкви, начертанный на стенах храмов, упрятанный в раскаленную сердцевину Земли. Сюда собирали грешников, проживших земную жизнь. Их уводили из-под солнечных небес, отрывали от цветущих лугов, комфортабельных дворцов, намоленных храмов. Они оставляли на поверхности нажитые богатства, королевские короны, маршальские мундиры и почести. Голые, беззащитные, помещались под своды громадной пещеры, где получали воздаяния за грехи. За растление малолетних, отцеубийство, предательство благодетелей, прелюбодействие, ложь, страсть к наслаждениям, неутолимую гордыню, насилие над слабыми мира сего. Дети отвечали за грехи отцов. Отцы — за провинности детей. Брат — за преступления брата. Род страдал за окаянный проступок пращура. И все вместе мучились за неотмолимый, первородный, не имеющий имени грех, который коренился в каждой сотворенной плоти, замутнял каждую рожденную душу.
Коробейников проваливался в обморок, снова всплывал в сумеречную огнедышащую явь, которая казалась бредом. Его проворачивали на огромном мокром колесе, раздирая суставы и сухожилия, — воздаяние за совершенный в детстве грех, убийство черно-фиолетовой жужелицы, которая хрустнула у него под каблучком, слабо, после смерти, шевелила вялыми лапками. Его клали на противень с углями, на которых он скакал животом, обжигая пупок и пах, — за кратковременную, легкомысленную связь с провинциальной девушкой, которая влюбилась в него, а он, не простившись, уехал, забыв ее любящее милое лицо. Выдирали железными щипцами язык, оставляя окровавленный трепещущий корень, — за написанную в газету статью, где он погрешил против истины. Втыкали под ребро раскаленный докрасна шкворень — за не оставлявшие его гордыню и честолюбие.
Коробейников с помраченным сознанием стал выбираться из толпы, намереваясь спуститься вниз, куда опадали охлажденные клубы пара и где свист березовых прутьев казался избавлением от огненной пытки.
— Оставь Елену, — услышал он рядом и обморочно поднял глаза. Саблин, весь маслянистый от пота, стеклянный, светящийся, ярко и беспощадно смотрел на него. — Слышишь, оставь Елену. Твоя роль исполнена. Марк отнял ее у меня, воспользовался моим несчастьем. В минуту моей немощи и бессилия отнял ее у меня. Выменял, как еврейский меняла. Пользуясь своими еврейскими связями, избавил меня от тюрьмы, а взамен взял Елену. Она пошла на эту жертву из-за любви ко мне. Марк отобрал ее у меня, ты отобрал у Марка и теперь верни мне. Я забираю ее с этого невольничьего рынка. Забудь о ней.
Обращенье на «ты», бездушное, пышущее жаром пространство, скользкие доски под босыми стопами — все приближало обморок. Услышанное казалось наваждением излетевшего из пекла безумного духа.
— Не понимаю, о чем ты?.. Надо спуститься вниз… Эхо мешает понять смысл твоих слов. — Коробейников чувствовал приближение теплового удара. Кровь вскипала перегретыми частицами, гудела в висках. В глазах плясали фиолетовые вензеля.
— Не обольщайся, она не любит тебя. Это я все подстроил. Познакомил вас. Ей напел о твоей божественной книге. Тебе — о твоей избранности и гениальности. Ты всего лишь приманка, подсадной селезень. Елена пленилась твоими радужными перьями, которые я на тебя наклеил. Вырву их, и ты опять превратишься в одного из бесчисленных литературных дебютантов, к которому никогда не явится настоящий успех. Ужасные обстоятельства заставили меня уступить Елену этому напыщенному еврею. Но теперь я забираю ее из плена. Ты только средство. Я тебе благодарен. Теперь ты должен исчезнуть.
Саблин энергично шевелил губами. Звук его слов смешивался с гулом в висках, с криками и воплями преисподней. Коробейникову казалось, что изо рта у него, из розовых губ вырывается прозрачное синее пламя. Он был не грешник, не жертва адских пыток, а в своей статной силе и обнаженной красоте казался хозяином этой кромешной пещеры, одним из духов, что вырвался из зева печи, облекся в сияющую плоть.
— Ты хочешь сказать, что Елена была твоей возлюбленной? Ты жил с сестрой как с любовницей?
— Мы одна кровь, одна суть. Принадлежим друг другу среди отвратительного, поганого мира. Над нами совершили насилие, разлучили. Елена принесла себя в священную жертву, но теперь она ко мне возвращается. Я знаю о ваших отношениях до мельчайших подробностей. Она мне сама рассказала. Иногда мне хотелось тебя убить, но ты ничего не ведал. Теперь ты знаешь. Предупреждаю, оставь ее добровольно. Иначе я кину в твой дом гранату. И вся твоя убогая домашняя утварь, твоя утлая библиотека, дурацкая машинка «Рейнметалл», на которой ты строчишь дурацкие тексты, твоя доверчивая, похожая на крольчиху жена, наплодившая тебе двух крольчат, — все это взлетит на воздух к чертовой матери. Не принуждай меня к этому.
— Ты утверждаешь, что живешь с Еленой как муж с женой? У вас кровосмесительная связь? Она говорила тебе о наших с ней отношениях? И все это жуткий, мерзкий обман? — Коробейников попытался что-то выкрикнуть, но его повело в сторону. Ноги стали скользить, и только сильная рука Саблина удержала его на ступенях.
Больно сжимая локоть, Саблин свел его вниз, посадил на скамью. Коробейников мутным взором, боясь провалиться, смотрел, как Саблин напрягает свои атлетические мышцы, рельефную грудь, литые бедра. Берет лоханку. Поворачивает деревянную рукоять. Подставляет под кран. Шумно напускает воду.
Саблин поднял лоханку, размахнулся и шмякнул ледяную, литую, оглушающую воду на горячего Коробейникова. Так окатывают снятого с дыбы мученика. Очнулся, как от удара дубины, страшно вздрогнул. Ошалело глядел на близкое, беспощадное лицо.
Поднялся, шатаясь. Чувствуя, как ломит кости, побрел из парилки.
— Спасибо вам за все, Мишель. А я еще, пожалуй, попарюсь. Побуду с моим любимым и добрым народом, — услышал вослед Коробейников.
39
Он брел по улице как оглушенный. Кожа под одеждой горела, словно была ошпарена или ее исхлестали крапивой. Голова казалась горячим глиняным комом, в котором запекли одну-единственную жуткую мысль. Бытие разрушалось. Изящная, тщательно выстроенная конструкция человеческих отношений колебалась и падала, как ажурная высоковольтная мачта, у которой подорвали опору. Услышанное в бане, как и сама чудовищная, инфернальная парилка, казались результатом его, Коробейникова, помрачения, воздействием огненных демонов, один из которых принял образ голого Саблина. Светясь ядовитым светом, великолепный и жуткий, пытал его огненной мукой. Лишил рассудка, поместив в глубину обезумевшего раскаленного черепа невероятную, страшную мысль. И эта мысль требовала немедленного опровержения или беспощадного подтверждения. Из телефонной будки он позвонил Елене.
— Как чудесно, что ты позвонил, — услышал он упоительный, с таинственными переливами голос, вообразив ее всю — милое, окруженное чудесными волосами лицо, длинную дышащую шею, приоткрытую грудь, нежно белевшую в прорези домашнего платья. Ощутил на расстоянии исходящее от нее живое тепло, подействовавшее на него исцеляюще.
— Чем занята? — спросил он растерянно, уже не уверенный в своем безумном порыве.
— Марк ушел, и я, как водится, выполняю секретарские поручения. Сижу на телефоне. Читаю гранки статьи. Готовлюсь к встрече с французами, приехавшими по линии Министерства культуры.
— Хочу тебя повидать. На минуту могу заглянуть?
— Я и сама хочу. Хочу, чтобы ты заглянул.
Подымаясь в лифте, вдыхал табачный дым, впитавшийся в старинное, кофейного цвета, дерево, запахи железной, утомленной машины, едва уловимые дуновения ее духов, по которым он, словно бабочка, угадывал ее присутствие среди громадного задымленного города.
Открыла дверь, и он сладко задохнулся от ее объятий, от голого теплого локтя, нежных, щекочущих волос, от сильного, страстного тела, которое прижалось к нему, и он ощутил все его биения и токи.
— Как я рада! Хотела тебя повидать. Что у тебя нового за эти дни?
Смущенно, мучаясь, не находя слов, бормотал:
— Все хорошо, все нормально… Успех последнего очерка… «Ода» на Красной площади… Стремжинский передал поздравления… В командировку, на базу авиации…
Бормотал, стоя в прихожей, глядя в приоткрытую дверь спальни, где в розовом сумраке сверкали зеркала. И ужасающая жаркая мысль: в этой спальне, отражаясь во всех зеркалах, бесконечно повторенные, она и Саблин. Белизна их тел, сплетенных в яростной страсти. Запрещал себе думать. Заговаривал, отвлекал себя самого. Погружался в бессвязное бормотание и лепет:
— Все хорошо, все нормально… Отец Лев прислал письмо, зовет к себе в гости под Вязьму… Кок, художник, я тебе говорил, — пытаюсь вытащить его из «психушки»… Там настоящий ад, там пациентов хлещут лозой… Дикторский пучок и парилка…
Его лепет уносило как сор. Сквозь легковесные пустые слова прорывался свирепый огненный дух. Беспощадный, из сияющего стекла, великан прижимал к обнаженному торсу голую великаншу, и оба, сотрясаясь, отражались в огромных, до небес, зеркалах. И это было ужасно.
— Хочу тебе что-то сказать. — Елена чуть отодвинулась от него. Глаза ее чудесно затуманились. В них появилась нежность, мягкая кротость, умоляющая беззащитность. — Я бы раньше сказала, но была не уверена. Но теперь сходила к врачу, и он подтвердил: я беременна.
— Ты? Беременна? — вырвалось у него, и этот вырвавшийся, сиплый, испуганный вопрос ужаснул Коробейникова. — Беременна от кого?
— От тебя. — Она изумленно подняла брови. — Конечно от тебя. Это случилось там, на опушке, где я потеряла перчатку. Тогда же, в машине, почувствовала, как пролилась в меня твоя жаркая, чудесная сила. Ощутила ее сердцем и подумала: неужели? Будет ребенок? Весь следующий месяц ждала, прислушивалась, сомневалась. А вчера была у врача, и он подтвердил, — я беременна.
— Этому можно верить? Это не обман? Не ловушка? Не умелая западня или тонкая выдумка, которая понадобилась тебе и твоему замечательному брату для каких-то ваших семейных, любовных кровосмесительных целей? Ты действительно любовница брата? — Он говорил безумно, язвительно, с прибывающей яростью, вонзая в нее ироничные, заостренные, злые слова. Желал причинить ей боль, вырезать ее признание, выскоблить лукавый обман, иссечь кровосмесительный плод.
— Все-таки это случилось. Ты виделся с Рудольфом. Он тебе рассказал, — потухше, устало, с безнадежным выражением подурневшего вдруг лица произнесла она. — Это должно было случиться. Он угрожал мне, что все расскажет.
— Что, что расскажет? Что можешь ты рассказать?
— Он сумасшедший. Когда мне было двадцать, он изнасиловал меня. Он — с поврежденной психикой. Несколько раз пытался наложить на себя руки. Его вынимали из петли, исцеляли от яда. Он тяготится жизнью. Ищет в этой жизни другую, несуществующую, жизнь. Желает ее извратить, вывернуть наизнанку. Он добивался близости со мной, угрожая самоубийством. Меня спас Марк. Я вышла за него, спасаясь от Рудольфа. Но он преследует меня и в замужестве. Он бешеный, никого не любит, а себя ненавидит. Он может застрелить, бросить гранату, толкнуть под поезд. Он кончит свою жизнь ужасно. Я его люблю и ненавижу. У него был период запоев. Период игры на скачках. Он растратил какую-то громадную сумму, и ему грозила тюрьма. Марк спас его, вырвал у следователей, внес растраченную сумму. Это дает ему повод утверждать, что между ним и Марком состоялась сделка, он продал меня Марку, сдал в аренду на несколько лет. Теперь срок аренды истек, и он требует меня обратно. У них ссоры, стычки, ужасные сцены. Когда появился ты, я подумала, что ты мой избавитель. Кинулась к тебе, закрыв глаза. Теперь я беременна.
Она говорила это тихо, потупив глаза, бессильно опустив руки, отдавая себя ему на суд. А в нем, вместо жалости и милосердия, неистовая боль и слепое бешенство:
— Вы, Саблины, — проклятый род! Смесь разбойников и гадалок, татей и святош! Носитесь из века в век по России с топорами и саблями, и там, где пролетаете, хлещет кровь! Вы химерические созданья, смесь людей и животных! У вас чешуя и рыбьи хвосты! Твой брат — похотливый бык с головой человека! Вас всех обрызгала ядовитая сатанинская сперма, и вы не находите себе на земле места! Все естественное вам противно! Вы извращенцы, святотатцы. Ваша религия — грех содомский! Ваша любовь — кровосмешение! Ваш бог — намыленная петля!
Он выкрикивал, глядя на ее беззащитное, осунувшееся лицо, желая сделать ей больно. Она стояла, опустив беспомощно плечи. Тихо сказала:
— Я люблю тебя. У нас будет ребенок.
— У нас? У нас с кем? С Марком? С Рудольфом? Как определить отца ребенка? Ждать, когда он подрастет и у него обнаружится характерный ближневосточный нос? Или бешеная склонность колоть иголками кошек и поджаривать живых воробьев?
— Ты хочешь уйти от меня? Ищешь повода, чтобы порвать со мной? Для этого не нужно оскорблений. Просто уйди… — Она подняла на него потемневшие, провалившиеся глаза. Бледная, с болезненной синевой, словно ей не хватало животворной крови. В лице появилась лунная мертвенность. Он испытывал к ней отчуждение, — к болезненной, пульсирующей на шее синеве, к белой переносице, у которой сходились белесые, выцветшие брови, к бесцветным серым губам, возле которых обнаружились похожие на трещинки морщины. — Уходи, — повторила она, хватаясь за стену. — Больше не приходи никогда.
Он вышел, оставляя за собой ее обморочное, предсмертное лицо. Хотелось тонко выть, колотиться лбом о шаткие стенки лифта, который медленно, с музыкальным хрустом, опускал его в глубокий колодец.
Первые дни после ссоры он испытывал облегчение. Ему казалось, судьба уберегла его от несчастья. Он лишь мельком заглянул в опасную, кромешную жизнь, основанную не на белковых земных телах, а на кремниевых кристалликах и аммиачных инопланетных молекулах. В этой ядовитой, смертоносной жизни, среди зеркал, таинственных собраний, извращенных отношений ему не было места. Утолив писательское любопытство, он вовремя отскочил от нее, чтобы потом описать в романе. Она отстала от него, как отстают сороконожки, жуки, кольчатые черви, жирные гусеницы, не причинив вреда. Обогащенный уникальным опытом, уцелевший во время опасных исследований, он мог вернуться к привычному кругу занятий, к прежним знакомым, в семью, к любимым жене и детям.
Но через несколько дней им овладела неуемная тоска. Где-то рядом, в одном с ним городе, в одно с ним время, находилась женщина, которая одарила его восхитительными переживаниями, небывалыми откровениями, слезной нежностью, огромными, как смерть, прозрениями. Эта женщина связана с ним не просто испытанными совместно наслаждениями, не только усладами плоти и души, но и чем-то еще, что существует в ней, живое, безгласное, беззащитное, относящееся к нему, Коробейникову, как его малая, драгоценная часть. Эти помышления причиняли ему страдания.
Совесть его болела. Узнав, что Елена беременна, он испугался ошеломляющей новости, которая меняла всю его жизнь, ломала ее надвое, сулила катастрофу. Первая, открывшаяся в бане, жуть затмилась второй, и, чтобы оттолкнуться от этой второй ошеломляющей новости, он лукаво заслонил ее первой. Инсценировал ревность, праведный гнев. Отталкивал от себя Елену, чтобы оттолкнуть вместе с ней эту грозную новизну, ворвавшуюся в его жизнь и судьбу. Он был трус и обманщик, неблагородный лжец и симулянт, убежавший от любимой женщины в минуту ее несчастья.
Он убежал от ее смертельно побелевшего лица, задыхавшейся, бурно дрожащей шеи, ее колотящегося, прыгающего сердца, когда она могла упасть, умереть, а вместе с ней мог умереть зародившийся в ней ребенок. Так трусливо и низменно убегает водитель от сбитого им пешехода. И это он, Коробейников, вслед за истерическим и порочным братом, вельможным и властным мужем, нанес ей смертельный удар.
Он метался, мучился, чувствовал ее присутствие в огромном задымленном городе.
Порывался ей позвонить. Набирал номер, к телефону подходил Марк, и он бросал трубку как ошпаренный. Несколько раз подходила Елена, он называл себя, и сразу же раздавались гудки. Она не желала его знать. После мгновенного унижения вновь возвращались тоска, нежность, раскаяние, потребность ее увидеть.
Он стал караулить ее. Кружил вокруг дома на Сретенке, надеясь, что она выйдет на улицу и он сможет к ней подойти. Было холодно, серо, летела по тротуарам сухая поземка. Он замерзал на ветру, возвращался в машину и следил за ее домом сквозь потеющее стекло «Строптивой Мариетты». Но Елена не появлялась. Однажды он увидел женщину, — стройная, на высоких каблуках, с непокрытой головой, золотистыми, гладко причесанными волосами, она удалялась от него. Пережив сладкий, радостный страх, он кинулся ее догонять. Поравнялся, горько убеждаясь в своей ошибке, ловя на себе удивленный взгляд чужих, незнакомых глаз.
Он испытывал неведомое прежде чувство, в котором присутствовали вина и раскаяние, уязвленная гордыня, разъедающая ревность, неутолимое влечение и обожание, когда снова хотелось обнимать ее, покрывать поцелуями, безудержно и слепо ласкать, внезапно раскрывая глаза, — в коричневом сумраке пламенеет камин, багровый свет отливает на ее выгнутой, блестящей спине, его жадные пальцы сжимают ее бедра, оставляя на них розовые сочные отпечатки.
Он приходил в комнатку на Мещанской, где еще стояла недопитая бутылка вина, в камине лежали холодные угли, на кровати было скомкано полосатое покрывало. Ложился на кровать, прижимаясь лицом к полосатой ткани, надеясь почувствовать запах ее тела, аромат ее духов. Отыскал упавший, затерянный у стены поясок ее платья, костяную оброненную шпильку. Целовал голубую перевязь, клал себе на глаза, вспоминая, как распускала она поясок, вешала на спинку кровати, и он змейкой соскальзывал в темноту. Как вытаскивала шпильки из волос, встряхивала головой, роняя на лицо пышный освободившийся ворох.
Ее не было с ним, но были фетиши любви, и он занимался любовной ворожбой, вызывая живой и любимый образ. Наконец, одержимый любовным суеверием, он решил поехать в Подольск, и дальше, по шоссе, к той опушке, где случилась их близость и она потеряла перчатку. Суеверие состояло в том, что он отыщет перчатку, вернет Елене, и это восстановит их порушенные отношения.
Гнал по шоссе и, как всякий одержимый верующий, перебирал череду событий, стараясь обнаружить в них религиозный смысл, вещий знак, божественное знамение, в которых открывается промысел. Каменные евангелисты у дубровицкой церкви держали свои раскрытые окаменелые книги, и в них уже тогда значились уготованные испытания, опасные искушения, гибельные напасти. Драка на песчаной дороге, кремниевый булыжник с крохотными горевшими на солнце песчинками были отражением битвы с жестоким духом, подземным драконом, у которого он, Коробейников, вырвал прекрасную женщину. Потерянная на опушке перчатка означала неизбежные несчастья и злоключения, которые они сами посеяли. Как из оброненного гребня вырастает сказочная чащоба, непролазный лес, так из оброненной перчатки выросли злоключения, которые можно одолеть, разыскав на заснеженной предзимней опушке ее изящную кожаную перчатку.
Он доехал до участка шоссе, где в окрестности не было поселений, тянулись пепельно-серые перелески с редкой синевой заостренных елей. Съезд на проселок, среди белесой полузаснеженной пустоши. Задеревенелые колеи с длинными серо-стальными лужами, которые трескались под тяжестью автомобиля. Машина, подскакивая на ухабах, добралась до опушки, до жестких хлестнувших кустов, которые, он помнил, сочно вспыхнули в свете фар, а потом погасли, и они остались вдвоем в темной тишине, отдельно от всего остального мира, который давал о себе знать далекими, летящими по трассе огнями.
Вышел из машины. Ветер, ледяной, промозглый, налетел и одним глотком выпил из тела все живое тепло. Осиновая опушка была продуваема, с металлическим жестоким свечением стволов, словно это были не деревья, а стальные изваяния, уродливые длинные слитки. Земля под ногами была жесткой, в шуршащей, запорошенной снегом листве. Казалось, отсюда навсегда излетела жизнь, умчалась атмосфера, канули птицы, погибли лесные звери. Место, где случилось их недавнее чудо и он ее обнимал, видел откинутое на сиденье бледное, с закрытыми глазами лицо, целовал горячие груди, теперь казалось проклятым. Кто-то жестокий явился на эту опушку, умертвил все живое, поднял и унес перчатку, наложив на это место заклятье. И теперь здесь никогда не распустятся деревья, не вырастет трава, не засвистит лесная птица, и всякий будет стремиться поскорее миновать эту заколдованную Богом опушку.
Коробейников бродил, ворошил листву. Перчатки не было. Дул ровный железный ветер, металлически стучали проволочные ветки деревьев. И была такая тоска, такая богооставленность, такое непреодолимое горе, что он зарыдал.
40
Он изнывал, но рядом мучился друг, футуролог Шмелев. Звонил ежедневно, вызывал Коробейникова на встречи. Вместе кружили по вечерней Москве среди продрогших улиц, стылых фонарей, кривых переулков, наполненных подводной морской синью, в которой вдруг возникала барочная колокольня, похожая на коралловый, облепленный ракушками риф, или декадентский фасад с круглыми окнами и овальными переплетами, напоминавший затонувший корабль. Шмелев в своей тоске и безумии вываливал на Коробейникова тяжкие груды истерических рассуждений, в которых тема вероломной жены мешалась с дерзким богохульством, пророческие взгляды на будущее перемежались едким нигилизмом. Он напоминал человека, сделавшего себе харакири. Выталкивал из рассеченного чрева бурлящие внутренности, сгустки кишок, скользкие печень и почки. Демонстрировал Коробейникову, и тот, ужасаясь, принимался их обратно заталкивать. Накладывая грубый шов, вкалывал обезболивающее, клал несчастного под капельницу, переливая в него свою кровь, даря свои витальные силы. Шмелев принимал помощь друга, проходил курс лечения. Но потом опять раздирал себе живот, с маниакальным наслаждением вываливал хлюпающие комья прямо на колени Коробейникова. И тот снова принимался исцелять.
Раздался звонок. Говорил Шмелев, пребывая в необычайном возбуждении:
— Миша, дорогой, ты был прав! Один поворот головы, малое смещение ракурса меняется от ужасного к прекрасному, несчастье превращается в радость. Такова голография мира, голография души. Любое великое дело, если оно связано со вселенскими сущностями, включает в себя добро и зло, высочайший взлет и неизбежную катастрофу. Я предлагаю план обновления социализма, план развития СССР, которые, будучи вселенскими проектами, включают в себя зло и добро, преобразуя и то, и другое в развитие. Моя беда, мое сегодняшнее страдание, мое нынешнее поражение временны. Я преодолел их силой духа, силой идеи, силой любви. Я простил Шурочку, простил Павлушу. Помирился с ними раз и навсегда. Отнес наш общий грех в область ветхой истории. Новая история, которой посвящен Город Будущего, предполагает абсолютную новизну, абсолютную безгрешность и всепрощение. Сегодня я везу макет «Города» в академию. Сам за рулем «Волги», структуры макета, аппарат светомузыки, коробочки с бабочками, русские рушники, — все это гружу на прицеп. Мы втроем — Шурочка, Павлуша и я передаем макет академии. Сначала поездом, потом морем он будет доставлен в Японию. Очень хочу тебя видеть. Ты так много сделал, спасая меня. Столько отдал мне сил, что среди авторов «Города Будущего» должны стоять не только наши имена с Павлушей и Шурочкой, но и твое имя, Миша! Приезжай, пожалуйста, поможешь разгрузить экспозицию. Встречаемся в пятнадцать часов на Вавилова, дом сорок четыре. Я жду…
С облегчением, уповая на исцеление друга, видя в этом исцелении свою заслугу, Коробейников отправился на свидание со Шмелевым. В этом чудесном исцелении был знак и для него, Коробейникова. «Силой духа, силой идеи, силой любви», — повторял он слова Шмелева, веря, что этот опыт поможет возродить его отношения с Еленой. Он будет прощен, и еще неведомо как, но будет восстановлена гармония их близости и любви.
Таганка казалась хмурым дымящим котлом, в котором пузырилось, блестело. Падал сухой серый снег, превращаясь в металлический пар. «Силой духа, силой идеи…» — повторял он слова заклинания. На Калужской вышло солнце. Памятник Гагарину взлетел в голубой плазме, как огромная светящаяся ласточка. «Силой идеи, силой любви…» — звучало в нем, как строка священного заговора. Донской монастырь с алюминиевыми куполами проплыл, как аэростат. «Силой духа, силой идеи, силой любви…» — многократно воспроизводил волшебный стих, посылая его в глубину огромного, в осеннем солнце, города, чтобы стих услыхала Елена.
Вырулил на улицу Вавилова и крутил головой, считывая номера домов. Искал «44», приближаясь к месту свидания.
«36», «38», «40», — словно прозрачная тень легла на солнце, занавесила улицу пепельной кисеей. Испугавшееся, обо всем догадавшееся сердце, опережая глаза и разум, предвосхитило в страшном прозрении, — ошалелые оранжево-синие вспышки нескольких милицейских машин, фиолетовые воспаленные мигания кареты «скорой помощи», постового с жезлом, зло прогонявшего замедлявших ход водителей, и в окружении людей в белых халатах и милицейских мундирах, остановившийся, впечатанный в улицу взрыв катастрофы, расплесканные осколки стекла, лоскутья металла, длинные мокрые брызги. Знакомая Коробейникову «Волга» врезалась в фонарный столб, который расслоил машину надвое, вдавил изуродованный радиатор в середину салона, пропустил разящий удар в глубину автомобиля. Тут же, колесами вверх, валялся прицеп. Из него, далеко по проезжей части, рассыпались элементы «Города Будущего» — башни, зонтичные конструкции, бесчисленная чешуя ячеек, скомканные красно-белые рушники, расколотая икона, раздавленные коробки с бабочками, чьи хрупкие перепонки шевелились и переливались на ветру. По одну сторону автомобиля, лицом вверх, лежал убитый Павлуша, рыхлый, бесформенный, с нелепо вывернутыми суставами рук и ног, с красным ручьем из открытого рта, в котором в слюне и крови висели выбитые зубы. По другую сторону лежал Шмелев с огромной сине-розовой шишкой на черепе. Глаза его, полные слез, остановились, подбородок двигался вперед и назад, словно челюсти непрерывно жевали. Между багажником и перевернутым прицепом на асфальте сидела Шурочка. Ноги ее бесстыдно раздвинулись и заголились. Под нее натекла лужа. Лицо было тупым, идиотским, в липкой грязи. Она слепо шарила рукой по асфальту, нащупывала крылья и сухие тельца поломанных бабочек, совала их в рот. Сжевывала большую, черно-изумрудную, африканскую нимфалиду, которой еще недавно, в мастерской Шмелева, любовался Коробейников.
— Как? Что случилось? — Коробейников предъявил озабоченному автоинспектору редакционное удостоверение. Тот искоса взглянул, утомленно ответил:
— Не справился с управлением. Может, сердечный приступ. Может, тормоза отказали. Осмотр машины покажет.
Из глубины улицы, истошно стеная, подкатила еще одна «скорая помощь». Санитары вытащили носилки. Двое подошли к Павлуше. Приподняли и тяжело шмякнули, небрежно прикрыли клеенчатым пологом. Другие двое, приладившись, держа за плечи и щиколотки, переложили на носилки Шмелева. Его сине-розовая гематома дрожала, как жидкий студень. Вложили носилки в глубину «скорой помощи», захлопнули дверцы, и машина, разнося по Москве ужасную весть, расплескивая по фасадам призрачную лиловую вспышку, помчалась.
Коробейников погнал «Строптивую Мариетту» следом, боясь отстать. Включил фары, пролетал вслед за вспышкой на красный свет, ошалело обгонял шарахающиеся автомобили. Ему казалось, что он знал о беде, предчувствовал ее. В истерических признаниях Шмелева, в его проклятьях и прощениях, в мстительных возгласах и усталом смирении уже присутствовала эта последняя линия неодолимого страдания. Коробейников отвлекал, уговаривал, отбирал на себя нестерпимую боль, отдавал погибающему другу свои жизненные силы, оттаскивая от черты. Но больное безумие друга было сильнее, подвигало все ближе к черте, на которой стояло число «44», был установлен фонарный столб, раздвоивший «Волгу», как ледорез. Он мчался за санитарной машиной, чувствуя в ее коробе лежащего друга, в голове которого вспухла громадная клякса боли, осколки костей царапали мякоть мозга, извлекая из расплющенных полушарий безумные видения. Их улавливал мозг Коробейникова, и эти видения были кошмарами.
Они примчались в район Миусской площади, к нейрохирургической клинике. «Скорая помощь» нырнула в ворота, а Коробейников, бросив машину на улице, проник в клинику, до конца не понимая своих побуждений. Стал добиваться встречи с главным врачом, используя уговоры, предъявляя удостоверение газеты, настаивая на немедленном свидании.
Главврач оказался известным, с мировым именем, нейрохирургом, очерк о котором недавно был напечатан в газете. Превозносилось виртуозное мастерство врача, его ошеломляюще смелые вторжения в мозг, приводившие к чудодейственным исцелениям.
Врач встретил Коробейникова настороженно, с легкой гримасой отчуждения на худом моложавом лице, раздражаясь внезапным вторжением, экзальтированной возбужденностью посетителя, сумбурным повествованием, в котором не было ничего, что могло бы помочь перед началом мучительно сложной операции. Хирург слушал Коробейникова, машинально тренируя руки, вращая гибкие запястья, сжимая и разжимая пальцы, которые, казалось, не имели суставов, были чуткими щупальцами, лепестками подводного цветка, откликавшегося на слабые токи и прикосновения.
— Вы должны его знать… Архитектор-футуролог Шмелев… Его «Город Будущего»… В этих идеях огромные перспективы развития. Быть может, судьба государства… Уникальное мышление, гигантский ум… Скопил в себе мировую культуру и совершил рывок в будущее… Я написал о нем очерк. Был помещен в том же номере, что и рассказ о вашей работе… Редколлегия отметила оба эти материала, назвала их героев «людьми из будущего»… Сделайте что-нибудь… Шмелев не должен погибнуть… Этот мозг является национальным достоянием…
— А вы вообще когда-нибудь видели мозг? — спросил хирург, пропуская мимо ушей бурные излияния Коробейникова.
— Я? Мозг? — удивился Коробейников. — Не видел…
— Приглашаю вас на операцию. Вам дадут халат и шапочку, — пошел к дверям не оглядываясь, не давая объяснений своему неожиданному решению. Стремительной волей, направленной в работу энергией увлекал за собой Коробейникова.
Облаченный в халат и бахилы, в неудобной шапочке, Коробейников стоял в операционной, изумляясь тому, что лежащий на столе недвижный истукан — это друг Шмелев, неутомимый в замыслах и речениях, каждую минуту в беспокойном движении, превращавший любое, самое простое занятие в священнодействие, — заваривал ли в крохотном арабском кофейничке крепчайший смоляной кофе, или накалывал на липовую расправилку драгоценную, в шелковых переливах, бабочку, или реставрировал кисточкой старую икону, или наматывал на смуглый палец золотистый локон Шурочки. Это — Шмелев, вытянутый, с босыми ногами из-под простыни, с омертвелыми руками, с опавшими легкими, вместо которых сипло надувался и опадал ребристый аппарат искусственного дыхания. Коробейников, стоя в торце стола, не видел лица, а только волосатое темя с набухшей огромной шишкой, которую остригли и обрили, окружив кольцом голой кожи.
Ярко горели хромированные люстры. Блестела белая сталь скальпелей, пинцетов, зажимов. Были разложены тонкие иглы, щупы, лопаточки. Шмелев напоминал бабочку, которую уложили на расправилку, и сейчас подойдет энтомолог, вонзит острие в жесткую кромку крыла, растянет на плоскости роскошную изумрудно-черную перепонку. Бригада сестер и врачей орудовала шприцами, капельницами, управляла приборами и аппаратами, среди которых, подвешенная на тончайших невидимых струнах, колебалась жизнь Шмелева. Коробейников теменем чувствовал липкий жар, пульсацию фиолетового волдыря на голове Шмелева, словно сотрясенный и раненый мозг, отсеченный от тела, ослепший и оглохший, искал себе выход. Находил в общении с другом, посылал из теменного ока в сострадающий разум Коробейникова свою боль, бессловесный ужас, хаос сотрясенных видений.
Появился хирург, в зеленовато-бирюзовом облачении, с обручем на лбу, в котором размещался застекленный электрический глаз. В перчатках, изящно зачехленный, с движениями, напоминавшими балет, был снаряжен для опасного странствия. На морское дно, где в сумерках обитали таинственные рептилии и глубоководные рыбы. В подземные шахты, где в провалах земли ютились боги каменных недр, болезненные плесени и боящиеся света грибы. В открытый Космос, где в черном зияющем мраке сверкали жестокие звезды, реяли прозрачные шестикрылые духи. Был легок, сосредоточен, не замечал Коробейникова. Издали, чуть наклоняя голову, прицеливался к бритой голове, из которой торчал косматый, как у запорожца, чуб.
Перехватил у сестры пинцет с йодистой ваткой. Небрежно, словно маститый художник, сделал на выбритой коже несколько золотистых мазков. Нарисовал светящийся нимб, будто пациент был причислен к лику святых.
«Костя, друг милый, ты будешь спасен… Мастер высшего класса… Такой же, как и ты, футуролог… Молюсь за тебя… Отдаю тебе мою животворную прану… — Коробейников чувствовал, как раненый мозг друга посылает ему свои вопли, свое бесшумное страдание, из темени в темя, от одного теменного ока в другое. Будто из головы Шмелева, из желтого, нарисованного йодом кольца, протянулась невидимая труба, незримый световод, по которому от одной головы в другую, минуя органы чувств, летели жалобы, мольбы, цветные изображения. — Слышишь меня?.. Я рядом… Не дам тебе погибнуть…»
— Новокаин… Артериальное… Нет падения пульса… Приступаю к трепанации… — доносились до Коробейникова вырванные из смысловой ткани, похожие на клочья слова, которыми обменивалась бригада хирургов, главный из которых стоял поодаль, не вмешиваясь в предварительную черновую работу.
Коренастый хирург с голыми по локоть руками приблизил к голове Шмелева дрель. Приставил к пятну йода толстое сверло. Начал с хрустом сверлить, вдавливая сверло в череп, выбрасывая наружу влажные костяные стружки. Хрустели стальные шестеренки инструмента. Хрустела растачиваемая кость. Хрустела и ужасалась голова Коробейникова, будто ему в мозг ввинчивали отточенные кромки и режущая сталь проникала в жидкую мякоть мозга. Хирург, напрягая мускулистые руки, просверлил в голове Шмелева четыре бело-розовые сочные лунки. Бережно собрал упавшие на ткань заусенцы и стружки. Положил в стеклянную чашечку.
«Боже мой, Костя, что они с тобой делают… Твоя гениальная голова, которая собрала в себе столько великих идей и уникальных прозрений… Грубое, страшное вторжение… Я рядом, с тобой… Принимаю на себя твою боль, твое бесконечное страдание…»
В руках хирурга появилась пила — сверкающая, из нержавеющей стали ножовка. Такой пилой перепиливают железные трубы, отрезки арматуры, окаменелое дерево. Хирург ловко и точно стал водить инструментом, соединяя распилами лунки. Коробейников слышал мягкий звук пилы, погружавшейся в сырую кость. Ему казалось, что на его голове выпиливают окно, и мелкие стальные зубья уже дерут в глубине чувствительную влажную мякоть.
Узкие линии соединяли выточенные лунки, окружали гематому тонкими щелями, сквозь которые что-то розовело, светилось, будто в голове горел рубиновый фонарь и его свет просачивался сквозь прорези.
«Боже мой, эта грубая сила, примитивные инструменты, вторжение в святая святых… Твой светоч, хранилище великих гипотез, неповторимое течение мыслей… Неужели так просто отмыкается секретный замок, открывается божественный сейф?.. Костя, друг, я рядом, спасаю тебя…»
Хирург приложил к черепу растопыренную пятерню, касаясь чуткими пальцами. Другой рукой взял инструмент, похожий на вязальную спицу. Ввел в распил, поддел, потянул. Свод черепа отпал, и вовне ударила разящая, ошеломляющая сила, толкнувшая Коробейникова, словно из-под свода прянул малиново-красный взрыв. Пахнуло парным духом, пролилась и закапала клейкая жижа, окровянив простыню. Обнаружился мозг, бугристый, выпуклый, с перламутровой слизью, малиновыми, голубыми, ярко-желтыми и тускло-белыми массами. В этом зрелище была такая интенсивная мощь, запретная тайна, кощунственная нагота, что Коробейников ошеломленно отпрянул, стал терять сознание. Искал опору, с трудом одолевая обморок. С похолодевшим лбом, липкой испариной глядел, как близко светится обнаженный мозг.
От мозга исходила могучая радиация, словно это была глыба урана. Он был живой, переливался, слабо пульсировал, как всплывший на поверхность таинственный моллюск. Фиолетовая мякоть, желтая глубина, выгнутые лепестки делали его похожим на чудовищный жирный георгин. Складки, мягкие морщины, толстая синяя вена, вишневая артерия создавали ощущение отдельного существа, поселившегося в человеке как чудовищный полип, прокравшийся под черепную кость. Этот полип имел внеземную природу, проник под череп в виде крохотной космической споры, разросся, питаясь земными энергиями. Был связан своей природой с необозримой Вселенной, ведал об отдаленных галактиках, о «черных дырах», о первых секундах творения. Передавал малую часть этих знаний бренному человеку. Мозг переливался, как странный, из цветного стекла, сосуд, который соединялся трубочкой с губами божественного стеклодува, был наполнен его дыханием. Освобожденный от костяной оболочки, казался светилом, приплывшим из Космоса. И это ужасало Коробейникова, было невыносимо, ввергало в помрачение от соседства с непостижимой, запретной тайной.
— Микроскоп! — Это приказание произнес главный хирург, перед кем расступилась остальная бригада. К пульсирующей выпуклости мозга, на которой переливался ослепительный свет люстры, придвинулся окуляр микроскопа, который мог быть воспринят как телескоп, направленный на небесное тело.
«Мне дано стать свидетелем непостижимого действа… Заглянуть в глубину мироздания… Бог в обличье хирурга поставил меня рядом с собой, чтобы я узрел обнаженный мозг… Заглянул в сердцевину сознания… Костя, милый, я не должен смотреть… Делаю это ради тебя…» — обморочно думал Коробейников, глядя, как в эмалированной ванночке лежит выпиленная кость с клочком волос, с губчатой розовой кромкой. Его непотревоженное, покрытое волосами темя испытывало холод, словно утратило костный свод, и обнаженный мозг, окутанный розовым паром, чувствовал холод…
— Насос… Пинцет… Два мелких осколочка… Боится меня, дрожит… — Хирург смотрел в микроскоп. Из его лба исходил узкий огненный луч, поджигал красные и синие участки мозга, переливался в серых извилинах. Стальной клюв пинцета нащупывал костяные осколки, выхватывал из разноцветного студня. Мозг содрогался. Коробейников чувствовал в голове ледяное проникновение пинцета. — Подойдите… — Это властное указание касалось Коробейникова. Хирург отодвинулся, приглашая взглянуть в микроскоп. Коробейников приблизил глаз к окуляру и, пораженный, замер.
Казалось, он смотрит из Космоса на живую фантастическую планету. Ее пересекали причудливые горные цепи. Одни были покрыты голубоватым снегом, на других отсвечивал малиновый закат, на третьих нежно зеленела растительность. У подножия хребтов простирались рыжие, опаленные солнцем пустыни. Была видна изысканная рябь барханов. С пустынями соседствовали изумрудные долины, над которыми плыли синие сочные облака. По планете текли полноводные реки, вливались в голубые моря и озера. Виднелись притоки и разветвленные дельты. Среди природных очертаний и контуров был заметен рукотворный чертеж, искусственный ландшафт, состоящий из дорог и каналов, распаханных черноземов, бесчисленных монотонных чешуек, бывших не чем иным, как крышами городов и селений. Тонкие ленточки на равнинах были аэродромами, прямоугольные выступы в морских бухтах — причалами. Планета источала черный дым действующих вулканов и желтоватую копоть заводских труб.
Коробейников не мог оторваться. Оказывается, мозг был планетой. Мышление было жизнью этой думающей планеты. Неразличимые в оптику, среди вафельных отпечатков городов и селений, присутствовали обитатели. И где-то на этой планете была такая же операционная, горели хромированные люстры, кто-то лежал с обнаженным мозгом на хирургическом столе, и другой смотрел в микроскоп и видел фантастическую живую планету. За ним, Коробейниковым, из Космоса тоже наблюдал микроскоп, и земля, на которой он жил, была думающим, парящим в невесомости мозгом.
Коробейникова посетило чувство абсурда. Две уходящие в разные стороны бесконечности, где иерархия не имела высшего и низшего уровня, тварь менялась ролью с Творцом, и каждый был одновременно и Богом, и богосотворенным Адамом.
Хирург припадал к окуляру. Наводил луч в сплетение сосудов, в сгустки студенистых слоев, в скопления складчатых масс. Касался обнаженного мозга тончайшими иглами, изящными резцами, хрупкими пинцетами. Каждое прикосновение отзывалось в голове Коробейникова. Между раненым мозгом Шмелева и мозгом его, Коробейникова, существовала прямая связь, будто от одного к другому была проложена невидимая труба, и две их головы были сообщающимися сосудами. Хирург касался осторожной сталью чувствительных участков, которые откликались моментальным образом, запечатленной мыслью и чувством, переносились по световоду в череп Коробейникова, и тот мог переживать видения, извлеченные из головы друга. Хирург, погружавший инструменты в глубь мозга, вырывал из него видения, как вырывают из почвы растения с корешками. Переносил их в голову Коробейникова. Так пересаживают цветок из одного горшка в другой. Хирург пересаживал гибнущий мозг Шмелева в голову Коробейникова, продлевал его жизнь, подключая умирающие ткани к живому организму.
Огненный луч, бьющий изо лба демиурга. Прикосновение сверкающей стали.
Шмелев, молодой, в брезентовой штормовке, сидит на носу огромного серебристого танкера, скользящего в разливах Оби. Гигантская канистра горючего плывет на север под негаснущими небесами в сиянии вод. Шмелев видит плеск прыгнувшего в реке осетра, темные черточки чумов на белесой отмели. Радостно, мощно, как статуя на носу корабля, подставляет грудь ветру. Стремится туда, где в тундрах рычат буровые, бульдозеры рвут мерзлоту, ложатся черные жерла громадных газопроводов.
Луч демиурга. Проблеск стальной иглы.
В африканских джунглях Шмелев крадется с сачком, продираясь сквозь колючие заросли. На ветку цветущего дерева присела нифмалида. Черный бархат крыла, изумрудная бахрома, тончайшие переливы пыльцы. Шмелев восхищается бабочкой, трепетом хрупких усиков, пульсацией хоботка. Приближает сачок, моля африканского бога, чтобы тот уступил ему эту драгоценную бабочку, чтоб она засверкала в его московской коллекции. А он всю остальную жизнь станет суеверно поклоняться языческому божеству, обитающему на африканской опушке, славить его черно-бархатный лик, красоту изумрудных узоров.
Дрогнул луч демиурга. Легкое касанье пинцета.
Шмелев и Шурочка в их свадебной поездке в Туву. Ночлег на берегу Енисея. Сквозь стены палатки шорох и звон ледохода. Истошные крики селезней. Вопли бессонных цапель. Он целует жену, открывает ее жаркую грудь, кусает ей губы в соленых капельках крови. Их соитие в азиатской тайге, на берегу великой реки, среди сахарных льдин. Наутро откинул полог, — огромная, в сверкающих льдинах стремнина, голубая гора Хайракан, у входа в палатку, нежный и пламенный, расцвел таежный пион.
Волшебный луч демиурга. Укол колдовской иглы.
Шмелев восхищается поднебесным кристаллом Манхэттена. Зеркалами, уходящими в небо. Сталактитами из бетона и стали. Здесь, на Манхэттене, его посетило прозрение, связанное с Городом Будущего. Бледная при солнечном свете, неоновая реклама Бродвея. В прогалах гигантских стеклянных ворот — синий разлив океана. В вышине, между двух небоскребов, пролетает серебряный «Боинг». А в нем — ощущение близкого чуда, прозрение о Городе, вселенская любовь и всеведение.
Все это видел и ощущал Коробейников. Видения перелетали к нему, пропитывали его память, становились его собственной памятью. Две их жизни сплетались. Одна, гаснущая, переселялась в другую. Жизнь Коробейникова, потеснившись, пускала к себе жизнь Шмелева. Демиург с «третьим», огненным, глазом управлял этим таинственным слиянием. Делал операцию по пересадке мозга, переселению души.
Осциллографы с зубчатыми импульсами фиксировали каждый всплеск этого переселения, каждый страстный рывок сознания.
Коробейников видел, как хирургический щуп касается крохотного алого шарика, напоминавшего прозрачную, наполненную солнечным соком ягоду красной смородины. Это был центр творчества. Малая капсула, где скапливался эмпирический опыт и совершался чудодейственный синтез. Алая капля трепетала от прикосновения металла. Коробейников постигал творческую тайну Шмелева, когда в сознании возникало бестелесное, безымянное свечение, будто прилетал невидимый дух, распространяя тихое зарево. В это зарево стремились пылинки материи, корпускулы и молекулы жизни, создавая прозрачное облако — вместилище духа. Из пылинок и слабых молекул выстраивался незаполненный контур, зыбкий эскиз. Под воздействием творящего разума эскиз наполнялся полнокровными образами. Подводная лодка, ныряющая под полярные льды. Каргопольское полотенце с алым волшебным зверем. Текст Вернадского о торжестве ноосферы. Фрагменты работы Ленина «Государство и революция». Эмбрион, взращиваемый в живительной колбе. Космодром в казахстанской степи.
Образы толпились в реторте, переходили один в другой. Реторта накалялась, вскипала, дергалась пламенем. В ночи или в беседе с закадычным товарищем, в битком набитом троллейбусе или на тихой прогулке, всегда внезапно, случалось чудо. Реторта взрывалась, наполненная сияющей плазмой, и в буре огня вставал ослепительный ангел. Совершалось открытие.
Коробейников принимал от друга творящую силу, будто под черепом, наполненная солнечным соком, наливалась красная ягода.
Пинцет хирурга трогал темный мешочек с золотистым отливом, напоминавший ягоду черной смородины. Это было вместилище смерти. Кисет, в котором хранилась погибель, связывала его пуповиной с потусторонними силами, отбиравшими жизнь, вырывавшими душу из тела. Ягода казалась раздавленной, из нее сочилась лиловая жидкость.
Коробейников чувствовал, как в него вселяется смерть Шмелева. Знакомый подвал с макетом «Города Будущего». По овальным сводам и стенам бегут многоцветные слайды. Статуи, храмы, ландшафты. В их разноцветном мелькании голая Шурочка бесстыдно раздвинула ноги, поддерживает их под коленями. На ней, виляя толстыми ягодицами, вздрагивает голый Павлуша, и папоротник на его спине выглядит татуировкой. Этот образ был образом смерти. Коробейников чувствовал, как череп его размыкается и разум выпадает из трехмерного мира. В него врываются хаос и тьма. Он ужасается присутствию безмерной, бесформенной смерти, которая с корнем выдирает последние видения жизни.
Саблин, статный, красивый, с убеждающим страстным лицом, искренними любящими глазами, что-то внушал Шмелеву. Виднелись его шевелящиеся губы, прижатая к сердцу рука, резкий воздетый кулак. Не было слышно слов, но они волновали Шмелева. Тот кивал, соглашался, касался пальцем своего широкого лба, возносил указующий перст, словно соизмерял человеческий разум с абсолютным разумом Бога. Саблин обнял Шмелева. Поцеловались. Шмелев смотрел, как удаляется Саблин, — прямая спина, офицерская выправка, походка, в которой угадывался строевой шаг.
— Он прав, гениально прав!.. — бормотал ему вслед Шмелев. — Чтобы прекратилось страдание, надо исключить себя из страдания!.. Чтобы исключить себя из страдания, нужно исключить себя из мира!.. Мир не принял меня, и я не принимаю мира!.. Мир предал меня в лице самого дорогого, бесценного существа, и я этот мир отрицаю!.. Я хотел спасти этот мир, который задыхается от скудоумия, близорукости, отсутствия благородных и возвышенных целей!.. Хотел спасти коммунизм, над которым нависла беда!.. «Город Будущего» был спасением СССР, проекцией его в бесконечность… Но я устраняюсь из мира, уношу с собой «Город Будущего», обрекая СССР на крушение… Страну уничтожат не враждебные армии, не эпидемии, не удар метеорита. Ее уничтожит предательство. Человек, ничтожный и слабый, проникший в сердцевину страны, предаст ее и разрушит… Я устраняюсь, уношу с собой мой проект, отсекаю живой побег эволюции… Дерево коммунизма засохнет, не давая плодов!.. Как Эмпедокл, облачаюсь в белую мантию, в золотой венец и бросаюсь в Этну!.. Уношу с собой мои святыни!..
«Волга» с прицепом стояла у мастерской. Павлуша и Шурочка помогали грузить макет. Укладывали коробки с бабочками, слайды с картинами мира. Осторожно вносили в салон хрупкие, из пластмассы и пластики, башни, элементы «Города», напоминавшие зонтичные соцветия. Шмелев поправлял коробки, подбирал упавший на асфальт склеенный вертолетик:
— Шурочка, мы в преддверье успеха!.. Не сомневаюсь, наш проект получит премию «Всемирной выставки»!.. Павлуша, я так тебе благодарен, я без тебя как без рук… Ты утонченный художник!.. Мы трое создали шедевр, отдали ему свои жизни, сражались за него в час катастрофы!.. Силой духа преодолели беду, выстояли в испытаниях!.. Мы оказались выше суетного, мелкого мира!.. Я вам так благодарен!.. — Он их заговаривал, вводил в заблуждение, исподволь, зорко наблюдая раскосыми степными глазами.
Уселись в машину. Шурочка на заднем сиденье, заглядывая в зеркальце, крася губы помадой. Павлуша рядом с водителем, утомленный, счастливый, обожая Шмелева за великодушие и прощение. Отирал платком струящийся пот.
Шмелев вел старую скрипучую «Волгу» по Москве. «Как Эмпедокл, в белоснежном покрове…»
Таганская площадь казалась кипящим котлом, в котором всплывали дома, пешеходы, машины, и все тонуло в дыму. «Мир не принял меня, и я не принимаю этот жалкий, ничтожный мир…» Гагарин выглядел металлической ласточкой, взлетающей на струе раскаленной плазмы. «Отсекаю живой побег эволюции, обрекаю СССР на крушение…» Донской монастырь с алюминиевыми куполами был плывущим над Москвой дирижаблем. «Уношу с собой мои святые открытия, генетический код коммунизма…»
Выехали на Вавилова. Шмелев следил за домами, выискивая номер «44», где его должен был ждать Коробейников. «36», «38», «40». Серый, занавешенный снегом фасад. На балконе плещется замерзшее жестяное белье. Старуха по тротуару тащит тяжелую сумку. Бетонный фонарный столб с журавлиной изогнутой шеей. «Миша, друг милый, прости!.. Не мог поступить иначе…»
Крутой поворот руля. Столб, ледорезом рассекая машину, направил удар в глубину салона.
И огромная траурница цепкими лапками подхватила душу Шмелева, понесла в далекие страны.
— Держите пульс!.. Стимулятор!.. Не дайте ему уйти!..
Бегущие на осциллографе импульсы опали, улеглись в неподвижную линию.
— Кончено, — устало произнес хирург, отталкивая от себя микроскоп, — сердце не выдержало… — и, сволакивая резиновые, в розовой сукрови перчатки, пошел из операционной.
Шмелев был мертв. Его мозг, освещенный ослепительной люстрой, высыхал. Сестра подошла и накрыла выпуклые сгустки мозга костью с клочками волос. Так закрывают кастрюлю. Коробейников не прощался с другом. Бездыханное тело Шмелева лежало на операционном столе, а душа переселилась в него, Коробейникова, и теперь до смерти он станет носить в себе душу друга, и они будут неразлучны.
41
Коробейников испытывал непрерывное, неутихающее страдание. Думал: природа, сотворив человека с его плотью, чувствами, духовным миром, для каждой сотворенной косточки или сосудика, переживания или чувства придумала свое особое страдание. Каждой клеточке, каждому проявлению души уготовано неповторимое страдание, которое можно занести в «атлас человеческих болей», коим умело пользуются палачи в застенках, вгоняя иглы под ногти, дробя суставы пальцев или мучая голодом, звуком, слепящим светом. Так же и в нравственной жизни. Кто-то Невидимый, витающий над человеком, добивающийся признаний в грехе и неправедной жизни, посылает человеку душевные страдания, имеющие множество градаций и оттенков, из которых можно составить тысячецветную картину человеческих мук, что и делают трагические художники, поэты и музыканты.
Страдание, которое он испытывал, было связано с хаосом разрушенной, утратившей гармонию души. Его душевный мир, казавшийся целостным, гармоничным, где, подобно небесным светилам, по стройным орбитам вращались ценности, привязанности, дружбы, существовали жена и дети, мама и бабушка, любимые друзья и деловые знакомые, мир, который расширялся с каждой прочитанной книгой, написанным рассказом или очерком, состоявшимся путешествием или знакомством, — этот мир оказался разрушенным. Сквозь планетарную систему промчался чудовищный бесформенный метеорит, сдвинул орбиты, спихнул светила, и они начали сталкиваться, рушиться, превращая гармонию в хаос, божественную музыку сфер в чудовищную какофонию.
Он жил в грехе, во лжи, запутался в отношениях, демонстрировал слабость, трусость, каждым своим поступком, каждым побуждением или мыслью приближал катастрофу. В этой катастрофе должны были погибнуть близкие родственники, уважаемые и благоволящие ему знакомцы, должен был погибнуть он сам, превратившись в калеку с помраченной совестью, не способного отличать добро и зло, обреченного кувыркаться, как обломок сгоревшей планеты, в бесформенном, лишенном координат мире.
Мегамашина, которой он восхищался, которую собирался познать, одухотворить, описать. Гигантское государство, в котором ему суждено было жить. Сооружение плотин, реакторов, подводного и воздушного флота, пленявшие воображение своей грандиозной эстетикой. Таинственная, управляющая континентами политика, с которой он собирался связать свое творчество. Все это вдруг страшно проскрежетало над ним, превратилось в расколотую голову Шмелева, из которой выглядывал скользкий, пугающий, похожий на липкого моллюска мозг.
Тайный кружок «масонов», где вызревали интриги и заговоры и творилась невидимая миру политика. Елена, которая ввела его в этот опасный заповедный кружок. Ее порочный брат Саблин, неутомимый на жестокие выходки. Все это было связано с мегамашиной, затягивало его внутрь грохочущих механизмов, отточенных зубцов, сверкающих кромок, готовых перетереть, раздробить, рассечь на ломти его искусившуюся, беззащитную жизнь.
Он искусился на величественный блеск рукотворной машины, сулившей грозные повороты судьбы, небывалый опыт, из которого станут рождаться его книги. Ради этого нового опыта покинул прежний восхитительный мир русской деревни, питавшей его первые рассказы. Отвернулся от божественной природы, гармоничной и родной красоты, от песен и сказов, узорных вышивок и церковных песнопений, среди которых провел лучшие годы жизни, — встретил и полюбил жену, родил детей, написал свою первую, наивную и богооткровенную, книгу. От всего он сознательно отвернулся, поразившись устрашающему великолепию поднебесной башни, рукотворного столпа, небывалого чертога, возводимого над лесами и реками, деревенскими избами и покосившимися колокольнями. Город Будущего, куда переселялось новое, порвавшее с обременительным прошлым человечество, звал его в Космос, на дно океанов, в неоглядные пространства земли. Но из рукотворного стального неба, из космического града упало на землю изуродованное тело творца, расколотая голова архитектора, будто кто-то разгневанный столкнул гордеца, посягнувшего на Божественный Промысел. Послал ему, Коробейникову, страшный знак о его собственной доле.
И он метался среди растерзанного мира, вероотступник, носитель хаоса, испытывая невыносимое страдание.
Вдруг пришло письмо. Писал отец Лев из смоленского села Тесово, что под Вязьмой, где получил приход и звал друга в гости.
«Дорогой Миша, жду тебя с нетерпением. Сердце подсказывает, что ты пребываешь в смятении. Брось все и приезжай. Я тебя крещу. Пора, брат, остановиться в твоей неуемной суете и гордыне и выбрать то, что подсказывает душа. А душа твоя, поверь мне, ведет тебя ко Христу. Ты — не от мира сего. Оставь Вавилонскую башню, на которую карабкается заблудшее, спятившее человечество и которая неминуемо рухнет, как тот уродливый сатанинский пузырь, что был воздвигнут у нашей священной обители Ново-Иерусалимского монастыря и был разрушен на наших глазах вихрем Господним. Люблю тебя, обнимаю, жду с надеждой, недостойный иерей Лев Русанов».
Это письмо явилось так вовремя, указывало на избавление, сулило величайшее очищение и спасение от катастрофы. Коробейников, не раздумывая, собрался, сел в поезд и отправился к другу, оставляя позади несущихся грязно-зеленых вагонов все неразрешенные, ужасающие противоречия.
Приехав в Вязьму, над которой стояло белое предзимнее солнце, освещая низкие, неинтересные дома, нечистоплотную известь фасадов, омертвелые деревья и кирпичные, разрушенные в войну, церкви, — свидетельство богоборческой эры, вместо икон и золотых куполов не придумавшей ничего, кроме блеклого флага на крыше горкома партии и разболтанного автобуса, проскрежетавшего по ухабам. Но едва он вышел из города, миновал захламленную окраину, разминулся с последним невзрачным обывателем, как взору открылась бескрайняя голубая краса — волнистые дали, розовые леса, белесые заснеженные поля. И душа восхитилась, возликовала, расправила смятые крылья, раскрыла прозревшие, видящие далеко и ясно глаза.
Он шел по прямой далекой дороге, по старинному тракту, обсаженному вековыми березами. В прозрачных вершинах нежно зеленела лазурь. Застыло длинное солнечно-морозное облако, пронизанное льдистым светом. В колеях замерзли металлические сизые лужи, отливавшие, как грудь дикого голубя. Грязь на дороге была сухая, обожженная морозом, с гончарными отпечатками гусениц и колес. Его шаг становился длинней, бодрей, из недавнего, неисчезнувшего прошлого, когда он, молодой лесник, худой, долгоногий, неутомимо шагал по пустынным дорогам и просекам, ненасытно взирая на родную красу. Весь в мечтаньях, предчувствиях восхитительно огромной предстоящей жизни, в предощущении творчества и любви, которые сулил ему каждый широкий и вольный шаг, каждый удар горячего влюбленного сердца. Синяя ель с красными морозными шишками. Заснеженная обочина с отпечатками заячьих перламутровых следов. Одинокий и вольный, он шагал теперь по Старой Смоленской дороге, чувствуя, как отстают от него тревоги, удаляются неразрешимые противоречия и страхи и открывается длинный, обсаженный вековыми березами путь, вдалеке от которого, словно тихое зеркало, что-то светилось, чудно манило, влекло. Шагал, улыбался, и ему казалось, что он несет на плече легкую длиннокрылую птицу, которая озирается по сторонам круглыми, восхищенными глазами, — его наивная верящая душа.
Было странное ощущение, что вся окрестность ждала его, готовилась, торжественно встречает. Эту березовую вековую аллею насадил на обочине кто-то вещий, знавший за сотню лет о неизбежном его появлении. Волнистые пашни, розовые перелески помнили бессчетные нашествия, в которых предки укрощали врагов, чтобы он, свободный и легкий, мог ступать теперь по дороге. Множество безвестных могил светилось прозрачными березняками, заиндевелой стерней, легчайшим сиянием безымянных ратников, которые чутко следили за ним из своих погребений, безмолвно ликовали, радуясь долгожданной встрече. Он был уверен, что все вокруг было прибрано, предуготовано, извещено о его приближении. Лучезарное облако, застывшее над его головой. Замерзшая лужа с вмороженными пузырями, хрустнувшая под стопой. Огромная береза с белыми ручьями веток. Все было торжественно и священно, все обещало предстоящее чудо.
Он угадывал знаки, чудесные намеки знамения. Стайка синиц сопутствовала ему, перелетая с березы на березу, мелькая желтоватыми грудками. Рассыпала в студеном воздухе прозрачное, как колокольчики, треньканье, и он знал, что это посланцы, встречавшие его на подступах к чуду. На дороге, на промороженной глине лежала шелковая алая ленточка. Кто-то обронил, опережая его, готовя торжество, пронося ворохи шелков, венчальное убранство. Ему встретился старичок, маленький и согбенный, с белой бородой, в зипунке[4], с подорожным посохом. Сблизились, улыбнулись друг другу. Старичок помигал ему синими лучистыми глазками, подышал из бороды паром, кивнул и исчез, словно привиделся. Это, мог быть кроткий русский святой, как изображают его на иконе, — сам встречал странника на Смоленской дороге, радовался его появлению. Коробейников шагал без устали среди вечереющего мира с длинным малиновым облаком, под которым вдали, окруженное лесами и пажитями, возникло село — сизые крыши, круглые голые кроны, розовые дымы и белесая церковь с куполами и острой иглой колокольни. И он из полей поклонился ей земным поклоном, коснувшись теплыми пальцами ледяной лужи.
Вошел в село в сумерках, как усталый путник, сладко вдыхая запах дыма, невидимой скотины, колотых дров. Слушал лай собак, чьи-то голоса за темными заборами. Вглядывался в первые, маслянисто-желтые, загоравшиеся оконца. Уверенно шел к церкви, к ее мучнистой белизне, холодным, почти неразличимым куполам и заостренному шпилю. Церковь была обнесена оградой. Кладбище призрачно туманилось своими бугорками, кустами, частыми крестами и оградками. И тут же, в ограде, заслоняя кладбище, стоял осевший поповский дом с розовато-желтыми запотелыми окнами, за которыми, как радостно подсказало Коробейникову сердце, находились дорогие ему люди. И сердце не обмануло.
Постучал в дверь. В глубине затопотали шаги. На пороге, освещаемый со спины, появился отец Лев. Секунду всматривался в сумерки, из которых явился загадочный гость. И уже ахал, обнимал Коробейникова, щекотал его щеки бородой. Вел в дом из холодных черных сеней, через высокий порог, в теплые яркие комнаты.
— Матушка Андроника, смотри, кого Бог привел!
С тем же аханьем обнимала его маленькая, полная, черноглазая Андроника, по-бабьи всплеснув руками, кидаясь на шею Коробейникова. И откуда-то из уголка появился Алеша, строго и слегка испуганно рассматривая пришельца большими печально-внимательными глазами.
— А я думаю, кто стучит? Должно, бабке Куличихе опять худо стало, зовут соборовать. — Отец Лев совлекал с Коробейникова дорожную куртку, подставлял разношенные домашние туфли. Сам был облачен в полосатые штаны, заправленные в теплые шерстяные носки, в меховую безрукавку. Борода его отросла, волосы спускались до плеч, синие, счастливые глаза лучились такой любовью, такой неподдельной радостью, что Коробейников почувствовал жаркую благодарность, ответную нежность, любовь.
— Мишенька, ты не поверишь, мы только что о тебе говорили. — Андроника была в платке, в теплой душегрейке, в длинной, почти до пола, юбке, являя собой вид деревенской расторопной хозяйки, чьими трудами прибрана изба, развешаны по окнам и углам занавески, выбелена печь, расставлены разновеликие маслянисто-черные чугунки. Во всем этом новом деревенском укладе знакомо и торжественно сиял золотом, блестел стеклом большой образ Богородицы, привезенный из Нового Иерусалима, алый, ликующий, с засушенными цветами шиповника.
Оказавшись в этом натопленном доме, среди запахов теплого теста, домашнего уюта, в окружении родных людей, их сердечного радушия и гостеприимства, Коробейников подумал, что не напрасно он добирался через города и веси, не напрасно предчувствовала и взывала его душа, — здесь его ждали, любят, радуются его появлению. Накрывают стол, готовясь потчевать долгожданного гостя.
— Очень кстати, Миша, пришел. Тесто подходит, будем печь просфоры к завтрашней службе. — Отец Лев кивнул на квашню, что стояла, покрытая полотенцем, у печи, источая сладкий дух восходящего теста.
— Мишенька, какое счастье, что ты приехал! — Андроника проводила его к рукомойнику, подавала мыло, смотрела, как он гремит умывальником. — У нас все хорошо, все спокойно. Лева совсем не пьет, исцелился. За одно это готова терпеть все деревенские неурядицы. Хотя, конечно, скучно в деревне. Не с кем поговорить по душам.
— С Богом говори по душам, — наставительно, по-пасторски, заметил отец Лев, осуждая суетность красивой жены-гречанки. — Матушка Андроника воцерковляется, но с большими, скажу я тебе, трудами. Все не может уразуметь, что она не простая мирянка, а матушка.
— А я в церкви угольки развожу, кадило папе готовлю, — серьезно, как о своем достижении, поведал Алеша, привыкая к гостю, торжественно и серьезно глядя на всех печальными очами отрока Варфоломея.
Ужинали за большим столом, под уютным матерчатым абажуром. На черной сковородке по-деревенски шипела жаренная на шкварках картошка, желтела глазунья, блестели в миске соленые, с зонтиками укропа, огурцы. Был хлеб, солонка с солью, холодная початая курица. Но не было рюмок, водки, что подтверждало слова Андроники о чудесном исцелении отца Льва, которого оставила пагуба.
— Все это нам прихожане дают, — подкладывала Коробейникову Андроника. — Приход небогатый, но нам хватает. Отец Лев требы отправляет по соседним деревням. Если скромно жить, то хватает.
После ужина отец Лев накинул на плечи телогрейку.
— Ты, матушка, позови нас, когда тесто подойдет. А мы с Мишей отправимся в келейку, на колокольню. Нам ведь есть о чем побеседовать, правда, брат? — Он глубоко, сокровенно взглянул на Коробейникова потемневшими синими глазами.
В темноте размыто и пугающе, как мучнистая кость, белела церковь. Угадывались кресты на могилах. Ледяной ветер стучал пустыми вершинами. И далеко, за ветром, раздавался надрывный собачий лай. Отец Лев гремел ключом в дверях колокольни. Тусклая лампочка осветила каменные, ведущие вверх ступени. Осторожно подымаясь за отцом Львом, где-то посредине высокого колокольного столба, Коробейников вдруг очутился в маленькой чистой келье со сводчатым потолком, ярко выбеленными стенами, одна из которых, с закопченной чугунной дверцей, была печью, источала ровное душистое тепло. В келье размещался низкий, с наброшенной овчиной, топчан. Подле него притулилось поношенное уютное креслице. Висел суровый Спас с малиновой лампадой. На вешалке зеленела истертая риза с остатками золотых нитей, сальная, в пятнах, залысинах. На столике перед образом лежал раскрытый молитвенник.
— Здесь уединяюсь, молюсь, пробую писать, — любовался отец Лев своей аскетичной обителью, помещая усталого друга на топчан, сам располагаясь в креслице. Коробейников, вытягивая утомленные ноги, зарывая ладонь в жесткие кудри овчины, испытал блаженство освободившейся от бремени души, которую перенесли через пространства земли и опустили в уютной келье, рядом с любимым другом, отделив от всего остального мира каменной колокольней, непроглядной тьмой, невидимой сберегающей силой.
— Как ты хорошо здесь живешь, Левушка. Как я рад, что мы свиделись, — произнес он благодарно.
— Молюсь о тебе, о твоей чудесной жене Валентине, о чадах Анастасии и Василии. — Отец Лев поудобнее устроился в креслице, возвышаясь над Коробейниковым золотистой бородой. — Думаю о тебе постоянно, мысленно зову. И вот ты услышал мой зов и приехал. О многом надо поговорить, многое друг другу поведать.
Коробейников видел, что отец Лев истосковался по общению. Ему не хватает собеседника. В деревне он лишен своих катакомбных единоверцев, с которыми постоянно пускался в богословские споры, обсуждая промыслительные тексты, священные знамения, церковные новости, находя подтверждение скорого крушения безбожной власти и чудесного возрождения России. Коробейников был тем долгожданным собеседником, которому предстояло услышать излияния друга.
— Твой талант, Миша, отмечен Господом. Он дал тебе чуткое, любящее сердце, дар изображать в людях, в природе красоту и любовь. Ты описываешь отношения людей так, как если бы тебе были известны божественные заповеди. Еще не будучи христианином, ты уже чувствуешь мир по-христиански. Твой путь — это путь веры, путь святого крещения, путь служения Господу. Уверен, на этом пути ты преуспеешь, достигнешь огромных высот. Стоит тебе креститься, как талант твой удвоится и утроится. Ты почувствуешь прилив таких откровений, такую творческую мощь, что сможешь выразить самые таинственные и священные истины…
Отец Лев вдохновился. Глаза его сияли. Он проповедовал. Проповедь его была обращена к другу, с которым в прежней жизни случались споры и распри, но теперь, в своем пасторском превосходстве, отец Лев был вправе повелевать и учить. И эти повеления и поучения не были Коробейникову в тягость. Он согласно их принимал. Был готов им внимать и следовать.
— Тебя постигло искушение, Миша. Ты искусился на мнимое величие земного рукотворного царства, его богатства, мощь, всевластие. Но эта красота мнима, всевластие временно. Как Вавилонская башня, эта сатанинская цивилизация рухнет, и горе тем, кто окажется под ее обломками. У тебя есть время отойти, покинуть этот содомский мир, не оглядываясь, чтобы не превратиться в соляной столп. Ты изумишься тем красотам, которые откроет тебе Бог. Обретешь силы, перед которыми померкнет вся мощь безбожного государства. Обретешь прозорливость, на которую не способны твои приятели-футурологи, возмечтавшие о Городе Будущего, будто есть иное будущее помимо Рая и Ада!..
Отец Лев с искусством ловца человеков угадал в Коробейникове скорбь о покойном Шмелеве, его разочарования и сомнения, пережитый в операционной ужас. Воспользовался немощью Коробейникова и накинул на него легкие прозрачные тенета, которые не тяготили, а радовали, помещали в необременительную зависимость от друга, препоручали другу попечение о его страдающей, заблудшей душе.
— Вся Россия покрыта мраком, кромешной тьмой. Но в этой непроглядной ночи, как свечки, мерцают церкви Божий. Как маячки, сзывают к себе верных христиан. Эти церкви словно призывные пункты, на которые по зову сердца торопятся воины Христовы, чтобы занять свое место в ряду накануне невиданной брани. Ты один из таких новобранцев. Тебя Бог позвал, и ты пришел. Завтра утром, еще до рассвета, до начала службы, я тебя окрещу, и ты вторично родишься, уже не в Адаме, а во Христе. Начнется твоя вторая, Христова, жизнь. Счастлив, что в эти последние, предельные времена мы с тобой окажемся вместе. Всегда о тебе говорил и думал: «Миша не от мира сего»…
Отец Лев поднялся из креслица. Приблизился к стене, где на белизне висела нежно-изумрудная блеклая риза. Бережно провел перстами по истертой парче с остатками золотых, редких нитей.
— Облачение сие принадлежит Иоанну Кронштадтскому, который прислал ее в Тесово в дар своему дальнему родственнику, иерею. С тех пор она является священной реликвией храма. Все настоятели служат в ней. Поэтому храм оставался нетронутым во все лихолетья, и во время большевистских погромов, и при немцах, и во дни хрущевских гонений. Риза преподобного Иоанна служит защитным покровом, сберегающим церковь от напастей. Хочу, чтобы ты надел ее и ощутил благодатную силу…
Снял ризу с вешалки. Держал на весу. Коробейников послушно встал, подставил плечи. Почувствовал, как легла на них изношенная зеленая парча, которая, казалось, почти утратила свою материальность, все более превращаясь в духовный покров.
Непроглядная осенняя ночь с ледяными буранами. Стылые леса, мерзлая оцепенелая мгла. Камень колокольни с молчащими колоколами, в которых шуршит пороша. Ветхий шпиль, о который скребется железный ветер. А здесь, в белой келейке с нагретой печью, он стоит, покрытый чудесной ризой. Его плечи, опушенные руки, спина чувствуют нежное тепло, исходящее от изношенной ткани. Словно ветхая материя, остатки золотых нитей хранили невесомую святость, молитвенную благодать, превратившие страдания и беды, нашествия и погромы, пожары и избиения в прозрачное свечение кротости и любви. Тепло мягко пропитывало его, растекалось по телу, туманило глаза, сладко и светло омывало мысли, которые утратили свою вопрошающую энергию, волевую пытливость, лукавую изворотливость, — словно остановились, превратились в тихое сновидение, плавное парение, как золотистый туман, окружавший невидимое светило. Он чувствовал это светило. Оно посылало ему благодатное тепло, заслоняло невесомым покровом от мучительных и неразрешимых забот.
Ужасная смерть Шмелева, Шурочка, жующая африканских бабочек. Его ложь в семье, — беззащитные, не ведающие о лжи лица жены и детей. Елена, прижавшая к животу руки, словно защищала от него свой зреющий плод. Беспощадные веселые глаза Саблина, от которых страх и безволие. Грохочущие по дорогам ракеты. Ревущие над океаном штурмовики. Исполинский краснозвездный парад, под тяжестью которого прогибается земная твердь. Загадочные жрецы и магистры «кружка», плетущие опасную интригу. Все это присутствовало, осознавалось. Но было удалено, занавешено. Утратило угрожающую рельефность и четкость. Стало размытым, неопасным, обезвреженным, как отражение на текущей воде, в котором нет материи, а лишь неопасный струящийся образ.
Неистовый проповедник и старец, посылавший из Кронштадта жестокие пророчества в туманную, охваченную предсмертным ознобом столицу, обретя божественную святость, стал утешителем, целителем скорбей. Не гнев и укоризны, а бесконечная любовь и блаженство исходили от него, переносились в Коробейникова сквозь блеклый изумрудный покров. В старичке, что повстречался на пути в березовой аллее, он узнал святого Иоанна — вестника предстоящего преображения.
— Получая сан, я не представлял, какую себе выбрал долю, какое бремя возложил на меня Господь. — Отец Лев усадил Коробейникова на топчан, и тот, не снимая ризы, слушал друга, чьи слова проникали к нему сквозь прозрачное свечение и являлись словно во сне. — Только теперь в полной мере я постиг, почему Христос в Гефсиманском саду молил Отца, чтобы его миновала «чаша сия». Он страшился не крестных мук, не ударов копья и терний, не уксуса и соли на раны. Страшился чаши грехов человеческих, которые он должен был принять на себя, искупить своим страданием на кресте. Все ужасы, которые сотворило человечество, бойни, отцеубийства, содомские грехи, все это ему надлежало испить. Пастырь — пусть несовершенный, но образ Христа, который на исповеди принимает на себя грехи паствы. Я ужасаюсь того, что узнаю от людей на исповеди. Беру на себя их пагубы, их преступления, злодеяния, желания ближнему зла. Все это входит в меня, как тьма, и я, немощный, слабый, подверженный искушениям, должен претворить эти грехи в прощение и любовь. Только постоянная молитва, которую возношу Господу, ночные одинокие моления в церкви, самоочистительные покаяния позволяют мне выдержать. Уберегают от умопомрачения. От того, чтобы просто не пошел в магазин, не купил водку, не напился, как самый последний деревенский забулдыга. Господь охраняет меня, посылает силы. В трезвости, в молитвенном стоянии держу мой крест…
Коробейников понимал, что отец Лев готовит его к завтрашнему крещению. К мистическому преображению, в котором он отсекается от прежней греховной жизни, вступает в новую, девственно-незапятнанную. Отец Лев был хирург, готовящий отсекающий скальпель. Операция предполагала боль, дурную темную кровь, крик страдания. Зеленая риза, источающая тепло и благоухающую сладость, была обезболивающим наркозом, погружала его в сновидения. И он вверял себя целительным силам наяву.
— Но ты не представляешь, какие мне открываются миры и прозрения. — Отец Лев взволнованно протянул руки, обращая их дланями вверх, словно ждал, что на них опустится дар небес. — Недавно, в день празднования в честь Смоленской иконы Божией Матери, вышел на рассвете. Двинулся открывать церковь, а в небе над кровлей алый столб света. Отчетливо видна мантия, нимб вокруг головы, скрещенные на груди руки. Богородица явилась мне и несколько минут стояла над куполами, и во мне дивное блаженство. На первую же неделю, как только начал служить, икона Спасителя стала мироточить. Из нее будто брызнул густой гранатовый сок, и вокруг распространилось благоухание, словно расцвели живые розы. Я воспринял это как знак радости, посланный мне свыше. Значит, я угоден в этом храме, Господь меня принимает. Недавно ко мне приходит женщина, местная доярка, вся в слезах. Говорит, что дочка ее умирает, вторую неделю лежит в бреду, горит, и врачи не могут помочь. Я пригласил женщину в церковь, мы встали с ней на колени, молились, не вставая, несколько часов. Отмолили дочь. Наутро жар спал, она тихо заснула. Теперь каждое утро ходит в школу мимо церкви и крестится. А еще изгнал беса из колдуна. Старик лечил коров заговорами, ворожил, накликал на людей болезни. В конце концов бес его так скрутил, что он валялся на полу избы и выл, как лесной зверь. Я отчитал над ним очистительную молитву, окропил святой водой, и старик раскрыл орущий зев, выпустил из него струю дыма, которая вышибла дверь и унеслась в поле. Ходит теперь тихий, кроткий. Завтра во время службы тебе его покажу…
Коробейников, в сладком опьянении, верил. Не подвергал сомнению, не испытывал дерзкой сомневающейся мысли. В нем присутствовала внеразумная убежденность, достоверность сна, не требующая логического объяснения. Разум дремал, не утруждал себя пытливой работой, принимая мир на веру, и за это в награду получал отдохновение и блаженство.
— Завтра на рассвете окрещу тебя. Днем будет служба. Из соседнего села приедет священник, отец Филипп, с которым вместе станем служить. Он носится со странной мистической теорией, по-своему объясняя суть русской идеи. Возможно, это ересь или прельщение. Но человек он удивительный. Издавал подпольный православный журнал, за что и поплатился свободой на пять лет. Он не проклинает КГБ и партию, но, как блаженный, благословляет. Теперь же, брат, вернемся в дом и займемся испечением просфор для завтрашней службы…
Отец Лев помог Коробейникову повесить на стену зеленую ризу, от которой в плечах и спине оставалось нежное тепло. По каменным ступеням спустились в ледяную, шумящую бураном ночь.
Поповский дом охвачен предзимней бурей. Ветер стучит в деревьях, давит на стекла, воет в трубе. А в доме светло, натоплено, пылает печь. Спит за занавеской безмятежный Алеша. В квашне, как белое светило, взошло тесто. И они втроем — отец Лев, матушка Андроника и Коробейников — творят просфоры.
Андроника раскатала по клеенке два тестяных пласта, один потолще, другой потоньше. Тесто белое, пресное, телесного цвета, с душистым благоуханием. Андроника круглой металлической формой, похожей на подстаканник, вырезает из пухлой мякоти одинаковые кругляки. Отец Лев такой же формой, но большего размера, из другого пласта выкраивает упругие лепешечки. Андроника ловкими пальцами извлекает пшеничные цилиндрики, накрывая один другим. Любуется на белый грибок, на толстую ножку, мягкую шляпку. Ставит изделие на черный масляный противень, который наполняется белыми рядами просфор, — одинаковые, ярко-белые на черном масляном блеске. Живые, дышащие, они на противне продолжают расти. Увеличиваются, сдвигаются пухлыми боками и шляпками. Отец Лев и Андроника увлечены, похожи на детей, играющих в песочнице, делающих куличики. Лица порозовели, глаза сияют. Они любят друг друга. Это теплое тесто, пшеничная белизна, чистейшие ароматы среди воющей бури делают их пребывание в старой, забытой миром избе осмысленным и драгоценным.
— Ну просто боровички, — любуется отец Лев пшеничными скульптурками.
— Как цыплятки, — вторит ему матушка Андроника, оглядывая выводок.
— Как детки малые, — добавляет отец Лев, ставя на пустующий краюшек противня головастое, с белыми бочками, создание. Передвигает противень на край стола, отдавая его Коробейникову.
Тому поручено ставить на просфору печать. В руках у него круглая жестяная печатка с Голгофой, распятием, рельефными письменами, похожая на чеканную медаль. Осторожно, как к живому, прикасается пальцами к просфоре. Тесто теплое, мягкое, откликается на прикосновение легким, упругим давлением. На тесте от пальцев остается слабая вмятина. Тесто отпечатало в себе его образ, рисунок пальцев, впитало его тепло, нежность, робкое умиление. Пшеничная плоть прониклась его духом, одухотворена им. В своем прикосновении он передал просфоре все самое чистое, нежное и святое, что сберегалось в душе, не подверженное страсти, раздражению, унынию. Мама и бабушка, их родные драгоценные лица. Таинственный, как чудесное сновидение, образ отца. Любовь к исчезнувшим родичам, чья удаляющаяся в бесконечность вереница превращается в обожание к безымянному множеству былых поколений. Милое, кроткое лицо жены, любящее и доверчивое. Дети в ночных рубашечках, внимательные, чуткие, перед которыми он разложил разрисованную нарядную сказку. Пролетевшая мимолетная строчка Пушкина. Красногрудый снегирь на березе. Замысел новой книги, неопределенный и пленительный. Комбайнер в казахстанской степи, добывавший в дождях и морозах мучительный урожай, превращая злаки в незримую пшеницу любви, в хлеб насущный, питающий всякую верящую и любящую жизнь.
Он касался белой пшеничной плоти, нежной и целомудренной, перенося в кроткое хлебное изделие самые светлые и непорочные переживания. Сотворял себя заново, лепил из чистейших материй, отвергая все темное, жестокое, омертвленное, что накопило в себе его неправедное бытие. И просфоры, которых касался, становились вместилищем его покаяния, молитвенного ожидания чуда.
Подносил печатку к просфоре, легонько надавливал. Отнимал, оставляя на тесте рельефный оттиск распятия. И этот священный знак скреплял пшеничную плоть, запечатывал в ней его упования, освящал великое таинство, в котором человеческое сочеталось с божественным, плотское с духовным, сулило чудесное преображение и вечное воскресение.
Матушка Андроника отворила дверцу духовки. В избу пахнуло огненным духом, бесцветным пламенем. Подхватила противень и, хоронясь от жара, задвинула жестяной поднос в пламенеющий зев.
— Не подгорели бы, — отбросила упавшую прядь с лица, на котором блестел жаркий бисер. Повернулась к мужу, переживая редкую минуту счастливого просветления. — Хорошо-то как, Лева!
— Из камня сотворяется хлеб, а из хлеба — тело Господне. Великое чудо! — Отец Лев лучисто сиял глазами, его золотая борода источала свет. И Коробейников, улавливая и воспринимая этот просветленный миг, озаривший вдруг темную, во мраке ночи избу, счастливо подумал:
«Поселюсь здесь, в этой глуши, подальше от тревог, искушений, рядом с дорогими сердцу людьми. Стану жить, как когда-то мечтал, в простой деревенской избе, заниматься извечными, простыми трудами. Стану любить, верить, служить Христу, постигая великую божественную тайну, в которой кроется смысл моего бытия…»
Это решение было восхитительным, необратимым. Освобождало от непосильного груза недавней жизни. Подвигало к тому, самому главному и единственному, ради чего он был явлен в мир и от чего лукавый и искусительный дух постоянно его отвлекал.
Духовка тихо и нежно звенела. По избе растекалось благоухание горячего хлеба. Огненные силы проникали в пшеничную плоть, которая созревала, преображалась, готовая к священнодействию — претворению в тело Господне. Коробейников вдыхал запах хлеба. Благоговел перед чудесной тайной, которая привела его в ветхий поповский дом, где они, любящие друг друга русские люди, в глухой ночи, духом огня и молитвы сотворяли хлебы.
— Пора, отец Лев, вынимаю… — Андроника отворила духовку, выпустив пламенное благоухание. Сунула в обжигающий зев укутанные в полотенце руки. Ахая, выхватила противень, звонко плюхнула на табуретку. На черном подносе лежали просфоры, золотые, как слитки. От них посветлело в избе, запотели темные стекла. Увеличенные и возросшие, занимая почти всю поверхность подноса, они напоминали воинство в золотых шеломах. Вокруг каждой золотой головы разливалось чуть заметное сияние.
Отец Лев крестил просфоры, читал молитву. Коробейников не удержался, взял одну. Обжигаясь, поцеловал горячее испеченное тесто.
Ночью, лежа на низкой кушеточке за печью, чувствуя остывающее тепло, он в пробуждении испытывал мимолетное, между явью и сном, волнение. Утром его ожидало таинство, которое должно изменить всю его жизнь, открыть неведомые доселе миры, где множество живущих и живших до него православных людей поджидали его крещения. Воодушевляли, вдохновляли, звали к себе. Ему предстояло пробить разделяющую их преграду, соединиться, войти в их благодатное сонмище. Крещение, которое ему предстояло наутро, было подобно сражению, которое потребует всего его мужества и духовного света. «Доспех звенит, как перед боем. Теперь настал твой час, молись!..» — повторял он любимый стих, открывая в нем новую глубину и значение. Засыпал, унося в сон свое волнение, стихотворные звучания, сквознячки холода и волны тепла.
Его разбудил отец Лев.
— Миша, вставай, пора! — тряс он его за плечо. Испуганно просыпаясь, Коробейников увидел склоненную бороду, отпавший от черной рясы серебряный крест. За окнами было темно. Тускло горел ночник. Андроника и Алеша спали за занавеской. На керосинке позвякивал чайник. — Водички горячей в купель подолью, чтобы ты не замерз.
И это раннее пробуждение, неуютный вид остывшей избы, звякающий чайник подействовали на Коробейникова раздражающе. Он стал торопливо одеваться, не находя в себе вчерашнего воодушевления и ночных предощущений.
Шли в церковь в полной тьме. Отец Лев в своей черной рясе и душегрейке был почти невидим. Лишь туманился эмалированный чайник, мутным пятном скакал среди могил и древесных стволов. Остановились перед церковью, которая казалась окаменелой глыбой соли. Отец Лев возился с ключом. А Коробейников вдруг испытал неудобство, разочарование, ощущение неловкости происходящего, — этот нелепый чайник, какая-то купель, необходимость раздеваться и вставать босыми ногами в воду, верить в необходимость для продолжения жизни этого непонятного обряда, сопровождаемого невнятными речениями, первобытным ритуалом. И все это с ним, кто еще недавно восхищался мощью и красотой авианосца, совершенством рукотворных машин, построенных по законам механики, электроники, ядерной физики, кто с восторгом следил, как в стеклянной сфере дрожит штурмовик, а потом, увлекаемый стремительной волей, мчится в грохочущем пламени бомбить побережье. Почему он должен все это забыть? Почему всей этой яростной и прекрасной жизни, энергичным, отважным людям должен предпочесть комочки пресного теста, эмалированный чайник, темную затертую ряску, из-под которой у отца Льва торчат обязательные для всех священников сапоги?
Отец Лев пропустил его в церковь, щелкнул выключателем. И Коробейников, оказавшись в храме, получил подтверждение своим сомнениям. Церковь напоминала склеп. Холодно-сырая, серая, словно поросшая плесенью, с железной цилиндрической печкой в углу, от которой веяло стужей. Неясно, аляповато светился иконостас, не золотой, а горчично-желтый, с закопченными, неразличимыми образами, перед одним из которых тревожно и воспаленно горела малиновая лампада. У стены стояло высокое деревянное распятие — грубый коричневый крест с жилистым мускулистым телом, выкрашенным масляной краской, которая отливала мертвым холодным салом. Весь высокий пустой объем церкви казался опущенным в подземелье, засыпанным по самые купола мерзлой землей. Во всем ощущалась придавленность, погребенность, в которую он, Коробейников, добровольно погружался.
Отец Лев скрылся в алтаре и вынес оттуда купель, которая оказалась продолговатым жестяным корытом. Поставил корыто посреди храма и стал лить из чайника воду, которая гремела по железному дну, окутывалась паром.
— Раздевайся. Одежду сложи на лавке, — строго приказал отец Лев и снова ушел в алтарь.
Коробейников стал раздеваться, не понимая, почему повинуется этому человеку, который был его другом, его ровней, с кем пили водку, жарко спорили, иногда ссорились. В этих ссорах Коробейников возмущался истовым средневековым мировоззрением, которое нарочито исповедовал Левушка, выпускник университета, просвещенный знаток истории, направляя свои знания на то, чтобы перечеркнуть и отвергнуть современность, воспроизвести во всей архаической полноте миновавшие представления. И вот теперь он совлекает с себя одежды посреди ледяной, заброшенной церкви, откуда ушло время, оставив деревянное, рубленное топором распятие с повисшим тяжелым телом, для которого и построен этот подземный склеп.
Из алтаря появился отец Лев, облаченный в золоченую ризу, с высоким стоячим воротником, похожий на Деда Мороза. Коробейникову это показалось комичным, и он усмехнулся, бросая на лавку последние одежды. Стоял голый, прикрывая ладонями пах, напрягая мускулы, чтобы не застыть в ледяном тусклом воздухе.
— Помысли о том, что этот чудный обряд воспроизводит момент крещения Господа нашего Иисуса Христа, когда на воды Иордана сошел Святой Дух, и Отец наш Иисус Христос принял крещение от Иоанна Предтечи. — Отец Лев установил на краю купели, в крохотный подсвечник, тонкую церковную свечку, запалил ее. Робкий золотой огонек отразился в воде, наполнил жестяную купель нежным живым теплом, вдруг взволновал Коробейникова. Было такое чувство, что этим таинственным живым огоньком кто-то выхватил его из рук искусителя, который отвращал его от предстоящего обряда, хотел удержать его скептический разум в области сомнений, иронии и неверия. Искуситель испугался огонька, отпрянул, притаился где-то в темных сырых углах церкви, куда не долетал лучик свечи. — Когда встанешь в купель и я буду читать, слушай внимательно и откликайся на мои вопрошания. Потом станешь повторять за мной Символ Веры, с тем чтобы позже выучить его наизусть… Окунайся в купель!..
Коробейникова вдруг объял страх. Не от холода задрожали его голые плечи и затрепетал живот, а от ужаса, возникшего в каждой клеточке плоти, которая не желала расставаться со своим естеством, противилась погружению в купель, как противится странник ступить на палубу утлого корабля, что оторвет его от родимого берега, от милых и близких и направит в беспредельную ширь океана, в бури и ветры, к незнакомому континенту. Этот неведомый материк, быть может, и не существует в действительности, а только присутствует в помраченном воображении странника, и тот, ради безумной мечты, покидает навсегда отчий берег, чтобы не пристать ни к какому другому, сгинуть в пучине. И еще есть возможность одуматься. Убрать занесенную над купелью голую ногу. Подойти к лавке и вновь облачиться в одежды. Распроститься с хозяином и быстро, в темноте, по холодному тракту, вернуться на станцию. С утренним поездом поспешить обратно в Москву, где все знакомо, уютный дом, Валентина, дети, на столе конспект задуманного романа, газета, командировки, интересные люди, каждый из которых при общении открывает новую грань фантастической, яркой реальности.
Деревянный Христос, обвисший на кресте, взирал насупленным взором. Едва различимые лики в иконостасе наблюдали его сомнения. Отец Лев, с расчесанными на прямой пробор волосами, с золотистой бородой, в золоченой тяжелой ризе ясно смотрел синими, любящими глазами. И Коробейников, одолевая ужас, держа руки крестом, обнимая себя за дрожащие плечи, ступил в теплую, растворившую огонек купель. Встал в ней, голый, беззащитный, доверяясь чьей-то требовательной, властной воле.
Отец Лев раскрыл потрепанную книжицу. Стал читать певуче, гулко, вознося и опуская взволнованный голос, который отзывался в сумерках церкви, возвращался обратно, отраженный от сумрачных ликов, рубленого распятья, высоких сводов, зарешеченных узких окон, вовлекая в молитвенное чтение иконописных святых, распятого Христа, стоящие за окнами деревья, кресты на безвестных могилах. От этого летающего песнопения, непонятных певучих слов на святом языке, чей непостижимый смысл касался его, Коробейникова, он словно впал в забытье. Его усыпили, как усыпляют космонавта, перелетающего громадные пространства Вселенной Это было не смертью, а только забвением, в котором душа была изъята из тела, и ей показывали лазурные дали, чудесные моря и озера, сияющие лики, райские деревья с плодами, белоснежных ангелов и ласковых длиннобородых старцев, стоящих на коленях святых, розовые храмы в заре, золотые над рощами купола, парящих птиц, сладостно гудящие колокола и что-то еще, прежде не виданное, не имеющее земного подобия, необъятно-прекрасное и сладостное.
Отец Лев старался его разбудить. О чем-то строго и требовательно вопрошал. Коробейников, как эхо, откликался во сне, не понимая, о чем его спрашивают и что он отвечает. Это было сновидение — жестяная купель с горящим светляком, его голые, сквозь воду, стопы, прохладная вода, которую отец Лев бережно лил ему на голову, слова Символа Веры, которые он повторял вслед за пастырем, как послушное кроткое эхо, и, наконец, наброшенное ему на плечи чистое полотенце, которым отец Лев стал растирать ему плечи, радостно возглашая:
— Ну вот, раб божий Михаил, поздравляю тебя со святым крещением!..
И он проснулся. Это было как пробуждение в детстве, когда с первой секундой бодрствования в душу вливается ликующая сила, восхитительное беспричинное счастье. Проснувшееся, необремененное тело доверчиво и счастливо устремляется в новый день. Стоя в купели, Коробейников вдруг испытал такую легкость, просветленность, радостную обновленность, словно, перелетев громадные пространства, сжег в этом перелете ненужное, сорное время, усталую, обветшалую плоть. Ступил на новую землю помолодевшим, освобожденным, счастливо и ненасытно познавая новую планету. Все его дремавшие чувства вдруг пробудились, как у ясновидящего. Обостренный слух стал различать удар водяной капли, пролетевшей мимо купели на каменный пол, потрескивание отдаленной лампады, стук ветки за темным окном. Обоняние утончилось настолько, что он уловил запах ладана, прилетевший из алтаря, аромат высохшего, стоящего на подоконнике букетика, пыльно-холодный запах облачения и слабое веяние духов, которыми отец Лев побрызгал свою бороду. Его открывшиеся глаза различили смоляную янтарную капельку на груди Христа, стеклянную, оброненную кем-то на пол бусинку, а в черном окне — тонкую, нежную полоску зари, которая обнаружила себя только теперь, когда очищенным зрением он мог различить в ночи ее розовую ленту. И он стоял в купели, любящий, рожденный заново, радостно озираясь в поисках тех, кому мог выразить свою безграничную любовь.
42
Сидели, чаевничали в теплой уютной избе, когда сквозь запотевшие окна Коробейников увидел, как к дому подкатила телега, послышалось фырканье усталой лошади. Кто-то сошел и направился к крыльцу. Матушка Андроника по-деревенски стремглав метнулась к окну, стирая со стекол туман.
— Отец Филипп пожаловал!.. Иди же, встречай, — заторопила мужа, радуясь еще одному свежему гостю. Через минуту отец Лев ввел в дом человека, чья внешность поразила Коробейникова. Гость был одет в длинный серый подрясник, поверх которого была напялена куцая шубейка. Голову покрывала бархатная тертая скуфейка, из-под которой виднелись жидкие длинные волосы, собранные сзади в пучочек. Человек был тщедушен, с сутулыми плечами, почти горбат. Лицо было очень бледным, хотя и с холодного ветра, землистым, с провалившимися щеками, большими надбровными дугами, из-под которых смотрели недоверчивые серые глаза. Рот был крепко стиснут, словно воля его была напряжена, направлена на какую-то большую непокорившуюся цель. Борода почти отсутствовала, была представлена редкими волосинками, сквозь которые просвечивала кожа, будто организм весь остаток сил тратил не на взращивание волос, а на одоление непосильных нагрузок. Он выглядел больным. Казалось, движения причиняют ему страдание, словно суставы были деформированы ревматизмом, а общение с людьми является вынужденной, обременительной необходимостью.
Вошел, перекрестился на образ. Матушка, мелко семеня, напоминая торопливую птицу, подбежала под благословение. Гость отдал ей под поцелуй большую белую руку, мелко перекрестил ее склоненную голову.
— Знакомьтесь. Отец Филипп, мой сосед, сподвижник и желанный собеседник, с которым мы ведем непрерывный богословский спор. — Отец Лев помог гостю совлечь шубейку, принял и сложил скуфейку, повел к столу. — А это Михаил Коробейников, получивший известность московский писатель, который сегодня принял святое крещение.
Коробейников не решился повторить матушку Андронику, подойти под благословение, и лишь пожал большую, белую руку, неприятно поразившую своей холодностью и твердой негибкостью. Отец Филипп занял место за столом, присоединившись к чаепитию, жадно, с хлюпаньем пил чай, согреваясь после путешествия в открытой телеге.
— Хорошо, что пожаловали, отец Филипп, сподручнее будет вдвоем служить. Уже отчаялся было дождаться. — Отец Лев смотрел на священника цепко и весело, как на добычу, залетевшую в искусно расставленную сеть.
— Хотел, как обычно, на тракторе добираться, а тракторист запил. Хорошо, что сельповская лошадь подвернулась, — устало ответил гость.
— Сегодня у нас в Тесово отслужим, а после службы к вам пойдем, — бодро, радуясь предстоящему общению, сказал отец Лев. — Завтра вам помогу.
— Сегодня утром отпевал. Механик совхозный удавился. Тихий был. Пил, но негромко. И вот, на тебе, удавился.
— Народ живет с водкой, без Бога. Комиссары до удавки народ довели.
— Комиссары не пили, а веровали. Теперь комиссаров почти не осталось. Некому говорить с народом.
— И слава Богу, отец Филипп, что не осталось. Ну их, комиссаров-то!
— Комиссары — те же священники. Попы красной веры.
— Вот она, ваша ересь, отец Филипп! — с готовностью, словно ожидал этого заявления, воскликнул отец Лев. — Вы ее, часом, в храме не проповедуете? А то, на всякий случай, испросили бы благословения у владыки.
— Мне благословение было свыше. В каземате. Когда во Владимирской тюрьме, в одиночной камере на молитве стоял.
— Конечно, вы приняли крест, выстрадали свою веру. Но некоторые ваши утверждения, смею заметить, весьма отдают обновленческой ересью.
— Христос пришел, чтобы сначала рассечь, а потом соединить. Россия — страна великого рассечения и великого грядущего соединения. Россия соединит мир, все языки, все религии. Таков замысел Бога относительно России.
— Да это какой-то индуизм, отец Филипп! Вы, часом, не последователь Рериха? — Отец Лев едко возражал, впивался мыслью в высказывания собеседника. Было видно, что он предвкушал эту встречу. Его интеллекту, привыкшему к диспутам, была необходима полемика.
Явился из школы Алеша. Андроника захлопотала, готовилась его кормить. Богословский диспут в избе был невозможен. Они отправились в знакомую келейку на колокольне, и опять Коробейников уловил в движениях, взгляде отца Льва радость удачливого охотника, заманившего добычу в сеть.
Они сидели в тесной келье, в толще колокольни, среди белых стен, на одной из которых нежно светилась изумрудно-зеленая риза. Отец Лев уступил гостю заветное креслице, устроился рядом с Коробейниковым на топчане. Предвкушая беседу на любимые, волновавшие темы, спросил:
— Позвольте узнать, отец Филипп, что послужило толчком для создания вашего, весьма необычного и, я бы сказал, еретического учения, за которое, будь времена святой инквизиции, гореть вам на костре среди колдунов и ведьм?
Отец Филипп потупил глаза, стиснул на коленях белые бескровные руки. Щеки его еще больше ввалились, губы, цвета земли, что-то мучительно зашептали. И Коробейников вдруг подумал, что сидящий перед ним человек скоро умрет. И это ожидание близкой смерти еще живого, обреченного человека мучительно обострило внимание Коробейникова, заставило жадно следить за движением шепчущих губ.
— Видите ли, господа, с учением Николая Федорова, с его пасхальной мистерией, с его «Философией общего дела» я познакомился в отрочестве самым странным, метафизическим образом. — Отец Филипп поднял глаза, и Коробейников поразился их глубокой одухотворенности, чудесному сиянию, будто тающие силы чахлого, обреченного тела превратились в чистый дух и этот дух светился в больших, восхищенных глазах. — Я учился в московской школе номер двести четыре, которая была построена в тридцатые годы на территории огромного Миусского кладбища, вокруг монастыря. Во время весенних субботников каждую весну мы сажали деревья на школьном дворе. Долбили грунт, рыли ямы и то и дело натыкались на старые склепы. Извлекали истлевшие чиновничьи мундиры, пуговицы с двуглавыми орлами, челюсти с золотыми зубами. Сажали молодой сталинский сад на костях исчезнувших поколений. Когда обустраивали футбольное поле и ставили ворота, выкопали череп. Все мы были молодые футболисты, болели за «Спартак», за «Динамо» и, разумеется, стали пинать этот череп ногами, играть в футбол. До сих пор помню, как мой ботинок ударил в пустые глазницы. Много позже, когда я исследовал топографию этого кладбища, уже зная, что там похоронен Федоров, я обнаружил, что его могила находилась примерно в том самом месте, где мы ставили ворота. Конечно, у меня нет полной уверенности, но некое мистическое чувство подсказывает мне, что я играл в футбол черепом Федорова. И именно из этого попранного черепа, из гулкой костяной чаши впервые донеслись до меня слова федоровской проповеди «воскрешения из мертвых», искупления грехов отцов подвигами детей…
Отец Филипп снова потупился, но свет, который изливался из его глаз, не исчез, а витал в пространстве. Коробейников в своей прозорливости видел, что каждый находящийся в келье предмет был окружен тончайшим сиянием.
— «Бедный Йорик!..» — пытался иронизировать отец Лев, но было видно, что рассказ произвел на него впечатление. — Стало быть, ваша теория — плод потревоженного праха и незахороненных костей. Нельзя тревожить могилы, ибо дух смерти поражает осквернителя, утягивает его в провалы земли. Надо отслужить панихиду по Федорову, чтобы его душа успокоилась и не смущала вас богоборческим искусом…
— Прах отцов тревожит воображение детей, — не замечая иронии, произнес отец Филипп. — Мы дети убитых отцов, и наша любовь к ним, наша тоска, наше взыскание не вернувшихся с войны отцов и детская мечта об их воскресении становится для нас «религией отцов». Мой отец погиб в сорок третьем году под Сталинградом. Ушел добровольцем на фронт. Молодой историк, без пяти минут профессор, поступил в пулеметную школу, потом попал в штрафбат за какую-то провинность. Много раз безуспешно я пытался найти его могилу. Какой-то крохотный хутор, где немцам было оказано большое сопротивление. Отец погиб в Рождество. И поныне, когда в этот день я просыпаюсь, умываюсь, молюсь, работаю или читаю, я думаю, что делал в эти минуты отец. Как просыпался в землянке, заматывал обмотки, брал трехлинейку, поднимался в атаку под утренней зарей, бежал в утреннюю зимнюю степь, а к ночи лежал, вмороженный в лед под тусклой звездой. В Рождественскую службу я молюсь об отце, молюсь о его воскрешении. И он воскресает во мне. Я становлюсь отцом, а он мной. Я отдаю ему мою жизнь, и он получает возможность жить во мне. Я все еще не теряю надежды найти его могилу и отслужить на ней панихиду. Это упование является «религией отцов»…
Коробейников благоговейно внимал. Говоривший человек проникал ему в самое сердце, угадывал его потаенные чувства, был одной с ним судьбы, одной веры — «веры отцов». Его, Коробейникова, отец тоже погиб под Сталинградом и, быть может, лежал теперь в одной могиле с тем безвестным пехотинцем, о котором прозвучал рассказ. Два сына сидели вместе в маленькой келье и молились об их воскрешении. Отец Лев не язвил, не перечил. Задумчиво теребил нитяные четки, составленные из узелков, как из бусинок. Он тоже был сыном убитого на фронте отца, исповедовал религию его воскрешения.
— В моей жизни был мистический опыт, — продолжал отец Филипп тихо и истово, и в его словах была интонация умоляющей исповеди, но также убежденность неколебимой проповеди. — Я видел ангела. Не столп света в небе, не воздушный вихрь, не воображаемое видение, но ангела. Я находился в расцвете духовных и физических сил. Уже прочитал Библию, познакомился с античной и индусской философией, знал наизусть много пушкинских стихов. Мог всю ночь напролет с друзьями петь старинные русские песни, каких не сыщешь в фольклорных сборниках. Шел один, много километров, вдоль Оки. Лето, зной, все в цветах, в шмелях, в бабочках. Шел и думал об отце, звал его в этот летний солнечный день, в красоту, из которой его увели. У меленькой речки Лопасни, когда я ступил в мелководье, передо мной встал ангел. Огромный, гигантский, до солнца, похожий на того, что встал перед апостолом Иоанном на Патмосе. Но не грозный, а любящий. Я испытал несравненное ощущение счастья и радости, словно этот ангел и был мой отец. Это длилось доли секунды, но в тот момент взыграла вся речная рыба, взлетели все птицы, дивно засверкали все краски. Крылатое существо взяло меня на небеса, наполнило своей любовью и вернуло опять на землю. Этот опыт я буду вспоминать всю оставшуюся жизнь. Он постоянно угасает, меркнет, меняет очертания, становится мифом моей собственной жизни. Но я реально пережил это чудо — встречу с отцом.
— Но вы же знаете, отче, что это может быть наваждение, — возразил отец Лев. — Лукавый прельщает нас, принимая образ любимого человека, восхитительного существа, даже Отца Небесного. Вы уверены, что это было не прельщение?
— Много раз я молился перед образом архангела Михаила, умоляя развеять мои сомнения. Во время молитвы я испытывал благодать. К тому же это видение побудило и побуждает меня любить. А это высший критерий подлинности. Именно эти рассказанные мной эпизоды легли в основу учения, которое мне открылось…
Коробейников завороженно внимал. Это был первый опыт, приобретаемый им после утреннего крещения. Все прежние знания были отодвинуты. Он начинал понимать мир с чистого листа, наполнялся новым знанием, усваивал его, как прилежный ученик. Явившийся перед ним священник, измученный хворью, но просветленный духовным зрением, был ему первый учитель.
— Отец Лев, вы историк, читали хроники, летописи. Изучали пути русской исторической мысли, религиозные течения, культурные школы. Вы должны со мной согласиться, что основная русская мысль, коренная русская идея сводится к тому, что Россия — «не от мира сего». Абсолютно иная страна, иная история. Русский народ, русское государство абсолютно отличны от всего остального мира, выросли из неземной почвы, предназначены не для тленной земной историй. На этом — вся феноменология русского сознания. В разное время оно наполняло разным историческим содержанием, формулировалось старцем Филофеем, славянофилами, красными комиссарами, но острейшее отторжение от других цивилизаций сопутствовало русскому самоощущению. Инобытие является основой русского сознания — запредельность, невозможность, надчеловечность. Русское мессианство исповедовалось смердом и князем, интеллектуалом и духовидцем, Жуковым и Гагариным. Вы сами мне говорили, приводили в свидетельство хроники Павла Алепского, что в семнадцатом веке, при патриархе Никоне, Россия собиралась стать огромным государством-монастырем, мыслила себя местом Второго Пришествия. Не вы ли убеждали меня, что русские избраны Господом, чтобы объявиться среди них на земле? Новый Иерусалим под Москвой, как вы гениально отметили, есть грандиозный инженерно-метафизический проект, связанный с перенесением топонимики святых мест в Россию, для того чтобы именно сюда опустился «космический корабль» Второго Пришествия. Там, в Новом Иерусалиме, есть Иордан, Фавор, Гефсиманский сад, Голгофа, и это не игра ума, не японская имитационная архитектура, где изготовлены маленькая Испания, крохотная Франция, миниатюрный Китай. Это была гигантская задача, под которую подвёрстывалась вся русская история. Русское инобытие предполагало, что Россия — страна райская, неземная, бессмертная. Не захвачена мировой порчей. Будет встраиваться в мир в чертежах Царствия Небесного. Так в чем же причина нашего с вами разногласия?
— В вашем отношении к советскому сатанинскому строю. К коммунистической утопии, которая растоптала Россию. К большевикам, которые славны кровавыми гонениями на Церковь, крестьян, русский народ и от которых вы пострадали, были ввергнуты в узилище, потеряли здоровье, едва ли не саму жизнь. Не понимаю ваших воспеваний безбожного советского строя! — Отец Лев возмущенно мотнул бородой, осенил себя крестным знамением, словно само упоминание о кощунственном восхвалении было грехом, от которого следовало защититься.
— Досточтимый отец Лев, советский план является абсолютно никоновским планом. Это выделение советской истории из всей остальной истории. Перенесение ее в другие координаты, где задумано создать альтернативного человека, альтернативный социум, проложить путь к абсолютно альтернативной цели. Советский Союз — это выделение части Земли из остальной Земли. Существует астрономическая теория, по которой Луна вырвалась из Земли. В Южном полушарии есть впадина, залитая океаном, откуда космическим вихрем была вырвана Луна, выброшена на орбиту, чтобы существовать как небесное тело, альтернативное Земле. Советский Союз — это та Луна, которая была вырвана красным вихрем из мировой истории. Смысл советского периода — предложить иной вариант человеческого развития, абсолютно асимметричный, не связанный с традиционной историей. Путь к Абсолюту, к идеалу, к коммунизму. Абсолютно идеальное, трансцендентное бытие, для достижения которого и создана советская империя, лишь внешне атеистическая, безбожная, но на деле одна из самых религиозных, мистических.
— Луна, которую вырвали, по вашим словам, из Земли, растеряла всю свою атмосферу, воду, жизнь. Превратилась в мертвое синюшное тело, на которое воют собаки. На ней поселились ведьмы, черти, нетопыри, куда они прилетают отдохнуть на курорт после своей адовой работы. Человечеству еще предстоит вернуть эту голую, облысевшую Луну на Землю, засадить ее лесами, наполнить водой ее мертвые моря, вернуть на нее жизнь…
Коробейников понимал, что этот спор длится не первый день. Два священника сходятся в пустынных полях и перелесках, чтобы еще и еще раз столкнуть свои мировоззрения, обнаружить их абсолютное несходство, не только одно с другим, но и с тем, господствующим, о котором неумолчно пишут газеты, вещают партийные съезды, которое стремится проникнуть в каждый дом, в каждую душу, претендуя на единственную достоверность. Его охраняют строгие стражи агитпропа. За его чистотой следит всевидящее око госбезопасности. За отступление от него лишают благ, гонят, подвергают мучениям. Но по всей стране, в глухих церковных приходах, в тесных каморках и кухоньках, на тайных сходках люди поверяют друг другу свои открытия, произносят слова учений, которые прорастают сквозь мертвый асфальт агитпропа.
— Отче Лев, скажите, в чем проявляет себя божественный Абсолют? В чем божество отлично от твари? Среди частного, дробного, случайного, из чего состоит людская жизнь, стремящаяся к своему завершению, к праху, к мерзостному могильному тлению, есть восхитительная правда: бессмертие. Божественный идеал, к которому стремится живое и смертное человечество, созданное по образу и подобию Божию. Всякое живое и смертное тяготится своей смертностью, ужасается, усматривает в ней несправедливость и абсурдность Вселенной, преодолевая ее упованием на жизнь вечную. Проблема смерти есть главная проблема человеческой истории и культуры. Абсолютное бытие — в преодолении смерти, здесь, на земле. Преодоление индивидуальной смерти, коллективной смерти, смерти Вселенной, преодоление энтропии, когда целые участки Вселенной затягиваются в «черные дыры». Коммунизм не огромное лоскутное одеяло, под которым умещается все человечество. Не машина, которая плодит бесконечное количество товаров. Не доска Почета с фотографиями ударников. Это преодоление смерти. Эта задача ни разу не была сформулирована коммунистическими политиками, — ни Марксом, ни Сталиным, ни Брежневым. Но весь пафос коммунистической футурологии, советской технократической мысли направлен на создание «эликсира бессмертия». Все, что вменяется советскому плану ортодоксальной христианской мыслью как греховное, безбожное, как строительство новой Вавилонской башни, как гордыня, является на деле глубинным проникновением в замысел Божий…
Этот разговор казался Коробейникову спором средневековых схоластов, упражняющихся в трактовке Символа Веры. Но в этом богословском соперничестве вдруг начинали звучать его, Коробейникова, догадки, пророчества Шмелева, футурологические вероучения создателей межпланетных ракет и «Городов Солнца». Отстраненное богословие становилось содержанием современной истории, в которой участвовали он сам, его близкие, его живые и мертвые родичи. Недавняя жизнь, от которой он отшатнулся, с которой хотел порвать, которая отдалилась после утреннего крещения, — вдруг вновь вернулась, но исполненная нового смысла, соединилась с Божественным Промыслом.
— Ей-богу, отец Филипп, если КГБ вас гнало за проповедь православия, то я бы вас гнал за отсутствие оного. Ваши заблуждения страшнее толстовства, страшнее «софийской ереси», страшнее обновленчества…
— Отче, мои заблуждения я проверял тюремной камерой. За участие в рукописном православном журнале я, как вы знаете, был посажен в тюрьму. Сидел в знаменитой Владимирке, в одиночке, в той самой камере, где прежде меня томился Даниил Андреев, сын знаменитого писателя. Позже мне попались в руки отрывки его рукописи «Роза мира», поразительный мистический трактат, в котором он, сидя под замком, увидел все мироздание. Запор в этой камере, надо сказать, был замечательный. Казалось, он усовершенствовался с каждой новой эпохой — от Екатерины, которая построила тюрьму, до Берия и Семичастного, который меня посадил. Грубые, кованые железные скобы. Амбарные засовы. Громадные скрежещущие колеса и рычаги. Стальные запоры. Электрические автоматы, исключавшие всякую возможность побега. Сидя под этими замками, которые тоже, если угодно, отражают движение русской исторической мысли, я испытывал удивительные откровения. Не роптал на мою охрану, следователей, надзирателей. Сквозь стены тюрьмы сопереживал великому движению, в котором пребывал народ. Строил громадные плотины. Осваивал пустынную целину. Летал в Космос. Возводил города во льдах и пустынях. Совершал удивительные открытия в науке и технике. Страна находилась на подъеме, взмывала, как грандиозный самолет, отрывалась от бренной земли, от ветхой истории. Моя личная драма искупалась этим грандиозным поворотом, который был угоден Богу, был русским поворотом к бессмертию…
Коробейников поражался произошедшей в священнике перемене. Лицо, казавшееся мертвенным, посвежело, покрылось молодым румянцем. Губы, минуту назад суровые, трепетали в блаженной улыбке. Глаза, строгие, поучающие, наивно просияли. Волосы казались гуще, начинали кудрявиться. От больших белых рук исходило тепло. Казалось, отец Филипп подключился к источнику молодости, питался животворными энергиями.
— Откровение Иоанна говорит о преодолении смерти, о воскрешении из мертвых, о таком моменте земной истории, когда мертвые встанут из гробов. Это будет сделано Господом во время Второго Пришествия, когда сотворятся Новая земля и Новое небо. Однако вся история человечества связана с тем, что Господь делегирует людям все большее количество своих полномочий. На заре человечества все зависело от Господа. Он карал неправедных потопами и землетрясениями, напускал саранчу и засуху и, наоборот, одарял праведных «тучными» годами, обильным плодоношением стад и полей. Но чем дальше, тем больше Господь доверял человеку. Вершил дела людские людскими руками. На провинившийся народ напускал другой, карающий народ. В спину неправедного властителя вонзался клинок мстителя. Изобретая колесо, огонь, машину, в том числе и электронно-вычислительную, человечество получало их из рук Господа, увеличивая возможности управлять своей судьбой и историей…
В дверь кельи постучали. Просунулась худая небритая голова, и хрипловатый простуженный голос произнес:
— Батюшка, печь в церкви протоплена. Благословите к службе звонить…
— Сейчас, сейчас, Анатолий… — Отец Лев останавливал вторжение, прося новоявленного визитера подождать. — Видите, отец Филипп, Господь не выдержал ваших философствований и послал звонаря Анатолия прервать ваши опасные и еретические мудрствования. — Но, говоря это, отец Лев благоволил странному мыслителю, чьи небесные идеи растревожили омертвелое пространство окрестных лесов и притихших деревень, разволновали богословское сознание отца Льва. — Ты, Миша, ступай на колокольню с Анатолием, позвони. У тебя сегодня такой день, что твои звоны далеко слышны будут. А этот сомнительный разговор мы продолжим позднее.
С костлявым невеселым мужиком Коробейников поднялся на колокольню, где в сквозных холодных проемах на деревянной балке висел единственный колокол. И за этим колоколом с высоты открывалась неоглядная ширь, холодная, светлая, перламутровая, — розовые, парящие перелески, темно-синие далекие ельники, лоскутья изумрудно-зеленой озими, каленая, гончарная пашня. Вились дороги, просвечивали сквозь студеный воздух далекие деревни, и над всем реял холодный свет размытого солнца, окруженного зимней радугой. Это зрелище прекрасной, перламутровой земли было продолжением утренней радости, и хотелось кинуться в чудесные дали, не упасть, а на сизых голубиных крыльях метнуться в сияющий воздух, где тебя подхватит и унесет ликующий дух.
— Сперва три раза медленно вдарю, с задержкой, — произнес звонарь, совлекая с узкой костяной головы зимнюю шапку. — Потом ровно, на вдох и на выдох…
Перекрестился. Взялся за веревку, привязанную к кованому языку. Вдохнул глубоко и двинул вперед кованый шкворень. Удар создал в глубине колокола напряженную гудящую силу, от которой у Коробейникова задрожало лицо и затуманились глаза. Звук выплыл из-под бронзового колпака и медленно, зримо поплыл, удаляясь от колокольни. Расширялся, захватывал все больше пространства над деревенской околицей, заснеженным выгоном, замерзшим прудом. Плыл в окрестные поля, волнистые перелески, синие дали. Медленно опускался на леса и дороги, и его густой, торжественный звук слушали путники на тракте, лоси в лесах, хлебные зерна, уснувшие в мерзлой земле, кости в безвестных могилах. С первым ударом из ворот и калиток стали появляться люди. Сверху были видны женские платочки, шубейки, обращенные вверх старушечьи лица. Звонарь истово, медленно бил, рассылая величавые гулы, тревожа уснувшую окрестность бессловесной вестью о пребывающем в мире Божестве, которое едино в человеке, звере, хлебном зерне, в придорожном камне. Окрестность, объединенная торжественным звуком, восходила от земли к холодному свету небес.
Звонарь передал веревку Коробейникову, и тот качал тяжелый колокольный язык, ударяя в гулкую бронзовую кромку. Чувствовал глазами, горлом, дышащей грудью плотные шары звука, вылетавшие из-под рук. Рассылал в мир послания, обращаясь к неведомым людям, вызывал из далеких сел, городов, из натопленных домов, отвлекал от трудов и забот. «Что скажу этим людям, когда они откликнутся на мои зовы и придут? Зачем их зову и тревожу? Зову для того, чтобы сказать: есть Бог, и этот Бог открылся мне сегодня утром, и его присутствие во мне я чувствую как бесконечную любовь и этой любовью люблю их всех, дорожу их появлением. Готов им служить, помогать, жертвовать ради них, ибо они, как и я, исполнены той же благодатной бескорыстной любви. Об этом колокольные звоны, которые я посылаю в мир…»
Церковь медленно наполнялась. Старушки, тихо вздыхающие, в чистых платках, с печальными лицами. Несколько немолодых, нездорового вида мужчин. Но храм, утром казавшийся мрачным и заледенелым, ожил, потеплел. Жарко топилась высокая железная печь, роняя на жестяной лист угольки. Горело много лампад, розовых, золотых и зеленых. Трепетали, словно мотыльки, тонкие нежные свечки. Распятие уже не казалось грубым, аляповатым, наполнилось медовым теплом, умягчилось, стало не устрашающе-грозным, но трогательным и наивным. Пел хор блеклыми женскими голосами, напоминающими увядший букет полевых цветов. Среди певчих, в темном платочке, с большими черными глазами, пела матушка Андроника. Алеша, облаченный в желтый мерцающий балахончик, как легкая птица, расхаживал по церкви, помогая отцу. Оба священника появлялись из алтаря, опять исчезали. Читали по очереди тяжелую, с сырыми страницами книгу. Кланялись друг другу, воздевая над головой медные кресты. Отец Лев в нарядном золотом облачении, отец Филипп — в знакомой, зеленой ризе с поблекшими золотыми волокнами.
Опьяненный колокольными звонами, очарованный песнопениями на чудесном, малопонятном, святом языке, на котором, должно быть, говорят шестикрылые существа, присевшие на выступы резного иконостаса, Коробейников смотрел на священников. Казалось, они ходят по храму и развешивают невидимую пряжу. На высокий серебряный подсвечник. На распятие. На алтарные врата. Окружают этой невидимой пряжей старушек в темных шубейках, высокого, лысого, с худой шеей, старика, хрупкого Алешу, похожего на отрока Варфоломея, матушку Андронику, умоляюще глядящую с амвона на милых людей. Оба пастыря протягивали один к другому руки, словно передавали ворохи этой незримой пряжи. Коробейников чувствовал себя сладко уловленным в невидимые тенета. Наклонял голову, когда отец Лев приближался, качал в его сторону кадилом, развешивая в воздухе колечки душистого, нераспадавшегося дыма. «Как сказал отец Филипп, Россия — страна великого рассечения и великого соединения. Вначале я рассек мою жизнь, отринул прошлое, которое казалось мне порочным и мерзким. Но теперь мне открылась любовь, которая соединит меня с прошлым. Я вернусь в него без страха, гордыни, ненависти, но с любовью, раскаянием. Не знаю как, но обойму моей любовью жену, и детей, и Елену с ее нерожденным младенцем, и Саблина, который больше не станет меня ненавидеть, и Марка, который простит мой грех. У меня еще нет для этого слов и поступков, невесть любовь, которая и есть та волшебная пряжа, куда меня уловили и мне так хорошо и светло…»
Отец Лев поманил его к себе и сказал:
— Пойдешь со мной в алтарь. Встань и смотри, как буду готовить Святые Дары. Увидишь, как в момент претворения вина и хлеба в кровь и тело Господне слетятся ангелы.
Коробейников, благодарный, наивно верящий, вошел в алтарь и встал в стороне от высокого каменного престола, накрытого малиновым бархатом, на котором горел семисвечник, блестела золотая чаша, стояла дароносица с просфорой, одной из тех, что накануне он лепил, припечатывал крестом, помещал в жар печи. В алтаре было холодно, витали прохладные сквозняки, колебали пламя семисвечника. Невидимый хор по другую сторону иконостаса слабо и непрерывно пел нежными голосами, на которые, казалось, дул ветер, и они, подобно семисвечнику, колебались, угасали, возносились. Отец Филипп монотонно, рокочуще, как глубокий подземный гул, читал священную книгу. Звук его голоса звал в сумрачную пещеру, увлекал за собой смиренную паству, чтобы та спустилась в катакомбу, в подземную глухую тьму, сопровождая умершего на кресте Спасителя. Дабы потом, в чудесном воскрешении, вознестись из-под мертвенных сводов в красоту и лазурь.
Коробейников, оцепенев, боясь неосторожным движением потревожить таинственное кружение воздуха в алтаре, смотрел, как отец Лев священнодействует. Переставляет чашу с вином. Режет на золоченом подносике просфору. Целует край чаши. Отступает, низко кланяясь, сгибая на спине твердую золоченую ризу. Воздевает крест. Молча, закрыв глаза, шевелит губами. Вновь приступает к чаше, где рубиновым светом горит вино. Прикасается длинными перстами к пшеничной просфоре, обретающей теплый телесный цвет.
«Господи, — молился Коробейников не словами, а наивным, верящим сердцем, — Ты послал меня в этот мир, дал мне разум, сердце, свободу воли, наградил талантом, чтобы я прошел по кругам моей жизни, добывая в ней драгоценный опыт, — малые зерна, с которыми вернусь к Тебе. Ты встретишь меня и спросишь, что я добыл в моих странствиях. Я открою ладонь и покажу тебе маковые росинки добытого знания, и Ты либо примешь их от меня, ссыплешь в небесную житницу, либо сдуешь с ладони, как негодные и пустые. Господи, дай мне в жизни живое зерно смысла. Не отступай от меня. Люблю Тебя, верую…»
Его душа молитвенно напрягалась. Стремилась в прозрачное облако света, колеблемое над чашей с вином. Хор восхитительно пел. Отец Лев плавно и таинственно совершал кругообразные движения, складывая тонкие персты, накрывая крестом чашу. Воздух над чашей начинал трепетать, наполнялся мельчайшими корпускулами света, уплотнялся, словно в нем появлялась таинственная прозрачная сущность. Становилось светлей, ярче. Словно в это уплотненное светоносное пространство врывался лучистый дух, ударял о края чаши, волновал и выплескивал вино, вселялся в пшеничную плоть, которая начинала дышать, благоухать, расцветать. Казалось, над алтарем распускается горячий цветок. Воздух сверкал от бессчетных крыл, которые рассекали пространство, отрывали от алтарного камня парящую чашу. Коробейников испуганно и счастливо взирал. Он был услышан. Господь был с ним.
По завершении службы прихожане, причастившись, умиленные, исполненные светлой благости, покидали храм. Исчезали в проеме дверей, за которыми была морозная тьма. К отцу Льву подошли две женщины:
— Батюшка, мы слыхали, вы с отцом Филиппом хотите идти в Лесищево, — сказала одна, кругленькая, чистенькая, похожая на опрятную птичку. — Благословите идти вместе с вами. Завтра на утрене с Пелагеей хотим быть. У нее сын больно пьет. Хочет его отмолить. — Она кивнула на худую, долгоносую, со строгим лицом подругу, у которой из коротких рукавов выглядывали длинные, черные от домашней работы руки.
— Ступайте с нами, — согласился отец Лев. — За Степана молюсь каждый раз. Пусть бы и он в церковь пришел, покаялся. Через полчаса выходим. Возьмите фонарь в дорогу, — и отправился в алтарь совлекать тяжелую ризу.
Через полчаса впятером выходили из села, оставляя за собой оранжевые мутные окна, погружаясь в необъятную темень полей, в которых дул ночной, морозный ветер. Коробейников чувствовал, как сладко жжет ноздри вкусный, острый воздух, в котором мешались запахи снега, каленой пашни, заледенелой озими и далеких хвойных лесов, охваченных огромным дуновением. Впереди качался керосиновый фонарь, опускался, взлетал над дорогой, освещая руки и плечи женщин, мерзлую колею, отливал на сизой заледенелой луже, на придорожных кустах со стеклянными округлыми ветками. Сапоги обоих священников стучали о дорогу. Едва проглядывали их лица, и не были видны черные подрясники и скуфейки. Зато прекрасно слышна была речь. Словно ждали окончания службы, возможности оказаться среди ветреных бескрайних полей, по которым пустились в бесконечное странствие, паломники, богомольцы, обходя стороной шумные торжища, воспаленные, безбожные города, в поисках забытых святынь, затерянных скитов. Ночной светоч, керосиновый закопченный фонарь, был им поводырем. Слабо светил в непроглядной русской ночи.
— Теперь, отец Филипп, когда нас слышат только ночные облака да ветер и мы не видим укоряющих взоров наших иконописных святых, вы можете продолжить ваши еретические речи. Но я вам сразу скажу: отнимая у Господа его суверенное право награждать праведников Царствием Небесным, а грешников карать вечной адовой мукой, вы разрушаете богословскую основу христианства, идете дальше рационального протестантизма и впадаете в сатанизм, уравнивая христианство и коммунизм, тварь и Творца, земное, смертное и временное с небесным, бессмертным и вечным. Вам бы, отец Филипп, не священствовать, а управлять обкомом партии, заведовать идеологией. — Отец Лев язвил, однако не старался обидеть спутника, а только возжечь в нем полемику, прерванную храмовой службой.
— Отче, я не требую от вас понимания. Я действительно стараюсь сопрячь христианство и коммунизм, разглядеть их онтологическую общность, несмотря на кажущиеся, вопиющие противоречия. Есть уровень постижения, где разница исчезает. Где находят свое объяснение трагические кровавые противоречия. Я действительно вызываю негодование и у владыки, который прознал о моем учении, и у областного уполномоченного по делам религий, который наведался в Лесищево и прослушал мою воскресную проповедь. Я высказываю вам вслух мое учение, ибо вижу в вас ищущий ум и пытливую, богооткровенную душу.
— Продолжайте, отец Филипп. Ночной ветер способствует тому, чтобы ваши слова были подхвачены и унесены в непроглядную русскую тьму.
— Я остановился на том, что Господь, по мере просветления и укрепления человечества, препоручал ему все новые и новые свои полномочия. — Отец Филипп не замечал насмешки и говорил, ибо накопленные суждения требовали собеседника. Его учение, выстраданное в казематах и гонениях, обретало свою завершенность, искало слушателя, и этим слушателем среди пустынных весей и осиротелых деревень оказался другой, подобный ему, искатель и беглец, столь же одинокий, как и он. — Теперь, может быть, Господь поручает человечеству совершить акт воскрешения руками самого человечества, для чего производит переворот в земной истории. И поскольку этот переворот грандиозней всего, что было прежде, созвучен с сотворением человека, явлением Христа и является, по сути, Вторым Пришествием, то и сопровождается грандиозными взрывами и потрясениями, которые ставят в вину коммунизму, но которые являются знамениями предстоящего чуда…
Их толкали порывы ночного огромного ветра. Мимо тянулись чащи, в пустой глубине которых притаились дремлющие лисы, цепенеющие лоси. Хрустнул лед под ногами. Ударил в подошву мерзлый комок. Два русских человека шли по бескрайней дороге от одного океана к другому, глаголили извечные русские речи, перетолковывая мир, переиначивая смыслы, пытаясь докопаться до истины, опрокинутой в глубину жизни. Путеводный светоч, тусклый фонарь, плыл перед ними, не давая заблудиться и кануть.
— Повторяю, отче, Господь вознамерился поручить людям величайшее таинство — воскрешение из мертвых, что и сделает человечество богоподобным, подтвердит, что человек сотворен «по образу и подобию Божию». Для этого грандиозного замысла Господь соединяет всех расплодившихся по земле людей, весь химический, физический, генетический потенциал науки и техники, все интеллектуальные и духовные ресурсы, ставя целью одухотворить человечество, приготовить его для свершения вселенской Пасхи. «Советский план» в своем сокровенном звучании таит в себе эту Богову задачу. Именно эта задача проглядывает в облике священной Красной площади, в картинах и стихах богооткровенных поэтов и художников Петрова-Водкина и Хлебникова, в красном пантеоне, хранилище «красного смысла», с мощами «красных героев». Мистерии парадов сорок первого и сорок пятого года — это пасхальные богослужения, мистерии жертвенного и победного воскрешения.
— Слушать вас — одно мучение, отец Филипп. Советские обряды — жалкие копии церковных. Коммунисты копируют христиан, как обезьяна карикатурно копирует человека. Неужели вы усматриваете искру божественного в «красных уголках» и «ленинских комнатах», где все пошло, выморочно, бездуховно?
— Предтечей «советского плана» был не Маркс, а Николай Федоров. Он был главным неназванным теологом советского строя. Объяснил, каким практическим образом вселенская задача воскрешения из мертвых будет передана Богом человечеству. Разработал регламент этой работы вплоть до мельчайших подробностей. «Красный смысл», который неуловимо витает в коммунистических программах, на деле является смыслом жизни. В чем же смысл жизни? В ее развитии, в бесконечном распространении, во все улучшающемся качестве и богоподобии. Высшее качество и богоподобие жизни — в бессмертии. Высшая, Божья правда — преодоление смерти. Того, где обретают «прах и зловоние, пепел и червь лютый». Превращение твари в Творца…
Идущие впереди женщины, утомленные дорогой, опьяненные сильным ветром, качали фонарь, указывая путь. И вдруг запели нетвердыми, срывающимися голосами суровый и печальный псалом. Ветер срывал с их увядших ртов слова, проносил мимо Коробейникова, и они исчезали в голых кустах, в холодных оврагах.
На Святой горе три гроба стоят, Аллилуйа, три гроба стоят…Священники умолкли. Некоторое время шли, ведомые двумя поющими богомолками, которые вели их, светя фонарем, на какую-то огромную, обдуваемую темным ветром гору, где, разверстые, осевшие от времени, стояли три гроба. Но потом отец Филипп продолжил, помещая свои слова среди разорванных ветром песнопений.
— Советская экспансия, мировая революция, вторжение на все континенты, все эти бесконечные советские войны в Испании, Корее, Монголии, Чехословакии, Венгрии, и, конечно, Великая Отечественная война, имели цель не в том, чтобы в каждой стране на троне сидел кремлевский вассал, но в том, чтобы объединить все богатства и возможности человечества, — китайские, африканские, европейские, все языки, все религии, все представления об Абсолюте. Чтобы в этом объединенном полифоническом человечестве просиял Абсолют для решения грядущей задачи. Наука и техника, храмы и капища, культуры и верования направлялись на раскрытие великой тайны. Не «философского камня», превращающего глину в золото, а на создание идеального бессмертного человека. Не понимайте меня так, отче, что этот человек будет создан из «запчастей» — искусственного сердца, искусственных легких и почек. Бессмертный человек будет создан не только из материи средствами химии, биологии, энергетических полей. Он будет создан из Духа, которым Господь изменит материальную природу людей, направит их для достижения земного Добра и Света. А это и есть коммунизм…
Во первом гробу Иоанн Креститель, Аллилуйа, Иоанн Креститель…Женщины пели высоко, тягуче. Псалом вырастал из фонаря, из желтого пятна света. Тянулся ввысь, как стебель. Но порыв жестокого ветра обламывал его, кидал через голову Коробейникова в непроглядную тьму, где звук угасал блеклыми пятнами света. Было странно, чудесно слышать псалом, слова отца Филиппа, язвительные возражения Левушки Русанова среди этого ночного безлюдья, непомерной русской земли, где век от века что-то непрерывно воздвигалось и рушилось, силилось себя обнаружить. И странные мысли рождались в этих диких полях, странные учения жили среди черных лесов, странные богомолки топтали дороги среди трех океанов.
— В эту реторту, где станут синтезировать бессмертного человека, будет подключен не только электрический ток, или ядерное излучение, или «живая вода», но и вся энергетика верящего и любящего человечества, сказки народов мира, Нагорная проповедь, «софийская мудрость» Владимира Соловьева, учение Швейцера о благоговении перед жизнью. Это огромное чаяние, огромная линза, которая сфокусирует историю, и на выходе появится луч, который и создаст нового человека…
Во другом гробу Дева Мария, Аллилуйа, Дева Мария…Было дико и восхитительно идти за желтым фонарем. Было сладко и жутко чувствовать себя в пустоте мира, где только фонарь, и псалом, и странное учение, напоминавшее русскую ересь, которую выжигали каленым железом, но она убегала в чащобы, пряталась под лесные колоды, смотрела из ночи зелеными волчьими глазами, дремала в хлебных зернах, притаилась в мерзлых могилах.
— Русская история трагична. Трагедия в том, что Россия объявила свое отличие от прочего мира. Предложила миру себя, как нечто отличное от мира, как великая укоризна миру. Мир не простил России этот укор. Задача мира — разгромить Россию. Не только захватить территории, забрать черноземы, несметные богатства недр. Ветхий мир хочет запечатать рот русскому гласу. Выбрав себя страной райской, готовой жертвовать собой ради рая, ради бессмертия, Россия накликает на себя беды мира. И нам каждый век, после очередного падения и разгрома, приходится подтверждать нашу Победу. Победа для России повторяется бессчетное количество раз, как бессчетное количество раз повторяется Распятие и Воскресение Христа…
Во третьем гробу Иисус Христос, Аллилуйа, Иисус Христос…Коробейников не знал, правильно ли он понимает учение, согласен ли с ним. Он был за пределами учения и в самой его глубине. Был новокрещеный христианин и нераскаявшийся язычник. Был правоверный ревнитель Символа Веры и был еретик и сектант. Был ветром, бурьяном, слезным псалмом, огнем фонаря, притаившимся зверем в чащобе. Он любил эту темную, ночную, неоглядную Россию с ее непостижимой тайной, частью которой был он сам, непознаваемый для себя самого.
— Богоносность советского времени подтверждается существованием «красных мучеников», которых не счесть и которые превратили весь советский период в непрерывную, небывалую жертву. Хотя Церковь и не считает их Христовыми мучениками, но если рассматривать все советское как огромную, вмененную Богом задачу, то все, кто погиб в этом Боговом делании, являются Боговыми мучениками. Те, кто погиб за Родину, являются святомучениками. Их нахождение в «красном пантеоне» помещает их в Царствие Небесное. Борис и Глеб рядом с Зоей Космодемьянской. Серафим Саровский рядом с Матросовым. «Русская идея», понимаемая не как «идея рушника, кваса и водки», а как «идея бессмертия», постоянно пополняет святой пантеон. В «Русский рай» со всем православным сонмом входят красные мученики, погибшие в атаках, умершие в блокадном Ленинграде, в немецком плену. Туда входит и мой некрещеный отец. Безбожный большевистский период крещен смертью мучеников, отдавших жизнь за бессмертие…
Над первым гробом свечи пылают, Аллилуйа, свечи пылают…Коробейникову казалось, что мрак за обочиной начинает робко трепетать. В нем блуждают тени, колышутся слабые отсветы. Вблизи, за бурьяном, в пустоте окрестных полей, на невидимых далеких холмах, на заснеженных опушках, в онемелых лесах начинают бродить пятна света. Это светились безвестные могилы. Проступая сквозь мерзлую землю, из них подымалось слабое зарево. Казалось, прах начинал лучиться, и эти лучи далеко и близко обозначали погребения. Из черных небес на могилы слетал невидимый дух, тот самый, что озарил воздух над золотой алтарной чашей, расплескал вино, одушевил пшеничную плоть. Коробейников водил прозревшими глазами, следя за блужданием света.
— «Красный», «безбожный» СССР оторван от «белой», «православной» империи. Между ними вражда, Гражданская война, море крови, избиение сословий, в том числе духовенства. Символом несовместимости и вражды является зверская казнь императора. Убитый царь-мученик взывал к отмщению, ожесточая сердца сторонников «белой идеи». Но, став святым, просияв среди сонма Преподобных, он, святомученик, изменил свою роль в русской истории. Стал звать не к отмщению, а к примирению. Соединил своей святостью две разорванные русские эры. Гонения на Церковь двадцатых годов явили на свет множество святомучеников, просиявших в России, источивших в русскую жизнь море любви и света. Дремлющая послепетровская Церковь, забывшая те гонения, что сама учинила старообрядцам, которых жгли, казнили, рвали языки, ссылали в остроги, Церковь, в которой Христова вера остыла настолько, что из бурсы выходили главные богохульники и пакостники, — теперь, после большевистских гонений, вновь стала мученической, Христовой. Об этой чаше святости, пролившейся на Россию в период гонений, свидетельствуют чудеса и знамения, случившиеся, на «соловецкой Голгофе». Они делают всю русскую историю священной историей, от самых древних, дохристианских времен до времен «воскрешения из мертвых». Именно эта пламенная жертвенная любовь — и есть та вселенская энергия, без которой не воскреснет прах…
Над другим гробом ангелы поют, Аллилуйа, ангелы поют…В могилах, как в таинственных ретортах, шло собирание плоти. Из минеральных частиц, из кристалликов льда и влаги, из незримых отпечатков строилось новое тело. Дух невесомо проникал в могилу, привносил исчезнувший образ, забытое отражение. Кости поверженных одевались ожившей плотью. Глазницы заполнялись зрячими живыми глазами. Среди ребер, вытесняя комья холодной земли, начинали дышать и биться горячие сердца. Могилы расширялись, выдавливались на поверхность, окруженные чистейшим заревом.
— Я знаю, «красный», советский план постигнет неудача. Мы не достигнем бессмертия, не достигнем рая. Не хватит знаний, недостанет духа. Не станем прозрачными для Света, не обретем необходимой святости. Россия будет лежать в руинах. Восторжествует зло. Но само русское дерзновение, русский порыв к бессмертию будет подхвачен другими. Будут копиться знания. Люди продолжат изучение клетки, расшифруют ген, где хранится память о предках, создадут искусственный разум, добьются небывалого долголетия. Но подлинное бессмертие невозможно без вселенской молитвы, любви и жертвы. Россия, страна великих скорбей и жертв, страна-молитва, страна-любовь, опять станет чашей, куда Господь вольет свое вино, и мы выпьем эту чашу, чтобы никогда не умирать…
Над третьим гробом роза расцвела, Аллилуйа, роза расцвела…Богомолки пели русский псалом. И везде светилась земля. Прозрачно, созданные из лучей, сияли храмы, нежно лучились деревни. Оживали зерна на пашне.
Набухали древесные почки. И повсюду, на могилах, распускались цветы.
Как из той розы капнула кровь, Аллилуйа, капнула кровь…— Я прожил нелегкую жизнь. Был счастлив, изведал страдание, падал в бездну, Бога узрел. Должно быть, я скоро умру. Но мне бы хотелось умереть и лечь в одну могилу с отцом. Отыскать его могилу в заволжской степи и в ней вместе с ним упокоиться. И вместе с ним воскреснуть. Увидеть, как собирается его плоть, как наполняется он красотой жизни. Когда он погиб, ему было тридцать три года, как Христу. Вместе мы сядем за огромное застолье, где сидит весь наш род, вся наша бесчисленная, уходящая в прошлое родня, которая уже не родня, а народ. Это будет трапеза воскрешенного, пасхального человечества. Во главе стола сядет Спаситель.
Отец Лев давно не возражал, не спорил с учением отца Филиппа. Был захвачен огромностью слов, необъятностью зимней России, которая вмещала в себя их заблуждения и откровения в истине, требуя от них одного, — любви.
Как из той розы вылетел птах, Аллилуйа, вылетел птах…Псалом оборвался. Они шли теперь по озаренной дороге. По сторонам, повсюду, из могил вставали воскрешенные ратники, пехотинцы, кавалергарды царских полков, курсанты советских училищ. Выходили на дорогу, встраивались в шествие, собираясь в несметное воинство. В этом воинстве были и безвестные Коробейникову люди, и те, кого он знал. Были усопшие и живые. Его дети и неродившиеся внуки. Его мама и бабушка и умершие бабки-прабабки. Впереди, держа деревенский фонарь, шел Спаситель. Коробейников видел, как его босые стопы касаются зеленой травы и в траве краснеет июльская земляника.
Часть пятая Грех
43
Коробейников вернулся в Москву просветленным. Прожитая им жизнь, с грехами, заблуждениями, проступками, никуда не девалась. В ней присутствовали обиженные и обманутые им люди. Оставалась работа в газете, писательский труд, обостренная жадность к событиям, новшествам и знакомствам. Но все это теперь озарялось новой чудесной истиной, к которой приобщился в сумрачном нетопленом храме, ступив босыми стопами в купель, глядя на золотой огонек свечи, что разгорался в нем неугасаемой любовью и верой.
С этим чувством он уехал в командировку в Белоруссию, в район Орши, где размещался полк дальних бомбардировщиков «Ту-16», ориентированных против стратегических целей НАТО.
Самолет, бортовой номер «34». Длинный тускло-сияющий фюзеляж хищно устремлен к невидимой, обреченной на уничтожение цели. Крылья, упругие и трепещущие, созданы для взлетов и крутых виражей, парений и отвесных пикирований. Граненый кристалл кабины с пульсирующим мозгом, угрюмыми глазницами, озирает землю и небо. Отточенный киль с красной звездой накрывает кабину стрелка, похожую на пчелиное жало, с крутящейся скорострельной пушкой. Реактивные двигатели, как два бицепса, наполнены мощью, толкают самолет к дымным городам и военным центрам Европы. Бомбовые люки в подбрюшье, источники огня и смерти, раскроются над тучной Европой, выльют на готические соборы и барочные дворцы чашу гнева Господня. Бомбардировщик, великолепный, серебристый, среди сверкающих снегов, грозно ликующий среди синевы и солнца, вызывал у Коробейникова восхищение красотой и гармонией. Ему казалось, что самолет, созданный на пределе человеческих знаний по законам физики, электроники, аэродинамики, обладает той же полнотой совершенства, что и храм Покрова на Нерли или Федор Стратилат в Новгороде. Воля пилота делает его оружием Судного часа, расплескивающего над землей ядовитую плазму смерти. Или ангелом, роняющим в окаменелые города алую розу Благой Вести.
Повсюду, на взлетном поле, тягачи выкатывали из капониров бомбардировщики. Шли регламентные работы. Техники по стремянкам залезали в кабины. Прослушивали радиооборудование, настраивали частоты, проверяли приборы бомбометания. Оружейники прокручивали пушки, просматривали бомбовые отсеки. Самолеты слабо шевелили закрылками, растопыривали элероны, окутывались слабым стеклянным свечением, словно тающие куски льда. Коробейников наблюдал командира, о котором собирался писать, но не находилось времени для долгого задушевного разговора. Командир был высок и ладен, затянут в комбинезон. То сновал вокруг самолета, подныривая под крыло, где механики отвинчивали и меняли топливный клапан. То помещался в кабину, снимая зимнюю шапку, натягивал шлем и что-то вещал в ларингофон, шевеля губами. У него было круглое большое лицо, белесые брови, ямка на подбородке, твердые складки на лбу. Он был похож на русского крестьянина средних лет, которого судьба увела от родных огородов, сенокосов и пастбищ, ввергла в суровое противостояние мира и соединила с металлом и взрывчаткой, но он тайно тосковал о своей покинутой родине, деревянной, травяной и цветочной.
— Товарищ майор, когда же мы с вами уединимся, чтобы я мог задать вам несколько необходимых вопросов? — Коробейников улучил минуту, когда командир оказался незанятым.
— Уж вы меня извините, — виновато ответил летчик. — Целый день как белка. То проверки, то разборы полетов, то политзанятия. Завтра воскресенье, вздохнем свободно. Приглашаю вас на рыбалку. Потягаем окуньков на озере. Там и поговорим. — Словно тяготясь и смущаясь этим общением, накинулся на техника: — Слышишь, ты мне сельсин замени, у меня правая группа разболтана!
Военный городок засыпал. Исчезали с улиц обитатели гарнизона. Умолкала музыка в гарнизонном кафе. Одно за другим гасли окна в пятиэтажных домах, где укладывались на ночлег офицерские семьи. Коробейников, надышавшись морозного воздуха, миновал Дом офицеров с аляповатыми, в стиле ампир, колоннами, чуть светящиеся витрины запертых на ночь магазинов, детскую площадку с обшарпанными теремками. Вернулся в общежитие, где ему отводилась комната. Лег на железную кровать, под грубое одеяло, занял место на пружинном матрасе, на котором до него покоилось множество неизвестных людей. Холостяки-офицеры, дожидавшиеся очереди на жилье. Командированные из округа, приезжавшие с инспекцией в часть. Случайные, занесенные в гарнизон постояльцы. Их посиделки за бутылкой водки. Консервная банка, полная ядовитых окурков. Мимолетные свидания с продавщицами военторга. Запах несвежих одежд, одеколона, суконных сырых одеял. И чего-то еще, притаившегося в углах, — медленно истлевающие остатки безымянных, бренных жизней.
Он лежал в темноте, испытывая теплоту и любовь, обращенные к неведомым людям. Радовался, что никому не известен, никто не догадывается о его сокровенных переживаниях. Был благодарен Тому, кто зажег в нем эту тихую ночную лампаду, внес ее в мир грозных военных машин, смертоносного оружия, беспощадного военного ремесла.
Заснул, плавно погружаясь в сон, унося в него свои просветленные мысли. Нежная, светлая явь, окунаясь в глубину сонного разума, встречалась с загадочной темной реальностью. Будила угрюмые сущности, которые всплывали из мрака, как глубоководные чудища.
Он увидел кошмар: красный мясной обрубок. Говяжий кусок с отпиленными конечностями, сочными срезами мяса. Обрубок был жив, разводил остатками ног. Среди малиновых мускулов раскрывался беззвучный зев. В немом обрубке была ужасная, нестерпимая боль, невыносимая мука, которая изливалась не звуком, а бесшумным непомерным страданием.
Он проснулся от ухающих ударов сердца, от стука в дверь, от частого грохота подошв в коридоре. Безумный кошмар перетекал в явь. В дверь стучали. Босой, оглушенный, кинулся открывать. Солдат в сапогах и шинели прокричал сипло:
— Тревога!
Коробейников увидел пробегавших мимо летчиков, запахивающих шинели и комбинезоны. Сорванный тревогой, еще неся кошмарное видение, стал одеваться. Через минуту несся в ночном воздухе по наезженному скользкому снегу.
Кругом бежали, впереди, сзади, темные неразличимые фигуры. В домах воспаленно загорались окна. Из подъезда выскальзывали тени. Медленно, чтобы не задавить бегущих, катили переполненные автобусы, слепя фарами, морозно краснея хвостовыми огнями. Это стремление в ночи, всех в одну сторону, к аэродрому, напоминало бег сметенного племени. Его гнал первобытный страх, неразумный, реликтовый ужас. Казалось, каждый нес кошмар, который сорвал его с одра, выгнал из жилища, слепо гонит вперед. Этот страх имел вектор. Силовые линии страха пронизывали морозную тьму, и повсюду — в гарнизоне, в соседних селеньях, в отдаленных городах, по всей земле — люди выбегали из домов с помутненным рассудком, бежали все в одну сторону, словно их сгоняли с земли.
Этот стадный ужас, коллективный кошмар делал Коробейникова несвободным. Помещал в слепое, охватившее всех стремление, из которого было невозможно выпасть. Все были едины, сотворены из одинаковой смертной плоти, управляемой страхом. Будто где-то в ночных полях работал гигантский магнит, включился огромный соленоид, излучавший потоки страха. В каждом из бегущих был малый приемник, улавливающий импульсы ужаса, которые понуждали бежать.
Он видел, как рядом бежит немолодой усатый летчик, застегивая комбинезон, тряся одутловатыми щеками. Как обгоняет их резвый молодой лейтенант с лихими усиками и быстро работающими локтями. Как присел у края дороги грузный прапорщик, завязывая шнурок. Топотали башмаки по снегу, сигналили автобусы, тяжело дышали, окутываясь паром, торопящиеся люди. Библейское, древнее чудилось Коробейникову в их испуганном топоте. Будто им всем было знамение: встали на небосводе две кровавых луны, или солнце взошло как черный, языкастый подсолнух, или недвижно над кровлей храма повисла ослепительная, с алмазным хвостом, комета. Жизнь, ожидая погибель, землетрясение, или извержение вулкана, или всемирный потоп, стремилась спастись и укрыться. А вслед ей указывал гневный перст, направляя во тьму, где ей надлежало пропасть.
Выбежали за шлагбаум на взлетное поле. В пустоте дул морозный ветер. В вышине сверкали, переливались звезды. По всему аэродрому мигали огни, вспыхивали прожекторы. Тягачи медленно вытаскивали из капониров тусклые тела бомбардировщиков. Заправщики, оседая от тяжести переполненных цистерн, выбрасывали едкую гарь.
Толпа редела, рассеивалась, разбегалась по пространству аэродрома, к самолетам. Командиры торопились к подземному бункеру, где размещался КП полка, спускались в глубину, минуя автоматчиков охраны.
Коробейников топтался снаружи, обжигая ноздри о железный воздух, которым пахла тьма, звезды, стволы автоматов, далекие крестообразные самолеты, бескрайняя равнина снега. Из бункера поднимались командиры. Их лица скрывала тьма, но походка была тяжелая и медлительная, словно это были не летчики, а водолазы. В руках у них были одинаковые белые пакеты, и казалось, что руки забинтованы. Коробейников угадал в темноте командира бомбардировщика с бортовым номером «34».
— Товарищ майор, у меня просьба. Возьмите меня в полет. Хочу описать учебную тревогу и ночные полеты…
Майор повернулся к нему, и в свете проревевшего бензовоза лицо его было белым, опухшим, словно напудренная маска:
— Тревога боевая… Летим на удар… В Германию… — И зашагал, неся в руках белый конверт, с трудом отдирая подошвы, словно земля в несколько раз увеличила свое притяжение.
Коробейников не сразу понял. Ответ командира медленно, как тяжелый предмет, оброненный в густую тину, продавливался в рассудок, на дне которого таился ночной кошмар — красный мясной обрубок с шевелящимися конечностями.
Алюминиевый фюзеляж с номером «34». Упертая в наледь штанга шасси. Плоскость крыла, бивнем уходящая в темень. Вспыхивают фонари. Луч прожектора облизывает самолет. Экипаж поместился в стеклянную оболочку кабины. Пальцы бегают по тумблерам, ручкам настройки, кнопкам прицелов. Техники, как пчелы, облепили самолет, похожий на алюминиевый цветок.
Коробейников стоял на морозе, под огромными белыми звездами, глядя, как в черной бездне реют розовые, голубые, изумрудные переливы. Ждал, что у горизонта метнется длинная, как надрез, зарница, и небо станет сворачиваться, словно сдираемая, трескучая шкура. Стекляшками посыплются звезды. Под содранной шкурой откроется невыносимый для глаз свет, который и будет Концом Света.
В мозг было вморожено кристаллическое слово «война», — и оно сопрягалось с кристаллической, из ромбов и квадратов, кабиной, с кварцевым блеском небесных звезд, с остроконечной красной звездой на отточенном киле.
Он не мог шевельнуться, не мог дышать. Был поражен параличом, исключавшим любое действие. Надо было мчаться в Москву, хватать жену и детей, маму и бабушку и спасаться. Кидаться в чащи, в глухие деревни, в безлюдные дали. Прижать к себе, накрыть сберегающим покровом. Смотреть, как трескаются вокруг горизонты, качаются в небе ядовитые радуги, дуют свирепые вихри, выдирая с корнем деревья, пронося обломки мостов, небоскребов. Но он оставался недвижен, как соляной столб.
Все эти годы война витала над миром, приближалась, отдалялась, начинала душно дышать в ухо. А потом утихала, превращаясь в надоевшие угрозы политиков, пресные требования миротворцев, в казенные фестивали молодежи, в трескучую пропаганду. Он изучал военную техносферу, восторгался мощью авианосцев и подводных лодок, разящими штурмовиками, пусками тяжелых ракет. Но ни разу война не приближалась настолько, что дыбом вставали волосы от мысли, что уже летят к городам молчаливые головки урана, и сейчас начнут испаряться в белой плазме Василий Блаженный, Крымский мост, кирпичный дом в Тихвинском переулке, где в белом креслице дремлет бабушка.
Молекулы морозного воздуха были приведены в возбуждение сближавшимися полюсами. Материя доживала последние, данные Богом мгновения, перед тем как превратиться в ничто. Последние времена обретали физическую ощутимость тающих секунд, в которые совершалась заправка бомбардировщика, карабкался по стремянке механик, штурман в глубине кабины разворачивал карту Германии, командир разрывал конверт, извлекая приказ с указанием цели: Гамбург, железнодорожный узел, группа военных заводов, военно-воздушная база в окрестностях города. Время стекало с невидимого острия, и его оставалось все меньше. Ослепительно сверкали звезды. Дымилось перламутровое облачко пара у дышащих губ.
Коробейников вспомнил, как отец Филипп, болезненный, худосочный, вещал фантастическое учение о том, что Господь делегирует человечеству задачу воскрешения из мертвых. Священник, порождение русских умствований, наивно заблуждался: Господь делегировал человечеству вселенское самоубийство, казнь внутри раскаленного шара, откуда через несколько минут станут вырываться миллиарды душ, протыкая огненный шар воздетыми руками. И на них, из других миров, будет взирать суровый и гневный Бог.
Под днищем самолета, где находились бомбовые отсеки, шла загрузка атомных бомб. От фюзеляжа к земле спускался жесткий брезентовый полог, мешавший видеть загрузку. Сквозь щели в брезенте бил яркий электрический свет, качались тени. Вид промерзшего полога из несвежей грубой рогожи создавал ощущение чего-то ужасного, непотребного, невыносимого для глаз. Будто там, за пологом, находился застенок и палач мучил ободранного, висящего на дыбе стрельца, у которого с бороды текла красная жижа.
Коробейников, ужасаясь, заглянул в щель. Ярко горел прожектор. Алюминиевое подбрюшье самолета было раскрыто. Из темной утробы свешивались стальные тяги, колыхалась подвеска, шевелилась затянутая в комбинезоны прислуга. Бомба, которую крепили к подвеске, покачивалась на весу, была черного цвета, мягко скругленная, с грубым стабилизатором. На черном лакированном корпусе светлела маркировка; белые и красные литеры, цифры и знаки, простые, легко читаемые, походили на графику двадцатых годов — эстетика революционного простонародья. Бомба поражала грубой простотой и наглядностью. Слова и строки, написанные лесенкой, напоминали стих Маяковского, но при всей простоте и наглядности Коробейников не умел их прочесть. Быть может, это были «Стихи о советском паспорте». Или строка из Апокалипсиса, где говорилось о «звезде-полыни». Или на бомбе была воспроизведена та самая надпись, что украшала колокольню Ивана Великого, и все не было времени ее прочитать, не находилось терпения расшифровать священную надпись, в которой предсказывался сегодняшний день, отточенный, готовый к взлету бомбардировщик, черная округлая болванка, в которой поселилась вселенская смерть.
Зрачки, побегав по замкнутому, охваченному брезентом пространству, остановились на бомбе и больше не могли оторваться. От бомбы исходило гигантское притяжение. Она обладала громадной гравитацией, которая впитывала световые лучи, всасывала молекулы воздуха, выпивала кровяные тельца, вырывала из глаз зрачки, выхватывала из головы оцепеневшую мысль. Масса черного цилиндра была равна массе планеты, которую астрономы именуют «черным карликом» и которая ненасытно поглощает массивы Вселенной, глотает светила и солнца, выпивает бесконечный озаренный Космос, превращая их в спрессованный черный комок, столь плотный, что в нем нет места для света, жизни, движения.
Коробейников чувствовал, как бомба затягивает его в себя. Как выдавливаются из орбит глаза. Как излетают из разорванных сосудов корпускулы крови. Как студенистый мозг удлиняется, вытягивается изо лба, погружается в металлическую болванку, где красные и белые письмена казались русской транскрипцией неведомого языка, на котором говорили великаны Бамиана, исполины, населявшие оазисы Азии и Африки.
Коробейников отрешенно подумал, что бомба, сконструированная человеком, была выполнена по заданию Бога. В физической формуле, описывающей теорию взрыва, была заложена строка из Священного писания, которая не вошла в Евангелие. Осталась не прочитанной людьми. Была открыта малой группе жрецов, именуемых «атомными физиками».
Но если в этом замысел Бога, если, тяготясь сотворенной землей, Бог готовит ее истребление, зачем же он, Коробейников, пережил недавнее чудо? Становился в купель подле распятия? Принял святое крещение, после которого открылась красота мироздания и он испытал блаженную любовь?
Металлическая, похожая на черную свинью бомба не могла быть Богом. Ее внешнее и внутреннее уродство не могло быть источником чудесных лучей, исходивших от бабушки, когда она читала Нагорную проповедь. Но если это был не Бог, то это был Дьявол. Не косматый, с длинным голым хвостом, раздвоенными копытами, рогатой козлиной башкой, как его рисовали на фреске деревенские богомазы. Дьявол в стальной оболочке, с формулой Планка внутри, испещренный ритуальными письменами, был воплощением мирового зла. И Коробейников, крещенный в купели, был выбран Богом для битвы с дьяволом… И он понимал, что и снег, и звезды, и упертая в бетон штанга шасси — последние видения обреченного мира.
Коробейников вдруг увидел, как в кабине к прозрачному ромбу прижалось лицо командира. Изумился его превращению. Окруженное шлемом, лицо было каменное, с отверделыми скулами, жестокой выбоиной подбородка, в иссеченных складках, в которых сверкал гранит. Оно было каменной маской, у которой исчезли живые эмоции и оставалось непреклонное выражение статуи. Казалось, в самолете сидели изваяния. Сжимали каменными кулаками рукояти управления, смотрели каменными глазами на циферблаты приборов.
В бомбардировщике зашумело, тихо взыграло, переходя в звенящий гул, в свист запущенных двигателей. Загорелся длинный пучок голубоватого света, озаривший квадраты бетона. Аэродромные техники отбегали в сторону, увлекая за собой Коробейникова. Бомбардировщик качнулся, поплыл. Плавно колыхал крыльями, проводя в темноте зеленым огнем габарита. Повернулся озаренными соплами, выдувая жаркую, сладковатую гарь. Медленно удалялся со стоянки на взлетную полосу, где убегали в бесконечность фиолетовые огни. И повсюду, в разных местах, вонзая лучи прожекторов, двигались самолеты. Полк готовился к взлету, выстраивал очередь мерно звенящих машин.
Он видел убегающий клин лиловых аэродромных огней. Бензозаправщик с обмелевшей цистерной, грубой надписью «Огнеопасно». Горсть голубых, драгоценно рассыпанных звезд. Замерзшие кончики пальцев, которые он поднес к губам, дунув на них перламутровым паром. Детали не ускользали от его внимания, запоминались, как последние образы мира, в котором ему оставалось недолго жить. Но он запоминал их, оттачивал, вносил в несуществующий текст. Мир стремился к своему завершению, а он старался его описать в его последние, ускользающие мгновения. Это поразило его. И в дни скончания мира он оставался писателем. Вел летопись последних времен, хотя через мгновение не будет ни книг, ни читателей, исчезнут все письмена, кроме тех, черно-красных, что начертаны на атомной бомбе. Инстинкт писательства, подобно инстинкту смерти, инстинкту продолжения рода, был неистребим, действовал в нем помимо воли. Наблюдая далекое шевеление самолетов, он писал репортаж о Конце Света.
Вдалеке зазвенело. Ветер принес металлический нарастающий звук. Вспыхнул аметистовый аэродромный прожектор, высвечивая полосу. В лучах молниеносной струей скользнул самолет. Сбросил поток жидкого серебра и исчез. Невидимый, гудел в высоте, и глаза искали среди звезд пару габаритных огней.
Минуту было тихо, темно. Вновь зазвенело. Загорелся прожектор. В его водянистых лучах метнулась огромная рыбина. Бомбардировщик тяжело ушел в высоту, на секунду полыхнув голубыми турбинами. Звенел, удалялся, ведя по звездам красным и зеленым огнями.
Самолеты взлетали с минутными интервалами. Полк покидал аэродром, выстраивал эшелоны. Группами, на разных высотах, уходили на запад.
Коробейников остался на поле совершенно один. Механики исчезли, быть может, повинуясь инструкции, попрятались в подземные бункеры. Пропали тягачи и бензозаправщики, должно быть, укрылись за капонирами, чтобы их не настигла буря ударов. Только чернела пустота аэродрома, и до самого горизонта переливались чудесные звезды.
Он представлял, как полк идет над Белоруссией, над темными заснеженными хуторками, оставляя в стороне розовое зарево Минска. Проходит над Польшей, над остроконечными костелами и лепными дворцами Варшавы. В Восточной Германии, северней Лейпцига, к нему пристраиваются истребители сопровождения. Полк прорывает границу, вторгается в воздушное пространство ФРГ. Навстречу взлетают американские перехватчики, дислоцированные в Рейн-Вестфалии. Воздушный бой над ночным Рейном. Схватки истребителей, испепеляемых скорострельными пушками. Паденье к земле горящих машин. В черных дубравах Саксонии красные кляксы подбитых бомбардировщиков. Полк, потеряв треть состава, мелкими группами прорывается к Гамбургу, где его атакуют зенитно-ракетные комплексы. Массовый пуск ракет. Бенгальские огни попаданий. Огромные машины, совершая противоракетный маневр, рыхлят виражами небо. На бреющем, едва не задевая вершин, рвутся вперед, оставляя гореть на земле еще одну треть полка. На локаторах цели Гамбурга. Металлическая, в рельсах, земля. Стальные фермы мостов и заводов. Аэродром с тяжелыми «Б-52», выруливающими на взлетную полосу, готовыми к старту. Прицелы впиваются в цели. Пальцы давят на кнопки. Десятки атомных бомб сходят с подвесок, отрываются от машин, продолжают скольжение. Самолеты, сбросив бомбы, взмывают свечой, мощно уходят вверх. Ложатся на спину, удаляясь от места взрыва в расплавленном небе. Вслед, толкая ударной волной, закручивая в турбулентный поток, дышат фонтаны плазмы. Большинство самолетов гибнет в огненных смерчах. Лишь десятая часть уходит на базу, оставляя за собой гигантские мухоморы, ядовитые поганки, розовых жутких медуз, плывущих над Европой. Летят на восток, в Россию, над которой подымаются на задние лапы косматые голубые медведи ядерных взрывов.
«Неужели все так и будет?.. И Второе Пришествие, которое вымаливали для России славянофилы, которым грезил Никон, создавая на милой Истре великолепный и праздничный Новый Иерусалим, то самое обещанное явление Иисуса Сладчайшего, Бога Света, Христа Милосердного, случится среди расколотой, испепеленной земли, жаркого котлована, куда провалится Москва, и в жуткой дыре, полной кипящей ртути, будут плавать Настя и Васенька, их изувеченные тельца?..»
Обморок накатился. Твердый, летящий в пространстве удар повалил его в снег. Лежал без чувств, открыв невидящие глаза навстречу сверкающим звездам.
Через минуту очнулся. Звезды приблизились, переливались по всему небу, волновались, словно на огромном шелковом пологе. Обращались к нему и звали, требовали немедленного поступка. Не понимая, чего от него требуют, что должен он совершить, одинокий, беспомощный, посреди морозного поля, на опустелом аэродроме, Коробейников оторвался от снега. Не поднялся, а остался стоять на коленях. И эта молитвенная поза, сверкающая высота, напряженная измученная душа побудили его к молитве. Он стал молиться бессловесно и страстно, чтобы команда из неведомого штаба, сигнал из секретного бункера догнали улетевший полк. Вернули назад. Опустили бомбардировщики с убийственным грузом. Не дали ему сорваться с подвесок. Молился на звезды, и они превращались в великолепный иконостас, в разноцветные лампады, в золотые паникадила. В морозном небе, среди нимбов и алмазных венцов, он различал тех святых, что были написаны на темных досках тесовской сельской церкви. Но в Тесове они были едва различимы, покрыты тусклым налетом. А здесь, на небе, лучились, сияли, переливались драгоценными мантиями.
Услышал далекий, звенящий звук. Звон приближался, снижался, наполнял морозное небо. Вспыхнуло аметистовым светом. Озарило узкую бетонную полосу. В аметистовые лучи из черноты неба ворвался самолет. Длинный, стремительный, в стеклянном трепете крыльев. Скользнул и пропал. Гудел на удаленном конце аэродрома у мутных лесов.
Снова вспыхнул прожектор. В прозрачном аметистовом потоке скользнула огромная рыбина, сбрасывала с плавников горящие брызги. Второй бомбардировщик приземлился, гасил бег, утомленно гудел вдалеке.
Один за другим садились самолеты, наполняя ночь ревом, металлическим свистом, вспышками света, скольженьем громадных фюзеляжей и крыльев. Полк, совершив учебный полет, возвращался на базу.
Молитва Коробейникова была услышана. Покрикивая, к стоянке торопились техники. Из темноты, напружинив крылья, остро светя прожектором, подкатывал звенящий бомбардировщик с бортовым номером «34». Кристаллически сверкала кабина. На киле остро, сочно краснела звезда. Когда утихли турбины, по стремянке спустился командир. Увидел Коробейникова и кивнул:
— Завтра разбор полетов. А послезавтра поедем на озеро. Окуньков потягаем. Там и поговорим по душам. — Пошел, переваливаясь, походкой утомленного землемера.
44
Он не помышлял о себе как о праведнике, ради которого Бог пощадил заблудший, порочный мир. Не тешил себя гордыней, что именно он, молитвенно взывая к Богу, сумел отвратить атомную войну. Понимал, что не его робкая вера, сбивчивая и пугливая молитва развернули в небе полк бомбардировщиков, опустили на землю «чашу гнева Господня», так и не расплескав ее над Европой. Но, вернувшись домой, он пребывал в постоянном воодушевлении, которое началось на пустынном Смоленском тракте, среди старых берез. Превратилось в счастливое озарение, когда он босой стоял в холодной купели с тихой свечой, целуя золотой крест. Было явлено чудо, когда стоял на коленях посреди ночного аэродрома, посылал молитву вслед громадным бомбардировщикам, отыскивая их своим духовным, умоляющим оком среди звезд.
Это пережитое чудо побуждало его теперь, по возвращении в Москву, приступить к исправлению не мира в целом, а своей собственной жизни, которую он умудрился настолько искривить и испортить, что эта порча коснулась самых дорогих и любимых людей, грозя их благополучию.
Он искал момента, чтобы покаяться перед женой Валентиной, слезно и искренне испросить прощения, веря, что ее любящая преданная душа, пережив потрясение, простит его, и, пройдя сквозь ниспосланное испытание, они станут еще неразлучней. Любую свободную минуту уделял детям, остро чувствуя драгоценность их очаровательных, наивных, исполненных красоты и добра жизней, зависящих от его жизни, от присутствия в ней красоты и добра. Рисовал в их альбом большой самолет с номером «34» и красной звездой на хвосте, который летел над готическим Кельнским собором, Эйфелевой башней, греческим Парфеноном и ронял на них алые розы.
Стремился к Елене. Не знал как, какими словами, но верил, что объяснится с ней. Их объяснение приведет не к горю, не к разрушению, а ко благу. Это благо обнимет и ее, и нерожденного ребенка, и Марка, перед которым он был страшно виноват и был готов избывать эту вину.
Даже Саблин уже казался ему не порождением сатанинских сил, а лишь измученным страдальцем, которого собственное страдание побуждало творить зло и который нуждался в его, Коробейникова, помощи и прощении.
И он был необычайно обрадован, получив из Тесова письмо отца Льва, который извещал о скором прибытии в Москву, где состоится какой-то важный православный конгресс. «Помни, Миша, ты «не от мира сего». Вспоминаем с матушкой твой приезд, и сколько добрых, чудесных мгновений мы пережили вместе».
Он ждал отца Льва, который был теперь его духовный наставник. Надеялся исповедаться у него, укрепиться в благих намерениях.
За этими размышлениями его застал звонок из редакции. Звонила секретарша Стремжинского, полинезийская царевна, придававшая своему властительному начальнику неуловимое сходство с Гогеном.
— Он вас срочно зовет к себе! — со священным трепетом возвестила секретарша.
— Что-нибудь случилось? — встревожился Коробейников, у которого сегодня в газете выходил очерк о дальней авиации. Эффектная полоса с огромной фотографией бомбардировщика, летящего над туманным городом. — Какой-нибудь прокол в материале?
— Не могу сказать. Едва пришел, просил с вами связаться. Чтобы вы срочно приехали в редакцию.
Не раздумывая, полный догадок, тревожась за судьбу военного очерка, Коробейников заспешил в газету.
Секретарша, шелковистая, как маслянистый цветок тропиков, с перламутровыми губами цвета океанской раковины, с черными, густыми, на расстоянии благоухающими волосами, рождала образ лагуны, любовной неги, плетеной корзины с сочными плодами манго, которую она, изгибая выпуклое бедро, внесет в тростниковую хижину своему повелителю.
— Он сейчас занят. У него посетитель из ЦК. Вы немного подождите. Он очень, очень раздражен! — доверительно, как единомышленнику, сообщила секретарша.
— На кого раздражен?
— На весь белый свет. Даже яблоко, которое я ему помыла, вернул с раздражением: «Зеленое и кислое!» Хотя оно красное и медовое.
— Я пойду в военный отдел. Позовите, когда освободится.
В военном отделе работал Наум Шор, низкорослый, широкий в плечах, напоминавший куб, из которого выглядывала энергичная голова с огромной седой копной, крючковатый нос и влажные голубые глаза с ободками розовых век. Активный, говорливый, избыточно пылкий, он был трудолюбив, пронырлив, знаком со всеми военачальниками и политработниками и олицетворял собой старую, военных времен, школу журналистов, способных проникнуть повсюду и быстро переслать в газету трескучий репортаж с минимальным количеством деталей и набором военно-патриотических штампов. Он испытывал ревность к Коробейникову, который слыл любимцем Стремжинского и «отбивал хлеб» у испытанного ветерана, перебегая дорогу масштабными очерками об авианосце, мобильных ракетах или стратегических бомбардировщиках. Вкусно пахнущая, черно-серебряная полоса с фотографией стреловидной машины — объект критики и зависти — лежала на столе у Шора.
Помимо хозяина кабинета тут находились еще два военных журналиста из других изданий. Барственный, циничный Ильенко, из официозных «Известий», занимавший в табеле о рангах весьма высокую степень. И Видяпин, журналист из молодежного фрондирующего журнала, не уверенный в себе, льстивый, мучимый тайной неполноценностью, заискивал перед вальяжным и хамоватым «известьинцем», тайно его ненавидя. Стол украшала початая бутылка «Мукузани». Краснело в стаканах вино. Коробейников был встречен приветствиями.
— Старик, хорошая работа, поздравляю. — Ильенко, не вставая, протянул Коробейникову пухлую вялую руку. — Умеешь писать, молодец. — Тяжеловес, которому не грозили чужие успехи, он был поощрительно-доброжелателен, не видел в Коробейникове конкурента.
— Замечательный материал! — льстиво заглядывая на Коробейникова, криво улыбался Видяпин. — Я бы так никогда не смог. Ну меня бы и не допустили на сверхсекретный объект. Мы малые мира сего, букашки. Тут нужно иметь высоких покровителей в ЦК или КГБ. — Он уничижительно признавал над собой превосходство и одновременно тайно унижал Коробейникова подозрениями в связях с КГБ. — За такую работу я бы выдал Звезду Героя!
— Крепко сработано, — строго заметил Шор, своей похвалой сохраняя дистанцию между собой, умудренным учителем, и Коробейниковым, талантливым учеником. — Но слишком много красивостей. Нужно строже, суровей.
Коробейникову налили вина, выпили за его публикацию.
— Ну так вот, рассказываю дальше. — Ильенко, одаривая остальных своим обществом, продолжал прерванное Коробейниковым повествование, по-видимому, одно из тех, коими потчевал терпеливых и зависящих от него слушателей. — Во Вьетнаме в это время как раз началось наступление, и американцы, мать их, усилили ковровые бомбежки. Мы уже были за тридцать восьмой параллелью, в джунглях, пробирались по тропе Хо Ши Мина. Со мной была переводчица, такая миниатюрная вьетнамская девочка. А эта долбаная тропа Хо Ши Мина — это джунгли, и в них сотни параллельных дорог. Вьетнамцы на велосипедах пилят, пробираются, как муравьи. Везут оружие, боеприпасы, гранатометы, разобранные «безоткатки». Чуть налет — все врассыпную, ложатся, и американцы вслепую долбят джунгли. — На самодовольном лице Ильенко появилось выражение утомленного воина, чья жизнь прошла в лишениях и походах и душа очерствела от множества горьких потерь. — Я эту девочку на привале отвел в сторонку, в заросли. Рубашечку ей расстегнул, грудки стал целовать. Штанишки с ее тонких ножек стал приспускать. Трусики ее розовенькие. Только пристроился, бац, налет! Долбаные «Б-52» прилетели и ну утюжить! Кругом разрывы, деревья трещат, суки огромные сверху валятся. Девочка моя штанишки натянула и бежать с перепугу. Налет кончился, пошел ее отыскивать. Забилась, бедненькая, под корягу, дрожит. Я ее приласкал, успокоил, грудки ее маленькие, как вишенки, целую. — Ильенко печально улыбался, видимо вспоминая женщин, что встречались ему, утомленному воину, в военных походах, вдали от Родины, откуда он привозил свое измученное, израненное тело, отважные репортажи с поля боя и печальные, сладкие воспоминания, не вошедшие в его фронтовой блокнот, которыми он делился с товарищами, обделенными этим прекрасным суровым опытом. — Только я, это, значит, трусики ее розовые приспустил, приладился, — бац, вторая волна налета! Ад кромешный, земля гудит от разрывов, вверх летят деревья, велосипеды, вьетконговцы. Рядом с нами обломанная вершина рухнула. Девочка моя подхватилась — и бегом куда глаза глядят. Налет еще минут десять длился. Ну я привык, переждал. Пошел искать девочку, потому что налет налетом, а мое мужицкое дело недоделано. Брожу среди деревьев, воронки дымятся. В одну заглядываю — а там от моей девочки красные косточки лежат. Как птенчик раздавленный. И трусики ее розовые на сучке висят. Так эти долбаные «Б-52» нашей любви помешали. — Ильенко печально, с легкой иронией над собой, с лицом фаталиста, поднял стакан. Выпил вино с тяжелым вздохом, и было понятно, что он поминает прелестную вьетнамку, которую выхватил из его объятий злой рок.
Все отдали дать уважения услышанному. Оценили завершенность этого устного эссе. Не подвергали сомнению подлинность повествования, которое могло родиться только из уст боевого репортера, посылаемого государством в зоны конфликтов, куда не заглядывает обычный, не наделенный доверием журналист.
— Удивительная история! — восхищался и завидовал Видяпин, с подобострастием глядя на Ильенко. — Хемингуэй позавидует. Я бы, наверное, не выдержал этих бомбежек.
— Старик, Родина прикажет, все выдержишь! — Ильенко принимал знаки восхищения от Видяпина. Снисходительно давал ему понять, что и тот, при определенных условиях, смог бы повторить его журналистский подвиг.
— «Там, где мы бывали, танков не давали»… Нечто подобное было со мной в Великую Отечественную, под Ржевом… — Шор, маленький, квадратный, присоединял себя к когорте избранных фронтовых репортеров, проводя черту, за которой оставлял Коробейникова и Видяпина. — Конечно, молодежь догоняет, наступает на пятки… Я радуюсь твоим успехам. — Он обратился к Коробейникову, нахохленный, носатый, похожий на гордую птицу, выглядывающую из картонного ящика. — Правильно, что тебя приблизил Стремжинский. Стрем имеет чутье. У него, понимаешь, есть чувство будущего. Но все-таки ты и к нам, ветеранам, прислушивайся. Очерк хороший. — Он кивнул на газетную полосу с фотографией бомбардировщика. — Но многовато романтики, мистики. Нужно проще, реалистичней. Как в очерках Симонова.
— У вас Стремжинский — мощный мужик. Газету держит, — произнес скупую похвалу Ильенко. — Он мне импонирует. Свободный, независимый. Работает как вол. Бабник, имеет вкус к жизни. Я знаю историю, когда у него была связь с одной киноактрисой, не стану ее называть. Она улетела без мужа в Париж, а он, бросив все, махнул за ней следом, и они провели в Париже две бурные недели. Он за это втык получил в ЦК, чуть было не выкинули. Но зато это — поступок, красиво!
— Да, Стрем талант. Если разобраться, любая газета держится на двух-трех персонажах, а остальные так себе, гарнир. — Шор прикрыл выпуклые, голубые, с розовой каемкой, глаза, не оставляя сомнения, что он — тот второй, после Стремжинского, персонаж, на ком зиждется газета. — Стрем великий человек. Гений газетной политики… Ты дорожи его покровительством, — учил он неопытного Коробейникова. — Как знать, будет время, и ты сядешь в его кабинет.
Дверь отворилась. Секретарша показала свой тропический бюст и смуглое лицо взволнованной жрицы:
— Освободился!.. Срочно зовет вас к себе!..
Коробейников, тревожась, покинул военный отдел, последовал за полинезийской царевной в струях ее благовоний.
Когда вошел к Стремжинскому, тот опускал кулак с белой телефонной трубкой, и в воздухе еще висело эхо его сердитого голоса. Он был облачен в дорогой сиреневый джемпер, пиджак небрежно висел на спинке кресла. Стол был уставлен африканскими статуэтками, ритуальными масками, резным янтарем, — фетиши, среди которых лежала свежая газетная полоса, исчерканная энергичной правкой. Он поднял на Коробейникова выпуклые розоватые глаза раздраженного быка, фыркнул толстыми губами:
— Поздравляю, молодое дарование. Опять звонок из очень высоких сфер. Хвалят ваш очерк о дальней авиации. Такое ощущение, мой друг, что вас ведут. Отслеживают ваши публикации и сообщают мне. И это не ЦК, не Генштаб, а совсем другое ведомство. — Стремжинский его хвалил, но в этой похвале присутствовало раздражение к кому-то еще, кто пытался вмешаться в их отношения, присвоить себе успех, который принадлежал только им, делающим хорошую, влиятельную газету. — Ранний успех сладок, но опасен. На вас могут сделать ставку, выбрать одного из тысячи, наградить доверием, наделить полномочиями и использовать в какой-нибудь грязной жестокой операции. Журналистов используют как оружие при покушении, а потом уничтожают как опасную улику. Так поступили с Кольцовым после Испании. Так могут поступить с каждым из нас, если мы потеряем бдительность… — Он говорил это Коробейникову сердито, будто в чем-то его винил. Но была в его словах доверительность, заинтересованность, и это смягчало резкость интонаций.
— Что мне грозит? Какое ведомство хвалит мои материалы?
— Они затевают большую авантюру, проект «Пекинская опера», — не отвечал на вопрос Стремжинский, морща с отвращением мясистое лицо. — Они считают, что конфликт с Китаем отвлечет общественность от провала в Чехословакии. Конфликт с авторитарным Китаем дистанцирует нас от сталинской модели социализма и сохранит остатки «пражских ценностей». Они надеются, что конфликт с Востоком сблизит нас с Западом. Но они не понимают, что Америка ждет этого конфликта. ЦРУ спит и видит его. И тогда кто меня убедит, что не существует конвергенции разведок? Что две крупнейшие разведки мира не действуют согласованно, часто через головы своих правительств? Надеюсь, вы меня понимаете?..
— Признаться, нет. — Коробейников старался разгадать предложенный ему политический ребус. Одновременно наблюдал Стремжинского, который, казалось, вот-вот коснется фетиша — африканской маски с кусочком перламутра — и силой волшебства превратится в быка с сиреневым тучным туловом. Вокруг заплещется лазурное море. На бычью спину приляжет обнаженная красавица в венке из лилий, держась за рога, лаская косматое ухо. И они поплывут в Полинезию, наслаждаясь негой и близостью.
— КГБ, как тихий оползень, спускается на страну. Разведка вытесняет из политики партию. КГБ занимается вербовкой крупных партийцев и членов правительства, генералов армии и общественных деятелей, писателей и журналистов. Однажды мы проснемся в «стране КГБ». Госбезопасность тщательно готовит реванш, стараясь вернуть себе власть, утраченную Берией. Партию дискредитируют, искусственно создавая цепную реакцию неудач в политике и экономике. Как вы думаете, кто распространяет мерзкие анекдоты о генсеке? Кто заказывает телесериалы о героических чекистах? Кто плодит диссидентов, создавая в стране протестный слой? Предстоит громадная чистка всех, кто не поддался вербовке КГБ. «Реформы», которые они затевают, — «разрядка», «конвергенция» и еще одно модное словечко «перестройка», которое они запустили в оборот в своем узком кругу, — все это приведет к устранению партии и развалу государства. Они настраивают против Москвы лидеров Ташкента, Баку, Тбилиси, уличая их в коррупции, создавая из них злостных врагов государства. Есть тайные замыслы, тихие исполнители и очень-очень богатые люди, которые заинтересованы в смене строя, в изменении вида собственности — от государственной к частной. «Кружок» Марка Солима, в который вас затянули, находится под протекцией КГБ. Еще одна конспиративная ячейка, откуда начнется «революция КГБ». Вы должны это знать. Я хотел вас предупредить…
Он произносил опасные, невозможные слова. Нагружал этими словами Коробейникова, и тот не мог понять, для чего столь откровенен Стремжинский. Какова степень его отчаяния, если он доверяет столь крамольные мысли ему, мало знакомому, невлиятельному журналисту, которого однажды облагодетельствовал и рассматривает теперь как свое изделие. Обременяет знанием, которым Коробейников не может воспользоваться.
— Предстоит неизбежная схватка между партией и КГБ. Она уже происходит, однако носит закрытый, невидимый обществу характер. Но, уверяю вас, она неизбежно перейдет в открытую фазу. Вы, талантливый журналист, многообещающий писатель, не избегнете этой схватки. Вас заставят в ней участвовать. Я испытываю к вам симпатию и не хочу, чтобы вас гнусно использовал КГБ. Вступайте в партию. Уже говорил вам об этом. Вас знают в ЦК. Предстоит обновление кадров. Вступив в партию, вы обретете новую степень доверия. Вам будет обеспечена карьера. Вам будут даны гарантии, что помешают агентам и оперативникам КГБ манипулировать вами. Если хотите, я дам вам партийную рекомендацию…
Коробейникову было тяжело и неловко. Влиятельный, почитаемый им человек, которому был многим обязан, вовлекал его в борьбу, которой он не хотел. Своей тяжелой волей, брутальной энергией склонял его к выбору, которого он хотел избежать. Единственно, чего он хотел, к чему чувствовал влечение, — познать этот таинственный, увлекательный и опасный мир, чтобы обнаружить в нем благое начало. Пользуясь отпущенным даром, изображать этот мир так, чтобы усиливать в нем благодать, уменьшать опасность погибели. Для этого отправлялся в поход на авианосце, мчался в ночи на мобильной ракетной установке, разворачивал в небе полк бомбардировщиков, не пуская его на Гамбург.
— Я не могу принять ваше предложение, — сказал Коробейников.
— Почему? — гневно, нетерпеливо перебил его Стремжинский, наливая белки красным гневом.
— Я уже сделал выбор. Я крестился, и переживаемые мной состояния вполне достаточны, чтобы осмыслить картину мира. Я очень ценю ваше доверие. Ни в коей мере не желаю обидеть вас отказом. Откровенен с вами, как и вы со мной. Если вы считаете, что содеянное мной противоречит пребыванию в газете, я готов уйти. Хотя, поверьте, очень дорожу моей работой. Делаю ее с наслаждением, считаю нашу газету самой лучшей в стране.
Глаза Стремжинского превратились в выпуклые линзы, в которых переливался фиолетовый гнев.
— Вы? Крестились? И говорите это мне? Хотите мученичества? Подвига первохристиан? В Колизей на растерзание львам? Да вас вышвырнут с «волчьим билетом»! Вы получите репутацию полоумного диссидента, от вас станут шарахаться как от чумы, и местом ваших публикаций станут замызганные книжицы «самиздата». Вот тут-то вас и подхватят агенты КГБ. Сначала смертельно запугают, вынут душу, а потом завербуют. Будете доносить на своих «самиздатчиков». Одумайтесь, черт вас возьми! Второй раз не получите подобного предложения! Вы находитесь на перекрестке. Либо канете в никуда, в пошлость, в жалкое прозябание. Либо свечой вознесетесь к вершине успеха!
Стремжинский стал выбираться из-за стола, извлекал тучное, тяжелое тело. Мясистое лицо побагровело, тряслось от возбуждения. Быть может, он собирался топать на Коробейникова ногами, и ему нужен был свободный пол. Или хотел кричать и для этого подымался в рост, освобождая весь объем легких. Он еще не успел подняться, как зазвонил телефон, белый, с металлически блестящим гербом на диске — «кремлевка», соединяющая с важными абонентами. Все еще гневный, с жарко дышащими губами, снял трубку. По мере того как слушал, лицо его бледнело, тушевалось, сползало куда-то вниз. Приобретало сизый больной оттенок.
— Но для этого должны быть причины… Я готов приехать для объяснения… — Стремжинский слепо смотрел на Коробейникова, который выпал для него из фокуса. На секунду снова увидел, махнул рукой на дверь, предлагая удалиться, не желая, чтобы телефонный разговор был услышан.
Коробейников смущенно вышел. Не знал, прав ли был, доверив Стремжинскому свою драгоценную тайну. Не последует ли через несколько минут, когда его пригласят вернуться, короткий приказ об увольнении.
— Я пойду в военный отдел, — сказал он секретарше. Та угадала его растерянность, ободряюще прикрыла и снова открыла коричневые влажные глаза.
В кабинете у Шора сидели все те же. Была откупорена очередная бутылка «Мукузани». Ильенко по-прежнему владел вниманием слушателей, поражал воображение еще одной захватывающей историей из жизни вечного странника.
— И вот этот проклятый «Боинг» снова взлетает, после того как у него заменили двигатель, и опять летит в зону «бермудского треугольника». Я вижу сверху, как в океане медленно вращается огромная белесая спираль, словно вода уходит в воронку. Голова у меня начинает странно кружиться, будто накурился опиума. Смотрю на крыло и вижу, что двигатель горит. Из турбины — рыжий огонь и черный дым. Опять командир корабля объявляет возвращение в Майами. Аварийная посадка, садимся, и я знаю, что, если снова полетим в этот чертов «бермудский треугольник», у нас снова загорится двигатель…
Дверь открылась. Влетел заведующий экономическим отделом, маленький, хрупкий, с влажной лысиной. Ошалело оглядел собравшихся:
— Слышали новость? Стрема уволили!
— Да что ты городишь? — отмахнулся Шор.
— Только что ему позвонил секретарь ЦК и потребовал, чтобы тот написал заявление!
— Как ты узнал?
— Секретарша Лиля рыдает. Стрем собрался и срочно куда-то уехал. По моим каналам в ЦК проверил — все правильно. Уволен в одну минуту. Выдернули, как гвоздь.
— Как гвоздь, — повторил Шор. Его лицо изобразило сложную геометрическую теорему, которую он секунду доказывал. Перемешал на лице оси симметрии, дуги, биссектрисы. Восстановил поколебленные пропорции, торжественно демонстрируя результат: — Было бы за что. Баб у себя в кабинете драл. Этой Лильке из загранкомандировок золото привозил. Теперь ее вместе со Стремом в курган закопают, как кобылу мертвого князя. Да и вообще, — он покосился в сторону Коробейникова, — фаворитам будет несладко. Кому-то, видимо, придется уйти. Я давно слышал, что тучи над ним сгущаются. Мы все, конечно, не ангелы, но ведь есть же моральный облик…
Коробейников покидал редакцию, ошеломленный падением Стремжинского. Связывал случившееся с их незавершенной беседой. «Как гвоздь» — звучало эхо. Он физически ощущал молниеносную, резкую силу, которая ворвалась в кабинет и вырвала Стремжинского с корнем.
45
Утром позвонил отец Лев. Его голос показался родным, долгожданным, был исполнен нежности и любви:
— Миша, вечером непременно с тобой повидаемся. День у меня пройдет на конгрессе. Я делаю важное сообщение — о предрасположенности Древней Руси к принятию христианства. Это сообщение в виде статьи выйдет в православном сборнике. А вечером приезжай ко мне в гостиницу «Украина», номер шестьсот двенадцать. Перекусим в ресторане и вдоволь побеседуем. Я тебя очень люблю…
Этот родной, преисполненный нежности голос вернул Коробейникову недавнее просветленное состояние. Мир снова показался бесконечным светящимся объемом, в котором среди света двигались разрозненные темные тени, не заслоняя источника чудесных лучей. И смысл жизни открывался как задача преодоления этих непрозрачных материй, превращения их в благодатный свет.
Эти размышления были прерваны телефонным звонком. Звонил Саблин, как ни в чем не бывало. Голос веселый, дружелюбный, чуть насмешливый, предполагавший незлую шутку — над собеседником, над самим собой, над всем белым светом:
— Мишель, я соскучился. Мне кажется, в моем отношении к вам есть что-то женское. Люблю, ревную, сержусь, склонен к ссоре, к раскаянию. Наше последнее свидание в бане было неудачным. По моей вине. Какой-то бес на меня напал. Уж вы меня извините. Очень хочу повидаться. Объясниться от чистого сердца…
Звонок был неприятен Коробейникову. С Саблиным не хотелось встречаться. Случившееся между ними казалось необратимым. Но снизошедшее на Коробейникова новое мировоззрение предполагало прощение, смирение, возложение всей вины на себя самого, признание своего несовершенства. Вернувшись из Тесова, он решил гармонизировать свою жизнь, не исключая из нее больные моменты, но одухотворяя их благодатным светом Христовой любви.
— Хорошо, Рудольф, повидаемся. Ко мне приехал друг, отец Лев, приходский священник. Он остановился в гостинице «Украина», в номере шестьсот двенадцать. Приходите туда к семи часам вечера. Мы перекусим втроем, а потом я удалюсь с отцом Львом для обсуждения важных для нас обоих тем.
— Непременно буду, Мишель. Вы благородный, добрый, не помнящий зла. Номер шестьсот двенадцать. Я учился в школе шестьсот двенадцать. Какие совпадения! Если ты религиозный человек, для тебя нет случайных совпадений, а во всем — знак Божий. Буду думать, что бы могло означать это совпадение номеров. До вечера, Мишель, обнимаю…
И пропал, обозначив свое присутствие в светоносном объеме мира непрозрачной тенью.
Еще одна тень витала в этом благодатном объеме — неожиданное увольнение Стремжинского, которое необъяснимым образом касалось и его, Коробейникова. Он решил пойти в газету и выяснить детали происшедшего.
Его поразила перемена, случившаяся с секретаршей. Исчезла волшебная красота, пленительная томность, ленивая обольстительность. Вместо экзотической жрицы тропических рощ и лазурных лагун за столом сидела немолодая, утомленная женщина в неряшливо застегнутой блузке, с плохо убранными волосами. Лицо без макияжа и грима было пухлым и бледным, с голубоватым больным оттенком. Над губами и на переносице обозначились не видимые доселе морщинки, какие возникают на сочных фруктах, если те, оторванные от питающего черенка, долго лежат на солнце. Было видно, что увольнение Стремжинского является для секретарши личным несчастьем, что подтверждало давно известный факт: секретарша и ее шеф составляют классическую, нерасторжимую пару, подобно живописцу и модели, палачу и жертве, писателю и редактору. Каждый обретает смысл, будучи включенным в эту пару, и уменьшается, погибает, выпадая из нее.
— Ой, не знаю, что теперь будет, — удерживая слезы, по-бабьи махнула рукой секретарша, видя в Коробейникове огорченного и сострадающего человека. — Сегодня утром пришел, собрал все вещи. «За что, говорит, не знаю. Какая-то клевета и донос». Побледнел, схватился за сердце, думала, инфаркт, кинулась врача вызвать. А он говорит: «Не надо. Медицина бессильна перед предательством». И ушел…
В кабинетах редакции только и говорили о случившемся, с сожалением, страхом и необъяснимым тайным злорадством. Словно крушение яркого, властного, бесцеремонного начальника уравнивало его с теми, над кем он до этого возвышался.
— Вы знаете, он позволял себе недопустимые вещи. В Бухаре, на приеме у первого секретаря, у «эмира бухарского», когда кругом сатрапы, вассалы, восточные яства, ковры, танцовщицы, Стрем подымается и произносит тост в честь хозяина: «В Америке, говорит, входит в моду новшество. Берется сперма у выдающихся, талантливых людей, помещается в капсулу и замораживается в жидком азоте. Чтобы потом использовать ее при искусственном осеменении. Наш хозяин — выдающийся человек, талантливый политик, колоритная фигура этих колоритных восточных пространств. Будь моя воля, я бы поместил его сперму в пробирку, заморозил и сохранил для будущих поколений». Можете себе представить, какая разверзлась тишина. Не исключаю, что об этом эпизоде доложили Рашидову, а он потребовал убрать Стрема за оскорбление узбекского народа…
— Нет, тут другое. Он замешан в валютных операциях. Его частые поездки в Западную Германию позволяли вывозить большое количество валюты. И теперь ее недосчитываются. Везде деньги, меркантильный интерес…
— Каково ему с такой высоты плюхнуться оземь! Ни дачи, ни машины, ни пайка, ни «вертушки», не говоря о поликлинике. Пусть походит пешком, потрется в троллейбусе в час пик. С чего начал, к тому и пришел…
— Я спросил приятеля из ЦК: неужели нельзя было заступиться за Стрема? У него такие связи, такие дружбы. А он мне: «Решение было принято на таком уровне, что всякое заступничество бесполезно…»
Коробейников вслушивался, старался угадать причину, сокрушившую Стремжинского. Но на ум приходила только строчка из «Бориса Годунова»: «Как буря, смерть уносит жениха…»
К вечеру он отправился в гостиницу «Украина», где поселился отец Лев и куда для краткого свидания должен был явиться Саблин. Белые свежие огни горели на набережной. Решетка Москвы-реки была в пышном инее. От полыньи шел пар, и в ней плавали не улетевшие на зиму утки. Небоскреб гостиницы уходил ввысь, как остроконечная гора из розового льда. Перед порталом разворачивались такси, выходили жизнелюбивые иностранцы, вытаскивали из багажников набитые саквояжи и диковинные чемоданы на колесиках.
Коробейников вошел в гостиницу, предъявив портье редакционное удостоверение. Навстречу попался монах в черной мантии и приплюснутой шапочке, видимо православный грек. Это подтверждало присутствие где-то поблизости отца Льва. Проходя мимо ресторана, услышал музыку, пропустил перед собой двух кавказцев, сопровождавших накрашенных, настроенных развлекаться женщин. Поднимался на лифте, радуясь свиданию с другом, намереваясь объяснить ему, почему пригласил на свидание Саблина.
Постучал в дверь с номером 612. Услышал в ответ резкий, трескучий голос, каким в провинциальных спектаклях восклицают бражные купцы. Вошел, и в лицо ему ударил густой дух табака, вина, ваксы. Отец Лев сидел, развалившись на стуле, откинув рясу, выставив ярко начищенный офицерский сапог. Большой серебряный крест косо висел на груди. Дымил сигаретой, разжигая ее красный уголь. На столе стояла почти пустая бутылка коньяка, два мокрых стакана. Глаза отца Льва сверкали безумной, восторженной синевой. Золотая борода сходила на клин, а усы браво и победно топорщились. Во всем его облике было нечто странное, безумное, несуразное, смесь гусара и сельского батюшки, провинциального гитариста и богослова.
— Ба-ба-ба, кто пришел!.. Мишенька, друг мой, заждался тебя, да и только. Разве так можно заставлять себя ждать! — Коробейников увидел, что отец Лев абсолютно пьян. — Садись, брат, хочу принять тебя в этой меблированной комнате и выпить за твое здоровье! — Он потянулся к бутылке, но из нее пролилась жалкая струйка, и он раздраженно откинул ее на кровать. — Торичеллиева пустота! Я заметил, что бутылки имеют странное свойство опустошаться, но никак не наполняться!..
Это было ужасное зрелище, знакомое Коробейникову по прежним временам их дружбы. Левушка, поглощая немереное количество вина, на глазах превращался из увлекательного мыслителя, обаятельного собеседника в пьяного гуляку, дурного забулдыгу, склонного к нелепым выходкам. Казалось, что после принятия сана винная пагуба оставила его навсегда. Поселившись в Тесово в дальнем приходе, посвятив себя служению, он избавился от греховной напасти, одолел свое пьянство. Но теперь оно вдруг вернулось, и не было в его облике ничего от духовного отца, смиренного пастыря, аскетического богослова, но вновь проснулся загульный аспирант, компанейский бражник, декламатор Игоря Северянина, исполнитель цыганских романсов.
— Левушка, что ты с собой наделал! Тебе нельзя пить! Ты рухнул!
— Никак нет, стою, как Александрийский столп! Не вино владеет мной, а я им. Хочу пью, хочу не пью!
Коробейников страдал, созерцая грехопадение друга. Нуждаясь в его пастырской помощи, хотел поделиться с ним новым опытом, чья суть — любовь, раскаяние, упование на благодать. Но теперь отец Лев не мог быть помощником. Не являлся пастырем. От него исходила разрушительная сила — из того самого центра, откуда должна была изливаться благодать.
— А как же твой сан? Священство?
— Какой русский поп да не пьет! Кстати, твой знакомый, Рудольф, презанятный персонаж. Он, оказывается, кадет, офицер и весьма аристократических взглядов. Как и я, ненавидит коммунистов. Мы даже несколько раз возопили: «Долой КПСС!» Конечно, у него предрассудки, германофильские настроения, но это все искания. Я пригласил его к себе в Тесово. Пусть приезжает, и я его окрещу! — Сигаретный пепел валился на рясу, и ткань начинала дымиться.
Коробейников постигал случившееся. Саблин успел здесь побывать. Его мутная тень витала под потолком и в углах. Он обольстил отца Льва, напоил, ввергнул в погибель. Тем самым лишил Коробейникова духовной опоры. Осквернил тот невидимый источник благодати, из которого собирался пить Коробейников. Вылил в источник нечистоты.
Это было ужасно. Саблин, которого он собирался простить, гармонизировать их отношения, явился и совратил отца Льва. Саблин был дьявол, искуситель, воплощение зла. Действовал через него, Коробейникова, и его приобщая ко злу. Это было невыносимо.
— Я пойду. Мне тяжело здесь оставаться.
— Ни в коем случае! Ты же не можешь оставить меня в таком состоянии! Мы должны о многом поговорить. Видишь ли, сегодня я зачитал весьма важный доклад. Его основная мысль — славяне Древней Руси были предрасположены к христианству, своим кротким нравом, светлой, хотя и языческой, верой открывали путь учению Христа. Доклад прозвучал весьма эффектно. Меня поздравляли. Владыка Питирим сказал, что в моем лице русское православие обретает новое историко-религиозное светило… Так что, брат, ты не посмеешь оставить меня одного. Хочу разделить с тобой, моим любимым другом и духовным чадом, радость успеха. Пойдем-ка, брат, в ресторан, перекусим.
— Тебе нельзя в ресторан в таком виде.
— Ерунда. Мой вид вызывает почтение. Вот увидишь, почтение к сану обеспечит нам достойные места в ресторане. — Он встал, пошатнулся, ухватился за край стола. — Важно найти точку опоры. Архимедов рычаг. Дайте мне рюмочку коньяка, и я переверну весь мир.
Они вышли в коридор. Отец Лев в рясе, с крестом, опустив глаза долу, шествовал к лифту. Коридорная поклонилась ему, и он милостиво приподнял с груди крест, осеняя добродетельную служительницу.
— Сердобольная самаритянка, — ухмыльнулся он, когда они оказались в лифте. По-гусарски схватился за ус, сильно скрутил, превратив окончание в золотой завиток. При этом на губах его мелькнула куртуазная улыбка, а синие глаза стали шальными и бесшабашными. — Спустимся в сие гиблое место и изгоним беса из его обиталища!
Ресторан был полон. Играл оркестр. Какой-то кавказец исполнял лезгинку, лихо взмахивая руками, кружась и виртуозно заплетая ноги. Это означало, что за столиками было выпито много вина, веселье охватило весь ресторан, становилось общим.
Войдя в зал, отец Лев воодушевленно оглядел многолюдье, жадно всасывая воздух сквозь бороду, словно наслаждался полузабытыми ароматами, впитывал запахи удалой молодости. На него смотрели, указывали пальцами. Ему нравилось оказаться в центре внимания, нравилось поразить ресторанную публику своим облачением, серебряным крестом на цепи. К ним подошел метрдотель, слегка озадаченный необычным гостем.
— Любезный, — попросил его отец Лев. — Сделай-ка нам два места, и, если можно, за отдельным столиком.
— Видите ли, мест нет, — замялся метрдотель.
— Любезный, я тебя попрошу…
Метрдотель что-то почувствовал в этой барственно-доверительной просьбе. Любезно сгибаясь, проводил их за уютный, около колонн, столик.
Официант, сама любезность, принял заказ. И скоро появился графинчик с коньяком, рыбница с лепестками семги и кружками лимона, блюдце с маслинами. Горячие порции были обещаны позднее. Коробейников не сопротивлялся, не перечил, не мешал отцу Льву наполнять рюмки. Оглушенно, покорно отдавал себя во власть злу, которое сам же и накликал, доверившись бесу.
Эстрада на время опустела. Оркестр, перестав оглушать своими гитарами, ударниками, синтезаторами, удалился на отдых. Наступившая тишина, прерываемая тостами и смехом за соседними столиками, побуждала отца Льва говорить:
— Миша, милый, что я хотел сказать… Вынашивал в деревенской глуши мысли о тебе… — Отец Лев жадно выпил рюмку. Зажмурился, закрыл глаза. Снова открыл, но лишь один глаз, синий, хмельной, безумный. — Тебе, брат, не нужно уходить из мира, хотя ты и «не от мира сего»… Оставайся в миру, как Алеша Карамазов, и в этом сатанинском вертепе, вот именно в этом, этом, — он обвел пальцем ресторанный зал, — проповедуй Господа… А я тебе помогу… Я тебе помогу… — Он открыл второй глаз, такой же огненно-синий, безумный, озирая зал, но не гневно, не испепеляюще, а любовно, ревностно, как озирают отчий дом, куда возвращаются после долгих странствий. — А я, брат, решил, — постригусь… Строгим постригом… Если Андроника меня отпустит, даст развод, не замедлю постричься… И, знаешь, Мишенька, какая у меня заповедная мечта?.. Стать насельником Ново-Иерусалимского монастыря, где непременно, Божиим Промыслом, будет восстановлена обитель, и я поселюсь в той самой келье, где мы столько раз с тобой встречались, спорили, отыскивая, каждый по-своему, путь к Богу… И когда-нибудь, в старости, ты, исполнив в миру свой долг, пострижешься и приедешь ко мне, и я обниму тебя на пороге нашей кельи… — Он снова налил из графинчика и жадно, не закусывая, выпил.
Коробейников чувствовал, как сгущается беда. Являлась мысль вскочить, утянуть за собой отца Льва. Крикнуть официанту, чтобы не смел приносить коньяк. Крикнуть метрдотелю, чтобы помог отвести отца Льва на этаж, в номер. Но не было воли. Он был парализован тончайшими, разлитыми в воздухе ядами. И этот ресторанный воздух, сизый от дыма, испарений вина и пищи, тлетворного запаха духов и горячего пота, был пропитан бесовскими силами. Бес, невидимый, вездесущий, вселялся в пространство, во все целиком и в каждый малый его ломоть. Коробейников чувствовал присутствие беса, как уплотнение воздуха, в котором невозможно двинуться с места, будто воздух становился бетонным. Бес был повсюду. В пепельнице, куда отец Лев судорожно совал горящую сигарету. В рюмке, где блестели желтые капли коньяка. В красном, квелом лепестке рыбы. В графинчике с отвратительной скользкой жидкостью. Бес витал под потолком вокруг пепельно-мутной хрустальной люстры. Был в накрашенной белокурой женщине за соседним столиком, что хохотала, открывая голую шею. В плотоядных глазах ее кавалера, ухватившего волосатой рукой ее пухлую, усыпанную кольцами пятерню. Бес овладел официантом, в черно-белом одеянии похожим на пингвина. Метрдотелем, зорко, круглым ястребиным оком озиравшим свое заведение. Бес подбирался к большому серебряному кресту на цепочке, который шевелился на рясе отца Льва, словно его раскачивали невидимые косматые лапки.
— Тысячу раз прав Достоевский… Русский человек грешен, и любит свой грех, и тешится этим грехом, и с этим грехом летит в тартарары, в бездну, в погибель. Но, падая, обращает свой взор ко Господу и говорит: «Господи, посмотри, сколь мерзок я и смраден… Нет мне прощения… Не щади меня, Господи… Я заслужил гнев Твой… Казни меня». И, сказав это, продолжает грешить еще пуще, по-русски, без удержу, и, убыстряясь, летит в преисподнюю…
Разглагольствования отца Льва были прерваны появлением оркестра. Саксофонист, щегольской, лысый, с кручеными бакенбардами. Ударник со страусиной шеей, повязанной тонким галстучком. Гитарист в малиновой блузе, с черными усиками, похожий на знойного пуэрториканца. Ударили громогласно визжащую, стенающую музыку, заглушающую все остальные звуки. На подиум вышла певица, с открытой грудью, белая, с огненной помадой, черными наведенными бровями, что превращало ее лицо в сладострастную маску. Придвинула стебелек микрофона и громко, манерно, чувственно двигая ртом, запела модный ресторанный шлягер, под который хорошо побросать недопитые бокалы, недоеденные закуски, сорваться с места, кинуться в сумрачно-золотой, пьяный воздух, поближе к этому поющему, горячему рту. Прижиматься друг к другу в танце, пьяно целоваться, а потом, в неудержимой гульбе, заскакать, выталкивая вперед обезумевшие ноги. Дергаться, яриться, потеть, поскальзываться. Победно, с ощущением удальства и неотразимости, вести свою разгоряченную даму за столик, успевая больно и сладко прижать ей бок.
Все это происходило в зале, который весь разом сорвался с места и пошел ходить ходуном под шаманский бой ударника, болезненное нытье саксофона, рваные ритмы гитары, сладострастный, утробно-похотливый голос певицы.
— Красотка кабаре, — сквозь какофонию крикнул Коробейникову отец Лев, закручивая лихо ус. Притопывал под рясой сапогами, подергивал плечами, и было видно, что его неудержимо тянет пуститься в пляс.
Коробейников чувствовал разлитую вокруг субстанцию беса, неолицетворенного, пронизывающего собой живую и неживую материю, делающего ее ядовитой, огненной, жгучей, как прикосновение крапивы. Этим бесом был Саблин, хотя нигде не было видно его хохочущего лица, беспощадных глаз, язвительной улыбки. Но он был повсюду и всем. Липким, замшелым воздухом, влажным от пота и духов. Мокрыми зубами певицы в ее раскрытом темно-красном зеве. Хохочущей женщиной, у которой под мышками платья проступили влажные пятна. Пеплом на сигарете отца Льва, который он забыл стряхнуть, весело глядя на кавказца, обнимавшего разгоряченную соседку. Саблин был вездесущей субстанцией, которую вдыхал Коробейников, наполняя легкие парализующей тлетворной сладостью.
Танцующие в изнеможении разбредались по местам. Отец Лев стряхнул пепел, роняя его на скатерть. Схватил сигарету губами и жадно вдохнул. Коробейников увидел, как разгорается уголь в табаке, всасывается в глубь сигареты и через нее — в рот отца Льва. Воздух вокруг сигареты превратился в плотную закрученную воронку. Сквозь эту воронку бес, порождая в воздухе вибрацию, уплотнился и, как веретено, ввинтился в отца Льва. Вселившись, тут же сообщил ему силу, бодрость, офицерскую стать.
— Любезный… — поманил он официанта. — Возьми-ка вот это. — Он сунул официанту купюру. — Отнеси, любезный, в оркестр и попроси-ка их спеть что-нибудь нашенское, русско-цыганское… «Ехали на тройке с бубенцами…» — изящным взмахом отослал официанта, как полководец отсылает в бой полки.
Коробейников видел, как официант подошел к подиуму. Передал гитаристу купюру, что-то сказал. Гитарист ловко сунул деньги в малиновую блузу. Вздернул в улыбку щегольские карибские усики, приблизил рот к микрофону и произнес:
— По просьбе присутствующего здесь батюшки, уважаемого святого отца, исполняется романс былых времен: «Дорогой длинною да ночкой лунною…» — томно закрыв глаза, извлек из гитары рыдающий звук. Этот звук подхватила певица. Сложила на груди молитвенно руки, мучительно воздела брови, словно напев будил в ней дивные, неповторимые воспоминания.
Зал замер, внимая романсу. Романс, заказанный батюшкой в черной рясе с серебряным крестом на груди, порождал домыслы о загадочной судьбе священника, который, должно быть, прежде был боевым офицером, отчаянным гулякой, обольстителем женщин, но после таинственной истории, трагического случая, несчастной любви оставил мир. Сменил офицерский мундир на рясу. И только здесь, оказавшись случайно в ресторане, дал волю чувствам. Захотел услышать романс, под звуки которого столько было пролито слез, столько выпито вина, целовано столько сладостных губ.
«Так же вот без радости и скуки помню я ушедшие года и твои серебряные руки в тройке, улетевшей навсегда…» — заходилась певица, превращая рот в красный эллипс.
Отец Лев соответствовал представлению о себе зала. Закрыл ладонью глаза. Облокотился на локоть, уронив подбородок на ладонь. Откинулся назад, трагически мотнув головой. Коробейников видел, как поселившийся в нем бес разыгрывает сцену провинциального дурного театра. Бес закатывал в неутешной печали глаза. Бес хватался рукой за сердце, в котором воскресла незабытая больная любовь.
Зал наслаждался спектаклем, верил в него, не отрывал глаз от священника. Когда певица умолкла, все зааплодировали. От одного столика, где сидели сентиментальные и пылкие горцы, официант понес и поставил перед отцом Львом бутылку шампанского.
— Асс-падааа!.. — Отец Лев, шатаясь, приподнялся. Грассируя, изображая петербургского аристократа, обратился к залу и к оркестру. — В наши времена, асспадааа, была иная манера исполнения… Иной шарм, иной вокал… Если позволите, я вам исполню… — с трудом удерживаясь на ногах, к великому ужасу Коробейникова, двинулся к эстраде. Задрал рясу, обнажив сапог. Неловко впрыгнул, едва не упав, поддержанный гитаристом. — Любезный, — помотал он в воздухе пальцами, — си бемоль мажор… Полагаю, ты подхватишь мелодию… — ухватил микрофон. Вонзил в него растопыренные усы. Безобразно оскалил рот и выдохнул сумасшедшие хмельные слова: — «Друзья, на тройке, полупьяный, я часто вспоминаю вас, и по щеке моей румяной слеза катится с пьяных глаз…»
Он помогал себе жестом, смахивал слезу, погонял лошадей, посылал воздушные поцелуи пролетавшим мимо красоткам. Ресторан ликовал, радостно ревел, хлопал, высвистывал. Это побуждало отца Льва петь громче, жестикулировать энергичней. Пленять, ослеплять, царить на этой упоительной эстраде.
— «Я пью и в радости и в скуке, забыв весь мир, забыв весь свет. Беру бокал я смело в руки, пью, горя нет, пью, горя нет…»
Он показал, как подносит к губам пенный бокал шампанского, выпивает до дна, а потом разбивает по-гусарски об пол. И это великолепно воспринималось залом. Он и впрямь был великолепен в своей развевающейся рясе, наперсном кресте, с удалыми глазами, орущим ртом, который, путая и коверкая слова, ходил ходуном в пьяных гримасах. Утоляя неистовую, жившую в нем страсть.
— «Не раз, проснувшись на рассвете, я спозаранку водку пил и на цыганском факультете образованье получил…»
Кончил петь. Стал раскланиваться, низко сгибаясь в поясе и роняя руки, каким-то особым, бог весть откуда в нем взявшимся эстрадным поклоном. Зал восторженно ревел. Кричали:
— Бис!.. Батя, давай еще!.. Врежь по полной, вот тебе сотенная!..
Теневики, сидящие в зале, торговцы кавказскими фруктами, командированные инженеры из Сибири, московские матери-одиночки, пришедшие скоротать вечерок, профессиональные куртизанки — все ликовали. Старались запомнить представление, чтобы потом многократно пересказывать, изумляя неверящих друзей и подруг.
У Коробейникова звенело в ушах — так раскален был воздух, в котором носился бес. Перепрыгивал на гибких ногах со стола на стол. Возносился и качался на люстре. Кидался на штору и повисал на ней. Скакал среди столов, запуская ловкую руку за вырез дамского платья. Сыпал в бокалы приворотную отраву. Вскочил на плечи отца Льва, поставил ногу ему на голову, хохотал и кривлялся, празднуя победу.
— Асс-падааа! — возопил отец Лев. — На «бис» так на «бис»!.. Как это водилось у нас на пляс Пигаль… Канкан, маэстро! — приказал он оркестру. Приподнял рясу, как долгополую юбку. Стал выбрасывать вперед сапоги, вилял непристойно бедрами, колыхал вперед и назад животом: — Север, юг, восток и запад!.. Север, юг, восток и запад!..
Коробейников видел, как встревоженно пошел куда-то метрдотель. Официанты сошлись стенкой, как футболисты, сурово поглядывая на расходившегося священника. Но зал ликовал. Поощряемый залом, отец Лев не унимался:
— Братья и сестры, а теперь я хочу обратиться к вам с проповедью, с какой обычно обращаюсь к моей скромной, смиренной пастве… Почитайте Бога, Отца нашего Иисуса Христа!.. Почитайте родителей своих и Святейшего патриарха… И не давайте поблажку этой мерзкой власти!.. Долой КПСС!.. Вечная память героям Белого движения!..
В зал влетел метрдотель, и с ним два милиционера. Направились к эстраде.
— Слава Долорес Ибаррури!.. Они не пройдут! — указывал перстом на милиционеров отец Лев. Те подбежали, стали сволакивать его с эстрады. Он отбивался сапогами, путался в рясе, выкрикивая:
— Аз есмь Альфа и Омега!.. Братья, любите друг друга!.. Будьте бдительны!..
Его выволокли в вестибюль. Коробейников устремился следом.
— А кто будет платить? — преградил ему дорогу официант. Коробейников, не считая, кинул на стол купюры.
В коридоре милиционеры тащили отца Льва к выходу, пугая изумленных иностранцев.
— Куда вы его?.. Он живет здесь, в гостинице… Это уважаемый человек… Просто перебрал… — пробовал урезонивать милиционеров Коробейников.
— Не надо перебирать, — зло огрызнулся сержант, крутя отцу Льву руку. — Вот полежит в вытрезвителе ночку, там и вспомнит, что уважаемый.
Вытащили отца Льва на мороз. Перед порталом стоял серый милицейский фургон, куда и затолкали упиравшегося, голосившего священника. Фургон задымил, покатил.
Коробейников поспешно поместился в «Строптивую Мариетту», поехал следом. Видел, как сквозь решетчатое оконце фургона выпрыгнул бес. Отряхнулся, принял респектабельный вид. Походкой Саблина, играючи, помахивая невидимой тростью, пошел по набережной, под свежими морозными фонарями.
Вытрезвитель, куда он приехал вслед за фургоном, помещался в одноэтажном бетонном строении, за железной решеткой. Охрана его не хотела впускать, но он настоял, чтобы его связали по телефону с начальником вытрезвителя. Начальнику он объяснил, что является корреспондентом центральной газеты, и ему нужно увидеть, а если возникнет необходимость, то и описать, как обращаются в вытрезвителе с клиентурой. Начальник принял его в кабинете, выкрашенном мышиной масляной краской, с портретом Брежнева на стене. Молодой майор милиции был свеж, приветлив, с яркой улыбкой, напоминавшей Юрия Гагарина.
— У нас не место наказания и заключения, а место спасения и исцеления. Знаете, сколько людей погибло бы от мороза под забором, если бы не наши работники? Подбираем, отогреваем, отмываем, даем препараты. Мы — санитары города, вот кто мы! — пояснил майор, рассматривая редакционное удостоверение. — Вы можете пройти в изолятор, понаблюдать процедуры. Я позвоню.
В приемном отделении за стойкой находился служитель в белом медицинском халате, из-под которого выглядывала синяя милицейская форма. Он перебирал какие-то мятые билетики, ключи, скомканные рублевки, прятал все это в бумажный конверт. На голой лавке сидел пьяный старик в мокрых измызганных брюках. Второй служитель, тоже в халате, стягивал с него драные носки, дырявый заляпанный свитер. Расстегивал на тощем животе ремень. Сильными, как крючья, руками сдирал с пьянчужки штаны. Тот не сопротивлялся. Бесформенно, жидко, как кисель, колебался на скамейке от толчков служителя. Открывал, как рыба, беззубый, со слюнявыми деснами рот.
— Вино, оно ведь прелесть, — разглагольствовал служитель за стойкой, видимо адресуя свои суждения Коробейникову. — Вино нам природа дала для удовольствия. — Он делал на конверте надпись. Второй служитель выворачивал у скомканных брюк карманы, и на пол падал грязный платок, обгрызенный плавленый сырок, мокрая медная мелочь. — Вино — это прелесть, если его пить понемногу. Дегустировать в хорошей компании, с шашлыком, или с любимой женщиной. А они вон в обезьян себя превращают.
Второй служитель поднял старика, как куклу, и повлек в душевую, где шипела вода. Старик в объятиях санитара волочил ноги, изгибал хилый хребет, валил на сторону голову.
Коробейников оставил приемный покой и вошел в палату. Голая, с масляными стенами и потолком, она была уставлена железными одинаковыми кроватями, над которыми, с легким потрескиванием горели люминесцентные лампы. Их лунный, мертвенный свет озарял призрачных голубоватых людей, занимавших койки. Все были одинаковы, без возраста, с одинаковой мукой в лице. Накрытые одинаковыми грубыми одеялами, они подергивались, шевелились, по их телам пробегали конвульсии, они издавали мычания, всхлипывали, что-то несвязно бормотали. Казалось, это были мертвецы, и шевеление производили шевелящиеся в них черви.
Было ужасно в этом боксе, напоминавшем фабричный цех с одинаковыми станками, куда укладывали мертвецов, облучали тлетворным светом, выращивали в них червей, дожидаясь, когда черви прогрызут дыры и скользкими комками станут вываливаться на кафельный пол.
Он увидел отца Льва. Тот лежал лицом вверх, голый по пояс. Глаза были полны синеватого жидкого мыла, которое сочилось по щекам. Борода и усы были мокрые, ржавого цвета, свалялись и слиплись. Худые плечи остро и немощно выступали наружу. Ключицы казались голыми, костяными, без кожи. Ребра были резко прочерчены, как на плащанице с усопшим Христом. Из-под скомканного одеяла торчали нечистые ступни, и на одной химическим карандашом была начертана цифра «12».
Его вид напоминал картину «Снятие с креста». Химическая надпись на ступне свидетельствовала о мучениях и надругательствах, когда беспомощное тело заталкивалось под ледяной брандспойт, силой опрокидывалось на железный одр, и санитар, как на ящике, грубо, химическим карандашом, наносил порядковый номер.
Вид поверженного друга горестно ошеломил Коробейникова. Отец Лев, еще недавно светящийся, благостный, в золотом облачении, протягивал ему чашу, целовал нежно в лоб, окружал любовью и обожанием. Теперь же валялся в позоре, беспомощный, богооставленный, сброшенный к мертвецам. И это он, Коробейников, был причиной его беды. Через Коробейникова, как сквозь пустую тростниковую дудку, проскользнул дьявол, подкрался к отцу Льву, опрокинул на железный одр. Сознание страшной вины, чувство невосполнимой потери, которой завершилась его благостная и наивная вера, были невыносимы. Беда, причиной которой он стал, присутствовала в этом боксе. Присутствовала в отце Льве. Подкрадывалась к его милым и близким. Ею был полон город, в котором, по снежным улицам, мимо нарядных витрин, играя тростью, опушенный серебристым бобровым воротником, шел Саблин, весело напевая арию из оперетки, в его выпуклых ястребиных глазах во всей красе переливался вечерний Арбат, где свежие фонари были источником беды.
Отец Лев вдруг начинал бормотать, грудь его мелко дрожала, из бледных губ вырывались церковные речитативы.
Казалось, он борется со своей погибелью, взывает о помощи. Хочет пробиться сквозь низкий масляный потолок, мертвенный люминесцентный свет. Воспрять из царства мертвецов к чистому небу, где ожидает его прощение, протягивает любящие руки Спаситель. Но вдруг лицо его искажалось безумной гримасой, он начинал дергаться, пытался сбросить с себя одеяло. Казалось, на него налетает свирепая сила, сбрасывает обратно на железную койку, и он, пробитый беспощадным острием, корчится, исторгая из себя безумные клики.
— Благословлю Господа на всякое время… Хвала его во устех моих… Хлеб небесный и чашу жизни вкусите и видите, яко благ Господь… — силился он восстать и изжить из себя смертельный недуг. Хватался за тонкую, опущенную из неба нить. Но тут же налетал огромный, с обнаженной саблей, красный конник и рубил наотмашь, отсекая спасительную нить. — Эх, тачанка-ростовчанка, наша гордость и краса… пулеметная тачанка, все четыре колеса…
Дух Саблина, его неистового деда, несся мимо горящих деревень и разрушенных храмов. Залетал в Тесово, где крестился Коробейников. Тысячью сабель иссекал в клочья зеленую ризу Иоанна Кронштадтского. Перерубал золоченую ниточку, опущенную с небес.
— Левушка, — обнял друга Коробейников. — Что же с нами творится?.. Очнись, это я, Михаил…
Отец Лев умолк, грудь его перестала хрипеть. С трудом обратил на Коробейникова глаза, стараясь рассмотреть его сквозь синее липкое мыло.
— Миша, друг… — жалобно произнес и заплакал.
46
Коробейников шел по Кропоткинской, спускаясь к бульвару, мимо особняков, белых колоннад, ампирных фасадов. Улица, запорошенная снегом, в вечернем блеске, казалась драгоценной, нежно-белой, вызывала в душе детские воспоминания. Внезапно пахнуло мандаринами. Видно, кто-то впереди, на ходу чистил оранжевую кожуру, ломал пахучие дольки. Этот пряный запах среди морозного города напомнил, что приближается Новый год. В Москву станут свозить елки, развернут в подворотнях елочные базары. Он купит колючую зеленую красавицу, принесет на плече домой обмотанное веревкой дерево, в комнатах запахнет хвоей, мандаринами. Все вместе они станут наряжать елку, развешивать на ней, к ликованью Настеньки и Васеньки, стеклянные шары, серебряный дождь, бумажные хлопушки. Водрузят на макушку стеклянную хрупко-сверкающую иглу.
Это радостное переживание длилось мгновение. Сменилось тревогой, чувством опасности. Словно рядом притаилась беда — тихая молчаливая птица с длинным клювом. Спряталась за белыми колоннами, мимо которых он проходил, и сейчас высунет острый клюв, ударит в затылок. Это чувство беды не исчезало с тех пор, как отец Лев, униженный и несчастный, купив бутылку водки, поцеловал его на прощанье пьяным поцелуем на перроне Белорусского вокзала. Уехал в Тесово, унося свою пагубу, которая станет его сокрушать и квелить[5] в сельской глуши. Поражение, которое потерпел Коробейников, утратив благодатную просветленность, было не просто уныньем, не сумеречной печалью, но особого рода бессильем и немощью, когда не было воли сопротивляться подступившей беде. Еще безликая и неявленная, она своим приближением парализовала его. Сделала духовно недвижным, не способным сопротивляться, молиться, мужественно выстаивать. Бес перехитрил его, проник в святая святых, свил смрадное гнездо в храме, откуда недавно истекал таинственный чудный свет, а теперь вылетали сатанинские всадники. С обнаженными саблями, с хрипом и клекотом неслись по городу, рубя на скаку колоннады особняков, деревья скверов, уличные фонари. Все ближе и ближе подбирались к его жилищу, где, беззащитные и обреченные, оставались жена и дети.
Он ждал, что Саблин в своих бесовских играх, в неутомимых сатанинских затеях подожжет его дом.
Он прошел всю Кропоткинскую. Там, где она пересекалась с бульваром, переходила в Волхонку, стояла сплошная белая мгла. В ней исчезали автомобили, пропадали прохожие. Воздух был сырым, словно в морозный город прилетела оттепель. Фасады были покрыты инеем. На троллейбусных проводах висела белая шуба. Пар истекал из плавательного бассейна «Москва».
Это было странное место, всегда волновавшее Коробейникова. Здесь город не мог успокоиться, обрести завершенный вид, законченную архитектурную форму. Постоянно проваливался в зыбь, в песок, в таинственную топь, которая не держала зданий, поглощала постройки, не давала осуществиться замыслам. В эту топь погрузился древний монастырь, канул исполинский собор, провалился величественный монумент коммунизма. Казалось, в этом месте земная кора утончается, близко подходит лава, время от времени прожигает хрупкую оболочку, утягивает в глубину, в огонь, громадные сооружения. Теперь на время эта оболочка сомкнулась, образовала коросту, под которой горело земное ядро. Воды бассейна кипели, как термальные источники, образуя влажную белую тучу.
Коробейников перешел перекресток, приблизился к бассейну. Высокие фонари, окруженные туманными радугами, освещали кратер. Он был полон зеленоватой влаги цвета соляной кислоты. В ней плавали люди. Мелькали сквозь пар резиновые шапочки, мокрые плечи, жирные, обтянутые купальниками груди. Пловцы медленно двигались, пропадали, словно их растворяла кислота. Возникали, уже облезшие, лишенные плоти — голые черепа, розовые хрящи, голубоватые сухожилья. Бассейн постоянно мерно кипел, словно огромный, в центре Москвы, котел. В нем варился холодец, плавало мясо, готовился жирный бульон. Если выключить под бассейном раскаленную спираль, бульон остынет. В желтовато-зеленом студне будут видны жирные, перевернутые навзничь женщины, полуоблезшие, с розовыми мослами мужчины, резиновые шапочки, скомканные купальники.
Коробейников смотрел на это мистическое варево, над которым волновался пар. Вырастая из тумана, не касаясь воды, невесомо и призрачно плавал мираж — белый, златоглавый собор. Выше золотых куполов, в ночном небе, красная, похожая на окорок, туманилась странная надпись. «Самсунг» — прочитал Коробейников загадочные письмена, начертанные в московском небе, как пророчество на Валтасаровом пиру.
Вдруг подумал, что когда-нибудь опишет в романе это виденье, предчувствие беды. Торопился домой, думая о Саблине, стараясь угадать его сатанинский замысел.
Валентина, жена Коробейникова, урезонивала повздоривших детей. Васенька, тайно от сестры, овладел ее любимым альбомом и карандашами и размалевал, исчеркал каракулями белые страницы. Это вызвало возмущение Настеньки. Она отняла альбом и карандаши, больно шлепнула брата по рукам. Васенька рыдал, неутешно, бессловесно, вздрагивая щуплым телом, обливаясь крупными горячими слезами.
— Ну разве так можно? — укоряла дочку Валентина. — Он же учится рисовать. Ты возьми и покажи, как нужно держать карандаш. Рыбу нарисуй — ты нарисовала замечательную рыбу. Павлина — ты так чудесно рисуешь павлинов. Васенька будет тебе благодарен.
— Он плохой. Он без спросу все мои вещи берет. Все портит. Я его не люблю. Когда он заболеет, не буду его жалеть, — неприязненно, сжав губы, отвечала Настенька, прижимая испорченный альбом.
Васенька, обиженный сестрой, услышав, что даже во время болезни его не будут любить, чувствовал свою обездоленность и ненужность и рыдал все пуще. В это время в прихожей позвонили. Радуясь возвращению мужа, Валентина пошла открывать.
На пороге стоял мужчина. Валентина не с первого взгляда узнала Саблина, приятеля мужа, который всего однажды побывал у них дома и с которым Коробейников проводил немалую часть своего времени. Бобровый воротник Саблина искрился тающим снегом. На голове была щегольская шапка из блестящего меха выдры. Он был свеж, разрумянен морозом. Улыбался, снимая шапку и целуя Валентине руку:
— Должно быть, я слишком рано? Миша еще не пришел? Пригласил, а сам опаздывает. — Гость благодушно смотрел на Валентину, на ее домашнее платье, на детей, которые явились в прихожую и, забыв о ссоре, во все глаза смотрели на гостя. — Я вас не стесню?
— Раздевайтесь. Миша, должно быть, сейчас вернется. Проходите в его кабинет. — Она дождалась, когда Саблин повесит на вешалку свое модное пальто, потопчется на коврике, стирая снег. Провела в комнату мужа, где на столе были разбросаны рукописи и стояла печатная машинка «Рейнметалл». Усадила на диванчик, собираясь угощать чаем.
— Какая творческая обстановка! — Саблин, усевшись, благоговейно рассматривал рабочий стол, где беспорядочный ворох бумаг и книг, вправленный в машинку листок хранили момент остановленной работы, которая с полуслова, с недописанного, незавершенного образа будет подхвачена и продолжена. — Восхищаюсь творческими людьми. Мне всегда хотелось проникнуть в творческую лабораторию. Ведь в творчестве художник уподобляется Богу, и его кабинет, в какой-то мере, воспроизводит мастерскую, где Бог сотворил Вселенную.
— Может быть, это и так, — сказала Валентина, благодарная гостю за эти благоговейные, в адрес мужа, слова. — Я вас на минуту оставлю, приготовлю чай.
— Не трудитесь, — остановил ее Саблин. — Уж если я пришел чуть раньше и Миши нет дома, воспользуюсь его отсутствием, чтобы переговорить с вами. Давно искал случай, но не находил. Сейчас же, как говорится, сам Бог помог.
Валентина уселась в креслице мужа, собираясь слушать, думая, какой обаятельный, обходительный у мужа друг.
— У вас такой уютный, теплый дом. Чудесные дети, благополучие. Все дышит миром, осмысленной, одухотворенной жизнью. Миша — замечательный семьянин. Его дом — его крепость, а это так важно для художника. Вы, хранительница очага, и ваши прелестные дети придают творениям Миши гармоничный вид. Как бы я хотел иметь детей, домашний уют. Если бы это случилось, видит Бог, мне было бы с кого брать пример…
Большой прозаик, который пишет долгие, трудные романы, годами не покидает кабинет, не отрывается от письменного стола, не может без семьи. Семья — это покой, забота, надежный тыл. Какой-нибудь легкомысленный поэт, мастер короткого стихотворения, способен обходиться без семьи. Богема, ветреные друзья, случайные влюбленности — он просто не может написать новое стихотворение, чтобы при этом хотя бы немного в кого-нибудь не влюбиться. Но прозаик совсем другое. Неизвестно, кем бы стал Лев Толстой, если бы у него не было Софьи Андреевны. Каким-нибудь офицером-забиякой или изнурительным славянофилом-моралистом. Семья для крупного писателя — это неисчерпаемый источник сюжетов и одновременно драгоценная стабильность, внутреннее равновесие…
Что-то насторожило Валентину в этом разглагольствовании. Не смысл ординарных, почти банальных суждений с непременным упоминанием о Софье Андреевне, а какая-то легкая, дребезжащая интонация в голосе Саблина. Будто на кровле дома отслоился тончайший лепесток жести и неприятно дребезжал при тихом ветре.
— Я дважды прочитал его книгу. Очень высоко ее оценил. Но я сказал: «Мишель, а знаете ли вы, что вам не слишком-то удаются женские образы? А все потому, что во всех ваших героинях угадывается Валентина, ваша чудесная жена». В самом деле, он везде изображает только вас. Вы — пленительная, добрая, мистическая, печальная. Вы — и мать, и возлюбленная, и сестра, и языческая береза-Берегиня, и православная Богородица. Удивительно, но он, когда писал, никого, кроме вас, не видел. И я подумал: у Толстого Анна Каренина, Катюша Маслова, Элен, Наташа Ростова — это все разные воплощения Софьи Андреевны? Или у него был и другой опыт? Художник за пределами патриархальной семьи искал новый опыт, новые женские прототипы?..
Тревога Валентины усиливалась. Отставший от кровли лепесток звучал все отчетливей, и в его дребезжащей вибрации чудились различные оттенки, словно ветер, который его теребил, все усиливался, предвещал ураган. Чутко, встревоженно вслушивалась она в опасные дуновения, проникшие в ее дом вместе с обходительным, говорливым человеком.
— Я очень люблю Михаила. Предан ему, готов жизнь отдать. Поэтому сердце мое болит. Страшусь за его благополучие. Мне было бы страшно увидеть его несчастным. Поэтому-то я к вам и пришел. Конечно, он вам еще дороже, я не сравниваю. Просто думаю, что вместе мы сумеем его уберечь. Вы — сильная, преданная, мудрая. Вы его простите и своим милосердием и любовью вырвете из беды…
Она испугалась. Было такое чувство, что в ее уютный, защищенный дом просунулся клюв прожорливой птицы, ищет, кого бы клюнуть: ее, сидящую в креслице, или детей, бегающих в коридоре, или лежащую на столе рукопись мужа, или домотканый, с алым узором, рушник, который они привезли из Карелии и который теперь висел над рабочим столом. Ей захотелось, чтобы муж поскорее вернулся, не оставлял ее наедине с этим опасным гостем. Слушала, как приближается буря, дует в стены дома. Лепесток завывал, словно лопасть пропеллера.
— Это я виноват. Теперь не нахожу себе места. Но разве можно предвидеть? Моя сестра Елена, редкой красоты, умница, тончайший вкус, пленительная. Я их познакомил, совершенно случайно. Какие-то незначащие слова, его комплимент, ее остроумный ответ. Он увлекся. Еленой нельзя не увлечься. Она замужем, но муж пожилой, вечно в делах, в политике, в интригах, уже дряхлый. А Мишель, вы знаете, очаровательный, молодой. Его талант привораживает, и она не могла не увлечься. Не виню ни его, ни ее — только себя! Ведь дьявол всегда находит, через кого ему действовать, и он выбрал меня, грешного…
Валентине было ужасно. Ей следовало подняться и указать незваному гостю на дверь. Перестать его слушать. Забыть все, что он говорит. Ради благополучия детей, мужа, их уютного дома, куда просунулся клюв прожорливой птицы. Эта птица сидела перед ней на диванчике, покрытая с ног до головы серыми плотными перьями, из которых торчали чешуйчатые птичьи лапы, круглая голова с рыжими глазами. Глаза круглились, смеялись, вздрагивали по обе стороны длинного, загнутого, как пинцет, желтого клюва.
— Это бывает. Дьявол искушает даже праведников. Чем праведней, тем сильнее искушение. Святого Иеронима искушали бесы. Вы все предчувствовали. У Мишеля в книге есть эпизод, когда вы идете ночью под звездами, сначала вместе, а потом он уходит вперед, и вы остаетесь одна, что означает разлуку, беду. Потом вас везет промерзший одинокий автобус, и шофер как перевозчик Харон, перевозящий вас через Стикс. Этот момент настал. Он поддался искушению. Но мы должны превозмочь. Вы, я, мы вместе должны его удержать…
Она чувствовала свою беззащитность. Сидевший перед ней человек владел ее тайной, проник в ее потаенный мир. Прочитал ее тайные мысли, управлял ее страхами и предчувствиями. Она пребывает в его злой воле, не находит сил крикнуть, замахнуться кулаком, прогнать из дома. Он смотрит на нее холодно, остро, как хирург, готовый сделать ей операцию без наркоза, и она чувствует приближение нестерпимой боли…
— Мне страшно вам это сказать… Они встречаются. Иногда у Елены, когда ее престарелый муж отсутствует, уезжает в командировки. Там такая великолепная спальня, вся в зеркалах, с огромной розовой кроватью… Но, в добавление к этому, Мишель снял квартиру, в маленьком домике на Мещанской. Купеческий особнячок с камином, который они растапливают, и там распивают вино… Я не моралист, поймите… Но мне страшно, что Мишель погибнет… Уйдя из семьи, он испытает такое разрушительное раздвоение, что не сможет писать, вся жизнь пройдет в угрызениях совести. К тому же муж Елены весьма ревнив и мстителен. Он очень влиятельный, у него связи в газетах, в партии, в КГБ. Он станет преследовать Михаила и бог знает что надумает, какой донос напишет… Мы должны спасти нашего дорогого Мишу, который оступился и вот-вот упадет. Положение осложняется тем, что Елена беременна, у нее от Миши будет ребенок…
Ее как будто ударили огромным тяжелым рельсом, сбивая с ног, и этот смертоносный удар сорвал все запоры, сбил все пломбы, распечатал все печати, и в ней взыграли все жаркие, красные, ударившие в глаза ключи, превращая мир в красный кровоподтек.
— Неправда!.. Лжете!.. Уходите сейчас же!.. — страшно крикнула Валентина, подымая на Саблина кулаки, защищая свой дом, играющих в коридоре детей, этот маленький кабинет, куда с минуты на минуту вернется муж, чтобы сесть за свою стрекочущую машинку, заполняя бумажный лист легкими писаниями, в которых она, его ненаглядная, стоит на берегу карельского озера, а он, в негаснущем свете небес, плывет на лодке по стеклянной воде, и гагара летит, вытянув длинную шею, роняет в озеро каплю, и беззвучно и долго расходятся на стекле ленивые круги. — Вы должны немедленно уйти!
— Вы мне не верите?.. Я уйду… Мною движет добро… Взгляните на это… — Саблин полез в карман, извлек фотографию, протянул Валентине.
Среди деревьев сквера, у подножья какого-то памятника, обнимались мужчина и женщина. Женщина в легком плаще, вполупрофиль, откинула голову, насмешливо улыбалась, а мужчина — ее муж, ее Михаил, с закрытыми глазами, слепо тянулся к ней, чуть выставив губы, готовый ее целовать. На его знакомом, любимом лице — такое предвкушение поцелуя, такое мучительное влечение, что у Валентины померкло в глазах, и она выронила фотографию. Когда прозрела, Саблина не было в кабинете. Фотография лежала на полу, и весь дом сотрясался от налетевшего урагана. Выло, ревело, сдирало кровлю, расшатывало утлые стены, и среди этой бури бегали ее дети, и Васенька что-то капризно и настойчиво выпрашивал у сестры.
47
Саблин занял позицию в дальнем углу двора, у заснеженного автомобиля, дожидаясь, когда из высокого подъезда покажется Марк Солим. Уйдет в город плести свои бесконечные интриги в кабинетах редакций, в приемных высоких начальников, в уютных гостиных и театральных салонах, оставив Елену одну. И тогда в этот дом без хозяина, в гнездо, откуда улетел самец, вторгнется Саблин. Он не чувствовал мороза. Прятался в снежном укрытии, как прячется рысь. Весь в ожидании, в терпеливом внимании, с немигающим блеском больших рыжих глаз, выгнув спину, спрятав когти в подушечки лап, с ровным стуком жаркого хищного сердца. Он должен будет метнуться в подъезд сразу, как только скроется Марк. Подняться на лифте, позвонить в дверь, чтобы Елена не заподозрила его появления. Решила, что это вернулся муж, что-то по забывчивости оставив дома. Тогда он ворвется в дом, где она окажется вся в его власти. В нем действовала холодная ярость, рассчитанная на долгое ожидание и на неизбежный успех.
На ступенях дома появился Марк, в меховой шубе, в енотовой шапке, из-под которой красиво выбивалась кольчатая седина, розовело сильное, носатое, надменное лицо. Он щурился, после полутьмы подъезда, на белое туманное солнце. Было видно, что ему приятен мороз, приятен заиндевелый московский день, где его ожидают увлекательные дела, уважающие его люди, открываются новые возможности действовать, познавать, присутствовать в самых ярких и значительных ситуациях жизни. К подъезду подкатила респектабельная черная «Волга», присланная кем-то из влиятельных партнеров Марка. Он едва заметно, самодовольно улыбнулся. Сел в автомобиль, запахивая шубу. Машина, бросая кудрявые дымки, умчалась со двора. И в тот же момент, хватая ноздрями запах бензина, Саблин метнулся к дверям. Подымался в тесном лифте, где еще пахло одеколоном Марка.
Елена открыла, и он ворвался, оттеснил ее от дверей, овладевая пространством прихожей. Радостно, победно озирал проходы на кухню с красивым буфетом, в гостиную с креслами и белой, брошенной на пол шкурой, в кабинет хозяина, до потолка уставленный книжными полками, с голубоватой абстрактной картиной, и в спальню, где розовели занавески и покрывала и недвижно сверкали зеркала.
— Это ты? Сейчас же уходи! Не желаю тебя видеть! — говорила Елена, испуганно, с отторжением глядя на брата. Простоволосая, неприбранная, была одета в небрежно опоясанный домашний халат, на босых ступнях были домашние тапочки, шитые восточным бисером, с загнутыми мысами. — Нам незачем встречаться!
— Уйду, конечно, уйду, — улыбался Саблин, длинно растягивая рот, не то в улыбке, не то в мучительном оскале. Его глаза радостно, жадно осматривали Елену. Ноздри, прозрачно-розовые, трепещущие, ловили ее запахи, не могли надышаться, втягивали ненасытно окружавший ее воздух. Он чувствовал, как пахнут у лба корни ее волос, как нежно благоухают горящие мочки ушей, как веет теплым нежным теплом от ее голой шеи. Сквозь вырез халата он улавливал волны тепла, исходившие от ее грудей, от большого теплого живота, невидимого жаркого паха. Его звериное чутье различало малейшие оттенки ее запахов, от влажных подмышек до прохладных бедер. Она пугалась его близких, ищущих ноздрей, отступала от него, запахивала на груди халат, теснее повязывала матерчатый пояс. — Уйду, конечно, — слепо и страстно повторял он, испытывая обморочную страсть, которая томила его, сводила мускулы мучительным желанием, выливалась из бездонных глубин его существа, из темной бесконечности.
— Сейчас придет Марк… Я ему позвоню… — лепетала она, чувствуя липкую, исходящую от него страсть, которая действовала удушающе, будто придавили на шее артерию, и, лишенная воздуха, она бессильно сникала.
— Ты заблудилась, запуталась! Немудрено: я оставил тебя без внимания, ибо был занят другим. Выживал, оправлялся от страшного удара, залечивал смертельные раны. Я должен был умереть. Меня хотели сгноить в тюрьме, убить, загнать в петлю. Эти большевистские ищейки гнались за мной по пятам. Обвинили меня в воровстве, в государственной измене, в политическом заговоре. Ты спасла меня. Принесла себя в жертву. Пошла в плен к этому ужасному еврею и выкупила мне жизнь. Он отозвал назад своих ищеек, взял на поводок своих гебистских овчарок и взамен получил тебя. Привел тебя в свою розовую стариковскую спальню. Совлекал с тебя одежду. Похотливо любовался твоим ослепительным отражением в зеркалах. Целовал туда, куда мог целовать тебя только я. Наслаждался тобой, и ты ему отдавалась, спасая меня. Мелкие людишки, трусливые обыватели, гнусные завистники назвали это торгом, циничным сговором. Обвинили меня в том, что я торговал сестрой. Но это — их мелкие душонки, ничтожные сущности. Не понимают, что ты принесла себя в жертву ради любимого брата. Я же принял эту жертву, чтобы потом отомстить за тебя. Это подобно подвигу героических эллинов. Это античная трагедия, героика нибелунгов. Такое может понять только равный нам. Но где он, поклоняющийся античным богам? Где тот, кто поймет Медею и Федру? — Саблин задыхался от страсти. Его губы, переставая говорить, растягивались в длинную улыбку.
— Ты продал меня, — говорила она, пытаясь отступить в гостиную, но он легким звериным броском преградил ей путь, подгоняя к порогу спальни. — Ты сговорился с Марком за моей спиной. Привел меня к нему и оставил. Ты циник, бессердечный зверь, плотоядное больное животное. Оставь меня!
— Но теперь все изменилось! Боги к нам обратились! Моя беда миновала. Я снова силен, здоров и свободен. Забираю тебя. Этих ублюдков, этих ничтожных людишек, полагавших, что я калека, я убью, каждого, безжалостно, уколом копья, меча, как римский легионер, беспощадно. Их самих, их уродливых жен, их грязных детенышей. Заплачу им страшной местью. Ты уйдешь со мной. Мы созданы друг для друга. Никто иной нам не нужен. Только наша кровь, наша божественная сущность, принадлежность к богам. Мы — олимпийцы, избранные. Живем друг с другом, как Афродита и Зевс, как Нептун и наяда. Нам не нужна другая кровь. Мы самодостаточны, как самодостаточны боги. — Он протянул руку, желая ее коснуться. Ей показалось, что с пальцев его сбежала синяя плазма, обожгла ее, и она отшатнулась.
— Наш род проклятый. — Елена чувствовала, как в нее вселяется болезнь, по телу разливается ядовитый и сладкий жар, силы ее оставляют, и она переходит во власть этих близких, рыжих, сжирающих глаз. — В нашей крови бродит старинная зараза, неизжитое проклятье, которое не отмолила ни наша бедная мать, ни наша несчастная бабка. Саблины — гиблый, проклятый род, наказаны за какое-то давнишнее злодеяние. Может, какой-нибудь предок сжег церковь, полную баб и детишек. Или зарезал отца. Или кинул в деревенский колодец склянку с ядом. Наш героический дед, чью жизнь изучают в школах и ставят в пример, саморучно рубил шашкой пленных белых офицеров. Среди них были совсем еще мальчики и раненые седые полковники. Он подбегал, размахивался и рубил наотмашь. Ты отравлен тем же злодейством. Оно гуляет в твоей крови, как таинственный микроб, и ты не можешь не делать зла. Ты меня совратил, заколдовал, замучил. С детства пугал меня тем, что выбросишься в окно, вставал на карниз, доводил меня до рыданий. Ты совратил меня, и я была себе отвратительна, погибала под этим грехом, и ты делал со мной что хотел. Но это кончилось, слышишь? Я ушла от тебя! Бог помог! У меня другая жизнь, другое имя. Я больше не Саблина. Моя кровь очистилась от родовой болезни. А в твоей все еще бродит эта бацилла.
— Нет, — говорил он, наступая на нее, подвигая к порогу спальни. Так хищник загоняет в ловушку обезумевшую антилопу, которая парализована страхом, видом мокрых клыков, красного языка, потного загривка. — Наш род произошел от богов. Какая-нибудь наша прабабка задремала на стоге клевера или на душистом сеновале, а на нее залюбовался пролетавший Зевс, или Перун, или Один. Овладел ею во сне, и от бога повелся род Саблиных. Нам в кровь бросили из Космоса огненную каплю, оплодотворили небесной спермой, и мы с тех пор грезим об иных мирах. Нам тесно среди пошлых людишек, ведущих свою родословную от мартышек Дарвина или евреев царя Давида. Мы стремимся обратно, на нашу небесную Родину. Тоскуя среди мелкотравчатых людишек, достаем шашки и начинаем рубить сплеча, или кидаем спичку в бак с нефтью, или затеваем вселенский мятеж, мировую свару, чтобы разметать кучу мертвой соломы, именуемой человечеством… Я пришел за тобой. Моя болезнь кончилась, я здоров. Мы уедем за границу. Оставим эту безнадежную, тупую страну, где больше никогда не родится ни одна великая мысль, не будет написана ни одна великая книга, не будет совершен ни единый великий поступок. А будут пошлость, тупость, пустое топтанье на месте, а потом бессмысленная склока и бунт, бесконечная дрязга, распад и гниение. Я скоро отправляюсь в командировку в Голландию. Вызову тебя в Роттердам, для этого я все подготовил. А потом уедем в Преторию, в Южную Африку, где еще осталась последняя раса белых людей. Станем жить на берегу океана, на чудесной вилле, с пышными вечнозелеными араукариями, о которых, ты помнишь, мы в детстве с тобой мечтали. В окне будет зеленый газон, по которому ходит фиолетовый негр-садовник, ты лежишь в шезлонге, и я читаю тебе наш любимый греческий миф о Персее…
— Оставь меня, отпусти, — умоляла она.
— Ты говоришь, что сменила имя? Не сменила! Ты Саблина! В твоем имени стальная, сверкающая сабля, как и в моем! А что в имени Марк Солим? Соленая капуста, которой, приправляют еврейскую рыбу? Глупый соленый груздь, который подают в шинке, где спаивают запорожцев? Или твой Коробейников! Он ведет свой род от мелких купчишек-коробейников, которые шлялись по деревням, предлагая мужикам битое молью сукно, а смазливым девкам стеклянные бусы и румяна. Он и есть купчишка. Его книга — излияние сентиментального торговца, который предлагает навынос массу разноцветных банальностей. Разглагольствует, умничает, выдает себя за писателя, а я хохочу над ним. Он не опасен. Не стальной, как мы, а глиняный. Ткни — и рассыплется!..
— Вы все одинаковы, перебрасываете меня из рук в руки! Играете, как безделушкой. Натешитесь и передаете другому. Но больше вы мне не нужны. У меня будет ребенок. Он награда за все унижения. — Она приложила ладони к животу, словно заслоняла драгоценный плод от едких лучей, которыми жег ее неистовый больной человек. Выжигал в ней волю, вытравливал память, подбирался к самому сокровенному и святому.
— Ты сделаешь аборт! Ты не можешь родить от обычного земного человека! Родишь уродца, зверушку с перепонками, с утиным носом, с хвостом ящерицы! Договорюсь с хорошим врачом, ты извергнешь этот больной плод. Понимаю, это страшная плата за нашу с тобой трагедию. Но этот зародыш растет в тебе, как опухоль. Вырежи его. Вырви с корнем, как вырывают сорняк!..
Он положил ей руки на плечи, но она скинула с себя его обжигающие ладони.
— Я буду кричать!.. Позвоню в милицию!.. Позову соседей!.. Тебя заберут, посадят!..
Он упал перед ней на колени, обхватил ее ноги, прижался лицом к распахнувшемуся халату. Целовал мягкую ткань, белый кружев ночной рубашки, открывшееся, блеснувшее бедро…
— Люблю тебя… Всю твою прелесть, знакомую, обожаемую наготу… Прекрасные, сводящие с ума бедра… Благоухающий теплый живот… Горячие розовые груди… Твои влажные шелковые соски… Помнишь, как слушали Брамса, и ты пролила вино, и за распахнутым окном шел восхитительный дождь, и я видел тебя всю, ты светилась на ковре, словно спустившаяся с неба богиня, и я покрывал поцелуями твое божественное тело…
Она чувствовала его жалящие, раскаленные руки. Стряхивала их с себя, отступала. А он полз за ней на коленях, в спальню, безумно бормоча:
— Я убью себя… Без тебя мне не жить… Божественный миф о нашей любви… Божественный миф о моей смерти… Как Один, повешу себя на древе… Пусть прилетает вещий ворон и выклевывает мне глаза… Пусть принесет в твою спальню мой окровавленный глаз…
— Не хочу! — кричала она, ударяя его в лицо ногой, с которой соскочил бисерный тапок, и она босой стопой ткнула его в глаза. — Ненавижу!..
— Но прежде чем убить себя, убью этих мерзких тварей, которые отнимают тебя у меня… Убью щелкопера, возомнившего себя Буниным. Столкну его с платформы под поезд метро… Твоего старика-импотента загоню в газовую камеру, а потом сожгу в крематории… И тогда я уйду под музыку Вагнера… Раствори окно и услышишь, как я улетаю в Валгаллу…
— Ты мне омерзителен!.. Ты ползучая скользкая гадина!..
Он поднялся и ударил ее кулаком в лицо. Оглушенная, она отлетела назад и упала спиной на кровать. Он подошел и сверху еще раз что есть силы ударил в разлетающиеся брови, гася в ней свет, вбивая голову в подушку. Распахнул халат, закатал наверх кружевную рубаху, так что стали видны выпуклые, с лиловым пигментом, груди. Расстегивал на своих брюках ремень, глядя на ее наготу. Бормотал:
— Люблю, моя драгоценная… Жить без тебя не могу…
Он насиловал ее зверски, долго, прерываясь, желая продлить наслаждение. Вторгался в нее, словно желал разорвать, выкорчевать ненавистный плод, пронзить в глубокой утробе и изувечить:
— Люблю тебя… Уедем с тобой… Только ты и я… Никого…
Зеркала отражали сцену насилия. Он вертел головой, видя, как вокруг, близко, бесконечно удаляясь, мужчины насилуют женщин, и те, раскинув руки, безмолвно сотрясаются от ударов. Наклонялся, целовал ей соски, впивался в соленые от крови губы. Погружался в нее жестоко и страшно. Неудержимый огненный ком прокатился от хрипящего горла к свирепому ненасытному паху и влился в нее расплавленной шаровой молнией. Он захлебывался в клекоте:
— Вот теперь это мой ребенок!.. Окрестил его моей спермой!..
Медленно одевался. Смотрел на нее, бездыханную, чувствуя, как растворяется в ней его семя.
Вышел из подъезда. Неожиданно горлом пошла кровь. Стоял у замерзшего водостока, харкал кровью, выплевывал на снег красные сгустки. Подцепил горсть снега и стал есть, остужая лопнувшую кровоточащую жилу.
На улице было светло, морозно. Над крышами стоял пушистый, белый шар света. Под этим белесым, с размытыми очертаниями, шаром шли люди. Все в одну сторону, несли на плечах увязанные веревками елки. Было странно смотреть на это торопящееся людское множество, будто где-то поблизости рубили еловый лес и люди подхватывали упавшие деревья, утаскивали их с вырубки.
48
Саблин несколько часов кружил по городу, как кружит зверь, путая следы, делая скидки и петли. В его походке была упругость, в глазах неутомимое слежение, ноздри порозовели от холода, ловили запахи бензина, еловой хвои, теплого хлеба. Среди этих летучих дуновений ему чудился парной, сладкий дурман спальни, горячий дух терзаемого тела, запах семени, пота и крови. Совершая круги среди каменных кварталов, он вновь неудержимо стремился на эти влекущие запахи. Оказался на Сретенке. Нырнул в подворотню к знакомому подъезду.
Вечерело. Морозная Москва переливалась перламутровыми сосульками, слюдяным блеском окон. Была похожа на глазурованный изразец, печатный пряник, прозрачный леденец на палочке. Саблин затаился в дальнем углу двора, у заметенного снегом автомобиля, поджидая добычу.
Черная «Волга» затмила прогал подворотни, осталась на улице, не стала въезжать во двор. Марк Солим появился в тяжелой меховой шубе, с пышным енотом на голове. Направился к подъезду грузной походкой, в которой можно было угадать удовлетворение от удачно проведенных, полезных встреч, ленивое предвкушение домашнего уюта, отдыха, приятной праздности. Саблин гибко выскользнул из укрытия и встал у него на пути.
— Низкий поклон дражайшему родственнику. — Саблин поклонился, прижав руку к сердцу. — Проходил мимо, дай, думаю, родственничка навещу.
— Я же просил тебя, Рудольф, уведомлять меня звонком. Сейчас я устал, не расположен к общению. Хотел отдохнуть, а потом надиктовать Елене статью для «Правды».
— Правда не истина. А что есть истина? — Саблин, не обижаясь на нелюбезность Марка, рассматривал его пышную седину, крупный нос, мягкие, выпуклые губы, в которых было что-то от печального верблюда Сахары.
— Ну если уж пришел, то зайдем. Но, видит бог, ненадолго.
— Да нет, Марк. То небольшое сообщение, с которым я к тебе забежал, ты вполне можешь выслушать здесь, во дворе. Потом подымешься к себе, уютно устроишься на диване под картиной несравненного Шагала и обдумаешь сообщение, если, конечно, оно заслуживает внимания.
— Что за сообщение? — поморщился Марк, сделав несколько недовольных движений мягкими верблюжьими губами.
— Видишь ли, я раздумывал, прежде чем к тебе заявиться. Сообщение не из приятных. Я оказываюсь дурным вестником. Гонцом, который доставляет скверную новость, а таким, как ты знаешь, в древности отрубали голову. Но я твой родственник, многим тебе обязан. В жестокую минуту ты встал рядом, вытащил меня из ужасной ямы. Хотя и не совсем бескорыстно. Как бы в обмен за это получил Елену. Но у нас запрещена торговля людьми, и Елена вышла за тебя добровольно. И все-таки остался некоторый привкус сделки, не правда ли? Я в долгу, но долг мой отчасти оплачен?
— Ты бываешь ужасно говорлив и утомителен. К чему ты клонишь? Или говори, или я поднимусь наверх.
— Да, ты поднимешься в свою уютный дом. Выпьешь долгожданную чашку чаю. Из саксонского фарфора. Елена принесет тебе чай в кабинет. Принимая чашку, поцелуешь ее теплую руку. «Спасибо, моя прелесть. Не звонил ли кто из членов нашего домашнего «кружка»? Мне должен был позвонить Ардатов. У него была встреча с Исаковым. Они должны были написать рецензию на статью Гришиани. Кстати, я хочу показать тебя Миазову…»
— Прощай, я устал. Приходи в другой раз…
— В том-то и дело, Марк, что другого раза может не быть. «Другой раз», который ты имеешь в виду, был в прошлый раз, а сегодня «последний раз», и я пришел, чтобы доплатить ту часть долга, что остался должен. Не люблю оставаться в долгу. Лучше имение заложу, любимого коня продам, последнюю рубаху спущу, а долг отдам.
Теряя терпение, Марк сделал шаг к подъезду.
— Отойдем чуть в сторонку, а то мы на виду. Дело крайне важное и крайне секретное. — Саблин потянул за рукав Марка, отводя в глубь двора, где по стене спускался водосток, полный льда. Ледяная, застывшая в раструбе, глыба переливалась, словно перламутровая раковина. — Ты собираешь свой непринужденный «кружок». Вы упражняетесь в изысканном красноречии, импровизируете этюды на тему: «Скульптура Сальвадора Дали», или «Кофейное зернышко бедуина». И попутно с этюдами решаете множество государственных дел. Продвигаете свои кадры в прессу. Наводняете своими сторонниками общественные организации. Смещаете неугодных лиц. Ненавязчиво внедряете в головы наших недалеких вождей те или иные проекты, отчего неуклюжий корабль государства чуть-чуть меняет курс, отклоняется на несколько градусов. И уже плывет не на Полярную звезду, а на Кассиопею. Не на пятиконечную, а на Звезду Давида, у которой шесть золотых лучей. Ваш еврейский заговор законспирирован под домашний кружок, где Елена разносит чай, а ты в розовых трико играешь на лютне. Но так случилось, что в ваш тайный кружок пробрался агент. В ваш заговор проник заговорщик из совсем иного кружка. И что самое удивительное, ты сам его ввел в свой дом. Ты заставил познакомиться с ним Елену, заставил очаровать его. Думал, что обольстил его, запутал в своей золотой паутине, отвел ему какую-то, тебе одному известную, роль. Но ты просчитался. Ты ввел в свое общество не начинающего, наивного, падкого на похвалу писателя, а агента, который служит совсем иной идее, молится совсем на иную звезду. Коробейников — агент иного, русского, заговора, который тайно сопротивляется вашим еврейским затеям…
Марк Солим смотрел на ледяную глыбу, переливавшуюся в водостоке. На нежно-розовое, зеленоватое, чудно-голубое мерцание. Ему казалось, что стоит стиснуть зрачки, устремиться душой в таинственный, застывший на льду перелив, и он утратит телесность, протечет сквозь перламутровое свечение льда, пронырнет в лазурь, в изумруд, в румянец и вынырнет по другую сторону бытия, в иное пространство и время.
— Мы с Коробейниковым сблизились, стали почти друзьями. Я приоткрыл ему мою душу, а он приоткрыл мне свой «заговор». Он член тайной организации русских, ее идеолог и исполнитель. Их несколько сотен, законспирированных в разных слоях общества. Они есть в Церкви: он познакомил меня с протоиереем отцом Львом, разрабатывающим религиозные основы еврейского, масонского заговора. Они присутствуют в авангардной футурологии и науке: его друг архитектор Шмелев носится с идеей «русского коммунизма», очищенного от евреев. Они есть в среде художников, исповедующих языческие, первородные ценности. Среди писателей, раздраженных засилием евреев в культуре. Его поездки по военным объектам кончаются не только написанием репортажей и очерков, но и вербовкой новых членов из армейских кругов. Так, вернувшись с аэродрома дальней авиации, он завербовал в свое тайное общество командира ядерного бомбардировщика, что открывает возможность для ядерного шантажа. Находясь на Дальнем Востоке среди моряков, он завел знакомства в корпусе морских пехотинцев, а эти отъявленные головорезы способны штурмовать любой плацдарм, включая Кремль. Это тайное общество, по его словам, патронируют крупные персоны политики, такие как Косыгин, Суслов, маршал Гречко, которые, не мне вам рассказывать, находятся в тайной конфронтации с Брежневым, Громыко, Андроповым…
Марк Солим завороженно смотрел на волшебный свет в глыбе московского льда. В таинственных спектрах мерещилась иная страна, его древняя чудесная родина. Великий город возвышал глинобитные стены. Смуглые женщины у источника подымали на плечи отекавшие влагой сосуды, выгибая гибкие бедра, уходили по пыльной тропе. В тумане, как шар золотого солнца, сияла вершина храма. Лиловые ослики пылили по жаркой обочине, и на пестрой попоне восседал величавый старик с темным лицом пророка. Вдалеке волновались синие холмы Иудеи, веяло душной пустыней, где брело утомленное племя, оббивая ноги, в пыльных хламидах. У края зеленого моря вещий посох пророка рассекал пучину, и по мокрому дну, наступая на скользких рыбин, женщины проносили младенцев. В минуту голодной смерти Бог посылал священную манну, ее хватали горстями с земли, ловили губами в небе, насыщались небесной сладостью. В расселине каменных гор воспылал огнедышащий куст, и из красного чрева цветка раздался рокочущий гром. Сквозь мрак и бурю пустыни, вслед за дивным алым цветком двигалось изнуренное племя, пока не засияли вдали голубые холмы Иудеи… Марк Солим смотрел на волшебную глыбу льда, в которой горел разноцветный фонарь из чудесного, недостижимого прошлого, и стоящий перед ним человек ненавидел, желал его смерти.
— Это «русское общество» в иные периоды истории почти исчезало. Его выкорчевывали, его членов расстреливали, морили в застенках, закапывали заживо. Блюмкин лично расстреливал в затылок «антисемитов» — русских офицеров, священников. Ягода помещал «антисемитов» в специальный станок, наподобие верстака, у которого выгибалась станина, и у пытаемого трещал позвоночник, переламывался пополам. Ежов подвешивал «антисемитов» на крюк и жег их паяльной лампой, покуда не выжигал кишки. «Общество» исчезало и вновь объявлялось. Коробейников — представитель недавней волны, утонченный антисемит и фашист. Вы невнимательно прочитали его книгу, иначе увидели бы в ней сходство с «Мифом двадцатого века» Розенберга, эмоциональную близость с «Майн кампф». Именно это сходство заставило меня с ним сблизиться, войти в доверие. Я побывал на одном из тайных собраний «общества». — Саблин оглядывался, будто боялся, что их подслушивают. Будто где-то в глубинах двора их выслеживает соглядатай, и он, Саблин, страшно рискует, сообщая Марку опасную, смертоносную тайну. — Цель «общества» — вести историческое исследование того вреда, который евреи причинили России. Существует огромный рукописный фолиант, который они именуют «Книгой потерь». В нее записаны все злодеяния, совершенные евреями в России, со времен каганата, «ереси жидовствующих», Шафирова, включая события последних советских лет. Там записаны убийства знаменитых деятелей русской истории, совершенные евреями, от Андрея Боголюбского, Петра Первого, Александра Второго, Столыпина до Николая Второго, Сталина, Берия, великих русских поэтов Есенина, Васильева, Клюева. Там перечислены факты избиения евреями русского духовенства и офицерства, «расказачивание», «раскулачивание», чистки в русской культуре и науке. Там есть все имена, подлинные фамилии и псевдонимы, родственники, связи, адреса проживания. Этот предварительный «период накопления знаний», как сказал Коробейников, заканчивается. Он должен перейти в практику «активных действий». Они готовят террористический акт, «операцию возмездия», направленную против евреев. Хотят совершить убийство одного из влиятельных евреев России, который осуществляет управление всем еврейским сообществом, является знаковой фигурой евреев. И ты знаешь, на кого пал их выбор?..
Глыба льда в жестяном водостоке светилась, как магический кристалл, переливаясь розовым, голубым и зеленым. Марк Солим был вморожен в эту волшебную глыбу, состоял из цветных ледяных кристаллов. В нем двигалась, трепетала, переливалась вечерней зарей мучительная, неясная мысль. Зачем всемогущий, витающий в мироздании Бог выбрал его народ для этой загадочной доли — кружить в лабиринтах истории, взлетать и падать, уходить в мучительный плен, обретать избавление, ежечасно ожидая гнева Господня, тоскуя о потерянном рае? Зачем его древний народ рассеян по лику земли, замешен, как горькие дрожжи, в тесто других народов, и вместе они испекаются в загадочной пекарне истории? Мучат друг друга, ненавидят и любят, не в силах расстаться, прорастая друг в друга кровавыми живыми побегами. И он, Марк Солим, волею всемогущего Бога оказался рожденным в этой перламутровой зимней Москве, встроен в судьбу загадочного, чужого народа, соприкосновенье с которым вызывает влечение и боль, мучительное обожание и ужас. Он вморожен в эту историю слепых насилий и казней, бессмысленных трудов и напастей, в непрерывную кровь, в свирепую, ему чуждую родину, откуда нет ему выхода, и глаза его были наполнены разноцветными замерзшими слезами.
— Этой первой жертвой возмездия окажешься ты. В твою голову ударит отточенный ледоруб. Тебя ненароком столкнут под поезд метро. В твое сердце у этих ступеней всадят одинокую пулю. Коробейников, внедренный в твой домашний кружок, представил тебя соратникам как неформального еврейского лидера. Указал на тебя. После его сообщения боевое крыло тайного «русского общества» вынесло тебе приговор. Но этот коварный писатель и разведчик не ограничился вторжением в твой рафинированный еврейский заговор. Он вторгся в лоно твоей жены. Он поселил в этом лоне свой плод. Твое место в утробе жены занято. Там зреет не твой ребенок. А твой исход — ледоруб, пуля из пистолета ТТ, стремительный свист летящего подземного поезда…
Марк Солим выдирался из глыбы льда. В страшных усилиях разрывал ледяные оковы. Сбрасывал цветные осколки.
— И это ты хотел мне сказать? Для этого караулил меня в подворотне? Хочешь знать, что я обо всем этом думаю? Ты утонченный подлец, в котором живет ненасытный желудочный червь, который извивается, жалит, заставляет совершать преступления. Я не знаю природы этого червяка. Знаю, что страдания, которые он тебе причиняет, ты стараешься заглушить страданиями, которые доставляешь другим. Повернись и иди. Забудь дорогу в мой дом. — Марк Солим протянул руку, указывая в прогал подворотни, где уже начинали сгущаться сумерки и московский мороз превращался в синий дым.
Саблин воспринял этот изгоняющий жест как попытку удара. Молниеносно перехватил руку, крутанул и, слыша сквозь шубу хруст сустава, обрушил Марка на снег. Свирепея, видя под ногами тяжело упавшее тело, отвалившуюся енотовую шапку, купу седых волос, ударил носком ботинка:
— Я не подлец, я русский!..
Снова ударил, норовя попасть в шевелящиеся мягкие губы, которые Марк прикрыл ладонями с обручальным кольцом.
— Я не подлец, я русский!..
Бил ботинками в незащищенный живот, в бок, в печень. Обегал спину и с натягом ударял в почки, досадуя, что толстая шуба смягчает удары.
— Я русский! А ты жид! Ты жид! Ты жид!.. — Он наносил удары, чувствуя, как обмякает, становится зыбким, как студень, ненавистное тело.
Во двор, расплескивая шальной лиловый огонь, вкатила «скорая помощь». Остановилась у подъезда. Саблин прекратил избиение, обогнул машину, выскользнул из подворотни. На улице густо синели сумерки. Дымно катили автомобили. Люди тащили на плечах перемотанные веревками елки. Саблин увидел на тротуаре накатанную ледяную дорожку. Весело разбежался, ловко прокатился по черной слюде. Вылетел с наледи и сделал несколько танцевальных движений, как учили его когда-то в танцклассе.
49
Избитый, оглушенный, наполненный болью и сумбурным бредом, который предшествовал побоям, Марк Солим вошел в подъезд. Лифт уходил наверх, унося бригаду врачей. Марк слушал масленый рокот колес, тугое дрожание троса. Пытался понять, что послужило причиной этого яростного нападения. Что в безумном бреду, который излился из Саблина, как чернила из каракатицы, было отвратительной ложью, а что мерцало, словно колючий кристаллик антрацита, залетевший в глаз, причинявший острую резь.
Пока не было лифта, он искал подтверждение чудовищным измышлениям Саблина об измене жены. Вспоминал ее внезапные исчезновения из дома, ее задумчивый, влажно-таинственный взгляд, с которым она вдруг замирала посреди гостиной и раздражалась на него, если он ее отвлекал. Вспоминал ее частые недомогания, которые вдруг обнаруживались, когда они оказывались среди зеркал на просторной супружеской постели. Примет, что тревожили его мнительность, его молчаливую подозрительность, было множество. Но все они искупались ее внезапной нежностью, милой смешливостью, добродушным над ним подтруниванием, которое он так любил даже тогда, когда ее остроумные незлые насмешки доставались ему в присутствии гостей. Он не верил наветам Саблина. Но кристаллик, залетевший в глаз, причинял неудобство и боль. Избитый, оскорбленный, он откладывал на потом свое мстительное нетерпение наказать Саблина, обратиться в милицию, добиться его задержания. Торопился наверх, к Елене, чтобы рассеять свои подозрения.
Лифт вернулся. Марк подымался, подыскивая первую фразу, которой объяснит жене свой побитый, истрепанный вид. И по ее ответу, по неуловимым движениям тела, выражению глаз, исходящей от нее тревоге, нежности, состраданию убедится, что умалишенный и мерзкий Саблин солгал, как всегда.
Вышел на лестничной клетке. Увидел, что дверь в квартиру открыта, в ней голоса, мелькание белых халатов. На пороге его встретила соседка:
— С Еленой плохо… Она мне позвонила… Едва открыла дверь… Я вызвала «неотложку»…
Скинул шубу, метнулся в спальню. На постели, среди холодного блеска зеркал, прикрытая розовым шелком, лежала Елена. Его поразил ее ужасный вид — белое лицо с синими подглазьями, разбитые в кровь губы, растерзанные, рассыпанные волосы, голая рука с набухшей голубой веной, в которую врач вонзает стальной лучик иглы. Ее веки приоткрылись, и на него посмотрели огромные, мокрые от слез глаза. В них был ужас, и этот ужас был вызван его появлением, и чем-то еще, что витало в высоких углах спальни, притаилось в лепнине потолка, замерло в зеркалах, как замирает в мертвых зрачках отраженье убийцы.
Врачи делали кардиограмму, слушали сердце, выписывали какие-то рецепты.
— Был приступ тахикардии. Сохранились экстрасистолы. Кардиограмма тревожная. Вызовите районного врача, и я не исключаю возможность госпитализации. — Доктор, уже из коридора, бегло оглядывал дорогое убранство комнат. Торопился уйти, оставляя в воздухе легкий запах больницы. Бригада «скорой помощи» покинула квартиру, и их машина, расплескивая фиолетовый свет, уже мчалась к другому дому.
Марк подошел к Елене, осторожно присел на край кровати, чтобы не касаться вытянутого, забросанного складчатым шелком тела. Потянулся к ней и шепотом, чтобы их не слушало притаившееся в углах существо, спросил:
— Он был здесь? Это он с тобой сотворил?
Елена открыла распухшие губы и медленно, глядя темными, синими, горько мерцающими глазами, сказала:
— Мне страшно… Наверное, я скоро умру…
— Я накажу мерзавца… Его станут судить за покушение на убийство…
— Если я умру, ты все равно узнаешь… Я тебя обманула… Изменила тебе с Коробейниковым… Я от него беременна… Я мерзкая, лживая, мне поделом… Я уйду от тебя… Станет немножко легче, поднимусь и уйду… Ты вправе меня ненавидеть… За все добро, за все твое благородство я тебе причинила зло… Всем причиняю зло… Ты можешь меня избить, как и он… Можешь убить… Но во мне ребенок… Если я умру, то и он…
Он почувствовал, как слабеет. Зеркала вокруг наполнялись туманом, и его жизнь утекала в туманные, посеребренные стекла. Он не испытывал ненависти, унижения. Только огромную усталость прожитой жизни. А также странное недоумение оттого, что по воле всемогущего Бога родился в этой северной, снежной земле, где в румяные слюдяные оконца выглядывал разгневанный царь, наблюдая, как ставят на площади плахи и варят смоляные котлы. Как в розовом морозном дыму по площади шли пехотинцы, и усатый вождь, коверкая и ломая слова, говорил: «Братья и сестры…» В этой земле было суждено ему встретить прелестную женщину, которая жестоко его обманула. Но этот обман был малой частью другого, заманившего его в эту жизнь, наградившего любовью и нежностью, а потом уводящего сквозь туманные зеркала в долгожданную небывалую даль.
Марк Солим опустился на розовое покрывало рядом с Еленой. Поцеловал ее руку мягкими, осторожными губами:
— Люблю тебя… Никуда не уйдешь… Буду ходить за тобой… Родишь ребенка… Вот только плакать не надо…
Она плакала, прижималась к нему. Он тоже плакал, обнимал ее измученное, избитое тело. А среди их объятий, не ведая об их страданьях, жил ребенок.
50
Коробейников жил в ощущении близкой беды, которая притаилась, как невидимая, стерегущая в зарослях, птица. Эта беззащитность, беспомощность перед жизнью порождали в нем странное ощущение, под стать магическому верованию, первобытному волхвованию. Ему казалось, что если он опишет в романе таящиеся в жизни угрозы, назовет их по имени, переведет в текст, если выхватит из реальности и придаст им выдуманную форму сюжета, то жизнь, выпитая романом, обмелеет, ослабнет. Вместе с ней ослабеют таящиеся в жизни угрозы. Поблекнут и потускнеют, станут неопасны, превратятся в тень угроз. Сами же угрозы, лишенные своей разрушительной силы, перейдут в область вымысла. Станут губить и крушить не его, Коробейникова, жизнь, а вымышленную плоть романа. Неуправляемые, не подвластные ему стихии жизни, укрощенные творчеством, становятся частью вымысла. Ставятся под контроль его воли.
Он возвращался домой. Ненаписанные сцены романа клубились в нем. Как язычник веря в магическую силу искусства, он заговаривал беду. Набрасывал ловчую сеть вымысла на притаившуюся птицу.
Позвонил, ступил в прихожую. Безумные, огненные глаза Валентины встретили его на пороге. Он ощутил жаркий, больной, направленный на него порыв.
— Нагулялся?.. Нацеловался?.. Набегался?.. — Она была растерзана, губы искусаны, запеклись, словно у нее был жар. — Где же ты был, мой миленький?
— Что случилось? — Он испугался разрушительного, исходящего от нее страдания, которое било в него, имело бронебойную силу, сокрушало все хрупкие защитные оболочки, ударяло в лоб. — О чем ты? — Он пытался тронуть ее.
— Не касайся!.. Ты пропитан ядами!.. Пахнешь пороком!.. От тебя пахнет женщиной!..
Он понял, что опоздал. Беда опередила его. Обогнула возведенные им дамбы, увильнула от прорытых каналов, всей разрушительной мощью хлынула в его дом. Он бултыхался среди бурной темной воды.
— Какой вздор говоришь! Был в ЦДЛ, с приятелями. Обсуждали деревенскую прозу. Знаешь, мне кажется, что они слишком увлечены архаикой, как еще недавно и я. Нужно повернуться к реальности. Увидеть в железном, стальном, электрическом черты божественного. Нужно силой искусства покорить эту загадочную, подчас жестокую реальность. — Он пытался ее обмануть, хотел отвлечь, заговорить.
— Ты был с ней, с развратной и грязной женщиной!.. Я чувствую, как от тебя пахнет пороком!..
Он был разоблачен, и это вызывало в нем раздражение. Ее больная энергия вызывала в нем встречную. Они стояли в прихожей, облучая друг друга потоками нарастающей разрушительной энергии, доводя ее до истерики.
— Вздор! Городишь бог знает что! Сидишь целыми днями дома, сама себя накручиваешь!.. Конечно, я виноват. Нужно чаще бывать дома, выводить тебя в свет… Но ты же видишь, днем я как проклятый сижу за печатной машинкой. Мой кабинет — это место изнурительной каждодневной работы. Чтобы хоть как-то отвлечься, усталый и вымотанный, вечером я иду в ЦДЛ… Это место сумбурное, сорное, но там я отдыхаю…
— Ты ходишь к ней на свиданье!.. У вас дом свиданий!..
— Да перестань ты! — крикнул он, желая подавить ее бунт, затоптать ее истерику, силой загнать обратно в круг проверенных, удобных для него отношений. — Перестань молоть чушь!..
— Чушь?.. Перестать молоть?.. А это?.. Скажи, что это?..
Она выхватила из-за спины фотографию и резко, едва не ударив, придвинула снимок к его лицу. На черно-белой, слегка затуманенной фотографии он, Коробейников, томно и сладостно, прикрыв глаза, тянулся к Елене, и она, слегка отведя в полуулыбке голову, уже готова была к поцелую, не противилась его объятиям.
Он вспомнил сырой, промозглый сквер с уходящими в темноту деревьями. Блестящий, глянцевитый в дожде памятник маршалу Толбухину. Поцелуй на холодном сыром ветру. Странную голубоватую вспышку, которую он заметил сквозь веки. Не открыл глаза, подумав, что это проходящий трамвай уронил с дуги холодную искру. Снимок в дрожащей руке жены запечатлел тот исчезнувший миг. Коробейников знал, какой фотограф скрывался за сырыми стволами. Кто побывал в его доме и подарил этот снимок на память.
— Возьми себя в руки, — произнес, видя, как ломается от страдания ее облик, уродуется лицо, становится отталкивающим открытый дрожащий рот. Испытывал бессилие, тоску, сносимый темным несчастьем, которое, словно поток, убыстрялось, втягивало его в летящую жуткую горловину. — Зачем эти сцены? Этот снимок ничего не значит. Мы позировали, валяли дурака. Саблин, его сестра Елена… Я тебе о ней говорил, о ее муже Марке… Они пригласил меня в свой домашний кружок. Там вершится политика и одновременно разыгрываются забавные мизансцены, подобье домашнего театра… Помнишь, я тебе говорил… И на этот раз мы гуляли, валяли дурака. С Саблиным изображали испанских идальго, сражались на шпагах, галантно ухаживали за Еленой, которая была герцогиней Альба. Сделали множество снимков. Фотографировал я, Саблин, Елена. Саблин показал тебе один снимок из двух десятков. Есть и другие снимки… — Эта ложь показалась на мгновение убедительной, заставила ее усомниться. Она вопросительно посмотрела на снимок. Он обрадовался. Ложь во благо, ложь во спасение, за которую он уцепился, как цепляются за корягу в летящем потоке. Но слепая сила надавила, сорвала опору, и они вновь закувыркались в потоке, сносимые в горловину.
— Не лги!.. Ты все разрушил!.. Больше так не могу!.. Погубил наши карельские белые ночи, и лодку, на которой ты подплывал по стеклянному озеру, и гагару, которая летала над зеленым немеркнувшим отражением, и тот букет пионов, что мне подарил, когда я привезла домой Настеньку, и ту новогоднюю елку, которую мы наряжали, подкатив поближе колыбель Васеньки, и ту зарю, на которой пролетели дикие гуси, и того оленя, который плыл в беломорской воде. Ты все беспощадно разрушил!..
Коробейников испытывал небывалую боль. Еще одну, которую Господь приберег для своих излюбленных чад, когда те нарушали незыблемый закон бытия. Эта боль пребывала не только в нем, становясь невыносимой. Не только в ней, порождая в нем небывалое, нестерпимое сострадание. Эта боль находилась в чем-то третьем, что состояло из них обоих, соединяло их, сочетало в творящее живое единство. Восходило от них прямо в высь, в небеса, в свет, где в вершине этого незримого древа, в его кроне, пребывал сам Господь. Теперь это древо гибло. Дивный ствол расщепился, как если бы в него ударила молния, расколов на продольную трещину огненной искрой.
— Это неправда, милая… — лепетал он. — Ты устала… Все время дома и дома… Давай с тобою уедем… В Карелию, где было нам так хорошо…
— Ты лжешь!.. — истошно закричала она. — Лжешь!.. Лжешь!..
Теряя рассудок, дрожа черными огненно-безумными глазами, она выставила руку, скрючила пальцы с острыми звериными когтями и рванула себя по лицу, выхлестывая из щеки длинные струи крови.
В прихожую вбежали дети:
— Мама!.. Мама!.. Зачем?..
Коробейников вдруг страшно ослабел. Не вынес боли. Немощно повернулся и вышел, слыша истошный детский крик.
Часть шестая Гроб
51
Изобличенный во лжи, ставший причиной несчастья дорогих и любимых людей, Коробейников ушел из дома, где ему было невозможно появляться. Оставил гардероб с одеждой, печатную машинку, детские милые игрушки, разбросанные в комнате сына и дочери. Гонимый позором, боясь оглянуться, чтобы не увидеть разодранное, обезображенное лицо жены, не услышать истошный крик детей, был похож на Адама, изгоняемого из Рая, — бежал, а вслед ему из небес хлестала огненная карающая плеть.
Он переехал на Тихвинский, где окончательно слегла в своей последней немощи бабушка. Ее мучили бреды, она тяжело уходила, словно невидимое, схватившее ее чудовище утягивало ее сквозь кущи и заросли, ломало хрустящие сучья, обдирало о них хрупкое тело бабушки, утаскивая ее в беспросветную прорву. Мать, сама больная, теряя последние силы, ходила за ней дни и ночи. Коробейников пришел ей на помощь. Сменял ее в ночных дежурствах у бабушкиной постели, слушал бессвязные бормотания, менял клеенки, подносил к иссохшим губам ложечку сладкого чая. Он принимал на себя эти невыносимые физические и духовные нагрузки, изнемогал, но был тайно рад. Он сознательно себя истязал, чтобы в страданьях и в новой надвигавшейся на него катастрофе отпустила его прежняя боль, померк и простился недавний грех.
Он навестил газету. Секретарша уволенного Стремжинского встретилась ему на лестнице. Она уже не напоминала полинезийскую жрицу с перламутровыми ногтями, а была усталой, растерянной, немолодой женщиной, забывшей положить на лицо грим, покрасить ногти, закрепить лаком вороненый завиток у виска.
— Ухожу, Миша. Не знаю, где найду работу. А у меня ведь ребенок, — рассеянно сказала она, унося в сумке свои безделушки, освободив приемную, где уже воцарилась другая.
Эта другая была тонкой и язвительной, с узким недобрым лицом. Напоминала осу, которая может ужалить. Встретила Коробейникова нелюбезно, будто уже прознала о его особых отношениях с уволенным Стремжинским, которого сменил в кабинете другой хозяин — Урюков. Уверенно и всевластно разместился среди правительственных телефонов, электронных табло, за знакомым столом, на котором уже не было фетишей и амулетов Стремжинского, а появился бюстик Дзержинского на подставке с дарственной надписью. Одни кумиры и боги изгоняли других, занимая алтарь, охраняя благополучие нового властителя.
Этот властитель, изысканный, подчеркнуто вежливый аппаратчик, был прислан из ЦК, где курировал газеты и журналы. Он сразу создал между собой и Коробейниковым дистанцию, заполняя ее сухим, тихо потрескивающим электричеством, которое слабо жгло и отталкивало. Урюков вызвал к себе Коробейникова, чтобы дать ему новое задание: посетить очистные сооружения и описать индустрию, с помощью которой Москва избавляется от своих отходов и миазмов. После престижных поездок на флот, в ракетные войска, в гарнизоны стратегической авиации это задание выглядело почти унизительным. Свидетельствовало о том, что Коробейников утратил роль фаворита. Говорило о понижении статуса. После этого оскорбляющего самолюбие знака Коробейников мог просто уйти из газеты. Но он почти обрадовался заданию. Обрадовался унижению. Был готов обратиться к самым черновым, непрестижным темам, воспринимая это как епитимью за совершенный грех.
Смиренно поблагодарил за задание. Вышел из кабинета, поймав на себе язвительный взгляд секретарши. Уловил в приемной запах новых, едких, как уксус, духов.
Он стоял среди серых рыхлых снегов с налетом рыжих ядовитых осадков. Поля аэрации на окраине Москвы были охвачены непрерывным туманным тлением, которое происходило в глубине снегов, где сочились, разлагались остатки биомассы. Колеблемый горчичный туман истекал в холодное небо, и в этом тумане слабо проглядывал город, белые кварталы, кровли домов, золотые главы церквей, ажурные антенны и башни. Казалось, город парил среди ядовитых облаков, ржавел, окислялся. В нем шел непрерывный распад, уничтожение материи, которая превращалась в горькие тени, блеклый и болезненный дух.
Коробейников взирал на далекий город, и ему казалось, что это огромный моллюск, заключенный в каменную раковину. Вяло пульсирует, сокращается и взбухает. В раковине медленно созревает жемчужина, нежно-розовая, перламутровая. И моллюск истекает зловонной жижей, тлетворной слизью, пожирает и истребляет низшие формы жизни, чтобы в муках и конвульсиях, среди распада и тления, возник драгоценный жемчуг.
В этот утренний час город просыпался. Начинали крутиться моторы. Мчались по трассам автомобили. Невидимый в тучах, прогудел самолет. В министерствах чиновники управляли промышленностью. В конструкторских бюро совершались открытия. Художники брались за кисти, писатели тянулись к бумаге. Люди возводили памятники, пускали в небеса самолеты, репетировали спектакли, рождали богооткровенные идеи и замыслы. Проснувшийся город сбрасывал в канализацию ночные миазмы и нечистоты. Сливал в подземные трубы и унитазы гной больниц, токсины злодеяний, пороков и ненависти.
Канализация, хлюпая, сосала грязные потоки, в которые превратилось израсходованное время, прожитые человечеством сутки.
Коробейников стоял среди мутных зараженных пространств, чувствуя, как его одежда и легкие пропитываются тлетворным паром. Он сам, в своем грехе и пороке, был частью отбросов, от которых стремился спастись и освободиться город.
В тумане носилось воронье. Зыбкие стаи птиц рябили в небе, кричали, казались порождением больных испарений. Садились в снега, жадно клевали, глотали, наполнялись гнилью и падалью. Тяжело взлетали, пролетая над Коробейниковым, брызгая сверху зловонной жижей, забрасывая его ядовитыми метинами.
Из земли выступала огромная бетонная скважина. Липкая, покрытая студенистой гущей труба извергала мутный поток. Длинная, бесконечная рытвина была наполнена струящейся жижей, над которой густо клубился пар. Снег кругом был изъеден ржавчиной, в синеватых волокнах плесени. Коробейников шел вдоль клубящегося теплого арыка, вглядывался в текущую муть. В парном бульоне тянулись длинные бинты с отпечатками гноя и крови: отбросы московских больниц, остатки ночных операций, ампутированных конечностей, трупных извержений. Плыли отяжелевшие от воды комья ваты, черные, липучие, с остатками дурной женской крови. Волновались на поверхности листы газет, зловонная муть пропитала лица вождей, портреты ударников и космонавтов, изображение заводов и строек. Протекали радужные кольца бензина, белая мыльная пена, бесформенные комья слизи, похожие на тромбы из подземных вен и артерий. Тяжелая затонувшая ветошь напоминала утопленников, медленно сносимых течением.
Коробейникова мутило, подкатывался рвотный ком. Тошнотворный воздух забивал горло и ноздри. Хотелось кинуться прочь, очутиться в чистом сосновом бору с благоухающим снегом. Лечь в горячую ванну с душистой освежающей пеной. Но он удерживал себя остатками воли.
«Это мое… Моя мерзость… Меня по горло окунули в сточную канаву, стою в слизистой гуще, и мне в лицо ударяют резиновые пузыри с мертвым зловонным белком…»
Он увидел, как из мутного пара налетела на него черная орущая птица. Повисла над головой, растопырив грязные маховые перья, нацелив мучнистый клюв, глядя яростными ненавидящими глазами. Подумал, что явился хозяин адской клоаки, приставленный к нему бес, его неотступный мучитель, что пытает его страшной унизительной мукой.
«Не сдамся… Моя жизнь, мое творчество должны впитать всю мерзость бытия, окунуться в нечистоты, одолеть гниение очистительной силой искусства… Освободиться от скверны… Здесь, у сточной канавы, пишу мой роман…»
Он шагал туда, где поток перегораживали решетки, процеживали клоаку, как сито. На железных прутьях оседали клочья газет, липкое тряпье, мохнатые, словно водоросли, волокна. Пенилась и бурлила гуща, танцевал и подпрыгивал хоровод белых резиновых пузырей. Решетки были частью конвейера, который вычерпывал из воды нерастворимые густые отбросы, увлекал в сторону, опрокидывал в громадные, из нержавеющей стали, баки. Коробейникову казалось, что это он, по грудь в зловонном потоке, подставляет нечистотам ребра.
Птица хлопала драными крыльями. Раскрывала костяной клюв. Дергала красным злым языком. Крылатый демон каркал, созывал летучую тьму нетопырей. Черные твари слетятся, ринутся несметным граем. Заклюют до смерти, выдерут глаза, вырвут сердце, продырявят печень и легкие. Оставят на грязном снегу груду розовых мокрых костей.
Коробейников кричал сквозь туман на бесноватую птицу, отгонял взмахами рук. Хриплое карканье созывало на пир все исчадия ада, окружало Коробейникова злыми духами. Ночные убийства, пытки в застенках, насилие женщин, растление детей, преступные замыслы, ненавидящие мысли струились в теплой клоаке, истекая из чрева гниющего города.
В парном тепле цеха, под мутными люминесцентными лампами, транспортеры сбрасывали гниль в контейнеры из нержавеющей стали. Из форсунок вырывались свистящие струи пара, раскаленно впивались в ошметки, жгли, ошпаривали, уничтожали бактерии, губили эпидемии и болезни. Обезвреженные остатки пищи, лишенные ядов фекалии, клочья газет и бинтов прессовались в брикеты. Ровными монотонными рядами двигались по конвейеру, окруженные легчайшим паром. Высыхали, чтобы позже сгореть в топке теплоцентрали, превратиться в пар, электричество.
Он двигался по очистным сооружениям, вдоль круглых водоемов, бетонных отстойников, где успокаивались мутные воды. Из желобов сыпались химикаты. Поворотные лопасти мешали раствор. Шли процессы распада и синтеза. Выпадали осадки, оседал зловонный ил. Вода становилась чище. Переливалась из пруда в пруд, теряя яды. Умирали бактерии, исчезали тлетворные запахи. Черпаки очищали дно, выгребая органический слой. Самосвалы, полные черной гущи, тяжко катили в поля, вываливали груз. Темные груды дымились среди белых снегов. Бульдозеры, поблескивая ножами, ровняли ил, превращали в плодородный грунт. Весной пройдут трактора, черное поле зарябит изумрудными грядками.
Коробейников чувствовал себя огромной почкой, изъедаемой горечью, кислотными ядами. Он был частью грешного и порочного мира, был способен на зло. Средоточие постыдных желаний, унизительных страхов, губительной лжи. Но страстным усилием одолевал в себе зло, гасил постыдный порок, вымывал смертельные яды.
Ему вдруг вспомнилась весна: мартовская береза, белые, текущие в небо ручьи, розовые тонкие ветки. В сплетенье ветвей ослепительная лазурь, бездонная синева, от которой в душе восторг, ликованье, стремленье ввысь, в бесконечность, к благой божественной силе, которая произвела тебя на свет, одарила восторженными очами, восхищенным верящим сердцем.
Он нес в себе эту лазурь, пронося сквозь затхлый туман. Прикасался ею к замутненным отравленным водам, и они светлели, становились прозрачней и чище.
Коробейников двигался по станции, в которой бурлили сточные воды, дымились отстойники, вскипали растворы, скрежетали механизмы. Станция была огромной лабораторией, где миазмы и шлаки города обезвреживались, разлагались на исходные части, пропускались сквозь фильтры. Очищенные, возвращались в круговорот природных веществ, сливались с мировой водой, уходили в плодоносную почву. Он не молился, не раскаивался, не просил у Бога прощения. Искупал свой грех самой черной, грязной работой, испытывая наслаждение в непосильном труде, находясь среди грязи мира, в то время как другие художники занимались изящной словесностью, создавали дивную музыку, рисовали изысканной кистью. Он же среди ржавых решеток, клочьев зловонной материи, липких тошнотворных потоков принимал на себя всю скверну мира. Очищал, расколдовывал, не пускал туда, где тонко золотились кресты, высились статуи, белели чистейшие снега, розовели утренние леса.
Вода, заключенная в бетонные водоемы, стиснутая стальными обручами, процеживалась сквозь механизмы, окроплялась живительными растворами, переливалась из одной огромной чаши в другую. Лишалась запаха, цвета. Зимнее солнце бросало на нее тихий отблеск. По водостоку она катилась к Москве-реке, сверкающим водопадом падала в полынью. На темной воде плавали утки, ныряли, вертели острыми хвостиками. И там, где плавали птицы, сверкнула рыбешка. Вода была живой, обитаемой. Была мировой водой.
Коробейников, утомленный, со слезящимися глазами, стоял на снегах у реки. Над станцией вился туман. В тумане легчайшей радугой, едва заметное на солнце, пролетело крылатое диво.
52
День ото дня бабушке становилось хуже. Она уже не вставала, не пересаживалась в любимое белое креслице, а обморочно лежала на высоких подушках под красными маками, которые грозно пламенели над ее маленькой, беззащитной головой. По большей части спала, шевеля во сне губами, но вдруг ее охватывала тревога, и по телу пробегала больная волна. Она сжималась и разжималась под покрывалом, как сильная пружина. Раскрытые глаза наполнялись мутным ужасом. Какое-то несусветное видение посещало ее, потрясало. На горле пульсировала синяя взбухшая жила. Пальцы цепко, мощно драли одеяло. Глухой, клокочущий звук, не принадлежавший ей, вырывался из груди, словно в нее вселилось какое-то ревущее существо. Эти краткие приступы изматывали ее. После них она опрокидывалась в забытье, крохотная, похудевшая, с коричневым лицом, сквозь которое, как сквозь отмель, начинало проступать невидимое прежде, корявое, твердое дно.
Мать ходила за бабушкой. Дни и ночи дежурила у постели, не имея возможности вздремнуть, изнемогая от ее приступов, слабея от бессонницы. Иногда ее подменяла тебя Вера, но и та не справлялась с постоянными ночными приступами бабушки, с приливами ее безумия, с больными волнами нечеловеческого страдания, перед которыми были бессильны лекарства, молитвы, всенощные бдения, неусыпные заботы, и которые уносили бабушку все дальше и дальше от родных, любящих ее людей.
Домашний разрыв, который пережил Коробейников, его уход из дома остались незаметны для матери. Он переселился на Тихвинский, чтобы подменить ее у постели бабушки. Дать ей лишний час сна. Разгрузить мать в ее последних, безнадежных и мучительных хлопотах.
В этот вечерний час комната, где они находились с матерью, казалась воспаленной, багряной, будто на каждом предмете лежал след ожога. Все предметы, с детства знакомые, занимавшие незыблемое, навеки им отведенное место, казались слегка распухшими, увеличенными в размере, чуть сдвинулись с места, не умещаясь в отведенном для них пространстве. От них исходил жар. Воздух в комнате под матерчатым оранжевым абажуром горел, его молекулы увеличились, давили одна на другую. Выступавшие из накаленного сумрака буфет с посудой, китайская ваза с журавлями, подзеркальник с безделушками, гнутая деревянная спинка кровати казались размытыми, как если бы испарялись от жара. Мать, изведенная, в неряшливом халате, с растрепанными волосами, давала ему указания, прежде чем улечься не раздеваясь, забыться тревожным и чутким сном.
— Знаешь, бывает такой момент, когда она поминутно пытается встать и просит пить. Все в ней горит. Я даю ей столовую ложку прохладного компота. Ничего другого она не принимает уже неделю. В голове у нее взрываются сосуды, желудок не пропускает пищу, но сердце здоровое, сильное, продолжает жить…
Мать рассеянно оглядывала комнату, где повсеместно виднелись какие-то флаконы с лекарствами, тазики с водой, скомканные полотенца, клеенки. Все носило следы отчаянной борьбы, непрерывных медицинских усилий, которые предпринимала мать, выполняя наставления врачей и свои собственные, домашние, из поколения в поколения передаваемые рецепты и средства. Она билась, не ослабевая усилий, погибала в этих усилиях, хотя уже не верила в их действенность. Этими безнадежными хлопотами, самоистязанием заслонялась от неминуемой близкой развязки.
— Ее постоянно мучит какое-то видение, какой-то ужасный образ… Я знаю, в ее жизни было нечто такое, что она называет ужасным грехом. Она никогда мне об этом не рассказывала, только намекала… Быть может, какая-нибудь греховная любовная связь… Или родовой проступок… Теперь он ее преследует в виде кошмара…
Мать растерянно перебирала в руках скомканное полотенце, и у Коробейникова было такое чувство, что она жалась к нему, искала у него защиты. Не просто помощи и подмены в надрывных ухаживаниях за больной, но защиты перед чем-то непомерным, что ожидало ее. Неизбежно приближалось, отнимало самого дорогого человека, с которым прожила неразлучно всю мучительную жизнь, находя в ней опору и спасение. Теперь же, когда этот дорогой человек был готов ее оставить, она оказывалась одна перед черным безымянным жерлом, от которого прежде заслоняла ее бабушка. Черное жерло приближалось, проступало сквозь пестренькие обои комнаты, хрупкое дерево буфета, выискивало мать, и она жалась к сыну, безмолвно умоляла о защите.
— Какую мы вместе прожили жизнь! Мы втроем! И теперь пора разлучаться. Я спрашиваю ее: «Мама, ты слышишь меня? Узнаешь?» Не узнает. Даже не можем проститься. Как она любила тебя! В ее глазах у тебя не было недостатков. Ее любовь к тебе была религиозна. «Мой Мишенька, мой золотой мальчик!..»
Мать говорила о бабушке в прошедшем времени, словно ее уже не было с ними. Коробейников чувствовал, что разрывается, расщепляется жизнь, в которой он чувствовал себя безопасно, окруженный устойчивым, ежесекундным обожанием бабушки. Завершается их тройственный драгоценный союз, в котором он пребывал с младенчества, как в свете и воздухе, не помышляя, что возможен конец. Они разлучаются теперь, и не по воле людей, с которыми можно бороться, не по прихоти обстоятельств, на которые можно влиять, а по неотвратимой безымянной необходимости, с которой нет общего языка, нет общих связей и которой нужно покорно, безропотно уступить.
— Ты пойди, ее сторожи. А я немного прилягу. Компот в пиалке на тумбочке. Столовая ложка там же… Мой милый, милый сын, вот и покидает нас бабушка… Бабушка-забавушка…
На ее бледном измученном лице появилось дрожащее слезное выражение. Но она совладала со слезами. Приберегла их на потом, когда потребуется море слез. Подошла к кровати, улеглась, прикрывшись пледом. Испытывая невыносимую боль, боясь задержать взгляд на ее беззащитном, любимом лице, шагнул в соседнюю комнату, к бабушке.
Эта вторая комната была погружена в коричневый, дегтярный мрак, среди которого недвижно, как немеркнущий уголь, краснел ночник — настольная лампа, накрытая материнским черно-красным платком. Бабушка лежала на высоких подушках, на кушеточке, где в детстве спал Коробейников. Темное, провалившееся в белизну подушек лицо, впадины щек, выпуклые надбровные дуги, крупный, ставший крючковатым нос. Все в ее лице укрупнилось, стало грубым, напряженным, словно смертельная болезнь убрала из лица все лишнее, пригодное для жизни, и оставила лишь самое необходимое, пригодное для смерти.
Из сумрака выступали знакомые с детства предметы. Высокий, тяжелый, красного дерева шкаф, набитый шубами, шапками, платьями, пиджаками, кофтами, хранитель постельного белья, скатертей, полотенец, сопутствовавших им в долгой совместной жизни. Книжный шкаф, за стеклом которого поблескивали тисненые корешки фамильной библиотеки, старые французские романы, сытинские издания Гоголя и Тургенева, альбомы Врубеля, Серова и Левитана. Множество книг по истории и искусству, в которых таились любимые Коробейниковым иллюстрации и куда он не заглядывал десятилетие. Огромный письменный стол дедовских времен, из другого уклада и дома, ореховый, под зеленым полуистлевшим сукном, с хрустальными кубами чернильниц, уставленный любимыми безделушками: стеклянный шар с вмороженным таинственным, спектрально-ярким пауком, бронзовые подсвечники с медведями, фарфоровая игривая статуэтка пастушка, бронзовый морж, у которого отвинчивалось брюхо, и в него можно было прятать «секретные» бумажки, бусинки, старинные копейки с орлами. Над головой бабушки висел ковер с огромными маками, которые она вышивала в молодости, словно тайно предчувствовала, что когда-нибудь эти пламенные цветы распустятся над ее смертным ложем.
Все предметы выступали из мрака, толпились вокруг бабушки, всматривались в нее воспаленными глазами. Чего-то ждали. Связывали свою судьбу с судьбою бабушки.
Коробейников приблизился, заглянул сверху вниз, как заглядывают в глубокий колодец. Она прерывисто, бурно дышала. По ее маленькому, щуплому телу пробегала дрожь. В ней шло борение. Казалось, кто-то невидимый вцепился в нее, не разжимая челюстей, тянет к себе, утягивает из комнаты, с высоких подушек, с деревянной кушеточки. А она сопротивляется, упирается, стремится задержаться здесь, у ночника, у столика с пузырьками, среди знакомого убранства, где прожила огромные годы. Эта борьба разрывала ее. Ее жилы натягивались, кости похрустывали, сосуды в голове взбухали и лопались. Дурная жаркая кровь заливала мозг, ополаскивала болью и ужасом. Она вздрагивала, голое горло клокотало, на нем выступала огромная черно-синяя слива. Коробейников чувствовал это борение, не знал, как включиться в него, как удержать бабушку в этой родной комнате, не уступить ее невидимому чудищу.
— Бабушка, — позвал он. Она не откликнулась. По ней прокатилась больная волна, словно на мгновенье пропустили ток.
Он всматривался в ее близкое лицо, всегда такое чудесное, одухотворенное, любящее. Теперь оно было чужим, ожесточенным, отталкивающим. В нем появилось нечто птичье, злое, нахохленное. Глаза, всегда сияющие, обожающие, источающие нежный свет любви и благоговения, были накрыты круглыми выпуклыми веками, под которыми дрожали, трепетали глазные яблоки. Было страшно, что вдруг кожаные веки поднимутся, и глянет нечеловеческий, совиный, пылающий зрак. Ее руки, всегда быстрые, ловкие, деятельные — стряпали, штопали, чинили, стирали, перелистывали маленькое Евангелие, гладили Коробейникова по голове, летали по солнечным комнатам среди разноцветных пылинок — превратились в лапы большой когтистой птицы. Мучительно вцепились в край одеяла, вонзились в эту жизнь, из которой ее извлекали. В этих руках была нечеловеческая сила, отчаянное упорство. Коробейникову захотелось накрыть ее черные костяные руки своими белыми, сильными ладонями, сопрячь свои свежие, нерастраченные усилия с ее отчаянной борьбой.
— Бабушка… — снова позвал он. И в ответ раздалось:
— Пи-ии…
Это напоминало вскрик тоскливой птицы среди сумрачных лесов, жалобный вопль о помощи среди пустынных болот, одинокое стенание покинутого всеми существа. Коробейников испугался этого зова. Исполненный любви, сострадания, кинулся к столику, отыскивая на нем пиалу с компотом. Черпнул большой серебряной ложкой. Протиснул руку под бабушкину спину. Оторвал от подушки костлявые лопатки, усаживая, поднося к губам ложку с компотом. Стиснутые губы коснулись влажного серебра. Из них раздался раздраженный булькающий звук, выдувающий из ложки компот. Бабушка сердито отшатнулась, и он испуганно уложил ее на подушку, слил из ложки компот в пиалу.
Она лежала на кушеточке, той самой, которую когда-то занимал он сам. Ее тело вытянулось там, где когда-то помещалось его легкое, восторженное тело, каждое утро, в пробуждении, испытывающее ликование от своего взросления, от счастливого возникновения солнечного морозного окна, за которым струилась голубизна переулка, слабо розовел огромный тополь, сквозь сосульки и наледи проглядывала ветхая колокольня. Бабушка появлялась среди этого солнца и ликования, вешала на батарею его тонкие чулочки и, когда те нагревались, скручивала их в плотные колечки. Он протягивал ей тонкие белые ноги. Посмеиваясь, приговаривая, она натягивала чулки, раскручивала их до колен. Теперь она нуждалась в его любви и помощи. Он был готов преданно ей служить, возвращать ту бесконечную доброту, которая взрастила и сохранила его.
— Пи-ии… — раздался скрипучий, требовательно-жалобный крик.
Коробейников метнулся на этот зов, зачерпнул ложкой компот. Протиснул руку к бабушкиному горячему хребту, приподнял ее. Приблизил ложку к ее стиснутым губам, но она сердито дунула, дернула головой, компот пролился ей на грудь. Она, отшатнувшись, упала на подушку, так и не раскрыв глаза.
Коробейников салфеткой отер ее мокрую грудь. Смотрел на пустую серебряную ложку из бабушкиного свадебного набора, которую помнил с детства, любовался матово-белым сиянием, рассматривал витиеватые вензеля и крохотную пробу с двуглавым орлом.
Она вела его в школу в первый класс, с маленьким удобным портфельчиком, где лежали восхитительный нарядный букварь, деревянный пенал, линованные тетрадки. Держала его за руку. У большого кирпичного здания школы все кишело, металось, издавало истошные звуки. Носились, обезумев, ученики средних классов. Важно расхаживали старшеклассники. Жалась к своим родителям мелюзга. Раздавались сердитые, властные окрики преподавателей, зазывавших первоклассников на линейку. Ему было страшно это многолюдье, страшно оказаться одному в кричащем столиком сонмище, страшно расстаться с бабушкой. Чувствуя его страх, его близкие слезы, она купила ему большой, горячий, благоухающий бублик, усыпанный маком. Он стиснул его, как спасательный круг. Поплыл на нем в бушующее школьное море.
Теперь этот бублик проплыл в полумраке над бабушкиной запрокинутой головой, как золотое, окруженное кольцом, светило.
— Пи-ии…
И снова он кинулся ее поднимать, тянул полную ложку, которую она оттолкнула губами, будто серебряная ложка вызывала в ней враждебность, напоминала нечто пугающее, огненное, на что она дула, гасила обжигающий губы огонь.
Коробейников был терпелив. Ему доставляло удовлетворение сама возможность ухаживать за бабушкой, уставать в этих ухаживаниях, возвращать ей малую толику тех бесконечных, жертвенных, неусыпных усилий, которыми она окружала его в детстве.
Он помнил, как долгие годы, зимой и летом, из класса в класс, в институт, на охоту в волоколамские леса, в свои первые путешествия, покидая дом, он выходил из парадного, двигался вдоль кирпичного фасада и, прежде чем повернуть за угол, оборачивался и смотрел вверх, на окно четвертого этажа. И всегда там белело, улыбалось, нежно светилось лицо бабушки, которая провожала его, напутствовала молитвенной любовью, помещала в тончайший луч, в котором он двигался, сберегался, светясь ее отраженным светом.
— Пи-ии…
Длилась ночь. Книжные корешки в шкафу пялили воспаленные золотые глаза. Зеленый шар на столе с запаянным морским пауком недвижно мерцал таинственным подводным огнем. В хрустальной чернильнице, в которую столько раз окуналось его наивное детское перо, застыла сумрачная короткая радуга. Ночник под платком — черно-красный негаснущий уголь. Алые маки выпускали из ковра огромные лепестки, шевелились, росли, заполняли всю комнату.
Коробейников прилег на раскладушку возле кровати бабушки, отделенный от нее флаконами, чашками, висящим полотенцем. Фарфоровое судно лунно белело на полу. Отсвечивала липко клеенка. Казалось, все предметы слабо шевелились, смещались, сходились к бабушке, которая громко дышала на подушке, выглядывала темным птичьим ликом.
Внезапно она вскрикнула, очнулась. Ее голова отделилась от подушки, глаза раскрылись. В их черной глубине метался блестящий фиолетовый ужас. Руки тянулись вперед, и она ими отгоняла кого-то, кто страшно высовывался из темного угла.
— Уходи!.. Уходи!.. Брысь!..
Она дрожала, бормотала, булькала. Вена на горле страшно пульсировала.
— Прочь, уходи!.. — гнала видение бабушка. Но оно не исчезало, лишь множилось. Из угла лезли чудовищные твари, надвигались на бабушку. Она отбивалась от них, как от своры, которая протискивалась сквозь дыру в стене, обступала кровать.
— Бабушка, ты что?.. Нет никого!.. — Коробейников кинулся к ней, хватая за руки, заслоняя собой пробоину в углу, отгораживая ее от чудовищ. Но ее ужас переместился на него. Она не узнавала в нем внука. Он мерещился ей косматым чудищем, и она отталкивала его, больно ударяла, гнала:
— Брысь!.. Брысь!..
Он гладил ей руки, целовал голову:
— Ну успокойся, это я, Миша!.. — Но она вырывалась. Испуганно и затравленно на него смотрела.
В ее голове разрывались сосуды. Красные липкие взрывы заливали глаза. В багровых пятнах пялились страшные хари. Ее рассудок распадался, взламывался. Сквозь черные дыры разума вливался космический ужас, причиняя нечеловеческие страдания. Видения, которые ее посещали, были связаны с каким-то страшным, совершенным ею грехом. Этот грех оставался неведомым для любимых и близких, но она несла его в себе как ужасную тайну. Отмаливала, читала каждый вечер Евангелие, всей жертвенной жизнью, бесконечной, бескорыстной любовью избывала грех. Но теперь, в смертный час, он торжествовал свою победу над ней. Вспарывал ее разум, набрасывался яростным чудищем. Мерцал глазищами, дразнил языком, тянул из угла длинные когтистые лапы. Этот грех был пробоиной в ее душе. Сквозь эту пробоину рвалась в нее смерть. Коробейников не знал природу греха, не мог заслонить своей жизнью, любовью, молитвой эту страшную дыру, сквозь которую в бабушку прорывалась смерть.
— Ка-пер-на-у-ум… Эм-ма-усс… — нараспев, с больным завыванием, произнесла она названия библейских селений. Она боролась с грехом, защищалась оставшимися у нее последними средствами. Ее пораженный разум и страдающий дух взывали к спасительным образам Священного писания, среди которых протекала ее духовная жизнь.
Коробейников всматривался в ее бормочущее, страдающее лицо, на котором среди ужасных гримас проскальзывало умоляющее выражение. Под трепещущими веками возникали спасительные видения: среди синих холмов Иудеи, по горячим дорогам, окруженный учениками, ступал Спаситель. Их розовые и зеленые облачения, отдых под оливами и смоковницами. Чудеса, превращающие раскаленные камни в теплый душистый хлеб, претворяющие ключевую воду в алое терпкое вино. Ликующие толпы, с ветками пальмы и лавра, у иерусалимских врат, кидают алые ковры под ноги белой ослицы, целуют босые стопы Христа. Ночные бдения в душистом Гефсиманском саду под огромными южными звездами. Эти видения приносили бабушке мгновенное облегчение, словно на ее горящий лоб клали прохладное полотенце. Но потом возвращались кошмары: воины кинжалами кололи младенцев. Кривлялись прокаженные, корчились колдуны. Бесы вселялись в свиней, и безумное стадо с откоса кидалось в соленое море. Свистели бичи, оставляя на теле Спасителя кровавые раны. В желтом пекле подымалась раскаленная, усыпанная костями гора. Эти видения одолевали. Бабушка металась, порывалась вскочить, кого-то гнала и отталкивала. Ее маленькое тело разрывалось на части, как и ее душа, за которую вели сражение Ангел и Демон. Бились посреди комнаты над ее изголовьем. Вихри ударов шевелили лепестки огромных шелковых маков.
Коробейников чувствовал лицом неистовые порывы. Не мог вмешаться в эту смертельную схватку.
— Пи-ии…
Ночь казалась бесконечной. Все так же застыла в чернильнице воспаленная радуга. Таинственно мерцал перламутровый паук, запаянный в стеклянный шар. Постоянные вскрики бабушки, ее жалобные мольбы о помощи, требования пить и последующие капризно-недовольные отталкивания изматывали Коробейникова. Едва он ложился на раскладушку, бабушка, словно чувствуя ослабевающее к ней внимание, издавала свой однообразный птичий крик. Ему все трудней было на него отзываться. Он черпал серебряной ложкой компот, старался смочить пересохшие бабушкины губы, но она его отторгала. Огорченный, он приваливался на раскладушку, чтобы через минуту вскочить.
Ему казалось, что помимо него за бабушкой наблюдает кто-то еще. Чувствовал присутствие в комнате молчаливого множества лиц. Это были члены рода, уже умершие, наблюдавшие из своей бесконечности, как еще один представитель расстается с жизнью, готов присоединиться к ним. Они не участвовали в происходящем, не торопили бабушку, только наблюдали. Как большие молчаливые птицы, уселись на ветках дерева. Крепко держались за древесные суки, прижимаясь друг к другу боками, на нижних, средних, верхних ветвях. Как тетерева, покрывали все дерево, которое и было генеалогическим древом их огромного рода. Здесь были бабушкины братья и сестры, мать и отец, ее деды и бабки, пращуры и прародительницы. Среди древесной листвы темнели крестьянские бороды, ямщицкие лихие усы, солдатские закрученные усики, дворянские холеные бородки. Длинные девичьи косы соседствовали с закрученными в корзину бабьими прическами. Чудные локоны барышень перемежались с витиеватыми дамскими завивками. Коробейников различал в полумраке деревенские армяки и кафтаны, купеческие сюртуки и докторские камзолы, простонародные широкие сарафаны и изящные кринолины. Виднелись золотые цепи карманных часов, бирюзовые сережки, узорные, из слоновой кости, гребни. Родня слетелась к бабушкиному изголовью, расселась по ветвям генеалогического дуба, освободив на волнистой ветке место для нее.
От непрерывных вставаний, от моментальных, на одну минуту, засыпаний и немедленных, после птичьего крика, пробуждений Коробейников испытывал подобие бреда. Все плыло, двоилось, пропадало и возникало из сумрака. У него возникла кощунственная мысль об ограниченности Бога, о его невсемогуществе, о бессилии перед лицом смерти. Смерть была внебожественна, не подчинялась Богу, была повернута к нему спиной. И было бессмысленно умолять Бога об избавлении от смерти, об одолении смерти. Бог не откликнется на мольбу, не обладает для этого силой, не умеет проникнуть в пространство, где властвует смерть. Смерть предстала Коробейникову как особая сила, самостоятельная, абсолютная, непререкаемая, позволяющая до времени торжествовать Богу, а потом попирающая его могущество, отстраняющая Бога от управления миром, в котором смертью прочерчен неумолимый график, состоящий из бесчисленного количества точек — непрерывных людских смертей.
Он лежал, вслушиваясь в сиплое дыхание бабушки, и роптал на Бога. Горько от него отрекался. Язвительно насмехался над своими бессмысленными обращениями к Богу, над доверчивой, обращенной к Богу любовью. Теперь, когда наступила роковая минута и драгоценный для него человек похищался смертью, Бог оказывался не нужен. И, отрекаясь от Бога, полагаясь только на себя одного, он ринулся на борьбу со смертью.
Она была гигантской космической силой, бурно ворвавшейся в его дом. Была жутким, сметающим все ураганом, черной дырой, по краям которой гасли все звезды, погибали все твари, прекращались все жизни. Была глазастым косматым чудищем с пылающими очами, которое возникло из черной пропасти, просунуло когтистые лапы в комнату, ухватило кривыми когтями беззащитную бабушку, утаскивает ее из кровати в бездонный провал. В этом ощущении смерти воскресли его детские представления. Пробудились сказочные страхи и образы. Вспыхнули реликтовые языческие представления. Видя в смерти жуткую реальность, подобно сказочным богатырям, он кинулся на нее. Вонзал в нее заостренные копья своей ненависти. Сажал на рогатину своего отчаянного сопротивления. Рассекал ножом несмирившейся протестующей воли.
Они бились среди ночной комнаты, и свидетелями этой схватки были тома Гоголя и Тургенева в книжном шкафу, мамины платья в старом комоде, бронзовый морж на столе и изящный фарфоровый пастушок. И смерть отступила. Отпрянула, рыкнула из глубокой норы и скрылась. Бабушка, освобожденная из когтей смерти, дремала, дышала ровней и тише.
Он страшно утомился. Израсходовал в бою все силы и лег на раскладушку, исполнив свой вселенский долг. Спас бабушку от смерти. Был победитель. Был выше Бога. Был Бог.
Едва помыслил, как почувствовал, что воздух комнаты мутнеет, сгущается в черную воронку, раскручивается стремительным волчком, проваливается в жутком водовороте. И из черной бездны, куда рушилось и пропадало пространство, высовывается все та же ужасная харя смерти.
Бабушка ужасно вскрикнула, пружинно поднялась в кровати. Ее глаза округлились, выдавились из орбит. Она ужасалась видению, отталкивала его от себя, утробно вскрикивала:
— Ка-пер-на-ум…
Коробейников вскочил, кинулся к ней, схватил ее за худые, дрожащие плечи, приблизил лицо:
— Бабушка, это я!.. Видишь меня?.. Узнаешь?..
Притягивал ее к себе, требовал, отвлекал. Ее искаженное, безумное лицо на мгновение обрело осмысленное выражение. Глаза остановились на нем. В них рассеялась млечная муть. Из своей приближавшейся смерти, уже по пояс в черной дыре, последним меркнущим взглядом она узнала его:
— Ты-ы… Ми-ша… Лю-бу те-е-бя… — призналась ему в своей вечной любви. Наградила этой любовью. Этим последним любовным напутствием вернула ему все достояние жизни, которое он за минуту до этого ей передал. Отдала обратно жизненные силы, целительные энергии, животворный свет. Черный заслон опять упал перед ней, застил глаза, вновь погрузил в безумную сумеречность.
— Пи-ии… — раздался истошный крик болотной тоскующей птицы.
Пытка бессонницей продолжалась. Он вскакивал на ее крик, пытался напоить. Она отталкивала губами ложку, рушилась на подушку. Едва смыкал глаза, как крик повторялся. Снова вскакивал, черпал ложкой. В этих криках, вскакиваниях, безостановочных конвульсиях иссякли силы. Он прилег на раскладушку, сказав себе: «Всего несколько минут… Немного сна…» — и провалился в беспамятство.
Он не мог сказать, сколько спал, минуту, полчаса. Проснулся не от крика, а от тишины. Тишина стояла в комнате такая, словно исчезли молекулы воздуха и звук утратил среду, по которой распространялся. Вскочил. Его поразила странная опустошенность комнаты. Словно она расширилась, предметы отпрянули, освободив пространство. И в этой пустоте недвижно лежала бабушка. Молчала, не дышала. Не дрожали ее приоткрытые веки. Не пульсировала опавшая на горле синяя вена. Пальцы разжали одеяло, лежали поверх материи успокоенные, худые.
Он понял, что она умерла. Здесь лежала уже не она, а ее след, тень, отпечаток. А ее унесла с собой смерть. Утащила из комнаты, сквозь черную дыру в углу, которая была наполнена блеклым туманом. Забывшись коротким сном, он перестал сражаться за бабушку. Смерть воспользовалась его слабостью, увлекла свою добычу.
Это открытие не поразило его, не вызвало чувства вины, а только странное недоумение. Не было жалости, а лишь непонимание жизни, в которой он должен был расстаться с человеком, которого больше всего любил, и доживать свою жизнь без него.
Тихо поднялся, тронул ее теплые, остывающие руки. Пошел будить мать.
— Что? — чутко вскочила она. — Случилось?
— Умерла, — сказал он.
Мать быстро поднялась, засеменила к бабушке. Слабо коснулась ее лба, руки. Поправила одеяло. Они сели с матерью на раскладушку, бок о бок. Смотрели, как в свете ночника, в розоватом сумраке, лежит маленькая недвижная бабушка и над ее головой, успокоенные, пламенеют шелковые маки.
Они еще немного поспали — мать в соседней комнате, а он рядом с бабушкой, на раскладушке. Проснулся от яркого света. Комната была озарена сквозь синее зимнее окно. В утреннем свете странно и отчужденно поблескивали флаконы, пиалка, ложка, фарфоровое судно. Лежала изменившаяся в смерти, с приоткрытым ртом, неузнаваемая и чужая всему этому бабушка. Он посмотрел в окно. Тополь в синем морозном воздухе протягивал к стеклу близкую корявую ветку. И на этой ветке сидел снегирь, пушистый, пепельно-серый, с дивной малиновой грудкой. Смотрел на Коробейникова сквозь окно. И возникла острая, слезная мысль: это бабушка превратилась в снегиря и смотрит на него с любовью.
Вслед за кончиной бабушки наступили изнурительные, но и спасительные, притупляющие горе хлопоты. Милиция с деловитым участковым. Районная поликлиника с утомленным врачом, который засвидетельствовал смерть. Загс с выпиской из регистрационной книги, куда суровая учетчица, словно бухгалтер небесной канцелярии, вписывала и выписывала человеческие жизни.
Коробейников заказал гроб, пугливо оглядывая образец из сырых досок, наспех обтянутый розовым, с кружавчиками, ситцем. Выкупил место на кладбище и дал адрес, по которому назавтра должен был прибыть похоронный автобус. Дал телеграмму в Австралию Тасе.
Тетя Вера, мать, соседка обмыли бабушку, обрядили в торжественное одеяние, положили на письменный стол. В комнате, наполненной изящными старинными предметами, появился гроб, грубый, пахучий, лесной. Его вторжение странно бодрило, отвлекало от смерти, придавало ей уличный, простонародный характер. Коробейников вместе с соседом переложил бабушку в гроб, и она, такая маленькая, легковесная при жизни, показалась тяжелой, литой, словно небольшая каменная статуя.
Пришла Валентина, привела детей. Завороженно, с мерцающими глазами, с тоненькими беззащитными шеями смотрели с порога на свою лежащую в гробу прабабку. Коробейников сел на тахту под ковриком с маками, глядя на ледяное перламутровое окно. Рядом, не глядя, опустилась Валентина. Он испытал к ней благодарность за это молчаливое сострадание, еще не примирение, но шаг к сближению, к которому побуждала бабушкина смерть, оскудение рода, испуганные, сосредоточенные лица детей.
Похоронный автобус катил по Москве, и город, невидимый сквозь замороженные розовые окна, казался огромной морской ракушкой. Коробейников сидел рядом с матерью, и она держалась за край гроба.
Кладбище было морозным, дымным, в заснеженных могилах, с железной каталкой на полозьях, куда положили гроб. Он толкал железные сани с поклажей, вспоминая, как когда-то бабушка, бодрая, веселая, тянула его разноцветные саночки, и он видел веревку в ее шерстяной узорной варежке.
Могила слегка дымилась растревоженной землей. Желтая глина завалила снег. Могильщики с малиновыми щеками, хмельные, расторопные, подхватили гроб и на веревках опустили в могилу, приглашая всех кинуть по горсти земли. Мать испуганно кинула горстку. Настенька с Васенькой, придерживаемые Валентиной, кинули по маленькому комочку. Коробейников стиснул, а потом бросил ком глины, ударивший в глубине о бабушкин гроб. Заблестели лопаты, заметалась, застучала земля, погребая бабушку.
Дома ждал стол, множество тарелок, вилок. Бутылки, масленые блины, комочки голубоватого пресного риса с изюмом. Суетились, рассаживались, наливали вино и водку. Говорили поспешно, вразнобой, заговаривая какое-то сложное, неподвластное разумению, состояние, витавшее в комнате. Коробейников слышал звуки голосов как сквозь толщу воды. Видел лица родни, словно запаянные в толстое, слегка волнистое стекло.
Мать встала, что-то торжественно и печально сказала. Все подняли рюмки, пили не чокаясь. Коробейников выпил залпом большую рюмку горькой, жестокой водки. Задохнулся. И вдруг горячие, безудержные слезы любви, горя, бесконечного одиночества, бессилия постичь этот таинственный мир, хлынули из глаз. Он зарыдал. Встал из-за стола, перешел в соседнюю комнату. Присел на кушеточку, где день назад лежала бабушка, и, закрыв лицо руками, безутешно рыдал.
Почувствовал, как кто-то подошел и накрыл его голову ладонями. Поднял глаза. Сквозь слезы увидел Валентину. И такую благодарность, боль и любовь, обреченность их всех прожить эту жизнь и потом разлучиться навек, такое острое прозрение испытал Коробейников, что взял ее руки, прижал к своему мокрому лицу и рыдал, не стесняясь слез. Подумал, рыдая: бабушка и после смерти охраняла его любовью. Соединила их распавшиеся узы, сберегла от крушения.
53
Саблин, в составе делегации, в качестве референта по техническим вопросам, отправился в загранпоездку, в Роттердам, где велись переговоры с голландцами о поставках и переработке советской нефти. Он уехал из Москвы, оставив за собой выжженную землю необратимо истребленных отношений, не представляя себе, как сможет вернуться на пепелище, где больше не было у него сестры, друзей, покровителей, тщательно собранной и взлелеянной среды обитания, за пределами которой подстерегал его отвратительный и враждебный мир действительности.
Поездка в Роттердам была спасением, кратковременной отсрочкой радикального решения, которое он должен будет предпринять, чтобы начать свою жизнь сначала. В который раз вернуться на испепеленную, разрушенную им самим планету, создать вокруг нее атмосферу, населить существами и тварями, теми, с которыми бы мог продолжить обременительное, неизбежное бытие.
Вместе с членами делегации он поселился в дорогом отеле, в номере, который мог считаться роскошным, с баром, миниатюрными бутылочками, галетами и орехами. Каждое утро за делегацией приезжал нарядный микроавтобус, отвозил в переговорный центр с комфортабельным залом, где за длинным столом были оборудованы места для переговорщиков, референтов, переводчиков, стояли бутылки с водой и соками, лежали фирменные авторучки с блокнотами. Переговоры напоминали неторопливое вышивание крестиком на пяльцах, где тщательно заполнялся каждый свободный кусочек ткани, выкладывался затейливый, прихотливый узор. Глава делегации, одутловатый, с вислыми, сизо-выбритыми щеками хозяйственник, умно и тщательно обрабатывал своего визави — представителя крупной голландской фирмы, такого же, как и он, одутловатого, выбритого, с редкими ржавыми волосами на большой голове.
Спорили, иронизировали, убеждали. Иногда раздражались и сердито умолкали. Приходили к согласованному решению по мелкой проблеме. Старались обвести друг друга вокруг пальца, соблюдая интересы своих организаций. Иногда, когда требовалась особая подтверждающая информация, глава делегации обращался к тому или иному референту, в том числе и к Саблину. Тот раскрывал папочку с документацией, сообщал начальнику данные о длине трубопровода, количестве насосных станций, сортах нефти, пропускной способности трубы. Переводчик переводил все это на голландский язык, и это служило темой очередного неторопливого спора, наполненного любезностями, лукавством, заинтересованностью и тончайшей, хорошо скрываемой антипатией.
Поначалу Саблин был увлечен происходящим, своей ролью значительного, компетентного советника. Его занимала манера осторожной интеллектуальной игры, в которую были вовлечены переговорщики. Ход их мыслей напоминал неустанные пульсирующие движения червячков, выделяющих тонкую нить, свивающих из нее кокон. Затем увлекал вид предметов, таких, как авторучка, телефон, бутылка с минеральной водой, настольная лампа, назначения которых были абсолютно понятны, но их форма, пропорции, пластика разительно отличались от тех же предметов, изготовленных в СССР. Словно предметы, подобно биологическим видам, оказавшимся в различной среде обитания, принадлежали к разным ветвям эволюции, все больше и больше отдалялись друг от друга. Те же различия он наблюдал и в людях — множество подробностей, отличавших голландцев от соотечественников. Манера повязывать галстук, застегивать запонки, зажигать сигарету, доставать носовой платок, не говоря уже о самих галстуках и запонках, зажигалках и носовых платках. В манерах голландцев присутствовала непосредственность, свобода и легкость, а в манерах соотечественников была заметна зажатость, нелегкость и несвобода. Он любовался белизной и безукоризненной формой зубов переводчика, относя их свежесть и красоту к здоровому образу жизни, тщательной гигиене и доброкачественному питанию, пока не догадался, что зубы вставные, но такого качества, которого никогда не достигают отечественные дантисты.
Однако все это быстро ему наскучило, стало раздражать. Особенно раздражали технические данные, которые он извлекал из папочки, все эти диаметры, объемы, химический состав и протяженность. Железо труб, липкая нефть, их стоимость, производительность, пропускные способности не имели никакого отношения к его, Саблина, жизни. К его неповторимому существованию. К непрерывной тоске, которую он носил в себе, испытывая то яростное отвращение к бытию, то глумливую потребность издеваться над тварным миром, то необъяснимую печаль, которая возникала у него при взгляде на свои пальцы, на свое лицо, на свои сотворенные, навязанные ему от рождения формы. Эти раздражение и печаль — предвестники бешенства — овладели им уже на третий день пребывания в Роттердаме. Он прислушивался к ним, как прислушиваются к отдаленному стуку отбойного молотка, долбящего толстую стену.
Его ночной сон был бестелесным, высоким и легким, как перистое облако, и этот беспредельный полет рождал ощущение небывалого счастья. Он выпал из сна, как падают с нераскрытым парашютом. Ворвался в грубую вещественность гостиничного номера, своего распростертого тела, огромной пустынной кровати, на которой лежал под скомканным пышным одеялом.
Выбрался из-под сгустков теплой, тяжелой ткани. Голый, ступая по мягкому ковру, подошел к окну. За стеклом тускло блестел Роттердам, мокрый, холодный, состоящий из стеклянных призм, прозрачных квадратов, отражающих плоскостей, среди которых по улице, как по стальному конвейеру, катили машины, вспыхивали фары, текли перепончатые зонтики.
Город напоминал огромную реторту, где протекал химический процесс, пульсировала плазма, проскакивали электрические разряды, синтезировались бесчисленные формы: автомобили, пешеходы, реклама, отражения в мокром асфальте, и на все это падал дождь и мокрый снег.
Саблин чувствовал обнаженным телом холодную поверхность большого стекла. Сам себе казался синтезированным, рожденным в этой реторте, упрятанным в глубину кожаной оболочки, где среди чужих и враждебных органов мучительно и затаенно существовало пленное «я». Эта синтезированность, сотворенность, навязанные ему формы, строго определенные пространство и время, в которых надлежало существовать, вызвали в нем тоску и моментальное помрачение. Захотелось удариться со всей силой о стекло, пробить прозрачную реторту здания, выпасть на асфальт. Расколоть о камень коросту сотворенного тела, превратиться в изначальное, несотворенное, вечно существующее «я». Улетучиться ввысь, сквозь гарь и электрический блеск, в недосягаемую высоту.
Он отправился в ванную, где все сверкало, переливалось, зеркально отражало. Состояло из белоснежного кафеля, ослепительного металла, серебряного стекла с драгоценными цветными вкраплениями. Было частью лаборатории, обслуживающей плоть.
Завороженно глядя на белую эмаль ванной, отвернул большие хромированные краны, щедро ударившие пышной сочной водой. Добился умеренной, приятной для тела температуры. Смотрел, как шумно наполняется продолговатый объем, вскипает, ударяясь о поверхность, струя и вода постепенно приобретает драгоценный зеленоватый оттенок. Цвет южного моря, на которое из своих мраморных ванн любовались утомленные походами римляне.
Перенес ногу через край. Медленно опустил в воду, глядя, как волоски покрываются мелкими серебряными пузырьками. И опять вид своей голой ноги, ногти, розовеющие сквозь воду, пузырьки газа, прицепившиеся к волосяному покрову, вызвали в нем больное недоумение, брезгливость к себе самому, к нелепым, функционально обусловленным частям тела. Залез в ванну, спрятался в воду по горло, погрузился в шум, плеск, размытые брызги.
Когда вода достигла краев, ногой, растопырив пальцы, завернул краны. Лежал, слыша, как сливается в трубу избыток воды.
Он находился в реторте, в насыщенном кислородом растворе, облучаемый электрическим блеском, синтезированный, мягкий, пропитанный влагой, созданный по замыслу и чертежу.
Его конечности были рычагами, упиравшимися в шарниры суставов, со шнурами и тросиками длинных мышц, с чуткими щупальцами пальцев, предназначенных для хватания, сжатия, почесывания и постукивания. Желудок был утробной, ненасытной топкой, куда сквозь рот и пищевод сбрасывалось горючее, окислялось, выделяло жар, газы, едкие составляющие, которые выбрасывались наружу сквозь кишки и выходные отверстия. Сердце было неутомимой резиновой помпой, в упругих расширениях и сжатиях, толкавших красный рассол крови по кожаным трубкам сосудов, ополаскивая всю сконструированную машину тела. Легкие были пенистым пластмассовым чехлом, вспучивались и опадали, однообразно заглатывали и выталкивали газы, насыщая красную жижу крови. Глаза были сгустками цветной слизи, вылезавшей сквозь смотровые отверстия черепа, в них, как в окулярах винтовки, шло постоянное высматривание, прицеливание, изменение фокусного расстояния, и если в них ткнуть иголкой, они выльются студенистой мутной гущей. И среди всего этого множества механизмов, приборов, приспособлений, среди мозга — источника раздражающих образов, неявных страхов, мимолетных впечатлений, с непрерывным мельканием обрывочных, беспокоящих мыслей, среди всей этой сотворенной плоти пряталось исчезающе-малое, неуловимое «я», страдающее от своей неприкаянности, вброшенное в грубую функциональную плоть.
«Где я? — думал Саблин, прислушиваясь к неуловимому, немолкнущему страданию. — Куда меня поместили?»
Ему казалось, что его истинная, безымянная сущность спряталась в крохотную алую частичку и блуждает в кровотоке по непрерывному контуру, всплывая то в полушарии мозга, то в клапане сердца, то в глубине алчущего желудка. За этой бессмертной частичкой гнались другие, искусственно синтезированные тельца, желая ее захватить, а она ускользала, спасалась в лабиринтах чужого ей тела, искала выхода на свободу.
Желая разрушить материальную оболочку тела, освободить свое малое «я», он ущипнул себя за живот. Сжимая пальцы, причинял себе боль сильнее и сильнее, радуясь этой боли, которая свидетельствовала о непрочности оболочки, о возможности ее разрушить. Разжал пальцы, глядя на красный вспухающий отек, будущий синяк.
Потянулся к нише в кафельной стене, где стояли разноцветные флакончики с блестящими набалдашниками. Отвинчивал крышки, выливал в ванную пахучие шампуни, тягучие благовония, освежающие настои. Стал взбивать, превращая поверхность воды в душистую, сияющую пену. Лежал среди клубящихся благовоний, сравнивал себя с Афродитой, рожденной из пены. Представлял, что его тело утратило смуглую мускулистость, обрело мягкость и белизну. Пена скрывает его розовые пышные груди, набухшие соски, округлые нежные бедра. В паху, вместо уродливых подвесок, нежно золотится лобок с раздвоенными лепестками, прикрывающими влажное чувствительное лоно.
Эта смена пола, возможность стать женщиной, любовницей Зевса, античной богиней, раскрывающей свое лоно страстному быку, или кричащему от нетерпения орлу, или орошающему живительному дождю, — эта мысль показалась ему восхитительной. Несла в себе красоту метаморфозы и одновременно была оскорбительная для плоти, которую можно было трансформировать, отвинчивая и удаляя ненужные члены и органы, заменяя их другими, хранящимися на складе запасных частей.
Встал из ванной, удовлетворенный тем унижением, что причинил своей плоти. Растерся мохнатым полотенцем, поглядывая на лиловый кровоподтек на животе. Побрился, используя красивый прибор, который успел приобрести в магазине и который выгодно отличался от советского аналога. Облачился в свежую рубашку, костюм. Умело повязал шелковый галстук, купленный в одном из бесчисленных магазинчиков Роттердама. Спустился вниз к завтраку, где уже поджидали его коллеги.
— Рудольф, доброе утро!.. Рекомендую вам взять жареные охотничьи колбаски!.. Пальчики оближете!.. — Глава делегации, демократичный, благодушный, не ставящий преграды между собой и подчиненными, приветствовал Саблина из-за столика, где вместе со вторым референтом пользовался неограниченным обильем «шведского стола». — И обязательно фрукты, фрукты! Ананасы, клубнику!
Второй референт, пожилой, чуть чопорный, часто выезжавший за границу, назидательно, но так, чтобы не обидеть начальника, произнес:
— С утра я предпочитаю корнфлекс с молоком. Необременительно для желудка и весьма питательно.
Саблин прошелся вдоль «шведского стола», уставленного металлическими посудинами, под которыми тлели синие огоньки спиртовок. Не искусился на омлет, жареную ветчину, всевозможные сосиски, колбаски и сардельки. Обогнул гору засахаренной сдобы, пирожных с кремом и марципанами. Наполнил высокий стакан мутновато-золотым свежевыжатым апельсиновым соком.
— Нам следует не забыть захватить из номера зонты, если мы намерены после заседания отправиться по магазинам, — произнес начальник, с наслаждением поглощая еду. — Переводчик обещал показать хорошие и недорогие магазины, где есть замечательные дамские платки с изображением короны, королевских гербов и породистых лошадей. Думаю взять пару десятков. Отличный сувенир для жены, да и для любовницы тоже, — засмеялся он, тряся упитанными, из нежного жира щеками, этим откровенным замечанием еще больше сближая себя с подчиненными.
— А не хотите прогуляться в район «красных фонарей»? Я знаю, где это, — скромно улыбнулся пожилой референт, чьи седины и благородные очки не позволяли заподозрить в нем распутника, а всего лишь пытливого путешественника, приехавшего из пуританской страны в Нидерланды. — Могу показать вам сексшопы, можем посмотреть порнофильм. Побывать в Роттердаме и не совершить подобный поход значит многого не увидеть в Северной Европе.
— Почему не сходить? Не внесем это посещение в отчет, — хохотнул начальник. — Но все-таки сначала в магазины. Боюсь, что у нас может не оказаться времени потратить валюту. — Все это говорилось энергично, упитанной скороговоркой, заедалось колбасками, хрустящим салатом, соусами, большими ягодами оранжерейной клубники, плоскими кольцами сочного ананаса.
Саблин знал, что каждый раз после совещания начальник берет посольскую машину и вместе с приятелем-дипломатом отправляется по магазинам, возвращаясь в отель со множеством коробок и пакетов, набитых костюмами, рубашками, трусами, бюстгальтерами, махровыми халатами, настольными лампами, сервизами, статуэтками, электроприборами. Все это будет упаковано в огромные чемоданы на колесиках, Загружено в самолет для наполнения респектабельной московской квартиры. Отчужденно подумал, что большинство людей не тяготятся стесняющими душу покровами. Напротив, уплотняют их, наращивают оболочки, раскармливают тело, обкладывают себя все новыми и новыми загромождающими пространство предметами. Вдруг испытал к начальнику брезгливость, как к низшему существу, которую едва не выдал судорогой лица.
На утренних переговорах обсуждали возможность голландского низкопроцентного кредита для разработки еще одного сибирского месторождения нефти. Руководитель делегации недвусмысленно намекал, что подобный кредит обещали Германия и Дания, но давнишние отношения с партнерами из Нидерландов создают для них предпочтительную ситуацию. От Саблина требовалось обосновать кредит сведениями о мощности месторождения, назвать стоимость трубопровода, сроки окупаемости. Он открывал заветную папку, зачитывал информацию. Переводчик, блестя безукоризненными зубами, транслировал эти сведения тучному лысоватому голландцу.
Эти сведения казались Саблину бессмыслицей. Он слушал звуки чужого языка, превращавшие одну бессмыслицу в другую. Испытывал чувство абсурда, ненужности своего появления здесь, в чужом городе, среди ненужных, глубоко чуждых ему людей, которые зачехлены в ткани, в оболочки жира, погружены в рыхлые, пресные состояния, где не сыщешь ответа на мучительный, единственно важный вопрос: как преодолеть свою сотворенность, обременительную тварность, освободить от плена безымянную бессмертную частицу, заключавшую в себе свободное, суверенное «я»?
Он ощущал текущие в помещении часы как непрерывное отмирание крохотных отрезков времени. Будто кто-то кусачками отгрызал кусочки проволоки, и эти кусочки с неприятным звяком падали на железный поднос. Среди этого истребляемого корпускулярного времени приближалась издалека одна-единственная, выпадающая раз в жизни, частица, которая принадлежала только ему. Он властвовал над ней. Она обеспечивала ему спасение, бегство из материального плена, заколдованного тупика. Была быстролетной скважиной, куда он должен нырнуть, чтобы оказаться на свободе.
Голландец крутил красной пластмассовой авторучкой, что-то глубокомысленно помечая в блокноте. Руководитель делегации открыл бутылку с минеральной водой, наполнил бокал, множество игристых пузырьков полетело к поверхности. Переводчик достал из кармана платок и тщательно протер очки. Второй референт потянулся через стол, чтобы взять толстый английский справочник. Все эти перемещения и движения протекали в мертвом, ненужном времени, среди которого стремительно приближалось долгожданное мгновение.
— Рудольф, будьте добры, сообщите господину Хандсену, какова динамика цен на сырую нефть за последние четыре года. — Руководитель делегации обратил к Саблину свое серьезное, одутловатое лицо.
Мгновение налетало, как летящая из космоса частица. Саблин слышал его приближение. Медленно, улыбаясь, встал. Отодвинул стул. Двинулся к выходу, ощущая приближающийся вихрь. Руководитель делегации удивленно спросил:
— Вы куда, Рудольф?
Мгновение налетело, словно буря. Охватило, унесло с собой. Он вышел из конференц-зала, чтобы больше никогда не вернуться. Никогда не увидеть этих никчемных, тусклых людей. Необратимо порвать с ними. Порвать с прошлым. Со всей опостылевшей, лишенной смысла жизнью.
Шел мокрый снег вперемешку с дождем. Тротуары хлюпали, сочились. По ним чавкали толстые непромокаемые подошвы упитанных голландцев. Саблин стоял в ветреном, мокром пространстве, заполненном фасадами, автомобилями, тускло горящими рекламными огнями, туманно светящимися, набитыми до отказа витринами. В этом тесном пространстве, замуровавшем в себя безымянную душу, существовал невидимый выход. Только что он прорвался сквозь неумолимое время, обнаружив в нем крохотный зазор, мимолетную пустоту, в которую скользнула его жаждущая свободы жизнь. Теперь, победив неумолимое время, следовало победить пространство. Среди материальных форм, непроницаемых оболочек отыскать невидимую, оставленную для него скважину.
— Такси! — махнул рукой катившему мимо автомобилю. Уселся в теплую глубину салона за спиной водителя в форменной фуражке таксиста. — В морской порт! — приказал по-английски, для убедительности сделав волнообразное движение рукой, изображая море.
Порт состоял из серой стали, серого неба, серой воды. У бетонных причалов, в дыме и копоти, вращались краны, хрустели лебедки, в разных направлениях, на разной высоте двигались на тросах контейнеры, кипы струганой древесины, связки труб, загадочные агрегаты еще не собранных, не построенных заводов, рудников и хранилищ. Опускались на палубы и в трюмы причаленных кораблей. Сухогрузы, лесовозы, грузовые суда навалились бортами на пирсы, с горячим стеклянным дыханием полосатых труб, с ручьями воды, падающей из бортовин обратно в море — ржавые, окисленные, со следами далеких странствий, под флагами разных стран, сыро висящими на флагштоках. На открытой воде, туманно-стальной, сновали катера и буксиры, вяло отплывал огромный бело-черный контейнеровоз, осторожно разворачивался, показывая на трубе черные и красные полосы. Низкие берега были изрезаны протоками и проливами. Вдалеке, выступая палубой и мачтами над жухлой низиной, словно посуху, двигался в протоке корабль. Вдоль берега, растворяясь в тумане, бугрились цистерны и резервуары нефтехранилища, бесчисленные тускло-серебряные цилиндры, словно пузыри, вспухшие на кромке земли и моря.
«И это были пузыри земли…» — Саблин отрешенно повторял строку из Шекспира, озирая угрюмое пространство порта, отыскивая среди кораблей, кранов, нефтяных терминалов то, единственное, необходимое ему отверстие, сквозь которое он мог бы скользнуть и исчезнуть. Пробиться туда, где нет пространства, а присутствует одно необъятное, безымянное дуновение!
Голландия, где он оказался волею случая, представлялась ему загадочным местом земли, где образовался таинственный вихрь, превративший добродетельных, богопослушных голландцев в странствующее неуемное племя. Обуреваемые безумной мечтой, уплыли от своих берегов, расселились по всем континентам, растворились среди племен и народов, оставив на островах и побережьях белокожих негроидов, оливковых белокурых красавиц, чернокожих охотников с голубыми глазами. Здесь, в Голландии, существовал завиток пространства, через который отважные странники ускользнули из материального плена, стали свободными и невидимыми. Этот завиток, загадочная скважина сохранились поныне. Их нужно искать среди нефтяных терминалов, плантаций роз и тюльпанов, фабрик по огранке бриллиантов.
Он двигался вдоль пирсов, отделенных оградой. Огромный мутно-белый корабль, плоский и длинный, как взлетная полоса, с высокой слоеной рубкой, стоял под погрузкой. Два крана, крутя металлическими шеями, ставили на палубу разноцветные контейнеры. Было почти безлюдно, только на корабле несколько рабочих в пластмассовых касках принимали контейнеры да расхаживали у ворот два автоматчика в блестящих мокрых плащах. У Саблина мелькнула безумная мысль: эти зарешеченные прозрачные ворота, ведущие к кораблю, и есть та скважина, которую он ищет. Пройти сквозь ворота, подняться по трапу на палубу, затеряться среди разноцветных коробок, клепаных трюмов, ухающих потных машин, и через несколько дней — необъятный океан, пышные, падающие из неба лучи, горячие тропические ливни, африканские туманные звезды.
Эта мысль была столь восхитительной, открытие сулило столь быстрое освобождение, что он приник к воротам, стал рассматривать подход к кораблю, бетонный пирс с железнодорожной колеей, рубку с прослойками стекла, голубую трубу, над которой дрожал слюдяной воздух. Автоматчики сошлись и смотрели на него, одинаковые в своих капюшонах и блестящих плащах.
Откуда-то, из дождя и снега, появился худощавый молодой человек в кожаном пальто, влажной шляпе, с яркими голубыми глазами. Обратился к Саблину по-голландски.
— Не понимаю, — ответил Саблин на английском.
— Чем-нибудь могу быть вам полезен? — спросил по-английски молодой человек, видимо служитель порта.
— Куда идет этот корабль? — спросил Саблин.
— В Кейптаун.
Ну конечно же, он должен был догадаться. Корабль отправлялся с прародины таинственньк мечтателей и скитальцев на оконечность Африки, где эти скитальцы создали рай на земле. Возделали нивы, насадили сады, построили дивные города и селенья. Белокурые, синеглазые небожители, совершенная раса, уцелевшая среди кровосмешений, телесной и духовной порчи, сохранившая тайную мечту о беспредельной свободе, о небесном братстве. К ним, на этом корабле, он уплывет, чтобы влиться в их священный орден, вкусить среди них долгожданного освобождения.
— Вы что-нибудь хотели узнать? — Молодой человек пытливо рассматривал Саблина.
— Нельзя ли сесть на этот корабль? Уплыть в Кейптаун?
— Это грузовой рейс. На корабле нет пассажирских кают.
— А если устроиться в экипаж на работу?
— Едва ли. Экипаж укомплектован. А вы из какой страны?
Молодой человек любезно и холодно рассматривал Саблина, автоматчики сдвинулись за его спиной. Могла последовать просьба предъявить документы, пройти в помещение порта. Звонки в полицию, в службу безопасности. Советский агент задержан в районе порта, где вел наблюдения за движением стратегических грузов. Все это, как тошнотворный бред, нахлынуло на Саблина. Сулило изнурительное разбирательство, возвращение к опостылевшим соотечественникам. Могло обернуться посольским скандалом, высылкой на ненавистную родину, с которой навсегда порвал.
Саблин улыбнулся служителю. Шутливо взял под козырек. Пошел прочь под внимательными взглядами охранников, слыша скрипы грузовых кранов, исчезающих в тумане.
Он вернулся в центр, который, как повествовали туристические путеводители, пострадал во время войны от варварских налетов германской авиации. Весь старый Роттердам был сожжен и разрушен. Вместо средневековых ратуш, готических и лютеранских соборов, каменных, с деревянными балками, строений был воздвигнут стеклянный город: хрустальные призмы, отвесные, как водопады, стены, бесконечно льющееся стекло. Оказавшись в этом прозрачном пространстве, среди отражений, хрупких граней, призрачных переливов, он продолжал искать малое потаенное отверстие, сквозь которое мог бы ускользнуть из лучистой, в преломлениях и стеклянных спектрах, западни.
Весь центр состоял из множества магазинов, супермаркетов, ресторанов, развлекательных центров. Витрины поражали не просто разнообразием товаров, а разнообразием форм, в которые облекался один и тот же товар. Электрическая настольная лампа, оставаясь лампой, имела сотни неповторимых воплощений, словно неутомимый мастер импровизировал на тему лампы, создавая бесконечные серии, среди которых было невозможно сделать выбор, остановить внимание. Та же бесконечность форм сопутствовала вазам, велосипедам, слесарным и столярным инструментам, кожаным сумкам, лыжам, гробам. Предметы мультиплицировались, меняли расцветку, пластику, ускользали от глаз, которые перескакивали на соседний предмет, растерянно искали тот, что наилучшим образом удовлетворил бы вкус. Это перепроизводство, навязчивое изобилие, умопомрачительная избыточность порождали болезнь. Психика не выдерживала материального натиска, разрушалась, агрессивно реагировала на безудержное множество.
Саблин с ненавистью смотрел на витрины, понимая, что они предназначены отвлечь его от насущного поиска, замаскировать своим блеском, цветом, пленительными формами то ничтожно малое отверстие, в которое желала проскользнуть его жизнь. Пробовал воевать с витринами, гневно надвигался на них. Но ему навстречу грозно, слитно выступало материальное воинство фарфоровых сервизов, легионы перламутровых, голубых и розовых унитазов, фаланги дубовых, буковых, самшитовых и кедровых гробов с бронзовыми ручками и позолоченными замками.
Алая частичка, блуждающая в лабиринтах крови, содержащая его бессмертное «я», не находила скважины, куда бы могла ускользнуть из дурного материального мира, слиться с бестелесным мирозданием.
Он испытал моментальное бешенство. Проклял эту стеклянную фантасмагорию. Воздал хвалу летчикам «люфтваффе», которые на своих «юнкерсах» пролетели над проклятым городом, вырвали из него мерзкую сердцевину.
Он блуждал по городу, в дожде, среди торопливых отсыревших прохожих, враждебно и ненавидяще встречаясь взглядом то с молодящимся испитым стариком, чьи длинные, до плеч, волосы напоминали мокрый войлок. То с неряшливым, нарочито загаженным подростком в цепях и бляхах, от которого пахнуло псиной. То с респектабельным господином в клетчатом кепи, в чьих белых холеных руках вертелась толстая инкрустированная трость.
Красная капелька блуждала в крови, издавая тончайший звук страдания. Напоминала о себе. Была чужда всему остальному телу. Просилась на свободу.
Он верил, что эта крохотная огненная частица залетела в его род из другой галактики, вела происхождение от пришельцев, от небожителей. Влилась в его давнишнюю прародительницу, как дождь Зевса влился в Данаю. С тех пор передавалась из поколения в поколение, сводила с ума, побуждала к безрассудному бунту, неистовой страсти, беспричинной ненависти. Его дед, прорубивший окровавленной саблей путь на вершину советской власти, был отравлен этой незримой частицей. Передал ее внуку. И покуда семя иной галактики будет блуждать в лабиринтах рода, носители этой частицы станут изумлять своей свирепой неуемной энергией, непомерной тоской, разрушительной страстью и ненавистью.
Ему казалось, что он ведет свою родословную не от воронежских хлебопашцев, а от древнего вольного племени, появившегося в ковыльных степях среди скифских курганов. Боевой отряд аргонавтов сбился с пути, блуждал в ковылях и протоках, остановился на ночлег в стойбище полудиких туземцев. Греческий воин, сбросив шлем и доспехи, увлек на походное ложе молодую дикарку.
Он вел свою родословную от богов и героев. Его волновали меандры и свастики на кромках сосудов и амфор. Колесницы с длинноносыми воинами, мускулистые бегуны и атлеты — изящные рисунки на разбитых греческих вазах — будили таинственное родство. Он был среди них под стенами Трои. Плыл по зеленым волнам под песнопение сирен. Зевс брал в жены сестру, населяя Олимп богами. Елена была синонимом античной любви, ради которой рушились царства, тысячи кораблей бороздили пенное море, сражались и гибли народы.
Он мыслил себя среди героев Эллады и Рима. Был легионером Цезаря, добивал коротким мечом поверженного галла, наслаждался пожаром Рима. Он видел в фашистской Германии всплеск эллинизма, торжество героев и воинов. Шел вместе с ними среди развалин Европы, парил с парашютным десантом над акрополем, вместе с отрядом СС уходил в Гималаи отыскивать священный ковчег. В час сумерек, когда боги покидали Германию, вместе с фюрером приставлял к виску вороненое дуло «вальтера». Сталин возрождал эллинизм. Строил колоннады и пантеоны, украшал города античными статуями. Из сермяжных крестьян, унылых батраков и рабочих взращивал гвардию, аристократию духа, великолепное племя героев. Суворовцем Саблин учил историю, языки, танцевал на балах мазурку, обожал кремлевского Цезаря. Готовил себя к карьере дипломата и воина. Мерзкий мужлан, бездарный аграрий затоптал сталинизм. Забросал навозом античные мозаики и фрески, сверг с пьедесталов статуи, вместо дуба и лавра вплетал в венки кукурузные початки. Он ненавидел Хрущева религиозной ненавистью. Лысый руководитель страны был для него космогоническим воплощением зла.
Теперь он затравленно бродил по Роттердаму, как Персей по лабиринту, только без спасительной волшебной нити в руках.
Он попал в пустое пространство, где стеклянные химеры отступили, открывая больше места дождю и снегу. В туманной пустоте двигалось, вращалось, странно и великолепно сияло загадочное стальное диво. Вначале Саблин решил, что это машина, совершающая нержавеющими элементами сложные траектории. Однако рядом не было видно результатов этих неустанных усилий. И он понял, что перед ним кинетическая скульптура, воплощение современной европейской эстетики, явление пластической моды, сменившей бронзовых уродов с вырванными животами и чреслами на абстрактную машину в форме вечного двигателя.
Подошел к скульптуре. Поднял лицо. Завороженно смотрел. Скульптура состояла из огромной стальной плиты, зеркально отшлифованной, посаженной на оси, шарниры, воздетой в высоту на металлической штанге. Невидимый привод заставлял плиту совершать вращения в разных плоскостях, направлениях, вокруг разных осей. Эти вращения, колебания, перевертывания не поддавались закону. Не повторяли друг друга. Состояли из бесчисленных пируэтов, парений, падений, когда сияющий слиток взлетал ввысь, на мгновение замирал, охваченный белым блеском, рушился всей мощью к земле, пугая зрителя, останавливался у него над головой. А потом его косо сносило. Плита отворачивала, показывая отточенные кромки и грани. Она напоминала огромного неутомимого акробата, совершающего кувырки и кульбиты. Летательный аппарат, демонстрирующий «свечи» и виражи. Фантастическую «качалку», выдавливающую из земли нефть. Эта белая масса стали завораживала, пугала, восхищала. Саблин чувствовал создаваемый скульптурой ветер, ждал, когда сияние наполнит глаза тусклым тяжелым серебром.
Это был идол. Абстрактный бог, разрушивший привычные формы, растолкавший химерическое стеклянное пространство. Из света, чистейшего металла, в непредсказуемых кружениях — он был созвучен переживаниям Саблина. Это было его божество, его идол. Среди бесконечных колебаний, неуловимых смешений, разрушая закономерности мира, не подвластный логике, опровергая математические построения и физические константы, этот идол поджидал его, чтобы на мгновение занять в воздухе не предсказуемое геометрией положение. И тогда где-то под сияющей плитой, среди блистающих осей обнаружится крохотная скважина — путь в иной, внепространственный, мир, в чистейшую абстракцию, где отсутствуют формы, исчезает власть времени, кончается изнурительная определенность. Он нырнет в эту скважину, превращаясь в восхитительное «ничто». Стальное божество замкнет за ним таинственный вход, отсекая от дурного, отвратительного скопища, именуемого человечеством.
Не мигая смотрел на скульптуру. Следил за стальными дугами, радиусами, спиралями, отыскивая желанный путь. Чувствовал, как складывается комбинация из тысячи цифр, открывающая доступ в сейф. Его тело стало гибким и чутким. Мышцы стиснулись, готовые к броску. Глаза сузились и лучились. Он был похож на тигра, готового броситься в пылающий обруч. Алая частица звучала в нем, словно пружина катапульты, готовой швырнуть его в бесконечность.
Ему показалось, что момент настал. Сияющая плита описала иероглиф, вознеслась, повернулась вокруг оси. Под ней в тени что-то таинственно замерцало. Саблин сделался гибким и длинным, похожим на ныряльщика.
Плита тяжко обрушилась, рухнула ему на голову, накрыла литым блеском. Он понял, что обманулся. Не было никакого отверстия. Бездушная машина была выставлена здесь для обмана, чтобы одурачить, вовлечь в бессмысленные колебания. Став рабом машинного идола, он простоит здесь всю жизнь. Превратится в дряхлого, покрытого струпьями старика и все будет смотреть на волшебные колебания, бессмысленные вензеля, не дождавшись обещанного чуда.
Его охватило бешенство. Он ненавидел эту дурацкую машину. Ненавидел город, поставивший в своем центре этот абсурдный механизм. Ненавидел мир, вовлеченный в абсурд, не способный к героическому порыву и подвигу, накликал на него беду. Накликал хищные машины «люфтваффе» с крестами и суровыми беспощадными летчиками. «Летающие крепости», идущие эшелонами над раскормленными городами. Чтобы по всей земле расцвели пышные пионы взрывов, встали на рыхлых ногах атомные розовые сыроежки, поплыли по небу ядовитые медузы. Чтобы смерчи раскрутили планету в обратную сторону, сожгли и обуглили. И среди пепельной земли стояло стальное чудище, вращалась сияющая плита, совершая бесконечные спирали и дуги.
Саблин захохотал. Сначала тихо, потом все громче, до хрипящего кашля. Погрозил скульптуре кулаком. Полицейский в блестящем плаще, с дубинкой, удивленно на него оглянулся.
Вечерело, в тумане зажигались окна, вывески. Автомобили катились по мокрому асфальту. Красная на фасаде, размытая, клюквенная, на тротуаре, пульсировала реклама «Мартини». Саблин брел уже не в центре, а в узких старых кварталах, среди невзрачных фасадов, заплесневелых и шелушащихся. Машинально заглядывал в витрины дешевых лачуг. В одной из них его внимание привлекли образцы татуировок. Мужские спины, животы, груди были покрыты экзотическими зарослями, кольчатыми драконами, таинственными криптограммами. На плечах и бицепсах красовалась геральдика загадочных орденов и масонских лож, каббалистические символы и сюжеты магических трактатов. Люди украшали себя изображениями сатаны, передавая себя во власть ада. Выводили на своем теле готические письмена, наскальные руны, сцены охот и совокуплений.
Саблин рассматривал образцы, представляя, какие великолепные абажуры могли бы получиться из содранной кожи, пергаментно-желтые на свет, с затейливыми орнаментами и узорами. Едко развеселившись, толкнул соседствующую с витриной дверь, вошел в помещение. Оно было замусорено, заставлено вентиляторами, фенами, экранами, с мутным зеркалом и грубым топчаном, над которым висела жестяная незажженная лампа. Тут же стояла тумбочка на колесах, сплошь уставленная флаконами, тюбиками, стаканами, в которых торчали кисточки, иглы, скальпели, спицы с тампонами ваты. За столом, полуголый, с жирными руками, мужчина разглядывал в лупу какой-то рисунок. Склонил нечистое, с маленькой бородкой, лицо. Пахло чем-то кислым, нездоровым, как пахнет в больничных кухнях. При появлении Саблина мужчина оглянулся.
— Вы можете разрисовать меня так, чтобы мама родная не узнала? — спросил Саблин по-английски.
Мужчина что-то произнес по-голландски. Щелкнул в воздухе толстыми пальцами.
— Вот черт, да ты, оказывается, круглый дурак, — сказал Саблин по-русски. Посмотрелся в зеркало, из которого глянуло его осунувшееся, побледневшее, с лихорадочными глазами лицо. — Ты можешь меня сделать другим человеком, чтобы не узнали жена и дети? — Он сказал это по-русски. Наклонился над столом, где лежали образцы татуировок и смятые листы бумаги. Взял огрызок карандаша. Нарисовал лицо — овальный контур, глаза, нос, рот, как рисуют дети. Подумал и между носом и верхней губой начертал огромные, вразлет, усы, какие носил его героический дед. — Наколи мне усы, — провел пальцами у себя под носом, изображая усы, разводя их по щекам в стороны, закрутив несуществующие кончики.
Человек понимающе кивнул. Повторил его жест, обозначив усы, сначала на своем лице, а потом, осторожными прикосновениями пальцев, над верхней губой Саблина.
— И еще. — Саблин взял карандаш, на рисунке с усами, на лбу, над переносицей, изобразил свастику. — Такой симпатичный крестик.
Человек хмыкнул, подумал. Кончиком пальца вывел на своем лбу свастику, перенеся ее на лоб Саблина. Снова что-то хмыкнул.
— Ну что, парень, работай, — сказал Саблин, снимая сырое пальто, раскручивая шарф. — Покажи, на что способен.
Хозяин заведения уложил Саблина на топчан. Зажег осветительный прибор, напоминающий операционную лампу. Застелил грудь и плечи Саблина клеенчатым фартуком, от которого пахло прелью. Подвинул ближе тумбочку на колесах, уставленную инструментами. Склонился над Саблиным, как над пациентом. Саблин видел его близкие пористые щеки с черными вылезавшими волосками. Чувствовал теплое, прелое дыхание, от которого было нельзя увернуться.
— Маэстро, работай!
— Маэстро, маэстро, — осклабился татуировщик, обнажая изъеденные черные зубы.
Ваткой со спиртом протер Саблину верхнюю губу, отчего стало холодно и приятно запахло.
Взял инструмент, напоминавший узкий шприц, с капсулой, где содержался лиловый раствор, с короткой иглой и кнопкой, которую нажал, с легким щелчком выдавил брызгу красителя.
— Маэстро, — повторил он довольно.
Операция состояла из множества коротких болезненных уколов, от которых губа вздрагивала и начинала гореть. Щелкала игла, слепила операционная лампа, клочок бороды качался у самых глаз. Саблин закрыл веки, привыкая к боли. Он чувствовал, как распухает губа, как будто в нее вживлялись жесткие пучочки волос, превращаясь в дедовские усы. И пока татуировщик создавал эти плоские черно-синие усы, Саблин вспомнил их давнишнюю дачу в Малаховке. Чудесный, из хвойных бревен, просторный дом. Красные сосны вокруг. Мама в розовом сарафане кидает в самовар звонкую сосновую шишку, проталкивает ее в жаркую глубину. Он достает из корзиночки еще одну, растопыренную, похожую на смешного ежа.
Процедура заняла чуть больше часа. Маэстро, вспотев от усердия, отложил инструмент. Протянул Саблину круглое щербатое зеркало. Из него смотрело карнавальное, с намалеванными усами, лицо. Губа стала фиолетовой от крови и синего красителя. Усы были не дедовы, а такие, какие изображают на карикатурах у баронов-усачей — длиннющие, во всю щеку, с лихими загнутыми колечками. Это не смутило Саблина, лишь мрачно развеселило.
— Ты, видно, парень, не часто встречал красных боевых командиров. Теперь посмотрим, помнишь ли немецкую оккупацию. — Он ткнул себя пальцем в лоб, нарисовал воображаемую свастику.
Маэстро хмыкнул. Отобрал зеркало. Снова взялся за шприц.
Саблин чувствовал над бровями холодный ожог спирта и частые больные уколы, создававшие над переносицей свастику. По мере того как возникал на лбу крутящийся крест, это вращение проникало сквозь кожу и кость, вторгалось в мозг, словно в полушария окунули крутящийся миксер и он с жужжанием перемешивал студенистое вещество, сбивал коктейль из млечной и розовой жижи.
В черепе жужжало, хлюпало, пузырилось. Возникло лицо отца Льва с возбужденными выпученными глазами. Его сменил художник Кок с золотым хохолком и тощей петушиной шеей. Коробейников беззвучно шевелил губами, произнося неслышную фразу. Его жена Валентина, с округлившимися испуганными глазами, похожая на куропатку. Марк Солим с окровавленным лицом, лежащий у ледяного водостока.
Лица возникали, кружились, смешивались в неразличимый кисель. Воронка в голове углублялась, проваливалась сквозь мозг, и в открывшейся дыре, в черной бездне, среди беспредельного мрака, медленно вращалась гигантская свастика, составленная из звезд и светил. Словно в бесконечном Космосе шло непрерывное факельное шествие.
Саблин очнулся. Уколы в лоб прекратились. Душистая примочка смягчила жжение. Из круглого зеркала смотрело на него неузнаваемое лицо с усами циркача, с черно-розовой, отштампованной на лбу эмблемой.
— Крусефикс, — довольный своей работой, произнес маэстро.
Саблин поднялся, поправил одежду. Извлек толстую кипу голландских денег. Протянул мастеру, предлагая взять, сколько нужно. Тот ловко, движениями фокусника, снял несколько крупных купюр. Подумал и взял еще одну.
Саблин надел пальто, замотал шарф. Вышел на улицу, где было темно, блестели пролетающие огни, туманно горели фонари. Дергалась и трепетала красная реклама «Мартини».
Он двигался по улочке, в ледяном сквозняке, и ему казалось, что на лице горит раскаленная маска, делающая его неузнаваемым. В темных фасадах, на первых этажах низкорослых домов уютно горели окна, высокие, как витрины. Освещенные химически-красным, едко-фиолетовым, нежно-золотистым светом, в витринах сидели женщины. Вначале Саблину показалось, что это манекены. Разрумяненные, полуобнаженные, в шапочках и пелеринках, они держали на голых коленях вязанье и спицы, или цветастый журнал, или просто выглядывали из своих освещенных витринок. Но по мере того как он проходил мимо, они улыбались, поворачивали головы, шевелили пышными бедрами, кивком, слабым движением руки манили к себе.
Он понял, что забрел в квартал «красных фонарей». Ухмыляясь, топорща нарисованные усы, морща лоб с шевелящейся свастикой, он остановился перед крупной толстухой с голыми икрами, с туфельками на босу ногу, покусившись на ее малиновый махровый халат, приоткрытую толстую грудь. Толстуха улыбнулась накрашенными губами, жеманно повела плечом, приглашая войти. Он сунулся в дверцу, покидая мокрую тьму. Оказался в теплой, пахнущей ванилином комнатке, где навстречу поднялась круглобокая хозяйка. Привычным движением, не глядя, коснулась занавески, и на окно упала тяжелая гардина. Таким же наметанным жестом коснулась пуговицы на халате, и он соскользнул, она подхватила, кинула малиновый ком на стул. Осталась в коротких трусах, на высоких стучащих каблуках. Вывалилась из халата полными телесами — круглым голубоватым животом, сизыми плюхающими грудями, толстыми, в жировых отложениях, ляжками.
Что-то промурлыкала нежное и пленительное, как большая раскормленная кошка, на что Саблин отозвался ответным кошачьим мурлыканьем. Она прижалась к нему темным пупком, расстегивая пуговицу пальто. Он совлек пальто, шарф, кинул на стул. Она продолжала его раздевать, тянула за галстук, расстегивала пряжку ремня. При этом улыбалась, мурлыкала. В ее мурлыканьях, легких приседаниях, куртуазных гримасах было нечто от дрессированного животного, исполняющего привычную, многократно исполняемую работу.
Пока она совлекала с него одежду, он оглядывал комнату. Стол под вязаной скатеркой, на котором лежали журналы, клубочки пряжи, металлические спицы. Тут же торчком стоял искусственный фаллос. Заднюю часть комнаты занимала большая тахта, застеленная покрывалом, с валиками вместо подушек. Еще дальше виднелась кабинка душа, нечистый кафель и краны.
Он остался голый, босыми стопами утопая в мягком половике. Жеманно, как купальщица, она стянула трусы, и он увидел мохнатый треугольник, занимавший весь низ живота, похожий на набедренную повязку из овчины. Это обилие волос и мяса соответствовало животным отношениям, за которыми он явился.
Она провела его в душ, включила воду. Сама ополаскивала, растирала мыльной губкой, раскачивала тяжелыми, как гири, грудями, на которых торчали мясистые, похожие на пальцы, соски. Он позволял ей совершать гигиеническую процедуру. Не противился, когда она ловко и беззастенчиво надела на него презерватив. Мило улыбнулась, как улыбаются парикмахерши, извиняясь за секундное неудобство.
Вытерла его полотенцем, вывела из душа, подвела к тахте. Ее не занимало вспухшее от татуировки лицо Саблина, шутовские усы и нелепая свастика. Не интересовало, откуда он сам. Он был один из самцов, явившихся в портовый город, быть может, после долгого плавания, нуждающихся в медицинской помощи, которую она профессионально оказывала. Нечто медицинское, больничное было в анатомическом муляже фаллоса, в гигиеническом ополаскивании, в том, как она, выгибая крестец, нагнулась и застелила тахту розовой клеенкой, а потом накрыла ее простыней. Властно указала ему на тахту, а когда он лег, тяжело, продавливая ложе, поместилась рядом. Улеглась, раскинув полные руки, разведя колени. Призывно улыбалась, выглядывая из-за оплывших грудей.
Их совокупление было свирепым и вульгарным. Она имитировала страсть, повизгивала, закатывала глаза, закусывала губы. Колыхала большим изношенным телом. Он вторгался в нее без наслаждения, а с ненавидящим желанием придать соитию как можно больше грубости и животности. Две их мясных оболочки терлись одна о другую, потно скользили, сотрясали внутри себя переполненными желудками, печенью, кишками.
Наваливаясь на нее всей тяжестью, глядя в ее кричащий рот, в холодные, равнодушные глаза, он представил Елену, ее светящееся тонкое лицо, прелестные губы, золотистые, изумленно-взлетевшие брови. Заталкивал, запрессовывал любимый образ в теплое несвежее варево чужого тела, осквернял животными, парными запахами.
Когда последовала облегчающая вспышка, сразу же следом он испытал отвращение. Постарался побыстрее отлипнуть, откатиться от отвратительного голубоватого живота, разогретых, в малиновых пятнах, грудей.
Оделся, извлек из кармана деньги. Проститутка деловито отсчитала положенную за работу сумму. Скучно, с легким зевком, вернула остаток денег. Саблин вышел, чувствуя на себе липкий налет. Стал искать такси.
Номер, куда он вернулся, казался огромным, респектабельным, с холодным модернистским убранством. Скинул сырое пальто на шелковистое покрывало, уселся на кровать. Истошно зазвонил телефон. Видимо, руководитель делегации разыскивал его, обеспокоенный внезапным исчезновением. Звонки раздавались долго, с шизофреническим постоянством, пока не оборвались, оставив в воздухе гаснущее металлическое свечение. Саблин сидел на кровати, глядя на грязные башмаки, чувствуя на теле сальный налет, какой бывает на кастрюле после жирного холодного бульона.
Поднялся и двинулся в ванную. Кафель, фарфор, белый блеск металла, высокое ясное зеркало. Посмотрел на свое отражение. Под чернильно-розовыми уродливыми усами и вспухшей, как синяк, свастикой на него глядело измученное, затравленное лицо с умоляющим выражением глаз. Бутафорской татуировкой, балаганными усами и фашистским крестом он хотел пародировать знаменитого деда, под сенью и славой которого блекло и невзрачно протекала его собственная жизнь, лишенная оригинального содержания. Пародии не получилось. На молодой фотографии дед, унтер-офицер царской армии, выглядел браво, истово, с грозно-веселым взглядом, с пушистыми усами вразлет, в ладной гимнастерке с двумя «Георгиями». Из зеркала же на него глядел фигляр, вырожденец, шут и завистник, промотавший родовую доблесть.
Появилось желание смыть усы, соскоблить с тела сальный налет грязи. Пустил в ванну воду.
Тяжелая светлая струя упала на белую эмаль серебряным водопадом. Он разделся, улегся в ванну, чувствуя тающую прохладу металла, прибывающую теплую влагу. Тело медленно покрывалось водой, бесцветной прозрачной стихией, одинаковой в эмалированной ванной, в африканском водопаде, в южном океане. Так же, в мраморной ванне, среди теплых оливок и благоухающих роз лежал утомленный патриций, глядя на бескрайнюю лазурь Тирренского моря, увитое плющом изваяние.
Саблин слушал журчанье воды, плеск падающей струи, и в этих звуках начинала звенеть тончайшая печальная нота. Алая частичка, блуждающая в его утомленном теле. Она перемещалась, и звук менялся. Напоминал сладкий стрекот невидимого кузнечика в теплой осенней траве.
Он встал в ванной, отекая водой. Потянулся к подзеркальнику, где лежала бритва. Развинтил станок и освободил голубоватое английское лезвие. Опять улегся, давая воде успокоиться. Не глядя на запястье, чтобы не видеть, как распадутся трубки сосудов, резко провел бритвой. По одному, по другому запястью. Боль была не сильной. Он погрузился поглубже в ванну, откинув голову на эмалированный скат. Окунул глубже руки, чувствуя, как тепло окружает запястья обезболивающими прикосновениями. Видел, как на поверхность со дна всплывают розоватые, колеблемые водой клубы.
Лежал, дремотно закрыв глаза. Кровь вытекала. Он сладко слабел.
В номере приглушенно зазвонил телефон. Он чуть улыбнулся. Теперь его не достанут назойливые сослуживцы, вероломные друзья, строгие ревнители законов и правил. Телефон позвонил и умолк.
Алая корпускула блуждала в теле. Перемещаясь из головы, где больше не было дерзновенных мыслей. Втекала в грудь, где туманилось мягкое, нежное тепло. Спускалась в пах, в котором была блаженная пустота, долгожданный покой. Снова подымалась вверх, в голое, торчащее над водой плечо. Оттуда вниз по руке, к порезу. Достигла долгожданной скважины и выскользнула на свободу.
Покидая голое, вытянутое, уже не его тело, лежащее в розовой воде, напоследок увидел крымское синее небо, горячие цветы на клумбе. Сестра, маленькая и счастливая, в прозрачном платье, в красных матерчатых туфельках. За их дачным столом в белой рубахе сидит Сталин. Манит его к себе. Берет из блюда солнечный апельсин. Улыбаясь, чистит. Протягивает ему сочную душистую дольку.
И больше ничего. Тишина. Необъятное, высокое, прозрачно-безымянное облако.
54
После смерти бабушки Коробейников вернулся в семью. Не было объяснения с женой. Не было раскаяний, прощений, уверений. Тесовый гроб с бабушкиным утонувшим в цветах лицом вновь соединил их. Смерть была странным клеем, скрепившим треснувшее, готовое распасться бытие. Но боль оставалась. Валентина словно притихла, поблекла, стала рассеянной. В ней пропал наивный ликующий блеск, исчезла доверчивая, обращенная на всех радость. Прислушивалась к чему-то, что тихо и мучительно звучало, как эхо в глубине умолкнувшего рояля. Боль, словно глубоководная рыба, ушла на дно и жила невидимо, шевеля в темноте плавниками.
В газете новый заместитель главного редактора, сменивший поверженного Стремжинского, относился к Коробейникову с любезной холодностью, не приближал, не поручал ответственных заданий, не посылал в командировки. Погрузил в газетную рутину, не прибавлявшую жизненного опыта, изматывающую утомительными пустяками. Этот застой, недоброжелательство коллег, называвших его за спиной «отставным фаворитом», побуждали Коробейникова оставить газету. Предаться написанию романа, план которого созрел. И только сдерживал страх о хлебе насущном: надо было кормить семью, и газета служила этой цели.
О Стремжинском в редакции быстро забыли. Новый начальник перестроил внутренние связи, выявил новых лидеров, определил новую газетную политику. Но Коробейникову не хватало Стремжинского. Мучила загадка его устранения. Он решил отыскать поверженного властелина, повидать Стремжинского.
Нашел его в затрапезном профсоюзном издательстве, подвизавшемся на выпуске брошюр о передовиках производства и памяток по технике безопасности. Стремжинский получил должность обычного редактора. Размещался в утлой выгороженной комнатушке, куда едва втискивался стол и два стула, один для хозяина, другой для гостя. Стены были нечисты, стол завален грязноватыми лежалыми рукописями. Молчал один-единственный допотопный телефон с размочаленным шнуром. Стояла чашка с недопитым чаем. На блюдце ржавел огрызок яблока.
Увидев Коробейникова, он смутился. Стал суетливо усаживать, стыдясь утлости своей резиденции, ничем не напоминавшей великолепный рабочий кабинет с электронными табло, батареей белых «кремлевских» телефонов, с пленительной полинезийской царевной у входа. Все было жалко, затерто, вымученно. Как и сам Стремжинский, который похудел и осунулся, словно после тяжелой болезни. Исчез его яростный бычий взгляд, властное колыхание сильного сытого тела, вольность движений, благосклонная ирония. Казалось, его уменьшили, обтесали, высушили. Выбили из него удерживающий стержень, и он повис, ссутулился, пугался резких движений.
— Пришли посмотреть на Меншикова в Березове? — попробовал он пошутить. Но лицо было жалким, улыбка болезненной. Он шарил по столу, желая прибрать неопрятный огрызок, заслонить нелепую папку с канцелярскими шнурками.
— Я узнал, где вы работаете, — произнес Коробейников как можно проще и искренней. — Вот и решил навестить. Мне вас не хватает. Газете вас не хватает. Нет прежней энергии, смелости, парадоксальности. Такое ощущение, что газета теряет силу.
Это признание обрадовало Стремжинского. Он оживился, едко нахохлился. Но опять сник, стал жаловаться беспомощно и тоскливо. И в этих жалобах звучало стариковское, унылое, необратимое.
— Они даже не сказали за что. Я добивался от них: «В чем моя вина? Что я сделал не так? Ухудшил газету? Проводил антипартийную линию? Низкопоклонствовал перед Западом?» Один ответ: «Решение принято на таком уровне, что бесполезно обжаловать». Я ведь просил немногого: «Объясните, за что вышвырнули? Я не собака. Работал преданно, не жалея сил. За что со мной так обошлись?..»
Он роптал на мегамашину, частью которой являлся. Взращивал ее, усовершенствовал, наращивал ее элементы, помогая этой машине исполнять предписанные функции: тонко управлять настроением общества, отвлекать от болезненных, мучающих интеллигенцию проблем, концентрировать внимание на том, что считала важным партия. В этой машине он был не винтик, не гайка, а прекрасно сконструированный дорогостоящий узел, на котором держалась важнейшая часть механизма. Этот узел, казавшийся уникальным, вынули и заменили другим. А его выкинули на свалку. Выбросили из машины, и машина его переехала. Покалеченный, он сидел перед Коробейниковым. Сам был чем-то похож на ржавый огрызок яблока.
— Этот телефон звонит один раз в день, когда начальник вызывает меня к себе. Мелкий, честолюбивый профбоссик. Приглашает меня, еще недавно фигуру номер один в газетном мире, чтобы продемонстрировать свою власть надо мной. Сует какую-нибудь идиотскую рукопись, с требованием отредактировать. Даже не предлагает сесть. Люди, которые стремились ко мне, записывались на прием, ловили взгляд, льстили в лицо, все, кому я сделал столько добра, выручал, помогал, вдруг исчезли. Будто я умер. За все эти недели только вы появились. Неужели я был важен лишь тем, что посылал в дорогие командировки, повышал в должности, подписывал премии? Ужасно чувствовать людской примитив!..
Он был человеком машины. Люди нуждались в нем, как в носителе важнейшей функции. Когда он выпал из машины, то лишился функции, и люди от него отвернулись. Электромагнит, когда по нему пропускают ток, притягивает множество железных предметов. Если ток отключить, становится обычным куском металла. Стремжинский выглядел электромагнитом, у которого отключили ток. Его обмотки были пусты. Коробейников остро чувствовал эти оборванные провода, по которым больше не вливались в Стремжинского неукротимые бодрые токи.
— Предательство друзей — вот что должен пережить человек на своем веку. Мне-то казалось, у меня много друзей в ЦК, в культуре, в прессе. Известный вам кружок Марка Солима, тайное братство единомышленников, поклявшихся на крови! Когда меня подстрелили, обращаюсь к Ардатову: «Помоги, выясни, что случилось!» Он в панике: «Некоторое время, прошу тебя, не звони мне!» Как будто тридцать седьмой год. Добиваюсь встречи с Цукатовым, ну вы помните, помощник генсека: «Выясни, заступись, поговори с главным!» Он мне: «Пойми меня правильно, сейчас не следует злоупотреблять услугами главного. Дай время, все устаканится». Звоню Привакову, у него высокие связи в КГБ. Секретарша не подзывает: «Он на приеме… У него делегация… Он в командировке…» Я-то знаю, что он в Москве. Избегает меня как прокаженного. Бобин, вхож во все кабинеты, лиса, дипломат, проныра. «Ты где-то очень наследил. Решение о тебе принималось на самом верху. Тебе лучше залечь на дно и нас не подставлять». Подлец, трус! Вот так же в тридцать седьмом обреченные метались, обращались к высоким друзьям, а у них перед носом закрывали двери. Они ждали, когда ночью на лестнице застучат сапоги. Значит, и меня арестуют?
Он жаловался, возмущался, вымаливал себе прощение в том, в чем не был виноват. Мегамашина была не жестокой, а бездушной. Механически вычеркнула его из нескольких списков, лишила дачи, пайка, личной машины, «кремлевского телефона», места в газете, должности в Комитете защиты мира. Его имя стерли в картотеке номенклатуры. Его изображение убрали из памяти. Как на золоченой разноцветной мозаике в метро «Комсомольская», с которой, по мере партийных переворотов и заговоров, убирали по очереди Сталина, Берия, Маленкова, Кагановича, Молотова, Хрущева, пока трибуна не опустела и не пришлось переделывать мозаику.
— Они убирают самых преданных и талантливых! Плодят обиженных государством людей! Оставляют одних прихлебателей, приспособленцев, карьеристов! У государства не останется преданных государственников! Тех, кто в час беды пойдет защищать государство, отдаст за него жизнь, вынесет пытки. Государство погибнет, потому что у него не останется защитников. Когда оно зашатается, его не поддержат, а побегут прочь, ухватив с собой лакомый кусок. Побегут партийцы, припомнив государству партийные чистки. Побегут военные, припомнив репрессии против Тухачевского и Блюхера. Побегут директора, припомнив «Промпартию». Побежит наша прикормленная интеллигенция, припомнив кампанию против космополитизма. Каждый кинет в государство ком грязи. Я не приду на помощь. Буду смотреть из этой задрипанной, гнусной каморки, как валятся кремлевские стены, как танки с трусливыми командирами драпают от патлатых юнцов, как последних государственников сажают в клетку и везут под улюлюканье и плевки ненавидящего народа!..
Он пророчествовал, грозил, злорадствовал. Видел недоступную Коробейникову картину разрушения государства, которое лишилось приверженцев, оскорбило преданных слуг, поплатилось крушением.
— Но они ошибаются! Они хотели меня раздавить, но я еще жив! Я воскресну! Я ценен сам по себе! Мои знания, талант, мой опыт дороже любых номенклатурных пайков и связей! Я сделаю это паршивое издательство лучшим издательством страны! Привлеку самых талантливых авторов! Ко мне придут самые блестящие современные художники! Выйду на мои заграничные связи, и нас станут читать в Европе! Это будет взлет культуры, интеллектуальной смелости, эстетической новизны! Они еще увидят, на что я способен!..
Он воспылал дерзновенной мечтой. Стал прежним Стремжинским с глазами разъяренного быка, упрямого, яростного и бесстрашного. Но потом обмяк, сник, словно из него выпустили воздух.
— Не могу… Сломали хребет… Я собака с перебитым хребтом… Кто же нас всех предает? За что нам такое?..
Сидел, сутулясь, в своей жалкой каморке, былой властелин, громовержец, у которого вырвали пылающий трезубец молний, вставили в кулак пучок соломы. По блеклому, постаревшему лицу катились слезы.
Коробейников, мучаясь, сострадая, поднялся. Вышел из комнаты.
55
Вернулся домой и был встречен огорченной, встревоженной Валентиной, которая с порога протянула ему листок бумаги:
— Приходил военный, в форме. Заставил меня расписаться. Может, я не должна была это делать? Но я так растерялась…
Листок бумаги был повесткой, приглашавшей его, Коробейникова, явиться назавтра, в десять утра, в Комитет государственной безопасности, на Лубянку, в кабинет 507, к подполковнику Миронову А. Г. Штамп КГБ подтверждал достоверность повестки.
Эта блеклая, невыразительная бумажка вдруг повергла Коробейникова в оторопь. Словно в сознании открылись невидимые прежде скважины, и сквозь них хлынул страх. Страх был мерзкий, парализующий, немотивированный. Его усиливало бледное, беззащитное лицо жены, смех играющих в комнате детей. С этой повесткой в их дом проникла слепая, всесильная, беспощадная власть, угрожая хрупкому, беспомощному укладу.
— Ничего страшного, — произнес он, стараясь собой овладеть. — Думаю, что речь не идет о государственном перевороте.
Однако весь вечер, удалившись в кабинет, он пытался справиться с паникой. Лихорадочно перебирал все возможности и поводы, заставившие загадочного, сурового, с беспощадным лицом подполковника, напоминающего наркома Ежова, прислать ему эту повестку.
Его участие в «кружке» Марка Солима. Грядущий шумный процесс, наподобие тех, что проходили в Колонном зале в 37-м, с выступлениями прокурора Вышинского, со статьями в газете «Правда», когда на скамью подсудимых, среди белых колонн, озаренных хрустальными люстрами, выводили бледных, изнуренных допросами недавних государственных мужей, и те наговаривали на себя несусветные крамолы и измены, приближая час приговора. Тусклая лампочка в подвале тюрьмы, разрывная пуля в затылок.
Он готовился давать показания на ночном допросе, под разящим светом электрической лампочки. Беспощадный подполковник допытывается о его связях с заговорщиками, а он, умоляя, убеждает его, что не было связей, он случайно попал в «кружок», лишь дважды был в гостях у Марка Солима, слушал забавные истории про кофейное зернышко бедуинов, скульптуры Сальвадора Дали, не посвящен в хитросплетения заговора. Следователь молчит в пятне слепящего света. В углу стоит жестяное ведро с водой, валяется мокрая тряпка.
Или поводом для допроса послужила дружба с отцом Львом, церковным диссидентом, не скрывавшим неприязни к советскому строю, к партии, КГБ, замышлявшим издание рукописного православного журнала? Но ему, Коробейникову, не было нужды участвовать в самиздате, он обильно и эффектно печатался в государственной газете, а его отношения с отцом Львом носили не политический, а религиозный характер. К тому же Коробейников постоянно защищал от нападок друга мегамашину государственной власти и безопасности.
Или вина его состояла в том, что вместе с художниками-язычниками участвовал в подпольной выставке на опушке зимнего леса, дружил с Коком, был замечен в языческих игрищах и камланиях? Но туда его привело писательское любопытство, журналистская пытливость, и он собирался изобразить в газете экзотические и невинные забавы отшельников от искусства.
Он перебирал своих друзей и знакомых, общение с которыми могло скомпрометировать его в глазах всемогущего ведомства. Ловил себя на том, что в унизительном страхе, спасаясь, мысленно отрекался от близких людей, отгораживался от них.
Его ночь была тревожной, с клубящимися кошмарами, с пробуждениями. В зеленеющем окне, сквозь наледь, взирал на него немигающий беспощадный взгляд человека в военном френче с ромбами, в фуражке с синим околышем. Страх лился из неведомых донных глубин его души, соединявших его с истребленной родней. Арестованные и погубленные, бежавшие за границу и павшие на Гражданской войне, сгинувшие в штрафных батальонах и ссылках, изнемогшие на этапах и лесоповалах, исчахнувшие в тифозных бараках и карцерах. Они посылали в него ночные импульсы страха, и он знал, что этот страх, поднявшийся из донных глубин как потаенные грунтовые воды, не исчезнет в его детях и внуках, станет питать их ночные кошмары, управлять их явью.
Утром Валентина, бледная, трепещущая, провожала его до дверей, как если бы им уже не суждено было встретиться. Желая ее подбодрить, он неловко пошутил:
— Смену белья и сухари приготовила? — Поцеловал жену в холодный лоб.
Здание на Лубянке высилось громадным помпезным фасадом, перед которым крутилась дымная карусель машин, сворачиваясь в урчащий сгусток. После крещенских морозов настала сырая февральская оттепель. Желтый фасад покрылся пепельно-белой шубой, словно здание было проморожено насквозь. В нем проступила вечная мерзлота, и в его глубине, заледенелые, сохраненные навек, как муляжи, сидели чекисты, следователи, арестованные, конвоиры с винтовками и штыками.
Коробейников нашел бюро пропусков в соседнем здании. Сунул в окошечко повестку и паспорт. Через некоторое время рука в военном кителе протянула ему пропуск. Голос невидимки произнес:
— Подъезд номер два.
Коробейников, робея, поднялся по гранитным ступеням, ухватил огромную, окованную медью рукоять, потянул на себя. Высоченные дубовые двери мягко отворились. После влажного снежного холода он очутился в теплом вестибюле перед выгородкой, за которой стоял военный пост: два сержантах синими петлицами и с пистолетами в кобурах и один, проверяющий документы. Он долго просматривал паспорт Коробейникова, сличал фотографию, всматривался холодными серыми глазами. Этот цепенящий взгляд, казалось, был предусмотрен уложениями и правилами, имел целью парализовать волю визитера, поставить его в полную зависимость от обитателей грозного здания.
Взволнованный, чувствуя себя неловко и неуверенно, Коробейников прошел к лифту. В просторной старомодной кабине, окруженный молчаливыми, замкнутыми людьми, поднялся на пятый этаж. Двинулся по длинному коридору вдоль одинаковых высоких дверей с номерами. Навстречу попадались служащие в гражданской одежде, несущие какие-то папки, скорее всего, с показаниями арестованных. Несколько военных, сосредоточенных и торопливых, могли быть начальниками конвоя, получившими приказ кого-то этапировать. Здание было таинственным, заколдованным, полно видений, невнятных голосов, с обманчивой простотой интерьера. Коробейников отыскал высоченную, из светлого дуба, дверь с табличкой «507». Постучал. Не дожидаясь ответа, открыл. Просторный кабинет, обставленный в стиле 30-х годов, был наполнен зимним неярким светом. Над столом висел портрет Дзержинского с иезуитской бородкой. Под портретом, поднявшись из-за стола, стоял хозяин кабинета, в котором Коробейников изумленно узнал Андрея, знакомца, посетителя «кружка» Марка Солима — его утонченное, миловидное лицо, мягкие губы, душевные глаза, легкая застенчивость и любезность во всем моложавом очаровательном облике.
— Вы? — тихо ахнул Коробейников. — Подполковник Миронов?
— Входите, Михаил Владимирович, — пошел ему навстречу хозяин кабинета. — Я подполковник Миронов Андрей Георгиевич. Должно быть, мне следовало просто позвонить вам домой, по-товарищески. Но в нашей встрече есть некоторая доля формальности, и я счел за благо оповестить вас повесткой.
После рукопожатия Миронов усадил Коробейникова за небольшой столик, примыкавший к тяжеловесному столу, сработанному мрачными столярами сталинской эпохи, своей тяжеловесной эстетикой напоминавшему здание Госплана, гостиницу «Москва», Академию Фрунзе, громадную кубатуру Военного штаба напротив Парка культуры. Сам Миронов, изящный, в красивом костюме, с небрежно и вольно повязанным галстуком, вернулся за этот стол, унаследованный от другого поколения крупных, тяжеловесных людей, с могучими лбами и выпуклыми надбровными дугами.
Некоторое время Миронов молчал, приветливо смотрел на Коробейникова. Давал ему освоиться, приглашал не стесняться, не нервничать. Возвращал к тем дружеским отношениям, какие сложились у них за пределами служебного кабинета.
— Михаил Владимирович, вы, конечно, знакомы с Рудольфом Саблиным. Более чем знакомы. Я знаю, вас связывают мучительные отношения, в которые замешана его сестра Елена, жена нашего бедного и благородного Марка. — Миронов говорил дружелюбно, с легкой печалью, давая понять Коробейникову, что ему известны хитросплетения их отношений, но он ни в коей мере их не осуждает, принимая их как неизбежную человеческую драму, от которой не застрахован никто. — Рудольф Саблин, человек абсолютно незаурядный, быть может, не имеющий себе подобных в нашей среде. Много в своей жизни напутал, наломал, навредил себе и другим. Наше ведомство с ним знакомо, даже помогало ему, когда он попал в безвыходные обстоятельства. Мы, что называется, за уши вытащили его из-под суда, руководствуясь его знаменитой «государственной» фамилией, а также просьбами друзей, среди которых был и наш с вами друг Марк. Пожалуй, я понимаю, что двигало Саблиным, когда он написал нам эту бумагу. — Миронов приоткрыл тонкую папочку, извлек несколько листков, исписанных от руки. — Им двигала жажда мести, неутоленная страсть, слепое желание устранить соперника. Это на него похоже. Аттестует его как безумца, как человека страстей, не нашедшего себя в нашей жизни… Прочитайте… — Он протянул через стол легкие листки.
Коробейников принял листки, склонился над ними. Стал читать, ужасаясь написанному.
Это был донос Саблина в КГБ, в котором говорилось, что он, Коробейников, является создателем антисоветской подпольной организации, ставящей целью свержение советского строя и уничтожение ведущих деятелей государства. Коробейников — разработчик национально-патриотической русской идеологии, на основе которой создается и начинает действовать организация. Уже созданы группы поддержки в Православной Церкви, которыми управляет священник отец Лев Русанов. Действуют законспирированные группы в литературных кругах, направляемые известным диссидентом Дубровским. Работники иностранных посольств подключены к организации, под видом покупок работ у художников-авангардистов снабжают заговорщиков деньгами. Поездки Коробейникова по гарнизонам, на флот, в ракетные войска и авиационные части привели к созданию ячеек среди военных, где обсуждались планы авиационного налета на Кремль, перенацеливание стратегической ракеты на Москву. Особая роль возлагалась на футуролога Шмелева, который во время поездки на Всемирную выставку в Осако должен был установить контакты с японскими и американскими спецслужбами, добывающими информацию о Сибири и Дальнем Востоке. Ему, Саблину, Коробейников отводил роль создателя «боевого крыла» для совершения диверсий и террористических актов. В частности, обсуждались планы отравления партийных лидеров через вентиляционные люки Кремля, устройство вооруженных засад по пути следования правительственных кортежей. После свержения советского строя, по замыслам Коробейникова, значительная часть партийно-советского актива страны подлежала аресту и размещению в концентрационных лагерях, для чего размораживалась и оживлялась законсервированная система ГУЛАГа.
Коробейников испытал ужас. Его стремились убить. Не пулей, не ударом ножа, не щепоткой яда. Обладая дьявольскими знаниями, Саблин натравливал на него непомерную мегамашину государства, заложив координаты подлежащей уничтожению цели. И этой целью был он, Коробейников. Громадное здание Лубянки двинулось с места, как гигантский комбайн, грохоча мотовилом, лязгая цепями, продавливая тяжестью землю. Пошло на него, неотвратимо приближаясь, преследуя по пятам, настигая вращающимися лопастями. Саблин желал его смерти. Нацелил гигантское, неодолимое оружие. И единственной возможностью уцелеть оставалось убийство Саблина. Он должен был умереть сейчас, немедленно, где бы ни находился. Умереть не от выстрела — у Коробейникова не было пистолета. Не от яда — не было заветной ампулы. Не от встречного движения могучего комбайна — Коробейников не знал устройства мегамашины, не ведал, где расположены ее рули и штурвалы, электронный мозг и вечный двигатель. Смерть Саблина должна последовать от удара его, Коробейникова, воли. От разящей ненависти, страстного нежелания умереть, спасти домашний очаг, беззащитных детей, обреченную на гибель жену. И, перечитывая аккуратные, округло выведенные строки, через эти строки соприкасаясь с Саблиным, Коробейников послал ему истребляющий удар. Смертоносный импульс ненависти, который должен был отыскать Саблина в этом заснеженном городе, проникнуть в голову и взорваться, как кумулятивная фаната.
— Все это вздор, клевета, — произнес Коробейников, не глядя на Миронова, сжимая листки, продолжая посылать свои истребляющие удары.
— Нет сомнения, что это оговор. Мне даже понятны причины этого оговора. Но чтобы оставаться профессионалами, мы все-таки направили запросы в особые отделы тех гарнизонов, которые вы посетили. И конечно же не нашли никаких фактов, подтверждающих обвинения Саблина. Мы связались с нашим уполномоченным по Смоленской области, и он сообщил, что священник Русанов живет абсолютно замкнуто, общается с соседским священником, отцом Филиппом, который состоит на учете в туберкулезном диспансере. Недавно получил от церковного начальства нарекание за участившиеся случаи пьянства. Что касается художников-фольклористов, то ими должны заниматься психиатры, а не органы безопасности. — Миронов был доброжелателен, ничем не напоминал беспощадных чекистов прошлого, заседавших в «тройках», выбивавших из арестантов признания, верящих любому навету. — И все же, Михаил Владимирович, чтобы закончить с этим, необходимо соблюсти некоторые формальности. Я дам вам листок бумаги. Вы напишете, что познакомились с заявлением Саблина, отвергаете обвинения. И, если можно, дайте Саблину психологическую и моральную характеристику. Вам, писателю, он понятней, чем многим из нас.
Миронов протянул ему чистые листки бумаги, авторучку. Вышел из-за стола. Встал к окну, спиной к Коробейникову, чтобы не мешать. Смотрел наружу, где белая, с невидимым водоворотом машин, рокотала площадь Дзержинского.
Коробейников стал заполнять листки, опровергая навет, рассказывая, в каких отношениях он находится с отцом Львом, с художником Коком, с покойным архитектором Шмелевым. С какой целью посещал военные гарнизоны, навещал отдаленный приход в селе Тесово. Дал описание своего знакомства с Саблиным. Нарисовал его психологический портрет, мировоззрение. Определил его характер, противоречия, стараясь придать описанию беспристрастный характер, дабы портрет Саблина не выглядел как обличение. Ибо листок заполнялся в кабинете КГБ и мог рассматриваться как обвинение. Но при этом не переставал посылать своему недругу и убийце разящие молнии. Так электрический скат, накопив в плавниках смертоносный заряд, парализует, испепеляет врага.
— Я закончил, — сказал Коробейников, откладывая листки.
Миронов их бережно принял, внимательно прочитал, кивая головой, соглашаясь с прочитанным. Положил листки в тонкую папочку вместе с заявлением Саблина.
— Вот и все. Делу конец. Тем более что заявитель Рудольф Саблин прибыл вчера из Роттердама в дубовом гробу.
— Как? — переспросил Коробейников.
— Умер во время командировки в Голландию.
— Убили?
— Вскрыл себе вены в ванной, как Сенека.
Коробейников пережил потрясение. Смерть Саблина выглядела как осуществленное Коробейниковым убийство. Разряды ненависти, электрические удары возмездия, разрывные пули самозащиты, которые он посылал Саблину, достигли цели и умертвили его. Не важно, что удары посылались только что, а смерть наступила несколько дней назад. Не существовало целостного пространства и времени. Его ненавидящая воля не подчинялась законам бытия, стала причиной убийства. И возникло двойственное чувство вины и освобождения, злорадства и раскаяния, магической мощи и неотмолимого смертного греха.
— Повторяю, он был незаурядным человеком. В его судьбе было несколько трагических переломов, и некому было их срастить. Но теперь, как говорится, дело закрыто. — Миронов убрал папку в стол. Пересел за маленький столик к Коробейникову, давая понять, что официальная часть встречи закончена, и весь последующий разговор не будет иметь к ней никакого отношения.
— Давно не виделись, Михаил Владимирович. Кружок нашего Марка, где мы имели возможность встречаться, распался. Сами знаете, его домашняя обстановка не располагает к встречам. Стремжинский, который был в какой-то степени связующим звеном между нами, ушел с работы и некоторое время не будет в состоянии служить связующим звеном. А общаться надо, обмен взглядами способствует творчеству, обогащает.
— Скажите, почему удалили Стремжинского? — Коробейников остывал после известия о смерти Саблина, которое подействовало на него как отдача тяжелой винтовки. — В газете теряются в догадках. Сам он тоже ничего не знает. Гуляют самые нелепые версии.
— Видите ли, — задумчиво произнес Миронов, стараясь не ошибиться в подборе слов и интонаций. — Стремжинский по-своему гениальный человек. Его устранение временно. По истечении срока он вернется к газетному делу. В последнее время, это было заметно по его высказываниям, когда он являлся в «кружок», его мировоззрение претерпело весьма опасные изменения. Если вы помните, он резко критиковал КГБ, противопоставляя его партии. Позволял себе неблаговидные высказывания в адрес руководства нашего ведомства, в том числе и первого лица. Я, конечно, не могу всего знать, но мне кажется, это явилось причиной его временного устранения. Пусть остынет, осознает ошибку. Спустя некоторое время его опять привлекут, и он займет достойное место. — Миронов был вкрадчив. Его миловидное лицо выражало сомнение, а его рассуждения ничем не напоминали непререкаемое мнение ортодокса. Но Коробейников прихлынувшей к сердцу кровью, отяжелевшей головой, занывшими костями ощутил громадные перегрузки, какие бывают во время космических стартов, безымянную силу, исходившую от этого молодого подполковника. Тихий и вкрадчивый Миронов, смиренный слушатель неформальных дискуссий, ненавязчивый соглядатай разведки, управлял неформальным кружком Марка Солима. Извлекал из дискуссий загадочные эссенции. И когда происходил сбой в работе, возникал диссонанс в общении, Миронов устранял виновника сбоя. Это он устранил Стремжинского. Он вовлек Коробейникова в избранный круг, руководствуясь неведомой целью.
— Нелепо и вредно противопоставлять партию и безопасность, — повторил Миронов. — Вы абсолютно правильно сделали, что не поддались настояниям Стремжинского и не вступили в партию. Думаю, вы действовали интуитивно. Но это чрезвычайно полезно для будущего.
— Для какого будущего? — спросил Коробейников, чувствуя веющую от Миронова громадную железную силу, словно стол, за которым сидел подполковник, был вытесан из намагниченного метеорита.
Миронов задумался, как если бы размышлял, сколь откровенен он может быть с Коробейниковым. Видимо, нашел желанный баланс откровения и умолчания, дружеской интонации и непререкаемого суждения.
— Я с вами искренен и переношу эту искренность из нашего неформального кружка на Сретенке в этот рабочий кабинет на Лубянке. Вы мне ближе, чем другие почтенные члены кружка, каждый из которых ограничен своей характерной средой, карьерным интересом, корпоративным эгоизмом. Вы свободнее их всех, иначе не были бы художником. Ваша ценность в том, то вы непредвзяты, бескорыстны по отношению к любому явлению. И если оно становится объектом вашего исследования, достигаете в этом исследовании оригинальных результатов не логикой, а интуицией. Вот почему ваши рассказы и очерки — это непрерывные метафоры, которые подчас богаче и интенсивней самой действительности. Умение сотворять новую реальность — это акт высокого творчества, который драгоценней любых аналитических способностей…
Коробейников чутко вслушивался, стараясь уловить едва различимые признаки лукавства. Миронов воздействовал на него множеством средств. Сначала подавил реликтовым ужасом, показав заявление Саблина, таившее смертельную опасность. Спровоцировал импульс свирепой ненависти, в котором Коробейников израсходовал все физические и душевные силы. Ошеломил известием о смерти Саблина, чем поверг в уныние и растерянность. Направил на него угрюмый магнетизм мегамашины, парализующий волю и разум. Тонко и изысканно обольщал, заверяя в симпатии и дружбе. Эта работа, состоящая из последовательных, продуманных операций, говорила о специальном интересе к нему, Коробейникову. Казалось, его вербовали для какой-то секретной, рассчитанной на долгие годы деятельности, столь важной, что для вербовки не жалели ни сил, ни средств. И это порождало чувство опасности, побуждало вникать и слушать.
— Советские органы безопасности, или органы разведки, как правильнее их называть, находятся в трагическом положении. Они являются служанкой партии, которая заставляет их выполнять самую нечистоплотную, отвратительную работу. И вместо благодарности их уничтожает. Разведка накапливает в своей среде уникальные знания об обществе, о тенденциях отечественного и мирового развития, о реальных угрозах и вызовах, о средствах и методах преодоления и избежания угроз. Эти уникальные данные разведка передает в руки партии, где давно уже нет профессионалов, творцов, социальных инженеров. Партия опошляет эти драгоценные данные, выявляет в них те, что указывают на угрозы ее собственного существования. Использует репрессивную мощь безопасности для физического истребления носителей этих угроз. Не интеллект, не сложное управление, не использование угрозы себе на пользу, не осознание надвигающихся перемен, а тупое подавление, репрессии, деградация. Мы живем в скомканном, изуродованном обществе, которому не дают развиваться…
Коробейников чувствовал, как перед ним открывают двери, вовлекая в загадочное пространство, откуда нет выхода. Нагружают знанием, которое лишает его свободы, делает участником круговой поруки, готовит для какой-то неведомой и опасной деятельности. В эти минуты в тяжеловесном кабинете с портретом Дзержинского, с белой московской оттепелью за окном перед ним открывается выбор, от правильности которого зависит его дальнейшая жизнь и судьба, успех в предстоящим творчестве или бесславная темная смерть.
— В разведке работали и работают уникальные люди. Самые пытливые, образованные, оригинальные и отважные. Мой учитель начинал службу в царское время, дворянин, офицер Генерального штаба, блестяще знал языки, в том числе хинди, фарси. Был направлен в Афганистан в связи с перспективой ввода туда контингента советских войск. В рубище дервиша, ночуя на порогах мечетей, побираясь на рынках, он проделал путь от Кушки до Кандагара. Изучал нравы племен, броды на реках, грунт на склонах гор на случай, если по склонам пойдут танки. Исследовал пищевые запасы плодородных долин Герата. И при этом собирал коллекцию трав Гиндукуша, минералов, национальных украшений. Написал этнографическое исследование о пуштунских племенах. Другой мой учитель был соратником Берия, курировал развитие авангардных направлений науки и техники. Сам ученый, создатель математических моделей поведения реактивных объектов, был знаком с ведущими открывателями нашего времени. Не только с ядерными физиками и ракетчиками, но и с биологами, работавшими над синтезом живого белка, с генетиками, миф об истреблении которых распространяла пропаганда врага, с парапсихологами, управлявшими поведением командиров подводных лодок на удалении трех тысяч километров. Все эти люди, преданные родине, жертвенные, верящие в коммунизм, поклоняются богу, имя которого «Развитие»… И этот драгоценный кадровый ресурс, элита народа, регулярно истребляется партией. Госбезопасность втягивается в кровавые репрессии, авантюры, в которых ее сначала пачкают кровью, делают в глазах народа синонимом зла, а потом выбивают напрочь, причем одно поколение разведки истребляет другое. Мы состоим из бесконечного количества обрубков, каждый враждует с другим, боится и ненавидит. Идея развития заменяется идеей выживания. Страна проигрывает, историческое время и заходит в тупик. С этим необходимо покончить. Необходимо отобрать политическую власть из рук партийных дилетантов и корыстолюбцев и сосредоточить ее в разведке. Сделать это без переворотов, без изменения строя и политической системы, методами самой разведки…
Коробейников вновь испытал реликтовый страх, мучивший его накануне. Его затягивали в пучину, из которой не было выхода. Крутились отрубленные головы, взлетали кулаки с пистолетами, грохотали вагоны с решетками, маршировали лесорубы в бушлатах, люди в мятых пиджаках и неловко повязанных галстуках признавались в злодеяниях под хрустальным солнцем ослепительных люстр, и все уходило в бездну. Надо немедленно встать, любезно распрощаться, порвать с этим опасным знакомством, покинуть навсегда это здание. Он ждал секунды, когда можно встать, но эта секунда не наступала, и он был вынужден слушать.
— Сейчас происходит процесс невидимого перехода власти из рук партийной номенклатуры в руки разведки. Эта операция рассчитана не на один год, предполагает насыщение аппарата своими сторонниками, блокирование и дискредитацию наиболее оголтелых партийных догматиков, присутствие во всех слоях общества: в армии, в прессе, в культуре. Осторожно, как это бывает в живой природе, мы накапливаем плодоносный слой, сберегая каждую животворную частицу. Происходит замена людей в партийных низах и на самой вершине партийной пирамиды. Наш руководитель — гениальный стратег. Он просвещенный идеолог, талантливый концептуалист, непревзойденный оперативник. Глубоко знает Маркса и Ленина, увлекается американским футурологом Тофлером, знаком с идеями русских космистов, читает на английском Айзека Азимова. Он сберегает людей, даже если они попадают под статьи о неблагонадежности. Использует профилактику вместо прямого подавления. Предпочитает выслать за границу и сберечь ученого, поэта, философа, чтобы потом, когда настанет пора перемен, вернуть их в идеологию и культуру. По его указанию мы очень долго работали с Саблиным, надеясь использовать во благо его незаурядный потенциал. Мы лишь на время отстранили Стремжинского, который мешал проведению одной кадровой рокировки в недрах ЦК, но непременно вернем его обратно… Поэтому мы обратили на вас внимание, Михаил Владимирович, в преддверии перемен и преобразований.
— Каких преобразований? — завороженно спросил Коробейников.
Миронов снова задумался, словно окидывал взором необъятность пространств, куда собирался вести за собой Коробейникова.
— Речь не идет о новом освоении целины или резком увеличении выплавки стали. Речь не идет о сокращении числа министерств или увеличении роли трудящихся в управлении производством. Мы говорим о новом мировоззрении, которое еще не названо, рядится в обветшалые формы, в косноязычные формулировки, но уже присутствует в сознании наиболее чутких людей. Ваш друг, безвременно ушедший Шмелев, высказал прозрение о двух русских Космосах, которые, народившись, медленно сближаются, обещая великую встречу. Это технический Космос Страны Советов, создавшей невиданную индустрию, могучую промышленность и науку, уникальные технологии, позволяющие достигать Луны и Марса, строить орбитальные станции, решать задачи по продлению жизни, преобразования вещества, осваивать источники неисчерпаемой энергии. И Космос духовный, занимающий сегодня все больше места в умах и сердцах людей. Мы начинаем открывать забытую историю Родины. Тысячи интеллигентных людей едут на Русский Север за песнями, иконами, поморскими сказами. Вновь, несмотря на все партийные запреты и идейные гонения, оживают теории русских космистов, религиозных философов, символистов Серебряного века. Назревает духовный подъем, взлет литературы, искусства. Учение отца Филиппа, которым, не сомневаюсь, он с вами поделился и которое мне излагал в этом кабинете, куда его пригласили мои ретивые сослуживцы, пророчит встречу двух русских Космосов, технического и духовного. Создание на их основе уникального мирового явления — «русской цивилизации», где техника одухотворена, а дух поселяется в машине, ибо дышит где хочет. Русская цивилизация сулит небывалый расцвет страны, неодолимое могущество, сделает двадцать первый век «русским веком», воспроизводя на духовном уровне Победу сорок пятого года. И кто, по-вашему, лучше других подготовлен принять эту нарождающуюся «русскую цивилизацию»? Кто лучше других может ее сформулировать? Кто сможет ее воспеть, описать и в виде захватывающей метафоры предложить людям, чтобы они уверовали в нее, как в новую религию? Вы, Михаил Владимирович!
Коробейников был поражен. Его беседы с отцом Львом в потаенных кельях были известны Миронову, словно он сидел рядом при свете алой лампады. Их непрерывные разглагольствования со Шмелевым, на палубе танкера, плывущего по Оби в Заполярье, у стальных ковшей опреснителя под стенами атомной станции, в кривых переулках старой Москвы, были услышаны Мироновым, будто он участвовал в их прогулках и странствиях. Невидимый, шел по Старой Смоленской дороге за поющими странницами, внимая безумным фантазиям отца Филиппа. Присутствовал на посиделках у Кока, изъяснявшегося на языке волхвов. Он, Коробейников, казавшийся себе одиноким, свободным, был на учете, под пристальным контролем. За ним следили, изучали, вели.
— Перемены, о которых я говорю, потребуют новых подходов во всем. Новый тип государственности. Новая доктрина развития. Новая трактовка коммунизма. Ставка не на диктат, не на силу, а на знание, прозрение, интуицию. Синтез двух Космосов приведет к новой одухотворенной культуре, к просветленным отношениям между людьми, к желанной гармонии между государством и обществом, природой и человеком. Будут прощены великие издержки и жертвы, искуплено пролитие крови, неправедные гонения. Русская цивилизация — это путь к преодолению смерти, к вселенскому братству. Ваше творчество, ваше мистическое отношение к технике и жажда новизны в человеке сделают вас певцом новой эры, «государственным художником», подобно новому Шолохову. Ибо рождение новой эры — это эпос завтрашних дней. Предстоит борьба. Будет много противников. Русскую цивилизацию постараются умертвить, не дать ей развиться. Будут схватки, быть может, жертвы. Ваш будущий роман — предвестник великого эпоса конца двадцатого века…
Его обольщали. Делали патриархом. Облекали в золоченую ризу. Венчали голову усыпанной алмазами митрой. Брали под руки и вели к алтарным вратам. Растворяли драгоценные створы. И там, в алтаре, среди лампад и свечей, сидел бритый наголо, в военном френче, нарком, с вишневыми ромбами, с орденом Боевого Красного Знамени.
— Что же я должен делать? — спросил Коробейников, не давая себя обольстить.
— Ничего. Работать так же замечательно, как и прежде. И знать, что мы с вами.
— Но мне кажется, что после ухода Стремжинского новый шеф Урюков меня отдалил. Испытывает ко мне недоверие. Не дает серьезных заданий.
— Вам это только кажется. Урюков — близкий нам человек. Чужд бессмысленному противопоставлению разведки и партии. Появился на этом посту благодаря нашим усилиям. Скоро вы получите ответственное задание.
— Можно узнать, какое?
— Твердо не знаю. Идеологическая операция «Пекинская опера», как метко окрестил ее Марк, включает в себя увеличение дистанции с маоистским Китаем, к которому, к сожалению, после провала «пражской весны», мы качнулись. Существующий пограничный конфликт с Китаем будет усилен, и вам поручат его освещение. Впрочем, я и так сказал слишком много. — Миронов мило улыбнулся. Взглянул на старомодные настенные часы в квадратном деревянном корпусе. Поднялся из-за столика, давая понять, что встреча закончена.
В этот момент дверь кабинета раскрылась. Вошел человек, рыхлый, с залысинами, осторожно и мягко ступая, словно внутри ботинок у него были кошачьи лапы. Лицо человека показалось Коробейникову знакомым. Пока он пытался вспомнить, где они встречались, в глаза бросились нездоровые, желтого малярийного цвета белки в крупных водянистых окулярах и большие, чуть вывернутые, негроидные губы.
— Андрей, вы обещали достать сковородку с неподгорающим дном, — произнес человек, не обращая внимания на Коробейникова.
— Уже достал, Юрий Владимирович, — расторопно ответил Миронов. — А это — Михаил Владимирович Коробейников. — Он представил вошедшему Коробейникова, который вдруг узнал Андропова, того, чьи изображения украшали матерчатые полотнища на стенах ГУМа и Исторического музея, и того, кого видел на приеме в Кремле.
Андропов быстро и холодно посмотрел на Коробейникова. Чуть заметно кивнул, не подавая руки.
Миронов в это время подписывал пропуск. Дружески улыбнулся на прощанье. Коробейников вышел, оставив в кабинете двух чекистов, продолжая чувствовать на себе взгляд больных желтых глаз. Шел по коридорам и думал, чем могла быть фраза о сковородке — тайным чекистским паролем или бытовой обыденной просьбой. Иронизировал, что в своих мемуарах непременно приведет сакраментальную фразу великого преобразователя Родины.
Спускался от Лубянки, мимо «Детского мира», к Охотному ряду по оттаявшим тротуарам. Среди бензиновой гари, табачных дуновений, холодного железа и камня веяло сырыми заснеженными опушками, сладостным запахом влажных древесных ветвей.
Здание КГБ смотрело ему вслед множеством грозных окон. Мегамашина, с которой он только что соприкоснулся, ожидала его решений. В одном из окон, невидимый, с залысинами, в тяжелых очках, стоял человек и смотрел ему вслед желтыми больными глазами.
Мегамашина отныне становилась важнейшей частью его бытия, к которой он должен был выработать свое отношение. Нет, он не станет модернизировать машину, подобно Шмелеву, усовершенствовать ее валы и колеса: в непредсказуемый момент машина выйдет из-под контроля, двинет свои механизмы, расплющит и перетрет доброхота. Не станет частью машины, как Стремжинский, который выпал из машинного ритма, перестал отвечать ее требованиям и был выкинут на помойку. Не будет бороться с машиной, требуя от нее добра, справедливости, упрекая за бездушное зло, как диссидентский писатель Дубровский, кидавшийся на гиганта с березовым прутиком, доводя себя до инфаркта. Не убежит от нее в иллюзорный мир, в языческие рощи и капища, как делает Кок, которого робот железной рукой извлек из священной дубравы и посадил в психушку. Не возвысится над машиной, подобно отцу Льву, призывая Бога разрушить сатанинскую башню, как разрушил Содом и Гоморру: Божья молния изменила направление удара, вонзилась в молящегося, лишила его рассудка. Не станет взрывать машину, как Саблин: машина уцелеет, а Саблин в дубовом гробу ожидает панихиды.
Он, Коробейников, художник и прозорливец, овладеет машиной без боя. Станет ее господином, описав ее валы и колеса, ее глубинные казематы и поднебесные башни. Создаст метафору, в которую, как в прозрачный кокон, поместит покоренную машину, укротит ее силой искусства.
Так думал он, спускаясь к Охотному ряду, чувствуя спиной холодный немигающий взгляд.
Часть седьмая Крест
56
Шли последние февральские снегопады, рыхлые, сырые, благоухающие. Коробейников чувствовал, как заболевает. Утром проснулся с тончайшей ломотой, не накопив за ночь силы и свежести. Нехотя отправился в газету, где с опозданием вышел его материал об очистных сооружениях. В коридоре попался Шор, который, после ухода Стремжинского, был восстановлен в правах военного корреспондента. Съязвил, увидев Коробейникова:
— Старик, ты пишешь об этом с таким знанием дела, словно всю жизнь проработал золотарем.
От нового шефа не поступало приглашения зайти. О Коробейникове словно забыли. Он не сетовал. После пережитых злоключений душа нуждалась в покое. Хотелось тишины, чтобы понемногу утихли боли и потрясения и заново устроилась его поврежденная духовная жизнь. Болезнь, которая в нем разгоралась, способствовала этому.
Вернувшись домой, он почувствовал озноб. Валентина заварила ему крепчайший чай, как любила бабушка. Он пил, согреваясь, с наслаждением думая, как уляжется в кабинете под плед.
Кабинет оккупировали дети. На его рабочем столе вырезали из бумаги журавликов, норовили запустить к потолку. У Васеньки не получалось, он огорчался. Настенька укоряла неумелого брата, который вместо журавля вырезал неизвестно что. Коробейников выпроводил из кабинета детей, улегся на диван под плед. Глядел, как медленно гаснет февральский день и на оконном карнизе лежит голубой, влажный снег.
После чая озноб прошел, сменился ровным, тихим жаром, будто медленно накалялась невидимая спираль, и во всем теле начинали звенеть крохотные пузырьки. Этот звук закипавшей крови нравился ему. В его теле начинались процессы, к которым он не имел никакого отношения. Он не мог на них влиять, они совершались помимо воли, как если бы его организм делился на две части. В одной помещалось его «я», а в другой «не я». Эта двойственность занимала его, побуждала отыскивать, где в его теле находится «я», а где «не я». Та часть тела, где помещался рассудок, гнездилась воля, собирались впечатления и восприятия, наблюдала за другой, в которой протекала самостоятельная жизнь, не нуждавшаяся в «я», обходившаяся без него, не пускавшая к себе волю и разум.
Ему казалось, он видит, как закручиваются испуганные вихри красных кровяных телец, на которые нападают микробы. Гонят их, как в саванне гиены гонят стада антилоп. Набрасываются, перекусывают горло, гонятся за другими. А им наперерез выносятся белые кровяные тельца. Кидаются на разбойников, как сторожевые собаки, схватываются с ними в визжащие клубки, из которых выпадают убитые овчарки и растерзанные гиены. Эта схватка, происходящая в нем, не управляемая его волей и разумом, занимала его. Ему казалось, что по тем же таинственным законам сотворяется все в живой и неживой природе.
Точно так же, как в его крови возникают бури и протуберанцы, завихрения и взрывы, умирает бесчисленное количество микроскопических форм, выпадает мертвый осадок, уносится раскаленным кровотоком, так и во Вселенной сталкиваются потоки плазмы и пучки лучей, раскаленные сгустки и трепещущие магнитные поля, в результате чего умирают звезды, образуются «черные дыры», возникают новые светила и луны, опадают ослепительные метеорные дожди.
По тем же сверхчеловеческим законам происходят битвы, как та, в результате которой погибла Троя. В его теле, раскаленном от жара, словно в полуденный зной, несутся боевые колесницы, ступают шеренги воинов, сходятся в рукопашной, пронзают друг друга копьями, охватывают фланги, посылают в прорыв кавалерию. Там блестят щиты, ударяют в доспех наконечники. Гектор схватился с Ахиллом, его мертвое тело, привязанное к колеснице героя, колотится по пыльной равнине. И горит и рушится город, и пожар стекленеет, перевертывается в голубом заливе, по которому пышно, под парусами, плывет корабль.
Он подумал, погружаясь в сладостную дремоту, что бытие, возникшее из совершенного Бога, в своей недостаточности и ущербности есть болезнь Бога. И исцеление возможно лишь при обратном поглощении бытия Богом.
День медленно угасал, окно становилось розовым, голубым, меркло. В кабинет шумно вбегали дети, но их тут же уводила встревоженная жена. Ему была сладостна приближавшаяся беспомощность. Вспоминались детские переживания, когда болезнь вызывала повышенную нежность, бесконечную заботливость бабушки, и он наслаждался своей немощью, окруженный бабушкиными хлопотами, тревогами, воздыханиями.
Нашел в себе силы встать. Зажег в изголовье высокий торшер. Снял с книжной полки Бунина. Снова улегся и открыл наугад. Стал читать небольшой, страшный по изобразительности и достоверности рассказ о ночной крещенской метели, когда воют и носятся в степи свирепые вихри, скрипит под полозьями окаменелый снег и, заметенный сугробом, умирает нищий странник. Достоверность описания была такова, что вытеснила явь. Вечерний кабинет с мягко горящим торшером сменился синей морозной степью, жгучей поземкой, в которой брел, опираясь на палку, старик в латаном зипуне.
Вошла жена, принесла градусник. Он засунул под мышку хрупкое стеклянное изделие с маленькой красной цифрой на столбике, словно в него была запаяна капелька крови.
— Горишь, — сказала Валентина, кладя ему руку на лоб. Он чувствовал ее прохладную руку, слышал, как шумит за окнами вечерний город, как громко в коридоре играют дети. Вытащил градусник, протянул жене. Та испуганно ахнула:
— Сорок!..
— Поставь мне, пожалуйста, чай с лимоном, — попросил он. — И накрой торшер красной косынкой. Так делала бабушка.
Жена выполнила его указания. Пошла укладывать детей. Город за окном постепенно стихал. Дети угомонились. Он чувствовал, как под спиной накаляется диван, разверзает свои кожаные покровы, раздвигает пружины и крепи, превращаясь в бурлящий котел. Ухнул в кипящее масло бреда.
Ему казалось, он помещается внутри стальной оболочки, которую стягивают обручи, укрепляют шпангоуты. Внутри оболочка покрыта проводкой, трубами, вентилями. Он движется в глубь металлического кожуха, переходя из отсека в отсек, проныривая сквозь переборки, мимо циферблатов, пультов, дергающихся экранов. Все дальше, глубже. По мере продвижения оболочка сужается, ему приходится нагибаться, втискиваться. Все меньше места, все теснее, неудобнее телу. Он едва продавливает плечи сквозь узкие кольца. Нельзя развернуться, нельзя повернуть назад. Неодолимая сила толкает его вперед, туда, где что-то краснеет, жарко дышит, пульсирует. Металл оболочки выстлан изнутри живой жаркой тканью, кровяными сосудами, красными и синими жилами. Невозможно дышать. Горячая, пульсирующая труба затягивает его вглубь, в красный жар, в мокрый душный бульон, где исчезают все формы, остается первичная плазма, алая, хлюпающая, откуда появился на свет. Невозможно дышать, все сливается в бульканье и дрожание. Последним усилием, перед тем как исчезнуть, проталкивает себя сквозь узкую щель, выпадает из красного жара.
Каменистая сухая дорога, по которой пылит «бэтээр». Он сидит на броне, ухватившись за крышку люка. Солдаты облепили борта и башню. Их коричневые загорелые лица, линялые панамы, стертые стволы автоматов. Ущелье в вечерних тенях, но вершины вокруг охвачены бесконечными переливами света. Вдали, в голубом вечернем тумане, возвышаются высеченные в скалах гиганты. Исполинские Будды. Великаны Бамиана, к которым идет «бэтээр».
Вернулся из бреда в явь. Ночной кабинет с мерцающим черным окном. Торшер, как малиновый георгин. Немощь, тоска обессиленного тела. И неясная, обесцвеченная болезнью мысль: жар перегрел, перекалил мозг, в нем нарушилось мышление, протекающее по законам пространства и времени. В кабинет вошла Валентина. Он не слышал звука шагов, не мог разглядеть лица. В ночной рубахе, босая, она казалась полупрозрачным призраком. Склонилась над ним, и ему померещилось, что это бабушка. Жена стояла, слабо светилась, как облако, и растаяла. Он снова погрузился в тяжелый смоляной бред.
В нем ожила, мучительно преобразилась картина, которую наблюдал когда-то в весеннем подмосковном лесу. Черная, ребристая, продавленная колея от проехавшего гигантского трактора. В ребристых вмятинах, в отпечатках огромных колес, студенистые комья лягушачьей икры. В стеклянной жиже множество точек, дрожащих крупиц, пульсирующих, оживших личинок. Крохотные головастики трепещут внутри желеобразных сгустков, тянутся к солнцу, к теплу. За лесом, невидимый, рокочет трактор, вдвигает в просеку громадный корпус, вращает колесами, продавливая след, подвигаясь к скопленью икры. Сгустки в голубоватом мерцании превращаются в ночные города, трепещут, пульсируют, наполненные мириадами жизней, зародившимися в зияющем Космосе, в борозде, оставленной загадочной, прочертившей мироздание силой. Теперь эта сила возвращается на круги своя. Приближается с космической скоростью, готовая смести зыбкие сгустки жизни, расплющить голубоватую плазму, бесследно истребить живую материю. В бреду он чувствует приближение громадного вихря, от которого гаснут миры. Хочет уклониться, выскользнуть из-под давящей громады. Непомерным усилием, кувырком выкатывается из-под ревущей махины.
Туманная, жаркая, хлюпающая водами сельва. Военный отряд бредет по колено в воде. Горячая жижа болот, зонтичные цветы, множество желтых бабочек. Впереди, на плече солдата, блестит труба миномета. Оглядывается коричневым, скуластым лицом. Сквозь мелькание бабочек, едкую пыльцу соцветий произносит по-испански: «Ларго эспаде». Не зная языка, не ведая, где и когда движется военный отряд, Коробейников видит искусанное москитами лицо, мокрую ткань камуфляжа, радужную пленку на вороненой трубе миномета.
Бред отодвинулся, как отодвигается тяжелая штора. Коробейников, оглушенный, возвращается в явь. Подумал, что эти аномалии перегретого мозга таят в себе возможности творчества, небывалую эстетику бреда, которая воспроизводит загадочную, недоступную здоровому человеку реальность. Подумал, и опять его накрыла призрачная волна помешательства.
Ему казалось, он находится внутри огромного, не имеющего границ механизма, состоящего из зубчатых колес, шестеренок, звездчаток, будто внутри громадных часов. Одни колеса своими ободами совпадают с размерами планетарных орбит и теряются в Космосе. Другие, микроскопически малые, едва различимые, все уменьшаясь, пульсируя, погружены в микромир. Система колес движется, цепляет друг друга. Передает от колеса к колесу субстанцию времени, то ускоряя, превращая в размытый сверкающий вихрь, то почти останавливая, погружая в вязкую тьму. У часов нет ни входа, ни выхода. Время перемещается внутри механизма по бессмысленным, бесконечным кругам. Вместе со временем перемещается его жизнь. Перебрасывается с шестеренки на шестеренку, из быстрого времени в медленное, из неподвижности — в скоростные потоки. И от этого чувство абсурда и ужаса. Ощущение западни, куда его заманили и водят по бесконечным кругам. Нужно выскользнуть из западни, спрыгнуть с зубца, отключиться от тикающего времени. Разрушить часы и спастись от бессмысленного кругового вращения. Страшным усилием, отталкиваясь от очередной шестерни, выпадает из времени, срывается вниз, летит в бездну, ударяясь о гладкую упругую тьму.
Желтая река медленно катит в джунглях. На берегу пагода разоренного буддийского храма. Большой алебастровый Будда в оранжевой тоге, весь в метинах пуль и осколков. В длинной ладье гребцы в зеленых промокших робах, их маленькие узкоглазые лица, тюки с продовольствием, на корме стоит пулемет, медно блестит пулеметная лента.
Он не хотел отпускать видение. Хотел запомнить выражения лиц, разглядеть, кто скрывается в зарослях за спиной огромного Будды, подхватить из реки проплывавший обрывок водоросли. Но водоросль уносило, бред пропадал. В глазах слабо голубело окно, за которым начинало брезжить московское утро.
Ему почудилось, что в комнату кто-то вошел, нежный, желанный. Склонился над ним. Елена, окруженная сумерками, смотрела на него с состраданием, ее прекрасное, с золотистыми бровями лицо, разноцветные любимые глаза. Наклонилась над ним, поцеловала. В сладости он чувствовал ее мягкие прохладные губы, не хотел их отпускать. Очнулся: над ним, в свете утреннего окна, в слабом желтоватом солнце стояла Валентина. Протягивала чашку чаю, положила ломтик лимона.
— Выпьешь таблетку и пропотеешь. Жар должен спасть. Я вызвала доктора, — сказала и тоже исчезла.
Он лежал, глядя на высокое, заледенелое, в бледном солнце окно, слыша, как рокочет город. Бред отступил. Жар был ровным, словно его обдували голубоватым пламенем. Он чувствовал, как выгорают, вытапливаются остатки плоти. Кости были легкие, как пустые камышовые дудки. Их обтягивала сухая горячая кожа. Все остальное унес жар, породив невесомость, бестелесность, легкий звон и дрожание оконного света. Он был как мумия, высохшая на раскаленных камнях, над которой поднимался стеклянный воздух последних испарений.
Смотрел на высокое, голубовато-желтое окно, на котором, как на телеэкране, выступали видения. Утренний белый простор, лед заснеженной огромной реки. Далеко, на той стороне, волнистый берег в ржавых, с неопавшей листвой, дубах. Посреди реки длинный, покрытый кустарниками, остров, обведенный легкой тенью. На открытом пространстве льда лежат убитые пограничники, в белых полушубках, валенках, нелепо разбросав руки, подогнув в падении ноги, уронив в снег оружие. За некоторыми тянется кровавая бахрома, какая бывает, когда на снег ложатся раненые лоси, остужая смертельные раны. В стороне, испачкав белизну копотью, окутанный вялым дымом, осел транспортер. Отчетливо виден бортовой номер 16, откинутая крышка люка, из нее свесилась безжизненная рука.
Видение держалось на стекле некоторое время и растаяло, как если бы сошло с млечного экрана. Он не удивился видению, знал, что оно не бред, не галлюцинация. Его накаленный мозг, в котором сгорели ограничители, расплавились блокирующие предохранители, обрел ясновидение и улавливал зрительные образы на далеком от места события расстоянии. Этим свойством обладали древние колдуны, пившие отвар ядовитых древесных грибов. Этим свойством обладал Преподобный Сергий, когда, оставаясь в келье, наблюдал течение Куликовской битвы. Эти мысли пролетели в его горящей голове. Раскрыв глаза, он ждал повторения видений. И они вернулись.
Он лежит на открытом пространстве, вдавившись в снег. Он — и не он, словно вселился в другое тело. Близко, под толщей льда, гудит и рокочет река. Желтеет цевье автомата. У самых глаз на снегу валяется вырванная из гранаты чека. Рядом убитый солдат в ватном, грубо скроенном комбинезоне. Лицо коричневое, плоское, с мертвенным блеском недвижно прищуренных глаз. Шапка собачьего меха свалилась с головы, на ней яркая, с толстыми лучами, краснеет звезда. Черные волосы спутаны, в них кровенеет колтун. Остров близко розовеет кустами, берег с песчаной осыпью, редкие, с прошлогодней листвой, дубы, перламутровые, в вечернем солнце, наледи. Близко, шурша по мокрому снегу, в сторону острова бежит большой тучный заяц, вышвыривает сильными лапами шуршащие ворохи.
Коробейников не знал, какие события стали поводом для видений. Был лишь уверен, что они происходят на большом удалении. Между ними и его сознанием протянут прозрачный световод, сквозь который несутся невесомые вихри, отпечатываясь на стекле видениями. Видения поступают на дно глазных яблок, зрачки проецируют их на экран, глаза наблюдают их отражение. Это не удивляло его, не вызывало эмоций.
Некоторое время стекло оставалось пустым, в легких разводах инея. Затем появился танк. Тяжелый, качая пушкой, продавил береговые кусты, тяжко съехал на лед, стал удаляться, оставляя клетчатые отпечатки. За танком волочился буксирный трос, будто извивалась змея. В открытом люке виднелось лицо механика, синеглазое, в ребристом танковом шлеме. Танк удалялся к острову, уменьшался, тянул колею, окутывался гарью. Чуть заметно поблескивал отвязавшийся трос. Снега розовели, переливались вечерним блеском. Танк дошел до середины реки и стал проваливаться. Оседал, продавливал лед, погружался кормой. Ухнул в глубь, оставляя черную клокочущую полынью, где что-то кипело, дымилось. И повсюду — на острове, по обоим берегам, в вечерних сопках — застучали, забили очереди, и звук был похож на стук весеннего дятла.
Виденья пропали и больше не появлялись. Обессиленный, утонул в подушках, желая забыться. Вошла Валентина:
— Принял таблетки? Давай температуру померим… Передали в новостях, на Дальнем Востоке, на реке Уссури столкновения с китайцами. Есть убитые. Называли какой-то остров. Не то Таманский, не то Долматский.
— Знаю, — слабо ответил Коробейников. — Я там сейчас был.
Валентина решила, что бред его продолжается. Щупала лоб, подносила к губам горячий, пахнущий лимоном чай. Он не разубеждал ее. Погружался в сон, стараясь сохранить на дне глазных яблок черно-белые отпечатки видений. Среди дня вошла Валентина:
— Тебя просит по телефону какой-то подполковник Миронов. Я сказала, ты болен. Но он очень просит только на два слова.
— Дай телефон.
Пластмассовая трубка была холодной, приятной на ощупь.
— Огорчен вашей болезнью, Михаил Владимирович, — голос Миронова был искренне сочувствующим, встревоженным. — Высокая температура?
— Под сорок.
— Простите, что потревожил. Сегодня состоялся первый акт «Пекинской оперы». На реке Уссури, у острова Даманский. Я думал, вы полетите на Дальний Восток. Но теперь отбой.
— Сожалею.
— Не огорчайтесь. Будет второй, третий акт. Вы попадете на спектакль.
— У меня такое чувство, что я там побывал и могу написать репортаж.
— Выздоравливайте поскорее. Я вам позвоню.
Трубка быстро нагрелась в раскаленных руках. На дне глазных яблок хранился черно-белый негатив: черный снег, белый провал полыньи.
57
Коробейников медленно выздоравливал, прислушиваясь к звукам мартовского города. Утром хрупко и солнечно сверкали наледи, в форточке сгущалась ослепительная лазурь, к полудню рушились и звенели сосульки, мокрые асфальты пылали, как слитки, и машины проносились, словно катера, превращая лужи в пышные фонтаны.
Газета была полна антикитайских материалов. На границе у острова Даманский побывал военный корреспондент Наум Шор, «отстрелялся» несколькими многословными трескучими репортажами с обилием пропагандистских штампов, в которых клеймились презренные китайские провокаторы, воздавалось должное героям-пограничникам, но не было глубинного анализа приграничных столкновений, картины реальных схваток, идеологической трагедии, столкнувшей в кровавом бою две коммунистические державы. Шор вкушал успех, гордился отлично выполненной престижной работой, в которой вновь обрел славу боевого, отважного репортера. Собирал у себя в кабинете сотрудников, в который раз с аффектацией рассказывал о боях, свидетелем которых стал, давая понять о пережитых опасностях и рисках. Охотно впускал к себе Коробейникова, переставшего быть конкурентом. Маленький, квадратный, с растрепанной седой копной, выпучивал бледно-голубые, окруженные рыжими ресницами глаза, бурно шевелил розовыми влажными губами:
— Остров длинный, ближе к китайцам, но по Пекинскому договору граница проходит по кромке китайского берега, значит, остров — несомненно наш, — обрисовывал он дислокацию. Передавал заученную хронику боя, повествуя о китайской засаде, о расстрелянных пограничниках, о бесстрашном «бэтээре», примчавшемся на помощь товарищам и попавшем под выстрел гранатомета. — Нет, пусть не хают нашу молодежь. Замечательные, отважные парни!
Коробейников слушал рассказ, и в нем медленно вставали видения.
— На снегу красные наледи, как кровавые лосиные лежки… — сомнамбулически произнес он, чем вызвал паузу в бурном рассказе Шора, воззрившегося на него с изумлением.
— Конечно, самое странное видеть на китайцах наш советский символ — красную звезду. Я не удержался, снял одну. Вот, смотрите. — И он демонстрировал трофейную реликвию — пластмассовую, компактную звезду, с лучами более короткими, чем у советского аналога. Все трогали звезду, мистически ужасались крушению мифа о мировой солидарности коммунистов.
— Шапка собачьего меха, ледяной колтун в волосах, рана в черепе, и над раной звезда… — Коробейников говорил, как во сне, всматриваясь в таинственную сонную глубину, где плавали видения.
— Эти художества для беллетристов, — язвительно заметил Шор. — Репортаж требует быстроты и публицистики… Танк полковника Леонова пошел на выручку к острову и был подбит. Теперь его китайцы станут вытаскивать, чтобы снять секретный прицел. А наши водолазы станут его взрывать под водой…
— У танка трос размотался, волочился по снегу… Видимо, торопились, не успели трос увязать…
— Какой там трос? Не было никакого троса! — взыграл раздраженно Шор.
— Был трос. Волочился за танком, пока тот не ушел в полынью, — настойчиво повторил Коробейников и, чувствуя слабость, вышел из кабинета.
Не участвуя в антикитайской кампании, он внимательно следил за публикациями в своей и других газетах. Писалось об ужасающих эксцессах «культурной революции», в ходе которой по приказу Мао Цзэдуна уничтожалась китайская интеллигенция, разрушались святыни и храмы, миллионы невинных людей подвергались истязаниям и пыткам, угонялись из городов в сельские общины, где проходили «курс перевоспитания». Газеты глумились над «большим скачком», которым своенравный Мао хотел в кратчайшие сроки догнать и перегнать СССР: заставлял крестьян строить деревенские домны, выплавлять чугун, пригодный лишь для свалки. Приводились выдержки из знаменитого «Цитатника Мао», где тот призывал «готовиться к войне, голоду и стихийным бедствиям», утверждал, что «винтовка рождает власть». В публикациях настойчиво создавался отрицательный образ Китая, образ врага, как если бы завтра предстояло с ним воевать. Один острослов, насмехаясь над председателем Мао, употребил каламбур: «спер-мао-тозоид». Пропаганда была трескучей, тотальной. Возбуждала ненависть, страх, неуверенность. Не утоляла глубинного интереса к конфликту, сеяла панику.
Коробейников получил разрешение пользоваться «закрытой» зарубежной прессой, приходящей в редакцию. В «секретной» комнате международного отдела, при закрытых дверях, ему выдавали американские «Тайм», «Нью-Йорк таймс», «Вашингтон пост», немецкие «Шпигель» и «Франкфуртер альгемайне цайтунг», переводы французских и английских статей. В аналитических обзорах, посвященных приграничному конфликту, говорилось о кризисе международного коммунизма, о возможности «большой войны» между СССР и Китаем, о концентрации на границе с обеих сторон огромных армий, о строительстве приграничных аэродромов и укрепрайонов, о китайских шпионах, пойманных на Транссибирской магистрали, о новейшем советском оружии, чуть ли не боевом лазере, испытанном в ходе боев за Даманский. Особенно интересны были исследования советологов, утверждавших, что в результате конфликта и усиленной антикитайской пропаганды наметилось новое, невидимое глазу, сближение СССР с Западом, пошатнувшееся после «чешских событий». Читая этот анализ, Коробейников вспоминал разговоры, которые велись в кружке Марка Солима. Видел, что таинственный план «Пекинская опера» развивается так, как его задумали «мудрецы» в квартире на Сретенке. Терпеливо изучал материалы, не сомневаясь, что рано или поздно раздастся звонок Миронова и его пригласят на спектакль, где за первым последуют второй и третий акты «Пекинской оперы».
В самом конце апреля, в канун майских праздников, Коробейников запустил мотор красной, чисто вымытой «Строптивой Мариетты». Погрузил детей и жену. Набил багажник снедью, домашним барахлом, множеством ненужных, по его мнению, предметов, которые навязала ему Валентина. И они помчались мимо восхитительных весенних раздолий, розово-зеленых лесов, прозрачных голубых перелесков, предвкушая встречу с родной, всю зиму простоявшей без них, избой.
Береза была огромная, переполненная соками, с белыми сверкающими ветвями, в которых застыл изумрудный и розовый дым. Изба отсырела за зиму, казалась неуютной, недовольной их вторжением. Желая ее задобрить, Коробейников топил жарко печь. Валентина подметала, сгребала сор, стряхивала со стола сухих мертвых ос. Дети сновали по углам, разыскивая забытые, пережившие зиму игрушки.
Деревня копала огороды, готовилась сажать картошку. Повсюду, за заборами, дымились, горели груды ботвы. Соседи переглядывались, перекрикивались. У многих огороды уже чернели перекопанной рыхлой землей, были разлинованы аккуратными грядками. Некоторые дружно, семьями, вместе с приехавшими из города родственниками, сажали картошку. Коробейников всаживал лопату в землю, радовался силе неутомимых, воскресших после болезни мускулов. Сентиментально чувствовал в себе зов земли, голоса крестьянских пращуров, передавших ему по наследству эту земледельческую тягу. Видел, как дрожит и струится воздух над теплыми полями, в которых, невидимый, растворившийся на солнце, звенит жаворонок.
Дети сновали рядом. Он поднимал сочный ком земли, в котором розовел жирный, подвижный червь. Показывал детям. Васенька норовил ухватить червя, вытащить его из земляного кома. Настенька укоряла брата: «Червяков нельзя есть. Они невкусные». Это останавливало и заставляло задуматься Васеньку.
В небе, в блистающей синеве, раздавался упругий, свистящий, нарастающий звук. Коробейников искал глазами, находил высокую вереницу летящих гусей. Сильные, страстные, стеклянно отсвечивая, они пролетали над деревней, стремясь на север, к просторным водоемам и рекам. Коробейников восхищенно показывал гусиную стаю детям. Васенька крутил головой, не мог отыскать птиц.
Вчетвером сажали картошку. Сначала натягивали шнур, перечеркивая прямой линией взрыхленную, с вишневым оттенком землю. Дочка и сын брали из ведерка картофельные клубни с проклюнувшимися ростками. Передавали Валентине. Та старательно укладывала вдоль шнура на одинаковых расстояниях. Коробейников тяпкой забрасывал клубни землей, создавая длинную грядку, внутри которой назревший клубень соприкасался с влажной, насыщенной теплом почвой, слабо вздрагивал, начинал невидимый рост. Работа шла медленно, дети играли клубнями, отыскивали в них сходство с курочкой, лисичкой, друг с другом. Настенька отыскала две большие картофелины с выступами носов и подбородков, радостно вскрикнула:
— А это мама и папа!
Валентина взяла человекоподобные клубни, ткнула их рядом. Забрасывая их землей, Коробейников с языческим суеверьем подумал, что это их живые фетиши, все лето проведут вместе в огородной гряде, взрастая, плодонося. Валентина угадала его мысль, улыбнулась.
Под вечер, когда красное солнце, окруженное бесчисленными медными паутинами, садилось за лес, они завершили посадку картофеля. Собирались поужинать в избе, но сосед Геннадий, в линялой гимнастерке, с коричневым загорелым лицом, позвал Коробейникова:
— Владимирыч, айда праздновать день Весны. Бабы стол накрыли, яишню поджарили.
Стол был накрыт у Маршалиных, через две избы в третьей, на просторной застекленной терраске, где собрались огородники, отсажавшие картошку «под Май», готовившие огуречную рассаду «под Победу». Тут были сами хозяева Маршалины, степенный, трудолюбивый Петрович и его величавая, слывшая гордячкой, Раиса, разводившая коз, поросят и кур. Супруги Чижовы, он — железистый, гнутый, как заржавленный, но еще крепкий гвоздь, работающий почтальоном, — и Пелагея, державшая корову и телку, поившая детей Коробейникова парным молоком. Были Ивановы, Акимыч, совхозный плотник, рассудительный, иногда же вспыльчивый и крикливый, и Клавдия, шустрая, как куропатка, легкая на ногу, везде поспевавшая продавщица сельпо. Куликовы, Михалыч, громогласный, толстый мужик, всегда подвыпивший, рыбак и охотник, и его жена Марья, которая часто появлялась в доме Коробейникова, неся перед собой миску малины, прозрачно-алой, благоухающей, привлекавшей всех окрестных ос.
Геннадий, пригласивший их на трапезу, был вдовец, но с ним присутствовала высокая, с длинными руками и ногами, молчаливая Люба, на которую смотрели как на будущую жену Геннадия.
На столе было тесно от мисок, тарелок, разношерстных ложек и вилок. Красовались разносолы из прошлогодних огурцов и грибов, аппетитными горками высилась соленая капуста. Чернело несколько сковородок с желто-белой яишней и запеченными шкварками. Блестели бутылки водки, за которыми на своем гремящем велосипеде сгонял в лавку Чиж. Все расселись, чинные, отводя глаза от еды, с одинаковыми загорелыми лицами, убрав под стол натруженные земляные руки. Коробейников любил их всех, был благодарен за приглашение в их деревенскую общину.
Поднялся Акимыч, держа стопку с водкой. Обвел всех строгим взглядом:
— Значит, что я скажу. Поздравляю всех, что мы отсажали картошку. Хорошо поработали, дружно. Теперь покончить с огурцами и капустой, а дальше поливай и пропалывай. Значит, всем желаю хорошего урожая, чтобы жили мы дружно, помогали друг другу, а осенью, когда засыплем в погреб картошку, уберем огороды, опять встретимся на Празднике Урожая, — всем поклонился.
Чокнулись, выпили, мужчины с просветленными лицами, женщины, морщась от горечи, помахивая у ртов руками, словно отгоняли злой дух. Коробейников радостно, жадно выпил водку, подхватывая с тарелки запеченный желток.
Как всегда, после первой молчали, сурово жевали. Кулик деловито заметил:
— Между первой и второй промежуток небольшой.
Выпили еще одну, потом третью. Вдруг разом заговорили, загалдели, не слушая друг друга, торопились что-то сказать, важное, неотложное. О щуке, которая нынче хорошо нерестилась в озере. О пожаре, который случился в соседней деревне, но дом, слава богу, отстояли. О торговке в магазине, у которой растрата, и ее, по всему видно, засудят. О директоре совхоза, который смилостивился и позволил частникам обкашивать опушки. О какой-то Нюрке, которая стала курить, оттого и сделался выкидыш.
Коробейников охмелел. Сладко погрузился в неразбериху, гул, мужицкие споры, бабьи смешки. За террасой опустился густой, синий вечер с набухшей черемухой, с майскими жуками, с черной резной бахромой леса на долгой негаснущей заре.
«Хорошо», — думал он, глядя на Валентину, на детей, которым жена насаживала на вилки по кусочку жареной картошки.
— Эх, чего говорить без толку, давай споем! — встрепенулась Клавдия. — Маша, Куликова, запевай «Хас-Булат…».
Куличиха захватила побольше воздуха, подняла высокую грудь и истошно, режущим, истовым голосом завела:
Хас-Булат удалой, бедна сакля твоя, Золотою казной я осыплю тебя…К ней потянулись другие женщины, раскрывали рты, прикрывали глаза, наполняя песню силой, стройностью, отыскивая в ней свое место. Укоризненно, призывно глядели на мужиков, которым не хотелось прекращать разговоры, но которые умолкли при звуках знакомой песни, много лет звучащей над всеми застольями, яишнями, рюмками. Песня, спетая тысячи раз, давнишняя, завезенная с кавказской войны каким-нибудь усачом-кавалером, переиначенная чувствительным слободским песнопевцем, трогала Коробейникова. Он увлеченно пел, вплетал свою разноцветную нить в пестрый и красочный половик женских волнистых голосов, среди которых вдруг зазвучал громко и неправильно сиплый бас Кулика.
Дам ружье, дам кинжал, дам коня своего, Но за это за все ты отдай мне жену…Коробейников пел, испытывая к поющим нежность, любовь, безграничное доверие и благодарность за то, что суждено ему было родиться среди этих деревень и просторов, что он один из них, связан с ними глубинным родством, которое дает ему силы, наделяет добром, окружает его, и жену, и любимых детей невидимым хранящим покровом.
Как-то раз вечерком, в темноте, близ ручья Мне Аллахом клялась, что не любит тебя…Застолье голосило шумно, мощно, сиплыми басами, густыми баритонами, тонкими бабьими вскриками. Коробейникову казалось, что их песня превращается в огромное ветвистое дерево, вырастающее из кровли в вечернее небо, и каждый голос, как струящаяся ветвь, и все вместе они обнимают молодые весенние звезды.
Тут разгневанный князь саблю выхватил вдруг, Голова старика покатилась на круг…Он взглянул на Валентину. С поющим ртом, восторженными, счастливыми глазами, она кивнула ему. И этот кивок означал, что время испытаний миновало, что они опять неразлучны. Он подхватил ее слова, улетел ввысь, и там, в восхитительной живой пустоте, утратил имя и облик, превратился в безымянный свет, в сладкий восторг, обнимая весь мир любовью.
Вернулся в Москву, оставив семью в деревне. Работал в газете, много читал, учил наизусть стихи Ван Вея, восхищаясь их возвышенной нежностью и печалью. Был спокоен, уравновешен, почти безмятежен. Эта уравновешенность и обретенная гармония удивляли его. После всех потрясений, потери друзей и родных, душевного надлома, обернувшегося телесной болезнью, эта гармония снизошла сама собой, без видимых усилий с его стороны. Не потребовала искупительного подвига, глубинного покаяния, священной жертвы. Словно изрезанное, истерзанное бытие сдвинуло свои рваные кромки, и они сошлись, не оставив рубца, как сходится вода, разрезанная веслом. И только мучила мысль о Елене: носит его ребенка, живет в доме обманутого, оскорбленного ею мужчины, а он, Коробейников, отрекся от нее в своем благополучии и покое.
Не имея возможности видеть ее, боясь этой возможности, вдруг, среди майской Москвы, зеленых бульваров, в молодой нарядной толпе остро и сладостно ощутил ее присутствие. Так остро, что остановил машину и стал вглядываться в проходящих мимо женщин, страшась и желая увидеть чудесное, с тонкой переносицей, золотистыми бровями лицо. Ее не было в толпе. Он не смел приблизиться к ее дому на Сретенке, где она уже не принадлежала ему, где он от нее отрекся. Но она присутствовала там, где он мог беспрепятственно ощущать ее близость, не рискуя разрушить обретенное равновесие, причинить близким людям новые страдания. Ему захотелось уехать из Москвы за Подольск, где впервые, на осенней опушке, она ему отдалась. Там витал ее образ.
Он промчался мимо Подольска, где стояла дубровицкая церковь, каменные евангелисты читали свои известняковые книги, и был рыжий откос над рекой, где произошла жестокая неандертальская драка за право обладать женщиной, и эта драка показалась ему сейчас, среди зелено-золотых перелесков, нелепой, необъяснимой, не связанной с ее образом.
Он с трудом отыскал ту обочину, с которой начинался съезд на неровное, изрытое поле, куда осенью он направил машину, озаряя фарами рытвины, мокрую колею, остатки бурьяна. Сюда же, к предзимней опушке, он прикатил после их разрушительной ссоры, в поисках утешения, в надежде найти заветную перчатку, потеря которой привела к злоключениям.
Вышел из машины, ступил в лес. Все благоухало, струилось, расцветало. Осины стояли с нежно-зелеными, умягченными стволами, розовые, в пышных кудрях. К земле с высоты стекали душистые ароматы. Кусты бузины набухли бутонами. Орешник прозрачно свесил нежные, усыпанные пыльцой сережки. Папоротник выбрасывал из тугих засахаренных почек резные спирали. Земля была покрыта цветами, голубыми, белыми, красными. Фиолетовые хохлатки дрожали от легкого ветра. Медуницы вздрагивали, когда на фиолетовый цветок садился тяжелый шмель. Звездчатки белыми искрами разбегались по лесу. Желтые розетки жабника горели у сырых корней. И повсюду, зелено-желтые, стиснутые, переполненные соками, виднелись бутоны купавниц. Лес был пронизан солнцем, свистом птиц, шорохом бесчисленных жизней. Изумленный, он смотрел, как в редкой еще, прозрачной листве перелетают птицы. Как над цветами кружит желтая бабочка. Как падает с вышины, повисает на ореховой ветке розовая сережка осины.
Не было смерти, не было безжизненной железной окалины. Повсюду было цветение, благоухание, торжество возродившейся, плодоносящей природы. Это восхитило его. Ее перчатка проросла цветами, взлетела птицами, превратилась в живые лучи, в свисты, в нежнейшие ароматы. Она была здесь, во всем, в голубых и золотистых цветах, в дуновениях сладкого ветра, в проблеске солнца на молодой листве, в стеклянном взмахе птичьего крыла. Он чувствовал ее женственность, ее языческую красоту, божественное торжество. Она шествовала по лесу, ступая на цветы узкими босыми стопами. Ее прозрачное платье, не скрывавшее стройного тела, было усыпано цветами. За ней летели птицы и бабочки. От ее прикосновений распускались бутоны и почки.
Не было ссоры, предательства, мучительной разлуки. Была полнота их встречи среди восхитительной, связанной с ее обликом красоты.
Он опустился на колени, чувствуя сырость земли. Целовал цветы медуницы, резной лист папоротника, прохладный зеленый ствол дерева. Славил ее и любил.
58
В начале июня его внезапно вызвали в газету. Секретарша Урюкова, все эти месяцы не скрывавшая своего отчуждения, надменным взглядом, небрежным жестом воспроизводя отчуждение начальника, на этот раз была предупредительна. Радостно смотрела в глаза, улыбалась длинными губами, тем самым передавая важность предстоящего разговора. Урюков поднялся навстречу Коробейникову, протянул для пожатия руку.
— Я знаю, вам могло показаться, что вы находились в простое. Но я намеренно не нагружал вас заданиями. Знал, что вы изучаете материалы. Мне показали списки зарубежных изданий, которые вы затребовали.
— Мне хотелось глубже понять некоторые аспекты антикитайской кампании. — Коробейников чувствовал произошедшую в Урюкове перемену. Его повышенную любезность, интерес и внимание. Маленький бронзовый бюст Дзержинского с дарственной надписью был свидетелем их разговора.
— Как ваше здоровье? Оправились от болезни?
— Вполне.
— Вы получаете задание, которое требует хорошей формы, физической и моральной.
— За месяцы вынужденного бездействия я накопил много сил.
— Ваше задание не является вполне журналистским. Журналистская составляющая включена в более обширную военно-политическую операцию.
— В чем ее суть?
— Мне она до конца не известна. Звонили из высоких инстанций, просили направить в Казахстан, на советско-китайскую границу корреспондента. Назвали ваше имя.
— Что в Казахстане?
— В последние недели на границе с Синьцзяном, с Уйгурским автономным округом, обостряется обстановка. Часть советских приграничных территорий Китай объявил своими. Осуществляет по ним массовый прогон скота. Участились схватки пограничников со скотоводами, которых китайцы умышленно гонят на советскую сторону, провоцируя столкновения. Вам нужно попасть на границу и написать об этих скотоводческих баталиях.
— Оружие в ход не пускают?
— Только палки, кнуты. Вам следует оказаться в районе этих драк и описать их, по возможности эмоционально, использовав для этого ваш писательский потенциал. Трескучий Шор для этого не годится. Мне назвали ваше имя.
— Если не секрет, кто назвал?
— Не могу всего сказать. Скажем, звонил генерал, ведающий контрразведкой по Китаю. Сообщил, что ваша персона обсуждалась на очень высоком уровне.
— На каком уровне?
— Для нас с вами он недосягаем. Не удивлюсь, если это сам Юрий Владимирович.
Выражение почтительности, строгой доверительности, проникновенной озабоченности на лице Урюкова свидетельствовало о такой возможности. Коробейников почти не удивился, он ждал, что его позовут. Его посещение КГБ, пространное объяснение с Мироновым, многозначительные посулы и обещания предполагали ответственное задание. Оно могло последовать еще раньше, в марте, во время боев на Даманском, если бы не помешала болезнь. Коробейников вспомнил вошедшего в кабинет к Миронову рыхлого желтоглазого человека с негроидными губами, и его странный вопрос про неподгорающую сковородку. Сейчас его осенила мысль. Слова о сковородке были кодом. Это он, Коробейников, и был «неподгорающей сковородкой», которую собирались поставить на огонь и что-то на ней поджарить. Задание, которое он сейчас получал, было «жареным». Скотоводческий конфликт на границе предполагал развертывание этого конфликта в горячую, «жареную» фазу. Мысль была абсурдной, он прогнал ее. Но она снова вернулась.
— Завтра вылетаете в Алма-Ату. Там, в аэропорту, обратитесь к военному коменданту. Он вас посадит на самолет местной линии, который летит… — Урюков мельком заглянул в листок, — в Талды-Курган. Там будет человек из разведывательного ведомства, которому поручено вас опекать. От него получите дальнейшие указания. Билет в Алма-Ату готов, сейчас вы его получите. Желаю удачи. — Урюков снова вышел из-за стола. Пожал на прощание руку, стараясь выглядеть сердечным. — Там очень жарко. Бойтесь теплового удара.
Секретарша в приемной передала ему авиационный билет и командировочное удостоверение. В кассе он получил деньги. Заторопился домой собирать вещи, огорченный тем, что не сможет сообщить жене о поездке — Валентина с детьми находились в деревне.
Реактивная громада вознесла его над рощами Домодедова, Москва туманно и розово промерцала миллионами солнечных вспышек, и он оказался в пустой синеве, у круглого иллюминатора, за которым ровно рокотала турбина, покачивался белый бивень с надписью «СССР».
Он был бодр, сосредоточен, освободил в душе пространство для предстоящих впечатлений, убрав из этого пространства воспоминания о недавних событиях. Так очищают участок земли от кустов и деревьев, от прежних обветшалых строений, собираясь построить новый дом. Коробейников не имел чертежей этого дома, не знал, из какого материала и для каких обитателей он будет построен. Лишь догадывался, что одна часть дома будет построена из земного тяжеловесного вещества по законам земной архитектуры, а другая — из невесомых, не существующих на земле материй, по законам архитектуры небесной. В этой поездке ему предстояло добыть уникальный опыт, которым воспользуются другие люди, пославшие его, во многом ему неизвестные, занятые пропагандой, войной и политикой. Но ему также предстояло обрести бесценный опыт, которым воспользуется только он сам, чтобы понять, зачем его привели в этот мир, дали человеческий облик, нарекли именем, наделили множеством чувств и желаний, поместили среди других, таких же, как и он, людей, чтобы он сталкивался с ними, любил, ненавидел, терял любимых и близких, раскаивался, заблуждался и, прожив огромную жизнь, в минуту смерти покинул мир и предстал перед Тем, Кто послал его.
Так думал Коробейников, летя на реактивном «Ту», среди множества пассажиров, жующих кур «Аэрофлота», вонзающих в пупырчатое мясо пластмассовые вилочки и ножички. Не подозревали, что могучие турбины жарко глотают пространство лишь для того, чтобы пронести над землей Коробейникова. Что это для него, наделенного секретной миссией, проплывают в глубине зеленые русские равнины, струятся солнечные реки, начинает желтеть пустынная казахстанская степь, открываются голубые озера, окруженные кромками белой соли. И все, что ни совершается сейчас на земле и на небе, происходит для того, чтобы он, Коробейников, выполнил задание, порученное ему Богом и людьми.
В Алма-Ате здание аэропорта было переполнено шумной, измученной перелетами, азиатской толпой, где даже славянские лица, загорелые, обвяленные, с прищуренными от солнца глазами, казались порождением горячих пространств, по которым двигались бесчисленные племена в узбекских тюбетейках, киргизских колпаках, туркменских кудрявых папахах. Это южное кочевье, перемещавшееся самолетами, поездами, было сдвинуто с насиженных мест притяжением огромных строек, запускаемых заводов и электростанций, новых городов, возникавших среди нефтяных полей, урановых рудников и целинных житниц.
Коробейников отыскал комендатуру, предъявил документы белобрысому, с потемневшими от пота усами майору. Тот куда-то позвонил, вызвал машину. Без лишних расспросов пригласил Коробейникова к выходу. На военной легковушке они пересекли взлетное поле, на другом конце которого, загруженный пассажирами, стоял двухмоторный «Ли». Люди в душном фюзеляже терпеливо ждали, когда прибудет наконец опаздывающий важный пассажир. Этим пассажиром оказался Коробейников, поймав на себе множество недоброжелательных и одновременно почтительных взглядов.
Пропеллеры завели свою металлическую, надсадную мелодию. Алюминиевая старомодная машина оставила под крыльями зеленый оазис большого города. Двинулась вдоль пыльно-коричневых гор, над безжизненной степью, по которой тянулись ржавые морщины вечно сухих оврагов. Коробейников смотрел на радужный круг пропеллера, чувствуя, как неуклонно приближается неведомая, существующая помимо него реальность: изнемогающие от зноя солдаты, овечьи стада, степняки-погонщики с узкими злыми глазами, и огромная, с дрожащим языком, собака, и тусклый, в столбе солнечной пыли, транспортер, и все движется, сталкивается, направляется чьей-то волей в нужную кому-то сторону. Он, Коробейников, скоро коснется этой реальности, не изменив, не потревожив, лишь наблюдая ее прихотливый многомерный рисунок.
Талды-Курган, где опустился «Ли» — нечто китайское звучало в этом самолетном названии, — был представлен унылым, известкового цвета, аэропортом, плоской степью с желтизной увядшей травы, разболтанным автобусом, в который устремились пассажиры, чтобы ехать к далекому, тусклому поселению, и двумя серыми юртами, похожими на старые мятые шапки. Возле юрт паслись овцы, маячил безнадежно-одинокий пастух, окаменевший среди недвижного зноя, сквозь который обморочно проступали горчично-желтые горы.
— Михаил Владимирович? — услышал за спиной Коробейников. По имени его назвал невысокий худощавый мужчина с невыразительным утомленным лицом, в неказистой рубахе и плохо проглаженных брюках. Своей невзрачностью, тихим голосом, неярким взглядом он напоминал немолодого учителя, всю жизнь занимавшегося однообразной, полезной и малозаметной работой. Или бухгалтера, привыкшего к бесконечному шелесту бумаг, к утомительным, неинтересным подсчетам. — Я — Трофимов Борис Тихонович. Мне поручили вас встретить.
Коробейников ожидал увидеть военного, пограничника, насыщенного информацией, возбужденного приграничными схватками, с которым, после первых же минут знакомства, можно будет завести разговор о сложившейся обстановке, наполнить первыми, пусть поверхностными знаниями, еще пустую копилку опыта. Встречавший его человек казался глубоко штатским.
— Вертолет немного задерживается. Пойдемте чаю попьем. — Он буднично пригласил Коробейникова куда-то в глубь здания. Провел в убогую комнатку с низким потолком, откуда свисали усиженные мухами «липучки».
Едва они уселись, в комнатку протиснулся тучный, потный казах в летной форме, должно быть, служащий порта, с подносом, большим чайником, двумя пиалами и горсткой конфет в вазочке. И по тому, как быстро тот появился, с каким почтением поставил пред новым знакомцем поднос, разлил в пиалки зеленый чай, сначала Трофимову, потом Коробейникову, стало видно, что Трофимов был не последним здесь человеком, и, возможно, внешность его была обманчивой.
— Как Москва? Как погода в Москве? — В этом обыденном вопросе, с которого начиналось знакомство, было нечто, что обнаруживало в Трофимове москвича, которому интересна погода в родном городе, где он давно уже не был.
— Прохладно. Дожди. Трава в деревне хорошая.
— Здесь дождик в марте прошел. Все зной, пекло. Лучше много не пить, а то пот будет лить. Если уж пить, то лучше зеленый чай, погорячее. — Он пригубил пиалку каким-то особым, неуловимо-азиатским жестом, закрыв от удовольствия измученные солнцем глаза. — Мне поручено вас опекать, Михаил Владимирович. Проследить, чтобы вас хорошо разместили, предоставили фронт работ. Ну и конечно, к вашим услугам информация, которой владею.
— Какая обстановка на границе? — Коробейников не замедлил воспользоваться обещанными услугами.
— Да какая обстановка? Нервная, я бы сказал. Уйгуры лезут на нашу сторону со своими стадами. Гонят в горы, где прохладней и трава сохранилась. А прогоны по нашей территории проходят. Раньше свободно их пропускали, а теперь, когда китайцы эти земли объявили своими, мы, естественно, их не пускаем. Ну и драки, и ругань, и все такое. Ребят-пограничников жалко. Иногда, после драк, в медсанчасть попадают. Оружие в ход не пускают. Никто из нас не хочет второго Даманского. Но не хотят ли китайцы? — вот в чем вопрос.
Полученный ответ не добавлял ничего к тому, что уже знал Коробейников. Не свидетельствовал об особой компетенции Трофимова. Такой ответ мог дать затрапезный депутат райсовета, на глазах у которого протекала приграничная жизнь. Но что-то слабо и тревожно просвечивало сквозь будничную интонацию ответа, умолчание, которое предстояло разгадать.
— Почему китайцы создают напряженность на этом участке границы? — Коробейников осторожно выспрашивал, добывая крохи информации, не об уйгурах и овечьих стадах, а о Трофимове, с которым предстояло работать.
— Да трудно сказать. По ту сторону границы живут уйгуры. Многие из них ушли из Казахстана в тридцатые годы, во время коллективизации. Здесь их родня осталась. Может, хотят использовать напряженность разделенного народа? Или побольше войск натолкать, чтобы с сепаратизмом уйгурским покончить? — Ответ был дилетантским. Из зарубежной прессы Коробейников знал много больше. Однако дилетантизм Трофимова казался неподлинным. Пыль раскаленных предгорий, придававшая коже кремневый оттенок, измученные солнцем глаза, не перестававшие щуриться, говорили о других, сокровенных, знаниях, которыми тот не желал делиться. — Ну вот и вертолет на подлете! — Трофимов указал в окно, где в бесцветном небе серым комочком возникал вертолет.
— Куда мы летим? — спросил Коробейников.
— Жаланашколь. На заставу.
Вертолет опустился недалеко от строения порта, окруженный пыльным сиянием, в котором плескались винты, мутно зеленел длиннохвостый фюзеляж с красной звездой. Трофимов опередил Коробейникова. Летчик в комбинезоне вынырнул из-под ревущих винтов, отдал Трофимову честь, нагнулся, что-то прокричал ему в ухо. Тот небрежно кивнул. Так мог кивать, принимая доклад военного вертолетчика, только человек, облеченный властью, с полуслова, сквозь свист винтов, улавливающий смысл боевого сообщения. Коробейников, задыхаясь от пыли, видя над собой солнечный шатер стали, забрался в салон, поместился у иллюминатора, подле желтой цистерны с горючим. Трофимов сел поодаль. Вертолет взмыл над войлочными юртами, пушистым стадом, пастухом, запрокинувшим в небо кофейную каплю лица. Через несколько минут остановился в бесцветной пустоте, подвешенный на стеклянной прозрачной нитке, а под ним, недвижным, медленно текли блеклые земли, лысые холмы, пустые русла, известково-белые солончаки, на которых сохранились едва заметные росчерки исчезнувшей жизни, заметенные пылью отпечатки древних цивилизаций.
В солнечной сонной недвижности звучала дребезжащая, монотонно повторяемая мелодия стальных винтов, алюминиевых заклепок, лепестков металла, в которых странно слышалось: «степь да степь кругом…», кусочек русской песни, занесенной на стальных лопастях в безжизненную казахстанскую степь.
Коробейников погрузился в сонное оцепенение. Солнце сквозь иллюминатор медленно бродило внутри вертолета.
Винты вдруг резко сменили мелодию, торопливо и зло заныли. Вертолет наклонился. В круглом стекле пронеслась наезженная дорога, низкие строения, тонкая пограничная вышка, круглое, наполненное зеленой яшмой озеро. Через минуту вертолет опустился на пограничной заставе.
Выпрыгнув вслед за Трофимовым, оказавшись среди ревущего бурана, Коробейников минуту стоял, пригнувшись и стиснув веки. Слышал, как отлетает вертолет, унося с собой рыжий смерч и горячий ветер. Постепенно открыл глаза.
Навстречу, в опустевшее, выжженное винтами пространство, торопливо подходил офицер в зеленой, запыленной фуражке. Круглое лицо, круглые, еще молодые глаза, оттопыренные, как у подростка, просвечивающие на солнце уши. Его усики задорно топорщились, но в лице скопились непроходящие напряжение и усталость.
— Здравия желаю, товарищ полковник, — козырнул он Трофимову, в котором только теперь, после этого приветствия, Коробейников окончательно угадал офицера. — Выходили на связь из штаба округа, передавали данные воздушной разведки. На нашем участке с той стороны наблюдается скопление стад и грузовиков с военнослужащими. Для вас в кунгах накопились радиоперехваты. Усиление на четырех «бэтээрах» прибудет из отряда к двадцати трем часам. В остальном все нормально.
— Были прорывы границы?
— Утром два стада, каждое голов по двести. Первое, силами двух нарядов, удалось развернуть. Второе прошло. Во время выдавливания один солдат получил легкую травму.
— По-прежнему имитируйте проницаемость границы на вашем участке. Не стрелять, даже в воздух. Только силовое выдавливание.
— Приказ выполняем, товарищ полковник. Люди устали. Мне нужно кое-что обсудить. — Круглолицый офицер вопросительно посмотрел на Коробейникова.
— Обсудим. Сначала прими гостя. Накорми нас чем бог послал. Размести Михаила Владимировича. Он будет с нами работать. Потом займемся делами.
Офицер отдал честь Коробейникову:
— Начальник заставы капитан Квитко. — Его круглые глаза оглядели Коробейникова так, как оглядывают досадно и не ко времени появившегося человека, которого следует воспринимать подобно неизбежной помехе.
Сначала они прошли в выбеленный домик со светлой, чистой комнатой, где стояло с десяток застеленных кроватей.
— Выбирайте место, — сказал капитан. — Несколько дней вы будете здесь один.
В небольшой столовой уселись втроем. Дневальный, бритоголовый, с острыми любопытными глазами, облаченный в белый фартук, ставил перед ними гороховый суп с мясом, гречневую кашу с тушенкой, стаканы с мутным, приторно сладким компотом. После трапезы Трофимов сказал:
— До вечера отдыхайте, Михаил Владимирович. Осмотритесь. В озере покупайтесь. Завтра рано, с утра — работа. — И в сопровождении капитана, слегка сутулясь, в помятой гражданской одежде, направился туда, где росли чахлые, с выбеленными стволами деревья и в блеклой листве стояли два кунга, топорщились антенны.
В копилке его опыта появилась первая, едва заметная пыльца, которая позже будет забыта, стерта, унесена вихрем грозных и ярких явлений. Но теперь эта пыльца казалась исключительно важной. Каждая частица была принесена с материка, на котором ему, исследователю, еще предстоит побывать. Невзрачный, похожий на бухгалтера Трофимов оказался полковником, кому из штаба округа сообщали данные авиационной разведки. Где-то рядом, на границе, шло скопление овечьих стад и военнослужащих китайской армии, перед которыми пограничники зачем-то демонстрировали свою слабость, имитировали непрочность и проницаемость границы. К ночи на заставу должно было прибыть подкрепление, как если бы готовилось что-то опасное.
Все эти мелкие обобщения не создавали общей картины, но были первыми робкими штрихами на белой бумаге, которая в скором времени покроется ярко-синим, темно-коричневым, нежно-зеленым и, возможно, огненно-красным, как это было на острове Даманском.
Коробейников осматривал территорию, над которой была развешана невидимая ловчая сеть, в чьих узелках он уже начал запутываться.
Застава состояла из нескольких домиков: казармы, столовая, жилище офицеров, продовольственный склад, гараж, в воротах которого виднелся гусеничный тягач, оранжевый бульдозер, пыльный, не новый «бэтээр», спортивная площадка, курилка с навесом. По фронту заставы проходили столбы с колючей проволокой. В приоткрытые, оплетенные «колючкой» ворота в открытую степь уводила наезженная, полная белой пыли дорога. Степь призрачно млела в вечернем солнце, полная жаркой мглы, в которой далеко, нечетко туманились волнистые горы, и ближе — остроконечные, окруженные тенями невысокие сопки. Стена далеких гор, напоминавших верблюжьи горбы, в одном месте разрывалась. Казалось, что это русло, сквозь которое степь утекает в далекую, желтого цвета, страну и там продолжает обморочно млеть на солнце. У ворот из набитых мешков был сложен капонир с бойницей. Поодаль, тонкая, с журавлиной грацией, возвышалась дозорная вышка, и на ней под козырьком стоял наблюдатель в панаме, припадал к застекленной трубе, всматриваясь в белесую мглу.
Бродя по заставе, он почувствовал смоляной свежий дух неожиданный, лесной, среди бесцветного, лишенного запахов воздуха. По этому вкусному запаху он набрел на высокую гору струганых длинных ящиков, сложенных у стены склада. Изумлялся их древесной некрашеной свежести среди жухлой земли и стен. За ящиками, сквозь колючую проволоку, тускло-синее, блестело озеро, расплавленное и недвижное. Не вызывало желание окунуться, как не вызывает подобного желания плоскость слюды.
Он заглянул в казарму, где при входе у полевого телефона сидел дежурный, в обмундировании, с притороченным штык-ножом. По одну сторону открывалось спальное помещение с рядами кроватей. На некоторых спали солдаты, обморочно раскрыв рты, выставив из-под мятых простынок коричневые гончарные лица и голые незагорелые ноги, — должно быть, отдыхал вернувшийся с дежурства наряд. Несколько голых по пояс солдат сидели на кроватях, среди масляных стен, воинских наставлений и призывов. Тут же размещалась вешалка с аккуратно развешанными мундирами, полка с пограничными фуражками. По другую сторону от дежурного, за решеткой, находилась оружейная комната, уставленная автоматами, пахло металлом и смазкой. Полуоткрытая дверь вела в «ленинскую комнату». Дежурный неохотно козырнул вошедшему Коробейникову, и тот, помедлив, прошел в «ленкомнату».
Это было тесное помещение с двумя столами и стульями. На стенах красовались аляповатые рукодельные плакаты с пограничными столбами, овчарками, мужественными пограничниками, на фоне коричневых гор среди них виднелась седловина, та самая, сквозь которую в Китай утекала казахстанская степь. Среди бравых призывов, предлагавших держать границу на замке, считать пограничную линию священной, давать отпор любому нарушителю, за одним из столов сидел парень. Встал, увидев Коробейникова. Был невысок, худощав, с милым сероглазым лицом, шелушащимся от солнца и пыли. Голову его украшал чубчик. Руки, державшие журнал «Вокруг света», были исцарапаны, в мозолях, в темной несмываемой смазке. Он улыбнулся Коробейникову так, словно ожидал от него каких-то благожелательных слов. И это тронуло, подкупило Коробейникова.
— Что читаешь? — спросил, кивнув на журнал. — Да ты садись.
— Интересная статья: «В джунглях Ганга». — Парень сел. — Как один путешественник в джунглях нашел заросший город, которому полтысячи лет. Про Индию интересно написано. Я люблю про Индию читать.
— Почему про Индию?
— У меня отец любил про Индию читать. Все говорил: «Хорошо бы поехать в Индию. Так интересно».
— Почему «говорил»?
— Умер отец. Перевернулся на тракторе. Как раз перед самой армией.
— Откуда ты?
— С Новосибирской области. Из деревни Кульково. Там мать осталась, сестренка. Что-то давно не пишут. — В этом доверчивом рассказе вновь почудилась Коробейникову наивная душа деревенского парня, которая тут же раскрылась перед незнакомцем, простосердечно ожидая от него благосклонности и радушия.
— Как тебя звать?
— Николай Студеникин, рядовой.
Интерес Коробейникова к солдату был небескорыстен. Это знакомство пополняло копилку опыта. Парень, почти незнакомый, был уже интересен. Крохотная история, которую тот поведал, если ее дополнить деталями пограничной службы, могла украсить будущий очерк. Сероглазый солдат с белесым чубчиком, читающий журнал об Индии, был будущим героем повествования, за которым он станет наблюдать, неторопливо рисуя портрет. Сейчас он выделил его из множества других персонажей, как исследователь легким сачком вычерпывает из воздуха бабочку, некоторое время рассматривает, а потом выпускает, не сводя глаз, наблюдая полет. Этот рядовой пограничник, как и он, Коробейников, был вовлечен в операцию, о которой не догадывался.
— Ну а что на границе? Докучают уйгуры?
— Ужас что делают! Прут напролом. Наперед себя гонят стадо, пыль, рев, ничего не видать. Сами на лошадях, зубы скалят, усами водят, хрипят! Кобели злющие, на грудь бросаются. Нам приказ: не пускать. А как не пускать, если прут. Лошадьми топчут, собаками травят, кнутами хлещут. Одно против них средство — автомат. Но приказ: огонь не открывать. Выдавливай их с территории. А как ты выдавишь стадо, в котором триста баранов! — Парень зажмурил глаза, замотал головой, словно отмахивался от зрелища свирепой схватки, в которой побывал. — Но и их понять можно. Пастбища у них от жары высыхают, корма нет, воды нет. Скот дохнет. Они его в горы гонят, на свежие пастбища, где трава не сгорела. Мы им прогоны закрыли, у них падеж. Пастухи подневольные, их заставляют. Может, там, откуда идут, их автоматами гонят, в спину стреляют. Они между двух огней. Будь моя воля, я бы их пропустил. Дал сопровождение, провел вдоль границы, и до свидания! — Парень, искусанный собаками, избитый бичами, выражал сострадание. Это еще больше обогащало образ, делало героем будущего очерка.
Коробейников пожал ему руку, оставил наедине с буддийскими статуями. Покинул «ленкомнату», унося невесомую, невидимую глазом добычу.
Коробейников продолжал обходить заставу. Солнце, красное, сплющенное, касалось горизонта. Жара спала. На спортплощадке скопились солдаты. Крепкий плечистый парень, голый по пояс, сидел на скамейке, заставляя других подтягиваться на перекладине. Покрикивал, грубовато высмеивал, если тем не удавалось упражнение. Лениво выложил на колени рельефные руки, украшенные татуировками: орел, восходящее солнце, пограничный столб, надпись «Жаланашколь».
— Ну что ты как кишочина старая! — презрительно кривился он, глядя, как худенький, с тощими руками солдат дважды подтянулся на турнике и повис, обессилев. — Дома тебя не кормили, корчишься, как червяк!
— А ты, салага! — Он сплюнул в досаде, глядя, как другой солдат вцепился в стальную перекладину и безнадежно тянет к ней острый выставленный подбородок. — Какие с вами в учебке сержанты работали! Мне бы вас отдали, я бы вас солнце крутить заставил!
Заметил подходящего Коробейникова. Оглядел его гражданскую внешность. Наметанным взглядом не признал в нем возможного над собой начальника. Поднялся. Лениво подошел к турнику:
— Смотрите, салаги, как настоящие мужики с железом работают!
Вяло, расслабленно стоял под перекладиной, сонно поглядывал на солдат. В единый миг налился звериной силой, хищно кинулся вверх, ухватил железную штангу могучими руками. Бицепсы его заработали как поршни. Взбухли могучие дельтовидные мышцы. Он бурно, мощно подтягивался, так что дрожали врытые в землю столбы, кривилась под тяжестью железная ось. Неуловимым взмахом согнулся в угол, взлетел на перекладину, оседлав ее, озирая сверху восхищенных солдат. Ринулся вниз головой, яростно кружа, превращаясь в горячий вихрь. Мышцы сжимались и разжимались, как насосы. Турник звенел и дрожал, как катапульта. Свирепое, неутомимое вращение внезапно оборвалось плавным броском, после которого парень соскочил с турника, бурно дышащий, стеклянный от пота, в алых пятнах здоровья, силы и молодости.
— Превосходно! — сказал Коробейников, когда силач опустился рядом с ним на скамейку, окутанный горячими запахами. — Мастер спорта?
— Закурить есть? — спросил парень небрежно, полагая, что теперь, продемонстрировав превосходство, имеет право на небрежный тон, на слегка бесцеремонную просьбу.
— Не курю, — ответил Коробейников.
— Жаль. А то в военторге такая «Прима», что от нее слюна синеет. А вы откуда? — поинтересовался парень, продолжая устанавливать отношения с незнакомцем, от которого не ждал помех и утеснений.
— Из Москвы.
— Земляки! А я из Владимирской области.
— Когда домой?
— Уже месяц, как дембель вышел. Давно бы уехал. Капитан попросил: «Сержант Лаптий, останься на пару месяцев. Молодняк подучи. Обстановка тяжелая». Я остался. Пара месяцев погоды не делает. Думаю, через недельку домой.
Этот мускулистый сержант был находкой. Просился в очерк своими сильными горячими мышцами, волевым смышленым лицом, свободой изъясняться и действовать. Был настоящий герой, душа пограничной заставы, чье имя «Жаланашколь» начертал на могучем плече. Пренебрег завершением службы, в трудные дни остался на родимой заставе. Учил молодняк стойкости, искусству пограничного бдения. Деревенский парень, чьи родители были похожи на тех, с кем соседствовал Коробейников, на Акимыча и Клавдию, Кулика и Марью, Петровича и Раису. Бесхитростные русские люди посылали своих сыновей на окраины громадной страны, которая нуждалась в защите. Такой характерный типаж мог украсить военный очерк. Был понятен, привычен, подтверждал связь поколений, незыблемость советского патриотизма и служения Родине. Коробейников радовался удаче, осторожно отслаивал от живого человека его литературный образ, в котором еще недоставало черт и подробностей, но присутствовала притягательность.
— Ну а что на границе? — продолжал он выспрашивать.
— Шашлыки пропадают! Я говорю: «Товарищ капитан, давайте двинем «бэтээр» и пару баранов задавим. Тушенка вот где сидит!» А он: «Думать не смей! Инцидент на границе!» А то, что глаз Каблукову на прошлой неделе выбили, не инцидент? А Сачка ножом уйгурским пырнули — не инцидент? Пастухи эти хреновы с виду бедные, в обносках, но морды сытые, ручищи как у борцов. Под обносками оружие, ножи, заточки, я обрез видел. Моя бы воля, я на их баранов «бэтээры» двинул, подавил, к чертям. Или из АК чесанул! А то обнаглели. Дождемся, что нас, как на Даманском, постреляют. Говорим: «Граница на замке!» Если сорвал замок, значит, вор, получай пулю в лоб!
Он негодовал, двигал плечами, как боксер, кого-то прессовал и давил. В нем было раздражение и азарт захваченного схваткой бойца, в которой он не хотел уступать и ждал момента, чтобы нанести удар.
— Ну а что будешь делать дома, когда через неделю вернешься? — Коробейников осторожно выведывал, копил впечатления, надеясь, что скоро увидит сержанта во время несения службы, в «бэтээре», или в наряде на контрольно-следовой полосе, или в рукопашной схватке с уйгурскими пастухами.
— А что буду делать? — лихо и ветрено тряхнул он головой. — Погуляю до осени без дела. Водочку попью с друзьями, на рыбалку схожу, с девками из райцентра побалуюсь. А с осени уеду в город, на завод. Брат обещал устроить. Деньги начну зарабатывать, может, женюсь. А про этих козлов и баранов, — он кивнул на туманную, вечереющую степь, в которой волновались предгорья, — и не вспомню! — Сержант чему-то улыбнулся, потер ладони. Вспомнил про солдат, которые молча покуривали у резиновой, наполненной песком покрышки. — Ну, салаги, кончай курить! Давай мышцы качать!
Коробейников, довольный первыми впечатлениями, вернулся в отведенный ему покой. Улегся на железную койку, в сумерках, при открытом окне. Слышал чьи-то негромкие голоса. Внезапный сквознячок принес слабый запах живой смолы. Огромный день с утренней Москвой, зелеными лесами, марсианскими выжженными предгорьями медленно проплыл перед ним. Засыпая, бессловесно помолился об оставшихся дома близких, о матери, о жене и детях, о тете Вере и тете Тасе, живущей своей одинокой печальной жизнью на другом континенте. Помолился об умершей бабушке, об убитом отце, о всей сошедшей в могилу родне, чтобы их принял Господь в своем небесном чертоге. Почти заснул и последней улетающей мыслью помолился о Елене и о том, кто — плоть от плоти его — созревал в ее чреве. И канул в бесцветные сны.
Проснулся ночью от рокота двигателей, стука железа, громких и сиплых криков. По комнате носились вспышки света, словно залетела шаровая молния. Коробейников вскочил, подбежал к окну. В синем дыму, в голубых ртутных вспышках двигались «бэтээры», урчали и разворачивались. Выпрыгивали солдаты с оружием, раздавались команды. «Резервная группа», — мелькнуло в голове Коробейникова. Подкрепление прибыло на заставу, размещались люди и техника. Ему показалось, что в свете прожектора возник полковник Трофимов, раскинул руки, что-то указывал, окруженный со всех сторон расплавленной огненной кромкой.
59
Утром, еще во тьме, его растолкал дневальный:
— Приказано будить!..
Мгновенно вскочил, как вынырнул из воды, оставляя в глубине невнятные сны. Несколько брызг в глаза у гремящего умывальника. Блокнот и ручка в кармане. Матерчатая шапочка с козырьком.
Было темно, в казарме желтели окна. За черной порослью деревьев, длинная, желтая, над степью протянулась заря. Горы, резкие, черные, волновались на заре, и отчетливо, наполненная желтизной, виднелась седловина.
Пошел туда, где работали двигатели, мелькали тени. Два «бэтээра» были готовы к выходу. Солдаты лезли в люки, другие рассаживались на броне. У всех были каски, автоматы и длинные белые палки, похожие на черенки от лопат.
— Доброе утро. Как спали? — Трофимов возник перед ним, энергичный, резкий, облаченный в полевую военную форму, с панамой на голове. Ничем не напоминал вчерашнего сутулого бухгалтера, утомленного щелканьем счетов. Был подвижен, пластичен, поддерживал на плече автомат. — Садитесь в головной «бэтээр», выступаем.
Коробейников, хватаясь за скобы, чувствуя охлажденный за ночь металл, угнездился на броне, упираясь плечом в пулемет. Рядом плотно, словно прилипли к металлическим уступам и граням, разместились солдаты. Мутно светлели под касками лица, белели в руках палки. Коробейников узнал сержанта, облапившего крышку открытого люка.
— Елки-палки. — Он постучал деревянным черенком о броню. — Барану между глаз, пастуху по кумполу. Оружие Родины!
Легко подскочил и занял место в люке начальник заставы Квитко. Нагнулся и крикнул в глубину транспортера:
— Пойдешь мимо сопки Каменной, обогнешь слева.
Последним вскочил Трофимов, ловко, сильно распихал солдат, освобождая себе место подле антенны. Кратко приказал:
— Вперед!..
Загрохотал, забил двигатель. Следом второй. Транспортер мягко двинул. Солдаты разом качнулись, плотнее налегли на броню. Ветер надавил на грудь. Мелькнули ворота, пропуская длинные, похожие на ящериц машины. Озеро на заре казалось медным листом. Просторная, темная степь с недвижной зарей закачала их в пыльных ухабах и рытвинах.
Коробейников испытывал веселящее чувство новизны, предвкушение уникального опыта. Он был молод, силен. Мощный двигатель толкал его к желтой заре. Его окружали молодые жизни, оружие. Воля опытных командиров соединяла их всех в слитную ватагу, где и ему, Коробейникову, было уготовано особое место. Степь светлела. Заря оставалась желтой, но в ней отслаивалась, всплывала розовая бахрома, словно коктейль из двух несмешивающихся напитков.
— Сопка Каменная. — Трофимов повернулся к Коробейникову, указывая на остроконечную невысокую гору, отдельным конусом стоящую посреди степи. Один ее склон оставался в тени, другой слабо розовел, с неясными выступами и морщинами. Казалось, сопка отделилась от ближних гор, выбежала в степь и одиноко замерла на равнине. — Спорная территория. Китайцы считают своей.
Лицо Трофимова было худым, заостренным. В нем появилась собачья чуткость, настороженность и злость. Он походил на овчарку, поводящую носом. Среди запахов гари, железа, степных потревоженных трав искал чуть слышный, едкий запах врага.
Транспортеры по мучнисто-белой дороге подъехали к широкой, распаханной в степи борозде. Она неровно тянулась в обе стороны, в бесконечность, словно ее проскребли по камням, процарапали по мертвой земле. Неведомый пахарь провел ее плугом, измельчил бороной, но под диким солнцем и суховеем пустыни на этой пашне вовек ничего не взрастет. Это была граница, контрольно-следовая полоса, на которой отпечатывалась стопа нарушителя, копыто степного джейрана, след скользнувшей змеи. За полосой подымались горы, ветвились овраги, повисли камнепады и оползни.
Заря растворялась, бледнела. Над степью становилось просторней, словно раскрывался огромный купол, под которым меркли и таяли тени. Транспортеры катили по дороге вдоль контрольно-следовой полосы, еще в тени от гор, за которыми медленно, бледно накалялся рассвет.
— Джунгарские ворота. — Трофимов показал Коробейникову далекую седловину, где, как в тигеле, белело и плавилось небо. — Шелковый путь из Китая… Шли караваны в Европу…
Возникло странное, похожее на головокружение чувство. Граница, отмеченная взрыхленной полосой, была той линией, за которой присутствовало нечто огромное, таинственное и чужое. Присутствовал Китай, откуда бесшумно катился свет. Линия обводила на земле место, где разместились его народ, он сам, его близкие, могилы его родни. Эта зыбкая линия отделяла от другого мира все, что принадлежало ему. Линию провели не только в казахстанской степи, но и в мироздании в целом, среди звезд и галактик. Граница существовала в бесконечной Вселенной, вычленяя из нее отдельный участок, который оберегался силой оружия, международными уложениями, священными ритуалами, делавшими границу подобием языческого божества, а пространство, выделенное для проживания его народу и государству, религией, которую надлежало всем исповедовать. Как если бы Бог создал контурную карту, расстелил у себя на столе, раскрашивая в зеленый, желтый и красный. Однако этой священной картой пренебрегали дующий в степи утренний ветер, льющийся через горы свет, перелетающий контрольно-следовую полосу высокий медлительный ворон. Это делало священную границу иллюзорной, зыбкой и временной, сотворенной не Богом, а упорными усилиями людей, у которых эти силы то возрастали, то таяли. Народы колыхались в чащах своих территорий, переплескивались через края этих чаш, ломали непрочные стенки.
Он двигался на «бэтээре» вдоль границы, испытывая головокружение, как если бы пытался совместить бесконечно большое, божественное, и временно-малое, человеческое.
— Стоять! — крикнул в люк капитан. «Бэтээры» остановились, отпуская от себя хвосты пыли. И стало слышно высокое, скрипучее карканье черной птицы, вяло летевшей из Китая. — Занять позицию!
Солдаты спрыгивали на землю, разминались, поправляли автоматы и каски, перекладывали из руки в руку деревянные палки.
Сержант Лаптий мощно рубанул палкой воздух. И его жест, с меньшей силой, повторил знакомый Коробейникову солдат Студеникин, в нахлобученной, слишком глубокой каске. Солдаты разделились. Одни, возглавляемые молодым офицериком, у которого в руках был мятый жестяной горн, удалялись вперед по дороге и выстраивались там в редкую цепь. Другие возвращались вспять, перегораживали дорогу заслоном. Третьи оставались на месте, топтались на дороге. Это напоминало игру, какой-то вид лапты, в которую собирались играть солдаты, размахивая палками. Ощущение предстоящей игры усилилось, когда капитан вынул из люка жестяную трубу с рукояткой, будто предназначенную для судейских команд. Это казалось странным, наивным и чуть пугающим под высоким пустым небом, у горных склонов, похожих на ступенчатые, не занятые зрителями трибуны.
— Запроси четвертый пост, какая у них обстановка, — приказал капитану Трофимов. Оставаясь на броне, он всматривался в дорогу, на которой исчезали тени гор и зыбко сквозила цепочка солдат. Начальник заставы вытянул из люка шлемофон. Надел, прижав к кадыку лямку с микрофоном:
— «Четвертый», «Четвертый», я — «Первый»!.. Доложи, какая обстановка!..
Его брови хмурились, когда он выслушивал булькающий в шлеме голос невидимого наблюдателя.
— Понял тебя, «Четвертый»!.. Продолжай наблюдение… — Снял шлемофон, обращаясь к Трофимову: — Пока что чисто. Двадцать минут назад подъезжала грузовая машина. Сразу же развернулась и ушла.
— Сегодня должны пойти. Вы правильно их вчера пропустили. Они думают, что на вашем участке дыра, сюда и двинут. Мы верно все рассчитали.
Коробейникову в словах полковника виделся скрытый замысел, утонченная хитрость, намек на правила предстоящей игры. Не стал расспрашивать, полагая, что замысел себя обнаружит. Завороженно смотрел, как из-за гор льются беззвучные волны света, наполняя степь торжественной красотой и величием.
Волны шли из Китая. Свет был бессловесным посланием, таинственной молвой, которую Коробейников силился и не мог разгадать. Загадочная страна через темные очертания гор что-то вещала Коробейникову, разговаривала с ним дыханием света. Эти прихотливые, существующие тысячи лет очертания, и одинокая удаленная сопка, озаренная с одной стороны, и розоватая, с нежными тенями степь, над которой кружил тяжеловесный ворон, и слетающие с чьих-то огромных уст пульсирующие волны света — все это был Китай, о котором он так мало знал. Золоченые Будды среди красного убранства храмов. Зимний дворец императора с черепичной крышей, резными драконами, каменными священными львами. Летний дворец императора у лазурных прудов, по которым плывет ладья, оставляя на лазури розовый след. Алебастровая армия воинов, бессчетными рядами стоящих по пояс в земле — доспехи, мечи, мужественные пехотинцы, грациозные всадники, молчаливые генералы в долгополых одеждах. И, конечно, «Пекинская опера» — танцующие лицедеи с мяукающими голосами, в ярко раскрашенных масках, тяжелых шелках, с движениями марионеток.
«Пекинская опера» — так называется эта игра, в которой участвуют солдаты с палками, пыльные, с приподнятыми пулеметами, транспортеры, полковник Трофимов в мятой панаме с лицом притаившегося охотника и он сам, Коробейников, вцепившийся в скобу транспортера, глядящий на мятую, из оцинкованного железа трубу. И вдруг вспомнился Марк Солим, изображавший под люстрой китайского лицедея, и следом — щемящее, больное и сладкое, что осталось в уютном доме на Сретенке.
— Запаздывают, — нервно произнес Трофимов, глядя на офицерские часы, где в зеркальце света бежала секундная стрелка. — Должны бы уже показаться.
Ребристый шлемофон, лежащий на кромке люка, забулькал, заверещал, словно в нем пробился водяной ключик, выталкивая пузырьки звука. Капитан Квитко схватил ребристый шлем, напялил на круглую голову, его задорные усики энергично зашевелились:
— Понял тебя, «Четвертый»!.. Две по триста!.. Продолжай наблюдение!.. — Стянул шлемофон, обнажив оттопыренные, нежно просвечивающие уши. — Спускаются две отары, голов под триста… Сопровождение — пастухи, человек восемь-десять… Как обычно, отары овечьи…
— Агнцы Божьи! — Трофимов ударил кулаком по броне, словно сбывался его дальновидный расчет, исполнялся тщательно спланированный замысел. Вытащил из люка бинокль, направил на горы, где в складках, похожих на зачехленные туловища великанов, едва заметная, спускалась дорога. Коробейников разглядел эту дорогу, спускавшуюся из Китая к контрольно-следовой полосе, впадавшую под прямым углом в белый накатанный путь, который перегородили солдаты и у которого стояли транспортеры.
Солнце вышло из-за вершин, бесцветное, горячее. Мгновенно иссушило, нагрело равнину, обесцветило ее, лишив розовых, фиолетовых оттенков, превратив в белесый пепел. Коробейников всматривался в горную дорогу, пустынно прочерченную среди волнистых складок. От напряженного всматривания ему стало казаться, что складки начинают взбухать, расширяться, словно пыльные чехлы наполнялись воздухом и медленно раздувались. Часть серой горы качнулась, стала вязко наплывать на дорогу, словно оторвался оползень, стал медленно сваливаться в долину. Так стекает с горы массив жидкой глины, пропитанной водой, но кругом была горячая сушь, каменное безводье пустыни.
— Пошли агнцы!.. — Трофимов не скрывал волнения, водил окулярами по предгорьям. — Травка, водичка… Напоим, накормим… Хотите взглянуть? — Он передал бинокль Коробейникову, и тот, поводив синеватыми стеклами по увеличенным, рельефным горам, вдруг увидел близко длинную мучнистую дорогу. Овечье стадо, того же мучнистого цвета, рыхлое, пыльное, охваченное едким свечением множества спрессованных жизней, тягуче заливало дорогу. В дрожащей массе угадывалось множество голов, мерцающих глаз, цокающих копыт, вываленных, жарко дышащих языков. Среди стада двигались лошади, на них наездники с неразличимыми лицами, верткие, нервные, взмахивали руками, рассылали удары невидимых бичей. Мелькнула большая собака, похожая на огромного барана, и от ее прыжка шатнулось в сторону стадо.
— Как пластилин… — Коробейников вернул бинокль. — Зальет, залепит…
— Все нормально, по плану… Напоим, накормим… — повторил азартно Трофимов, впиваясь в бинокль.
Стадо длинно и медленно выплывало из расщелины. Колыхалось на склоне, как розоватое облако, солнечно, прозрачно дымилось. Опускалось к подножью. Задерживалось на уступах, меняя очертания, округляясь, накапливая тяжесть. Вновь начинало течь, удлинялось, приближалось к контрольно-следовой полосе.
— Есть!.. Пересекли!.. — В возгласе Трофимова была радость охотника, заманившего добычу.
Стадо слилось в низину, надвинулось на процарапанную линию границы. Излилось на белесую ленту приграничной дороги. Наездники метались, сбивали расплывшееся стадо, направляли его на дорогу. Догоняли отдельные раскатившиеся по степи комочки, соединяя их с основным массивом. Были видны поднявшееся над стадом пыльное облако, пустой отрезок дороги, редкая, пересекавшая дорогу, цепочка солдат, капельки солнца на касках. На большом расстоянии чувствовалось, как напряглась и сжалась цепочка, как нервничают пограничники, на которых надвигалось живое, вязкое скопище.
Коробейников различил странный донесшийся звук. Не блеяние, не цокот, не удары хлыстов, а монотонное дребезжание воздуха, словно вибрировали нагреваемые солнцем камни, частички пыли, молекулы воздуха, превращаясь в пузырьки накаленного света.
— Капитан, ты провел инструктаж? Автоматы в ход не пускать! Оружие на предохранителе! Только дубины! Молотить куда ни попало! — Трофимов зло посмотрел на капитана, боясь, что эта круглая, с лихими усиками голова не вместила до конца его, Трофимова, замысел.
— Инструктаж проведен, товарищ полковник. У людей такая злоба, что и палка выстрелить может. — Квитко вслушивался в унылый далекий звук, от которого щемило сердце.
Коробейников услышал, как в унылых дребезжаниях появилась вибрация, словно загремела плохо натянутая струна. И этот звук тревоги, печали и жалобы, казалось, взывал к небесам, умолял уберечь людей от непоправимого зла, от затмения непросветленных умов, от необратимых, неугодных Богу деяний.
— Это что? — спросил Коробейников, вслушиваясь в тоскливые звуки.
— Лейтенант Бессонов задул в «волшебную флейту», — усмехнулся Трофимов, указывая на жестяную, лежащую на броне трубу. — Предупреждает пастухов о нарушении государственной границы. Предлагает вернуться назад. У него там цитатник с десятком уйгурских фраз. Выкрикивает их в мегафон. С ужасным акцентом.
Коробейников видел, как далеко на дороге сближаются стадо и заслон пограничников. Все меньше оставалось пустой дороги. Вытягивалась и заострялась отара. Быстрее двигалось стадо, разгоняемое ловкими пастухами. Злее блестело на касках солнце. Сблизились, смешались. Превратились в пыльный ком. Коробейников чувствовал таранный удар, слепое столкновение. Одна жизнь сминала другую, пробивала в заслоне брешь, протачивала желоб. Звук изменился, стал воющим и надрывным. Так на удалении звучали блеяние овец, стук палок в пыльные бока и костяные хребты, звериные вопли боли, визги наездников. Сквозь голошение степи продолжал пробиваться вибрирующий, ноющий звук вопиющего в пустыне лейтенанта.
— Недолго держались «панфиловцы». Ну хоть разогрелись немного, — зло произнес Трофимов, не опуская бинокль.
После первого удара стадо остановилось, заметалось в пыли. Казалось, подымается с этой пылью вверх, пытаясь перелететь преграду. Из тусклых вихрей возникли два разделенных языка, сошли с дороги, стали по обочинам огибать заслон, который был почти неразличим в сером смерче. Слабо вспыхивали каски, взлетали палки, кружили два всадника, протаптывая лошадьми дорогу овцам. Стадо миновало заслон, снова слилось на дороге, покатило дальше. Пыль оседала, в ней вяло колыхались солдаты, будто их переехала слепая тяжелая сила. Было видно, как они садятся на обочине, иные ложились на землю.
— Твой черед, капитан!.. Надевай овчинный тулуп!..
Стадо приближалось, бежало, толкало впереди жаркий воздух, оставляло позади туманный шлейф. Были видны заостренные морды, косматые спины, стеклянные проблески глаз. Животных гнала неостывшая боль, страх, раздраженье. В костяных лбах маячила у всех одна, тысячекратно повторенная цель — высокогорные пастбища, прохладные водопои, зеленая трава, побуждавшие быстрей миновать раскаленные камни, набивавшие шерсть едкой горячей пудрой. Многие овцы несли в утробах ягнят, терлись разбухшими боками. Перед стадом бежал громадный баран с ребристыми, туго завернутыми рогами. Поодаль носились распаленные собаки, то и дело набрасывались на отстающих овец. Стадо сопровождал десяток пастухов на низкорослых коричневых лошадях — плоские лица, ватные халаты, ременные пояса, грязные, закрывающие лоб повязки. Были видны их гибкие повороты в седлах, желтая медь стремян. Стадо ревело, блеяло, истошно заходилось злыми воплями. Слышался лай собак, хрип лошадей, тонкие вскрики наездников.
Солдаты в ожидании схватки напряглись, изготовили падки, наклонились вперед, как перед стартом. Автоматы были заброшены за спину. Железные шлемы, короткие палицы, наклоненные, напружиненные тела делали их похожими на древних воинов. В этом степном стоянии Коробейникову чудилась странная фреска, настенная роспись, рисунок на древнем сосуде, из времен Чингисхана, Александра Македонского, персидского царя Дария, проводивших по пустыням табуны и стада, боевые колесницы и армии.
— Давай, Квитко, дуй в свою «волшебную флейту»!..
Капитан стал рыться в нагрудном кармане. Извлек замызганный блокнот. Раскрыл. Схватил рукоятку горна. Приставил оцинкованную жесть к пересохшим губам, так что усики фривольно задрались вверх. Заглядывая в блокнот круглыми испуганными глазами, стал выдувать из трубы гортанные, металлические звуки, которые, как железные завитки, вырывались и неслись навстречу стаду. Звук был дикий, гортанный, гулко скрежещущий, навевающий оторопь и тоску, как, должно быть, навевала ее иерихонская труба в руках ангела, пролетавшего над обреченным городом. Обрезки железа достигали стада, вонзались остриями в овечьи шубы, в лошадиные бока, в лица наездников, причиняя боль, но не останавливали, а заставляли бежать быстрее.
Коробейников, завороженный диким, пропущенным сквозь железо косноязычием, подумал мимолетно, что участвует в языческом ритуале, в заклании жертвенных стад под вопли и песнопения жреца. Операция, к которой его готовили, есть мистерия во славу загадочного азиатского бога, взирающего с вершины горы прищуренными монголоидными глазками. Мысль была мимолетной и канула. Стадо ударило в заслон всей заостренной силой.
Солдаты оказались в клокочущей гуще, по пояс в рыхлом войлоке. Крутились, взмахивали палками, наносили удары в овечьи глаза, носы, плоские костяные лбы. Отпихивались ногами. Овцы отскакивали, вставали на дыбы, ошалело падали на грудь солдатам острыми секущими копытами. Старались вырваться из-под ударов. Но сзади напирали другие, слепо давили, теснили солдат. Пастухи визжали, скалили зубы, свистели бичами, превращая стадо в свирепый таран. И над всеми адскими хрипами, матерщиной, лошадиным ржанием истошно взывала металлическая труба, предвещая конец света.
Коробейников видел, как баран, наклонив тупые витки рогов, пер на сержанта. Лаптий выкрикивал несусветную ругань, лупил дубиной, которая отскакивала от рогов, погружалась в пыльный войлок, плющила в кровь мокрый бараний нос. Зверь, шалея от боли, встал на дыбы. Сержант схватил его за передние ноги, сжал кулаки, и они стояли в рост, упершись друг в друга лбами. Качались, давили, как в поединке — зверовидный человек и человекоподобный зверь. Лаптий свалил барана на сторону, копытами вверх, и того понесли на головах бегущие обезумевшие овцы.
Солдат Студеникин схватился с собакой. Огромный косматый кобель блестел клыками, рвал рубаху, тянулся к солдатскому горлу. Студеникин засовывал ему в пасть дубину, заталкивал в хрипящий зев, пытался там провернуть. Были похожи их близкие ненавидящие глаза, мокрые высунутые языки. У обоих по-звериному вздулись загривки.
Вокруг каждого из солдат возникали водовороты. Избиваемые овцы создавали рулеты, заматывали в них солдат, заворачивали в рыхлый войлок, душили. Солдаты вырывались из-под жарких живых кулей, вскакивали овцам на спины. Бежали, балансируя, по хребтам, сверху наносили удары.
Пастухи врезались в середину стада, хлестали бичами, пытаясь дотянуться до солдат. Крутились в седлах, вертели плоские лица, на которых тонкими серпами висели усы. Бич ременным хвостом захлестнулся вокруг дубины, наездник дернул, вырвал палицу из рук ошалелого пограничника.
Толстобокая овца пробегала мимо «бэтээра», и из нее била блестевшая на солнце струя. Другая, выпучив окровавленный глаз, промчалась, и из нее хлестал жидкий помет. Овцы вскакивали друг на друга, кусались, бежали на задних лапах, уперевшись о спины других. Казалось, они совокупляются под ударами дубин, распаленные болью и похотью.
Жуткое побоище кружило голову, лишало рассудка. Коробейников чувствовал, как его затягивает воронка страдающей плоти, хотелось ворваться в стадо, бить, крушить, вырывая из животных больные звериные, хрипы. Был готов соскочить с «бэтээра», кинуться в схватку. Мимо на потной лошади с луновидным коричнево-липким лицом проскакал пастух. Что-то выкрикивал, лупил в лошадиный бок остроносым чувяком, вдетым в медное стремя. Махнул бичом. Жгучий удар рванул Коробейникову плечо, заставил очнуться. Всадник проскакал. Было видно, как блестят на лошадиных копытах подковы.
Солдаты отступали, будто их увлекала лавина. Их уволакивало, сминало, уносило вместе со стадом.
— Капитан, приказ личному составу!.. Огонь на поражение!.. По овцам и лошадям!.. В людей не стрелять!.. Огонь!.. — Трофимов, свирепый, с длинным злым ртом, набрякшей шеей, тянулся с «бэтээра» вслед пробегавшему стаду. Раздувал ноздри, вдыхал звериную вонь, ядовитую пыль. — Слышишь, капитан, огонь!..
— Был приказ — не применять оружия? — ошалело спросил Квитко. — Каждый день инструктаж — не применять оружие, не поддаваться на провокации…
— Бери матюгальник, приказывай!.. Огонь на поражение!..
Начальник заставы медлил, переводил круглые испуганные глаза с полковника на жестяную трубу и дальше, на клокочущее стадо.
— Дай сюда!.. — Трофимов схватил трубу, прижал к злым губам и яростно, выдувая из трубы прозрачное пламя, закричал: — Личному составу!.. Пресечь нарушение государственной границы!.. Огонь на поражение!.. Стрелять по овцам и лошадям!.. В пастухов не стрелять!.. Огонь!..
Было видно, что солдаты услышали приказ. Поворачивались на металлический голос, сносимые вязким месивом. Трофимов посылал в их гущу дребезжащие жестяные слова:
— Пресечь нарушение государственной границы!.. По лошадям и овцам — огонь!..
Коробейников увидел, как Лаптий, толкаемый со всех сторон овцами, вертко и гибко вытянул из-за спины автомат. По пояс в кудлатом вареве, наклонил ствол, ударил очередью в близкие спины и головы. Стучащий звук автомата переходил в тугие, хлюпающие толчки пуль, ударявшие в овечьи тела. Сержант разворачивал корпус, ведя грохочущим стволом. Вокруг взлетали ошметки шерсти, черные брызги. Туши валились веером, освобождая пространство, но их место заполняли другие. В упор, дырявя черепа и пыльные шубы, пробивая хребты и ребра, бил автомат, выстригая вокруг пустоту. Баран, свирепо наклонив башку, наставив рога, скакнул, подогнув передние ноги, и в могучее горячее тулово, в кудлатый живот, в сырой возбужденный пах резанула очередь, выпарывая фиолетовые и красные пузыри.
Солдаты, стоя в разных местах сбесившегося стада, стреляли, отбрасывая очередями животных. Овцы, рассеченные огнем, кидались в стороны, увлекали за собой ломти стада, бежали в степь, а их настигали собаки, ревущим лаем гнали обратно к дороге, под огонь автоматов.
Косматый кобель кинулся к Студеникину. Раскрыл жаркий зев, вывалил красный язык, оскалил блистающие белые зубы. Засовывая ствол в хрипящую пасть, ударил Студеникин, вырывая из затылка собаки шмотки мяса. Черная дыра попускала пули навылет. Кобель кашлял, грыз железо, ломал о ствол клыки.
Пастухи визжали, носились вокруг, подымали на дыбы испуганных лошадей. Били плетьми, рвались сквозь толщу овец к стрелявшим солдатам. Наездник в рваном халате, пригибаясь к лошадиной башке, мчался вдоль стада, истошно визжа. Солдат двинул со лба мешавшую каску, повел стволом, вылавливая всадника. Послал короткую очередь. Лошадь споткнулась, сверкнула подковами. Рухнула, перевертываясь через голову, ломая шею, сбрасывая визжащего седока. Пастух отлетел далеко. Раненая лошадь с перебитыми позвонками сотрясалась в конвульсиях. Второй наездник промчался мимо лежащего пастуха. Как циркач, с седла, протянул ему руку. Тот взлетел, поместился у него за спиной, и вдвоем они мчались прочь от стада, мимо «бэтээра». Коробейников видел их одинаковые, коричневые, как ржаные ковриги, лица, драные халаты, пестрые пояса.
— Механик!.. Заводи!.. — безумно крикнул Трофимов, глядя вслед улетавшим наездникам. — Догони их, сук!.. Вперед!..
Машина рванула, хищно и грозно. Пошла стелиться степью, упруго вписываясь в ухабы и рытвины, настигая всадников.
— Башку продырявлю!.. — Трофимов орал, как безумный. На его губах выступила пена. В зубах свистел ветер. «Бэтээр» настигал скакуна. Уйгуры затравленно озирались. Были видны их ненавидящие глаза. Лошадь шарахалась, металась в стороны. «Бэтээр» повторял ее дуги и вензеля, гнал, травил. Трофимов выхватил пистолет, стрелял в воздух:
— Убью!.. Косоглазые суки!..
Промчались место, где сгрудились солдаты первого, прорванного, заслона. Уйгуры проскакали сквозь их редкий строй, перемахнули контрольно-следовую полосу. Наметом пошли вверх, по горной дороге, в Китай, тем же путем, откуда спустились. «Бэтээр» остановился. Трофимов тяжело дышал, гасил в себе вспышку безумия. Квитко испуганно смотрел на полковника, прижимая к груди ненужную жестяную трубу.
Возвращались к месту побоища. Стадо, рассеченное на множество ломтей, разбежалось по степи. Напоминало розоватые клочья ваты из разорванного одеяла. Пастухи на лошадях скакали в горы, исчезали среди камней. На дороге, круглясь боками, валялись убитые овцы. Дорога темнела от крови, мочи, жидкого помета. Солдаты расхаживали, толкали ногами убитые туши. Звучали одинокие выстрелы. «Бэтээр» остановился у раненой, с дрожащими ногами лошади. Голова на переломанной шее не могла подняться. Дергались ноги, блестели подковы, смотрел огромный, продолговатый, страдающий глаз, поразивший Коробейникова голубизной и слезным блеском. Подошел Лаптий, приставил к лошадиной голове автомат и выстрелил. Коробейникову показалось, что из лошадиного глаза брызнули голубые лучи. Глаз почернел, обмелел и погас.
Возвращались на заставу. На броне «бэтээров» тяжело висели притороченные овечьи туши. Пыльное железо сверху вниз перечеркивали липкие полосы. Под касками лица солдат казались утомленными и задумчивыми. Трофимов, молчаливый, озабоченный, ничем не напоминавший недавнего стреляющего из пистолета безумца, о чем-то сосредоточенно думал. Коробейников, потрясенный зрелищем бойни, успел отметить, как быстро, вне всякой логики, меняется облик этого загадочного человека.
На заставе солдаты сваливали на землю убитых овец. Передавали их в руки пограничников из «резервной группы». Те подвешивали их на турнике, остроносыми мордами вниз. Свежевали, орудуя штык-ножами. С треском сдирали, сволакивали пышные шкуры, оставляя на перекладине фиолетовые, с прожилками желтого жира, туши. Вернувшиеся с границы солдаты возвращали в «ружейную комнату» автоматы, ставили на полку пыльные каски. Раздевшись по пояс, ополаскивались у рукомойников. Наскоро пообедав в солдатской столовой, валились на койки и засыпали. Их товарищи свежевали мясо, насаживали на обрезки проволоки, чтобы к ужину застава вкусила шашлыков.
Коробейников чувствовал, как слабо горит тело, будто его обложили горчичниками. В потные поры въелась едкая степная пыль, пороховая гарь и мельчайшие брызги овечьей плоти. Болело плечо, обожженное ударом хлыста. Ему не хотелось ополаскиваться среди грохочущих солдатских умывальников. Отправился к озеру, млечно светлевшему сквозь чахлые заросли. Проходя мимо склада, вновь увидел сложенные деревянные ящики, вдохнул смоляной запах, не понимая назначения этих прямоугольных коробов. Тут же стоял оранжевый бульдозер с зеркально натертым ножом.
Озеро было продолговатым, голубым, окруженным нежно-белой солончаковой каймой. Напоминало огромный лошадиный глаз в коричневой теплой голове. Коробейников разделся, кинул одежду на землю, присел на берегу, чувствуя недвижный жар, глядя на водяной блеск. На плече кровенел тонкий рубец. «Татуировка границы», — подумал он отрешенно. Далеко, бесцветно туманились горы с Джунгарскими воротами, за которыми был Китай — сонное, желтое марево. Он подумал, что в растворенные ворота гор тысячи лет двигались караваны купцов, кочевые стада, великие армии. Останавливались у синего озера Жаланашколь, и его солоноватой водой утоляли жажду быки и бараны, кони и боевые слоны, верблюды и вьючные ослы. Остужали разгоряченные, изъеденные потом тела утомленный воин и лихой разбойник, отважный купец и тихий паломник. Эта мысль казалась сладкой, волновала его. Внезапно слабо дрогнул стекленеющий воздух, словно его зарябила пролетевшая частица, прострелила его утомленный мозг, и возникло странное чувство, что это уже было когда-то. Он уже прежде, тысячу лет назад, сидел на берегу этого синего озера, смотрел на солнечный блеск, на соляную кромку, и на голом плече кровенел тонкий отпечаток бича.
Поднялся, вошел в теплую воду, ступая по глиняному скользкому дну. Мягко упал, смыкая над собой млечную влагу. Поплыл, рассылая к берегам слепящий блеск. Пограничник с вышки смотрел, как он плавает в озере, окруженный блеском. Он был погружен в синее око коня, которое запомнит его, как множество других, безымянных, совершавших здесь омовение.
Подумал, что вояж его завершается. Пережитое зрелище, кровавая бойня скота — метафора приграничной борьбы, достаточная для энергичного очерка, в котором политика, совмещенная с натуралистическим зрелищем бойни, с лирическими портретами молодых пограничников и мужественных офицеров, все это вместе приведет к желаемому результату. Он выполнил задание и может возвращаться домой. Завтра вертолет с запыленной звездой опустит его в Талды-Кургане, у пыльных тряпичных юрт. Старомодный «Ли», уныло дребезжа обшивкой, доставит в Алма-Ату. Замученный комендант посадит его на белый огромный лайнер. И к вечеру — чудесные березняки Домодедова, восхитительная, остывающая после дневного жара Москва, фонтаны, цветники, розовый Кремль. Ахнув, встретят его милая, изумленная внезапным возвращением жена и любимые дети. А здесь навсегда останется его отражение, запечатленное в озере, как в синей глазнице коня.
Он вернулся в свою просторную, уставленную койками, комнату и заснул, обнимая сонной мыслью зрелище утренней схватки, словно прижимал к груди суму с драгоценной поклажей.
Проснулся в темноте от громких голосов и переборов гармони. Выглянул в окно. В курилке, на скамьях, тесно сидели солдаты. На земле горели красноватые плошки — наполненные соляркой консервные банки. В их дрожащем свете Студеникин раздвигал малиновые мехи баяна, наклонял голову к инструменту, словно слушал его всплески и всхлипы. Музыка казалась странной, занесенной из пустынь и степей, из золоченых пагод и восточных шатров. Сам инструмент в отблесках перламутра, с красными жабрами, был похож на резного дракона, на светящийся китайский фонарь. Среди огоньков, заслоняя их ногами, освещенный снизу, Лаптий выделывал невероятные вензеля и выкрутасы, танцевал какой-то дикий танец, напоминающий шаманские камлания среди ритуальных светильников. Другие солдаты раскачивались в такт музыки. Были похожи на племя кочевников, отдыхающих на стойбище после сытного бешбармака. На степных воинов, поделивших после боя добычу, благодарящих милостивых богов. На служителей древнего культа после заклания жертвенных овнов, чьи рогатые черепа были надеты на колья, а сырые шкуры распялены на частоколе. Коробейников оделся, заспешил к солдатам, чтобы послушать их разговоры и эти солдатские разглагольствования внести в свой будущий очерк.
Выходя из казармы, столкнулся с Трофимовым, который шел от невидимых кунгов. Полковник шагал энергично, чуть боком, торопливо хрустя подошвами. Столкнулся с Коробейниковым в свете окна. Лицо его было возбужденным, глаза в темноте блестели:
— Получены радиоперехваты… Китайцы, в количестве неполной роты, пересекли границу и окапываются на сопке Каменной… Мы их заманили «волшебной флейтой»… Завтра утром — работа… — И прошел, шурша гравием, чуть выставив плечо, словно расталкивал воздух, сквозь который проносил драгоценную весть.
Коробейников слушал переливы и воздыхания перламутровой азиатской гармони. Смотрел, как множество теней колышутся среди красных светильников. Понимал, что еще рано ему улетать от Джунгарских ворот. Его ждет продолжение «Пекинской оперы».
60
Он проснулся в черноте ночи, в которой метались пятна света, стучали двигатели, рыкали голоса. Выглянул в окно. В небесах по-ночному ярко сверкали звезды. На земле с горящими фарами стояла колонна из четырех «бэтээров». Солдаты на броне мутно белели лицами. Отсвечивали каски, детали оружия. Он испугался, что его не разбудили и колонна уйдет без него. Не умываясь, застегиваясь на бегу, выскочил из казармы.
У головной машины стояли офицеры, в касках, с автоматами. Полковник Трофимов держал перед фарой раскрытую карту, бил в нее пальцем, так что карта сгибалась, и капитан Квитко подставлял под нее ладонь.
— Повторяю. Китайцы в количестве тридцати-тридцати пяти человек перешли границу и заняли сопку Каменную. Окапываются, долбят окопы. Слышны удары шанцевых инструментов. Согласно радиоперехватам, отряд принадлежит не к погранвойскам, а к регулярной армии. Предположительное вооружение — легкое стрелковое, один или два пулемета, термитные средства поражения бронетехники… — Трофимов бил пальцем, и Коробейников, заглядывая сквозь каски, видел на карте разводы рельефа, нанесенные цветными карандашами значки — красные, синие овалы и стрелки. — Получен приказ из округа — уничтожить нарушителей без предупреждения. Чтобы не было разгильдяйства, как на Даманском. Рассматривайте предстоящий бой как реванш за нашу нерешительность на Уссури. План боя еще раз докладываю… — Карта от ударов пальца изгибалась, по ней пробегала слепящая молния света. — Резервная группа силами двух «бэтээров» занимает позицию на флангах в пятистах метрах от сопки Каменная, на случай перехода через границу китайского подкрепления. Задача — отсечь подкрепление, не дать соединиться с отрядом нарушителей. — Коробейников вспоминал приграничный ландшафт, одинокую островерхую горку, которая отделилась от остальных гор, выбежала вперед, через границу и замерла, окруженная мягкой фиолетовой тенью. — Группа захвата, сформированная из личного состава жаланашкольской заставы, высаживается в темноте у подножья сопки, в ложбине, не простреливаемой пулеметами. С рассветом два «бэтээра» начинают пулеметный обстрел вершины, уничтожая живую силу, подавляя огонь китайцев. Под прикрытием «бэтээров» группа захвата атакует сопку, выбивает китайцев, занимает оборону. Командирам машин соблюдать дистанцию, не приближаться к сопке на расстояние прицельного выстрела гранатомета и термитных средств поражения. Вопросы есть? — Трофимов убрал карту, и она последний раз огненно протрепетала в свете фары.
Полковник был спокоен и строг. Предусмотрел все возможности предстоящего боя, который следовал за вчерашним убоем скота. Операция, куда был включен Коробейников, состояла из множества последовательных эпизодов, вытекавших один из другого. Ему было не дано понять весь объем операции, которая развивалась далеко за пределами пограничной заставы. Охватывала столицы стран, смещала политические центры, была стратегической интригой разведки. Ему показывали лишь малую часть операции, привязанную к незаметному участку границы. К безымянной каменной горке, отсутствующей на атласах мира, где в эти минуты гремели лопаты китайцев, мелькали фонарики, узкоглазый стрелок упирал пулеметные сошки.
Офицеры расходились к машинам. Коробейников вслед за Трофимовым полез на головной транспортер. Сверху протянулась рука, мощным взмахом вознесла на ребристую кровлю. Сержант Лаптий потеснился, давая место. Коробейников испытал мгновенную благодарность, угнездился среди касок, автоматов, подсумков, окруженный молодыми телами. Подумал: молодые солдаты видят в нем своего. Он связан с ними кровью жертвенных овнов, которая скрепила их братство.
Колонна вышла с заставы с погашенными прожекторами и фарами, в рубиновых метинах хвостовых габаритов. Звезды качнулись, разгорелись, словно на них дунул ветер, превратились в длинные блестящие брызги. Коробейников запрокинул голову, смотрел, как из черного неба кто-то выдергивает сверкающие длинные нити, словно шел звездопад и звезды сыпались в ночную прохладную степь. Он испытывал восторг, восхищение и пугающее больное предчувствие. Он не напишет очерк, не начнет задуманный роман, не найдет метафору для этих божественных звезд. Сложит голову на безымянной сопке с молодыми солдатами, которых Господь вместе с ним усадил на броню и несет навстречу смерти.
«Русская смерть под китайскими звездами…» — повторял он, как заклинание.
Его страх и ожидание смерти были одновременно и восхищением, и молитвенной благодарностью, и покорностью Божьей воле, которой угодно было вывести его на свет, продержать в этой жизни несколько счастливых упоительных лет, а теперь отозвать обратно. Мысль о смерти была одновременно и неверием в возможность смерти, которая не позволила бы ему описать этот ночной бросок «бэтээров», китайские звезды, ощущение бессмертия.
«Китайские звезды… — молча повторял он, любуясь великолепием неба. — Русская смерть под китайскими звездами…»
Колонна выпала из наезженной колеи, мягко закачалась на степном бездорожье. Остановилась, стуча моторами. Звезды вспыхнули алмазным блеском, увеличились, опустились белыми драгоценными вспышками. Трофимов спрыгнул на землю, солдаты стали опадать с брони, мягко шмякаясь башмаками.
— Лаптий, поведешь группу за мной на рубеж атаки!.. Радист, рация постоянно при мне!.. Капитан, ваше место в головном «бэтээре»!.. На вас управление огнем!.. За мной, по одному, вперед!.. — Трофимов углубился в темноту, бесшумный, легкий, с ночным волчьим зрением, словно шел по знакомой звериной тропе, узнавая ее по запаху. Солдаты, тихо шумя амуницией, потянулись вперед, увлекая за собой Коробейникова, который, волнуясь, боясь отстать, торопился, обретая совиную зоркость, видя волнистую, уходящую вперед цепочку солдат. «Бэтээры» сзади зарычали. Два из них, невидимые, понесли свои рокоты в разные стороны, лишь мелькнули, удаляясь, рубиновые хвостовые огни.
«Все запомнить… Эти красные ягоды огней, укатившие в ночь… Таинственное, отражающее звезды, колыханье касок… Мое волнение… Странное счастье помолодевшего тела… Нежная мысль о детях… Но зачем запоминать, если через минуту смерть?.. Красная вспышка, и пуля погасит эти великолепные азиатские звезды?..» — так думал он, поспевая за солдатами, чувствуя с ними неразрывную связь, включенность в загадочный замысел, людской и божественный.
Ему казалось, они шли долго, пока вдруг идущий впереди солдат не встал. Коробейников натолкнулся на солдатскую спину, услышал, как звякнул о каску автомат. Возник высокий, узнаваемый в темноте сержант, зло зашипел на солдата:
— Через двести метров залегаем… Пасть не раскрывать… Кто сигарету достанет, убью кулаком… Если у китайцев приборы ночного видения, они уже видят, салага, что у тебя под носом сопля… — и ушел вперед, сильный, разлапистый, как молодой медведь.
Прошли еще отрезок. В небе, светлом от звезд, появился непрозрачный темный конус. Твердый грунт сменился зыбким песком. На этот песок, перед островерхой, усыпанной звездами сопкой, опустилась группа, освободив перед Коробейниковым сияющую пустоту. Несколько секунд он оставался один, глядя в мерцающую разноцветную высь. Опустился на песок, и сопка исчезла.
Недалеко от него, распластавшись, неутомимо работал на рации Трофимов:
— Не подходи близко, Квитко… Максимум двести метров… Бойся подрыва… «Резервная», как меня слышите?.. Наблюдайте фланги… Меняйте позицию, возможен минометный обстрел… «Пост два», я — «Первый»!.. Доложите обстановку на сопредельной… Вас понял, вас понял…
Лаптий, подымая большую, в круглой каске, голову, наставлял солдат:
— За дембелями идите, вперед не суйтесь… Сопку берем в два броска… На середине горушки впадина, мертвая зона, пулемет не простреливает… Дойдем до середки, падаем, китайцы огонь открыть не успеют… Второй бросок на одном дыхании… Гранат не бросать, себя посечем… Все будет тип-топ, мужики, дойдем без потерь…
Коробейников ощущал драгоценность бытия, данного ему во множестве переживаний и чувств. Замшевый, мягкий под ладонью, песок. Крохотная в пальцах былинка с полынным запахом. Железная каска Лаптия с отражением звезд, ставшая космическим телом. Неразрывная связь с солдатами, как и он, оказавшимися в предгорьях Китая. Предстоящий бой, из которого кто-то не выйдет живым, быть может, он, Коробейников. Уже приготовлена пуля, холодная, острая, вправленная в латунную гильзу, в глубине автоматного рожка.
Предрассветный ветер принес с сопки звуки — звяк лопаты, неразличимые голоса, нечто, напоминавшее смех. Там, на вершине, китайские солдаты долбили окоп. Скребли металлом гору, переговаривались. Кто-то произнес забавную шутку, вызвавшую смех.
Было странно слышать смех людей, которых через минуту станут убивать. Быть может, засмеялся именно тот, в чьем рожке таится роковая пуля.
— «Пост четыре», я — «Первый»!.. Доложите обстановку на сопредельной…
Коробейников заметил, как над Китаем чуть видно посветлело небо. В вышине разноцветно сверкали звезды, а у горизонта стало слабо мутнеть. В нежной пепельной мути скользнула струйка света, окружая кромку гор, делая их черными, плоскими. Казалось, кто-то дует на эту струйку, вдыхает в нее больше света, который течет над горами, белеет, желтеет, наполняется нежно-лимонным оттенком. Заря прибывала, длинная и ровная сверху, извилистая и волнистая снизу, какой ее делали горы, черные, лишенные объема на яркой латунной заре. Желтизна дышала, отслаивалась, в ней появилась красная нить, малиново-огненная, пламенеющая. И отчетливо стала видна седловина Джунгарских ворот, в которых копился свет. Плескался в черном тигеле гор, переплескивался через край. Свет усиливался поминутно, лился в степь, перед ним бежали тени, сопка, окруженная светом, бросала удлиненную тень, лица солдат под касками казались худыми, бледными, с тенями вокруг ртов и носов. Черной синевой светились стволы автоматов.
— Я — «Первый»!.. Квитко, приступай!.. Работают обе коробки!.. Дистанция двести метров!..
Коробейников видел, как из мглы, отделяясь от недвижных теней, обнаруживая себя скольжением, стал приближаться к сопке транспортер, приземистый, бесшумный, как скользкая ящерица. Застыл среди тенистых бугорков, почти невидимый. Гулкие, резкие выхлопы, тугие удары, упругие частые стуки наполнили воздух. От «бэтээра» полетели к сопке красные секущие брызги, длинные искры трассеров. Упирались в склон, шарили, подымались к вершине, впивались в верхнюю кромку. Промахивались, улетали в мглистую степь.
Коробейников, приподнявшись, слушал гулкие, рвущие воздух удары. Видел, как в сумерках пузырится крохотное желтое пламя у пулеметного дула, изрыгавшего крупнокалиберные очереди. Пули со стальными сердечниками буравили камни, отстригали вершину, долбили сопку, подымая над ней облачко светлой пыли. С другой стороны, подкравшись, ударил второй транспортер, пылко, туго вколачивая в воздух пузырящийся звук, всаживая в сопку красные гвозди.
Два «бэтээра» обрабатывали вершину, соединяя на ней пулеметные трассы. Вершина дымилась, искрила, словно на ней шла сварка и ее приваривали к заре. На латунном листе — темная вершина, окруженная кудрявым дымком, в который вонзаются красные электроды.
От вершины в сторону первого «бэтээра» полетели встречные трассы, тоньше, реже, неуверенным веером. Мелкие стуки китайского пулемета затаптывались, забивались грохотом крупнокалиберного оружия. Следом с сопки покатился по воздуху красный уголек, словно кто-то стряхнул с сигареты пепел. Комочек ударил в степь, отскочил, прыгая, как мячик, унесся в темноту, и там грохнул короткий взрыв промахнувшейся гранаты.
— Держи дистанцию, Квитко!.. Не подставляйся гранатометам!.. — Трофимов управлял стрельбой. В голосе его были раздражение, азарт, беспощадная страсть, сводящая на вершине сопки раскаленную сталь, оптику пулеметных прицелов. — Меняй позицию, Квитко, черт бы тебя побрал!..
Из окопа слабо плеснул свет, размазал сумерки, упал, не достав «бэтээр». Превратился в белую звезду недолетевшего термитного заряда. Транспортер, не прекращая стрельбу, двинулся вокруг сопки, высекая из нее блестки. Скрылся за горой. Стучащие очереди стали глуше. Промахнувшиеся трассы вылетали из-за вершины, гасли в небе. Второй транспортер пошел по дуге, приближаясь к группе захвата. Остановился у нее за спиной, оглушая, посылая над головами солдат малиновые брызги. Огненные ножницы состригали вершину, ровняли, делали плоской, сыпучей.
Коробейников увидел, как из окопа на вершине горы поднялся в рост человек. Его окружало пламя. Он сбивал огонь, извивался, размахивал руками. Горели рукава, как огненные крылья. Кинулся вниз пылающим факелом. Рухнул, ворочался, охваченный жидким огнем. Замер. Горел, как кусок жира. Растекался по склону сальными ручейками света.
— Термит загорелся… Пуля угодила в термитный заряд… Поджаренный китаец… — Трофимов отжался на руках, тянулся вперед, и в его округлившихся глазах мерцали две ртутные точки — отражение сгоравшего человека.
Пулемет на горе молчал. Света становилось все больше. Степь была полосатой, нежно-розовой. В этой степи Коробейников присутствовал при истреблении чужеземцев, которые корчились в окровавленном окопе, харкали кровью, подхватывали выпадавшие из животов кишки. Сгоравший на склоне китаец передавал сквозь пространство свою нестерпимую боль, от которой Коробейников обморочно упал на песок, заслоняясь близкой подошвой лежащего впереди солдата.
«Боже, ты даешь мне все это увидеть!.. В этом твое назидание?.. Ты устроил все это, чтобы я мог узреть?.. Что же мне с этим делать?..» — вопрошал он, слыша, как шумит над головой растерзанный пулями воздух, и в эту безвоздушную трубу мчались пули, проносился узкий огонь. Казалось, на вершине сопки раскалываются стеклянные вазы, сыплется блеск осколков.
Кромки гор раскалялись. К ним подкатывалось невидимое солнце, готовое показать маленький огненный край.
— Лаптий, подымай группу захвата!.. Чтобы солнце вас не слепило!.. — Трофимов сунулся к сержанту, выталкивая кулак к вершине, словно хотел выбить солдат из песчаных лунок, куда они испуганно вжались. — Квитко, прекратить огонь! — Полковник придавил к злым губам рюмочку микрофона. — Подымаю группу захвата!.. Прекрати огонь, капитан!..
«Бэтээры» умолкли. Ближний стал откатываться. В утреннем свете виднелись скосы брони, протектор толстых колес, задранный ствол пулемета. И в этом светоносном небе сипло и зло прозвучало:
— Сержант, атакуй!.. Вперед!..
Этот приказ, длинный, как удар бича, хлестнул по бугристому тулову, составленному из прижатых солдатских тел. Бугры стали шевелиться, взбухать. Люди были не в силах оторваться от спасительного наполнявшего ложбину песка. По спинам и каскам бежала больная судорога. Первым медленно, мощно, как на домкратах, отжался Лаптий. Встал на четвереньки, в позу спортивного старта. Повернул к солдатам тяжелое, под каской, лицо.
— Вперед, мужики!.. — сипло прохрипел, зачерпывая воздух ладонью. Словно вычерпывал группу из ложбины, выковыривал из песка, сметал вверх на сопку. — За мной!.. — и побежал не оглядываясь, косолапо, сильно, как молодой медведь. Взбегал по склону, держа в кулаке автомат. Сила броска вязко натянула, повлекла за собой невидимые ремни и постромки, соединявшие сержанта с группой. Один, другой солдат стали подыматься. Поскальзывались на песке, начинали бежать, махая автоматами, как веслами. Устремлялись к вершине, вовлекая в бег остальных.
Коробейников чувствовал, как напрягаются связывающие его с солдатами крепи, выдирают из песка, вовлекают в общее стремление. Стал подыматься, тягуче, вязко, преодолевая гравитацию, готовый кинуться вслед солдату, который вставал перед ним, упираясь стопой в песок. Грозный, свирепый оклик: «Стоять!..» — удар по спине обрубил постромки. Передний солдат вскочил, горсть песка из-под его подошвы метнулась в лицо Коробейникову. Он остался на месте, хрустя на зубах песком. Смотрел, как удаляется группа вверх по горе, неровно, с интервалами, покрывая склон пятнами.
— Не ваша работа… — зло произнес Трофимов, похлопывая ладонью по песку, словно выравнивал оставленные солдатами лежки. — У вас другое задание…
Коробейников чувствовал перед собой зияющую пустоту, где его теперь не было и куда удалялись солдаты. Казавшаяся нерасторжимой связь оборвалась. Его судьба не совпадала с судьбой бегущих в гору солдат.
Они вбегали на склон острым клином, вершиной которого был сержант, а расходящимся веером — отставшие молодые солдаты. На полпути к макушке склон прогибался, образуя впадину, где еще сохранялась тень. В это длинное, с остатками тени, углубление вбегали и падали солдаты, тесно набиваясь в безопасное место. Последний покидал розоватый озаренный склон, когда сверху ударила очередь, трескуче, резко, длинной мерцающей искрой. Промахнулась, просвистела над головой Коробейникова.
— Так, сержант, молодец… Отдышитесь… Но не задерживайтесь… Сверху забросают гранатами… — Трофимов командовал, будто его негромкие слова могли быть услышаны на далеком склоне. Управлял атакой, словно от него к сержанту тянулся проводок, по которому передавались командирские команды. — Ну давай, сержант, подымайся!..
Солдаты продолжали лежать. Окоп на вершине молчал. Среди истребленных «бэтээрами» китайцев еще оставался живой пулеметчик. Невидимый ствол искал на склоне солдат, ждал их выхода из «мертвой зоны».
Солнце выжигало кромку гор, плавило камни. На эту жидкую раскаленную линию было больно смотреть. Солнце то появлялось, высовывало яростный злой язычок, то пряталось в гору, в слепящий блеск. Казалось, солнце не пускали, удерживали, откладывали восход, давая солдатам последние минуты належаться в безопасной тенистой ложбине. Коробейников чувствовал присутствие чьей-то невидимой воли, удерживающей светило. Сжав глаза, смотрел, как ныряет оно, трепещет, не в силах подняться. Его ресницы превращали свет в пышные зыбкие радуги. Казалось, из-за гор бьет разноцветный фонтан, переливается спектрами. Небо становилось нежно-зеленым, прозрачно-розовым, светло-золотым. Будто на китайских горах улегся хамелеон и меняет свой цвет.
— Сержант, ты медлишь!.. Вперед!.. — зло, беспощадно приказывал полковник.
Казалось, Лаптий через пространство сухого воздуха уловил злой, металлический голос. Поднялся, повторил вычерпывающий жест. Боком стал взбегать, враскоряку, работая локтями, выталкивая вперед автомат. Солдаты покидали спасительную тень, выбирались на светлый склон, карабкались вверх. Из окопа блеснул огонь. Очередь промелькнула среди бегущих солдат, никого не задев, и в ответ стали бить автоматы. Солдаты задерживались, били неприцельно, посылая к вершине разрозненные очереди, продолжали бежать. Один упал, завалился на бок, перевертываясь на спину, пропуская острый проблеск над собой. Его обегали, через него перепрыгивали. Было видно, как отпала его каска и он крутит белесой головой. Двое задержались, присели рядом. Грохнул взрыв, клубенек огня, маленькое облачко пыли. Коробейников успел заметить опадающую после броска гранаты руку сержанта. Лаптий первым выскочил на вершину, приседая, веером вел автомат. Взошло солнце. Окружило сержанта кипящим светом, оплавило, облило жидким свинцом. Он стал зыбким, тонким, провалился в вершину, словно там был кратер и он канул в белой расплавленной магме. Солдаты взбегали на кромку, пропадали в слепящем блеске. И там, где они пропадали, слышалась трескотня, бульканье, вопли. Вставшее солнце выпаривало скопившуюся на вершине, орущую, стреляющую жизнь, превращая ее в прозрачный наполненный светом пар.
— Я — «Первый»!.. Квитко, присылай на горку людей… Косоглазым конец!.. — Трофимов ворочался, всматривался в близкую сопку, оглядывался на стоящий в стороне «бэтээр». Машина двинулась к сопке, к ней, выскользнув из-за склона, присоединилась другая. Осторожно подошли к подножью, откуда начиналась атака. Бортовые люки раскрылись, стали выскакивать солдаты. Шли торопливо мимо Коробейникова. Капитан Квитко, в камуфляжном маскхалате, пятнистый, как тритон, замыкал цепь. Трофимов поднялся, достал пистолет. Оглянулся на Коробейникова:
… — Вам оставаться на месте… Возможен минометный обстрел со стороны Китая… Повторяю, у вас другая работа… — и пошел, сосредоточенный, похожий на озабоченного прораба. Знал свое дело, осуществлял строительный замысел, неведомый до конца Коробейникову.
Коробейников остался сидеть на прохладном истоптанном песке. Смотрел, как цепь подымается в гору. На склоне без каски лежал солдат. Голова его больше не шевелилась. Рядом, спиной к вершине, сидел другой солдат и курил.
Коробейников чувствовал себя отупевшим и усталым. Хотелось упасть и заснуть под слепящим маленьким солнцем, которое припекало и жгло. Он не хотел переживать и обдумывать. Собрал в груди огромный ворох впечатлений, не разбирая, не разглядывая их устрашающий, рыхлый ком. Желал поскорей унести этот ворох подальше от глаз, в убежище, и там заснуть. Скрипели на зубах песчинки, темнел на песке отпечаток солдатской подошвы.
Он оставался у подножья один, пока с вершины не начали спускаться солдаты. Пятеро несли одного, за руки, за ноги, поддерживая голову. В этом неловком спуске, с остановками, передышками, когда солдаты опускали ношу на землю, стараясь ухватить ее поудобнее, перебрасывали за спину мешавшее оружие, было что-то муравьиное. Так худые муравьи тащат большую личинку. Тот, кого тащили солдаты, был сержант Лаптий, без каски и автомата, провиснув спиной до земли. Когда его проносили мимо, Коробейников увидел расстегнутую рубаху, сильную шею с липким красным ручьем, вытекавшим из перебитой артерии, застывший зевок открытого рта. Тяжело дыша, спотыкаясь, его пронесли к «бэтээру» и неловко погрузили в хвостовой отсек.
К лежавшему на склоне солдату, у которого курил другой солдат, с горы сошли автоматчики. Постояли, о чем-то переговариваясь, глядя на лежащего. Один поднял каску, подобрал и накинул на плечо автомат, рядом со своим, висящим. Четверо других подхватили лежащего, понесли. Куривший остался сидеть. Когда они проходили мимо Коробейникова, тот увидел, что несли Студеникина. Вихрастая голова казалась маленькой, с белыми щеками, рубаха на груди потемнела от крови. Его донесли до «бэтээра», затолкали в черный зев.
К сидевшему на склоне подошел автоматчик, стоял над ним, что-то втолковывая. Пнул ногой. Тот поднялся, и вдвоем они стали спускаться. Прошли близко от Коробейникова, и тот разглядел серое, в розовых прыщиках, лицо солдата, испугавшегося бежать на гору.
С вершины медленно, останавливаясь, обнимая за плечи двух товарищей, проковылял раненый. Штанина была обрезана по колено, белела свежая, без следов крови, повязка. Он что-то говорил беспрерывно… Они подошли к транспортеру, и товарищи помогли ему погрузиться в люк.
Второй раненый, окруженный солдатами, шел сам. Его рука, обмотанная бинтом, была на повязке. Он то и дело останавливался, отрицательно качал головой. И было неясно, что он отрицает, то, ужасное, что произошло на горе и ранило его в руку, или то, что его уводят с горы, где он хотел бы остаться, торжествуя победу. Долгое время никто не появлялся. Потом показался Квитко, уже без пятнистого маскхалата. Держал в руках каску, оглядывался. Были видны издалека его оттопыренные, просвечивающие уши, бойкие светлые усики. Те, на кого он оглядывался, в восемь рук несли пятнистый халат, в котором что-то отвисло, небольшое, плотное, невидимое. Когда проходили мимо, Квитко торжествующе посмотрел на Коробейникова:
— Пленный… Подранок… Из крупнокалиберного чуть зацепило… Китайский бог его спас… — Он заглянул в халат, где свернулся живой кулек. — Это им за Даманский!.. Думали, мы их будем палками выбивать… Не хотите пулеметов понюхать? — И прошел, торжествующий, взвинченный, владеющий бесценным трофеем, который осторожно был помещен во второй «бэтээр».
Полковник Трофимов легко, выписывая змейку, сбегал с горы. Пистолет был в кобуре. В руках он держал прозрачный кусок целлофана, сквозь который просвечивали какие-то бумажки, пухленькие, в красном, книжицы.
— Почти у каждого цитатник Мао… Хлеб духовный… Солдатские книжки… Материал для разведотдела… Вы что, хотите на сопку? Ни под каким видом!.. В любой момент возможен минометный обстрел… Второй отряд китайцев готов к переходу границы… Такая заварушка начнется!.. Назад, на заставу… Повторяю, у вас другая работа… — Все это он произнес бодро, властно, безо всякой тревоги. Под руку повлек Коробейникова к транспортеру. Тот и не хотел взбираться на сопку. Не хотел заглянуть в окоп, где на солнце медленно начинали взбухать мертвые тела и вершина была окутана едва заметным паром не желавших улетать душ.
Два «бэтээра» удалялись от сопки к заставе. Коробейников качался на броне, не позволяя впечатлениям множиться и разрастаться в отяжелевшей голове. Голова была как стеклянный куб, и в этом прозрачном объеме застыл солдатский башмак с гвоздиками в подошве, Лаптий на вершине, окруженный слепящим светом, белая, с перепутанным чубом, запрокинутая голова Студеникина, рука Трофимова, воздевшая пистолет, пятнистый маскхалат с маленьким живым комком. Все это было вморожено в стеклянный куб, который он нес, боясь, что он расколется вдребезги.
На заставе вошел в свою чистую светлую комнату. Ухнул на кровать и заснул, чувствуя, как скрипит на зубах песок — микроскопические фрагменты сопки.
Проснулся под вечер, когда земля начинала краснеть от низкого солнца. Лежал, вслушиваясь в отдаленное тарахтение двигателя, людские голоса, стучащие по дорожкам подошвы. Минувшее утро отдалилось, и его можно было рассматривать. Китайские звезды, под которыми он был готов умереть. Перламутровый хамелеон, пометивший горбатую спину у Джунгарских ворот. Грозный оклик то ли полковника, то ли архангела, запретивший ему подыматься в атаку. Горячий пепельный склон, по которому спускали убитых и раненых. Что это было? Бой, один из бесчисленных, случавшихся на земле, где жизнь истребляет жизнь? Фрагмент операции, который ему показали, смысл которой останется для него недоступным, растворится в океане мировой политики? Драгоценный и страшный повод, предоставленный Богом, чтобы ему, Коробейникову, открылась сущность жизни и он добыл драгоценные зерна, которые позже, на Страшном суде, протянет Господу? Было странным его знакомство с Лаптием и Студеникиным, двумя из всех пограничников, кого наутро убьют, будто выбор его знакомств совпадал с выбором смерти. Было непонятным и странным, как ограниченный человеческий замысел накладывается на бесконечную жизнь, вырезая из нее упрощенный контур, за пределами которого остается непознанное бытие.
Его тело по-прежнему было покрыто пылью степи, в волосах запутались песчинки каменной сопки, душу переполняла Мука. Он решил отправиться к озеру Жаланашколь, окунуться в вечерние бирюзовые воды.
За складом он не нашел еловых ящиков, зато, миновав ограждение, увидел ящики, сложенные недалеко от зеленоватой озерной воды. Тут же стоял оранжевый, с работающим мотором, бульдозер. Прорыл неглубокую, длинную, в ширину ножа, траншею, окруженную грудами каменистого грунта. Пяток солдат отдыхал, сидя на ящиках, покуривая сигареты. Тут же находился Квитко, измученный, запаленный, с понуро опущенными усиками.
— Через час здесь будет черт-те что. Летит вертолет из округа с четырьмя генералами. В Талды-Курган из Москвы прибыл самолет с журналистами, ваши собратья прибудут к ночи. Вы уж извините, к вам их подселим. Уже пошли нареканья, все не так! Почему потери? А как без потерь, если на пулеметы в атаку? Китайцев положили двадцать два человека. Один к одиннадцати. По всем учебникам — классическая победа. Разве сравнишь с Даманским? А почему? Потому что не было генералов! А то бы и здесь были одни потери!.. — Он жаловался, негодовал, боялся и отстаивал победу своих пограничников. — Конечно, жаль Студеникина и Лаптия. Оба дембеля, через неделю домой собирались к мамам-папам. Завтра их мамы-папы сами сюда прилетят на сыновьи похороны…
На берег вырулил тяжелый фыркающий грузовик. Голый по пояс водитель выглянул из кабины:
— Товарищ капитан, здесь разгружаться?
— Давайте сюда, по одному ящики подносите. Заколачиваем и сразу относим… — Квитко согнал с ящиков куривших солдат, неохотно обступивших грузовик.
Двое стали раскрывать пыльные борта. Двое других подтащили белый струганый ящик, от которого исходило теплое, смоляное благоухание. Еще один подошел с молотком и колючей грудой гвоздей, проткнувших оберточную бумагу.
Борта отпали, и Коробейников увидел в кузове груду трупов. Они были навалены один на другой, в серо-зеленой, замызганной униформе, свалявшейся в тряпичную груду, из которой торчали скрюченные кисти рук, ноги, обутые в матерчатые синие кеды, выглядывали мертвенные лица, блестели зубы, туманно светились глаза. Из кузова на землю потекли тяжелые парные запахи, от которых в горле Коробейникова заклокотал рвотный ком.
«Запах победы…» — думал он, превозмогая дурноту, заставляя себя смотреть на груду истребленных, обезображенных тел, среди которых выделялась босая нога с грязными растопыренными пальцами, смотрело отрешенное скуластое лицо с развороченной дырой вместо рта.
Квитко отворачивался, пугливо пояснял Коробейникову:
— Сейчас их зароем, присыплем… Потом придется передавать китайской стороне… Давайте двое в кузов!.. — погонял он солдат. — Нечего вонь разводить!..
Двое полезли в кузов, морщась, переступая, стараясь не наступить на трупы. Двое других поднесли ящик под откинутый борт. Сверху шмякнулся, не попав в ящик, убитый китаец, задрал отвердевшую ногу. Коробейникова поразили мучительная белизна, проступившая сквозь смуглую желтизну лица, и тонкие фиолетовые пленки незакрытых глаз. Стоящие на земле солдаты затолкали труп в ящик, грубо придавили крышкой, нажали, выпрямляя окостенелое тело. Еще один солдат молотком стал вгонять в крышку гвозди, не вбивая по шляпку, оставляя возможность выдернуть их гвоздодером. Заколоченный ящик солдаты втроем оттаскивали в траншею, опускали на мелкое дно. Струганые доски ярко белели на темной земле.
Трупы сваливались из кузова в ящики. Солдаты приладились, реже промахивались. Тела падали со стуком в длинные короба, и их поправляли пинком ноги, заталкивали откинутую руку или непоместившуюся голову. Коробейников разглядывал серо-зеленое замызганное облачение, прорванное пулями, опаленное термитом, и вдруг увидел и остро впился глазами: в ящик упал мятый картуз с поломанным козырьком, над которым пламенела звезда, красная, с короткими туповатыми лучами. Коммунистическая звезда, в которую стрелял коммунистический пулемет, дырявя непрочную временную личину, напяленную идеологами на лик человечества, прикрывавшую непрерывную, на уровне биологических клеток и слизистых оболочек, вражду. Звезда исчезла под крышкой, куда солдат вгонял длинный гвоздь, пряча от глаз разоблаченную тайну.
Ему все больше открывался замысел, в который его поместили. Этот утренний бой был задуман заранее, с ожидаемым числом потерь, по числу которых были изготовлены и доставлены на заставу ящики. Где-то, в другом месте заставы, находились два кумачовых гроба, куда сейчас помещали убитых Студеникина и Лаптия, заранее обреченных. Эту обреченность странно угадал Коробейников, выбрав их для знакомства. Операция, куда его включили, приравнивала его к этим убитым китайцам, к худенькому юноше с мучительной белозубой улыбкой, у которого крупнокалиберная пуля оторвала кисть руки. К нахмуренному скуластому толстячку, прижавшему к груди растопыренную ладонь, под которой чуть сочилась рана. Их всех накрывали крышками, забивали гвоздями. Измученные солдаты тащили ящики в траншею, ставили один подле другого. Длинные, белые, как кочерыжки, короба заполняли дно траншеи.
Кузов опустел, мокрый, липкий. Два ящика оказались незаполненными. Квитко махнул сидящему в бульдозере солдату. Тот двинул бульдозер на траншею. Стал сгребать грунт на ящики, покрывая их рыхлым волнистым слоем. Когда исчез последний ящик, бульдозерист направил машину в траншею, прессовал и утюжил грунт, давил гусеницами, ровнял отточенным блестящим ножом. Коробейников смотрел на бульдозер и чувствовал, как близко, под слоем мелкой земли, пламенеет красная звезда.
Послышался далекий ноющий звук подлетающего вертолета. Из вечернего неба возникла, приблизилась, опустилась окруженная секущими винтами машина. Исчезла в пепельном вихре. Словно рожденные из непроглядной пыли, пригибаясь, придерживая фуражки, вышли военные. Навстречу торопливо, держа у виска ладонь, побежал капитан. Вертолет тут же ушел, оставив группу офицеров, среди которых важно и строго держались два однозвездных генерала. Проходя мимо Коробейникова, оба недоверчиво, нелюбезно на него посмотрели. Один из них укоризненно указал Квитко на дорожку, обрамленную выбеленными камнями. Некоторые камни сдвинулись, были затоптаны грязными сапогами:
— Завтра прибывает зампред Комитета генерал-полковник Скрипко! Чтобы все недоделки были устранены! Побелить и выровнять!.. — Группа прошествовала в штабное помещение принимать доклад полковника Трофимова.
Коробейников подумал, что в замысле, при исполнении которого утром были убиты двадцать четыре человека, и к месту стычки с обеих сторон границы стягиваются войска, и по рокадам пылят танковые колонны, и на приграничные аэродромы приземляются штурмовики, и дипломатические ведомства обмениваются злобными протестами, — в этом замысле было важно все, в том числе положение камня, обрамляющего дорожку, по которой завтра пройдет могущественный генерал из Москвы.
В сумерках на заставу приземлился еще один вертолет. Привез московских журналистов, призванных осветить столкновение на китайской границе. Шумно шли, тащили кофры с фотоаппаратурой, сумки с кинокамерами, громко смеялись, обменивались ироничными замечаниями. Супермены, объездившие страну и мир, баловни пропаганды, лучшие перья и объективы центральных газет и телепрограмм. Шумно ввалились в комнату, которую занимал Коробейников. Шмякали на пол поклажу, устало плюхались поверх одеял на койки. Вертели головами, похохатывали, некоторые были пьяны. Среди журналистской братии были корреспонденты центральных газет, и среди них вальяжный, в полувоенном облачении, Ильенко. Репортеры молодежных и комсомольских изданий, среди которых Коробейников узнал Видяпина, язвительного, скорченного, снедаемого тайным недугом. Были военные журналисты, престарелый писатель-баталист, операторы «Останкино». В комнате стало тесно, шумно, запахло вином.
— Старик, ты уже здесь? Когда же ты прилетел? — Ильенко дружелюбно окликнул Коробейникова. — Говорят, тут намолотили китайцев? Ты их видел?
— Он их и намолотил, — язвительно встрял Видяпин. Оба были пьяны, возбуждены. Им хотелось говорить, действовать.
— Вот навязался мне в провожатые, — кивнул на Видяпина Ильенко. — Все прикладывался к моей бутылке. Нашел себе бензозаправку.
— Вы аристократы духа, — уничижительно, корча из себя шута, потворствовал ему Видяпин. — Мы зависим от вас, кормимся крохами с вашего стола.
— Не проси, не дам. Утром сам пойдешь доставать, — оттолкнул его Ильенко.
В помещение вошел офицерик, маленький, худенький, тот, кто на границе дул в жестяную трубу. Тонко, просительно старался перекричать прибывших:
— Товарищи журналисты, в столовой есть ужин, кто желает… Завтра несколькими группами вас доставят на различные участки границы… Вся информация завтра… Будьте внимательны к указаниям офицеров… Завтра возможно новое нарушение границы… — и ушел, лишь увеличив всеобщее возбуждение.
— Дали бы автомат, а то давно не стрелял, — храбрился один.
— Чего их выбивать с территории! Подкатить «катюшу», ударить, чтобы они окончательно окосели! — смело предлагал второй.
— Мужики, надо требовать, чтобы нас повезли на границу, а то будут, как кроликов, на заставе держать, — заранее возмущался третий.
— Спер-мао-тозоид! — тонко выкрикнул Видяпин, повторяя уже известную шутку, награждаемый общим смехом.
Улеглись не скоро. Ворочались, пикировались. Постепенно засыпали, наполняя комнату тяжелым дыханием, бормотанием, храпом.
Коробейников лежал и думал, что завтрашний день уже помещен в замысел, где присутствуют еще не случившиеся события, смерти, быть может, его, Коробейникова, смерть, которую предполагает план, задуманный седоватым человеком с негроидными губами, стоящим у желтого окна на Лубянке.
61
Ночью он почти не спал. Был охвачен нервным, мучительным беспокойством, будто выпил возбуждающее средство. Казалось, перенесенная им весной болезнь опять воскресла, вбросила в кровь дурманящие яды, которые звенели, бродили, вызывали жар и галлюцинации. Словно существующие в мозгу клетки, спящие, не встроенные в мыслительные процессы, вдруг пробудились, активизировались, были готовы включиться в познание. Но не тех обыденных истин, для которых было достаточно действующих участков мозга, а каких-то новых уготованных откровений, для постижения которых был необходим весь объем мозга, оживший, очнувшийся, требующий для себя немедленных небывалых прозрений.
В темноте вошел незнакомый офицер, из тех, что прибыли накануне из округа. Резко включил свет, под которым стали ворочаться, кашлять, с трудом пробуждались журналисты.
— Товарищи, вас уже ждет автотранспорт. Разбейтесь по двое, по трое. Вас доставят на различные участки границы. Там вы сможете побеседовать с личным составом, сделать фотосъемки, взять интервью.
В военную, крытую брезентом, легковушку вместе с Коробейниковым на заднее сиденье поместились не проснувшийся до конца Ильенко и нудящий о каких-то неудобствах, испытывающий похмельную жажду Видяпин. Водитель в солдатской панаме молча, отчужденно слушал его нытье. На переднее сиденье легко уселся полковник Трофимов:
— Еду на сопку Каменную. Я бы вам не советовал. Очень вероятна атака китайцев. Радиоперехваты свидетельствуют о скоплении войск на этом направлении. Лучше поезжайте на правый фланг. Там снова погонят овец.
— Нам нужны не овцы, а волки, — возразил Ильенко с высокомерием элитарного журналиста-известинца, которого окончательно разбудило сообщение о возможной атаке. — Во Вьетнаме мы как-то не очень боялись американских бомбежек, не побоимся, бог даст, и китайских.
— Да ну вас с вашей вечной бравадой, — зло огрызнулся Видяпин. — Помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела… Я бы лучше посмотрел, как гонят овец. Никогда не видел, честное слово. — Он выбрался из легковушки, кинулся к грузовичку с брезентовым кузовом.
— Вперед, — скомандовал Трофимов, и они вынеслись с заставы.
Высадились у подножья сопки, усыпанной звездами. Белые драгоценные вспышки окружали черноту горы, внезапно начинали дрожать, переливаться, становились синими, зелеными, розовыми. Солдатский дозор был выставлен у подножья. Темные каски окружили машину.
— Оставайтесь внизу. — Трофимов передавал Коробейникова и Ильенко автоматчикам. — На вершине развернут пост. Но там опасно. Несколько убитых китайцев так и остались висеть на противоположном склоне. Их не решились забрать, испугались снайперов. Именно в это время возможна попытка китайцев отбить сопку. Справа и слева окопались пограничники. Можете побеседовать с ними. — Сел в машину, и красные огни стали удаляться, пока не исчезли.
— Старик, мы должны были попросить автоматы. Во Вьетнаме без оружия журналисту было нечего делать, — бодро заметил Ильенко, в котором близость опасности, красота азиатской ночи, соседство вооруженных людей разожгли репортерский азарт. — Давай, старик, разделимся, чтобы не путаться друг у друга под ногами. Я работаю здесь, ты правее, — отделывался он от Коробейникова, обращаясь к солдатам. — Ну как обстановка? Ты откуда родом?
Коробейников оставил его, зашагал вокруг сопки, туда, где притаился невидимый дозор. И скоро очутился на песчаном отроге, где накануне лежал вместе с группой захвата и где на песке оставался отпечаток вчерашнего дня.
Присел, чувствуя шелковистую прохладу песка, тонкий запах потревоженной былинки. Смотрел на великолепие огромных пылающих звезд, окруживших сопку белым блеском. Его не покидало возбуждение, не оставляло предчувствие, ожидание чего-то, что влекло к этой темной горе. Окруженная звездными вспышками гора управляла движением звезд. Касаясь темного склона, они начинали волноваться, трепетать. Переливались розовым, золотым, зеленым, погружались в гору. Небо медленно вращалось вокруг острой вершины, словно сквозь сопку проходила ось мира, — сквозь мелкий, выскобленный на вершине окоп, где земля была истоптана и исстреляна, валялись бинты, мятые гильзы, испачканные кровью камни. Там, на вершине, находились высшие ценности мирозданья, вокруг которых вращался небесный свод. За обладание этими ценностями шло соперничество двух народов, битва двух великих империй. Чтобы овладеть священным Ключом Вселенной, на сопку ночью прокрался китайский отряд, завладел Осью мира, оккупировал сакральное место. Русский отряд пограничников выбил их из окопа, вернул Ключ обратно, отстоял Ось мира. В ритуальной схватке погибли Студеникин и Лаптий, пали двадцать два китайских солдата. Битва еще не окончена. Новый отряд китайцев готовит бросок. Русские автоматчики полны решимости отразить атаку.
Он ждал, что с минуты на минуту начнется атака. Отряд китайцев пересек контрольно-следовую полосу, в мягкой матерчатой обуви бесшумно приближается к сопке, обмотаны тканью пулеметы, на мягких шапках чуть краснеют красные звезды. Сейчас ночь разорвут грохочущие рыжие трассы, взрывы гранат, свисты пуль. Китайцы и русские сразятся за обладание сопкой, обагрят священное место кровью, и он, Коробейников, примет в бою участие, сложит голову, как было предсказано древним буддийским монахом, нарисовавшим на шелковой странице его, Коробейникова, лик.
Атаки не было. Волнение не оставляло его, будто сам воздух, насыщенный прозрачными радугами, обладал волшебной возбуждающей силой. Она переполняла его, делала благодатным. Он был исполнен святости, гора сообщала ему свои чудодейственные свойства. Вершина туманилась, разноцветно светилась, словно души убитых солдат не покидали ее, но не сражались, не испепеляли друг друга, а обнимались, братались.
Он чувствовал на священной горе присутствие Бога, его живое молчание, устремленное на него внимание, могучее, исходящее в мир благоговение. Душа тянулась навстречу этой чудодейственной, охватывающей Вселенную благодати. У священной горы ему открылась чудесная возможность говорить с Богом, быть им услышанным. Он молился, обращая лицо к бесчисленным разноцветным вспышкам.
В переутомлении чувств закрыл глаза, задремал. Во сне обнимал гору, гладил ее шершавые камни, шелковистый песок, редкие колючие былинки. Его палец попал в узкую скважину, в тесное углубление. Проснулся, все еще погружая палец в длинную просверленную в горе дыру, внезапно догадываясь, что дыру просверлил крупнокалиберный пулемет и в глубине дыры засел стальной сердечник. Гора пробита пулями, ранена.
Открыл глаза. В небе, огромная, красная, стояла заря, как туго натянутый над горами транспарант. Испуганные глаза успели заметить черные на красном иероглифы, китайскую надпись, которая сразу исчезла, оставив над горами огромное буйно-красное полотнище. Джунгарские ворота чернели, наполненные хлюпающей зарей, словно там перерезали артерию, и громадный таз наполнялся кровью, дрожал, переплескивался из Китая, насылая в степь густые липкие волны.
В красной облегавшей сопку заре, в ее грозном колыхании, он отчетливо услышал голос, грохочущий, повелевающий, выдувавший из зари только одно непререкаемое слово: «Иди!» Это был приказ, ответ на его молитву, отклик рассерженного Бога, обмотавшего черную сопку окровавленным бинтом. «Иди!» — звучало в заре.
Он встал. Под ногами был песок, на котором оставался вчерашний отпечаток его тела, когда он не поднялся вслед атакующей группе, и в глаза ему брызнула сыпучая струя из-под стопы пограничника.
Было множество следов в песчаной ложбине, откуда вынеслась группа захвата, перепрыгивая на каменный склон, где следы обрывались. Он шел по следам атаки, и над ним продолжало громогласно звучать: «Иди!»
Сердце выталкивало жаркую кровь, дыханье становилось все чаще, когда он взбирался наверх, туда, где сутки назад мчались солдаты, стремились к выемке, недоступной для пулемета. Увидел на камнях автоматный рожок с желтыми зубьями пуль — в спешке обронил пограничник, не было времени подобрать. Чуть выше лежала коробка спичек фабрики «Гигант», — выпала из кармана солдата во время скачка. Он жадно вдыхал воздух, которым вчера дышали солдаты. Помещал свое тело туда, где вчера проносились возбужденные, страшащиеся тела атакующих. Заря пламенела, ему в лоб утыкался красный палец зари, и звучало грозное, понукающее: «Иди!» Словно там, на вершине, было уготовано ему откровение, находилась Скрижаль Завета, цвела Купина, и он торопился, чтобы приобщиться к великому таинству.
Мертвая зона скрыла вершину сопки. Он прилег на минуту туда, где лежали солдаты, когда над ними промерцала пулеметная очередь, и сержант Лаптий торопил их укрыться, а потом зачеркнул их всех огромной пригоршней, выдохнул: «Вперед, мужики!» — и швырнул на склон. «Иди!» — звучало из неба.
Он оставил мертвую зону, двинулся вверх. Заметил окурок «Примы», где сидел оробевший солдат, отставший от группы, и лежал Студеникин, моталась его голова, а потом замерла, и на плоском песчанике чернела корочка крови. Он шагал, и вчерашние пули свистели вокруг, он от них уклонялся, чувствуя, как попадает в него пулеметчик, пробивает плечи, ноги и грудь. Шел, изорванный пулями, посылая навстречу слепые очереди.
Склон был усеян гильзами. Латунные, красные, они отражали зарю, драгоценно светились. Он их обходил, старался не смять. Это были лепестки неопалимого цветка, который ждал его на вершине горы, храня в сердцевине заповедь Бога, ответ на его страстную мольбу, ту единственную драгоценную истину, в которой открывался смысл бытия.
На камнях светлело колечко, металлический перстенек, чека гранаты. Здесь сержант размахнулся, метнул к вершине гранату, и она, не долетев, рванула коротким взрывом, выбив известковую лунку. Коробейников нагнулся, хотел подобрать чеку, но грозный окрик из неба: «Иди!» — толкнул его ввысь.
Увидел под ногами зеленую фляжку с пластмассовой крышкой и обрывком шнурка. Фляжка была китайской. Ее выбросило из окопа ударом рукопашной. Тут же валялся окровавленный бинт, брезентовая китайская сумка, из которой по склону был разбросан паек пехотинца: засохшие ржаные хлебцы и зеленые помидоры. Пролежав на солнцепеке сутки, помидоры начинали краснеть, дозревали, и их краснота казалась румянцем покойника. «Иди!» — торопил его голос. Обходя помидоры, он шагал к вершине, ожидая чуда.
Шагнул туда, где завершалась гора и на плоском срезе был мелкий истертый окоп. Шершавый и пыльный, измызганный кровью и рвотой, засыпанный гильзами и комками тряпья, он казался отпечатком взрыва, оттиском рукопашной, где сошлись ненавидящие, истребляющие друг друга солдаты. Камни хранили грохот стволов, хрип разрываемых тел, предсмертную матерщину. Коробейников озирался, желая понять ту истину, ради которой стремился к вершине. Истину, которую обещал ему Бог, приставляя ко лбу красный огненный перст.
Взошло солнце. Свет хлынул в окоп, осветил каменистое дно. На камнях он заметил пробитую пулей бумажку — китайский юань. Рядом — медный кругляк пятака. Солдаты, убивая друг друга, растрясли свое богатство.
Коробейников стоял потрясенный. Не было Купины и Скрижалей. Был измызганный пыльный окоп, и на дне его мелкие деньги. И молчание Бога. И пустое, блеклое небо. Чувство тщеты и бессмыслицы. Ровный неодухотворенный блеск маленького жаркого солнца, встающего над пустыней.
— Ну что, старик, пополняем блокноты? Курочка по зернышку клюет, — на вершине, в сопровождении солдат, появился Ильенко, бравый, цинично-легкомысленный, в полувоенной полевой куртке со множеством карманов, в которых торчали блокноты, ручки, перочинные ножи, фотокассеты. На шее болтался фотоаппарат «Киев». Солдаты с почтением смотрели на столичного репортера, обещавшего рассказать о молниеносной атаке, о героях, сокрушивших нарушителей, сполна отомстивших за русскую кровь Даманского. — Тут, говорят, на склоне несколько дохлых китайцев зависло. Не стали их забирать, спихнули ногами. Может, посмотрим? Сделаем пару снимков? — предложил Коробейникову Ильенко, заглядывая за кромку горы, где начиналась ниспадающая круча и находились невидимые с вершины трупы.
— Опасно, — сказал сухощавый длиннорукий солдат в пыльной каске. — С китайской стороны снайперы. Увидят, что к ихним трупам подбираются, враз перестреляют.
— А вы-то зачем? Прикроете нас! Поставьте пулемет и, чуть что, долбите. Мы обойдем сопку и снизу поднимемся. А вы от подножья нас прикрывайте. — Ильенко уверенно распоряжался, отважный журналист, бывалый репортер, повидавший войну, знающий цену опасности, играющий со смертью. Насмешливо посмотрел на Коробейникова, вовлекая в игру, испытывая его храбрость. Было что-то лихое, гусарское, безрассудное в его предложении. Повернулся и стал спускаться с горы, увлекая за собой солдат и растерянного, подавленного Коробейникова.
Обошли сопку, так что оказались спиной к близким китайским горам, складчатым, будто под чехлом лежали мертвые исполины с выступами носов, колен и ступней. Солнце светило от гор, освещая склон сопки. Наверху, почти у самой вершины, где начинался отвесный скат, виднелось несколько трупов.
— Давайте, мужики, подстрахуйте, — командовал Ильенко, дожидаясь, когда расчет пулеметчиков уляжется за камнями, а другие солдаты, отсвечивая касками, займут позицию в каменистых лунках. — Ну что, старик, вперед? — обернулся он к Коробейникову, подзадоривая и посмеиваясь. Легко, упираясь башмаками в уступы, полез на гору.
Они лезли по освещенному склону — Ильенко впереди, Коробейников сзади. Он не мог себе объяснить, почему откликнулся на предложение Ильенко. Оно было бессмысленным и бестактным, связано с неоправданным риском, провоцировало начало стрельбы, создавало угрозу не только их, с Ильенко, жизням, но и жизням пограничников, для которых пребывание у сопки было не игрой, не возбуждающей нервы затеей, а изнурительной и опасной службой. Он согласился идти на гору не потому, что боялся прослыть малодушным в глазах журналистского баловня, а оттого, что тоска, охватившая его на вершине сопки, была нестерпима, и ее хотелось заглушить безрассудным поступком.
Он подымался вслед за Ильенко по осыпающимся камням, чувствуя затылком солнечный жар. И сквозь этот жар — твердое, точечное, прикосновение чего-то холодного, острого, соединяющего разгоряченный затылок и зрачок китайского снайпера. Тонкий луч, совместивший затылочную кость с прищуренным глазом, синеватой линзой прицела, одинокой снайперской пулей.
Они одолели половину склона. Трупы приблизились. Их было трое, убитых китайцев, сброшенных с вершины, пролетевших по круче, застрявших в нелепых позах на острых камнях. Что-то странное, пугающее было в этих, еще удаленных, мертвецах.
— Не устал? Давай поспевай, — оглянулся Ильенко, бодро, насмешливо озирая Коробейникова, демонстрируя бесстрашие, отыскивая на лице спутника след малодушия. — Двум смертям не бывать, а одной не миновать.
Была безнравственной эта бравада, это спортивное восхождение к трупам. Оно выглядело как глумление над солдатами, совершившими воинский подвиг. Как насмешка над подвигом, признание его тщеты и бессмысленности, подтверждение того, что пережил Коробейников в пустом окопе. Они с Ильенко вершили свой подвиг, не имевший высокой цели, рисковали в тщеславной игре. Он участвовал в циничной затее, состязаясь с Ильенко в бесстрашии. Ожидал, что в затылок вопьется пуля, погасит бессмысленное злое солнце, бездуховные белесые камни, странные, непомерно большие трупы, лежащие на горе.
— Подойдем поближе. Отсюда неудобно снимать, — не унимался Ильенко, тяжело дыша, блестя от пота. — Должны же мы показать, что побывали на войне.
Второй раз восходил он на сопку. Не было грозного приказа «Иди!». Не было Бога. Коробейниковым двигало не страстное желание истины, а ее отрицание. Он открывал для себя не присутствие всеблагого и всемогущего Бога, а его отсутствие. Отрицал божество. Его восхождение было восхождением богоборца, для которого не было Бога, а в безбожном бессмысленном мире, на безымянной горе, лежали три трупа, как подтверждение абсурда. В центре Вселенной — три обезображенных трупа, вокруг которых вращается безбожный мир.
— Стоп… — сказал Ильенко, задыхаясь на склоне. — Отсюда можно снимать…
Коробейников смотрел на трупы. Три тела казались упавшими с неба из пролетавшего самолета. Пролежали у вершины под палящим солнцем, которое вскипятило в них жидкость, раздуло плоть, превратило щуплых солдат в великанов с античным рельефом мышц. Один китаец лежал навзничь, раскинув руки, раскрыв оскаленный рот на розовом огромном лице. По его животу прошла очередь крупнокалиберного пулемета, кишки клубками, разноцветными сгустками выдавились наружу, непомерно увеличились от жары, напоминали сине-фиолетовый мясистый георгин, расцветший на животе убитого. Второй был из тех, на ком от попадания пули загорелся термитный заряд. Без одежды, подрумяненный, словно поджаренный окорок. Его голое туловище по-великаньи мощно распростерлось, толстенная шея, громадные бицепсы, могучие ляжки, рельефные икры… Третий китаец, тоже голый, в лоскутьях одежды, лежал лицом вниз, с обнаженной спиной, которая странно блестела на солнце, словно была покрыта переливами чешуи. Чешуя слабо трепетала, поблескивала, переливалась, будто китаец был жив и дышал. Коробейников вглядывался в это странное солнечное мерцание, стараясь уяснить его природу. И вдруг понял, что это бесчисленные мухи, покрывшие труп, отяжелевшие, наполненные трупным соком, зеленые, голубые, розовые. В каждой блестела, переливалась жидкая капля солнца.
Это зрелище было ужасно. Над трупами стекленел и струился воздух, вязко стекал с горы туда, где стоял Коробейников. И было страшно вдыхать ядовитое, ванильно-дурманное зловонье.
Ильенко лихо щелкал камерой. Наводил аппарат на трупы. Отступал, захватывая в кадр все три тела. Приближался, наводя объектив на каждого в отдельности.
— Давай-ка, старик, сними меня на фоне этих красавцев. Пополню мою коллекцию. — Ильенко передал Коробейникову аппарат. Подбоченился вблизи от трупов. Коробейников захватывал видоискателем его бодрую физиономию. Нажимал на спуск, с яростью святотатца, с отчаянной тоской богоборца, взывал к Богу:
«Если ты существуешь, если ты присутствуешь в мире, убей меня!.. Сейчас, немедленно, пошли мне пулю в затылок!.. Докажи свое присутствие в мире!.. Покарай мое святотатство!..»
Он молил Господа, чтобы тот обнаружил себя выстрелом китайского снайпера. Чтобы пуля, как Божья молния, вонзилась ему в затылок. И последним мгновением жизни было бы мгновение его вернувшейся веры, и он, исчезая, воскликнул: «Ты есть, Господи!.. Верую!..»
Выстрела не было. Горы сзади молчали, похожие на мертвых, накрытых чехлом великанов. Спина убитого шевелилась бесчисленными каплями солнца.
Он вернул аппарат Ильенко. Молча, соскальзывая на сыпучем склоне, они спустились к подножью, где их с нетерпением поджидали солдаты.
Обогнув сопку, они снова поднялись на вершину, утомленно уселись на теплые камни, окруженные солдатами, которые извлекали сухой паек: галеты, маленькие банки сгущенки, фляжки с водой. Раскладывали на краю окопа, приглашая журналистов к трапезе.
Коробейников чувствовал усталость и опустошенность, почти равнодушие. Его экзальтация, мистические переживания, муки совести — все это кончилось на ровном бесцветном жаре, припекавшем вершину. Не богослов, не философ, он был газетчик, которому поручено написать журналистский очерк, соответствующий нормам и установкам газеты. Он его и напишет, без труда, ярко и зрелищно, используя свое писательское мастерство, которым не владеет Ильенко. В этом очерке будет солдатская трапеза у границы Китая. Окоп, стреляные гильзы, бесконечные пустынные горы и утомленные воины, вкушающие суровый солдатский хлеб.
Он получил из солдатских рук галету, маленькую баночку сгущенки, вскрытую штык-ножом. Чуть отсел, чтобы можно было любоваться волнистыми далями, солнечной пустотой, туманной седловиной Джунгарских ворот. Жевал галету. Пил из банки тягучую млечную сладость.
Одинокий ворон парил над пустыней, оглашая пространство скрипучим печальным карканьем. Звук странно отражался от гор, неба, каменистой земли, складывался с собственным эхом, порождал в душе забытые детские переживания. Былинное, древнее, сказочное чудилось в вещем крике медлительной птицы, одиноко реющей в пустыне, медленно взмахивающей черными крыльями, в которых вдруг сверкнет синева. Бабушка читала восхитительную полузабытую сказку про ворона, летящего в пустыню за «мертвой и живой водой». На полке в мамином шкафу стояла книжка Билибина с негнущимися жесткими страницами, где богатырь склонил копье перед белым камнем, на котором нахохлился ворон с рубиновым вещим глазком.
Было успокоительно и печально смотреть на плавное паренье ворона, рождавшее воспоминания о Великой Степи, богатырских заставах, о стародавнем пленительном времени, где все казалось родной и чудесной сказкой, не вызывало тревог и болей, было проверено красотой и добром.
Он жевал галету, губы были сладкие от молока. Ворон, снижаясь кругами, опустился на контрольно-следовую полосу, черно-синий, со стеклянным отливом, на розоватой, рыхлой бахроме. Продолжал с земли трескуче каркать и звать. На длинный костяной звук возник в небе второй ворон. Покружил и медленно опустился рядом с первым. Оба сидели на розовой борозде, уходящей в обе стороны в бесконечность.
Коробейников был благодарен черно-синим птицам за их появление, за то, что отвлекли его от ужасных переживаний, направили его утомленные мысли прочь от жестоких видений. Вороны тяжело поднялись, стали возвышаться, редко взмахивая крыльями, приближались. Были видны растопыренные маховые перья, тяжелые клювы, приспущенные когтистые лапы. Долетели до вершины сопки и скрылись за кромкой, опустились рядом, на невидимой стороне горы. Опустились туда, где лежали убитые китайцы. Совершал свою трапезу Коробейников, откусывая галету, глотая сладкое молоко. Совершали трапезу голодные птицы, опустившись на трупы, долбя гниющую падаль, разрывая клювами сухожилия, отклевывая от сочного георгина мясистые синие лепестки.
Эта мысль еще не успела сложиться в свою ужасную достоверность, как из-за кромки горы, темнея на светлом небе, вынеслась зыбкая полупрозрачная струя. Окружила Коробейникова мельканием, слабым шумом и дуновением. Он почувствовал тугие удары в лоб, веки, губы. Что-то живое прилипало к нему, начинало ползти, щекотать. Полупрозрачная струя была летучим роем мух, которые взлетели с трупов, когда на них уселись голодные птицы. Мухи, переполненные ядовитыми соками, отяжелели, вязко шлепались ему на лицо, на сладкие, в молоке, губы. Содрогаясь от отвращения, он боялся стряхивать их с лица, чтобы неосторожным движением не раздавить, не расплющить зловонную каплю. Чтобы трупный яд не плеснул ему в рот.
Скатываясь с горы, заслоняя лицо от мерзкого роя, он переводил дух у подножья. Лил из фляжки теплую воду на глаза, на губы, смывая мерзкие прикосновения.
Трупы не отпускали его. Потревоженные его появлением, покойники посылали ему духов смерти, дули ему в лицо смертоносным ветром.
В полдень к сопке подкатила легковушка. Трофимов, изнуренный, с автоматом, подошел, опустился рядом с Коробейниковым.
— Как обстановка? — спросил Коробейников, разглядывая лицо полковника, неуловимо изменившееся под налетом усталости и печали. В простонародном невыразительном облике, среди пыльных бровей, грубых складок, отточенных скул вдруг проступили черты утонченного благородства.
— Полагаю, сегодня нападения не будет. С обеих сторон накоплены войска. Обе стороны демонстрируют наличие артиллерии и танков. МИД Китая сделал жесткое заявление, обвиняя Советский Союз в агрессии. МИД СССР назвал вчерашнее столкновение подготовкой к большой войне, в которой заинтересовано маоистское руководство, чтобы заглушить недовольство народа «культурной революцией» и «большим скачком». Американские аналитики говорят о коренном ухудшении советско-китайских отношений, для исправления которых потребуются десятилетия. Так что достигнут уровень напряженности, достаточный для решения обеими сторонами множества внутриполитических проблем. Например, не исключаю, что в ближайшее время Мао избавится от своего конкурента в партийной элите, военного министра Линь Бяо. Возможны перестановки и в нашем Политбюро — уход в тень сторонников жесткого антизападного курса, таких как министр Гречко или Суслов. Но это все тактические результаты маленького боя, который мы с вами вчера наблюдали. А каковы стратегические последствия?..
Коробейников вглядывался в его обветренное лицо, выгоревшие добела брови, проступившую рыжеватую щетину, в белесые, во всех порах, пылинки. Усталый офицер в линялой форме с измятыми полевыми погонами напоминал Пржевальского, или Семенова-Тянь-Шаньского, или Арсеньева. Разведчиков русского Генерального штаба, расширявших пределы империи, наносивших на планшеты очертания загадочных гор, русла неведомых рек, дававших имена хребтам и океанским заливам, открывавших новые виды трав и животных, привозивших из экспедиций амулеты и бусы туземцев. Такая же неприхотливость, пытливая одержимость, огромная усталость и одиночество чудились Коробейникову в Трофимове. Перед ним был русский офицер-разведчик, сменивший блеск аристократических салонов на вечные странствия вдоль границ великой империи.
— В целях сиюминутной пропаганды мы спланировали этот бой, чтобы испугать народ угрозой большой войны, заставить еще теснее сплотиться вокруг партии и правительства, решить за счет двух убитых парней насущные проблемы власти. Но никто в Москве не догадывается, что этим боем мы закладываем большую войну между Россией и Китаем, не завтра, не через год, а через пятьдесят, восемьдесят лет, в середине двадцать первого века. Мы видели этих полудиких уйгуров, голодные стада овец, тощих китайских солдатиков, в пищевой рацион которых входят зеленые помидоры, а в боекомплект — «термитки» из пороха, пригодные разве что для знаменитых пекинских фейерверков. Но главное не то, что мы видели, а атомный реактор в Синцзяне, изготавливающий боевой плутоний, ракетные полигоны во Внутренней Монголии, где испытываются средства доставки. Главное — это математические и физические школы в китайских научных центрах и потрясающая склонность китайцев к образованию и научному творчеству. Через тридцать лет у Китая будет великая экономика и одна из лучших армий мира, с неограниченным людским ресурсом, монолитной национальной идеологией и неистребимой исторической памятью, в которой отложится этот бой, расстрелянный китайский отряд. Китайцы не простят России ни одного унижения, ни одной китайской слезы, ни одного метра отобранных территорий…
Коробейникова поразила не степень доверия, с которой обращался к нему Трофимов с неожиданными, почти крамольными, рассуждениями, а глубинная убежденность в правоте своих мыслей, недоступных обыденному разумению, добытых в настойчивых и опасных исследованиях. Это говорил человек, который пробирался в заснеженной тайге Хейлудзяна, замерзал в Хинганских горах, плыл по лимонной реке Хуанхэ, толкался на рынках Шанхая, тянул с рыбаками невод в водах Желтого моря. Его могли заметить в партизанском отряде Особого района Китая, в крестьянской коммуне Сычуаня, на великих плотинах Янцзы. Он мог изучать поэзию и священные тексты в монастырях и молельнях Тибета. Постигать боевые искусства и тайны восточных целителей в сосновых предместьях Пекина. Так говорил русский разведчик, прошедший Китай в военном френче, рабочей телогрейке, в оранжевой хламиде монаха.
— Китайское мышление основано на иных законах, нежели европейское, как если бы мир, в котором действует разум, описывался не геометрией Декарта и логикой Аристотеля, а математикой Миньковского и Лобачевского. Китайское время медленное. Отлично от европейского. Связано не с впечатлениями одного, отдельно взятого, человека, для которого единицей времени является его скоротечная жизнь, а с переживаниями нескольких поколений. Случившееся событие порождает у европейца ощущение немедленных последствий, а для китайца оно как бы замирает, впадает в спячку, и его последствия обнаруживаются через несколько поколений, когда событие вдруг «просыпается». Бой, который мы вчера провели, в России будет забыт через пару лет, а китайцы станут хранить его в исторической памяти сто лет, и ответ на него будет дан поколением, которое еще не родилось. Сегодня, быть может, мы подготовили большую войну между Россией и Китаем, в которой будут участвовать наши внуки. Быть может, мы уготовили смерть нашим внукам, которых еще нет и в помине…
Этим утомленным полковником, чья жизнь протекала в агентурной работе, были осмыслены философские проблемы пространства и времени, сделаны открытия, соизмеримые с расшифровкой египетской письменности, раскопками Трои, с прочтением календаря майя. Добытые знания он не мог никому предложить, оставаясь непонятым. И выбрал его, Коробейникова, видя в нем бескорыстного и бесполезного слушателя.
— Сегодня в Китае проснулось множество событий, законсервированных пятьсот или тысячу лет назад. Китай проснулся весь, целиком, и его пробуждение отмечается экспансией. Миллиард физически здоровых, этнически однородных, политически организованных людей завоюет мир. Атомное и ракетное оружие, могучая экономика и особая желтая магия, парализующая волю противника, сделают Китай непобедимым. Генетические механизмы китайцев работают так, что уже сейчас в Китае количество мужчин превосходит количество женщин на сто миллионов. Эти одинокие, не имеющие женщин мужчины реализуют свою половую энергию в военной экспансии. Вчера мы истребили отряд одиноких мужчин, рвущихся в незаселенные, пустые пространства, чтобы засеять их своим семенем.
Советский Союз слабеет, в нем присутствует скрытый излом, который может привести к катастрофе. Исчезнет воля, ослабеет организация, разрушатся генетические механизмы, упадет рождаемость, и стремительно обезлюдят Сибирь и Дальний Восток. В эту пустоту устремятся бесчисленные краснозвездные дивизии китайцев. Транссибирская магистраль станет дорогой большой войны. Уже сейчас контрразведка вылавливает десятки китайских агентов севернее Транссибирской дороги…
Идеологии, которым мы придаем слишком большое значение, мало что значат. Лишь прикрывают на время глубинные, происходящие в народах процессы, связанные с климатом, расположением звезд, количеством младенцев мужского пола. История — это эволюция живой материи, которая чувствительна к метеорным дождям и увеличению популяций бабочек. Идеологии — всего лишь костюмы, которыми человечество прикрывает природную наготу, костюмы, которые быстро изнашиваются. Вчера, на этой сопке, мы видели, как одна красная звезда стреляла в другую, как один коммунизм крупнокалиберными пулеметами истреблял другой коммунизм. Разве Александр Невский и магистр тевтонского ордена на льду Чудского озера не молились каждый своему Христу? У Вороньего камня один Христос сражался с другим, и какой Христос победил?
Россия должна осознать грядущую через полвека катастрофу и предложить для ее решения не идеологические, а фундаментально национальные и геостратегические средства…
Коробейников испытывал к полковнику странное тяготение, сочувствие, сострадание, как испытывал их когда-то к Шмелеву. Еще одна душа билась о невидимые преграды, обреченная на угасание. Его пророчества не будут услышаны, его знания не будут использованы. Как бабочка в кулаке, он истреплет свои хрупкие крылья о грубую, стискивающую его, оболочку.
— Я люблю Китай. У меня там много друзей. Я знаком с поэтами, военными и политиками. Я погружен в оперативную работу, в интересах московских идеологов управляю военно-политическим процессом на китайско-советской границе, принимая трагические последствия этой сиюминутной непродуманной тактики. Повторяю: я боюсь, что мы бросаем наших неродившихся внуков в горнило будущей континентальной войны.
Он замолчал и больше не говорил. Лицо его было печально, одухотворенно, с необъяснимой, неизвестно на кого обращенной нежностью. Коробейников не спрашивал, боялся спугнуть это беззащитное выражение.
Рядом, на сухую землю, затмив на мгновение солнце прозрачной тенью, сел махаон. Резной, золотистый, с голубыми пятнами и черными иероглифами, словно лоскут китайского шелка с таинственным чудесным рисунком. У прудов сгустившейся лазури под сенью золотистой беседки сидит одинокий мудрец, черной тушью на шелке выводит волшебный стих. И если его прочитать, разобрать иероглифы на хрупком крыле бабочки, то жизнь одухотворится, в ней исчезнут война и ненависть, она исполнится нежностью и печалью.
Высокий металлический звук возник над сопкой в пустом, слепящем небе. Звук коснулся бабочки, и она улетела, унесла непрочитанный стих. Высоко, над границей, шел самолет разведки. Фотографировал перемещение войск, полевые аэродромы, колонны машин и танков.
Трофимов поднялся, стряхнул пыль с мундира, пошел к легковушке.
62
К вечеру журналисты вернулись на заставу, утомленные, с обветренными, покрасневшими лицами, пересохшими губами. Переполненные впечатлениями, воодушевленные начатой и еще не законченной опасной работой, они ревниво выведывали друг у друга подробности разговоров с солдатами, утаивали свои находки, подтрунивали над коллегами, соблюдая неписаный табель о рангах, где насмешкам не подвергались корреспонденты центральных газет и привилегированных телепрограмм. Шумно ужинали в столовой, сожалея, что нечего выпить.
— Тут, оказывается, пленный китаец содержится! Пусть нам его покажут!
— Это изюминка, интервью с пленным маоистом!
— У него, говорят, цитатник Мао нашли!
— Это была бы сенсация — пленный китаец проклинает Мао, пославшего солдат на верную смерть!
— Он, говорят, раненый. Ему наши доктора оказали квалифицированную медицинскую помощь!
— Первый раз наелся досыта!
— Пусть покажут китайца!
С этими шумными требованиями журналисты обратились к Трофимову, появившемуся на пороге столовой.
— Товарищ полковник, мы просим устроить встречу с пленным китайцем, в интересах поставленной пропагандистской задачи, — важно заявил Ильенко от имени всей журналистской бригады.
Трофимов задумчиво глядел на требовательные, алчные и неутоленные лица газетчиков. Бесстрастно произнес:
— Встречу можно устроить. Идемте со мной.
Журналисты захватили свои фотоаппараты, кинокамеры, блокноты. Двинулись гурьбой за полковником. Коробейникову хотелось взглянуть на китайца, который висел в маскхалате, продавливая пятнистую ткань узкой спиной, когда его сносили с сопки, и было видно, как дрожит сквозь материю маленькое тело.
Подошли к небольшому строению на краю заставы, кажется, медпункту. Трофимов отворил дверь. Журналисты шумно заполнили тесную прихожую, из которой открытая дверь вела в одноместную палату. На табуретке сидел пограничник с автоматом, крепкий, румяный, с сильными, сжимавшими автомат руками. На железной кровати, под грубым серым одеялом лежал китаец. При появлении людей юркнул под одеяло, как испуганный шустрый зверек. Лишь мелькнуло его худое серое личико, бритая наголо голова.
— Не любит! — заметил Видяпин, комично покачивая головой. — Как его звать-то?
— Ван, — лаконично ответил Трофимов.
— Ван, Ван, как тебе русский Иван? — ерничая, хохотнул Видяпин.
— Надо бы его попросить убрать одеяло, — заметил оператор, нацеливая на кровать объектив. — Попросите, товарищ полковник.
Трофимов что-то коротко произнес по-китайски. Закрытый одеялом комочек дрогнул, еще глубже забился во тьму.
— Да что его спрашивать? Взять да и снять одеяло! — Видяпин, вкусив роль самого предприимчивого, знал, как нужно поступать в подобных случаях. Схватил край одеяла и дернул. Обнажилось тощее, с тонкими ребрами и ключицами тело, в одних трусах, из которых торчали худые ноги. Плечо китайца было забинтовано, виднелась зеленка. Он затравленно сверкнул глазами, проверещал, вцепился в одеяло, натянул себе на голову. Видяпин тянул, а пленный сучил пятками, зарывался лицом в душную ткань, издавая тонкие урчащие звуки.
К Видяпину присоединился здоровенный корреспондент военного журнала. Вдвоем они вырвали одеяло у пленного. Тот на свету сжался в комок, стиснул маленькие грязные кулаки, прижал к груди, выражая отчаянное сопротивление, несмиренную стойкость, готовность немедленно умереть.
Все отступили ошеломленно от худого солдатика, раненного в плечо крупнокалиберной пулей, потерявшего на сопке товарищей, уцелевшего в страшной бойне. Очутившись в плену у сильных, беспощадных врагов, которые пришли его мучить, он готовился к смерти, посылая им знак своей непокорности.
— Так дело не пойдет, — смущенно произнес оператор. — Такого снимешь — скажут, что снимал в застенке.
Часовой смущенно улыбался. Казалось, ему было неловко за этих шумных столичных людей, явившихся посмотреть на чужое несчастье. Было неловко за свое сильное, сытое тело, здоровый румянец, начищенный автомат, призванные стеречь тщедушного человечка, похожего на затравленного зверька.
Коробейникова мучило это зрелище. Казались отвратительными назойливые журналисты, отвратителен он сам, согласившийся принять участие в зрелище.
— Товарищ полковник, — официальным тоном произнес Ильенко, раздраженно теребя фотокамеру. — Ведь можно как-то обеспечить нормальную съемку? Есть для этого средства и методы?
Трофимов все это время оставался спокойным. Смотрел равнодушно на пленного, на раздраженных журналистов. Это был малый эпизод крупной операции, за которую он нес ответственность. Журналисты скоро сгинут, унося с собой приблизительные, неполные сведения о случившейся стычке, наполнят газеты многословными разглагольствованиями о героизме советских солдат, о презренных маоистских агрессорах, выполняя заказ пропаганды. А ему оставаться в зоне конфликта, ожидая новых боев и вторжений, в расчете на которые завозятся на заставу боекомплекты, перебрасываются войска, садятся на грунт эскадрильи боевых вертолетов, доставляется груз струганых ящиков из смолистых северных елок — обшитые кумачом гробы.
Полковник размышлял минуту. Затем произнес спокойно:
— Можно обеспечить съемку. Вы все отсюда уйдете и займете позицию на дорожке, по пути к штабу. Я скажу пленному, что прибыли представители китайской стороны, его командиры, и мы намерены передать его обратно в Китай. Он пойдет на эту встречу, а вы по дороге снимайте.
Эта затея поразила Коробейникова своей беспощадностью. Насмешка лукавого палача над доверчивой жертвой. Однако никто из журналистов не почувствовал бесчеловечной жестокости. Напротив, все радостно оживились, восхищались находчивостью полковника. Повалили к выходу, по дорожке, обложенной аккуратными выбеленными камнями, туда, где стояла беседка и можно было сделать засаду.
Коробейников видел, как Трофимов наклонился над одеялом, под которым прятался пленный. Что-то негромко сказал. Из-под одеяла выглянуло заостренное, чуткое лицо с бегающими, заблестевшими вдруг глазами.
— Принеси ему одежду, — приказал Трофимов часовому.
Коробейников, окруженный журналистами, смотрел из беседки на пустую, обложенную белым бордюром дорожку. На нее были нацелены объективы, смотрели нетерпеливые, жадные глаза.
Из медпункта появился пленный, маленький, узкоплечий, в замызганной форме, в кедах, с рукой на перевязи. За ним шагал часовой с автоматом. Чуть сзади Трофимов. Они двинулись по дорожке, было видно, как нетерпеливо, радостно всматривается вперед китаец, ожидая встречи с командирами, которые послали его в бой, а теперь вызволяют из плена, вырывают у жестоких мучителей.
Когда он поравнялся с беседкой, навстречу, как выстрелы, засверкали вспышки, заблестели объективы. Он отшатнулся, но потом гордо поднял маленькую бритую голову, воздел плечо, отгораживаясь от чужаков, пошел дальше не глядя.
Журналисты радовались, шумели. Гурьбой направлялись в казарму отдыхать после полноценно проведенного дня.
Коробейников проследовал к штабу. Видел, как у закрытых штабных дверей Трофимов наклонился и что-то сказал китайцу. Тот поник, ссутулился, превратился в жалкого понурого зверька, которого на шнурке вели обратно в ненавистную клетку.
Коробейникову было невыносимо стыдно за беззастенчивых циничных журналистов, за себя, принявшего участие в мерзком обмане, за Трофимова, пустившегося на бесчеловечную ложь. Полковник прошел мимо с холодным равнодушным лицом, ничем не напоминая недавнего задумчивого и печального мыслителя, скучавшего о китайских друзьях — философах, поэтах, ученых.
Ночью Коробейников лежал в казарме, слыша вокруг дыхание, кашель, бормотание спящих, утомленных людей, каждый из которых делал здесь, на границе, вмененное дело, одни блестяще, другие посредственно. Все они были частью мегамашины, выполняли одну из ее бесчисленных функций. Как и он, Коробейников. Но при этом, включенный в анонимный, непомерный механизм всеведущей и вездесущей машины, он ощущал свою отдельность и суверенность. Эта суверенность, невключенность обнаруживала себя чувством вины, которую он испытывал, лежа в темной, душной казарме.
Вина перед маленьким тщедушным китайцем, которого он вместе с другими жестоко обманул. Перед убитыми Студеникиным и Лаптием, за которыми не поднялся в атаку, сберегая свою жизнь. Перед Трофимовым, которого осудил за бесчеловечный обман, не разделяя при этом ответственность за его жестокую, беспощадную работу. Перед отцом Львом, от которого отдалился после его запоя и кощунственных плясок в ресторане. Перед Коком, которого так и не вызволил из психушки. Перед Стремжинским — за то, что стал свидетелем его унижений. Перед Еленой, от которой отрекся, оставив ее вынашивать ребенка. Перед Валентиной, которую заставил страдать. Перед Марком Солимом, чьим гостеприимством воспользовался, чтобы соблазнить его жену. Перед Шмелевым, которого не уберег от самоубийства. Перед бабушкой, у постели которой на минуту забылся и допустил ее смерть. Перед Саблиным, чье страдание было столь велико, что он покончил с собой, а он, Коробейников, продолжает благополучно жить.
Лежал, перебирая в памяти всех, с кем когда-либо сводила его судьба, и перед каждым испытывал вину. Ту же вину он испытывал перед лазурной сойкой, которую застрелил на снежной поляне во время давней охоты. Перед ракушкой, которую разломил, чтобы увидеть розового липкого моллюска. Перед предками, которые подарили ему жизнь, а сами сгинули в смерти. Перед отцом, лежащим в безвестной могиле в сталинградской степи, а он, обожая отца, так и не сумел разыскать безымянный холмик.
Вина была непрекращающимся страданием. Это страдала его жизнь, отделенная от других жизней телесной формой, сквозь которую нельзя было соединиться с этими отчужденными жизнями. Страдала душа, заключенная в тварную оболочку тела, которое отделяло душу от Творца. Но само это страдание свидетельствовало о существовании Творца. Было доказательством существования Бога, отделенность от которого воспринималась как боль и вина. Душа тяготилась своей отделенностью, стремилась обратно к Богу.
Он вдруг подумал, что Адам, едва его сотворил Господь, уже в следующее мгновение ощутил вину своего удаления от Господа. Таким изобразил Микеланджело первого человека на фреске: тоскуя, тот вытянул палец, пытаясь продлить последнее прикосновение к Творцу. Когда-нибудь он, Коробейников, вернется к Создателю, и тогда чувство вины исчезнет. Но это уже будет иное бытие.
Утром готовились к встрече зампреда КГБ из Москвы, а также родителей убитых солдат из Новосибирска и Владимира. Коробейников, обходя заставу, увидел, как оранжевый бульдозер выскребает рытвину недалеко от плаца. На утоптанном плацу была натянута большая брезентовая палатка с занавешенным входом. Отогнул брезентовый занавес, вошел и очутился в душном воздухе, розовом от проникавших сквозь ткань лучей. Посредине на козлах были установлены два кумачовых гроба, в которых под белыми простынями лежали Лаптий и Студеникин. Тут же, у гробов, стояли два цинковых ведра, полные воды. Зеркальные овалы в ведрах, отражая кумач, казались розовыми. Розовыми выглядели лица убитых — суровые, с закрытыми глазами, насупленными бровями, словно были чем-то недовольны и озабочены.
В высоте заныло, задребезжало. К вертолетной площадке торопливо прошествовали прилетевшие накануне генералы, свита офицеров, среди которых присутствовали Квитко и Трофимов. Раздувая непроглядную пыль, опустился вертолет. Минуту ничего не было видно в пепельных удушающих вихрях. Затем из пыли вышел высокий военный, придерживая фуражку, чтобы ее не унес ветер. Его кинулись встречать, рапортовали, отдавали честь. На ходу, спасаясь от пыли, он пожимал руки. Вышел на свет, где можно было его разглядеть. Это был высокий генерал-полковник, старчески тощий, пренебрегший полевыми условиями, в парадном кителе с золотыми пуговицами и нашивками, с золотом погон и красными лампасами. Френч, слишком широкий в плечах, висел на тощем теле. Из воротника торчала длинная, в старческих складках, шея с костлявым кадыком. На небольшой, с впалыми висками, голове выделялся загнутый нос, круглились желтоватые недобрые глаза. Он был похож на экзотического грифа, прилетевшего в пустыню за добычей. Шел, переставляя плохо сгибавшиеся ноги, по-птичьи подпрыгивая, скосив голову к докладывающему генералу.
Было ощущение, что он явился в свою вотчину, где ему принадлежало все: стальная вышка с видом на волнистые горы, казармы с вымытыми стеклами, кунги с антеннами, дорожка с восстановленным, выбеленным бордюром, брезентовая палатка с гробами, глазевшие издалека солдаты. Все в равной степени принадлежало ему. Он выслушивал доклад управляющего о сохранности и сбережении хозяйства. Журналисты смотрели на зампреда, не решаясь фотографировать.
Они не успели дойти до штаба, как в воздухе опять зазвенело. Квитко отделился от свиты, махнул солдатам, и те побежали вслед за ним к вертолетной площадке.
Вертолет, тускло блестя кабиной, садился в смерч пыли. Из вьющегося, затмевающего солнце праха показались трое: мужчина и две женщины. Их вертело, валило, качало. Они слепо тянули руки, нуждаясь в поводырях. К ним кинулись солдаты, выводили из секущего блеска, выхватывали из пыли.
Мужчина был высок и крепок, красив увядающей мужицкой красотой, в неношенном новом костюме, купленном в деревенском сельпо, и его загорелое, в сильных складках, лицо сельского тракториста повторяло молодое, красивое лицо сержанта Лаптия. К нему жалась маленькая хрупкая женщина в зеленоватой кофте и темном платке, с острым носиком на круглой пугливой головке, похожая на синичку, и не верилось, что из ее маленького робкого тела могло произойти мощное, исполненное неукротимой энергии, богатырское тело сержанта. Другая женщина была плоскогрудой, нескладной, в черном платье и черном платке, с большими натруженными руками, какие бывают у деревенских доярок и огородниц. Все трое были оглушены ворвавшимися в их избы похоронками, скорыми сборами под надзором районных военкомов, столпотворением аэропортов, грохотом сияющих машин, которые оторвали их от деревенских огородов и речек и понесли в далекую пустыню, откуда приходили к ним сыновьи письма и фотографии: сынок в нарядной фуражке, с автоматом, строго и браво, на фоне туманных гор, смотрит любимыми молодыми глазами. И вот их опустили в серую душную пыль, в которой свистит, как коса, беспощадная сталь, подхватили под руки и куда-то тянут, влекут, не давая опомниться.
Их вели через плац к палатке, запускали внутрь, и они, оказавшись в розовом полусвете, у двух гробов, начинали топтаться, водить глазами, выбирая один из двух, тот, где лежал их сын с закрытыми веками, острым носом, насупленными недовольными бровями. Женщины узнавали сыновей, с криком кидались, падали лицами в гроб, обнимали твердые, под белыми накидками, родные тела, выступы рук, шарили, хотели нащупать телесную теплоту, вскрикивали, начинали голосить.
— Коля, Коленька, сыночек мой ненаглядный, что же ты мамочку свою не встречаешь!.. Почему глазоньки твои закрыты, губоньки запечатаны, на мамочку не смотришь, папочку не целуешь!.. Что же они сделали с тобой, сыночек мой дорогой, замучили тебя и убили!.. Никого ты не гнобил, не мучил, всем помогал, всех приветил, а они тебя убили, шеечку твою прострелили!.. Как же тебе было больно, как ты кровушкой весь исходил, а мамочки не было рядом, чтобы кровушку твою унять, рану твою исцелить!.. Все ждала тебя, что приедешь, все новое, хорошее тебе приготовила, занавески сменила, отец крыльцо починил, а теперь сама к тебе прилетела, вижу, как ты вырос, стал такой большой, что и в гробик не влазишь!.. — так вопила, тонко вскрикивала маленькая женщина. То припадала к сыну, лицом на лицо, то отстранялась, страстно, слезно вглядываясь. Заходилась аукающим кукушечьим криком, оглашая палатку так, что начинало звенеть в ушах. То вдруг обрывалась клекотом, будто в ее птичье горло попадала лесная ягода или орех. На секунду умолкала, а потом вновь голосила разрывающим сердце кликом: — Коля, Коленька, как тебя ждали в деревне, как хотели встречать!.. Учительница Ксенья Андреевна все спрашивала: «Когда же Коля приедет, был самый хороший у меня ученик»!.. Соседка Валя Стрекалова все заглядывала, наведывалась: «Когда же Коля вернется, я его жду», сама такая белая, такая румяная, такие волосы кудрявые!.. Дядя Федя зайдет и спросит: «Когда Николай вернется, мы стол накроем, родню позовем из Опухтина, из Крюкова, из Нелидова, всех соберем»!.. Найда, собачка твоя, так ждала, так хотела с тобой в лес пойти, погулять!.. Она, Найдочка, щеночков нам принесла, я всех раздала, одного оставила, мохнатенький, корноухенький, думала, приедешь, полюбуешься!.. И что же я теперь буду делать!.. И тебя мне не дают в деревню, домой увезти!.. Здесь схоронят, в чужой земле, где и трава не растет!.. Ох, у меня уже нету сил!.. — Она падала, цепляясь руками за гроб. Стоящий рядом солдат черпал из цинкового ведра воду алюминиевой кружкой, с силой вливал ей в рот. Она захлебывалась, звенела о кружку губами. Принималась вновь голосить.
Вторая мать ухватила сильными руками край гроба, как хватают застрявшую в раскисшей дороге телегу. Толкала гроб, впрягалась в него, преодолевала страшную тяжесть. Боролась с неподъемной поклажей, надрываясь, напрягая на горле бурлящие вены.
— Сережа, голубочек мой белый, ангел мой небесный, что же у нас, у горьких, случилось!.. Все говорят — мир, мир, а у нас все — война, война!.. Я тебя во сне увидала, бледный, худой, в исподнем, а на голове веночек, проснулась вся в слезах!.. У нас в Кулькове страсть какая гроза прошла, молонья[6] в колокольню ударила, купол сгорел, думаю, быть беде, смотрю, военком на мотоцикле пылит!.. Я бы с тобой в гробик легла, тельцем к тельцу прижалась, тебя отогрела, ты бы встал, сказал, как мамочку свою жалеешь!.. Ты маленький был красавчик, такой забавник, все клубочек катал, по избе, по огороду, по улице, чтоб тебя клубочек в поход повел, в путешествие!.. Вот он тебя и привел на смертную гору!.. Как же ты книжки любил читать про разные страны, про зверей, про природу, про Индию все мне пересказывал!.. Уж лучше бы ты в Индию уехал жить, а то Китай на тебя навалился!.. Какой такой Китай на нас ополчился, стреляет в нас смертным боем!.. Пусть бы его водой залило и огнем сожгло!.. Пусть бы он ядом опился и болезнь его источила!.. Пусть бы ихние матери глаза себе выплакали до костей!.. Пусть бы они в могилах по тысяче людей хоронили!.. Пусть бы у них ничего не росло, не цвело!.. Пусть бы их всех страшный червяк погрыз!.. Я, Сереженька, рядом с тобой в гробик лягу!.. Пусть меня с тобой похоронят!.. Будем мы с тобой, ангелочек мой, лежать неразлучно!.. — Она страстно бормотала, задыхалась, улыбалась. Всхлипывала, словно в горле разрывалась вена и внутри начинала хлестать кровь. Жадно, страстно обнимала сына. Приблизила лицо, вынюхивала по-звериному родные запахи, готовая зализывать его рану, вдыхать свой безумный шепот. Верила, что он воскреснет, раскроет глаза, сядет в гробе. И все толкала обитую кумачом телегу, проволакивала сквозь распутицу глиняную рытвину, за которой начнется твердая дорога с цветами на зеленой обочине. Солдат протягивал алюминиевую кружку с водой, проливал. Вода солнечно лилась на ее черное платье, на белую накидку в гробу.
Коробейников смотрел сквозь слезы, сквозь красное, розовое, белое. У него глохло сердце, он был близок к обмороку. Древнее, языческое, колдовское слышалось в женских причитаниях. От курганов, домовин, могильных камней несся этот вопль и клекот. Лесное звериное завывание, птичье ауканье и кукование звучало в бабьих плачах. Казалось, в этой брезентовой палатке вся деревенская Русь оплакивает сыновей, погибших во все века на земле. Те же кликуши в платочках, плачеи в долгополых платьях, неутешные вдовы и матери шли за порубанными в сечах, за простреленными на редутах, за исколотыми штыками, побитыми картечью и снарядами. Родное, вековечное, неутешное, разлитое по огромным русским пространствам доносилось из этих плачей. Коробейников был почти без чувств от горючей и жуткой красоты этих кликов, от боли, неутешного горя и безнадежного моления, от жалости к убитым солдатам, к матерям.
Генералы и офицеры стояли поодаль. Зампред строго, не мигая, созерцал происходящее, слегка поворачивая голову старого усталого беркута, которому не впервой слушать надгробные рыдания. Эти рыдания, причитающие матери в черных платках, оцинкованные ведра с водой тоже были частью его огромного хозяйства, в котором надлежало поддерживать порядок, не допускать упадка и безалаберности. Полковник Трофимов отчужденно, чуть отвернув лицо, терпеливо слушал, как если бы, планируя операцию, предварительно внес в свой план и эти причитания, и цвет кумачовых гробов, слюдяной блеск пролитой на пол воды.
Женщины выплакали все свои силы, потеряли голоса, слабо сипели и всхлипывали, замирая на груди сыновей. Квитко, теребя гусарские усики, сделал знак солдатам. Те подошли к матерям, отнимали от гробов, выводили из палатки на солнцепек.
— Гробы на вынос! — приказал Квитко.
Солдатский плац, горячий, как противень. Пепельные листья кустов. Пыльные «бэтээры» с расчехленными пулеметами. Стальная вышка на фоне горчичных гор с выемкой Джунгарских ворот. Бледная бирюза соленого озера Жаланашколь. На раскаленной земле, в розовом пламени — открытые гробы с гипсовыми белыми лицами. Прислоненные красные крышки. Тусклая, без тени, шеренга солдат. Почетный караул с автоматами. На солнцепеке, в слепящем пятне — родители убитых героев. Могила, полная синеватой тени, с грудами каменистой земли. Генералы, полковники, окружившие величественного старика — нахохленный френч, золотые эполеты, красные струи лампас. Журналисты, то и дело мерцающие бледными вспышками, растворившие блокноты.
Зампред шагнул на негнущихся ногах, покидая свиту. Гордо, грозно озирал плац, двигал коричневыми складками шеи.
— Сегодня мы прощаемся с нашими боевыми товарищами, героями-пограничниками, отдавшими жизнь за Родину. — Он заговорил, и голос его оказался неожиданно трескучим, резким, наполнил плац сухим колючим хрустом, словно в горле громко раскалывались дребезжащие щепки. — Они честно выполнили боевой долг, остались верны присяге, ценой своих молодых жизней сохранили в неприкосновенности нашу священную границу. Выбили с родной земли коварных нарушителей. — Он произносил дребезжащие, слышные далеко слова, что повторял не раз у братских могил, которыми была отмечена бесконечная граница империи, протянувшаяся по льдам и пескам, океанским побережьям и морским островам. Эта граница требовала постоянного ухода, постоянных жертв, была отмечена пограничными столбами и надгробными памятниками, охранявшими необъятную страну. — Наши мальчики, наши герои повторили подвиги своих отцов, отстоявших свободу и независимость советского государства. Они погибли за коммунизм, за светлое будущее поколений. Родина не забудет их великий подвиг. — Коробейникову казалось, что зампред не говорит, а вырезает свои слова на большой деревянной доске. Высекает стамеской буквы, и каждая новая буква наполняется тенью того же синеватого цвета, что и могила. — Родина-мать скорбит, склоняет свои знамена. В городах и селах, на заводах и стройках люди вытирают слезы, провожая в последний путь своих сыновей. Особенно больно отцам, матерям, потерявшим самое дорогое и бесценное — своих детей. Но утешением для них может быть только одно — они воспитали прекрасных детей, а только прекрасные, лучшие, храбрые, способны на подвиг. — Зампреду без труда давалось красноречие, как без труда дается жрецу заклинание, священнику проповедь, замполиту наставление. Он и был замполит, священник и жрец, охранявший таинственную зыбкую линию, пробежавшую по неоглядным пространствам, отделяющую народ от народа, историю от истории, жизнь от жизни. Эта линия колебалась, дробилась, ее прорывали и связывали. Могила, в которую лягут солдаты, будет маленьким узелком на границе. — С этих отважных героев станут брать пример следующие поколения наших воинов. Об их подвиге писатели напишут книги, поэты сложат стихи, композиторы сочинят песни. Им поставят памятники. Их именами назовут улицы и новые возведенные города. Их смерть не напрасна. Подвиг их вечен. Родина их не забудет, — закончил он свою надгробную надпись. Помолчал, словно прочитал на доске заключительные слова. Отступил назад, свита сомкнула вокруг него крепкие туловища, широкие плечи, фуражки с кокардами.
— Накрыть гробы!.. — командовал Квитко. Солдаты кинулись к гробам, надвинули крышки. Заблестели гвозди, ударили молотки. Матери заголосили, кинулись вперед, но их не пускали, крепко держали за локти. Белые накидки, гипсовые лица скрылись под красными крышками. Из-под одной чуть белел краешек защемленной накидки.
— Салют — пли!
Ударили трескучие очереди, еще и еще. Солдаты разрядили магазины, лязгнули затворами, поставили у ног автоматы.
— Сносить гробы!
Два горбатых ящика медленно занесли в могилу. Заработал мотор. Оранжевый бульдозер двинулся, качая блестящим ножом. Стал наваливать в могилу груды глины, кучи стучащих камней. Завалил, проехался гусеницами, крутанулся, слепя сталью, будто завинчивал на могиле огромную гайку.
И вдруг пахнул ветер, огромный, жаркий. Излетел из пустыни, неся в себе солнечный прах, крупицы безымянных костей, соринки разрушенных храмов, пыль исчезнувших царств. Пролетел над заставой, как чей-то горячий вздох. Иссушил все лица, обесцветил все краски, выпил все силы. Словно невидимый дух напитался людскими слезами, праведными и коварными мыслями и канул, оставляя легкую шелуху.
63
Вернувшись в Москву, в трех номерах газеты он опубликовал большие, зрелищно-яркие репортажи с границы, в которых были гекатомба с массовым убийством скота, отчаянная атака пограничников на латунной заре, трупы распоротых пулеметами китайцев, надгробные рыдания матерей, вносившие в боевые репортажи дух «Слова о полку Игореве», и оранжевый бульдозер с зеркальным ножом, танцующий на могиле железный танец.
Публикации имели огромный успех. В газету пошел вал писем. Проклинали безжалостных маоистов. Славили советских героев. Просили адреса матерей, чтобы отправить пожертвования. Молодые люди изъявляли желание пополнить ряды пограничников. Интеллигенты высказывали соображения, что Советскому Союзу следует сближаться с Америкой, чтобы противостоять нашествию Китая.
Коробейникова вызвал редактор Урюков, сообщил, что его материалом чрезвычайно довольны в верхах. Таинственно намекнул, что за подобную журналистику полагается правительственная награда, и неудивительно, если он, Коробейников, будет представлен к ордену. Позвонил полковник Миронов. Расхваливал материалы, сообщил, что видел их на столе у руководства со множеством красных, синих и зеленых пометок.
Это был несомненный успех. Вдохновлял, сулил новые возможности, новые горизонты познания, которые распахивало перед ним могучее, поверившее ему государство.
План романа созрел, и нужна была тишина, долгожданный покой, чтобы уединиться за рабочим столом, нанести на лист бумаги первую, самую трудную, ключевую для последующего повествования фразу.
Дом его был пуст, жена и дети ушли на прогулку. Он держал перо над листом бумаги, предчувствуя, как легким касанием рассечет белизну, в надрез брызнет стоцветный мир, и из белого кокона вырвется огромная бабочка романа. Он искал эту первую, ускользающую фразу, отделяющую правду от вымысла, текст романа от реальности, сюжет от хитросплетений жизни. Фраза созревала, всплывала в душе, трепетала в зрачках, текла сквозь сердце, проникала в напряженную мышцу плеча, в запястье, в чуткие, сжимавшие перо пальцы, копилась на металлическом острие пера, чтобы коснуться бумаги, вскипеть драгоценной огненной каплей, прожечь белизну.
Раздался звонок. Коробейников, досадуя, слушал настойчивые, с равными интервалами трели. Отложил перо, снял трубку.
Говорил Марк Солим:
— Прошу простить, что тревожу вас. Мне стоило больших усилий вам позвонить. Я не очень вас отвлекаю?
— Отнюдь. Я вас слушаю.
— Видите ли, Елене скоро предстоит рожать. Ребенок, по всей видимости мальчик, занимает не слишком правильное положение. Роды могут быть тяжелыми, плод может быть поврежден. И мы решили, что она должна пойти на кесарево сечение.
— Разве это необходимо? — взволновался Коробейников. И почувствовал, что его волнение неприятно Марку, что, выразив это волнение, он становится соучастником принятого ими решения, по-прежнему присутствует в драме, которую он породил и из которой его постарались выключить.
— Это решение принято после консультации с опытными акушерами, — сухо и несколько торопливо произнес Марк Солим, давая понять Коробейникову, что это не подлежит обсуждению и мнение его не будет учтено. — Проблема в другом. У Елены неважное сердце. Неизвестно, как она выдержит операцию. Кардиологи выражают тревогу. Мой друг доктор Миазов предложил провести кесарево сечение в барокамере. Это новейшая установка, в которой поддерживается особое давление и кислородный режим, усиливающий питание сердца и всей кровеносной системы. Это сделает операцию более безопасной.
— Но ведь это экспериментальная установка, — снова не удержался Коробейников. — Этот метод проблематичен.
— Здесь тоже все решено. Метод оксигенации, то есть кислородного питания, уже практикуется при лечении высших лиц государства, — так же сухо, со скрытым раздражением произнес Марк Солим. — Я звоню вам не для того, чтобы просто проинформировать о предстоящей операции. Как вы понимаете, Елена мне очень дорога. Самый дорогой для меня человек. Малейшая угроза ее благополучию, не говоря уже о жизни, заставляет меня предпринимать максимум усилий. Вот и в этом случае я делаю все, что могу. — Он замолчал, и Коробейников чувствовал, как ему нелегко, как борется он с собой, чтобы продолжить разговор. — Тут будут использованы все имеющиеся в распоряжении средства, включая и почти недоступные, как упомянутая мной барокамера. Но один акушер-профессор, практиковавший за границей, сказал, что роженице помогает присутствие рядом отца ребенка. Существуют биологические поля, энергетический обмен между отцом ребенка, ребенком и роженицей. И вот я обращаюсь к вам с просьбой. Вы понимаете, как это для меня нелегко. Я прошу вас во время кесарева сечения находиться рядом.
Коробейников был ошеломлен. Говоривший с ним человек, оскорбленный им и обманутый, имевший все основания ненавидеть его, желать его смерти или по меньшей мере желать полнейшей от него изоляции, теперь обращался к нему. Возвращал его в круг своих больных, сокровенных проблем, куда путь Коробейникову был запрещен. Это говорило о том, как беззаветно он любит Елену, как беспредельно ею дорожит, как пренебрегает собой, своим оскорбленным самолюбием, попранной гордыней. И еще это говорило о том, какой завязался узел любви и ненависти, вероломства и извращенной страсти, нежности и смиренного покаяния, куда оказались затянуты несколько судеб, одна из которых, Рудольфа Саблина, уже оборвалась, а другие никак не могли разделиться.
— Вы готовы выполнить мою просьбу? — спросил Марк Солим.
— Да, — глухо ответил Коробейников.
— Приходите завтра в клинику к доктору Миазову. Я вас встречу.
Наутро Коробейников оказался у стеклянной призмы кардиологического центра, напоминавшего блестящий дождь, падающий на старинные клиники, больничные парки, монументы знаменитых русских врачей, одни из которых держали в руках печальные бронзовые черепа, а другие опустили на бронзовые колени усталые от операций руки. Перед входом его встретил Марк Солим. Коробейникова поразила перемена, случившаяся с вальяжным артистичным весельчаком, удачливым дельцом, ироничным философом, душой политических и богемных салонов. Пышная седина поредела, потускнела, как тускнеет запушенное, давно не чищенное серебро. В умных, хохочущих и циничных глазах появилось выражение тревоги, нежности и мольбы, как если бы в его доме находился страдающий, беззащитный и дорогой человек. Он ссутулился, ровный розовый цвет его мясистого лица наполнился желтизной, складки высохли, углубились, делали лицо неуверенным и болезненным. Он перешагнул черту, за которой мужчину покидают последние витальные силы, остатки мужского куража, нерастраченной плотоядности, и наступает быстрое, необратимое старение.
Он не подал Коробейникову руку, только сказал:
— Спасибо, что пришли. Тут принято надевать халат и бахилы.
Они оба облачились в белые халаты и шапочки, натянули на ноги матерчатые рыхлые чехлы. Стали похожи на других обитателей стеклянного дома, его кабинетов, лабораторий, операционных. Поднялись в лифте. Марк Солим, ориентируясь в коридорах и переходах, ввел его в просторную залу.
Окруженная стеклянными стенами, под высоким потолком, среди обильного света стояла барокамера — стальной, округлый белоснежный кокон с иллюминаторами, люками, герметическими дверями. Блестели хромированные детали. Сквозь корпус внутрь погружались трубы, электрические провода. Стояли красные и синие баллоны. Мерцали манометры, циферблаты. На экранах осциллографов пульсировали сигналы, бежали синусоиды, летали бесшумные светляки, оставляя гаснущие следы. На корпусе барокамеры висели телефонные трубки, по которым можно было переговариваться с находившимся внутри персоналом. В иллюминатор было видно, что внутри горит электрический свет, развернут операционный стол, сверкают люстры, разложены хирургические инструменты.
Вид установки поразил Коробейникова. Сделанная из стали, насыщенная приборами, подключенная к магистралям газа, электричества, системам связи, она была искусственным лоном, откуда должен был родиться ребенок. Была машиной, в которой соединялись живая материя и рукотворные механизмы. Реактором, в котором из газа, электричества, химических эликсиров создавался искусственный человек. Любовные страсти, приступы ревности, инстинкты продолжения рода, мучительная этика отношений были подключены к машине, анализировались с помощью осциллографов, циферблатов, чувствительных датчиков. Мегамашина, от которой он старался укрыться, спасаясь от нее в экзальтированных молитвах, неистовых страстях, стихийных порывах и творчестве, была вездесуща, проникла в святая святых, становилась искусственной маткой, откуда на свет был готов появиться его синтезированный сын. Это было похоже на помешательство.
К ним подошел доктор Миазов.
— Дорогой Марк, не волнуйтесь, все будет благополучно. Привлечены лучшие специалисты. Сама установка прошла экспериментальную стадию и уже включена в число апробированных методик. В барокамере принимали роды у племянницы нашего крупнейшего военачальника, не стану называть его имя. Здесь сделали пикантную операцию по удалению геморроя у одного из членов Политбюро. Так что вы не волнуйтесь, мой дорогой, все будет замечательно.
Миазов узнал Коробейникова, припоминая их недолгую встречу в салоне на Сретенке.
— Похвально, что вы не оставляете Марка в эту тревожную минуту. В такие минуты друзья должны быть рядом. Бог дарит Марку сына в столь зрелые годы. В этом есть что-то библейское, не правда ли? Мы сделаем все, чтобы сберечь этот Божий дар. — Он снова повернулся к Марку, пожимая ему руку. — Я буду следить за операцией. А пока мне надо уйти. — И он удалился, хрустя ослепительно-белым халатом.
В барокамеру проследовала бригада врачей, мужчин и женщин в зеленоватых облачениях, чьи лица до глаз были занавешены масками. Отворили овальную, как в борту самолета, дверь, захлопнули, породив мягкий удар воздуха, дохнувший сладковатым эфиром.
В иллюминатор было видно, как они окружили стол, перебирают инструменты, переставляют флаконы, поднимают и опускают дыхательный прибор с ребристой трубкой и маленьким вентилем.
Коробейников смотрел на ослепительную жестокую сталь, на пластмассовую маску с очертаниями рта и губ, и ему становилось невыносимо. Какая-то жуткая, непреложная закономерность привела его к барокамере из давнишнего, чудного вечера, когда они с Еленой летели по ликующей Москве с разноцветными фонтанами света, и он восхищался ее близким прекрасным лицом, белой шеей, пленительными глазами, отражающими блеск и сверканье города. Их любовь, красота ее божественного тела, там, на темной опушке, среди бесшумных шаровых молний, и в зеркальной спальной на розовом покрывале, и в рубиновом свете догорающего камина, — все это превратилось в муку, истерику, нестерпимую боль и позор, в страшную сталь хирургов, в пыточную маску для ее утомленного, измученного лица.
— Везут, — тихо, беспомощно ахнул Марк Солим. Умоляюще взглянул на Коробейникова. — Я вас прошу, встаньте поодаль, чтобы она вас не заметила. Пусть видит только меня.
Коробейников отступил. Видел, как из коридора два санитара толкали высокую каталку, на которой под белой простыней лежала Елена. Бледное, с заостренным носом лицо, повязанная косынкой голова, высокий живот, босые, из-под простыни, ноги. Коробейникову стало обморочно от жалости, вины и беспомощности. Хотелось кинуться к ней, коснуться, не отдавать во власть сильных, энергичных людей, управлявших машиной.
Марк Солим подошел к ней, склонился, заслонив ее лицо пепельной шевелюрой. Было видно, как он взял ее руку в свою, целовал ее пальцы, что-то говорил непрерывное, нежное, бормочущее. Она протянула руку, коснулась его волос. Он отступил бессильно. Каталку втолкнули в распахнувшуюся дверь барокамеры, которая снова герметично захлопнулась. До Коробейникова донесся слабый хлопок воздуха, в котором среди эфирных дуновений было и ее дыхание.
В круглые стекла было видно, как каталка встала рядом с операционным столом. Санитары стянули с Елены накидку. В белой рубахе, с большим животом, она приподняла голову, оглядывая люстры, инструменты, лица хирургов в масках. Санитары ловко и грубо, подхватив ее за ноги и плечи, перевалили на стол, и Коробейников разглядел на ее лице мимолетное страдание.
Это он, Коробейников, был причиной ее страдания. Он сопроводил ее в стальную бездушную капсулу. Подключил к газопроводам и линиям электропередач. К антеннам космической связи и шахтам тяжелых ракет. Опутал железными дорогами и бетонными эстакадами. Беспомощная, белая, с босыми ногами и большим животом, она лежала внутри громадной машины. Окруженный огнями и сталью, в ней притаился младенец.
— Она не знает, что вы здесь, я не сказал… Она меня утешает, а должен бы я ее. — Марк Солим горестно смотрел на Коробейникова, как на единственного у кого мог искать сочувствия. Оба они, по разную сторону иллюминатора, всматривались в глубину железного кокона.
Там дрожали стрелки манометров, менялось давление, мигали красные и зеленые огни. Врачи напоминали подводников, управлявших лодкой, уводивших ее в бездонную глубину, в немые толщи. Елену уносило в пучину от них обоих, а они оставались на пустом берегу, одинаковые в своей обездоленности.
Коробейников отходил от круглого стекла, в котором горел ослепительный свет и виднелись хирурги. Запрещал себе смотреть. Вновь подходил, толкаемый мучительной силой, безмолвным и грозным возгласом: «Смотри!»
Видел, как совлекли с нее рубаху, и она осталась под лампами в ослепительной наготе, с большими, оплывшими на сторону грудями, выпуклым животом, на котором от пупка пролегла темная полоса. Обжигался, слеп от этого запретного зрелища. Отходил, отворачивался, не умея молиться, вызывая в душе самые светлые, животворные образы. Направлял их в круглое, наполненное светом стекло. Цветы иван-да-марьи, фиолетово-желтые, в лесной колее с тяжелой блестящей водой. Синяя речка с прохладной кувшинкой среди глянцевитых плавающих листьев, у которых ныряет маленькая юркая уточка. Утренняя росинка, сверкающая среди бесчисленных солнечных капель, алая, золотая, зеленая от малейшего движения глаз. Он посылал ей драгоценные образы, сберегая ее среди электронных приборов, стальных инструментов, дрожащих манометров.
Ей мазали йодом живот, золотили. Живот сиял, блестел, как золотой купол, под которым была нарисована фреска — окруженный ангелами святой младенец. Сестра вкалывала в живот шприц, впрыскивала обезболивающее, и казалось, что игла протыкает утробу, вонзается в плод. Коробейников не мог смотреть, отходил. Посылал в иллюминатор молитвенные светоносные силы. Белая псковская церковь на зеленой горе, окруженная облаками и летящими птицами. Стих Пушкина с молодой восхитительной строчкой: «Блестит среди минутных роз неувядаемая роза». Каргопольская глиняная игрушечка — маленький лев с человечьим лицом. Он посылал ей хранящие фетиши, волшебные талисманы, которые сберегут ее во время опасного странствия.
Опять заглядывал в железный кокон. Лицо Елены было прикрыто полупрозрачной маской, и было видно, как жадно она вдыхает веселящий дурман. Сестра крутила маленький хромированный вентиль, то убавляла наркотический газ, то усиливала пьянящую струйку. Хирург протянул к золотому животу блистающий скальпель. Подержал, прицеливаясь. Погрузил в живот. Повел длинную продольную линию, создавая впалую борозду, которая вдруг вздулась по всей длине красным соком, из нее ударили высокие алые родники. Коробейников отшатнулся. Отошел, страстно выкликая, вымаливая. Бабушка, ее милая белая голова, окруженная прозрачным нимбом. Крохотная фронтовая фотография отца в гимнастерке с ромбами. Бородатое, благородно-прекрасное лицо прадеда Тита на фоне стеклянной веранды. Эти родовые священные образы он направлял в подводную лодку, сквозь страшную толщу вод, чтобы корпус выдержал непомерное давление и души любящих предков уберегли роженицу и младенца.
Он больше не мог смотреть. Боялся подойти к барокамере. Сквозь застекленный круг бил ослепительный свет, словно в глубине железного тигеля шла плавка, сверкала и кипела материя, бушевал огненный дух. Из иллюминатора вырывались лопасти света, метались по стенам, потолку, улетали в окно. Мир наблюдал рождение нового светила, возникновение новой звезды. Коробейников в страхе и ликовании, в реликтовом ужасе и в молитвенной хвале тянулся на этот свет. Подставлял иллюминатору грудь, закрывал своим сердцем, отдавал новорожденному светилу свою жизнь, любовь и дыхание, чувствуя, как сердцу сладко и страшно.
Марк Солим стоял в стороне, закрыв лицо ладонями, что-то бормотал — то ли древнюю еврейскую молитву, то ли безумное заклинание.
Раздался резкий звонок висящего на барокамере аппарата. Коробейников и Марк Солим кинулись на этот звонок. Марк Солим схватил трубку, жадно слушал.
— Слава богу!.. Она разрешилась!.. — произнес он потрясенно, вешая трубку.
Коробейников смотрел в застекленный круг. Хирург, в забрызганных зеленых одеждах, в резиновых розоватых перчатках, держал над операционным столом, над разъятым животом новорожденного младенца. Весь в красной росе, окруженный розовым светом, он парил — сморщенное лицо, маленький, открытый в крике зев, поджатые дрожащие ноги, стиснутые, разведенные в сторону, кулачки. Покинул рассеченное материнское лоно и парил среди приборов, осциллографов, мигающих индикаторов, как космонавт в невесомости. Начинал свой путь по таинственной орбите.
Коробейников чувствовал, как сотрясают грудь рыдания. Видел близкое, в слезах, лицо Марка Солима. Испытывал страшную усталость, нежность, печаль. Рожденный младенец был его сыном, но был отделен от него стальными оболочками машины, мучительными, непреодолимыми запретами, нерушимыми табу, с которыми он согласился, обрекая сына на жизнь в иной семье, где сохранится тайна его рождения.
Хирурги продолжали оставаться в барокамере. Накладывали швы. Хлопотали над младенцем, натирая его эликсирами и целящими мазями.
Марк Солим подошел к Коробейникову:
— Благодарю, что пришли. Думаю, это помогло благополучному исходу операции. Теперь же прошу вас уйти. И больше никогда, слышите, никогда не напоминать Елене и мне о своем существовании. Этого требует этика, требует благополучие ребенка.
Лицо Марка Солима было строгим, усталым, серым. Волосы грязно-серебряные, тяжелые, как куча мартовского снега на пне. Он сутулился, выглядел почти стариком. Коробейников ничего не ответил. Кивнул и пошел прочь, бесшумно ступая матерчатыми бахилами.
Из клиники он двигался, будто его вела магнитная стрелочка по невидимой линии. От подземной станции «Новослободская» с цветастыми стеклянными витражами. Мимо пожарной каланчи на Селезневке. Вдоль огромной каменной звезды театра Советской армии. Минуя дворец с тяжелыми пушками на деревянных колесах. По тенистому бульвару, где одиноко, покинуто возвышался памятник Толбухину. На взгорье с крутыми улочками, обшарпанными особняками, мещанскими домами и купеческими лабазами, где в покосившемся домике с лепными грифонами и ампирными девами еще недавно ему было так хорошо.
Только что родился на свет его сын и был взят от него в другую, недоступную, жизнь, где ему, Коробейникову, не было места. И это ущербное, несостоявшееся, отцовство вызывало боль и недоумение. Странную, больную иллюзию, что все еще можно исправить. Нужно только оказаться в обшарпанном особнячке, где горит камин, темнеет на столе бутылка с красным вином, висит на стуле ее легкое платье, и она, запрокинув белые локти, положив под затылок ладони, говорит ему о какой-то синей стеклянной бусинке, закатившейся в щель половицы. Усилием воли, сосредоточенной мыслью можно выхватить из времени этот пролетающий миг, направить в иную сторону, и вся последующая жизнь потечет по-другому, без надрыва, обмана, трагедии, все, кто его окружает, останутся счастливы, и его народившийся сын будет рядом. Ему казалось, что если он отомкнет старинным ключом дубовую дверь, окажется в ветхой комнате, найдет в половице заветную щель, извлечет синюю бусинку, то все волшебно изменится, восстановятся любовь и гармония.
Он подымался по мощеной улочке мимо облупленных стен, ржавых карнизов, осевших резных козырьков. Еще немного, и откроется знакомый дом, грифоны и девы, дубовая старинная дверь.
Услышал рев и пыхтенье мотора, металлический скрип гусениц, тупые удары, от которых сотрясалась земля. Гусеничный кран с вытянутой стрелой давил хрустящий кирпич. На железной стреле, подвешенное на трос, качалось огромное чугунное ядро с натертыми до блеска боками. Кран вел ядро мимо оштукатуренного фасада, на котором слепо темнели полувыбитые окна, виднелись остатки орнамента, хрупко прилепились резные водостоки. Дом напоминал старое, приведенное на бойню животное, понуро и бессловесно подставившее лоб под оглушающий удар кувалды.
Кран запыхтел. Трос натянулся, оттягивая ядро в сторону. Машинист в кабине нажал рычаг, отпуская трос. Чугунная «баба» полетела к фасаду, саданула, проламывая ветхие стены. Дом окутался белой пылью, затрещал кирпичами и щепками, рассыпался, испуская дух мещанского уклада, прах исчезнувших поколений. Ядро моталось, крушило остатки стен, блестя как металлический метеорит.
Коробейников обошел рухнувший дом, ожидая увидеть знакомый фасад с грифонами. Но сквозь мучнистую пыль, рыча, блестя гусеницами, двигался громадный бульдозер. Сдвигал ножом рыхлую гору штукатурки, бревен, кровельного железа, во что превратился милый чертог с грифонами, каминной решеткой, старинной кроватью и стульями. И в этой пыльной, дымящей груде, сдвигаемой мошной сталью, таилась синяя стеклянная бусинка — возможность иной, несостоявшейся, жизни.
Бульдозер проскрежетал мимо, открывая пустую, со снесенными домами, гору. И на этой горе, в брызгах огня, в ручьях электрической сварки, окруженная плазмой, дышала громадная летающая тарелка. Опустилась на Москву из Космоса, выжгла ветхие дома, палисадники. Распушила ртутные пары, лопасти голубоватых лучей. Каркас огромного стадиона полыхал, мерцал, трепетал всеми конструкциями. Громадный ковчег, напряженный, созданный из неведомых сплавов, ждал космонавтов, был готов взлететь в необъятное небо. Новорожденный сын был пассажиром этой огненной ртутной «тарелки», улетал от него, Коробейникова, в неизвестное будущее.
64
Его пригласил в газету Урюков и торжественно, с таинственной и обольщающей улыбкой, сообщил, что он, Коробейников, награжден орденом «Знак почета». Через неделю в Кремле состоится награждение.
— Разумеется, это ваш личный успех, но и успех газеты. Думаю, что и моя аттестация сыграла не последнюю роль. И это, уверяю вас, только начало. Начало большого пути. Вас любят в ЦК, любят в высоких инстанциях. Это обеспечит вам блестящую карьеру. — Урюков встраивался в его ослепительное восхождение, отламывал от его успеха малый ломтик, склевывал сладкую крошку, брад на секунду нарядный орден, чтобы поносить на своем дорогом пиджаке.
В коридоре его поймал Наум Шор, пылкий, кипятящийся, с выпученными голубыми глазами:
— Старик, мне все известно, поздравляю! Верил в тебя всегда! Мы, ветераны, спокойны, у нас есть достойная смена. Мы на брюхе проползли по полям Великой Отечественной, теперь вы ползите. Зайдем, выпьем фронтовые сто грамм!
Через неделю, туманным сентябрьским утром, он отправился в Кремль. Волнуясь, шел по влажной блестящей брусчатке к розовой громаде, которая смотрела на него зубцами, шпилями, белокаменными завитками, золотым циферблатом. Все волновало, все взывало к нему — кристалл мавзолея, надгробные плиты в священной стене, отяжелевшее от влаги алое полотнище в небе, белый столп колокольни с золотой головой и таинственной непрочитанной надписью.
Он прошел сквозь Спасскую башню с вежливо-строгой охраной. Белые фасады дворцов, струящиеся главы соборов, старые, начинавшие желтеть, деревья, сквозь которые мерцала, дышала Москва. Отворил тяжелые, с медной рукоятью, двери. Подымался по высокой, застеленной ковром лестнице, над которой висела огромная картина: Куликовская битва, месиво коней, татарских воинов, русских витязей, копья, мечи и стрелы. Вид картины возвращал его в казахстанскую степь, откуда веяло бедой и откуда он недавно вернулся, выполнив боевое задание, за что благодарная Родина вручала ему награду.
Георгиевский зал был великолепен своей мраморной белизной, пылающими хрустальными люстрами, бесконечным торжественным списком героических полков, батарей, флотских экипажей, которые на северных и южных морях, на полях Европы и Азии, в бессчетных сражениях и схватках крепили мощь государства. И он, участник крохотного приграничного боя, был причастен к этому мрамору, золоту, ослепительному хрустальному солнцу, порождавшему в душе восторг и благоговение. Георгиевский зал был святилищем русской славы, где Сталин, окруженный блистательными маршалами Победы, подымал свой тост за русский народ.
Все было готово к награждению. Были расставлены кресла. Перед ними возвышалась легкая переносная трибуна. Стояла корзина цветов. Кто-то легонько коснулся его плеча. Коробейников оглянулся: перед ним стоял Миронов, милый, слегка застенчивый, радостно и искренне его поздравлял:
— Я так рад за вас. Вы замечательно написали. Представляю, как было опасно. Не сомневаюсь, эти переживания лягут в ваш будущий роман. Помните, я говорил вам о «государственном художнике»? Государство увидело в вас своего певца. — Миронов повел рукой вдоль беломраморных плит с перечнем гвардейских полков. — «Певец во стане русских воинов…»
Коробейникову были приятны его слова, он не сомневался в искренности человека, желавшего ему преуспевания.
Среди награжденных был конструктор оружия, директор корабельного завода, комбайнер, намолотивший рекордное количество хлеба, археолог, нашедший берестяные грамоты Новгорода. Коробейников сидел среди них, чувствуя свою избранность, исключительность.
Награждение проходило просто, без пафоса, а всю торжественность создавал великолепный зал, получение орденов в котором было великой честью.
Красивая женщина в строгом костюме называла имя орденоносца. Передавала красную коробочку с наградой невысокому худощавому секретарю ЦК, который, вручая орден, пожимал награжденному руку, произносил несколько простых, для всех одинаковых, слов.
Коробейников почувствовал несильное сухое пожатие, услышал спокойный, чуть утомленный голос, принял коробочку и вернулся на место.
Он извлек из коробочки награду и держал на ладони. Орден был красив, благороден, выполнен в манере 30-х годов, хранил лаконизм и строгость, волнующее изящество и пылкость эстетики революционных лет. Знаменосцы, мужчина и женщина, несли два темно-малиновых ниспадающих знамени. Эмаль драгоценно блестела, тускло-белый металл мягко сиял. Орден холодил ладонь, был литой, тяжелый. В нем отсвечивали хрустальные люстры, отражались мраморные стены и золото.
Коробейников завороженно смотрел. В малиновой эмали, в тусклом сиянии сплава таинственно присутствовала сухая каменистая степь, горчичные китайские горы с выемкой Джунгарских ворот, окруженное кромкой соли голубое озеро Жаланашколь, пылящие отары овец с круглолицыми всадниками, солдаты, бегущие на каменный склон, красные гробы, и голосящие женщины, и горсть песка, брызнувшая из-под подошвы солдата, и Трофимов с пистолетом в руке, нагоняющий степного наездника. Орден был маленьким слитком, куда были вплавлены его жизнь и судьба с не находящими ответа вопросами, невыплаканными слезами, неотмоленными грехами, с грядущими невосполнимыми утратами. Он рассматривал орден, испытывая недоумение и печаль, как будто смотрел на надгробие.
Церемония завершилась. Он вышел из дворца на Ивановскую площадь, окруженную соборами, наполненную млечным туманом, в котором тонули купола и кресты, уходила в высь, пропадала колокольня Ивана Великого. За белой мглой, под круглой золотой головой, на трех темных обручах, была начертана надпись. Золотая, на исчезнувшем языке, она содержала вещий смысл бытия, тайну жизни, разгадать которую ему поручил Творец. Но немощный разум был не в силах ее расшифровать.
Коробейников стоял, запрокинув лицо, стремясь пробиться сквозь белесую дымку, вознестись к колокольне, трижды ее облететь и, в волшебном ясновидении, прозревшими очами прочитать сокровенную надпись. Молился, умоляя Творца открыть ему тайну, научить различать письмена, добыть наконец ту истину, за которой пришел в эту жизнь. Молитва была жаркой и истовой. Дух стремился ввысь, а тело утрачивало вес и вещественность.
Бесшумный могучий порыв подхватил его, будто невидимый ангел поднял его на воздух. Сквозь тусклый туман, в белесую нежную синь, вдоль каменного столпа колокольни, в солнечное яркое небо, в ослепительный свет. В золоченом куполе виднелись морщины и вмятины. Он видел волнистое отражение своего лица, метнувшуюся ошалелую птицу. Та же сила, в бесшумной буре, повлекла его вокруг колокольни, трижды обнесла, и на черных кольцах, как на траурных лентах, он прочел золотую надпись. «БОГ ЕСТЬ» — было начертано на верхнем кольце. «ТЫ УМРЕШЬ» — вещало второе. «РОССИЯ — МУЧЕНИЦА» — сияло на нижней ленте. Пылало золото, выжигало надпись в сердце и разуме, и было ликование, и бесстрашие, и благодарение Господу, открывшему триединую формулу жизни.
Буря стихла. Он стоял на земле, запрокинув лицо, видя, как слипаются струйки тумана, смыкается прочерченный след. Тихо шагал, неся в глубине глазниц запечатленную надпись.
После вручения ордена он поехал в деревню, где поджидали его Валентина и дети. «Строптивая Мариетта» находилась в ремонте. Он сошел на автобусной остановке и шагал через просторное сжатое поле с желтой стерней, в которой, словно синие сливы, темнела стая грачей. Когда он приближался, грачи без крика взлетали, шумели крыльями, колыхались над полем и снова падали в стерню, чернели на желтизне, словно черные головни.
За полем виднелась деревня, стояла знакомая изба под шелушащейся дранкой, высокая, поредевшая береза, сквозная и зыбкая. На огороде жена и дети собирали картошку. Он представлял, как Валентина неумело погружает в землю лопату, выворачивает тяжелый ком с понурой ботвой, проросший сорняками, с мелкими розоватыми клубнями. Васенька и Настенька пальцами выковыривают клубни, кидают в жестяное ведро, и оно слабо звякает.
Он шел к ним, своим родным и милым, по широкому осеннему полю, среди русской природы. Вдалеке под серыми небесами горели великолепные иконостасы лесов, синели еловые дали, блестели студеные воды, дули холодные ветры, предвестники зимних буранов, жестоких непроглядных ночей. Жена и дети заметили его, распрямились. Смотрели, как он приближается. Были видны светлые капельки их лиц, машущие руки. Из неба полетел мелкий дождь, и он услышал, как под тучей переливаются, слабо дрожат, печально тянутся нежные, тревожные звуки. Над полем высоко, нестройным косяком летели журавли. Это были не птицы, а ангелы, покидавшие Русь. Были видны их тонкие крылья, легкие покровы, хрупкие руки, сжимавшие печальные поднебесные дудки, в которые они дули на прощанье, роняя звуки на деревни и дороги, холодные воды и пустые леса. Он стоял на стерне, глядя в небо, и любил всех бесконечно, печально и нежно.
* * *
Ночь в натопленной избе. Дети спят, зарывшись в одеяло. Жена задремала, уронив раскрытую книгу. А он на чердаке, на маленьком стульчике, слушает, как шумит над избой ветер осени. Его окружают проекты Города Будущего, сферы, спирали и призмы фантастических летящих конструкций. Лежит на столе старинный плотницкий циркуль и ржавый кованый гвоздь. Слабо мерцает крыло умершей стрекозы. Белеет под лампой лист бумаги. Он держит над бумагой перо, чувствуя, как копится на кончике крохотная капелька света. Драгоценно трепещет, тяжелеет, удлиняется. Готова сорваться, ударить в белизну листа, превратиться в стоцветный, громогласный, многолюдный роман. Еще одно мгновение, последняя секунда немоты. Капля срывается с пера, летит к бумаге, и — пока она летит — протекает вся его длинная жизнь от рождения до смерти.
Примечания
1
фр. appareil — аппарат, устройство
(обратно)2
глиняный горшок, кувшин, жбан, крынка
(обратно)3
сумка, носимая за плечами, иногда на посохе
(обратно)4
старинная верхняя крестьянская одежда в виде кафтана без воротника, обычно из грубого самодельного сукна
(обратно)5
доводить до слез, не давать покою
(обратно)6
молния
(обратно)



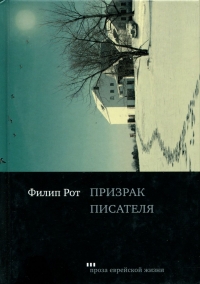

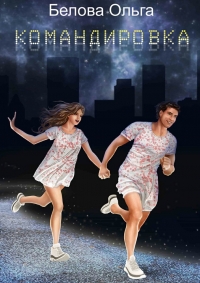

![Байки нашего квартала [Про Турцию и турков]](https://www.4italka.su/images/articles/468359/primary-medium.jpg)


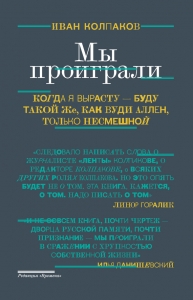
Комментарии к книге «Надпись», Александр Андреевич Проханов
Всего 0 комментариев