Джеффри Евгенидис Найти виноватого
Памяти моей матери Ванды Евгенидис (1926–2017) и моего племянника Бреннера Евгенидиса (1985–2012)
JEFFREY EUGENIDES
Fresh Complaint
Перевела с английского Д. А. Горянина
© 2017 by Jeffrey Eugenides. All rights reserved
© Издание на русском языке, перевод на русский язык, оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2019
Воздушная почта
Скрывшись за бамбуком, Митчелл наблюдал за немкой, его товаркой по несчастью, которая как раз направлялась в сортир. Она ступила на крыльцо, прикрыв глаза ладонью – солнце палило немилосердно, – а другой рукой вяло нащупав на перилах полотенце, после чего кое-как намотала его на голое тело и вышла из тени. Она миновала хижину Митчелла. Сквозь щели между рейками ее кожа выглядела болезненной, цвета куриного бульона. Тапочек – только на одной ноге. Каждые несколько шагов ей приходилось останавливаться, отрывать босую ступню от пылающего песка и отдыхать, точно фламинго, тяжело дыша. Казалось, она сейчас упадет в обморок. Но этого не случилось. Она преодолела песчаный участок и дошла до границы чахлых джунглей. Добравшись до туалета, открыла дверь, заглянула в его темноту и скрылась там.
Митчелл уронил голову обратно. Он лежал на соломенном коврике, подложив вместо подушки клетчатые шорты L. L. Bean. В хижине было прохладно, и ему не хотелось вставать. К несчастью, живот бушевал. Всю ночь кишки вели себя смирно, но утром Ларри убедил Митчелла съесть яйцо, и теперь у амеб появилась пища.
– Я же говорил, что не хочу яйцо, – сказал он и тут же вспомнил, что Ларри нет. Ларри на пляже, веселится с австралийцами.
Чтобы не сердиться, Митчелл закрыл глаза и несколько раз глубоко вдохнул. Через несколько вдохов у него начало звенеть в ушах. Он слушал этот звон, вдыхая и выдыхая, стараясь сосредоточиться на дыхании. Когда звон стал еще громче, Митчелл приподнялся на локте и поискал письмо, которое писал родителям. Последнее. Оно обнаружилось в Новом Завете, вложенное в Послание к ефесянам. Первая страница уже была испещрена буквами. Не перечитывая написанное ранее, он взял шариковую ручку, предусмотрительно воткнутую в бамбук, и начал: «Помните моего учителя английского, мистера Дадера? Когда я был в десятом классе, у него нашли рак поджелудочной. Оказалось, что он был последователем „Христианской науки“[1]. Мы и не знали. Он даже отказался от химии. И что же было дальше? Полная ремиссия».
Жестяная дверь сортира брякнула, и немка снова вышла на солнце. На полотенце – мокрое пятно. Митчелл отложил письмо и пополз к двери хижины. Высунув голову наружу, он ощутил, как там жарко. Блекло-голубое небо, словно на отретушированной открытке, океан – тоном темнее. Белый песок – словно отражатель для загара. Митчелл прищурился, чтобы разглядеть ковыляющий перед ним силуэт.
– Как вы?
Немка не отвечала, пока не добралась до полоски тени между хижинами. Она подняла ногу и поморщилась:
– Из меня выливается только коричневая водица.
– Все пройдет. Главное, ничего не ешьте.
– Я уже три дня ничего не ем.
– Надо заморить амеб голодом.
– Ja, но, по-моему, это они хотят уморить меня.
На ней по-прежнему одно только полотенце, но это нагота больного человека. Митчелл ничего не чувствовал. Немка помахала рукой и двинулась дальше.
Когда она ушла, Митчелл заполз обратно в хижину и лег на коврик. Он взял ручку и записал: «Мохандас К. Ганди[2] спал в окружении своих внучатых племянниц, чтобы испытать данный им обет безбрачия – т. е. все святые непременно фанатики».
Он положил голову на шорты и закрыл глаза. Мгновение спустя в ушах снова зазвенело.
Через некоторое время пол хижины затрясся. Под головой Митчелла задрожал бамбук, и он сел. В дверном проеме, словно полная луна, возникло лицо его спутника. На Ларри были бирманская набедренная повязка и индийский шелковый шарф. Его грудь – неожиданно волосатая для такого паренька – была обнажена и обожжена солнцем, как и его лицо. Прошитый серебряными и золотыми нитями шарф драматически ниспадал с плеча. Ларри курил кривую травяную пахитоску и разглядывал Митчелла.
– Какие вести от диареи?
– Я в порядке.
– В порядке?
– Все нормально.
Ларри, казалось, был разочарован. Обожженная до красноты кожа у него на лбу сморщилась. Он протянул Митчеллу стеклянную бутылочку:
– Принес тебе таблеток. От дрисни.
– От таблеток запор. И амебы остаются внутри.
– Мне их дала Гвендолин. Попробуй. Голодание бы уже сработало. Сколько ты уже не ешь? Неделю?
– Если тебя насильно кормят яйцами, это не голодание.
– Одно-единственное яичко, – отмахнулся Ларри.
– До него все было нормально. А теперь у меня болит живот.
– Ты же сказал, что в порядке.
– В порядке, в порядке, – произнес Митчелл, и его желудок вдруг ожил. Митчелл ощутил несколько бульков в нижней части живота, потом что-то зашипело, словно газировка в сифоне, после чего в кишечнике что-то уже знакомо сжалось. Он отвернул голову, закрыл глаза и снова начал глубоко дышать.
Ларри еще несколько раз затянулся и изрек:
– Что-то ты мне не нравишься.
– Ты накурился, – заметил Митчелл, не открывая глаз.
– Надо думать! – ответствовал Ларри. – Кстати, больше нет бумаги.
Он переступил через Митчелла, ворох законченных и незаконченных писем и крохотный Новый Завет и вошел в свою половину хижины, где присел на корточки и принялся рыться в сумке. Его сумка была сшита из мешковины всех цветов радуги. При каждом пересечении таможни ее тщательно обыскивали. На ней словно было написано: «Внутри наркотики!» Ларри нашел свой чилим[3] снял чашечку и постучал об пол, чтобы вытряхнуть пепел.
– Только не на пол!
– Забей. Он же рассеется. – Он потер пепел пальцами. – Видишь? Чистота.
После этого Ларри сунул трубку в рот, чтобы проверить, тянет ли, и покосился на Митчелла.
– Как думаешь, ты уже скоро встанешь на ноги?
– Наверное.
– Мне кажется, нам придется вернуться в Бангкок. Ну, рано или поздно. Я хочу на Бали. А ты?
– А я хочу прийти в себя, – сказал Митчелл.
Ларри кивнул, словно удовлетворившись этим ответом. Он вытащил изо рта трубку и сунул на ее место биди[4] после чего встал, сгорбившись, чтобы не задеть крышу, и уставился на пол.
– Завтра будет почтовая лодка.
– Что?
– Почтовая лодка. Для писем твоих. – Ларри подвигал несколько листов ногой. – Хочешь, я их отправлю? А то тебе придется идти на пляж.
– Я сам. Завтра уже встану.
Ларри приподнял бровь, но промолчал, после чего двинулся к двери.
– Я оставлю таблетки, вдруг передумаешь.
Как только он ушел, Митчелл поднялся. Откладывать дальше было невозможно. Он надел набедренную повязку, вышел на крыльцо, прикрыв глаза, и на ощупь поискал шлепанцы. Рядом был пляж. Шуршали волны. Он спустился по ступенькам и отправился в путь. Он не поднимал взгляд и видел только собственные ступни и песок. Следы немки были еще различимы среди мусора, коробок из-под растворимого кофе и скомканных салфеток из кухонной палатки. В воздухе пахло жареной рыбой. Есть не хотелось.
Туалет представлял собой хижину из гофрированного железа. Перед ним стояла ржавая бочка с водой и пластиковое ведерко. Митчелл наполнил ведерко водой и внес его внутрь. Прежде чем закрыть дверь, он тщательно разместил ступни на платформе по обе стороны дырки. Когда дверь закрылась, помещение погрузилось во мрак. Митчелл снял набедренную повязку и повесил ее на шею. Азиатские туалеты помогали тренировать гибкость: он теперь мог сидеть на корточках по десять минут кряду без малейшего труда. А запах он уже почти не замечал. Он придерживал дверь, чтобы никто не вломился.
Его все еще поражало, сколько же жидкости изливалось из него за раз, но это неизменно приносило облегчение. Он воображал, как амеб уносит этим потоком, как они покидают его тело. Дизентерия заставила его ближе познакомиться с собственными внутренностями: теперь он четко ощущал желудок, толстую кишку, всю эту гладкую мускульную канализацию. Жжение возникало в верхней части кишечника, после чего пробиралось по телу, словно проглоченное змеей яйцо, растягивая, раздвигая ткани. Потом оно с содроганиями опускалось, – и наружу вырывался поток жидкости.
На самом деле, он болел уже тринадцать дней. Сначала он ничего не говорил Ларри. Однажды утром Митчелл проснулся в бангкогском гостевом доме с каким-то странным ощущением в желудке. Поднявшись и выбравшись из-под москитной сетки, он почувствовал себя лучше. Тем же вечером, после ужина, начались какие-то странные подергивания – словно кто-то барабанил пальцами по стенкам желудка. На следующее утро начался понос. Поначалу казалось, что нет ничего страшного. Такое случалось и раньше, в Индии, и через несколько дней закончилось. Сейчас же все было иначе. Диарея усиливалась, и после каждого приема пищи Митчелл по несколько раз бегал в туалет. Вскоре он стал чувствовать усталость. Стоило подняться на ноги, начинала кружиться голова. После еды желудок так и горел. Но Митчелл продолжал путешествие. Ему казалось, что нет ничего серьезного. Из Бангкока они с Ларри отправились на побережье, где сели на паром и уплыли на остров. Судно вошло в узкую бухточку и остановилось на мелководье – к берегу пришлось брести прямо по воде. Спрыгнув с борта, Митчелл вдруг что-то понял. Плеск моря словно бы отражал плеск у него в животе. Как только они устроились, Митчелл начал голодать. Он уже неделю питался одним лишь черным чаем и выходил из хижины только в туалет. Как-то раз по пути он повстречал немку и убедил ее тоже начать голодать. Все остальное время он лежал на матрасе, думал и писал письма домой: «Привет вам из рая! Мы с Ларри сейчас живем на тропическом острове в Сиамском заливе (посмотрите на карте). У нас отдельная хижина прямо на пляже – за эту роскошь пришлось отвалить аж пять долларов за ночь. Этот остров еще не открыли, поэтому тут почти никого нет». Он еще некоторое время описывал остров (по крайней мере, то, что удалось разглядеть между бамбуковыми рейками), после чего перешел к более важным темам: «Восточные религии учат нас, что все материальное – иллюзорно. Это касается абсолютно всего: нашего дома, папиных костюмов, даже маминых подвесов для цветочных горшков. Согласно буддизму, все это майя[5]. Разумеется, то же относится и к телу. Я отправился в это путешествие еще и потому, что наша детройтская система ценностей несколько закостенела. И за это время я кое во что поверил. И кое-что проверил. Например, можно ли управлять организмом с помощью сознания. В Тибете есть монахи, которые научились контролировать физиологию с помощью разума. У них даже есть игра „растопи снежок“. Они кладут снежок на ладонь и медитируют, посылая в нее весь жар тела. Кто первый растопит свой снежок, тот и выиграл».
Иногда он перестает писать и сидит с закрытыми глазами, словно ожидая вдохновения. Точно так же он сидел два месяца назад, когда впервые услышал звон: глаза закрыты, спина выпрямлена, голова поднята, нос настороже. Это произошло в бледно-зеленом гостиничном номере в Махаба-липураме. Митчелл сидел на кровати в позе полулотоса. По-западному одеревеневшее левое колено упрямо торчало в воздухе. Ларри ушел бродить по городу. Митчелл остался один. Он даже не ожидал, что что-то произойдет, – просто сидел, пытался сосредоточиться на медитации, но мысли его метались. Вдруг ему вспомнилась бывшая девушка, Кристин Вудхаус, – какие у нее были чудесные рыжие лобковые волосы. Он больше никогда их не увидит. Потом он подумал о еде. Хорошо бы в этом городишке было что-нибудь помимо идли самбара[6]. Иногда он вдруг понимал, как далеко ушли его мысли, и пытался снова сосредоточиться на дыхании. И вдруг, когда он уже перестал стараться и надеяться на чудо (кстати, именно в такие моменты, по утверждению мистиков, чудеса и случались), у него в ушах что-то зазвенело. Очень тихо. Звук не был новым для него. Он его узнал. Как-то в детстве он был у себя во дворе, и вдруг в ушах так же зазвенело, и он стал спрашивать старших братьев, что это за звон, но они ничего не слышали, хотя и поняли, о чем он. Спустя почти двадцать лет, сидя в бледно-зеленом гостиничном номере, Митчелл снова слышит этот звон. Может, это тот самый космический Ом? Или музыка сфер. После этого случая он все пытался услышать звон снова и через некоторое время наловчился улавливать его повсюду. Он слышал его посреди Саддар-стрит в Калькутте, среди гудков такси и воплей беспризорников, выпрашивающих бакшиш. Он слышал его в поезде, едущем в Чиангмай. Это был звук вселенской энергии, всех атомов, что сочетались друг с другом, чтобы раскрасить все, что он видит. Он существовал всегда. Надо было лишь проснуться и услышать его.
Он написал домой о случившемся – сначала осторожно, потом со все возрастающей уверенностью: «Вселенский поток энергии поддается осмыслению. Все мы суть радиоприемники с тончайшей настройкой. Надо лишь сдуть пыль с транзисторов».
Он писал родителям несколько раз в неделю. Кроме того, он писал братьям и друзьям. Он записывал все, что приходило в голову. Его не волновало, что подумают читатели. Ему вдруг стало нужно анализировать свои озарения, рассказывать, что он видит и чувствует.
«Дорогие мама и папа! Сегодня днем я видел, как кремируют женщину. Мужчина от женщины в этой ситуации отличается цветом савана. У нее был красный. Он сгорел первым. Потом настала очередь ее кожи. Пока я наблюдал, ее внутренности заполнились горячим газом, словно воздушный шар. Они все увеличивались и увеличивались, а потом наконец лопнули, и вся жидкость вытекла. Я хотел найти открытку с подходящим сюжетом, но не нашел».
Или еще: «Дорогой Пити! Тебе никогда не приходило в голову, что в мире существует что-то еще, помимо ватных палочек для ушей и постыдной паховой экземы? Что это еще не вся мегила[7]? Мне иногда так кажется. Блейк верил, что с ним говорят ангелы. Кто знает… Его стихи это подтверждают. Впрочем, по ночам, когда луна бледнеет, как у нее заведено, клянусь, я иногда ощущаю, как мою трехдневную щетину задевают чьи-то крылышки».
Митчелл всего лишь раз позвонил домой, из Калькутты. Связь была неважная. Они с родителями впервые испытали на себе трансатлантические помехи. Отец взял трубку.
Митчелл сказал «алло» и ничего не слышал, пока в трубке не отозвался эхом последний звук «о». Тогда помехи вдруг сменили тональность, и раздался голос отца. Пропутешествовав половину земного шара, он утратил часть присущей ему силы.
– Значит так, мы с матерью требуем, чтобы ты сел на самолет и немедленно вернулся домой.
– Я только приехал в Индию.
– Тебя уже полгода нет. Хватит. Нам плевать, сколько это стоит. Возьми кредитку, которую мы тебе дали, и купи билет домой.
– Я вернусь месяца через два.
– Да что ты вообще там забыл? – возопил отец, пытаясь пробиться через спутник. – В Ганге плавают трупы! Ты чем-нибудь заболеешь.
– Не заболею. У меня все хорошо.
– А твоей матери плохо. Ты ее в могилу сведешь.
– Пап, сейчас началась лучшая часть путешествия. В Европе здорово, конечно, но это все равно Запад.
– А чем плох Запад?
– Ничем. Просто очень здорово выйти за пределы собственной культуры.
– Поговори с матерью, – сказал отец.
В трубке зазвучал голос матери. Она чуть ли не плакала:
– Митчелл, как ты?
– Все нормально.
– Мы так беспокоимся!
– Не переживайте. Все нормально.
– От тебя приходят странные письма. Что там с тобой происходит?
Митчелл задумался, не рассказать ли ей. Но об этом невозможно рассказать. Нельзя же просто взять и объявить, что познал истину. Это мало кому понравится.
– Ты что, стал каким-то харекришной?
– Мам, никем я пока не стал! Разве что голову побрил.
– Голову побрил!
– На самом деле нет.
На самом деле он действительно побрил голову.
Потом трубку снова взял отец. Теперь голос его звучал грубо и сухо – Митчелл его таким не знал.
– Ладно, хватит придуриваться. Быстро возвращайся. Полгода – вполне достаточный срок. Мы дали тебе кредитку на случай необходимости, так что теперь…
И ровно в этот момент – божественное вмешательство – связь оборвалась. Митчелл стоял с трубкой в руках, а за ним толпилась очередь бенгальцев. Он решил пропустить их, повесил трубку и подумал, что больше звонить не стоит. Родителям не понять, что с ним происходит и чему его научило это необыкновенное место. Письма тоже надо будет несколько пригасить. Описывать пейзажи и все.
Разумеется, из этого ничего не вышло. Не прошло и пяти дней, как он снова начал писать домой – на этот раз о нетленном теле святого Франциска Ксаверия и о том, как его четыреста лет выставляли на улицах Гоа, пока чрезмерно пылкий пилигрим не откусил ему палец. Митчелл был не в силах сдержаться. Все, что он видел вокруг – бенгальские фикусы, разукрашенные коровы, – заставляло схватиться за перо. Описывая увиденное, он тут же рассказывал, какое действие это произвело на него, а от красок видимого мира тут же переходил к сумраку и звону мира невидимого. Заболев, он тут же сообщил об этом домой: «Дорогие мама и папа! Кажется, я подхватил амебную дизентерию». Далее он описал симптомы и средства, которыми лечились другие путешественники. «Тут все этим рано или поздно заболевают. Буду голодать и медитировать, пока не полегчает. Немного похудел, но не сильно. Как только мне станет лучше, мы с Ларри поедем на Бали».
В одном он был прав – дизентерией действительно рано или поздно заболевали все. Помимо его соседки, на острове маялись животом еще два путешественника. Одного из них, француза, подкосил салат, и он укрылся в своей хижине, где стонал и звал на помощь, словно умирающий император. Но не далее как вчера Митчелл видел его, совершенно исцелившегося, – он выходил из мелкой бухты, а на ружье для подводной охоты у него красовалась рыба-попугай. Другой жертвой дизентерии стала шведка. В последний раз Митчелл видел ее бледной и изможденной, когда ту несли на паром. Тайские лодочники погрузили ее на борт вместе с пустыми пластиковыми бутылками и канистрами из-под бензина. Они уже привыкли к истощенным туристам. Погрузив шведку, они тут же принялись улыбаться и махать. Затем судно двинулось задним ходом, унося женщину в больницу на материке.
Митчелл знал, что если понадобится, его эвакуируют. Впрочем, он не думал, что до этого дойдет. Избавившись от яйца, он почувствовал себя лучше. Боль в животе утихла. Ларри пять-шесть раз в день приносил ему черный чай. Митчелл решил не давать амебам никакой пищи – даже капельки молока. Вопреки ожиданиям его умственная энергия ничуть не угасла, а напротив, возросла.
«Невероятно, сколько сил уходит на пищеварение. Голодание могло бы показаться странной епитимьей, но на самом деле это крайне здоровый и вполне научный метод приглушить, выключить свое тело. А когда выключается тело, сознание, наоборот, включается. На санскрите это называется „мокса“ – полное освобождение от тела».
Самое странное, что здесь, в хижине, будучи совершенно определенно больным, Митчелл тем не менее испытывал неведомые ранее покой, безмятежность и ясность ума. Он ощущал себя в безопасности, словно за ним каким-то неведомым образом присматривали свыше. Он чувствовал счастье. У немки все было по-другому. Она выглядела все хуже и хуже. При встречах она уже почти не говорила, а кожа ее казалась еще более бледной и пятнистой. Через некоторое время Митчелл перестал советовать ей продолжать голодание. Теперь он все время лежал на спине, прикрыв глаза плавками, и более не обращал внимания на ее путешествия в сортир. Вместо этого он слушал звуки острова: как купаются и голосят люди на пляже, как кто-то в одной из соседних хижин учится играть на деревянной флейте. Плескались волны, иногда на землю валился высохший пальмовый лист или кокос. По ночам в джунглях выли дикие собаки. Выходя в сортир, Митчелл, слышал, как они бегают вокруг, приближаются и вынюхивают через щели в стенах его и извергающийся из него поток. Обычно люди колотили по стенам фонариком, чтобы отпугнуть собак. Митчелл даже не брал его с собой. Он стоял и слушал, как собаки собираются в зарослях. Они раздвигали стебли своими острыми мордами, и их красные глаза блестели в лунном свете. Митчелл спокойно наблюдал за ними сверху вниз. Раскинув руки, он предлагал им себя, но они не нападали, и он отворачивался и уходил в хижину. Как-то вечером, возвращаясь в жилище, он услышал чей-то голос с австралийским акцентом:
– А вот и наш больной!
Он поднял взгляд и увидел на крыльце Ларри с какой-то пожилой женщиной. Ларри скатывал косячок на путеводителе по Азии. Женщина курила сигарету и в упор разглядывала Митчелла.
– Привет, Митчелл! Меня зовут Гвендолин, – представилась она. – Слышала, ты приболел.
– Немножко.
– Ларри сказал, что ты не пьешь таблетки, которые я передала.
Митчелл ответил не сразу. Он целый день ни с кем не говорил. Или уже несколько дней. Надо было вспомнить, как это делается. От одиночества он стал чувствительным к грубости окружающих. Громкий пропитой баритон Гвендолин, к примеру, словно скреб ему по груди. На голове у нее была какая-то расписная повязка, напоминавшая бинты. Куча туземных украшений – ракушки всякие, косточки, болтались на шее и запястьях. Из всего этого торчало ее опаленное солнцем лицо, в центре которого мигал красный уголек сигареты. От Ларри в лунном свете осталось лишь белокурое гало.
– У меня у самой был жуткий понос, – продолжала Гвендолин. – Просто-таки чудовищный. В Ириан-Джае. Эти таблетки меня просто спасли.
Ларри в последний раз лизнул косяк и прикурил. Втянув воздух, он поднял взгляд на Митчелла и сипло сказал:
– Мы пришли, чтобы заставить тебя выпить таблетки.
– Вот именно. Голодание это хорошо, но через… Сколько ты там уже не ешь?
– Почти две недели.
– Через две недели лучше остановиться.
Вид у нее был строгий, но тут Ларри передал ей косяк, и Гвендолин сказала: «Чудно!» Она затянулась, улыбнулась им, удерживая дым в груди, а потом разразилась кашлем и не умолкала с полминуты. Наконец она глотнула еще пива, держась рукой за грудь, и снова затянулась.
Митчелл тем временем разглядывал полосу лунного света в океане.
– Вы развелись, – произнес он вдруг. – Потому и приехали сюда.
Гвендолин так и застыла:
– Ну почти что. Мы разошлись. Это так бросается в глаза?
– Вы парикмахерша, – сообщил Митчелл, не отрывая взгляда от воды.
– Ларри, что ж ты не сказал, что у тебя друг ясновидящий.
– Да это я ему рассказал, видимо, так ведь?
Митчелл промолчал.
– Ну что ж, господин Нострадамус, у меня для вас тоже есть предсказание. Если ты немедленно не выпьешь таблетку, скоро паром увезет отсюда одного очень больного мальчика. Ничего хорошего, так?
Митчелл впервые взглянул Гвендолин прямо в глаза. Его поразила ирония момента – она считала больным его. Он же видел, что все наоборот. Она уже прикуривала следующую сигарету. Сорок три года, в каждом ухе по куску кораллового рифа, накуривается на островке близ Таиланда. От нее веяло несчастьем. Тут не требовалось дара ясновидения. Все было очевидно.
Она отвернулась:
– Ларри, где там мои таблетки?
– В хижине.
– Принесешь?
Ларри включил фонарик и нырнул в дверной проем. По полу пробежал луч света.
– Ты так и не отправил письма.
– Забыл. Как только я заканчиваю, мне кажется, что они уже отправлены.
– Там уже попахивает, – сообщил Ларри и передал пузырек Гвендолин.
– Давай-ка, открывай рот. – Она протянула ему таблетку.
– Не надо, я в порядке.
– Выпей лекарство, – сказала Гвендолин.
– Давай, Митч, ты правда херово выглядишь. Выпей уже.
Наступила тишина. Они молча смотрели на него. Митчеллу хотелось объясниться, но было очевидно: ничто не убедит их в его правоте. Любые слова казались недостаточными. Любые слова словно обесценивали происходящее с ним. Поэтому он решил пойти по пути наименьшего сопротивления и открыл рот.
– Языку тебя ярко-желтый, – сказала Гвендолин. – Я такой цвет только у канареек видела. Давай! Запей пивом. – Она протянула ему бутылку. – Браво! Принимай по четыре раза в день в течение недели. Ларри, ты отвечаешь за то, чтобы он пил таблетки.
– Пойду посплю, пожалуй, – произнес Митчелл.
– Ладно, – согласилась Гвендолин. – Вечеринка переезжает в мою хижину.
Когда они ушли, Митчелл забрался в дом и прилег, после чего выплюнул пилюлю, которую держал под языком. Она стукнулась о бамбуковую половицу и провалилась в щель. Я прямо как Джек Николсон в «Пролетая над гнездом кукушки», подумал он с улыбкой. Записать эту мысль уже не хватило сил.
Дни, проведенные под наброшенными на голову плавками, казались куда совершеннее обычных и уходили более бесследно. Он спал урывками, когда хотел, и уже не обращал внимания на время. Его достигали островные ритмы: сначала сонные голоса тех, кто завтракал банановыми блинчиками и кофе, потом крики на пляже, а по вечерам – дым гриля и скрежет лопатки, которой царапала по своему воку китайская повариха. Открывались пивные бутылки, кухонная палатка заполнялась голосами, затем в соседних хижинах начинались вечеринки. Потом возвращался Ларри – от него пахло пивом, дымом и солнцезащитным кремом. Митчелл притворялся, что спит. Иногда он бодрствовал всю ночь, пока Ларри спал. Спиной он чувствовал пол, и весь остров, и течение океана. Луна росла и заливала светом хижину. Митчелл поднимался и брел к серебряной кромке океана. Он заходил в воду и плыл на спине, разглядывая луну и звезды. Залив был словно теплая ванна, в которой плавал остров. Он закрывал глаза и сосредоточивался на дыхании. Через некоторое время всякая граница между внутренним и внешним стиралась. Он не дышал – им дышали. Это состояние длилось всего несколько секунд, потом уходило, а потом накрывало снова.
Кожа его стала соленой на вкус. Соленый ветер проникал в хижину сквозь бамбуковые рейки или накрывал его, пока он шел в сортир. Присев над ямой, он облизывал свои соленые плечи. Это была его единственная пища. Иногда его тянуло заглянуть в кухонную палатку и заказать там целую рыбину или стопку блинчиков. Но подобные приступы голода случались редко, а после них приходило еще более глубокое спокойствие. Из него все также извергались потоки, но уже не столь бурно – жидкость скорее сочилась, как из раны. Он открывал бочку, набирал ковшик воды и подмывался левой рукой. Несколько раз он так и засыпал, сидя на корточках над дырой, и просыпался только когда кто-то начинал барабанить в дверь.
Он продолжал писать письма: «Я когда-нибудь рассказывал тебе о больных проказой матери с сыном в Бангалоре? Я шел по улице, а они сидели на обочине. К тому моменту я уже привык к прокаженным, но не таким. От них уже почти ничего не осталось. На месте пальцев не было даже обрубков. Кисти выглядели как шары на концах рук. А лица словно стекали с голов, как тающие свечи. Левый глаз матери был затянут серой пленкой и смотрел в небо. Но когда я дал ей пятьдесят пайсов, она посмотрела на меня зрячим глазом, и он светился мудростью. Она сложила свои культи в знак благодарности. Когда моя монета упала в чашку, ее слепой сын сказал: „Спасибо!" Кажется, он улыбнулся – сложно было понять по изуродованному лицу. И тут я вдруг понял, что они – люди. Не нищие, не горемыки, а просто мать с ребенком. Я увидел их такими, какими они были до проказы, когда просто гуляли по улицам. И тогда меня постигло еще одно озарение. Я вдруг почувствовал, что мальчик сам не свой до мангового ласси. В тот момент я счел это настоящим откровением. Казалось, более глубокого познания и желать было нельзя. Когда монета упала в стакан и мальчик поблагодарил меня, я понял – он сейчас представляет себе холодный манговый ласси».
Митчелл отложил ручку, погрузившись в воспоминания. Потом вышел из хижины, чтобы полюбоваться закатом, и уселся на крыльце, скрестив ноги. Левое колено теперь отлично гнулось. Стоило закрыть глаза, звон начинался снова – еще громче, ближе, упоительнее.
С такого расстояния многое казалось забавным. Как он тревожился по поводу будущей специализации. Как отказывался выходить из комнаты, когда лицо обсыпало прыщами. Даже горькое отчаяние, терзавшее его, когда он искал Кристин Вудхаус в общежитии, а она всю ночь не возвращалась, теперь казалось смешным. Жизнь так легко потратить зря. Он и тратил, пока в один прекрасный день не привился от тифа и холеры, погрузился вместе с Ларри в самолет и сбежал. Только теперь, оставшись в одиночестве, Митчелл начал узнавать себя. Словно тряска по ухабам разболтала его старую душу, и однажды та просто рассеялась в индийском воздухе. Ему не хотелось возвращаться в мир колледжей и сигарет с ароматизаторами. Он лежал на спине, ожидая, что к нему придет просветление – или же что ничего не произойдет. Разницы не было.
Тем временем немка из соседней хижины снова куда-то собралась. Митчелл услышал, как она чем-то шуршит. Вместо того чтобы отправиться в сортир, она забралась в хижину Митчелла. Он убрал с лица плавки.
– Я еду в больницу. На лодке.
– Я так и подумал.
– Мне сделают укол, я переночую там и вернусь. – Она помолчала. – Хотите поехать со мной? Вам сделают укол.
– Нет, спасибо.
– Почему?
– Потому что мне уже лучше. Гораздо лучше.
– Покажитесь врачу. На всякий случай. Поедем вместе.
– Я в порядке.
Он встал и улыбнулся, чтобы подтвердить свои слова. Со стороны гавани раздался гудок.
Митчелл проводил ее на крыльцо.
– До встречи, – сказал он.
Немка прошлепала по мелководью и забралась на борт. Стоя на палубе, она не махала, но глядела в его сторону. Митчелл наблюдал за тем, как уменьшается ее фигурка. Когда она наконец исчезла, он вдруг понял, что говорил правду: ему действительно было лучше.
Желудок утих. Он положил руку на живот, словно проверяя, что там внутри. Он казался совершенно пустым. Митчелла больше не мучило головокружение. Надо было написать новое письмо, и он принялся за него при свете заката: «В этот ноябрьский, кажется, день мне бы хотелось объявить, что пищеварительная система Митчелла Б. Каннингема была исцелена исключительно духовными методами. Отдельно мне хотелось бы поблагодарить Мэри Бейкер Эдди, которая больше всех поддерживала меня. Следующая моя твердая какашка будет посвящена ей».
Он все еще писал, когда в хижину вошел Ларри.
– Ого. Не спишь?
– Мне лучше.
– Точно?
– А еще, не поверишь…
– Что?
Митчелл отложил ручку и широко улыбнулся Ларри:
– Я ужасно проголодался.
К этому моменту все обитатели острова уже слышали, что Митчелл постится, словно Ганди. Когда он вошел в кухонную палатку, все зааплодировали, а некоторые женщины заохали – так он похудел. Поддавшись материнскому инстинкту, они усадили его и принялись щупать лоб – нет ли температуры. Палатка была заставлена пластиковыми столами. На прилавках лежали ананасы, арбузы, бобы, лук, картошка и салат. На разделочной колоде лежала длинная синяя рыба. Вдоль одной из стен выстроились термосы с чаем и горячей водой, а дальше, за перегородкой, стояла колыбелька с ребенком китайской поварихи. Митчелл разглядывал новые лица. Земля под столом оказалась неожиданно прохладной.
Тут же посыпались медицинские советы. Большинство путешествующих по Азии голодали пару дней, а потом возвращались к прежнему режиму. Но Митчелл так долго ничего не ел, что один из американцев, некогда учившийся на врача, сказал, что ему опасно сразу набрасываться на еду. Он посоветовал начать с жидкой пищи. Услышав это, китаянка фыркнула и вручила Митчеллу сибаса, тарелку жареного риса и омлет с луком. Почти все настаивали на немедленном чревоугодии. Митчелл выбрал компромиссное решение. Для начала он выпил стакан сока папайи и, выждав несколько минут, медленно принялся за жареный рис. Покончив с рисом и поняв, что по-прежнему хорошо себя чувствует, перешел с сибасу. Каждые несколько кусочков бывший будущий доктор говорил: «Все, хватит!», но остальные принимались наперебой твердить, что Митчелл похож на скелет и ему надо поесть.
Приятно было снова находиться среди людей. Митчелл оказался вовсе не таким затворником, каким воображал себя. Ему не хватало общения. Все девушки нарядились в саронги, успели сильно загореть и говорили с очаровательным акцентом. Они то и дело трогали Митчелла – щупали его ребра или измеряли запястья пальцами.
– Я бы жизнь отдала за такие скулы, – сообщила одна из девушек, после чего заставила Митчелла съесть еще жареных бананов.
Наступила ночь. Кто-то объявил, что в хижине номер шесть начинается вечеринка. Не успел Митчелл понять, что происходит, как две датчанки уже повели его куда-то по пляжу. Пять месяцев в году они работали официантками в Амстердаме, а все остальное время путешествовали. Судя по всему, Митчелл выглядел точь-в-точь как Христос с полотен ван Хонтхорста в Рейксмузеуме[8]. Это сходство одновременно восхищало и смешило датчанок. Митчелл думал, не совершил ли он ошибку, столько просидев в своей хижине. Оказалось, на острове бурлила своя, туземная жизнь. Неудивительно, что Ларри так хорошо проводил время. Все были такими дружелюбными. Причем без какого-то сексуального подтекста – просто тепло и близость. У одной из датчанок на спине была ужасная сыпь. Она повернулась и продемонстрировала ему.
Луна восходила над бухтой, и на поверхность воды ложилась длинная лента света. Она освещала стволы пальм и заставляла песок бледно мерцать. Все вокруг приобрело синеватый оттенок, кроме хижин, которые светились оранжевым. Митчелл шагал вслед за Ларри и чувствовал, как воздух омывает его лицо и течет между ними. Внутри было легко, словно сердце покоилось в гелиевом воздушном шарике. Кроме этого пляжа нечего и желать.
– Эй, Ларри! – окликнул он.
– Что?
– Мы уже везде побывали.
– Не везде. Следующая остановка – Бали.
– Потом домой. После Бали – домой. Пока мои родители с ума не сошли.
Он остановился, и датчанки остановились вместе с ним. Ему показалось, что он услышал звон, – громче прежнего, – но потом понял, что это всего лишь музыка в хижине номер шесть. Перед входом на песке полукругом сидели люди. Они подвинулись, чтобы освободить место для Митчелла и вновь пришедших.
– Ну что, доктор, можно ему пива?
– Очень смешно. Одно, не больше.
Пиво, переходя из рук в руки, постепенно попало к Митчеллу. Затем его соседка справа положила руку ему на колено. Это оказалась Гвендолин. Он и не узнал ее в темноте. Она с силой затянулась, после чего отвернулась – как бы для того, чтобы выдохнуть, но и с неким намеком на обиду.
– Ты меня так и не поблагодарил, – сказала она.
– За что?
– За таблетки.
– Точно. Спасибо за заботу.
Она улыбнулась, а потом разразилась кашлем. Это был кашель курильщика – глубокий, утробный. Она пыталась остановиться, наклонялась и зажимала рот, но кашляла все сильнее, словно ее легкие рвались на куски. Когда кашель наконец стих, Гвендолин утерла глаза.
– Я умираю, – сказала она и огляделась. Все вокруг болтали и смеялись. – Всем плевать.
Все это время Митчелл пристально рассматривал Гвендолин. Ему было ясно – если у нее еще нет рака, то скоро будет.
– Хочешь знать, как я понял, что ты недавно с кем-то рассталась? – спросил он.
– Почему бы и нет.
– Ты словно светишься. Женщины, которые разводятся или расстаются с кем-то, начинают светиться. Я и раньше такое замечал. Вы словно молодеете.
– Правда?
– Именно так.
Гвендолин улыбнулась:
– Мне стало легче.
Митчелл протянул бутылку с пивом, и они чокнулись.
– Твое здоровье!
– Твое здоровье!
Он глотнул пива. Вкуснее он в жизни не пробовал. Вдруг его охватила эйфория. Они сидели не у костра, но ощущалось происходящее именно так – как будто в центре круга был невидимый источник света и тепла. Митчелл, прищурившись, разглядывал сидящих рядом, а потом отвернулся к бухте. Он думал о своем путешествии, пытаясь вспомнить все, что они с Ларри повидали – вонючие гостевые дома, барочные городки, горные деревушки. Не то чтобы он вспоминал какое-то конкретное место – они все плясали у него в сознании, словно в калейдоскопе. Он чувствовал покой и полное удовлетворение. В какой-то момент он вновь услышал звон и сосредоточился на нем, поэтому пропустил первый укол боли в кишечнике. Затем откуда-то издалека пришел второй и словно пронзил его, но так деликатно, будто и не на самом деле. Мгновение спустя боль снова дала о себе знать, уже сильнее. Он ощутил, как внутри него открывается клапан и ручеек раскаленной жидкости, похожей на кислоту, начинает прожигать путь к выходу. Он не встревожился. Ему было слишком хорошо. Он просто встал и сказал, что сходит ненадолго к воде.
– Я с тобой, – произнес Ларри.
Луна поднялась еще выше, и ее свет, отражаясь в воде, заливал всю бухту. Музыка осталась позади, и теперь Митчелл слышал, как в джунглях лают дикие собаки. Он приблизился к кромке воды и, не останавливаясь, сбросил лунги[9] и зашел в океан.
– Хочешь окунуться?
Митчелл не ответил.
– Как водичка?
– Холодная.
Это не соответствовало истине – вода была теплая. Просто Митчеллу хотелось побыть в ней одному. Он брел по дну, пока не погрузился по пояс, потом умыл лицо и поплыл.
Заложило уши. Он слышал шум воды, потом морскую тишину, а затем – звон, яснее, чем раньше. Это был даже не звон, а какой-то сигнал, проходящий через все тело.
Он поднял голову и позвал:
– Ларри?
– Что?
– Спасибо, что заботишься обо мне.
– Да не за что.
Оказавшись в воде, он снова почувствовал себя лучше. Он ощущал, как прибой утягивает его из бухты, чтобы воссоединиться с ночным ветром и луной. Из него извергнулся горячий поток, но он отплыл подальше и продолжал качаться на воде и глядеть в небо. Ручки и бумаги не было, поэтому он принялся тихо диктовать письмо: «Дорогие мама и папа! Сама земля и есть лучшее доказательство. Ее ритмы, ее постоянное обновление, движение луны, приливы и отливы – все это и есть урок для самого тугодумного ученика: человека. Земля повторяет свои наставления, пока мы наконец их не усвоим».
– Охрененно тут, – сказал Ларри с берега. – Настоящий рай.
Звон усилился. Прошла минута – или несколько минут. Наконец Ларри произнес:
– Митч, я обратно, ладно?
Голос его звучал откуда-то издалека.
Митчелл раскинул руки и немного всплыл. Он не понимал, ушел Ларри или нет. Он глядел на луну. Вдруг ему открылось то, чего он раньше не замечал, – он стал видеть отдельные волны лунного света. Его сознание замедлилось настолько, что стало воспринимать их. Лунный свет ненадолго ускорялся и вспыхивал, а затем замедлял ход и тускнел. Он пульсировал. Как будто луна тоже звенела. Он лежал в теплой воде, покачиваясь, и следил за тем, как лунный свет и звон синхронизируются, как они одновременно усиливаются и затухают. Через некоторое время он понял, что с ним происходит то же самое. Его кровь пульсировала вместе с лунным светом, вместе со звоном. Где-то вдали из него что-то извергалось. Он чувствовал, как пусто становится внутри. Это ощущение больше не было раздражающим или болезненным – теперь это был ровный поток. В следующую секунду Митчелл ощутил, словно падает куда-то в воде и совершенно не чувствует собственного тела. Уже не он смотрел на луну или слушал звон. И все же понимал, что свет и звук никуда не делись. На мгновение подумалось, что надо послать весточку родителям, чтобы они не волновались. Он нашел рай за пределами острова. Он пытался собраться с силами, чтобы продиктовать последнее письмо, но вскоре понял, что его уже совсем не осталось, и некому взять ручку и написать тем, кого он так любил, кто все равно не смог бы его понять.
1996
Спринцовка
Рецепт пришел по почте:
Смешать семя трех мужчин.
Энергично потрясти.
Наполнить смесью кухонную спринцовку.
Лечь на спину.
Ввести в себя наконечник.
Выдавить.
Ингредиенты:
1 доля Стю Уодсворта;
1 доля Джима Фрисона;
1 доля Уолли Марса.
Обратного адреса не было, но Томасина знала, что письмо отправила Диана, ее лучшая подруга и, с недавних пор, специалистка по проблемам фертильности. После того, как Томасина в последний раз рассталась с мужчиной, Диана настаивала на том, что пора переходить к плану Б. Некоторое время хорош был и план А, подразумевавший любовь и свадьбу. Они разрабатывали план А целых восемь лет. Но, согласно последним исследованиям, план А оказался слишком идеалистичным, поэтому настало время присмотреться к плану Б.
План Б был куда более коварным, сложносочиненным, менее романтичным и оптимистичным, но при этом требовал большей отваги. Согласно этому плану им следовало найти мужчину с хорошими зубами, нормальной фигурой и мозгами, который не страдал от каких-либо серьезных заболеваний и согласился бы немножко пофантазировать (не обязательно о Томасине) и выдавить небольшой плевок жидкости, необходимой для получения ребенка. Словно пара генералов Шварцкопфов, подруги изучали поле битвы, в последнее время претерпевшее серьезные изменения: потери в артиллерийских войсках (им обеим недавно исполнилось сорок), перевод военных действий в партизанский режим (мужчины теперь даже не выходили в открытый бой) и полное уничтожение кодекса чести. Последний мужчина, от которого забеременела Томасина – не гламурный инвестиционный банкир, а предыдущий, инструктор по технике Александера[10], – даже не потрудился предложить ей руку и сердце. Его кодекс чести предполагал, что в этом случае следует разделить пополам стоимость аборта. К чему отрицать: лучшие воины уже покинули поле битвы и присоединились к мирным брачным войскам. Остался только всякий сброд – неудачники, бабники, те, что склонны немедленно покидать место преступления, и те, что оставляют за собой выжженную землю. Томасине пришлось отказаться от идеи встретить кого-нибудь, с кем ей захочется провести жизнь. Вместо этого надо было родить кого-нибудь, кто вынужден будет провести свою жизнь с ней. Но только получив рецепт, Томасина поняла, что отчаялась настолько, чтобы попробовать, – поняла это прежде чем вдоволь посмеяться. Дело в том, что она тут же поймала себя на мысли – ну ладно Стю Уодсворт, но Уолли Марс?
Томасине уже исполнилось сорок (буду твердить это, словно тикающие часики). У нее было практически все, чего она хотела. Прекрасная работа – помощник режиссера в «Вечерних новостях с Дэном Разером» канала CBS. Роскошная солидная квартира на Хадсон-стрит. Приятная внешность, почти не тронутая годами. Грудь не то чтобы не пострадала от времени, но пока удерживала свои позиции. И новые зубы. У нее были новые сверкающие зубы. Поначалу она посвистывала во время разговора, но потом привыкла. У нее были бицепсы. На пенсионном счету лежало сто семьдесят пять тысяч долларов. Но у нее не было ребенка. С отсутствием мужа еще можно было смириться. В некотором смысле так было даже лучше. Но она хотела ребенка.
После тридцати пяти, говорилось в журнале, у женщин начинаются проблемы с зачатием. Томасина просто отказывалась в это верить. Едва она привела в порядок голову, стало подводить тело. Природе плевать на ее уровень зрелости. Природа была бы рада, если бы Томасина вышла замуж за университетского дружка. Вообще-то, если говорить именно о размножении, природа предпочла бы, чтобы она вышла замуж за школьного дружка. Путешествуя по жизни, Томасина не замечала, что каждый месяц яйцеклетки покидают ее и уходят в небытие. Пока она получала степень по журналистике, ее яичники перестали вырабатывать эстроген. А пока она спала со всеми, кого хотела, фаллопиевы трубы суживались и засорялись. Все это происходило до тридцати лет. Американская расширенная версия детства. У тебя есть образование, есть работа, и можно наконец немного повеселиться. Как-то раз Томасина пять раз кончила во время секса с таксистом Игнасио Веранесом – прямо в его такси, на Ганзевоорт-стрит. У него был по-европейски кривой член, и от него пахло машинным маслом. Она бы не повторила этот опыт, но была рада, что это случилось. Чтобы потом ни о чем не жалеть. Беда в том, что в попытке избегать одних сожалений обретаешь другие. Ей было лишь двадцать с небольшим. Она просто развлекалась. Но потом двадцать с небольшим превратились в тридцать с небольшим, а несколько неудачных отношений спустя вам уже тридцать пять, и как-то раз в «Мирабелле» вы читаете, что после тридцати пяти у женщин начинаются проблемы с зачатием, а доля выкидышей и патологий растет.
Она росла уже шестой год. Томасине было сорок лет, один месяц и четырнадцать дней. Она паниковала, но не постоянно. Иногда она спокойно принимала сложившуюся ситуацию.
Она представляла себе своих неродившихся детей. Они прижимались личиками к окнам унылого школьного автобуса – огромные глаза, мокрые ресницы.
– Мы понимаем, – говорили они. – Момент был неподходящий. Мы все понимаем. Правда.
Автобус потрясся прочь, и она увидела водителя. Он положил костлявую руку на рычаг переключения передач, повернулся к Томасине и ощерился в улыбке.
В журнале также говорилось, что у женщин постоянно случаются выкидыши – они просто не замечают. Крохотные бластулы скользили по стенкам матки и, не найдя никакой поддержки, улетали прочь по трубам. Может быть, они еще несколько секунд жили в унитазе, подобно золотым рыбкам. Неизвестно. Но три аборта, один зарегистрированный выкидыш и бог знает сколько незамеченных – и автобус То-масины заполнился. Лежа без сна, она видела, как он медленно трогается в путь, и слышала, как шумят дети – этот детский крик, когда невозможно понять, смеются они или плачут.
Всем известно, что мужчины объективируют женщин. Но никакие наши разглядывания ног и грудей не сравнятся с хладнокровными расчетами охотниц за спермой. Томасина сама поначалу несколько опешила, но вскоре уже сама не могла ничего с собой поделать: приняв решение, она начала видеть в мужчинах исключительно ходячих сперматозоидов. На вечеринках, попивая бароло[11] (скоро от него предстояло отказаться, поэтому пока что Томасина пила как сапожник), она оглядывала экземпляры, пока они выходили из кухни, болтались в холле или разглагольствовали, сидя в кресле. Порой у нее туманились глаза, и ей казалось, что она может определить качество генетического материала любого из присутствующих. Одни ауры так и светились любовью к ближним, другие представляли собой соблазнительные лохмотья, намекавшие на необузданность, а некоторые мерцали и то и дело гасли, словно им не хватало электричества. Томасина научилась оценивать состояние здоровья по запаху или фигуре. Как-то раз, чтобы повеселить Диану, она приказала всем мужчинам высунуть языки. Те повиновались безо всяких вопросов. Мужчины всегда слушаются женщин. Им нравится, когда их объективируют. Они думали, что их разглядывают на предмет гибкости и будущих перспектив орального секса.
«Откройте рот и скажите „А“», – командовала Томасина весь вечер. И они послушно развертывали языки. Некоторые были с желтыми пятнами или воспаленными сосочками, другие цветом напоминали протухшую говядину. Некоторые ловко извивались, ползали вверх-вниз или же сворачивались, демонстрируя свисающие с обратной стороны нити – словно доспехи глубоководной рыбы. Нашлись, впрочем, два-три идеальных – опаловых, точно устрицы, соблазнительно пухленьких. Это были языки женатых мужчин, которые уже щедро жертвовали свою сперму счастливицам, что придавливали диванные подушки. Эти жены и матери теперь жаловались на другое – на недосып и рухнувшие карьеры. Томасина могла только мечтать о подобных жалобах.
Теперь мне следует представиться. Я – Уолли Марс. Старый друг Томасины. Вернее, бывший бойфренд. Весной 1986 года мы были вместе в течение трех месяцев и семи дней. В то время большинство ее друзей удивлялось тому, что она со мной встречается. Они говорили то же, что сказала она, увидев мое имя в рецепте: «Уолли Марс?» Меня считали слишком маленьким (во мне всего пять футов четыре дюйма) и недостаточно спортивным. Томасина, впрочем, меня любила. Некоторое время прямо-таки без ума была. Какие-то темные, потаенные уголки наших душ соединились друг с другом. Она часто садилась напротив и, барабаня пальцами по столу, спрашивала – ну, что дальше? Ей нравилось меня слушать.
Впрочем, это не прошло. Каждые несколько недель она звонила мне и звала пообедать. И я неизменно соглашался. В тот раз мы договорились встретиться в пятницу. Когда я пришел в ресторан, Томасина уже ждала меня. Несколько мгновений я стоял у стойки администратора, издалека разглядывал ее и собирался с силами. Она сидела, откинувшись на спинку стола, и яростно затягивалась первой из трех сигарет, которые позволяла себе за обедом. На полочке над ее головой красовался чудовищных размеров букет. Вы заметили? Цветы теперь тоже исповедуют мультикультурализм. В этой вазе не было каких-то там роз, тюльпанов или нарциссов. Там буйствовала флора джунглей: амазонские орхидеи, суматранские мухоловки. Одна из мухоловок подрагивала челюстями, привлеченная ароматом духов Томасины. Волосы Томасины ниспадали по обнаженным плечам. Выше талии она была голая – а, нет, на ней все-таки был топ, облегающий, телесного цвета. Томасина редко одевается в офисном стиле – если только не считать офисом, например, бордель. Если ей есть что показать, она этого не скроет. (По утрам всю эту красоту наблюдал Дэн Разер, который придумал для Томасины кучу прозвищ – все они так или иначе обыгрывали слово «табаско».) Однако странным образом Томасина не выглядела вульгарно в подобных нарядах. Она словно приземляла их своими материнскими повадками: домашняя лазанья, объятия и поцелуи, отвары от простуды.
Подойдя к столу, я удостоился и объятия, и поцелуя.
– Здравствуй, милый! – воскликнула Томасина и прижалась ко мне. Лицо ее так и горело. Левое ухо, оказавшееся в паре дюймов от моей щеки, полыхало розовым. Я ощущал исходящий от него жар. Она отстранилась, и мы оглядели друг друга.
– Ну что, – сказал я. – Похоже, что у тебя новости.
– Я решила, Уолли. Буду рожать.
Мы сели. Томасина затянулась и выпустила дым уголком рта:
– Я просто поняла, что все, к черту. Мне сорок. Я взрослая. У меня все получится.
Я еще не привык к ее новым зубам. Каждый раз, как она открывала рот, во рту у нее словно загоралась лампочка. Впрочем, зубы выглядели неплохо.
– Мне плевать, что люди подумают. Либо поймут, либо нет. И я не собираюсь воспитывать его сама, моя сестра будет помогать. И Диана. Ты тоже можешь, если захочешь.
– Я?
– Будешь ему дядей.
Она взяла меня за руку. Я сжал ее пальцы.
– Слышал, что у тебя в рецепте был целый список кандидатов.
– Что?
– Диана сказала, что послала тебе рецепт.
– А, ты об этом. – Она затянулась сигаретой, втянув щеки.
– И что, я там тоже был?
– Бывшие. – Томасина выпустила дым вверх. – Все мои бывшие.
Тут подошел официант, чтобы узнать, что мы будем пить. Томасина все еще наблюдала за своим дымом.
– Очень сухой мартини с двумя оливками, – произнесла она и посмотрела на официанта. – Сейчас же пятница, – пояснила она, не отрывая от него взгляда, поправила волосы и отбросила их назад.
Официант улыбнулся.
– Я тоже выпью мартини, – сказал я.
Официант обернулся и посмотрел на меня, подняв брови, после чего снова взглянул на Томасину, улыбнулся и отошел.
Стоило ему удалиться, Томасина потянулась ко мне через стол, чтобы что-то сказать. Я тоже наклонился, и наши лбы соприкоснулись. И тут она спросила:
– И как он тебе?
– Кто?
– Он.
Она дернула головой в сторону официанта. Его напряженные ягодицы, покачиваясь, удалялись прочь.
– Он же просто официант.
– Я же не замуж за него собираюсь, Уолли. Мне от него нужна только сперма.
– Может, на гарнир подаст.
Томасина отодвинулась и затушила сигарету. Оглядев меня, она потянулась за сигаретой номер два.
– Ты опять начал сердиться?
– Я не сержусь.
– Сердишься, сердишься. Я тебе когда в первый раз об этом сказала, ты рассердился, и сейчас тоже.
– Я просто не понимаю, зачем тебе официант.
Она пожала плечами:
– Он хорошенький.
– Ты и получше найдешь.
– Где?
– Не знаю. Где угодно. – Я взял в руки суповую ложку и увидел в ней свое отражение – крохотное и искаженное. – Обратись в банк спермы. Выбери себе нобелевского лауреата.
– Мне не просто умный нужен. Мозги – это еще не все. – Томасина затянулась, прищурившись, после чего с мечтательным видом отвернулась. – Мне нужен полный набор.
Где-то с минуту я молчал. Взял в руки меню. Девять раз прочел слова «Fricassee de Lapereau»[12]. Меня тревожила мысль о природе. Мне становилось ясно – яснее, чем обычно, – что в природе мой статус был бы невысок. Где-то на уровне гиены. В цивилизации вроде бы дела у меня обстояли получше. Если смотреть прагматически, я ценный кадр. Например, неплохо зарабатываю. На пенсионном счету у меня аж двести пятьдесят четыре тысячи долларов. Но при выборе спермы деньги, очевидно, роли не играют. Куда важнее тугие ягодицы.
– Ты вообще против, так? – спросила Томасина.
– Я не против. Я просто не понимаю – если тебе хочется ребенка, может, лучше родить его вместе с кем-нибудь? С кем-то, кого ты любишь. – Я посмотрел на нее. – И кто любит тебя.
– Ну было бы неплохо, да. Но этому не бывать.
– Откуда ты знаешь? – сказал я. – Ты можешь в кого-нибудь влюбиться завтра. Или через полгода. – Я отвернулся и поскреб щеку. – Может, ты уже встретила любовь всей своей жизни, просто не знаешь об этом. – Я снова взглянул ей в глаза. – А потом ты все осознаешь, но будет уже поздно. Все. У тебя уже будет неизвестно чей ребенок.
Томасина качала головой.
– Мне сорок, Уолли. У меня мало времени.
– Так мне тоже сорок. Что ж теперь?
Она пристально взглянула на меня, словно почувствовав что-то в моем тоне, но отмахнулась:
– Ты мужчина. У тебя полно времени.
После обеда я пошел прогуляться. Стеклянная дверь ресторана выпустила меня в зарождающийся вечер пятницы. В половину пятого в манхэттенских закоулках уже темнело. От погребенной в асфальте трубы в воздух поднимался пар. Вокруг нее стояло несколько туристов – они что-то басили по-шведски и дивились нашим уличным вулканам. Я тоже остановился посмотреть на пар. Думал я при этом об усталости. Дыме и усталости. В школьном автобусе Томасины был и мой ребенок. Наш ребенок. Мы встречались уже три месяца, когда она забеременела. Поехала в Нью-Джерси, чтобы поговорить с родителями, а через три дня вернулась, уже сделав аборт. Вскоре после этого мы и расстались. Иногда я думал о нем – или ней. Единственное мое дитя, и с ним благополучно разделались. Я и сейчас о нем думал. На кого он был бы похож? На меня? Глаза навыкате и нос картошкой? Или на Томасину? Хотелось бы верить, что на нее.
Следующие несколько недель не было никаких новостей. Я старался вообще об этом не думать. Но город не оставлял меня в покое. Город внезапно наводнили дети. Я видел их в лифтах, холлах и на тротуарах, прикованными к автомобильным сиденьям, слюнявых, плачущих, в парках, на шлейках. В метро они трогательно пялились на меня через плечи своих доминиканских нянек. Нью-Йорк не подходит для детей. Так почему все их рожают? Каждый пятый прохожий тащил на себе нечто, напоминавшее гусеницу в чепце. Они выглядели так, словно мечтали залезть обратно в матку.
Как правило, дети были с матерями. Я все гадал – кто же их отцы? Как они выглядят? Какого роста? Почему у них есть дети, а у меня нет? Как-то вечером я увидел целое семейство мексиканцев, вставшее лагерем в вагоне метро. Двое малышей цеплялись за треники матери, а их новейшее поступление, гусеничка, завернутая в листок, посасывала грудной бурдюк матери. Напротив них сидел отец семейства, расставив ноги. Он держал пеленки и сумку с памперсами. На вид не больше тридцати, мелкий, коренастый, заляпанный краской, с плоским ацтекским лицом. Древним лицом, каменным, веками путешествовавшим во времени, чтобы состыковаться с этим комбинезоном, этим ревущим поездом, этим моментом.
Через пять дней пришло приглашение. Притаилось в почтовом ящике между счетами и каталогами. Увидев адрес Томасины, я разорвал конверт. Наверху листа была нарисована бутылка шампанского, извергавшая следующую надпись:
Ю!
Не
Me
Ре
Бе
Я
Внутри бодренькие зеленые буквы приглашали «вознести хвалу жизни» в субботу, тринадцатого апреля.
Как я узнал потом, дата была рассчитана крайне тщательно. С помощью специального термометра Томасина определила время овуляции. Каждое утро, не вылезая из кровати, она измеряла температуру и заносила результаты в график. Кроме того, она постоянно изучала свои трусики. Чистые белесые выделения означали, что яйцеклетка опустилась. К холодильнику был примагничен календарь, испещренный красными звездочками. Она не полагалась на волю случая.
Я хотел отказаться. Мысленно поперебирал воображаемые командировки и тропические болезни. Мне не хотелось идти. Мне вообще не хотелось, чтобы в мире существовали подобные вечеринки. Спросив себя, говорит во мне ревность или это просто консерватизм, я решил, что дело и в том, и в другом. Ну и, разумеется, в конце концов пошел. Не хотелось сидеть дома и гадать, что там происходит.
Томасина жила в этой квартире уже одиннадцать лет. Но тем вечером все выглядело иначе. Знакомый розовый ковер в крапушку, похожий на вареную колбасу, вел из холла мимо все того же высохшего цветка в горшке к желтой двери, которую я некогда открывал своим ключом. На дверном косяке болтались все те же мезузы, забытые предыдущими жильцами. Если верить латунной табличке с номером 2А, это была та же непомерно дорогая двухкомнатная квартира, в которой десять лет назад я девяносто восемь раз оставался на ночь. Но постучавшись, а потом открыв дверь, я не узнал ее. Источниками света были лишь расставленные по гостиной свечи. Когда глаза привыкли, я добрался по стеночке к шкафу (он стоял там же, где и раньше) и повесил пальто. На сундуке рядом горела еще одна свеча и, приглядевшись, я начал понимать, какую тему выбрали Томасина и Диана для декора. Свеча представляла собой очень точную, хотя и варварски увеличенную копию эрегированного члена. Модель была гиперреалистичной – сеточка вен, отмель мошонки. Пылающий кончик освещал еще два предмета: глиняную реплику старинной ханаанской богини плодородия наподобие тех, что продаются в феминистских книжных лавках и нью-эйджевских магазинах, – живот куполом, неудержимые груди; и упаковку ароматических палочек «Любовь» с изображением сплетенных силуэтов.
Зрачки мои расширялись, и постепенно комната обретала очертания. Здесь было полно народу – человек семьдесят пять. Происходящее напоминало Хэллоуин. Женщины, которые весь год втайне мечтали надеть что-нибудь сексапильное, наконец воплотили свою мечту. На них были топики с глубоким декольте наподобие тех, что носили зайки из «Плейбоя», или ведьминские мантии с разрезами по бокам. Многие поглаживали те самые свечи или развлекались с расплавленным воском. Но они уже не были молоды. Здесь вообще не было молодых. Мужчины выглядели так же, как и последние двадцать лет, – запуганными, но вполне дружелюбными. Вроде меня.
Тут и там открывали бутылки шампанского – прямо как на приглашении. Когда хлопала очередная пробка, кто-нибудь из женщин восклицал: «О, я тоже залетела!», и все хохотали. Наконец я опознал кое-что знакомое: музыку. Здесь играл Джексон Браун. Среди прочего в Томасине меня очень умиляла ее старомодная сентиментальная музыкальная коллекция. Она никуда не делась. Помню, как мы танцевали под этот альбом. Как-то ночью мы разделись и стали танцевать – обычное дело для самого начала отношений. Потом мы катались по ковру, голые, неловкие, и больше это никогда не повторялось. Я стоял и вспоминал, как кто-то вдруг подошел ко мне сзади.
– Привет, Уолли.
Я прищурился. Это была Диана.
– Умоляю, скажи, что нам не придется на это смотреть, – сказал я.
– Не парься. Все очень пристойно. Томасина все сделает потом, когда останется одна.
– Я ненадолго, – сообщил я, оглядывая комнату.
– Ты бы видел, какую спринцовку мы купили. За четыре доллара девяносто пять центов на распродаже на цокольном этаже «Мэйсис».
– Мне потом надо будет встретиться кое с кем.
– У нас и стаканчик для донора есть. Не смогли найти подходящий, поэтому купили детский, с крышкой. Роланд уже внес свою лепту.
Что-то застыло у меня в горле. Я сглотнул:
– Роланд?
– Он пришел пораньше. Мы дали ему на выбор «Хастлер» и «Пентхаус».
– Буду осторожнее копаться в холодильнике.
– Это не в холодильнике, а под раковиной в ванной. Я побоялась, что кто-то действительно выпьет.
– Разве сперму не надо держать в холоде?
– Мы уже через час ее используем. Не испортится.
Я почему-то кивнул. Почему-то я вдруг стал лучше видеть. На каминной полке стояли семейные фотографии. Томасина с папой. Томасина с мамой. Все семейство Дженовезе сидит на дубе.
– Считай меня старомодным… – И я осекся.
– Не парься, Уолли! Выпей шампанского! Это праздник.
Напитками заведовала барменша. Я отмахнулся от шампанского и попросил стакан чистого виски. Ожидая его, я принялся искать взглядом Томасину.
– Роланд! – скептически сказал я себе под нос. Следовало ожидать чего-то подобного. От этого имени веет средневековыми легендами. – Сперма Роланда!
Пока я развлекался таким образом, кто-то сверху пробасил:
– Вы ко мне обращались?
Я поднял взгляд и увидел не солнце, но его антропоморфное воплощение. Он был одновременно и белокурым, и оранжевым, и огромным, и свеча, стоящая на книжной полке за ним, освещала его гриву, превращая ее в подобие гало.
– Мы знакомы? Меня зовут Роланд де Маршелье.
– Я Уолли Марс, – ответил я. – Так и думал, что это вы. Диана мне вас показала.
– Меня всем показывают. Чувствую себя каким-то призовым хряком, – посетовал он, улыбаясь. – Жена только что сказала, что нам пора. Мне удалось выторговать еще стаканчик.
– Вы женаты?
– Уже семь лет.
– И она не против?
– Ну, была не против. Сейчас я уже не уверен.
Что сказать о его лице? Оно было открытым. Привычным к тому, что на него смотрят, в него вглядываются. Кожа имела здоровый абрикосовый оттенок. Брови цвета того же абрикоса, кустистые, словно у старого поэта. Благодаря им лицо не выглядело чересчур мальчишеским. Томасина смотрела в это лицо. Она посмотрела на него и сказала – ты принят.
– У нас с женой двое детей. В первый раз нам долго не удавалось зачать, так что мы понимаем, каково это. Тревоги, время уходит, все такое.
– Ваша жена, видимо, очень свободомыслящая женщина, – заметил я.
Роланд прищурился, явно проверяя, насколько искренне я говорю, – очевидно, он не дурак. (Возможно, Томасина предварительно проверила его аттестат.) Все же он решил поверить мне.
– Говорит, что польщена. Я-то точно польщен.
– У нас с Томасиной был роман, – сказал я. – Мы жили вместе.
– Правда?
– Теперь просто дружим.
– Хорошо, когда так.
– Когда мы были вместе, она о детях не думала.
– Так оно всегда и бывает. Сначала считаешь, что все еще впереди, а потом раз – а время-то вышло.
– Видимо, тогда все было по-другому.
Роланд взглянул на меня, не понимая, о чем я, а потом посмотрел в другой конец комнаты, улыбнулся кому-то и приподнял стакан.
– Не сработало, – сказал он мне. – Жена хочет домой. Приятно было познакомиться, Уолли.
Он поставил свой стакан.
– Продолжайте пахать, – сказал я, но он то ли не услышал меня, то ли притворился, что не слышит.
Виски уже кончился, и я взял себе еще и отправился искать Томасину. Пробился через гостиную, протиснулся через холл, оправил костюм. Несколько женщин взглянули на меня и отвернулись. Дверь спальни была закрыта, но мне захотелось ее открыть.
Она стояла у окна, курила и глядела на улицу. Она не слышала, как я вошел, а я ничего не сказал. Просто стоял и смотрел на нее. Какое платье надеть на Праздник осеменения? Ответ: именно то, что выбрала Томасина. Оно даже не было особенно вульгарным – закрывало ее от шеи до лодыжек. Однако между этими двумя пунктами ткань была искусно украшена множеством дырочек, позволявшим видеть то кожу бедра, то гладкий таз, то белый фрагмент груди. При взгляде на платье вам приходили на ум потайные отверстия, темные каналы. Я пересчитал видимые участки кожи. Два моих сердца – одно сверху, одно снизу – тяжело стучали.
Потом я сказал:
– Познакомился с призовым жеребцом.
Она повернулась ко мне и улыбнулась, хотя и не вполне убедительно:
– Роскошный, правда?
– Мне до сих пор кажется, что Айзек Азимов был бы лучше.
Она подошла, и мы чмокнули друг друга в щечки. Ну то есть я чмокнул. Она скорее поцеловала воздух. Ауру моей спермы.
– Диана говорит, что мне надо забыть про эту спринцовку и просто переспать с ним.
– Он женат.
– Да все они женаты. – Она сделала паузу. – Ты ж понимаешь.
Я не подал никаких знаков того, что понимаю.
– Что ты здесь делаешь?
Она два раза подряд коротко и сильно затянулась, словно для того, чтобы подкрепиться. Потом ответила:
– Психую.
– Что случилось?
Она прикрыла лицо рукой:
– Уолли, это такая тоска! Не так я хотела забеременеть. Мне казалось, что будет весело, но на деле получилась тоска. – Она опустила руку и взглянула мне в глаза. – Ну что, считаешь меня сумасшедшей? Да?
Она умоляюще приподняла брови. Я уже рассказывал вам о ее родинке? У Томасины на нижней губе родинка, вроде шоколадной крошки. Все пытаются ее стереть.
– Да нет, Том, я не считаю тебя сумасшедшей.
– Правда?
– Правда.
– Я тебе доверяю, Уолли. Ты недобрый, так что я тебе доверяю.
– В смысле – недобрый?
– Ну не в плохом смысле. В хорошем. Я не сумасшедшая?
– Ты хочешь ребенка. Это естественно.
Вдруг Томасина подалась вперед и уткнулась мне в грудь. Для этого ей пришлось нагнуться. Она закрыла глаза и глубоко вздохнула. Я положил руку ей на спину. Отыскав пальцами дырочку, стал поглаживать кожу.
– Ты все понимаешь, Уолли, – сказала она благодарно и нежно.
Она выпрямилась и улыбнулась, оглядела свое платье, поправила его так, чтобы был виден пупок, и взяла меня за руку:
– Пойдем, надо вернуться на вечеринку.
Дальнейшего я не ожидал. Когда мы вышли, все зааплодировали. Томасина держала меня за руку, и мы принялись махать присутствующим, словно монаршья чета. На мгновение я забыл, зачем мы здесь собрались. Просто стоял рука об руку с Томасиной и принимал аплодисменты. Когда все утихли, я услышал, что по-прежнему играет Джексон Браун. Я наклонился к Томасине и прошептал:
– Помнишь, как мы под него танцевали?
– Мы под него танцевали?
– Ты не помнишь?
– Да у меня уже сто лет этот альбом. Я миллион раз под него танцевала.
Она отпустила мою руку.
Мой стакан снова опустел.
– Можно задать тебе вопрос, Томасина?
– Какой?
– Ты вообще думаешь о нас с тобой?
– Уолли, не стоит.
Она отвернулась и опустила взгляд, после чего сказала:
– Я тогда была сама не своя. Вряд ли была способна на отношения. – Голос ее звучал нервно и резко.
Я кивнул. Я сглотнул. Велел себе не задавать следующий вопрос. Оглядел камин, словно он очень меня интересовал, а потом все равно спросил:
– А о ребенке нашем ты думаешь?
У нее слегка дернулся левый глаз – только так и можно было понять, что она меня услышала.
Она глубоко вдохнула и выдохнула:
– Это было давно.
– Знаю. Просто я вижу, как тебе сложно, и думаю, что все могло бы быть иначе.
– Вряд ли. – Она сняла с моего пиджака пушинку, нахмурилась. Потом выбросила ее. – Господи! Иногда жалею, что я не Беназир Бхутто или кто-нибудь в этом роде.
– Тебе хотелось бы стать премьер-министром Пакистана?
– Мне хотелось бы, чтобы меня выдали замуж по расчету. Мы бы с мужем переспали, а потом он пошел бы играть в поло.
– Правда?
– Нет, конечно. Это было бы ужасно.
Прядь упала ей на глаза, и Томасина отбросила ее. Оглядела комнату. Потом выпрямилась и сказала:
– Мне надо пообщаться с другими гостями.
Я поднял стакан.
– Плодись и размножайся, – произнес я.
Томасина сжала мне руку и отошла.
Я остался стоять на месте, якобы попивая из пустого стакана, чтобы занять руки. Оглядел комнату в поисках незнакомых женщин. Таких здесь не было. Подойдя к бару, я попросил шампанское. Барменша трижды наполняла мой бокал. Ее звали Джулия, и она занималась историей искусств в Колумбийском университете. Пока я стоял у бара, Диана вышла в центр комнаты и постучала по бокалу. Остальные тоже зазвенели бокалами, и постепенно стало тихо.
– Прежде чем мы всех выгоним, – начала Диана, – мне бы хотелось поблагодарить нашего щедрого донора Роланда. Мы искали по всей стране и, можете поверить, конкуренция была очень высока.
Все рассмеялись. Кто-то крикнул:
– Роланд ушел!
– Ушел? Что ж, выпьем за его сперму. Она-то у нас осталась!
Снова смех. Чьи-то пьяные возгласы. Теперь и женщины, и мужчины взялись за свечи и начали ими размахивать.
– И наконец, – продолжала Диана, – мне бы хотелось поздравить нашу будущую – тьфу-тьфу-тьфу! – мать. Она бесстрашно добывала орудие производства, и ее пример нас всех очень вдохновляет!
Томасину вытащили в центр комнаты. Все улюлюкали. Волосы ее растрепались, она покраснела и заулыбалась. Я тронул руку Джулии, протянул ей свой стакан. Все смотрели на Томасину, и я украдкой проскользнул в ванную.
Закрыв за собой дверь, я сделал то, что делаю очень редко, – посмотрел на себя в зеркало. Я перестал этим заниматься лет двадцать назад. Разглядывать свое отражение хорошо, когда тебе тринадцать. Но тем вечером я снова этим занялся. Стоя в ванной Томасины, где мы когда-то намыливали и поливали друг друга из душа, стоя в этом веселеньком ярком гроте, я представлял себе самого себя. Знаете, о чем я думал? О природе. Я снова думал о гиенах. Гиена, вспоминал я, это опасный хищник. Иногда гиены даже нападают на львов. Внешне они не очень, но живут неплохо. Я поднял бокал и произнес самому себе тост:
– Плодись и размножайся!
Чашка стояла именно там, где сказала Диана. Роланд с религиозной аккуратностью разместил ее на мешочке с ватными шариками. Детский стаканчик покоился на маленьком облаке. Я открыл его и осмотрел содержимое. Желтоватая слизь едва покрывала дно. Внешне она напоминала резиновый клей. Кошмар, если вдуматься. Ужасно, что женщинам необходима эта субстанция. Есть в этом что-то жалкое. Иметь все необходимое для создания новой жизни, кроме этой презренной закваски. Я выплеснул Роланда под кран. Потом проверил, заперта ли дверь. Мне бы не хотелось, чтобы меня кто-нибудь застукал.
Это было десять месяцев назад. Вскоре после этого То-масина забеременела. Она раздулась до невероятных размеров. Я был в командировке, когда она родила с помощью акушерки в больнице святого Винсента, но вернулся как раз вовремя, чтобы получить письмо:
«Томасина Дженовезе с гордостью сообщает о том,
что 15 января 1996 года у нее родился сын,
Джозеф Марио Дженовезе,
5 фунтов 3 унции».
Уже по весу ребенка все было понятно. Я удостоверился на следующий день, когда принес наследнику ложечку Тиффани и заглянул в колыбель. Нос картошкой. Глаза навыкате. Я ждал десять лет, чтобы увидеть это личико в окне школьного автобуса. Теперь же мне оставалось лишь помахать ему на прощание.
1995
Старинная музыка
Войдя в дом, Родни сразу же направился в музыкальную комнату. Он называл эту комнату музыкальной – вроде бы иронично, но и с робкой надеждой. Это была тесная изогнутая четвертая спаленка, которая образовалась, когда здание нарезали на квартиры. Музыкальной она называлась потому, что там жил его клавикорд.
Вот он, стоит на пыльном полу. Яблочно-зеленый с золотой каемкой. Если поднять крышку, откроется изображение геометрических аллей французского парка. Его модель повторяла клавикорды Бодехтеля конца восемнадцатого века, но Родни приобрел его три года назад в магазине «Старинная музыка» в Эдинбурге. Однако он возвышался в тусклом свете (за окном была чикагская зима) так величественно, словно дожидался Родни не девять с половиной часов с утра, а по меньшей мере пару веков.
Для клавикорда такая огромная комната не требовалась. Клавикорд – это вам не рояль. Спинеты, вирджиналы, фортепиано, клавикорды и даже клавесины – относительно небольшие инструменты. Музыканты, что играли на них в восемнадцатом веке, были маленькими. Родни, однако, довольно большой – шесть футов три дюйма. Он аккуратно присел на узкую табуретку, осторожно уместил колени под клавиатурой и начал с закрытыми глазами играть прелюдию Свелинка.
Старинная музыка крайне рассудочна, математически точна и немножко скованна – таков был и сам Родни. Он был таким задолго до того, как впервые увидел клавикорд или начал писать докторскую диссертацию (так и не законченную) о темперировании в период немецкой Реформации. Погружение в работы Баха-отца и сыновей только укрепило природные склонности Родни. Вторым предметом мебели в комнате был тиковый столик. В его ящичках и отделениях в идеальном порядке хранились бумаги Родни: страховые документы, различные инструкции в алфавитном порядке вместе с соответствующими гарантиями, записи о прививках близняшек, их свидетельства о рождении и карточки соцобеспечения, а кроме того, финансы: сумма месячных бюджетов за три года, включая расходы на содержание дома, с учетом, в том числе, максимально допустимой стоимости отопления. Родни поддерживал в квартире бодрящую температуру – четырнадцать с половиной градусов. Немного холода еще никому не повредило. Холод был подобен Баху: он очищал разум. Наверху лежала папка за этот месяц с надписью «Фев. 05». Там были три выписки с кредитной карты с пугающим остатком на счету и переписка с коллекторами, которые преследовали Родни за задержку ежемесячных платежей в магазин «Старинная музыка».
Он играл, выпрямив спину, и лицо его подергивалось. Глазные яблоки за опущенными веками подрагивали в такт звукам.
В этот момент дверь распахнулась, и шестилетняя Имо-джин рявкнула, словно портовый грузчик:
– Папа! Ужинать!
Выполнив поручение, она снова захлопнула дверь. Родни остановился. Глянув на часы, он увидел, что играл (занимался) ровно четыре минуты.
Родни вырос в доме, где соблюдали чистоту и порядок. Тогда было так заведено. Полагалось делать уборку. Матери полагалось, конечно. Выбитые ковры, сверкающие чистотой кухни, рубашки, которые чудесным образом сами исчезали с пола и появлялись свежевыглаженными в шкафу, – все это осталось в прошлом. Дома как хорошо отлаженного механизма более не существовало. Женщины променяли его на работу.
Да если даже и не променяли. Ребекка, жена Родни, работала дома, в маленькой спальне. Правда, она называла ее не спальней, а кабинетом. У Родни была музыкальная комната, в которой он понемножку занимался. У Ребекки был кабинет, в котором она понемножку работала. Но она проводила там много времени, дни напролет, а Родни работал в городе – в настоящем кабинете.
Покинув убежище музыкальной комнаты, Родни принялся огибать картонные коробки, рулоны пупырчатой пленки и разбросанные игрушки. Протиснувшись в гостиную мимо отряда зимних пальто, под которыми стояли грязные сапоги и валялись разрозненные варежки, он вдруг наступил на что-то, напоминавшее одну из них. Но оказалась, что это плюшевая мышь. Родни со вздохом поднял ее. Она была чуть больше настоящей, нежно-голубого окраса и в черном беретике. Судя по всему, у нее имелся врожденный дефект— волчья пасть.
– Тебе же полагается быть милой, – сказал Родни мыши. – Соберись уже.
Мышами Ребекка и занималась. Они составляли линейку «Мышки-пышки», в которую на данный момент входили четыре персонажа: Модернистская Мышь, Богемная Мышь, Мышь-Серфреалист и Мышь – Дитя Цветов. Все эти творческие грызуны были набиты ароматическими гранулами, и их было необычайно приятно тискать. Предполагалось, что покупатели (будущие) будут совать мышек в микроволновку и доставать их оттуда теплыми и ароматными.
Родни принес мышь на кухню в сложенных ладонях, словно раненого зверька.
– Беглянка, – сказал он вместо приветствия.
Ребекка стояла у раковины и сливала воду из-под макарон. Взглянув в его сторону, она нахмурилась:
– Выброси. Эта не удалась.
Близняшки за столом издали тревожный вопль. Им не нравилось, когда мыши заканчивали свой жизненный путь. Сорвавшись с мест, они бросились к отцу.
Родни поднял Богемную Мышь повыше.
Имми, которая унаследовала от матери острый подбородок и ясноглазую решительность, залезла на стул. Талула, более склонная поддаваться инстинктам, принялась карабкаться вверх по ноге отца.
Пока происходило это бесчинство, Родни обратился к Ребекке:
– Дай угадаю. Проблемы со ртом?
– Именно, – ответила Ребекка. – И с запахом. Понюхай ее.
Чтобы сделать это, Родни пришлось повернуться, сунуть мышь в микроволновку и нажать кнопку. Через двадцать секунд он вытащил теплую мышь и поднес ее к носу.
– Все не так плохо, – сказал он. – Но я понимаю, о чем ты. Многовато подмышечных нот.
– Это должен был быть мускус.
– С другой стороны, от богемы часто пованивает.
– У меня пять кило мускусных гранул, которые можно разве что выбросить, – простонала Ребекка.
Родни пересек кухню и поднял крышку, нажав на педаль мусорного ведра. Он бросил мышь внутрь и закрыл ведро. Это было приятно. Он с удовольствием выбросил бы ее снова.
Возможно, покупка клавикорда была не самым удачным шагом. Во-первых, он обошелся в небольшое состояние, которого у них не было. Кроме того, Родни уже десять лет как перестал играть профессионально. После рождения близнецов он вообще бросил музыку. Ради того, чтобы иметь возможность приехать к Гайд-парку от Логан-сквер, несколько раз обогнуть его в поисках места для автомобиля (как говорится, парк – это еще не парковка), вытащить из бумажника удостоверение Чикагского университета, прикрывая пальцем безнадежно устаревшую фотографию, и помахать им охраннику, который на час пустит его в комнату 113, где стоял потрепанный, но не вполне расстроенный университетский клавикорд, – ради этого, ради того, чтобы не терять формы, Родни готов был исполнять все эти бурре и пируэты, но с появлением детей это стало слишком сложно. В те дни, когда Родни и Ребекка еще писали диссертации (пока не появились дети, они были предельно сконцентрированы на цели и жили на йогурте и пивных дрожжах), Родни по три-четыре часа в день играл на факультетском клавикорде. Клавесин в соседней комнате пользовался огромным успехом, но клавикорд всегда был свободен. Дело в том, что клавикорд был педальный – редкий зверь, с которым никому не хотелось связываться. Это была очень приблизительная копия инструмента начала восемнадцатого века, и педальный механизм, изрядно оттоптанный каким-то толстопятым студентом, работал довольно своеобразно. Но Родни привык к нему, и с тех пор клавикорд стал вроде как его личным инструментом, пока он не ушел из университета, не стал отцом, не обзавелся работой к северу от Темзы в школе народной музыки, где давал уроки фортепиано.
Проблема со старинной музыкой заключалась в том, что никто не знал, как она звучала. Споры о том, как настроить клавесин или клавикорд составляли изрядную часть науки. Все задавались вопросом: как же сам Бах настраивал свой клавесин? Но этого никто не знал. Все спорили, что же он имел в виду, говоря о wohltemperirt[13] клавире. Они настраивали свои инструменты на исторический манер и изучали нарисованные от руки схемки на титульных страницах сочинений Баха.
Родни собирался раз и навсегда решить этот вопрос в своей диссертации. Он хотел точно установить, как Бах настраивал клавесин, как звучала его музыка в то время, а значит, понять, как ее играть сейчас. Для этого он отправился бы в Германию, вернее, в Восточную Германию, в Лейпциг, чтобы исследовать тот самый клавесин, на котором играл Бах и на клавишах которого, по слухам, Мастер оставил пометки относительно настройки. Осенью 1987 года Родни на средства от докторского гранта отправился в Западный Берлин вместе с Ребеккой, которая как раз получила стипендию в Freie Universitat[14]. Они сняли двухкомнатную квартирку вблизи Савиньи-плац с сидячим душем и типично немецким унитазом с плоским дном. Их арендодателем был некий Франк из Монтаны, который приехал в Берлин, чтобы строить декорации для экспериментальных спектаклей. Кроме того, эту квартиру использовал кто-то из женатых профессоров для встреч с девушками. Занимаясь сексом в постели, покрытой фланелевой простыней, Ребекка и Родни то и дело натыкались на чьи-то лобковые волосы. Бритвенные принадлежности профессор хранил в тесной вонючей ванной. Фекалии падали в немецкий унитаз и приземлялись на полочку в чаше. Все это было бы невыносимо, не будь они двадцатишестилетними, влюбленными и нищими. Родни и Ребекка постирали простыни и повесили их сушиться на балкон. Привыкли к грязной ванной. Унитаз тем не менее по-прежнему вызывал у них отвращение, и они не переставали жаловаться на него.
Западный Берлин оказался вовсе не таким, как представлял Родни. Он совершенно не походил на старинную музыку. Западный Берлин был иррациональным, вовсе не математичным и скорее расслабленным, чем скованным. Здесь повсюду были военные вдовы, уклонисты, анархисты. Родни не нравился табачный дым. От пива его пучило. Поэтому он при всякой возможности искал укрытия в филармонии или опере.
Ребекка справлялась получше. Она подружилась с жильцами Wohngemeinschaft[15] этажом выше. Шесть юных немцев в мягких маоистских тапочках, ножных браслетах или ироничных моноклях жили вскладчину, менялись партнерами и до хрипоты спорили о кантовской этике применительно к проблемам дорожного движения. Каждые несколько месяцев один из них отправлялся куда-то в Тунис или Индию, либо же возвращался в Гамбург, чтобы заняться семейным экспортным бизнесом. По настоянию Ребекки Родни вежливо посещал их вечеринки, но неизменно чувствовал себя там чересчур лощеным, слишком аполитичным, вопиюще американским.
Когда Родни пришел в октябре в посольство ГДР за академической визой, там сообщили, что его запрос отклонен. Мелкий дипломат, который принес эту весть, ничем не напоминал функционера из Восточного блока – это был дружелюбный, нервный, лысеющий мужчина, который явно искренне сочувствовал Родни. Он рассказал, что сам родился в Лейпциге и в детстве посещал Томаскирхе, в которой Бах был дирижером. Родни обратился в американское посольство в Бонне, но они были бессильны. Он в панике позвонил в Чикаго своему наставнику, профессору Брескину, который в тот момент разводился и не слишком ему сочувствовал.
– А других идей для диссертации у вас нет? – спросил он язвительно.
Липы на Курфюрстендамм уронили листья. По мнению Родни, они недостаточно пожелтели и покраснели, чтобы умирать. Но такой уж была прусская осень. Зима тоже так до конца и не стала зимой – дождь, серое небо, мелкий снег, сырость, которая пробирала Родни до костей, пока он брел с одного церковного концерта на другой. Ему осталось шесть месяцев в Берлине, и он понятия не имел, чем заняться. А в начале весны случилось чудо. Лиза Тернер, культурный атташе американского посольства, пригласила Родни проехать по Германии с турне, исполняя произведения Баха в рамках программы американо-германской дружбы – Deutsche-Amerikanische Freundschaft. Полтора месяца Родни путешествовал по мелким городкам Швабии, Баварии, Северного Рейна и Вестфалии и выступал с концертами в местных залах. Он останавливался в гостиницах, напоминавших кукольные домики и украшенных совершенно кукольными финтифлюшками, почивал на односпальных кроватях под восхитительно мягкими одеялами. Лиза Тернер сопровождала его в пути и следила, чтобы он ни в чем не нуждался, а главное – заботилась о его компаньоне. Речь не о Ребекке – она осталась в Берлине и писала первый черновик своей работы. Компаньоном Родни был клавикорд, созданный мастером Гассом в 1761 году, – самый великолепный, выразительный и капризный инструмент, которого когда-либо касались дрожащие, восхищенные пальцы Родни.
Родни не был знаменит. А вот клавикорд Гасса – был, и в Мюнхене перед началом концерта в ратуше его сфотографировали для трех различных газет. Родни стоял сзади, как простой слуга.
Родни не тревожило, что зрителей собирается мало, что большинство из них уже вышли на пенсию, а лица их закостенели от многолетнего наслаждения высокой культурой, что через пятнадцать минут после начала пьесы Шейдемана треть аудитории засыпает с открытыми ртами, словно они подпевают или на что-то жалуются. Родни впервые в жизни платили. Лиза Тернер оптимистично бронировала залы на две-три сотни посетителей. Поскольку на концерты приходило то двадцать пять, то шестнадцать, то (в Гейдельберге) три человека, Родни казалось, что он один и играет самому себе. Он старался услышать ноты, которые Мастер играл более двухсот лет назад, подхватить их и воспроизвести. Он словно возрождал Баха и одновременно путешествовал в прошлое. Об этом он и думал, пока играл в просторных гулких залах.
Клавикорду это все нравилось куда меньше. Он часто жаловался. Ему не хотелось возвращаться в 1761 год. Он поработал на славу и хотел отдохнуть, уйти на пенсию, прямо как его слушатели. Его тангенты[16] сломались и требовали ремонта. Каждый вечер умирала очередная клавиша.
Но старинная музыка продолжала звенеть, чопорно и хрупко, а Родни, ее проводник, балансировал на стуле, словно всадник на крылатом коне. Клавиатура вздымалась и опадала, и музыка неслась дальше.
Вернувшись в Берлин в конце мая, Родни обнаружил, что его интерес к чистому музыковедению поугас. Теперь он даже не был уверен, что хочет стать ученым. Он начал размышлять о том, чтобы вместо диссертации поступить в Королевскую академию музыки в Лондоне и выбрать карьеру исполнителя.
Тем временем Западный Берлин перекраивал Ребекку. Казалось, что в этом закрытом дотационном полугороде никто не работает. Камрады в Wohngemeinschaft убивали время, ухаживая за печальными апельсиновыми деревьями на цементном балконе. Ребекка устроилась волонтером в театр «Шварцфарер» и исполняла электронный аккомпанемент в духе «Крафтверка» и Курта Вайля для устаревших антиядерных постановок. Она засиживалась вечерами, поздно вставала и мало продвинулась в исследовании теоретических концептов потребления музыки в Германии восемнадцатого века в изложении «Allgemeine Theorie der schonen Kiinste» Иоганна Георга Зульцера. Если быть точным, за время отсутствия Родни Ребекка написала пять страниц.
Они провели замечательный год в Берлине. Но в процессе написания докторских диссертаций оба пришли к неизбежному выводу: им вовсе не хотелось становиться докторами чего бы то ни было.
Они вернулись в Чикаго, и жизнь поползла дальше. Родни вступил в музыкальную группу, игравшую на старинных клавишных и изредка дававшую концерты. Ребекка занялась рисованием. Они переехали в Бактаун, а оттуда – на Логан-сквер. Они едва сводили концы с концами. Жили, как Богемные Мыши.
Сороковой день рождения Родни встретил с простудой. С утра он обнаружил, что у него температура выше тридцати девяти, позвонил в школу, чтобы отменить занятия, и забрался обратно в кровать.
Днем Ребекка с девочками принесли ему очень странный торт. Сквозь распухшие веки Родни увидел кексовый корпус, марципановые клавиши и шоколадную крышку, поддерживаемую мятной палочкой.
Ребекка подарила ему билет в Эдинбург и первый взнос в магазин «Старинная музыка». Давай, сказала она. Решайся. Тебе это необходимо. Мы справимся. Мыши понемногу продаются.
Это было три года назад. Теперь же они собрались за колченогим кухонным столом, который купили в комиссионке.
– Не бери трубку, – предупредила Ребекка.
Близняшки, как обычно, ели макароны без ничего. Взрослые – гурманы! – поедали макароны с соусом.
– Они уже шесть раз сегодня звонили.
– Кто? – спросила Имми.
– Никто.
– Женщина? – уточнил Родни. – Дарлин?
– Нет. Новенький кто-то. Мужчина.
Плохой признак. Дарлин практически стала им родной. Учитывая, сколько писем она им написала (шрифт становился все больше), сколько раз позвонила, сначала вежливо напоминая про деньги, потом требуя и, наконец, угрожая, с учетом того, что они все-таки платили, – Дарлин стала для них кем-то вроде сестры-алкоголички или кузины с игровой зависимостью. Правда, в этом случае высшая справедливость была на ее стороне. Это не Дарлин задолжала двадцать семь тысяч долларов под восемнадцать процентов.
Дарлин звонила им из телефонного улья – было слышно, как жужжат бесчисленные трудовые пчелки. Их работа заключалась в том, чтобы собирать пыльцу. Для этого они усердно били крылышками, а при необходимости доставали жало. Родни был музыкантом и прекрасно все это слышал. Иногда он уходил в свои мысли и забывал о сердитой пчеле, которая преследовала его.
Дарлин умела напомнить о себе. В отличие от работников телемагазина, она не допускала ошибок. Она не путала имя или адрес Родни, она выучила их наизусть. Поскольку сопротивляться незнакомцу гораздо легче, она представилась во время первого же звонка. Она обрисовала свою задачу и дала понять, что никуда не денется, пока не выполнит ее.
И вот теперь ее нет.
– Мужчина? – переспросил Родни.
Ребекка кивнула:
– Не очень приятный.
Имми замахала вилкой:
– Ты же сказала, что никто не звонил! Мужчина – это не никто!
– Я имела в виду, что ты его не знаешь, милая. Не думай об этом.
В этот момент зазвонил беспроводной телефон, и Ребекка сказала:
– Не отвечай.
Родни взял салфетку (на самом деле это было бумажное полотенце) и сложил у себя на коленях.
– Звонить во время ужина очень невежливо! – пропищал он, чтобы повеселить девочек.
Первые два года Родни вносил платежи вовремя. Но потом он бросил преподавать в школе народной музыки и попытался открыть частную практику. Ученики приходили к нему домой, и он занимался с ними на том самом клавикорде (объясняя родителям, что это прекрасная подготовка к игре на пианино). Некоторое время Родни зарабатывал вдвое больше, чем раньше, но потом ученики начали исчезать. Клавикорд никому не нравился. У него странный звук, говорили дети. Девчоночий инструмент, сказал один мальчик. В панике Родни арендовал кабинет с пианино и стал проводить уроки там, но вскоре уже зарабатывал меньше, чем в школе. Тогда он бросил уроки музыки и устроился на нынешнюю работу – в регистратуре поликлиники.
К этому моменту он, конечно, уже просрочил платежи в магазин «Старинная музыка». Процентная ставка выросла, а потом (мелкий шрифт) взмыла до небес. После этого ему уже не удавалось поправить дело.
Дарлин грозила изъятием, но пока что этого не произошло, и Родни продолжал играть на клавикорде – пятнадцать минут утром, пятнадцать минут вечером.
– Но есть и хорошие новости, – сказала Ребекка, когда телефон утих. – Я нашла нового клиента.
– Отлично. Кто это?
– Канцелярский магазин в Дес-Плейнсе.
– И сколько мышей они хотят?
– Двадцать. Для начала.
Родни мог отличить квинты в строе баховского клавира, темперированные на 1/6 коммы (фа-до-соль-ре-ля-ми), от чистых (ми-си-фа-диез-до-диез) и от жутких квинт, темперированных на 1/12 коммы (до-диез-соль-диез-ре-диез-ля-диез), поэтому ему не составляло труда посчитать: каждая мышь стоила пятнадцать долларов, из которых Ребекка брала себе сорок процентов, то есть шесть долларов за мышь. Поскольку на производство одной мыши уходило около трех с половиной долларов, то прибыли оставалось два с половиной доллара. Умножить на двадцать – получается пятьдесят баксов.
Он произвел еще один расчет: двадцать семь тысяч долларов поделить на два с половиной – получалось десять восемьсот. Для начала канцелярскому магазину требовалось двадцать мышей. Чтобы заплатить за клавикорд, Ребекке надо было бы продать больше десяти тысяч мышей.
Родни посмотрел на жену тусклым взглядом.
На свете было множество женщин с настоящими работами. Просто Ребекка не входила в их число. В наши дни любое женское занятие называется работой. Если мужчина шьет мышей, его в лучшем случае назовут неудачником, а в худшем – лентяем. Но если женщина, закончившая магистратуру и почти получившая степень по музыковедению, занимается изготовлением ароматизированных грызунов для микроволновки, принято говорить, что у нее свое дело (особенно среди ее замужних подружек).
Разумеется, из-за своей «работы» Ребекка не могла полноценно заботиться о близнецах, и им пришлось нанять няню, недельный заработок которой превышал доход от продажи мышей (поэтому они выплачивали лишь минимальные платежи по кредиткам, все глубже и глубже утопая в долгах). Ребекка много раз порывалась отказаться от мышей и найти работу со стабильной зарплатой. Но Родни хорошо знал, что такое бессмысленная любовь, и всегда говорил: «Давай подождем еще несколько лет».
Почему же считалось, что у Родни есть работа, а у Ребекки нет? Во-первых, он зарабатывал. Во-вторых, ему приходилось совершать насилие над собой, чтобы угодить работодателю. И в-третьих, ему это все не нравилось. Это самый верный признак того, что у вас есть работа.
– Пятьдесят долларов, – сказал он.
– Что?
– Это прибыль с двадцати мышей. До налогов.
– Пятьдесят долларов! – воскликнула Талула. – Ого!
– Это всего один счет, – сказала Ребекка.
Родни захотелось спросить, сколько у нее вообще этих счетов. Ему хотелось потребовать ежемесячный отчет, в котором указывались бы задолженности и поступления. Он был уверен, что у Ребекки есть все данные – они нацарапаны на обороте какого-нибудь конверта. Но он ничего не сказал, так как за столом сидели девочки. Он просто встал и начал убирать со стола.
– Уберу посуду, – произнес он, словно занялся этим впервые.
Ребекка загнала девочек в гостиную и усадила перед взятым в прокат DVD. Обычно полчаса после ужина уходили у нее на то, чтобы позвонить китайским поставщикам (у них как раз наступало завтрашнее утро) или матери, которая страдала ишиасом. Стоя в одиночестве у раковины, Родни оттирал тарелки и покрытые кефиром стаканы, кормил драконоподобный измельчитель отходов, таящийся где-то в глубине. У настоящего музыканта были бы застрахованы руки. Но даже если Родни и сунул бы пальцы прямо во вращающиеся ножи – что с того?
Логично было бы оформить страховку и только потом сунуть руку в измельчитель. Тогда он расплатился бы за клавикорд и смог бы каждый вечер играть на нем перебинтованной культей.
Может быть, если бы он остался в Берлине, если бы поступил в Королевскую академию, не женился бы, не обзавелся детьми, – может быть, тогда он не бросил бы музыку. Возможно, прославился бы на весь мир, как Менно ван Делфт или Пьер Гуа[17].
Открыв посудомойку, Родни увидел, что в ней стоит вода. Сливная труба была установлена неправильно: хозяин квартиры обещал починить ее, но так этого и не сделал. Некоторое время Родни пялился на ржавую воду, словно был сантехником и понимал, что с этим делать, но в итоге просто-напросто залил моющее средство, закрыл дверцу и включил машину.
Когда он вышел в гостиную, там уже было пусто. На экране телевизора под повторяющуюся музыку светилось меню управления DVD. Родни выключил телевизор и направился к спальням. В ванной бежала вода, и он слышал, как Ребекка пытается утихомирить близняшек. Он прислушался к голосам дочерей. Это была новая музыка, и ему хотелось еще немного ее послушать, но вода шумела слишком громко.
В те вечера, когда Ребекка купала девочек, Родни должен был читать им перед сном. Он шел по коридору к детской мимо кабинета Ребекки и вдруг сделал то, чего обычно не делал: остановился. Родни завел привычку опускать взгляд, минуя кабинет Ребекки. Так было лучше для его эмоционального равновесия – пусть там творится что угодно, только не у него на глазах. Но сегодня он повернулся и посмотрел на дверь. А потом толкнул ее своей незастрахованной правой рукой.
Масса рулонов пастельной ткани, напоминавших бревна, толпилась вокруг длинных рабочих столов, теснила швейную машину, стекала по полу. В этом потоке сталкивались между собой катушки с лентами, пробитые мешки парфю-мированных гранул, булавки, пуговицы. На этих бревнах по комнате плыли четыре вида мышек-пышек – некоторые залихватски балансировали, словно заправские дровосеки, другие в ужасе цеплялись за ткань, точно жертвы потопа.
Родни уставился на их личики, глядевшие снизу вверх – кто с мольбой, кто с апломбом. Он рассматривал их, пока это не стало невыносимым, – то есть в течение примерно десяти секунд. Потом повернулся и, тяжело ступая, вышел в коридор. Проследовал мимо ванной, не остановившись, чтобы послушать голоса Имми и Лулы, вошел в музыкальную комнату и захлопнул за собой дверь. Усевшись за кла-викорд, он набрал в грудь воздуха и начал играть одну из партий ми-бемольного дуэта Мютеля.
Это была сложная пьеса. Иоганн Готтфрид Мютель, последний ученик Баха, был сложным композитором. Он всего три месяца учился у Баха. После этого уехал в Ригу и растворился в балтийских сумерках своего гения. Теперь уже мало кто знал, кто такой Мютель. Только те, кто играл на клавикорде. Для них сыграть Мютеля было наивысшим достижением.
Родни хорошо начал.
Десять минут спустя Ребекка сунула голову в дверь.
– Девочки уже готовы, – сообщила она.
Родни продолжал играть.
Ребекка повторила то же громче, и Родни остановился.
– Сама почитай им, – ответил он.
– Мне надо позвонить.
Родни сыграл ми-бемольную гамму правой рукой.
– Я занимаюсь, – сказал он и посмотрел на свою руку, словно ученик, впервые сыгравший гамму, и не отрывал от нее взгляда, пока Ребекка не исчезла. Тогда он встал и едва ли не с яростью хлопнул дверью. Вернувшись за клавикорд, он начал пьесу с самого начала.
Мютель написал немного. Он сочинял, только если у него было настроение. Прямо как Родни. Родни играл, только если у него было настроение.
Сегодня вечером оно было. Следующие два часа Родни снова и снова играл дуэт Мютеля.
Он играл хорошо, с большим чувством. Но делал ошибки. Он не сдавался. Чтобы немного утешиться, сыграл напоследок французскую сюиту Баха в ре-миноре – он играл ее много лет и знал наизусть.
Вскоре он раскраснелся и вспотел. Хорошо было снова играть так самоотверженно и пылко. Когда он наконец закончил, колокольные ноты все еще звенели у него в ушах и отражались от низкого потолка. Родни опустил голову и закрыл глаза. Он вспоминал те полтора месяца, когда ему было двадцать шесть, когда он самозабвенно и незримо играл в пустых концертных залах ФРГ. На столе за ним зазвонил телефон, Родни повернулся и взял трубку:
– Алло.
– Добрый вечер, это Родни Веббер?
Родни осознал свою ошибку, но ответил:
– Он самый.
– Меня зовут Джеймс Норрис, я представляю компанию «Ривз коллекшен». Мне известно, что вы уже знакомы с нашей организацией.
Если повесить трубку, они позвонят снова. Если сменить номер, они найдут новый. Единственный путь – попытаться договориться, приостановить их, наобещать с три короба и выиграть немного времени.
– Боюсь, что очень хорошо знаком. – Родни пытался нащупать нужный тон – легкий, но не безразличный или неуважительный.
– Насколько я понимаю, ранее вы общались с мисс Дарлин Джексон. Она занималась вашим делом. До настоящего момента. Теперь им занимаюсь я, и мне хочется верить, что мы с вами что-нибудь придумаем.
– Я тоже на это надеюсь, – сказал Родни.
– Мистер Веббер, я берусь за дело, если оно запутывается, и пытаюсь распутать. Как я вижу, мисс Джексон предлагала вам различные планы выплат.
– В декабре я перевел вам тысячу долларов.
– Это так. И это было хорошее начало. Согласно записям, вы договорились перевести две тысячи долларов.
– Мне не удалось собрать так много денег. Было Рождество.
– Мистер Веббер, давайте не будем усложнять дело. Вы перестали вносить платежи нашему клиенту, магазину «Старинная музыка», больше года назад. Так что Рождество тут ни при чем, не так ли?
Родни не особо нравилось беседовать с Дарлин. Но теперь он понял, что Дарлин вела себя разумно и с ней можно было договориться – в отличие от этого Джеймса. В голосе Джеймса было нечто не столько угрожающее, сколько непреклонное – эдакая каменная стена.
– Вы задолжали за музыкальный инструмент, верно? За какой именно?
– За клавикорд.
– Не слышал о таком.
– Это неудивительно.
Мужчина снисходительно хохотнул:
– К счастью, мне по работе не положено разбираться в старинных инструментах.
– Клавикорд – это предшественник пианино, – сказал Родни. – Только в нем играют тангенты, а не молоточки. Мой клавикорд…
– Видите ли, мистер Веббер, вот тут вы ошибаетесь. Он не ваш. Этот инструмент по-прежнему принадлежит магазину «Старинная музыка» в Эдинбурге. Вы взяли его взаймы у магазина, пока не погасите долг.
– Я думал, вам захочется узнать, что это за инструмент, – сказал Родни.
Когда это его голос поднялся на такие высоты? Все просто: ему всего лишь хотелось поставить на место Джеймса Норриса из компании «Ривз коллекшен». В следующий момент он услышал, как говорит:
– Это копия, выполненная Диком Вервольфом, в духе клавикорда, сделанного мастером Бодехтелем в 1790 году.
– Давайте перейдем к делу, – сказал Джеймс.
Но Родни не позволил ему перейти к делу:
– Я этим занимаюсь, – продолжил он, и голос его звучал натужно, напряженно, перекрученно. – Я этим занимаюсь. Я играю на клавикорде. Мне нужен инструмент, чтобы зарабатывать на жизнь. Если вы его заберете, я не смогу заплатить вам. Или магазину «Старинная музыка».
– Можете оставить клавикорд себе. Буду только рад. Вам просто надо выплатить его полную стоимость к пяти часам завтрашнего дня посредством подтвержденного чека или денежного перевода из банка, и можете играть на своем клавикорде, сколько вашей душе угодно.
Родни горько рассмеялся:
– Очевидно, что это невозможно.
– Тогда, к сожалению, нам придется забрать у вас инструмент завтра в пять часов дня.
– Я не смогу собрать так много к завтрашнему дню.
– Это последнее предложение.
– Должен быть какой-то выход…
– Выход только один, Родни. Полная стоимость.
Родни неловко, яростно грохнул трубкой – рука его была словно кирпич, которым он пытался бросить кирпич.
Несколько мгновений он не двигался. Потом повернулся и положил руки на клавиатуру.
Он будто бы искал пульс. Пробежал пальцами по золотому орнаменту, по верхушкам застывших клавиш. Ему доводилось играть на клавикордах покрасивее и поизысканнее. Этот инструмент нельзя было сравнить с клавикордом мастера Хасса. Однако он принадлежал ему – ранее принадлежал, если быть точным, – и был достаточно хорош и выразителен. Родни никогда не приобрел бы его, если бы Ребекка не послала его в Эдинбург. Он и не узнал бы, как сильно страдает от депрессии и каким счастливым на некоторое время его делает клавикорд.
Его правая рука снова начала играть Мютеля.
Родни понимал, что никогда не был первоклассным музыковедом. В лучшем случае он был очень средним исполнителем – хотя играл всегда от души. Пятнадцатиминутные занятия по утрам и вечерам не позволят ему продвинуться дальше.
В профессии клавикордиста всегда было что-то жалкое. Родни прекрасно это понимал. Тем не менее, Мютель все равно звучал великолепно, когда он его играл, несмотря на ошибки, – возможно, отчасти благодаря старомодности этой музыки. Он поиграл еще минуту. Потом положил руки на теплое дерево клавикорда, нагнулся и уставился на нарисованный на крышке сад.
Он покинул музыкальную комнату в одиннадцатом часу вечера. В квартире было темно и тихо. Он не стал включать свет, чтобы не будить Ребекку, и разделся в темноте, нащупав в шкафу вешалку.
Оставшись в одном белье, он дошаркал до своей стороны кровати и заполз под одеяло, после чего привстал на локте, чтобы проверить, спит ли Ребекка. Но тут он понял, что ее сторона кровати пуста. Она все еще работала у себя в кабинете.
Родни рухнул на спину и застыл. Подушка под ним лежала неправильно, но у него не хватало сил приподняться и передвинуть ее.
Его ситуация не так уж и отличалась от других. Он просто чуть раньше уперся в тупик. Но ведь то же самое происходило с рок-звездами и джазовыми музыкантами, писателями и поэтами (с поэтами уж точно), с бизнесменами, биологами, программистами, бухгалтерами и флористами. Творцы, ученые и все остальные, Менно ван Делфт и Родни Веббер, даже Дарлин и Джеймс из «Ривз коллекшен» – разницы никакой. Никто не знал, как звучала музыка на самом деле. Приходилось действовать наугад и делать все что можешь. Что бы вы ни играли, у вас не было заведомо верного строя или написанной от руки схемы, а чтобы увидеть клавиатуру самого Мастера, требовалась виза, в которой вам неизменно отказывали. Порой вам казалось, что вы слышите музыку, – особенно в молодости, – а потом вы тратили остаток жизни на попытки воспроизвести ее.
Вся жизнь – это старинная музыка.
Спустя полчаса в комнату вошла Ребекка. Он еще не спал.
– Можно включить свет? – спросила она.
– Нет.
– Ты долго занимался, – сказала она после паузы.
– Повторение – мать учения.
– Кто звонил? Кто-то же звонил.
Родни промолчал.
– Ты же не ответил? Они стали звонить все позже и позже.
– Я занимался. Не стал отвечать.
Ребекка села на краю кровати и бросила что-то Родни. Он поднял предмет и прищурился. Берет, волчья пасть. Богемная Мышь.
– Брошу это все, – сказала Ребекка.
– Что?
– Мышей. Я сдаюсь. – Она встала и начала раздеваться, роняя одежду на пол. – Стоило закончить диссертацию. Тогда я была бы профессором. А теперь я просто мам, мам, мам, мам. Мамочка, которая шьет плюшевые игрушки.
Она ушла в ванную. Родни слышал, как она чистит зубы, умывается. Она вернулась и забралась в постель.
– Не сдавайся, – сказал Родни после долгой паузы.
– Почему? Ты же хотел, чтобы я бросила.
– Я передумал.
– Почему?
Родни сглотнул:
– Эти мыши – наша единственная надежда.
– Знаешь, чем я сегодня занималась? Сначала я вытащила мышь из мусорки. Потом распорола шов и высыпала мускусные гранулы. После этого засыпала туда коричные и зашила мышь. Так прошел мой вечер.
Родни поднес мышь к носу.
– Хорошо пахнет, – сказал он. – Эти мыши обречены на успех. Ты нам еще миллион заработаешь.
– Если я заработаю миллион, – произнесла Ребекка, – заплачу за твой клавикорд.
– Договорились, – ответил Родни.
– И ты сможешь уволиться и заниматься только музыкой.
Она повернулась к нему и поцеловала в щеку, потом отвернулась и уложила подушки поудобнее.
Родни держал мышь у носа, вдыхая ее пряный запах. Он продолжал нюхать и после того, как Ребекка уснула. Если бы под рукой была микроволновка, Родни разогрел бы Богемную Мышь, чтобы оживить ее букет. Но микроволновка была далеко, в облезлой кухне, поэтому он продолжил лежать и нюхать мышь – она уже остыла и почти не пахла.
2005
Таймшер
Отец показывает мне свой новый мотель. Он уже объяснил, что это место нельзя называть мотелем, но я все равно называю. Отец говорит, что это будет гостиница, работающая по принципу таймшера – многовладельческой собственности. Пока мы с ним и матерью идем по тусклому коридору (некоторые лампочки перегорели), отец перечисляет последние усовершенствования.
– У нас новое патио с видом на океан, – говорит он. – Должен был прийти ландшафтный дизайнер, но он собрался содрать с нас три шкуры, так что я все спроектировал сам.
Большинство построек еще не отремонтировали. Когда отец взял кредит, чтобы выкупить это место, здесь царила разруха. Теперь, по словам матери, все выглядит куда лучше. Первым делом они перекрасили стены и заменили крышу. В каждом номере будет своя кухонька. Пока занято всего несколько номеров. Двери еще есть не везде. Все вокруг прикрыто брезентом, чтобы не попала краска, а на земле лежат сломанные кондиционеры. Задрипанный ковролин отстает от пола и загибается по краям. В некоторых стенах – дыры размером с кулак, следы присутствия молодежи, проводившей тут весенние каникулы. Отец планирует постелить новое покрытие и не пускать сюда студентов.
– Или в крайнем случае буду брать с них большой залог, – говорит он. – Сотни три. И найму охрану на пару недель. Но вообще мне хотелось бы устроить место пошикарнее. И нахрен эту молодежь.
Возглавляет реставрацию Бадди. Отец нашел его на шоссе – там, где по утрам выстраиваются поденщики. Бадди, небольшой краснолицый мужичок, получает за свои труды пять долларов в час.
– Здесь, во Флориде, ставки куда ниже, – поясняет отец.
Мама поражается тому, какой Бадди сильный при своем росте. Вчера она видела, как он волок цементные блоки к свалке.
– Словно маленький Геркулес! – говорит она.
Мы миновали холл и подошли к лестнице. Взявшись за алюминиевые перила, я едва не вырвал их из стены. Во всех домах Флориды такие стены.
– Чем это пахнет? – спросил я.
Отец, сгорбившись, лез по ступеням вверх и ничего мне не ответил.
– Вы вообще проверили землю, прежде чем покупать? – спросил я. – Может, тут токсические отходы захоронены.
– Да это Флорида, – ответила мать. – Тут везде так пахнет.
От вершины лестницы зеленая ковровая дорожка ведет нас в очередной полутемный коридор. Отец шагает впереди, мать толкает меня, и я вижу наконец, о чем она говорила раньше: он хромает из-за больной спины. Она умоляет его сходить ко врачу, но он не поддается. Иногда спина отказывает, и он проводит день в ванне (ванне номера 308, где временно живут родители).
Мы проходим мимо тележки, загруженной моющими средствами, тряпками и швабрами. В дверях стоит горничная – крупная негритянка в голубых джинсах и халате. Отец проходит мимо нее молча. Мама бодро здоровается, и горничная кивает в ответ.
Посреди коридора – маленький балкончик.
– Полюбуйтесь! – говорит отец, когда мы выходим.
Сначала мне кажется, что он имеет в виду океан – я вижу его впервые, он шумит и бурлит. Но тут я вспоминаю, что отец никогда не интересовался природой. Он имеет в виду патио. Красная плитка, синий бассейн, белые кресла и две пальмы. Похоже на настоящий курорт. Сейчас тут пусто, но я могу представить, как это видит отец – шум, толпа, жизнь кипит.
Внизу появляется Бадди с банкой краски.
– Эй, Бадди, – окликает его отец. – То дерево так и стоит все бурое. Ты его проверял?
– Да, приходил тут один мужик.
– Нельзя, чтоб оно умерло.
– Его только что проверили.
Мы смотрим на дерево.
– Высокие пальмы стоили дороже, – поясняет отец. – Это другой вид.
– Мне они нравятся, – говорю я.
– Королевские? Нравятся? Ну, как дела пойдут на лад, купим еще.
Некоторое время мы молчим, разглядывая патио и потемневший океан.
– Вот все доделаем и заработаем миллион! – восклицает мать.
– Тьфу-тьфу-тьфу, – говорит отец.
Пять лет назад отец уже заработал миллион. Ему тогда только исполнилось шестьдесят. Проработав всю жизнь в ипотечном банке, он решил работать на себя. Купил кондоминиум в Форт-Лодердейле, перепродал его и неплохо заработал. Потом он повторил то же самое в Майами. К тому моменту у него уже было достаточно денег, чтобы уйти на покой, но вместо этого он купил новый кадиллак и пятидесятифутовый катер. Потом купил самолет с двумя моторами и научился им управлять, а затем стал летать по стране, скупая недвижимость, – в Калифорнию, на Багамы, над океаном. Он был сам себе хозяин, и его характер заметно улучшился. Потом все переменилось. Прогорел лыжный курорт в Северной Каролине, одно из его приобретений. Оказалось, что партнер присвоил сто тысяч долларов. Отец потащил его в суд, что также стоило денег. Тем временем одна ссудо-сберегательная компания подала на отца иск за то, что проданные им ипотеки не были погашены. Счета от юристов продолжали копиться. Миллион быстро иссяк. Отец строил различные схемы, чтобы удержать его в руках. Он купил компанию, производившую сборные дома. Это что-то вроде домов на колесах, объяснял он, только посолиднее. Такие дома изготавливались заранее, их можно было собрать где угодно, и после этого они выглядели совсем как настоящие. В текущей экономической ситуации люди нуждались в дешевом жилье. Сборные дома разлетались как горячие пирожки.
Отец отвел меня посмотреть первый. Это было два года назад, на Рождество, когда у родителей еще был кондоминиум. Мы только-только закончили разворачивать подарки, и тут отец сказал, что хочет мне кое-что показать. Вскоре мы уже катились по шоссе. Покинув знакомую мне Флориду – пляжи, небоскребы и развитые районы, мы оказались в местности победнее. С деревьев свисал испанский мох, кругом стояли некрашеные деревянные дома. Поездка заняла около двух часов. Наконец мы увидели вдали луковицу водонапорной башни с надписью «Окала»[18]. Мы въехали в город, проследовали мимо ряда аккуратных домиков и покатились дальше.
– Я думал, это в Окале, – сказал я.
– Чуть дальше, – ответил отец.
Мы вновь попали в сельскую местность, углубились в нее и через пятнадцать миль выехали на грунтовую дорогу. Она привела нас на вытоптанный голый пустырь. В дальнем конце в грязи стоял сборный дом.
Он и в самом деле не выглядел не так, как передвижной, – не длинный и узкий, а прямоугольный и довольно широкий. Состоял он из трех-четырех частей, которые скрутили вместе и накрыли вполне традиционно выглядящей крышей.
Мы выбрались из машины и двинулись по кирпичной дорожке, чтобы разглядеть дом поближе. Муниципалитет только начал прокладывать сюда канализацию, и земля перед домом – сад, как назвал ее отец, – была перекопана. Из грязи торчали три чахлых кустарника. Отец осмотрел их и махнул рукой в сторону поля:
– Здесь все будет покрыто травой, – сказал он.
Входная дверь располагалась в полутора футах над землей. Крыльцо еще не построили, но планировали. Отец открыл дверь, и мы забрались внутрь. Когда я закрыл за собой дверь за собой, стена заколыхалась, словно театральная декорация. Я постучал по ней, чтобы понять, что это за материал, и раздался гулкий жестяной звук. Повернувшись, я увидел отца – он стоял посреди гостиной, ухмыляясь, и тыкал пальцем куда-то в воздух:
– Этого добра тут довольно, – сказал он. – Храмовый потолок называется. Без обшивки. Десять футов. Есть где развернуться.
Несмотря на тяжелые времена, дом так и не купили, и отец, списав его как убыток, перешел к другим проектам. Вскоре я начал получать от него письма о создании предприятий – в них говорилось, что я стал вице-президентом корпорации «Барон Девелопмент», или «Атлантик Гласс», или мини-склада «Фиделити». Отец уверял, что когда-нибудь у меня появится куча денег. Единственным, что появилось в моей жизни после этого, был человек с протезом. Как-то утром у меня зазвенел домофон. Я впустил посетителя и услышал, как он карабкается по лестнице. Сверху я видел светлую щетину на лысой голове и слышал его тяжелое дыхание. Я принял его за курьера. Преодолев лестницу, он спросил, не я ли вице-президент «Дьюк Девелопмент». Это вполне вероятно, сказал я. Он вручил мне повестку.
Дальше началась какая-то юридическая неразбериха. Через некоторое время я уже перестал следить за этим делом. Тем временем брат сообщил, что родители живут на свои сбережения, папину пенсию и кредиты. Наконец отец нашел эту развалюху на побережье, «Пальма Бэй Резорт», и убедил очередной банк выдать ему ссуду. Он собирался все отремонтировать, пользуясь своим опытом, а когда пойдут постояльцы, выплатить кредит.
Когда мы осмотрели патио, отец захотел показать мне апартаменты, сделанные как образец.
– Неплохо вышло, – говорит он. – Пока что всем очень нравится.
Мы снова проходим по темному коридору, спускаемся по лестнице и идем по коридору первого этажа. У отца есть универсальный ключ, и он открывает номер 103. Освещение в коридоре не работает, и мы пробираемся в спальню через темную гостиную. Когда отец зажигает свет, меня охватывает странное ощущение, словно я тут уже был. И вдруг я понимаю – это прежняя спальня родителей. Они перевезли сюда мебель из старого дома: китайские комоды и подходящее к ним изголовье кровати, покрывало с павлином, золотые лампы. Раньше эти предметы заполняли куда более просторное помещение, а теперь вынуждены тесниться в этой комнатке.
– Это же ваши вещи, – замечаю я.
– Хорошо встало, а? – спрашивает отец.
– А у вас какое покрывало?
– У нас в комнате две односпальные кровати, – говорит мать. – Это бы не подошло. У нас обычные покрывала, как в других комнатах. Отельные. Все нормально.
– Посмотри гостиную, – предлагает отец.
Я следую за ним. Поискав, он находит-таки работающий выключатель. В этой комнате стоит новая мебель, которая уже ни о чем мне не напоминает. На стене висит картина, изображающая пляж и принесенные морем коряги.
– Как тебе картина? Мы с полсотни таких купили. Пять баксов за штуку, и все разные. Одни с морскими звездами, другие с ракушками. Морская тема. Это масло, с подписью. – Он подходит к стене, снимает очки и читает: – Цезарь Амаролло! Да это ж лучше, чем Пикассо. – Он поворачивается ко мне и счастливо улыбается.
Я приехал на пару недель. Не буду говорить, почему. Отец отдал мне номер 207 – с видом на океан. Он называет номера апартаментами, потому что в бытность этого места мотелем они назывались номерами. В моих апартаментах есть небольшая кухонька. И балкон. С него я наблюдаю поток машин, едущих по пляжу. Отец говорит, что это единственное место во Флориде, где разрешено автомобильное движение на пляже.
Мотель сверкает на солнце. Кто-то чем-то стучит. Пару дней назад отец начал предлагать всем, кто остановится тут на ночь, бесплатный солнцезащитный крем. Об этом сообщает реклама у входа, но пока что никто не воспользовался предложением. Сейчас здесь всего несколько семей – в основном пожилые пары. Одна из женщин передвигается в электрической инвалидной коляске. По утрам она выезжает к бассейну и сидит там, а потом к ней присоединяется муж – бледный мужчина с халате и фланелевой рубашке.
– Мы больше не загораем, – говорит она. – После определенного возраста перестаешь загорать. Взгляните только на Курта. Мы здесь уже неделю, но это весь его загар.
Иногда Джуди – она работает в офисе – выходит позагорать в обед. Она живет в комнате на третьем этаже – это входит в зарплату. Она из Огайо и заплетает волосы в высокую косу, словно пятиклашка.
По ночам мать, лежа в своей гостиничной кровати, видит вещие сны. Ей приснилась прохудившаяся крыша за пару дней до того, как она протекла на самом деле. Ей приснилось, что тощая горничная уволится, и на следующий день тощая горничная действительно уволилась. Ей приснилось, что кто-то нырнул в пустой бассейн и сломал шею (вместо этого сломался фильтр, и из бассейна пришлось слить воду, но онамать сказала, что это тоже считается). Все это она рассказывает, сидя у бассейна. Я купаюсь, она болтает ногами в воде. Моя мать не умеет плавать. Последний раз я видел ее в купальнике, когда мне было пять. Она из тех женщин, что легко обгорают и покрываются веснушками, и сейчас вышла на бой с солнцем, защищаясь соломенной шляпой, исключительно ради того, чтобы поведать мне об этом странном феномене – вещих снах. Мне кажется, будто она пришла забрать меня после уроков. Во рту у меня привкус хлорки. Но потом я опускаю взгляд, вижу волосы у себя на груди (гротескно черные на фоне белой кожи) и вспоминаю, что я уже вырос.
Сегодня ремонтные работы ведутся в дальнем конце здания. Я видел, как Бадди скрылся в комнате с гаечным ключом в руках. Мы остались вдвоем, и мать говорит, что все это от того, что она лишилась корней.
– Мне бы это все не снилось, будь у меня нормальный дом. Я же не какая-то там цыганка. Просто мы постоянно перезжаем с места на место. Сначала был тот мотель в Хилтон-Хед. Потом Веро. Потом звукозаписывающая студия, в которой не было окон, – я там чуть не померла. А теперь это. Все мои вещи на складе. Они мне тоже снятся. Мои диваны, мои тарелочки, все наши старые фотографии. Почти каждую ночь снятся.
– И что с ними происходит во сне?
– Ничего. Просто за ними никто не приходит.
Когда дела пойдут на лад, родители планируют несколько медицинских процедур. Мама уже некоторое время хочет сделать подтяжку. Когда у них водились деньги, она даже сходила к пластическому хирургу, который сфотографировал ее лицо и составил схему. Оказалось, что это не просто подтягивание обвисшей кожи, – надо было укрепить некоторые кости. Нёбо у матери с годами опустилось. Прикус стал неровным. Чтобы восстановить череп, на который потом натянут кожу, требовалась стоматологическая операция. Первую из процедур уже назначили, как вдруг отец выяснил, что его партнер мошенничает. В последующей суматохе затею пришлось отложить.
Отец тоже откладывает две операции. Первая – операция на межпозвоночных хрящах, которая избавила бы его от боли в пояснице. Вторая – операция на простате, чтобы убрать закупорку уретры и усилить поток мочи. Во втором случае задержка связана не только с финансовыми факторами.
– Тебе туда засовывают щуп, и это жутко больно, – признается отец. – К тому же может начаться недержание.
Вместо этого он бегает в туалет по пятнадцать-двадцать раз в день, и ни один из этих визитов не приносит ему полного удовлетворения. В перерывах между вещими снами мать слушает, как отец встает и ходит туда-сюда.
– У твоего отца уже не такой бурный поток, – говорит она мне. – Когда с кем-то живешь, замечаешь такие вещи.
А мне нужна новая пара обуви. Практичной обуви. Подходящей для тропиков. Я, как дурак, приехал сюда в черных брогах, один из них – с дырявой подошвой. Мне нужны шлепанцы. Каждый вечер я объезжаю бары на отцовском кадиллаке (яхты и самолета уже нет, но у нас еще остался желтый кадиллак «Флорида» с обивкой из белого винила). По пути я вижу сувенирные магазины, окна которых забиты футболками, ракушками, панамами, разрисованными кокосами. Каждый вечер я думаю, что надо бы остановиться и купить шлепанцы, но пока так этого и не сделал.
Как-то утром я спускаюсь и вижу, что в офисе царит хаос. Секретарша Джуди сидит за своим столом и жует кончик косички.
– Твой отец уволил Бадди, – сообщает она, но не успевает изложить подробности – в комнату входит гость и начинает жаловаться на протечку.
– Прямо над кроватью! – говорит он. – Я не собираюсь платить за номер с протечкой над кроватью! Нам пришлось спать на полу! Я приходил сюда, чтобы поменять номер, но тут никого не было!
В этот момент в офис входит отец, а вместе с ним – древесный хирург.
– Вы же говорили, что это выносливая пальма!
– Так и есть.
– Что же тогда случилось?
– Земля плохая.
– Вы не говорили, что надо поменять землю! – восклицает отец.
– Дело не только в земле, – говорит хирург. – Деревья как люди. Они болеют. Почему – неизвестно. Может, ей воды не хватало.
– Мы ее поливали! – Отец уже кричит. – Каждый, сука, день! А теперь, значит, она померла?
Постоялец с протечкой пытается объяснить отцу, что случилось, но на середине рассказа отец перебивает его.
– Джуди, заплати этому мудаку! – говорит он и тычет пальцем в древесного хирурга, после чего снова поворачивается к постояльцу. Дослушав до конца, отец предлагает вернуть деньги и провести у нас еще одну ночь бесплатно.
Десять минут спустя, сидя в машине, я выслушиваю эту несуразную историю целиком. Отец уволил Бадди за пьянство на работе.
– Знал бы ты, как он пил! – говорит отец. Этим утром он застал Бадди лежащим на полу комнаты 106 под кондиционером. – Предполагалось, что он его чинит. Я все утро ходил туда-сюда и каждый раз видел, как Бадди лежит под кондиционером. Ни хрена себе, думаю. Но тут явился этот дебил, якобы специалист по деревьям, и я забыл про Бадди. Мы пошли смотреть на пальму, этот мне что-то втирает про климат, я ему говорю, что позвоню в питомник. Мы идем обратно в офис. Проходим номер 106. И я замечаю, что Бадди все еще лежит!
Подойдя поближе, отец увидел, что Бадди уютно устроился на полу – глаза закрыты, во рту – шланг кондиционера. Видимо, в охладительной жидкости содержался спирт. Бадди требовалось только отсоединить шланг и отхлебнуть. В последний раз он переборщил и отключился.
– Все было понятно, – сказал отец. – Последнюю неделю он только и делал, что возился с кондиционерами.
Вызвав скорую помощь (Бадди увезли, так и не добудившись), отец позвонил в питомник. Там отказались возвращать деньги или менять пальму. Кроме того, всю ночь шел дождь, а никто не сообщил ему о протечках. Крыша над его ванной тоже дала течь. Новая крыша, которая обошлась в кругленькую сумму, была неправильно установлена. Теперь ее следовало как минимум заново обмазать варом.
– Мне нужно, чтобы туда кто-то залез и промазал стыки. Протекают именно стыки. Может, я так пару баксов сэкономлю.
Пока отец говорит, мы едем по трассе А1А. Уже около десяти утра, и местные бродяги вышли на обочины в поисках подработки. Их сразу можно узнать по густому загару. Отец проезжает мимо нескольких – почему он отверг их, мне непонятно. Потом он видит белого мужчину слегка за тридцать в зеленых штанах и футболке из Диснейленда, который поедает сырую цветную капусту, и останавливает кадиллак рядом с ним. Он нажимает на кнопку, и стекло у пассажирского сиденья ползет вниз. Мужчина моргает, пытаясь разглядеть, кто скрывается в прохладной темноте автомобиля.
По ночам, когда родители засыпают, я езжу в город. В отличие от многих мест, где они жили прежде, в Дайтона-Бич царит довольно пролетарская атмосфера. Здесь меньше стариков, больше байкеров. В баре, куда я хожу, есть настоящая живая акула. В ней три фута, и она плавает в аквариуме над горой бутылок. Ей как раз хватает места, чтобы развернуться и проплыть в обратном направлении. Не знаю уж, как на нее действует освещение. На танцовщицах – бикини, некоторые из них сверкают, словно рыбья чешуя. Девушки перемещаются по залу, словно русалки, а акула бьется головой о стекло.
Я был здесь уже три раза и знаю, что девочки считают меня студентом художественной школы, что демонстрировать грудь им запрещает закон штата и что они приклеивают на соски наклейки. Я уже выяснил, что за клей они используют («Элмере»), как снимают наклейки (теплой водой) и что думают о такой работе их молодые люди (им нравятся деньги). За десять долларов девушка возьмет вас за руку, проведет мимо столов, за которыми в основном сидят одинокие мужчины, в дальний, более темный конец заведения. Потом усадит на банкетку и начнет тереться о вас на протяжении двух песен. Иногда она будет брать вас за руки и спрашивать:
– Ты что, не умеешь танцевать?
– Я танцую, – ответите вы, хотя и сидите, не двигаясь.
В три часа ночи я ехал домой и слушал по радио кантри, чтобы напомнить себе, что нахожусь далеко от дома. Обычно к этому моменту я уже напивался, но ехать было недалеко, максимум милю – неспешный путь вдоль прибрежных домов, больших и маленьких отелей, тематических мотелей для автомобилистов. Один из них называется «Стоянка викингов». Чтобы попасть в него, надо проехать под дракка-ром, служащим в качестве навеса для автостоянки.
До весенних каникул еще больше месяца. Большинство отелей не заполнены и наполовину. Многие не работают. Мотель рядом с нами еще открыт – он декорирован в полинезийском духе. У бассейна работает бар в травяной хижине. Наш отель выглядит пошикарнее. Дорожка из белого гравия ведет к двум миниатюрным апельсиновым деревьям, стерегущим вход. Отец счел нужным потратиться на его оформление, поскольку это первое, что видят гости. Внутри, в левой части застланного плюшевыми коврами лобби, офис продаж. У Боба Макхью, нашего агента, на стене висит чертеж территории, на котором помечены свободные апартаменты и недели, доступные для таймшера. Сейчас, впрочем, у нас чаще бывают постояльцы, которые хотят остановиться на ночь. Обычно они приезжают на парковку сбоку от здания и общаются с Джуди в офисе.
Пока я был в баре, снова прошел дождь. Добравшись до нашей парковки, я слышу, как с крыши мотеля капает вода. В комнате Джуди горит свет. Я раздумываю, не постучаться ли к ней. Привет, это сынок хозяина! Пока я размышляю, планирую и слушаю стук капель, свет гаснет, а вместе с ним, кажется, весь отцовский отель погружается во тьму. Я тянусь к крыше кадиллака, чтобы его тепло успокоило меня, и пытаюсь представить путь наверх – где начинаются ступеньки, сколько пролетов предстоит преодолеть, сколько дверей надо пройти, прежде чем я окажусь в своей комнате.
– Иди сюда, – говорит отец. – Покажу кое-что.
На нем теннисные шорты, в руке – ракетка для ракетбола. На прошлой неделе Джерри, наш новый рабочий (тот, кого наняли вместо Бадди, как-то утром просто взял и не пришел), наконец-то убрал из ракетбольного зала лишние кровати и шторы. Отец распорядился, чтобы там покрасили пол, и вызвал меня на соревнование. Но зал плохо вентилировался, пол стал влажным и скользким, и после четырех очков игру пришлось прекратить. Отец боялся сломать бедро.
Он заставил Джерри притащить из офиса старый осушитель воздуха, и утром они уже сыграли несколько раз.
– Как пол? – спрашиваю я.
– Скользит немножко. Этот осушитель гроша ломаного не стоит.
То есть дело не в новом, сухом ракетбольном зале. Судя по выражению лица, отец хочет показать мне нечто куда более значительное. Прихрамывая (физическая нагрузка никак не помогла его спине), он ведет меня на третий этаж, а потом мы поднимаемся по еще одной узенькой лесенке, которую я раньше не замечал. Она ведет прямо на крышу. Там стоит еще одно здание – довольно большое, вроде бункера, но со множеством окон.
– Ты же не знал, так? – спрашивает отец. – Это пентхаус. Мы с матерью переедем туда, как только его закончат.
Дверь пентхауса выкрашена в красный цвет, перед ней – коврик с надписью «Добро пожаловать». Он стоит прямо в центре промазанной варом крыши. Отсюда не видны окружающие здания – только небо и океан. Перед домом отец поставил небольшой мангал.
– Можем сегодня поужинать здесь, – говорит он.
Мама моет в пентхаусе окна. На ней точно такие же желтые перчатки, какие они надевала, когда мыла окна в нашем доме в пригороде Детройта. В настоящее время здесь привели в порядок две комнаты. Третью используют как кладовую, и она уставлена лабиринтом стульев и столов. В гостиной за зеленым виниловым креслом стоит телефон. На стене висит один из натюрмортов – ракушки и кораллы.
Солнце садится. Мы ужинаем, сидя на складных стульях.
– Здесь будет хорошо, – произносит мать. – Словно посреди неба.
– Мне нравится, что тут никого не видно, – говорит отец. – Частный вид на океан прямо из своего сада. Дом таких размеров на побережье обошелся бы в целое состояние. Когда мы расплатимся за это место, оно будет нашим. Можем оставить его в семье, передавать из поколения в поколение. Захочется тебе приехать и пожить в собственном пентхаусе во Флориде – пожалуйста.
– Круто, – отвечаю я совершенно искренне. Мне впервые кажется, что этот мотель – хорошая идея. Неожиданная свобода, которую дарит крыша, соленая гниль океана, милая нелепость Америки – все сходится воедино, и я могу вообразить, как буду приводить сюда друзей и женщин.
Когда наконец темнеет, мы идем внутрь. Родители еще здесь не ночуют, но нам не хочется уходить. Мать зажигает свет.
Я подхожу и кладу руки ей на плечи:
– Что тебе сегодня снилось? – спрашиваю я.
Она смотрит мне прямо в глаза. В эту минуту она как будто не столько моя мать, сколько обычный человек, со своими проблемами, с чувством юмора.
– Даже и не спрашивай, – говорит она.
Я захожу в спальню, чтобы посмотреть, как там все устроено. Мебель здесь та же, что и в мотеле, но мама поставила на комод фотографию, на которой я с братьями. На двери в ванную висит зеркало. Она открыта, и в зеркале отражается отец. Он писает. Вернее, пытается. Он стоит перед унитазом, опустив пустой взгляд. Он сконцентрирован на некой проблеме, с которой мне еще не приходилось сталкиваться – все еще впереди, но пока что я не понимаю, о чем речь. Он поднимает руку, сжимает в кулак, а потом привычным движением, словно делает так уже много лет, начинает бить себя по животу – там, где должен быть мочевой пузырь. Он меня не видит. Раздаются глухие удары кулака. Наконец, словно услышав сигнал, он останавливается. На мгновение наступает тишина, а потом его струя ударяется об воду.
Мама все еще в гостиной. Над ее головой косо висит натюрморт. Мне хочется поправить его, но потом я думаю – ну его к черту, и выхожу на крышу. Уже стемнело, но я слышу океан. Я смотрю на пляж, на высокие здания – «Хилтон», «Рамаду». Подойдя к краю крыши, я вижу соседний мотель. В травяной хижине горят красные лампы. Подо мной – черные окна нашего мотеля. Прищурившись, я пытаюсь разглядеть патио, но мне ничего не видно. На крыше остались лужи с прошлой ночи, и, наступив в одну из них, я чувствую, как в ботинок попадает вода. Дырка расширяется. Я не задерживаюсь на крыше – мне просто хотелось ощутить мир. Повернувшись, чтобы пойти обратно, я вижу, что отец снова вышел в гостиную и говорит с кем-то по телефону – то ли спорит, то ли смеется. Он трудится над моим наследством.
1997
Найти виноватого
Этот дом у нас лет двенадцать. Мы купили его у пары стариков Ружмонтов – ими до сих пор в доме попахивает, особенно в мастерской и в кабинете, где старый пердун любил вздремнуть деньком, и немножко на кухне.
В детстве, приходя к кому-нибудь, я думал: они что, сами не чувствуют, как от них пахнет? В некоторых домах особенно воняет. У наших соседей Прюитов пахло как в дешевой столовке – прогоркло, но терпимо. У Уиллотов, которые давали уроки фехтования в своей зале, воняло скунсовой капустой. Друзьям про эти запахи говорить было нельзя – они сами так пахли. Гигиена, что ли? Или что-то связанное с железами, и семьи пахли так или иначе из-за каких-то внутренних процессов где-то в глубине тела? Если хорошенько задуматься об этом, начинает тошнить.
А теперь я и сам живу в старом доме со странным запахом.
Раньше жил, вернее. Сейчас-то я обитаю во дворе, прячусь между оштукатуренной стеной и равеналами.
В комнате Мэг горит свет. Пирожочек мой. Ей тринадцать. С моего наблюдательного пункта не видно комнаты Лукаса, но обычно он делает уроки на первом этаже, в зале.
Если б надо мной сжалились и пустили в дом, я бы наверняка застал Лукаса в школьном джемпере и галстуке, вооруженным до зубов: инженерный калькулятор (на месте), выданный в школе айпад (на месте), карточки с латинскими словами (на месте), миска крекеров-рыбок (на месте). Но мне туда нельзя. Это нарушило бы судебный запрет.
Мне нельзя приближаться к моей очаровательной жене, Йоханне, ближе, чем на пятьдесят футов. Это ВЗС (то есть временный судебный запрет), его ввели вечером. Мой адвокат Майк Пикскилл сейчас пытается добиться его отмены. А пока что – сами видите. У вашего покорного слуги Чарли Ди до сих пор хранятся чертежи ландшафтного дизайнера – мы с Йоханной тогда думали заменить эти пальмы на что-нибудь не такое кустистое и менее подверженное вредителям. Поэтому я точно знаю, что расстояние от дома до стены – шестьдесят три фута. Прямо сейчас я примерно на шестьдесят один фут от дома. В любом случае, меня никто не видит – сейчас февраль, и уже темно.
Сегодня четверг, так где же Брюс? Точно. Учится играть на трубе под руководством мистера Талаватами. Скоро Йоханна поедет забирать его из школы. Мне нельзя тут задерживаться.
Если бы я покинул свое укрытие и прокрался вдоль дома, то увидел бы гостевую комнату, где залегал, когда мы с Йоханной особенно сильно ссорились, и где прошлой весной – после того, как Йоханна получила повышение в «Хенде», – я начал трахать нашу няню Шайен.
А если бы я прошел еще глубже в сад, то встретился бы со стеклянной дверью, которую разбил, когда швырнул в нее садового гнома. Я тогда был пьян, конечно.
Да, сэр. Йоханне есть что предъявить на семейной терапии.
Сейчас не совсем уж мороз, но для Хьюстона холодновато. Когда я нагибаюсь, чтобы достать из ботинка телефон, у меня стреляет в бедре. Артрит.
Телефон я достал, чтобы поиграть в скрабл. Я начал играть еще в участке, чтобы скоротать время, но потом увидел, что Мэг тоже играет, и послал ей запрос.
В партии «Миссисбибер против Радиоковбоя» первая только что выставила слово «какашка». Пытается выбесить меня. Первая «к» стоит на клетке удвоения слова, а вторая – на клетке удвоения буквы. Всего двадцать восемь очков. Недурно. Я ставлю «козу» – жалкие девять очков. У меня на пятьдесят одно очко больше. Не хочу, чтобы она разозлилась и бросила игру.
Вижу, как ее тень движется по комнате. Но она не набирает слово. Может, болтает по «Скайпу» или пишет в блог, красит ноги.
Мы с Йоханной – она, кстати, настаивает на этой «х» в середине имени – женаты уже двадцать один год. Когда мы познакомились, я жил в Далласе со своей девушкой, Дженни Бреггс. Я тогда консультировал только три радиостанции, разбросанные по всему штату, и большую часть времени проводил в дороге. Как-то раз я приехал в Сан-Антонио на станцию WWWR и встретил там ее. Йоханну. Она расставляла по полкам диски. Высоченная.
– Как погодка наверху? – спросил я.
– Что-что?
– Ничего. Привет, я Чарли Ди. У вас акцент, или мне кажется?
– Да. Я немка.
– Не знал, что в Германии слушают кантри.
– Не слушают.
– Может, там нужна консультация? Просветительская работа. Кто ваш любимый кантри-певец?
– Предпочитаю оперу, – сказала Йоханна.
– Понял. Ну, я тут по делу.
После этого каждый раз, приезжая в Сан-Антонио, я заходил к Йоханне. Когда она сидела, было проще.
– Вы играете в баскетбол, Йоханна?
– Нет.
– А в Германии вообще есть женский баскетбол?
– В Германии я не считаюсь такой уж высокой.
В общем, как-то так все шло. Потом я приезжаю раз, а она смотрит на меня своими голубыми глазищами и спрашивает:
– Чарли, а вы хороший актер?
– Актер или врун?
– Врун.
– Неплохой, – говорю я, – если не врут.
– Мне нужна грин-карта, – говорит Йоханна.
Ускоренная перемотка: я выливаю содержимое водяного матраса в ванну, чтобы поскорее съехать, Дженни Бреггс рыдает. Мы с Йоханной залезаем в фотобудку, чтобы наделать романтических фотокарточек для «семейного альбома». Через полгода мы несем этот альбом в иммиграционную службу.
– Так, мисс Луббок… Правильно я произношу?
– Любек, – отвечает Йоханна. – Над «у» стоит умляут.
– Нет в Техасе никаких умляутов, – говорит офицер. – Значит так, мисс Луббок, вы сами понимаете, что Соединенные Штаты должны быть уверены в том, что те, кого мы принимаем в наши ряды путем бракосочетания с нашими гражданами, на самом деле состоят в отношениях с этими гражданами. Так что я сейчас буду задавать вам всякие личные вопросы, которые могут показаться чересчур интимными. Вы согласны?
Йоханна кивает.
– Когда вы с мистером… – осекшись, он глядит на меня. – Вы что, тот самый Чарли Дэниелс?[19]
– He-а. Поэтому и представляюсь Чарли Ди. Чтобы не путали.
– Вы и похожи на него.
– Ну, я его фанат, – говорю я. – Так что спасибо за комплимент.
Он поворачивается к Йоханне, прямо-таки сочась дружелюбием:
– Когда вы в первый раз вступили с мистером Ди в интимные отношения?
– А вы моей маме не расскажете? – пытается шутить Йоханна.
Но его не собьешь:
– До свадьбы или после?
– До.
– И как бы вы оценили мистера Ди в постели?
– А вы как думаете? Очень высоко, я же замуж за него вышла.
– Есть у его члена какие-либо отличительные особенности?
– На нем написано «Уповаем на Бога». Как у всех американцев.
Офицер с ухмылкой поворачивается ко мне.
– Да она у вас огонь, – говорит он.
– Сам знаю, – отвечаю я.
Тогда, правда, мы еще не спали. Это произошло позднее. Чтобы исполнить роль моей невесты, Йоханне надо было провести со мной какое-то время, узнать меня поближе. Сама-то она из Баварии. У нее есть теория, что, мол Бавария – это такой немецкий Техас. Люди в Баварии куда более консервативные, чем прочие европейские леваки. Они католики, хотя и не особо трепещут перед Богом. Ну и носят всякие там кожаные куртки и прочее. Йоханне хотелось знать о Техасе все, а лучшего учителя, чем я, было не сыскать. Я отвез ее на фестиваль SXSW [20]– тогда он еще не был такой помойкой. И боже мой, как же она смотрелась в голубых джинсах и ковбойских сапогах!
Следующее, что я помню, – мы полетели в Мичиган, чтобы познакомиться с моими. Сам я из Траверса. А разговариваю так потому, что слишком долго тут прожил. Мой братец Тед вечно меня за это чморит. А я ему говорю, что в моем деле по-другому никак.
Может, причина была в самом Мичигане. Стояла зима. Я катал ее на снегоходе, отвез на подледную рыбалку. Мама бы точно не поняла всю эту историю с грин-картой, так что я ей просто сказал, что мы друзья. Но когда мы туда приехали, я услышал, как Йоханна говорит моей сестре, что мы встречаемся. Как-то вечером мы пришли потусить, Йоханна выпила несколько стаканов пабстовского пива [21] и взяла меня за руку под столом. Я не протестовал. Ну представьте себе, сидит она такая, больше шести футов ростом, кровь с молоком, аппетит дай боже, и потихоньку держит меня за руку. Да я просто уписаться был готов от счастья.
Мама положила нас в разные комнаты. Но как-то ночью Йоханна прокралась ко мне в комнату, словно могиканка, и залезла в постель.
– Вживаешься в роль? – спросил я.
– Нет, Чарли, это по-настоящему.
Она обняла меня, и мы покачивались, очень нежно, почти как Мег, когда мы подарили ей котенка – до того, как он умер. Ну то есть поначалу это был такой милый комок пуха, а потом у него начался ящур, и он нас покинул.
– Очень по-настоящему, – сказал я. – Ничего более настоящего со мной и не случалось.
– А это как, по-настоящму?
– Да, мэм.
– А так?
– Погоди-ка, мне надо проанализировать… О да, очень по-настоящему.
Видимо, это называется любовью с пятнадцатого взгляда.
Я смотрю на свой дом и размышляю – ну, неважно о чем, в общем. Дело в том, что я – успешный мужчина в самом расцвете сил. Начал диджеить в колледже и… Ладно, надо признать, что для слота с трех до шести утра в Маркетте мой голос годился, но в реальном мире я уперся в потолок. Не получилось у меня найти работу с микрофоном. Вместо этого занялся телемаркетингом. Потом меня снова охватил прежний зуд, и я начал консультировать радиостанции. Это было в восьмидесятые, когда кантри только начинало знакомиться с роком. Многие станции не успевали за модой. Я говорил, кого и что надо крутить. Сначала у меня было три станции, теперь – шестьдесят семь. Стоят в очереди и спрашивают: «Как же нам подняться на рынке? Пролей на нас свет своей мудрости, Мыслящий Тростник». (Это мой сайт так называется. Как-то оно пошло в народ.)
Но сейчас я совершенно не чувствую в себе никакой мудрости. Ни на граммулечку. «Как это все случилось? – думаю я. – Как я оказался в кустах?»
«Найти виноватого» – этому выражению нас на семейной терапии научили. Мы с Йоханной с год проходили к терапевту, голландке по имени доктор ван дер Ягт. У нее был дом над университетом, и к входам в передней и задней части дома вели разные дорожки. Чтобы, значит, уходящие не сталкивались с приходящими.
К примеру, выходите вы с семейной терапии, а после вас как раз записан ваш сосед.
– Как дела, Чарли Ди? – спрашивает он.
А вы:
– Моя тут говорит, что я вербальный агрессор, но, в общем, ничего так.
Нет уж, спасибо.
Сказать правду, я был не в восторге от терапевта женского пола, к тому же из Европы. Думал, что она скорее встанет на сторону Йоханны.
На первой сессии мы с Йоханной сели на противоположные концы дивана и набросали между собой подушек.
Доктор ван дер Ягт села лицом к нам. Шарф у нее был размером с лошадиную попону.
Она спросила, что нас привело.
Все эти разговоры, наведение мостов – женское дело. Я подождал, чтобы Йоханна сама начала разговор.
Но она тоже как язык прикусила.
Доктор ван дер Ягт предприняла еще одну попытку:
– Йоханна, расскажите мне, что вы чувствуете в браке. Тремя словами.
– Раздражение. Гнев. Одиночество.
– Почему?
– Когда мы только познакомились, Чарли водил меня на танцы. Когда пошли дети, это прекратилось. Теперь мы оба много работаем. Целыми днями не видимся. Но как только Чарли возвращается домой, он идет к костру…
– Могла бы и присоединиться, – говорю я.
– …и пьет. Весь вечер. Каждый вечер. Он на костре женат, а не на мне.
Я пришел, чтобы выслушать Йоханну, понять ее, и я пытался. Но некоторое время спустя я перестал вникать в слова и просто слушал ее голос, эти заграничные интонации. Если б мы с Йоханной были птичками, я бы не узнал ее песню. Это была бы песня, которую поет вид с другого континента, те птицы, что гнездятся на колокольнях или ветряных мельницах, а для моего вида это все звучало бы как обычное труляля.
Например, кострище. Я что, не пытался всех туда заманить? Я что, когда-нибудь говорил, что хочу сидеть там в одиночестве? Нет, сэр. Мне бы хотелось, чтобы мы все были вместе, семьей, наблюдали бы за звездами, а у наших ног потрескивало бы мескитовое дерево. Но Йоханна, Брюс, Мег и даже Лукас не желали этого. Слишком заняты были своими компьютерами, своими инстаграмами.
– Что вы чувствуете, когда слушаете Йоханну? – спросила меня доктор ван дер Ягт.
– Ну, когда мы купили дом, Йоханна была в восторге от этого кострища.
– Да не была я в восторге. Вечно ты думаешь, что мне нравится то же, что и тебе.
– Когда риэлорша водила нас по участку, кто сказал: «Эй, Чарли, гляди-ка, тебе понравится!»?
– Ja, а ты захотел поставить там жаровню. Прямо вот до смерти захотел. Ты вообще хоть раз на ней готовил?
– Стейки жарил в тот раз.
В этот момент доктор ван дер Ягт воздевает свою ручонку:
– Надо преодолеть эти перебранки. Надо понять, что лежит в основе вашего несчастья. Это только внешние причины.
На следующей неделе мы вернулись. И через две недели. Доктор ван дер Ягт велела заполнить опросник, чтобы измерить наши уровни вовлеченности в семью. Она дала нам книги: «Обними меня крепче» (про ошибки в коммуникации в паре) и «Вулкан под кроватью» (про то, как снова начать спать друг с другом, очень знойное чтиво). Я снял с них обложки и надел другие. Так люди на радио думали, что я читаю Тома Клэнси.
Постепенно я усвоил жаргон.
«Найти виноватого» – это вот о чем. Когда вы ругаетесь со своей половинкой, оба пытаются победить. Кто не закрыл дверь гаража? Кто оставил в сливе клок волос, достойный йети? Вам надо понять, что виноватого тут нет. Если вы женаты, в споре победить нельзя. Если вы победили, то ваш партнер проиграл, а значит, и вы проиграли.
Поскольку мужа из меня не вышло, я стал проводить много времени в одиночестве и копаться в себе. Я шел в спортзал, а там – в сауну. Капал в ведро эвкалиптового масла, выливал воду на фальшивые камни, ждал, когда наберется пар, потом переворачивал миниатюрные песочные часы и размышлял, пока сыпался песок. Мне нравилось думать, что жар выплавляет из меня лишний груз. Мне было от чего избавиться, как и любому из вас. Так, чтобы остался чистый Чарли Ди. Большинство мужиков через десять минут выли, что уже сварились, и вываливались из парилки. Только не я. Вместо этого я переворачивал часы и снова брался за дело. Теперь жар выжигал мои настоящие грехи. То, о чем я никому не рассказывал. Например, когда Брюс родился, у него были колики шесть месяцев подряд, и чтобы не выбросить его из окна, я выпивал перед ужином пару бурбонов, а когда никто не видел, использовал Форлока вместо боксерской груши. Он тогда был совсем щенком, восемь-девять месяцев. Обязательно что-нибудь натворит. Я, взрослый мужчина, бил собственную собаку, а когда он скулил и Йоханна кричала: «Ты чего там делаешь?», я отвечал, что он притворяется, что он тот еще актер. Или уже недавно, когда Йоханна летела в Чикаго или Феникс, я думал – может, ее самолет упадет? Интересно, другие так тоже думают, или я один такой? Неужели я настолько ужасен? Считал ли себя воплощением зла Дэмиен в «Омене» и «Омене-2»? Напевал ли он «Славься, Сатана»? О, снова моя песня!
Видимо, все эти размышления были не зря, поскольку я начал замечать паттерны. Например, приходит Йоханна в кабинет и вручает мне крышечку от зубной пасты, которую я забыл закрыть, и поэтому позже, когда она просит меня вынести мусор, я говорю: «Ахтунг!», и у нее просто крышу срывает от злости, и через секунду у нас уже бушует Третья мировая.
Во время терапии, когда доктор ван дер Ягт просит меня высказаться, я говорю:
– Ну, посмотрев на вещи позитивнее, я лучше осознаю, что мы ведем токсичные диалоги. Это наш настоящий враг. Мы не враги друг другу. Это все токсичные диалоги. Хорошо, что мы с Йоханной теперь все поняли и можем объединиться против них.
Легче сказать, чем сделать.
Как-то на выходных мы ужинали с одной парой – с женой, Терри, Йоханна работала в «Хенде», а ее муж, Бертон, приехал с Востока. Я с рождения очень застенчивый, хотя так и не скажешь. Расслабиться в обществе мне помогает пара Маргарит. Все вроде бы шло нормально, и тут эта тетка, Терри, поставила локти на стол и с заговорщическим видом наклонилась к моей жене.
– Ну и как вы познакомились? – спросила она.
Я в это время обсуждал с Бертоном его аллергию на пшеницу.
– Мы решили пожениться из-за грин-карты, – заявила Йоханна.
– Сначала, – вмешался я.
Йоханна не отводила взгляда от Терри:
– Я работала на радиостанции. Моя виза заканчивалась. Мы с Чарли были немного знакомы. Он мне нравился. Так что, ja, мы поженились, я получила грин-карту, а дальше – ja,ja.
– Теперь понятно, – сказал Бертон, оглядывая нас обоих и кивая, словно разгадал какую-то загадку.
– Это вы о чем? – спросил я.
– Чарли, повежливее, – попросила Йоханна.
– Я предельно вежлив, – ответил я. – Вы что, Бертон, считаете, что я невежлив?
– Я имел в виду, что у вас разные национальности. За этим должна была быть какая-то история.
На следующей встрече с семейным терапевтом я впервые начал разговор сам:
– Моя проблема в следующем… У меня есть проблема, между прочим. Когда кто-нибудь спрашивает, как мы познакомились, Йоханна обязательно говорит, что вышла за меня замуж ради грин-карты. Как будто это был какой-то спектакль.
– Неправда, – сказала Йоханна.
– Да постоянно говоришь.
– Ну это же правда, нет?
– Я слышу, что Чарли считает, – вмешалась доктор ван дер Ягт, – что когда вы так говорите, он чувствует, что вы обесцениваете вашу связь, хотя вам самой может казаться, что вы просто констатируете факт.
– А что, мне выдумать историю нашего знакомства? – вопрошает Йоханна.
Согласно «Обними меня крепче», когда Йоханна рассказала Терри о грин-карте, моя связь с ней оказалась под угрозой. Я почувствовал, что Йоханна отдаляется, и это заставило меня потянуться к ней, а точнее, когда мы вернулись домой, я попытался заняться с ней сексом. Поскольку я весь вечер был не очень-то мил (потому что злился из-за гринкарты), она не особо обрадовалась такой идее. Кроме того, я изрядно принял на грудь. В итоге к Йоханне по матрасу с эффектом памяти поползло пьяное, обиженное, втайне напуганное существо. Этот матрас, кстати, был еще одним источником споров, поскольку Йоханна любила его, а я был уверен, что от него-то у меня и болит спина.
Такой у нас был паттерн: Йоханна убегала, а я ее преследовал.
В общем, я трудился, читал и думал. После трех месяцев терапии обстановка в поместье Ди начала улучшаться. Во-первых, Йоханна получила повышение, о котором я уже упоминал. С местного торгового представителя ее повысили до регионального. Мы старались проводить время вдвоем. Я согласился пить поменьше.
В это же время Шайен, девчонка, которая сидела с нашими детьми, как-то ночью заявилась, благоухая помойкой. Оказалось, что отец выставил ее за порог. Она поселилась с братом, но там крутилось слишком много наркотиков, и ей пришлось уехать. Каждый, кто предлагал ей вписку, на деле хотел одного и того же, поэтому под конец Шайен поселилась в своем шевроле. К этому моменту мягкотелая Йоханна, обычно тратившая на выборах свой голос за партию зеленых, предложила Шайен свободную комнату. Йоханна стала чаще уезжать, а значит, нам нужна была дополнительная помощь.
Когда Йоханна была дома, они с Шайен хихикали, словно подружки. Потом Йоханна уезжала, а я пялился в окно на то, как Шайен загорает у бассейна. Можно было пересчитать ей ребра.
Кроме того, ей нравилось сидеть у костра. Приходила почти каждый вечер.
– Позволь представить тебе моего друга, – сказал я как-то. – Джорджа Дикеля[22].
Шайен смерила меня таким взглядом, словно в душу заглянула.
– По закону со мной еще нельзя, – сказала она. – Выпивать.
– Ну голосовать-то тебе уже можно? Ты уже достаточно взрослая, чтобы пойти в армию и защищать свою страну.
Я плеснул ей виски.
Она явно знала, что это такое.
На протяжении всех этих вечеров у костра Шайен заставляла меня забыть, что я – это я, Чарли Ди, покрытый веснушками и следами долгой жизни, а сама она – немногим старше той девчушки, которую ищет Джон Уэйн в «Искателях»[23].
Я начал писать ей с работы. Потом раз – и я уже вожу Шайен по магазинам, покупаю ей рубашку с вышитым черепом, связку трусиков в «Виктории Сикрет» и новый телефон на Андроиде.
– Наверное, не стоит мне брать у вас это все, – говорила Шайен.
– Да ладно, это мелочи, – отвечал я. – Ты так помогаешь нам с Йоханной! Это часть работы, достойная оплата.
Я был наполовину папочкой, наполовину кавалером. По вечерам мы сидели у костра и вспоминали детство – мое было несчастным и давно прошло, ее же было несчастным прямо сейчас.
Половину дней в неделю Йоханна отсутствовала. Она возвращалась домой и, привыкшая к отелям, ожидала, что ее будут обслуживать и складывать туалетную бумагу конвертиком. Потом она опять уезжала.
Как-то вечером я смотрел футбол. Началась реклама рома «Капитан Морган» – очень она мне нравилась – и я подумал, что неплохо бы выпить рому с колой, что немедленно и сделал. В комнату вошла Шайен.
– Что смотрите? – спросила она.
– Футбол. Хочешь выпить? Это пряный ром.
– Нет, спасибо.
– Помнишь, мы тебе трусики покупали? Ну и как они сидят?
– Отлично.
– Ты могла бы стать моделью «Виктории Сикрет».
– Да ладно вам! – Она полыценно захихикала.
– Давай, пройдись-ка для меня. Я оценю.
Шайен повернулась ко мне. Дети уже спали. В телевизоре голосили болельщики. Глядя мне прямо в глаза, Шайен расстегнула пуговицу на шортах и позволила им упасть на пол.
Я грохнулся на колени, точно собирался помолиться. Уткнулся лицом ей в живот, пытаясь вдохнуть. Спустился ниже.
Через некоторое время она задрала ногу, словно тот капитан Морган, ну и мы перешли к делу.
Ужасно. Я знаю. Тут несложно найти виноватого.
Два, может, три раза. Хорошо, ближе к семи. Но потом как-то утром Шайен распахивает отекшие глаза и заявляет:
– Да ты мне в деды годишься!
Дальше она звонит мне на работу и бьется в истерике. Я забираю ее, мы едем в аптеку и покупаем тест на беременность. Она настолько завелась, что не может терпеть до дома, поэтомуя останавливаюсь, и она приседает на обочине. Когда она залезает обратно в машину, у нее по щекам размазана тушь.
– Я не могу рожать! Мне всего девятнадцать!
– Тише, Шайен, давай подумаем, – говорю я.
– Ты будешь растить этого ребенка, а, Чарли? Будешь нас содержать? Ты же старый. У тебя сперма и та старая. Ребенок будет аутистом!
– Да с чего ты взяла?
– Так в новостях говорили.
Долго она не раздумывала. Я против абортов, но решил, что ей виднее. Шайен сказала, что обо всем позаботится. Сама записалась ко врачу. Сообщила, что поедет одна. Только, мол, ей понадобится три тысячи долларов.
Да, я тоже удивился.
Неделю спустя мы с Йоханной пошли на терапию. Когда мы входили к доктору, у меня в кармане завибрировал телефон. Я пропустил Йоханну со словами:
– После тебя, дорогая.
Это было сообщение от Шайен: «Все кончено. Удачи».
Она и не была беременна. Я тогда понял. Хотя наплевать. Главное, что она исчезла. Я был спасен. Увернулся.
И что же я сделал потом? Я вошел в кабинет доктора ван дер Ягт, сел на кушетку и стал разглядывать Йоханну. Мою жену. Уже не такую молодую, конечно. Но постарела и износилась она в основном из-за меня. Ей приходилось воспитывать моих детей, стирать мою одежду, готовить мне еду, и все это – без отрыва от работы. Я увидел, какой грустный и усталый у нее вид, и у меня перехватило горло. И как только доктор ван дер Ягт спросила, что бы мне хотелось сказать, я вывалил всю эту историю.
Мне надо было признаться. Казалось, что иначе я взорвусь.
Это вообще не шутки. Истина – дело такое. Истину в мешке не утаишь.
Правда, раньше я этого не знал.
Когда наши пятьдесят минут истекли, доктор ван дер Ягт проводила нас к задней двери. Как обычно, я невольно огляделся – не видит ли нас кто.
Но ради чего мы так прятались? Чего так стеснялись? Мы просто любили друг друга и решали свои проблемы, а теперь садились в ниссан, чтобы забрать детей из школы. Когда в Альпах откопали замерзшего доисторического мужика, то увидели, что на нем кожаные ботинки, забитые травой, шапка из медвежьей шкуры, а в руках – деревянная коробочка с янтарем. Мужика назвали Эци. Этим мы с Йоханной и занимались на терапии – мы пытались пережить ледниковый период, вооружившись луком и стрелами. У нас остались шрамы от предыдущих схваток. На случай болезни у нас были только целебные травы. В левом плече у меня застрял наконечник стрелы, из-за которого я двигался еще медленнее. Но у нас при себе была шкатулка с янтарем, и если б нам только удалось доставить ее куда-нибудь – не знаю уж, в пещеру или в сосновый бор – мы могли бы оживить этим янтарем пламя нашей любви. Сидя с невозмутимым видом на кушетке у доктора ван дер Ягт, я не раз думал об одиноком Эци. Его убили, судя по всему. У него в черепе нашли трещину.
Так и понимаешь, что сейчас дела обстоят не совсем уж и плохо. По статистике уровень человеческой жестокости сильно упал с доисторических времен. Живи мы в то же время, что Эци, нам пришлось бы каждую минуту ожидать удара в спину. Тогда мне было бы не найти лучшей спутницы, чем Йоханна, – широкие плечи, сильные ноги, некогда плодородная матка. Она уже много лет носит наш янтарь, несмотря на мои постоянные попытки его задуть.
Когда мы подошли к машине, мой брелок решил, что сейчас самое лучшее время для того, чтобы перестать работать. Я жал и жал на него. Йоханна стояла на гравии и казалась какой-то маленькой.
– Ненавижу тебя, – плакала она. – Ненавижу!
Я словно бы издалека наблюдал за тем, как плачет моя жена. Это была та же женщина, которая, когда мы пытались зачать Лукаса, иногда звонила мне и заявляла, словно Том Круз в «Лучшем стрелке»: «Мне нужно твое семя!» Я бросался домой с работы, на ходу срывая жилет и галстук-удавку, порой даже не снимая ковбойских сапог (хотя это было как-то не очень, и я старался так не делать), а Йоханна ждала меня в спальне с распростертыми руками и ногами, пламенеющими щеками, и я бросался к ней и падал в нее, и это падение длилось вечность, и мы оба забывали себя в этом сладостном торжественном процессе – создании ребенка.
Так я и оказался в кустах. Йоханна меня выставила. Я живу в центре, рядом с театральным районом. Снимаю трехкомнатную квартиру в дорогущем кондоминиуме – их понастроили перед кризисом и теперь никак не могут заселить.
Я сейчас примерно в шестидесяти футах от дома. Может, в пятидесяти девяти. Подойду-ка поближе.
Пятьдесят восемь.
Пятьдесят семь.
Выкуси, судья!
Стоя рядом с фонарем, я вдруг вспоминаю, что в судебном предписании говорится не о футах. Речь о ярдах. Мне следует находиться в пятидесяти ярдах от дома!
Проклятие.
Но я не шевелюсь. И вот почему: если мне надо быть в пятидесяти ярдах отсюда, значит, я уже несколько недель нарушаю предписание.
Я уже в любом случае виноват.
Так что можно подойти и поближе.
Подняться на крыльцо, например.
Как я и думал, дверь открыта. Черт побери, Йоханна! Правильно, оставь дверь нараспашку, пусть заходит кто угодно.
На мгновение все кажется таким, как прежде. Я вне себя от ярости, и я в своем собственном доме. Меня охватывает сладкая жажда возмездия. Теперь я знаю, кто виноват. Йоханна, кто же еще. Меня так и подмывает найти ее и гаркнуть: «Опять ты не закрыла дверь!» Но это невозможно, поскольку технически это будет проникновение со взломом.
И тут меня накрывает запахом. Пахнет не Ружмонтами. Пахнет едой – бараньими отбивными, кулинарным вином. Приятный запах. Еще шампунем, которым Мэг только что вымыла голову на втором этаже. Влажный, теплый, душистый аромат струится по лестнице. Я чувствую его на щеках. Пахнет и Форлоком – он уже слишком стар, чтобы подойти и поприветствовать хозяина, но в данном случае я не сержусь. Все эти запахи сливаются в один, и это наш запах. Нашей семьи! Наконец-то мы прожили здесь достаточно долго, чтобы вытеснить старушечий запах Ружмон-тов. Раньше я этого не понимал. Только когда меня выставили из дома, я смог ощутить этот запах, и даже будь я ребенком со сверхчутким обонянием, он и тогда бы мне понравился.
Мэг выбегает из своей спальни на втором этаже.
– Лукас! – кричит она. – Где моя зарядка?
– Не брал я ее, – отвечает он из своей комнаты.
– Нет, брал!
– Говорю же, не брал!
– Ая говорю – брал! Мам!
Мэг выходит на лестницу и видит меня. Или не видит. Ей надо носить очки. Она смотрит туда, где я стою в тени, и кричит:
– Мам! Скажи Лукасу, чтобы вернул мою зарядку!
Услышав что-то, я поворачиваюсь и вижу Йоханну. Заметив меня, она почему-то подпрыгивает и вся бледнеет.
– Дети, не спускайтесь! – кричит она.
Да ладно, думаю. Это ж всего лишь я.
Йоханна нажимает на телефоне кнопку экстренного вызова и пятится.
– Зря ты так, – говорю я. – Ладно тебе, Йо-Йо.
Она начинает говорить со службой спасения. Я шагаю к ней с протянутой рукой. Я не собираюсь отбирать телефон. Мне просто хочется, чтобы она сбросила вызов, и тогда я уйду. Но вдруг телефон оказывается у меня в руках, Йоханна визжит, кто-то прыгает на меня сзади и сбивает с ног.
Это Брюс. Мой сын.
Он не на занятии. Может, он бросил трубу. Мне никогда ничего не рассказывают.
У Брюса в руках не то веревка, не то провод, и он сильный, как бык. Вечно встает на сторону матери.
Упершись коленом мне в спину, он пытается меня связать.
– Я его держу, мам! – вопит он.
Я пытаюсь что-то сказать, но сын прижимает мое лицо к ковру.
– Эй, Брюс, отпусти меня, – говорю я. – Это ж папа. Это я, папа. Брюс! Ну хватит уже!
Я пробую старый мичиганский трюк – удар «ножницы». Сработало как по маслу. Мне удается сбросить Брюса и повалить его на спину. Он пытается уползти, но я куда быстрее.
– Ну что, узнал папку, а? Папку узнал?
И тут я вижу Мэг. Она все это время стояла на лестнице. Но когда я поворачиваюсь в ее сторону, она убегает. Потому что боится меня.
И вот это-то меня и подкосило. Мэг! Пирожочек мой! Папа тебя не обидит.
Но ее уже нет.
– Ладно, – говорю я. – Мне пора.
Я поворачиваюсь и выхожу. Смотрю на небо. Звезд нет. Я поднимаю руки и жду.
В участке полицейский снял наручники и передал меня шерифу. Тот заставил меня опустошить карманы: бумажник, мобильный, мелкие монеты, энергетик и рекламку сайта знакомств, которую я вырвал из какого-то журнала. Мне велели положить это все в пакет и подписать квитанцию.
Звонить в контору моего адвоката было уже поздно, поэтому я набрал его мобильный и оставил сообщение на автоответчике. Спросил, считается ли это звонком, на который я имею право. Считается.
Меня отвели в комнату для допросов. Через полчаса ко мне пришел какой-то новый мужик – детектив.
– Сколько вы сегодня выпили? – спросил он.
– Немного.
– Бармен в «Ле-Гранже» сказал, что вы пришли около полудня и просидели до конца счастливых часов.
– Так и есть. Не буду врать.
Детектив откинулся на спинку стула.
– У нас тут постоянно такие ребята сидят, – сказал он. – Я все прекрасно понимаю. Я и сам разведен. Дважды. Думаешь, мне иногда не хочется навешать своей старухе? Но тут такое дело – она мать моих детей. Звучит банально, да? А по мне так нет. Надо, чтобы у нее все было хорошо, нравится тебе это или нет. С ней живут твои дети, а значит, они и будут за все платить.
– Они же мои, – говорю я. Голос мой звучит как-то странно.
– Понимаю.
На этом он вышел. Я оглядел комнату в поисках двустороннего зеркала, как в сериале «Закон и порядок», а когда убедился, что его нет, взял и зарыдал. В детстве я воображал, как круто буду вести себя, если меня арестуют. Копы ничегошеньки от меня не добьются, думал я. И теперь меня арестовали, и у меня на лице седая щетина, а нос по-прежнему кровит.
Недавно выяснили, что помогает сохранить любовь. Ученые выяснили. Провели исследования и узнали, что держит пары вместе. И знаете что? Не схожие характеры, не деньги, не дети, не общие планы на жизнь. А обычная забота. Когда ты просто делаешь что-то хорошее для другого. Передаешь джем за завтраком. Или вы держитесь за руки на эскалаторе в метро по пути в Сити. Спрашиваешь, как прошел день, и притворяешься, что тебе правда интересно. И вся эта хрень правда работает.
Звучит просто, да? Только этого почти никто не делает. Мы не только ищем виноватого в каждой ссоре, мы еще пляшем польку протеста. Это танец, в котором один из партнеров хочет убедиться в прочности отношений и приближается ко второму, но поскольку он для этого прибегает к жалобам или гневу, второй партнер хочет сбежать. Большинству людей эти сложные маневры даются легче, чем простой вопрос: «Как там твой насморк, милая? Нос забит? Бедная. Давай принесу капли».
Пока я размышляю над этим, детектив возвращается и говорит:
– Ладно, вали.
Он имеет в виду, что я свободен. Я и не спорю. Он ведет меня к выходу. Я ожидаю, что там нас встретит Пикскилл – так и есть. Он точит лясы с дежурным сержантом и бодро сквернословит. Никто не способен сказать «сукин ты сын» с большим жизнелюбием, чем адвокат Пикскилл. Все это совершенно не удивительно. Удивительно то, что в нескольких футах от Пикскилла стоит моя жена.
– Йоханна не будет выдвигать обвинения, – говорит мне Пикскилл. – С точки зрения закона это ничего не значит, поскольку судебное предписание было выдвинуто штатом. Но полиция не будет вас ни в чем обвинять, раз жена против. Но имейте в виду, что эта история делу не поможет. Может, предписание и не отменят.
– Что, никогда? – спрашиваю я. – Сейчас-то я недалеко от нее стою.
– Да, но вы в полицейском участке.
– Можно мне с ней поговорить?
– Вы хотите с ней поговорить? Это не лучшая идея.
Но я уже иду по коридору участка.
Йоханна стоит у двери, опустив голову.
Я не знаю, когда мы встретимся в следующий раз, поэтому очень внимательно ее разглядываю.
Я смотрю на нее, но ничего не чувствую.
Я даже не понимаю, красивая ли она.
Да, наверное. Когда мы где-то бываем, окружающие – мужчины, во всяком случае, – вечно говорят ей: «Я вас где-то видел. Вы раньше не были чирлидершей в Далласе?»
Я смотрю. Продолжаю смотреть. Мы с Йоханной встречаемся взглядами.
– Я хочу снова быть частью семьи, – говорю я.
Сложно понять, что она чувствует. Но мне кажется, что молодое лицо Йоханны спрятано где-то под этим новым, постаревшим лицом, и что постаревшее лицо – это всего лишь маска. Мне хочется увидеть ее молодое лицо – не только потому, что именно в него я когда-то влюбился, но и потому, что именно это лицо полюбило меня. Я помню, как оно светилось, когда я входил в комнату.
Теперь-то уж оно не светится. Словно хэллоуинская тыква, из которой вынули свечу.
А потом она объясняет мне, что к чему:
– Я старалась, Чарли. Сделать тебя счастливым. Я думала, что ты будешь счастлив, если я начну больше зарабатывать. Или мы купим дом побольше. Или я оставлю тебя в покое, чтобы ты пил, сколько хочешь. Но все это не помогало, Чарли. И я тоже не была счастлива. Ты съехал, и мне грустно. Я плачу каждую ночь. Но теперь я знаю, как обстоят дела, и могу что-то делать.
– Это не совсем верно, – говорю я. Звучит куда более туманно, чем мне бы хотелось, поэтому я раскидываю руки, словно хочу обнять целый мир, но это не добавляет ясности. Я пытаюсь снова.
– Я не хочу больше быть тем человеком, – говорю я. – Мне хочется измениться.
Я искренен. Но искренние слова зачастую звучат довольно избито. Кроме того, я не привык к искренности, и мне кажется, что я все так же вру.
Не очень убедительно вышло.
– Уже поздно, – говорит Йоханна. – Я устала. Мне надо домой.
– Это наш дом, – говорю я.
Но она уже идет к машине.
А я не знаю, куда я иду. Просто бреду куда-то. Возвращаться к себе в квартиру мне не хочется.
Когда мы с Йоханной купили наш дом, пошли знакомиться с предыдущими владельцами, и знаете, что сделал старик? Мы направились в бойлерную – он хотел объяснить, как там все работает, и он еле-еле полз, а потом вдруг резко обернулся ко мне и сказал:
– Погоди, тоже таким станешь.
Он уже облысел и сгорбился от старости и еле волок ноги. Его смущало, что он ближе к смерти, чем я, поэтому чтобы как-то сравнять счет, напомнил, что когда-нибудь я тоже буду с трудом ползать по собственному дому, словно инвалид.
Размышляя о мистере Ружмонте, я вдруг понял, в чем моя проблема. Почему я так себя вел.
Смерть – вот кто виноват.
Йоханна, я понял! Я нашел виноватого! Смерть во всем виновата.
Я шел, думал обо всем этом и потерял счет времени.
Когда я наконец поднял взгляд, то выяснил, что опять, блин, приперся к своему дому! Я стоял на другой стороне улицы, все было по закону, но все же. Ноги сами привели меня сюда, словно старого коня.
Я вытащил телефон. Может, Мэг сделала свой ход, пока я сидел в тюрьме.
Увы.
Когда твой соперник делает ход, это очень красиво – буквы появляются из ниоткуда, словно звездная пыль. Мэг делает ход, и ее слово летит сквозь ночь и танцует у меня в телефоне, и где бы я ни был, что бы ни делал, я знаю, что в этот момент она думает обо мне – хотя бы и о том, чтобы обыграть меня.
Когда мы с Йоханной впервые отправились в постель, мне было страшновато. Я отнюдь не малыш, но Йоханна… Ситуация напоминала «Путешествия Гулливера». Как будто она заснула, а я вскарабкался на нее, чтобы обозреть окрестности. Дивный вид! Крутые холмы! Плодородные поля! Но я был один, у меня не было армии лилипутов, чтобы связать ее.
Странно то, что в первую же ночь и во все последующие ночи она словно уменьшалась, а я – рос, и постепенно мы сравнялись в размере. И постепенно мы стали равны и при дневном свете. На нас по-прежнему оборачивались. Но люди смотрели на нас как на единое существо, а не на странную парочку, сцепленную в районе талии. На нас. Вместе. Тогда мы не убегали, не преследовали друг друга. Мы просто двигались, и если один из нас отправлялся на поиски, второй ждал, пока его найдут.
Прежде чем расстаться насовсем, мы всегда находили друг друга. «Я здесь! – говорили мы всем сердцем. – Иди ко мне!» И это было так просто, так естественно, словно радуга.
2013
Прорицание вульвы
Подушки из черепов намного лучше, чем можно себе представить. Доктор Питер Люс, знаменитый сексолог, пристроил щеку на гладком черепе одного из даватских пращуров – неизвестно, чьего именно. Череп перекатывается с челюсти на подбородок, потому что самому Л юсу не лежится спокойно – мальчик на соседнем черепе трется своими ступнями о его спину. Коврик из пандана царапает голые икры.
Вокруг глубокая ночь. Тот час, когда болтливые обитатели джунглей почему-то умолкают. Люс не специализируется на зоологии. С момента приезда он почти не обращал внимания на фауну. Товарищи по команде не знают, что он панически боится змей и именно поэтому еще ни разу не отходил далеко от деревни. Когда остальные идут охотиться на вепря или рубить саговые пальмы, Люс остается в деревне и предается мрачным думам. В основном он размышляет о рухнувшей карьере, но у него есть и другие причины недовольства. Лишь однажды ночью, выпив и расхрабрившись, он отправился пописать, удалился от общих домов и целых тридцать пять секунд простоял в окружении густой растительности, после чего струсил и поспешил обратно. Он не знает, что происходит в джунглях, и его это не интересует. Ему лишь известно, что на закате обезьяны и птицы начинают голосить, а потом, около часа ночи по нью-йоркскому времени (его часы по-прежнему сохраняют верность своему часовому поясу), умолкают. Становится абсолютно тихо. Настолько тихо, что Люс просыпается. Вроде как. Сейчас глаза у него открыты, хотя он и не уверен. Разницы все равно никакой. В новолуние в джунглях царит полная тьма. Люс подносит руку к лицу и не видит ее. Он устраивается на черепе поудобнее, и мальчик у него за спиной тут же перестает тереться и тихо, жалобно всхлипывает.
Джунгли влажно проникают в ноздри, словно какие-то испарения. Теперь-то он точно проснулся. Раньше ему никогда не доводилось нюхать ничего подобного. Словно запах грязи и фекалий смешался с ароматом подмышек и червей, хотя и это описание не вполне точно. Есть также нотки диких свиней, сырное амбре шестифутовых орхидей, трупное дыхание плотоядных мухоловок. По всей деревне, от болотистой земли до самых верхушек деревьев, животные поедают, переваривают друг друга и рыгают, не закрывая пасти.
У эволюции нет какого-либо определенного плана. Несмотря на некоторую последовательность (доктору Люсу нравится подчеркивать структурное сходство между мидиями и женскими гениталиями), она способна к импровизации. В этом заключается сама суть эволюции – целый веер возможностей, реализуемых не по принципу последовательных улучшений, а просто ради непродуманных изменений – иногда к лучшему, а иногда и к худшему. Рынок, то есть мир, определяет дальнейшую судьбу. Здесь, на Казуариновом Берегу[24], цветы обрели повадки, которые Люсу, уроженцу Коннектикута, кажутся совершенно не свойственными цветам. Ему казалось, что цветы должны приятно пахнуть, чтобы привлекать пчел. Однако те монструозные местные экземпляры, которые он имел неосторожность понюхать, пахли самой смертью. Внутри чашечки каждого цветка таилась лужица дождевой воды (а точнее, кислоты для переваривания), в которой умирал какой-нибудь жук. Увидев это, Люс резко отшатнулся, зажав нос, и услышал, как где-то в кустах над ним смеются даваты.
Эти размышления прерываются хныканьем мальчика на соседнем черепе. «Семен, – ноет он. – Аке семей».
Наступает тишина, нарушаемая лишь бормочущими что-то во сне даватами, а потом, как и каждую ночь, Люс чувствует, что мальчик лезет ему в шорты. Он аккуратно берет ребенка за запястье, ищет фонарик свободной рукой, включает его и направляет бледный луч мальчику в лицо. Мальчик тоже лежит на черепе (своего дедушки, если быть точным), который уже много лет впитывал жир с кожи и волос потомков и окрасился в ярко-рыжий цвет. Мальчик испуганно смотрит на Люса из-под своей буйной шевелюры. Он немного напоминает юного Джимми Хендрикса. Нос у него широкий и плоский, скулы выдаются вперед. Губы сложены уточкой, так как он говорит на языке даватов, изобилующем взрывными согласными. «Аке семен», – повторяет он. Может быть, это одно слово. Его плененная рука делает еще одну попытку добраться до паха Люса, но Люс перехватывает ее.
Так вот, другие причины недовольства. Во-первых, тот факт, что ему приходится в таком возрасте заниматься полевой работой. Кроме того, вчера он впервые за восемь недель получил почту, взволнованно разорвал отсыревший пакет и обнаружил на обложке «Медицинского журнала Новой Англии» анонс сомнительного исследования Паппас-Кикучи. А теперь еще и этот мальчик.
– Ну хватит, хватит, спи, – говорит Люс.
– Семен. Аку семен!
– Спасибо, но не стоит.
Мальчик поворачивается и смотрит куда-то во тьму, а когда поворачивается обратно, при свете фонарика видно, что в глазах у него слезы. Ему страшно. Он пытается высвободить руку и о чем-то умоляет.
– Ты когда-нибудь слышал о профессиональной этике? – спрашивает Люс.
Мальчик останавливается и смотрит на него, силясь понять, потом снова начинает тянуть руку.
Мальчик пристает к нему вот уже три недели подряд. Дело не в том, что он влюбился, конечно. Среди множества уникальных особенностей даватов есть строгая сегрегация полов. Это, впрочем, не та биологическая странность, ради которой в Ириан-Джаю приехали Люс и его команда, – скорее, связанная с ней антропологическая особенность. Деревня имеет форму гантели – в середине сужается, а по обоим краям стоят общие дома. Мужчины и мальчики спят в одном доме, женщины и девочки – в другом. Мужчины племени дават считали женщин настолько грязными, что выстроили всю социальную структуру так, чтобы по возможности избегать контактов. Мужчины навещают женский дом только для размножения. Они быстро делают то, зачем пришли, и уходят. По словам Рэнди (антрополога, который говорит на языке даватов), слово «вагина» буквально переводится с даватского как «штука, от которой одни беды». Это, разумеется, прогневало Салли Уорд, эндокринолога. Она приехала сюда изучать уровень гормонов в плазме и не отличалась терпимостью к так называемым культурным особенностям, а потому при каждой встрече с Рэнди поливала грязью антропологию как науку. Правда, это случалось нечасто, поскольку по законам племени она была вынуждена жить на другом конце деревни. Люс понятия не имел, что там происходило. Даваты возвели между двумя зонами глиняную стену, утыканную копьями с насаженными на них продолговатыми зелеными тыквами. Поначалу Люсу казалось, что все это выглядит крайне нарядно и напоминает венецианские фонари, но потом Рэнди объяснил ему, что тыквы заменяют человеческие головы, которые висели здесь раньше. За стеной особо не было ничего видно, и в ней был только один узкий проход, где женщины оставляли мужчинам еду, а мужчины раз в месяц ходили к ним, чтобы на три с половиной минуты взгромоздиться на своих жен.
Хотя отношение даватов к сексу как средству размножения и было вполне католическим, миссионерам с ними приходилось трудновато. В мужском доме не было целибата. Мальчики племени дават жили с матерями до семи лет, после чего отправлялись жить с мужчинами. Следующие восемь лет мальчикам приходилось ублажать старших мужчин орально. Наряду с поношением вагины у народа даватов было принято превозносить мужские половые органы, а также сперму, которую считали эликсиром невероятной силы. Чтобы стать мужчинами, воинами, мальчикам следовало поглощать как можно больше спермы, и они занимались этим дни и ночи напролет. В первую ночь в общем доме Люс и его помощник Морт были, мягко говоря, шокированы увиденным – милые маленькие мальчики переходили от одного мужчины к другому, словно в той игре, где надо вылавливать яблоки ртом из воды. Рэнди сидел и записывал. После того, как всех мужчин удовлетворили, один из вождей, явно желая продемонстрировать гостеприимство, рявкнул что-то мальчикам, которые тут же направились к американским ученым.
– Нет-нет, спасибо, не стоит, – сказал Морт своему мальчику.
Даже Люс ощутил, как обливается потом. Мальчики занимались своим делом вполне бодро, в крайнем случае с некоторой неохотой, с какой дети обычно выполняют работу по дому. Люс заново подивился тому, что сексуальный стыд на самом деле – социальный конструкт, полностью связанный с культурой. Но он все же был представителем американской культуры, а именно – англо-ирландской и некогда епископальной, в связи с чем вежливо отклонил предложение даватов. Как и сегодня.
Однако он полностью осознавал комизм ситуации, в которой он, доктор Питер Люс, директор Клиники сексуальных расстройств и гендерной идентичности, в прошлом генеральный секретарь Общества научного изучения секса (ОНИС), сторонник открытого исследования сексуального поведения, борец с ханжеством и стеснением и яростный провозвестник всех физических наслаждений, мучился чувством неловкости где-то на краю света, в глубине эротических джунглей. В своей ежегодной речи перед Обществом в 1969 году доктор Люс напомнил присутствующим сексологам о давнем конфликте между научными исследованиями и бытовой моралью. Взгляните на Везалия, сказал он. Вспомните Галилея. Люс проявил обычную практичность и посоветовал коллегам вести исследования в странах, где считались нормальными так называемые девиантные сексуальные практики и где проще было их изучать (в качестве примера можно было привести содомию в Голландии и проституцию на Пхукете). Он гордился широтой своих взглядов. Человеческая сексуальность для него была чем-то вроде брейгелевского полотна, и он наслаждался ее изучением. Люс старался не выносить оценочных суждений по поводу разнообразных задокументированных извращений и высказывал протест, только если они были очевидно вредоносны (например, педофилия или насилие). В случае с другими культурами его толерантность простиралась еще дальше. Минеты, которые делались в мужском доме, огорчили бы Люса, случись такое в Ассоциации молодых христиан или на Двадцать Третьей улице, но здесь он понимал, что у него нет права на протест. Возмущение только помешало бы его работе. Он приехал сюда не в качестве миссионера. Учитывая здешнюю мораль, мальчики вряд ли чем-то заразятся. К тому же, им и не суждено стать обычными гетеросексуальными мужьями. Они просто станут получать, а не давать, и все будут счастливы.
Но почему же Люс так расстраивается, когда мальчик начинает тереться ступнями о его спину и подавать призывные сигналы? Может быть, дело в тревожных звуках, которые он издает, не говоря уже о том, как обеспокоенно выглядит. Может быть, если он не ублажит иностранных гостей, его накажут? Люс не может придумать другого объяснения панике ребенка. Может быть, считается, что сперма белых обладает особой силой? Вряд ли, учитывая, как Люс, Рэнди и Морт выглядят в последнее время. Выглядят они ужасно: сальные волосы, перхоть. Племя даватов теперь, видимо, считает, что все белые мужчины покрыты солнечными ожогами. Люс мечтает о душе. Ему хочется натянуть кашемировую водолазку, ботинки, замшевый блейзер и пойти выпить виски с лимонным соком. После этого путешествия самым экзотическим пунктом его назначения будет полинезийский ресторан «Трейдер Вик». И если все пройдет хорошо, так оно и произойдет – бокал май-тая с бумажным зонтиком, Манхэттен.
Вплоть до последних трех лет – до того вечера, как доктор Паппас-Кикучи огорошила его своей полевой работой, – доктор Питер Люс считался главным мировым специалистом по человеческому гермафродитизму. Он был автором крупнейшей работы по сексологии «Прорицание вульвы», которая входила в стандартную программу множества дисциплин – от генетики и педиатрии до психологии. Он вел колонку в «Плейбое» под тем же названием с августа 1969-го по декабрь 1973-го. Красота идеи заключалась в следующем: персонифицированная и всезнающая вульва отвечала на вопросы читателей мужского пола – иронично, а порой и загадочно. Хью Хефнер наткнулся на имя Люса в газетной статье о демонстрации за сексуальную свободу. Шесть колумбийских студентов устроили оргию в палатке в городском парке и были арестованы полицией. У Люса спросили, что он думает об этом инциденте. В газете была приведена следующая цитата тридцатичетырехлетнего доцента Питера Люса: «Я целиком за оргии, где бы они ни происходили». Это привлекло внимание Хефнера. Он не хотел повторять колонку Ксавьеры Холландер в «Пентхаусе»[25] и пожелал, чтобы колонка Люса была посвящена научной и исторической стороне секса. В первых трех выпусках «Прорицания вульвы» рассказывалось об эротических произведениях японского художника Хироши Ямамото, эпидемиологии сифилиса и традиции людей-бердашей [26] у племени навахо. Все это излагалось туманным многословным языком, который Люс позаимствовал у своей тетушки Розы Пеппердин – она читала ему лекции о Библии у себя на кухне, параллельно отмачивая ноги в тазу. Колонка пользовалась популярностью, хотя интересные вопросы попадались редко – читателей больше интересовали техники куннилингуса и лекарства от преждевременной эякуляции. Наконец Хефнер велел Люсу послать всех к черту и писать вопросы самому. Так и сделали.
В 1987 году Питер Люс появился в шоу Фила Донахью вместе с двумя гермафродитами и транссексуалами, чтобы обсудить медицинские и психологические аспекты их жизни.
В ходе этой передачи Фил Донахью сказал: «Энн Паркер родилась девочкой, и ее воспитывали как девочку. В 1968 году вы выиграли пляжный конкурс „Мисс Майами" в округе Майами-Дейд, так? Самое интересное впереди. До двадцати девяти лет вы были женщиной, а потом переключились и стали жить как мужчина. У него есть анатомические признаки и мужчины, и женщины. Провалиться мне на месте!» Кроме того, он сказал: «Вот что по-настоящему важно. Они – живые, незаменимые, сыновья и дочери Господни – хотят, чтобы вы знали, что они – люди».
Интерес Люса к гермафродитизму зародился около тридцати лет назад, когда он проходил стажировку в больнице Маунт-Синай. К нему на осмотр пришла шестнадцатилетняя девушка. Ее звали Фелисити Кеннингтон, и с первого же взгляда на нее Люса охватили совершенно не профессиональные эмоции. Фелисити Кеннингтон была очень хороша собой – худенькая, интеллигентная, в очках (это ему всегда ужасно нравилось).
Люс с серьезным видом осмотрел ее, после чего сообщил:
– У вас лентигиноз.
– Что? – встревоженно переспросила девушка.
– Веснушки.
Он улыбнулся. Фелисити Кеннингтон улыбнулась в ответ. Люс вспомнил, как брат, многозначительно шевеля бровями, спросил, возбуждают ли его осмотры женщин. Люс, как водится, ответил, что думает только о работе и не замечает, как выглядят пациентки. Фелисити Кеннингтон он более чем заметил – прелестное лицо, розовые десны, по-детски мелкие зубки, робкие бледные ноги, которые она то и дело то сводила, то разводила. Не заметил он только ее матери – она сидела в углу комнаты.
– Лисси, расскажи врачу про свои боли, – вмешалась женщина.
Фелисити покраснела и опустила взгляд:
– У меня болит… ниже живота.
– Какого вида эта боль?
– А что, бывают разные виды?
– Острая или тупая?
– Острая.
К тому моменту за время работы Люс провел восемь гинекологических обследований. Обследование Фелисити Кеннингтон оказалось одним из самых сложных. Во-первых, его ужасно к ней тянуло. Ему самому в ту пору было всего двадцать пять. Он нервничал, сердце его так и колотилось. Он уронил расширитель, и пришлось идти за новым. Когда Фелисити Кеннингтон спрятала лицо и закусила губу, а потом раздвинула колени, он чуть не упал в обморок. Во-вторых, за ним неотрывно наблюдала мать девочки, что не облегчало задачу. Он предложил ей подождать снаружи, но миссис Кеннингтон ответила: «Спасибо, я лучше побуду с Лисси». В-третьих – и это было хуже всего – каждое его действие, видимо, причиняло Фелисити Кеннингтон сильную боль. Она вскрикнула, когда он только наполовину ввел зеркало. Колени ее судорожно сжались, и ему пришлось остановиться. Потом он попытался просто ощупать ее гениталии, но стоило ему нажать, она снова взвизгнула. Наконец пришлось привести доктора Будкайнда, гинеколога, и тот закончил осмотр, пока Люс в панике наблюдал за ним. Гинекологу потребовалось секунд пятнадцать, после чего он вывел Люса из комнаты.
– Что с ней такое?
– Неопущение яичек.
– Что?!
– Похоже на андрогенитальный синдром. Видели такое когда-нибудь?
– Нет.
– Ну, вы же здесь как раз для того, чтобы учиться.
– У этой девушки есть тестикулы?
– Скоро узнаем.
Тканевая масса в паховом канале Фелисити Кеннингтон оказалась тестикулами – это выяснилось после биопсии. В то время – шел 1961 год – это автоматически делало Фелисити Кеннингтон мужчиной. С девятнадцатого века медицина использовала все то же примитивное определение пола, сформулированное Эдвином Клебсом в 1876 году. Клебс установил, что пол человека зависит от половых желез. В случае неопределенности ткань гонад следовало рассмотреть под микроскопом. Если ткань была тестикулярной, человека считали мужчиной, если овариальной – женщиной. Но у этого метода были свои недостатки, о которых узнал Люс, когда увидел, что случилось с Фелисити Кеннингтон в 1961-м. Хотя она выглядела как девушка и считала себя девушкой, Будкайнд объявил ее мужчиной – только на том основании, что у нее были мужские половые железы. Родители стали протестовать. Они советовались с другими врачами – эндокринологами, урологами, генетиками, – но так и не пришли к согласию. Пока медицинское сообщество колебалось, у Фелисити начался пубертат. Ее голос погрубел. На лице стали появляться кустики волос. Она перестала ходить в школу, а потом и вовсе заперлась дома. В последний раз Люс увидел ее, когда она пришла на очередную консультацию. На ней было длинное платье и шарф, закрывавший большую часть лица. В руке с обгрызенными ногтями был зажат томик «Джен Эйр». Люс столкнулся с ней у питьевого фонтанчика.
– У воды привкус ржавчины, – сообщила она, не узнавая его, и поспешно ушла.
Через неделю она застрелилась из отцовского пистолета.
– Лишний раз доказывает, что она была парнем, – сказал Будкайнд на следующий день в кафетерии.
– Вы о чем? – спросил Люс.
– Парни чаще стреляют в себя. Статистически. Девушки пользуются менее жестокими методами: снотворное, угарный газ.
Люс больше никогда не разговаривал с Будкайндом. Встреча с Фелисити Кеннингтон стала для него переломным моментом. С тех пор он посвятил жизнь тому, чтобы ни с кем другим подобного больше не произошло. Он погрузился в изучение гермафродитизма. Он прочел все, что когда-либо было написано по этой теме, – чтения было немного. Чем больше он узнавал, чем больше читал, тем более уверялся в том, что священные категории мужского и женского были одним сплошным надувательством. При определенных гормональных и генетических обстоятельствах определить пол некоторых детей было невозможно. Но на протяжении всей истории люди отказывались делать неизбежный вывод. Столкнувшись с ребенком неопределенного пола, спартанцы бросали его на горе и уходили. Предки самого Люса, англичане, не желали даже упоминать эту тему, и не упоминали бы, если бы неудачный случай с загадочными гениталиями не нарушил как-то раз плавную работу наследственного механизма. Лорд Коук, великий английский юрист семнадцатого века, пытался решить вопрос того, кому достанется поместье, и объявил, что каждый человек должен быть «либо мужчиной, либо женщиной, и наследовать по преимущественному полу». Разумеется, он не указал метод проверки того, какой пол все же является для человека преимущественным. Эту задачу предстояло начать решать Герману Клебсу. Сто лет спустя Питер Люс завершил ее.
В 1965 году Люс опубликовал статью под названием «Все дороги ведут в Рим: сексуальная концепция гермафродитизма у людей». На двадцати пяти страницах Люс доказывал, что гендер складывается под влиянием множества факторов: хромосомный пол, гонадный пол, гормоны, внутреннее устройство гениталий, внешнее устройство гениталий, а главное – пол, в котором ребенка воспитывали. Зачастую гонадный пол пациента не определял его или ее гендерной идентичности. Гендер был чем-то вроде родного языка. Дети учились говорить по-мужски или по-женски так же, как осваивали английский или французский.
Статья наделала много шума. Люс до сих пор помнил, как после публикации изменилось внимание окружающих: женщины стали больше смеяться над его шутками, намекали на возможность близкого знакомства, некоторые даже приходили к нему домой – не так чтобы слишком одетые. Телефон звонил чаще, и это были незнакомцы, которые, однако, знали его; его уговаривали и упрашивали, ему предлагали писать отзывы, вести конференции, выступить судьей на кулинарном Фестивале улиток в Сан-Луис-Обиспо – большинство улиток тоже были гермафродитами. Несколько месяцев спустя почти все отказались от критерия Клебса и перешли на критерии Люса.
На волне этого успеха Люсу предложили открыть психогормональное отделение в Нью-Йоркской пресвитерианской больнице. Через десять лет, посвященных серьезным самобытным исследованиям, он сделал второе великое открытие: гендерная идентичность определялась в самом начале жизни, примерно в два года. После этого его репутация взлетела до небес. Финансирование хлынуло рекой из фондов Рокфеллера и Форда, Национальных институтов здравоохранения. Это было отличное время для сексологов. Благодаря сексуальной революции для исследователей секса ненадолго приоткрылось масса возможностей. На несколько лет тайна женского оргазма или феномен мужского эксгибиционизма стали предметами интереса целой нации. В 1968 году доктор Люс открыл клинику сексуальных расстройств и гендерной идентификации, которая вскоре стала передовой организацией, где исследовали и лечили заболевания, связанные с промежуточным гендером. Люс работал со всеми: с толстошеими подростками с синдромом Шершевского – Тернера, с длинноногими красотками с синдромом нечувствительности к андрогенам, с угрюмыми больными с синдромом Клайнфельтера, которые все без исключения либо ломали кулеры, либо пытались ударить медсестру. В клинику шли все подряд, и у Люса было в распоряжении невиданное поле материалов для исследования.
Это был 1968 год, и мир пылал. Один из факелов нес доктор Люс. В его пламени сгорали две тысячи лет сексуальной тирании. Ни одна из студенток его курса по бихевиоральной цитогенетике не носила лифчик. Он вел колонку в «Таймс» и ратовал за пересмотр законов против безвредных сексуальных преступников, не совершающих насильственных действий. Он раздавал брошюры о контрацепции в кофейнях Гринвич-Виллиджа. Так оно и бывало в науке. Раз в поколение потребности общества, труд и озарение вдруг сходились в одной точке, и работа ученого вырывалась за пределы академии и попадала в культуру, где сияла, словно маяк будущего.
Откуда-то из глубины джунглей прилетает москит и с жужжанием проносится мимо левого уха Люса. Это просто-таки исполинские насекомые. Их не видно, только слышно – по ночам они ревут, словно летающие газонокосилки. Он закрывает глаза и, разумеется, тут же ощущает, как один из москитов садится повыше локтя – туда, где кожа пахнет кровью. Москит так велик, что слышно, как он приземлился, словно дождевая капля. Люс запрокидывает голову, зажмуривается и стонет. Ему до смерти охота смахнуть москита, но обе руки заняты: он пытается удержать мальчика. Ничего не видно. На земле рядом с черепом валяется фонарик, из которого вытекает вялый свет. Люс уронил его во время возни, которая так и не закончилась. Теперь он освещает десятидюймовый фрагмент коврика. Толку от этого немного. Кроме того, птицы снова ожили и сигнализируют о приближении утра. Люс лежит на спине, согнув колени, словно беспокойный младенец, и удерживает руками тощие запястья десятилетки. Судя по положению запястий, голова мальчика где-то в районе пупка Люса – возможно, он тянется вперед. Мальчик продолжает издавать мяукающие звуки, что действует крайне угнетающе: «Айя».
Жало вонзается в кожу. Москит удовлетворенно вертит задом, пристраивается и начинает пить. Прививки от тифа и то менее болезненны. Люс чувствует, как насекомое сосет и набирает вес.
Маяк будущего? Да кого он обманывает? Теперь работа Люса дает не больше света, чем этот фонарик на коврике. Не больше, чем новорожденная луна над пологом джунглей.
Нет необходимости читать статью Паппас-Кикучи в «Медицинском журнале Новой Англии». Он уже слышал все это лично. Три года назад, в последний день ежегодной конференции ОНИС, он немного опоздал на доклад.
– Сегодня мне бы хотелось поделиться результатами исследования, – говорила Паппас-Кикучи, когда он вошел, – которое наша команда только что завершила на юго-западе Гватемалы.
Люс уселся в заднем ряду, тщательно оберегая брюки. На нем был смокинг от Пьера Кардена. Тем же вечером ему должны были вручить премию за выдающиеся достижения. Вытащив из обитого шелком кармана миниатюрную бутылочку виски, он незаметно сделал глоток. Праздник уже начался.
– Эта деревня называется Сан-Хуан-де-ла-Крус, – продолжала Паппас-Кикучи.
Люс разглядывал ту ее часть, которая возвышалась над кафедрой. Она была по-своему хороша – на школьный манер: мягкий взгляд темных глаз, челка, очки, ни сережек, ни макияжа. По опыту Люса, именно такие вроде бы не сексуальные скромницы оказывались самыми страстными в постели, в то время как те, что одевались вызывающе, на деле были пассивны и холодны.
– Мужские псевдогермафродиты с недостаточностью 5-альфа-редуктазы, которых воспитывали как женщин, могут служить замечательными примерами для изучения влияния уровня тестостерона и воспитания на становление гендерной идентичности. – Теперь Паппас-Кикучи зачитывала собственную статью. – В подобных случаях пониженная выработка дигидротестостерона в утробе приводит к тому, что внешние половые органы некоторых зародышей видоизменяются. В связи с этим, после родов пол таких младенцев определяют как женский и впоследствии воспитывают их как девочек. Однако реакция на тестостерон совершенно нормальная и в утробе, и в младенческом, и в подростковом возрасте.
Люс хлебнул еще виски и положил руку на спинку соседнего стула. Паппас-Кикучи не говорила ничего нового: 5-альфа-редуктазу уже подробно изучили. Джейсон Уитби неплохо поработал с псевдогермафродитами в Пакистане.
– Мошонка у таких новорожденных не срослась, поэтому напоминает половые губы. – Паппас-Кикучи продолжала излагать очевидные вещи. – Фаллос – или микропенис – напоминает клитор. Мочеполовой синус заканчивается в тупиковом дугласовом пространстве. Яички, как правило, остаются в брюшной полости или паховом канале, хотя иногда гипертрофированные яички обнаруживаются в расщепленной мошонке. Однако в подростковом возрасте происходит маскулинизация, так как уровень тестостерона в плазме совершенно нормален.
Сколько ей? Тридцать два? Тридцать три? Будет ли она на праздничном банкете? Ее старомодная блузка с глухим воротничком заставила Люса вспомнить девушку, с которой он встречался в колледже. Она занималась античностью и носила байронические белые блузы и уродливые шерстяные гольфы. В постели, однако, эта маленькая эллинистка поразила его – она закинула ноги ему на плечи и сообщила, что это любимая поза Гектора и Андромахи.
Люс как раз вспоминал об этом («Я Гектор!» – воскликнул он, и ноги Андромахи оказались у него за ушами), когда доктор Фабьен Паппас-Кикучи сообщила:
– Таким образом, это были нормальные мальчики под действием тестостерона, которых из-за внешнего вида их половых органов ошибочно воспитывали как девочек.
– Что она сказала? – вскинулся Люс. – Мальчики? Они не мальчики. Если их не воспитывали как мальчиков, то они ими и не станут.
– Работа доктора Питера Люса долгое время считалась священным текстом в деле изучения гермафродитизма у людей, – продолжала Паппас-Кикучи. – Среди сексологов принималось за аксиому его утверждение, что гендерная идентичность закладывается на ранних стадиях развития. Но наше исследование, – Паппас-Кикучи сделала паузу, – опровергает эту идею.
Было слышно, как в зрительном зале открылось полторы сотни ртов. Люс замер с бутылочкой виски у губ.
– Данные, полученные нашей командой в Гватемале, показывают, что воздействие андрогенных гормонов на псевдогермафродитов с недостаточностью 5-альфа-редуктазы в подростковом возрасте может привести к смене гендерной идентичности.
После этого Люс почти ничего не помнил. Он чувствовал, что ему ужасно жарко в смокинге. К нему оборачивались, но все меньше и меньше, и наконец перестали. Доктор Паппас-Кикучи продолжала бесконечно, бесконечно делиться результатами исследований:
– Объект номер семь сменил гендер на мужской, но продолжил одеваться как женщина. Объект номер двенадцать выглядел и вел себя как мужчина и вступал в половую связь с женщинами из деревни. Объект номер двадцать пять женился на женщине и работает мясником – это традиционно мужское занятие. Объект номер тридцать пять был замужем за мужчиной, который через год после свадьбы ушел от него, после чего он сменил гендер на мужской. Год спустя он женился на женщине.
Церемония награждения состоялась тем же вечером, согласно расписанию. Люс – под наркозом еще одной порции виски в гостиничном баре и в синем пиджаке торгового представителя страховой компании «Этна», который перепутал со своим смокингом, – взошел на сцену под минимальные аплодисменты и принял награду за выдающиеся достижения: хрустальные лингам и йони на серебряной подставке. Через некоторое время награда, блистая отражениями городских огней, вылетела с балкона на двадцать втором этаже и разбилась вдребезги на круговом проезде. Даже тогда он с надеждой смотрел в будущее – через Тихий океан, в сторону Ириан-Джаи и племени да-ватов. У него ушло три года на то, чтобы получить гранты Национального института здравоохранения, Национального научного фонда, Фонда помощи матерям и детям «Марш даймов», а также конгломерата «Галф-энд-Уэстерн», и вот он здесь – в оазисе, где процветает мутация 5-альфа-редуктазы, где он может испытать свою теорию и теорию Паппас-Кикучи. Он знает, кто победит. А после этого фонды снова начнут финансировать его клинику, и можно будет перестать сдавать задние помещения дантистам и тому мануальному терапевту. Вопрос времени. Рэнди уже убедил старейшин племени позволить обследования. Как только рассветет, их отведут в отдельный лагерь, где живут «как бы мужчины». Само существование этого термина доказывает, что Люс прав, и культурные факторы влияют на гендерную идентичность. Паппас-Кикучи предпочла обойти это молчанием.
Руки Люса и ребенка переплетены, будто они во что-то играют. Сначала Люс прикрыл пряжку ремня. Мальчик положил свою руку сверху. Люс накрыл его руку своей. И наконец мальчик положил сверху свою ладонь. Руки мягко сражаются друг с другом. Люс чувствует, что уже устал. В джунглях тихо. Ему хотелось бы урвать еще час сна, прежде чем обезьяны издадут свой утренний клич. Впереди большой день.
Б-52 вновь с жужжанием проносится мимо уха, после чего разворачивается и залетает в левую ноздрю. «Господи!» – вырвав руки, он прикрывает лицо, но москит уже взлетел, чиркнув ему по пальцу. Теперь Люс полусидит. Он не отрывает рук от лица, поскольку это приносит хоть какое-то успокоение. Его вдруг охватывает сильнейшая усталость и отвращение – эти джунгли, жара, вонь. Дарвину на «Бигле» и то было легче. Слушай себе проповеди да играй в вист. Люс не плачет, но хотел бы. Нервы его на пределе. Он чувствует, словно где-то вдалеке, как мальчик снова начинает расстегивать ему ремень. Преодолевает сложный механизм молнии. Люс не шевелится. Сидя в полной темноте, он не убирает рук от лица. Еще несколько дней, и можно будет уехать домой. На Западной Тринадцатой улице его ждет щегольское холостяцкое гнездышко. Наконец мальчику удается справиться с молнией. И кругом абсолютно темно. И у доктора Питера Люса нет никаких предрассудков. И что поделать, в конце концов, если в этом племени такие обычаи.
Прихотливые сады
Так говорил я и плакал в горьком сердечном сокрушении. И вот слышу я голос из соседнего дома, не знаю, будто мальчика или девочки… Подавив рыдания, я встал, истолковывая эти слова как божественное веление мне: открыть книгу и прочесть первую главу, которая мне попадется.
Августин Блаженный. Исповедь[27]Лето, Ирландия. Четверо отправляются в сад на поиски еды.
Задняя дверь большого дома открывается, и из нее выходит человек. Его зовут Шон. Ему сорок три года. Он отходит от дома, затем оглядывается – там материализуются еще две фигуры – Энни и Мария, американки. Затем пауза; процессия прерывается, но в конце концов появляется и Малькольм. Он ступает на траву осторожно, будто боится утонуть. Но все уже видят, что произошло.
– Это все моя жена виновата, – сказал Шон. – В этом вся она – лезет из кожи вон, чтобы все вскопать, посадить и поливать вовремя и совершенно забывает об этом всего за несколько дней. Это непростительно!
– Я никогда не видел настолько запущенного сада, – признался Малькольм.
Он обращался к Шону, но тот не ответил. Он разглядывал американок, которые одновременно положили руки на талию. Его обеспокоило, насколько синхронным оказался их жест, вроде бы непреднамеренный. Плохой знак – этим они будто говорили: «Мы неразделимы».
Нехорошо получилось: одна девушка была красавицей, а другая – нет. Меньше часа назад по пути из аэропорта (он только что вернулся из Рима), Шон увидел, как Энни идет по обочине дороги – одна. Дом, в который он направлялся, пустовал уже месяц, с тех пор как Мег, его жена, уехала не то во Францию, не то в Перу. Они жили отдельно уже несколько лет, каждый занимал дом, только если другой был в отъезде, и Шон ненавидел возвращаться сюда после долгих отлучек. Запах жены был везде, исходил от кресел, в которые он садился, и навевал воспоминания о днях, когда в доме царили яркие шарфики и гладкие простыни.
Так или иначе, увидев Энни, он понял, как скрасить возвращение. Она не голосовала, но на спине висел рюкзак. Она была очаровательной путешественницей с грязными волосами, и он полагал, что девушка предпочтет заночевать скорее в гостевой комнате его дома, чем в какой-нибудь канаве. Он остановил машину и перегнулся через сиденье, чтобы опустить переднее стекло. Наклонившись, он отвел взгляд, а когда поднял глаза, чтобы пригласить, увидел не только Энни, но и другую девушку, ее спутницу, появившуюся будто бы из ниоткуда. Она была по меньшей мере непривлекательной: короткие волосы подчеркивали квадратную форму черепа, а толстые линзы очков сверкали так, что он не мог разглядеть ее глаза. В конце концов, к досаде Шона, пришлось пригласить и Марию. Девушки, похожие на любящих сестер, засунув рюкзаки в багажник, залезли в машину, и Шон поехал дальше. А когда прибыл на место, его ждал еще один сюрприз. На крыльце, обхватив голову руками, сидел его старый друг Малькольм.
Стоя на краю сада, Малькольм видел, насколько тот запущен. Сад был грязным. Дальняя его часть полностью заросла, а на впереди виднелись лишь пожухлые цветы, сломанные дождем. Шон во всем винил жену. «Она-то думала, что умеет заговаривать растения», – пошутил он, но Малькольм не засмеялся. Из-за сада он задумался о собственном браке. Всего пять недель назад его жена Урсула ушла к другому. Их брак уже некоторое время был неудачным. Малькольм знал, что она разочаровалась в нем и в их совместной жизни, но он и представить себе не мог, что она влюбится в кого-то другого. Когда она ушла, он пришел в отчаяние. Потеряв сон, устав плакать, он пытался найти забвение в выпивке. Однажды он выехал на природу и вылез из машины, чтобы постоять на краю обрыва. Он понимал, что это лишь театральный жест, и ему не хватит смелости, чтобы спрыгнуть. Как бы то ни было, он провел на обрыве около часа.
На следующий день Малькольм взял отпуск и отправился путешествовать, надеясь, что свобода перемещения освободит его от боли. В какой-то момент он неожиданно осознал, что оказался в городе, где, насколько он помнил, жил его старый друг Шон. Побродив по улицам заляпанной кофе в рубашке, он добрался до дома Шона, постучался и обнаружил, что там никого нет.
Не прошло и пятнадцати минут, как, подняв глаза, он увидел, что Шон подходит к дому в сопровождении двух девушек. Это зрелище вызвало у него зависть. Вот его друг, окруженный юностью и жизненной силой (девушки заливисто смеялись), а вот он сам, сидит на крыльце, и вокруг нет ничего, кроме предчувствия грядущей старости, одиночества и отчаяния.
Ситуация становилась все хуже. Шон походя поприветствовал его, будто они виделись неделю назад, и Малькольм сразу понял, что он тут не к месту. Торжественным жестом Шон открыл дверь и начал знакомить гостей с домом. Он показал спальню, предназначенную для девушек, и комнату в другом крыле для Малькольма. Потом Шон провел их на кухню. Они осмотрели шкафчики в поисках еды, но все, что нашлось, – бобы, кусок масла в холодильнике, усохший лимон и увядшая головка чеснока. И тогда Шон предложил всем пойти в сад.
Малькольм последовал за ними. Он стоял поодаль, думая, как пережить свою утрату так же легко, как Шон свою. Ему хотелось оставить Лору в прошлом, запереть все воспоминания о ней в сундук и закопать его поглубже в землю, на которую он сейчас собирался осторожно ступить левым ботинком.
Шон шагнул в сад и пнул ежевичный куст. Он забыл, что шкафчики могут оказаться пустыми, что ему нечего предложить гостям и что гостей у него вдвое больше, чем надо. Все раздражало. Он пнул куст еще раз и зацепился ногой за побеги – они приподнялись, словно крышка ящичка, а под ними обнаружились притаившиеся у стены артишоки.
– Подождите, – сказал он, глядя на них. – Погодите-ка минутку.
Он подошел к ним. Он наклонился и потрогал стебель. Потом повернулся и поглядел на Энни:
– Знаете, что это такое? – спросил он. – Это божественное провидение. Сам Бог велел моей жене посадить эти бедные растения и затем забыть, чтобы мы в великой нужде своей нашли их. И съели.
Некоторые артишоки цвели. Энни не знала, что у артишоков бывают цветки, но они были – багряные, как чертополох, только больше. Идея поужинать ими привела ее в восторг. Этим вечером ее радовало все – дом, сад, новый друг Шон.
Уже месяц они с Марией путешествовали по Ирландии и ночевали в молодежных хостелах, где приходилось спать на пенках прямо на полу в окружении множества других девушек. Она устала от бюджетных ночлежек, дешевой пищи, которую приходилось готовить на общей кухне, от того, что соседки стирают свои носки и белье в раковине и сушат их на спинках кроватей. И вот, благодаря Шону, она выспится в большой спальне с множеством окон, на кровати с пологом.
– Иди сюда, – сказал Шон, помахав ей рукой, и она вошла в сад.
Они вместе наклонились. Маленький золотой крестик выпал из-под ее футболки и висел, качаясь.
– Боже мой, так ты католичка! – воскликнул он.
– Да, – ответила Энни.
– И ирландка?
Она кивнула и улыбнулась. Он сорвал артишок, протянул ей и произнес, понизив голос:
– Так мы с тобой почти родственники, дорогая.
Шон понимал язык девичьего тела, но еще лучше понимала его Мария. То, что девушки положили руки на бедра одновременно, получилось не то чтобы совсем случайно. Едва Энни подняла руки, как Мария скопировала ее жест. Она сделала это, чтобы показать, насколько они неразлучны. Мария хотела войти в жизнь Энни – чем прочнее, тем лучше, и потому сделала так, чтобы они смотрелись двумя одинаковыми статуями на траве.
У Марии никогда не было такой подруги, как Энни. Ей казалось, что никто не понимает ее так хорошо. Раньше она будто бы жила в немом городе, где с ней никто не разговаривал, а только пялился. Марии казалось, что она никогда раньше не слышала звуков человеческого голоса – вплоть до того мартовского воскресенья, когда они пошли в библиотеку колледжа и там Энни сказала без всякой видимой причины: «Как ты уютно устроилась в этом кресле».
В глубине сада на толстых стеблях болтались артишоки. Мария глядела на Энни, которая стояла посреди них, запустив руку в свои густые волосы. Она была так же счастлива, как и Энни. Она тоже оценила броскую красоту каменного дома Шона и прохладу вечернего воздуха. Но не только это делало ее счастливой, было еще кое-что – яркая точка, к которой она раз за разом мысленно возвращалась. Днем раньше в пустом купе электрички Энни обняла ее и поцеловала в губы.
Свет блеснул на золотом крестике Энни. Шон взглянул на него и подумал, что невозможно предугадать, чем обернутся случайные поступки. Так получилось, что в еще не распакованном саквояже оказалась штука, которую он считал бесполезной. Но теперь, когда крестик засверкал, у него голове что-то сошлось, и перед глазами возник указующий перст святого Августина.
Только этот сувенир он и привез из Рима. В последний день, бродя около своего отеля, Шон наткнулся на магазин с религиозной атрибутикой. Хозяин, видимо, догадался по одежде Шона, что деньги у него имеются, подвел его к витрине и показал кусочек кости, который, по его утверждению, был указательным пальцем автора «Исповеди». Шон не поверил ему, но все равно купил реликвию, потому что счел это забавным.
Он повел Энни вглубь сада, подальше от Марии и Малькольма, который так и не решился ступить в грязь. Повернувшись к ним спиной, он спросил:
– Твоя подруга же не католичка?
– Епископалка[28] – прошептала Энни.
– Грустно, – сказал Шон и вздохнув: – А Малькольм, представь себе, англиканин.
Он прижал палец к губам и глубоко задумался.
– А почему ты спросил? – спросила Энни.
Шон пришел в себя и бросил на нее лукавый взгляд. Но обратился ко всем сразу:
– Надо составить план. Малькольм, может, ты соберешь артишоки, пока мы кипятим воду?
Малькольм выглядел мрачным.
– У них же шипы, – заметил он.
– Всего лишь колючки, – сказал Шон и двинулся обратно в дом.
Энни решила, что Шон имел в виду, что воду должны кипятить все трое. Она последовала за ним на кухню, оглядываясь на Марию и улыбаясь ей, а та побежала за ними, размахивая короткими руками. Так или иначе, когда они вошли, Шон сказал:
– Если я правильно помню, жена хранит хорошее серебро в комоде, в коридоре на втором этаже. В красном комоде. На нижней полке, в бумажном свертке. Мария, не могла бы ты сходить за ним? Хоть стол накроем прилично.
Мария замешкалась, прежде чем что-либо ответить. Затем она повернулась и попросила Энни помочь.
Энни не очень-то хотелось. Мария была милой, но в последнее время стала слишком уж навязчивой. Куда бы Энни ни шла, Мария следовала за ней. В электричке Мария садилась вплотную. Вчера Энни оказалась зажата между металлической стенкой купе и твердым плечом Марии и поняла, что ей это надоело. Ей захотелось отпихнуть Марию и заорать: «Да дай же ты мне вздохнуть спокойно!»
Ей было жарко, и она уже собиралась толкнуть Марию, как вдруг ее досада сменилась чувством вины. Ну как можно так злиться на Марию просто за то, что та сидит слишком близко? Нельзя же отвечать на привязанность раздражительностью. Энни стало стыдно. Ей по-прежнему было неудобно сидеть впритык к Марии, но она попыталась не обращать на это внимание. Она наклонилась и дружески чмокнула ее в губы.
Теперь же Энни хотелось остаться на кухне и помочь с ужином. Шон заинтересовал ее. Он вел идеальный образ жизни, ему не приходилось работать, он ездил в Рим, когда хотелось, и возвращался в чудесный особняк. Энни никогда не встречала таких людей, а от жизни в ее юном возрасте ей хотелось лишь новизны и приключений. Поэтому она была рада, когда Шон сказал: «Думаю, тебе придется сходить самой, Мария. Энни нужна мне на кухне».
Аккуратно, вслепую Малькольм собирал артишоки. В саду темнело; солнце закатилось за каменную стену, и свет теперь исходил только из дома, освещая кусок газона неподалеку от того места, где присел Малькольм. Раньше он и не подумал бы стоять на коленях, добывая еду и пачкая брюки в грязи, но теперь это не имело никакого значения. Уже несколько недель ему не приходило в голову посмотреть на себя в зеркало, хотя прежде отражение наполняло его гордостью.
Он проводил рукой по толстым стеблям артишоков вверх, пока не нащупывал плод. Так он избегал шипов. Работал он медленно. Его ноздрей достиг запах земли, влажный и природный, и в нем было что-то пьянящее. Он чувствовал, как холодна земля под его коленями.
В темноте казалось, что артишоки не кончатся никогда. Он срывал их, двигался вперед, срывая еще и еще. Он начал двигаться быстрее, и вскоре работа полностью захватила его. Малькольму нравилось собирать артишоки. Он замедлил темп – не хотелось заканчивать.
Лестница на второй этаж оказались большой и длинной, и, взбираясь по ней, Мария перестала переживать о том, что выполняет поручение в одиночестве. Она чувствовала себя свободной вдали от дома и всех тамошних разочарований. Ей нравилась ее одежда, грубая и мешковатая, нравилась короткая стрижка, нравилось то, что они с Энни оказались там, где их никто не найдет, там, где можно вести себя как хочется, а не как положено в обществе. На стене висел старый гобелен – олень, которого рвут на части две гончие.
Она поднялась по лестнице и пошла по коридору искать красный комод. Комоды стояли рядами вдоль стен, большей частью из красного дерева. В конце концов она нашла один, вроде бы более красный, чем остальные, и опустилась перед ним на колени. Она открыла нижнее отделение. Внутри лежал бумажный сверток, и она удивилась его тяжести. Она положила сверток на пол и начала разворачивать. Пока она раскрывала его, металл внутри побрякивал. Наконец последний слой был снят, и вот они – ножи, вилки, ложки: лежат, глядя в одну сторону, и светят прямо в глаза.
Оставшись наедине с Энни, Шон занялся кипячением воды. Он снял кастрюлю с крючка на стене. Понес ее к раковине. Начал наполнять водой.
Все это время он тщательно контролировал каждый жест и думал, каким видит его Энни. Потянувшись к кастрюле, он двигался по возможности красиво. Он (грациозно) поставил кастрюлю на огонь и повернулся к девушке.
Она стояла, прислонившись к мойке, положив руки на края раковины; тело ее изогнулось изящной аркой. Теперь она казалась еще красивее, чем на обочине.
– Раз уж мы одни, Энни, – сказал Шон, – я могу открыть тебе тайну.
– Я готова, – ответила она.
– Обещаешь никому не говорить?
– Обещаю.
Он поглядел ей в глаза:
– Насколько хорошо ты знаешь историю религии?
– Я до тринадцати учила катехизис.
– Тогда ты знаешь про Августина Блаженного?
Она кивнула. Шон осмотрел комнату, будто думал, что кто-то может подслушать. Сделав длинную паузу, он подмигнул и сказал:
– У меня есть его палец.
Энни впечатлил не столько палец, сколько то, что Шон решил открыть ей секрет. Она слушала его вдохновенно, будто приобщаясь к божественной тайне.
Когда Энни флиртовала, она не всегда признавалась себе в том, что флиртует. Иногда она предпочитала отключить разум, чтобы флирт происходил сам по себе, без контроля со стороны рассудка. Будто тело и разум разделялись – тело уходило куда-то за ширму, чтобы раздеться, а разум по другую сторону не обращал на это внимания.
Сейчас Энни флиртовала с Шоном, не признаваясь себе в этом. Он рассказал про свою реликвию и даже обещал показать – в ознаменование того, что они оба католики.
– Но ты не должна никому об этом говорить. Мы же не хотим, чтобы эти еретики вернулись на путь истинный.
Энни со смехом согласилась и откинулась еще дальше. Она знала, что Шон смотрит на нее, и вдруг смутно поняла, что ей это нравится. Она видела себя его глазами: гибкая молодая женщина стоит, опираясь на руки, длинные волосы спадают назад.
– У вас есть корзина? – спросил Малькольм, появившись в дверном проеме. Его руки были в грязи, и впервые за день он улыбался.
– Их не может быть так много, – сказал Шон.
– Их сотни. Я не могу все унести.
– Сходи дважды, – предложил Шон. – Или трижды.
Малькольм посмотрел на Энни, опирающуюся на раковину. Когда она повернулась к нему, у нее в волосах мелькнула заколка из слоновой кости. Он снова подумал о способности Шона окружать себя юностью и жизненной силой. И потому обратился к ней:
– В саду чертовски здорово, Энни. Не хочешь помочь мне? Пусть старик Шон кипятит воду сам.
Он не дал ей шанса отказаться. Одной рукой повел ее в сад, а другой помахал Шону.
– Я набрал целую кучу, – сказал он. – Там немного мокро, но ты привыкнешь.
Он встал на колени перед горой артишоков и посмотрел на Энни снизу вверх. В отблесках света из дома ему была видна ее фигура, черты лица и тени на нем.
– Подставь руки корзинкой, я их наполню, – сказал он.
Энни так и сделала, скрестив руки ладонями вверх. Стоя перед ней на коленях, Малькольм начал собирать артишоки, один за другим раскладывать у девушки на руках, прижимая их к ее животу. Сначала пять, потом десять, потом пятнадцать. Чем больше он срывал, тем труднее было находить место для следующих. Он хмурил брови и тщательно располагал каждый артишок меж других, будто кусочек пазла.
– Смотри-ка, – сказал он. – Да ты прямо богиня плодородия.
И ему действительно так и казалось. Она стояла перед ним, гибкая и юная, и артишоки в изобилии росли из ее живота. Он положил последний артишок на грудь Энни, случайно уколов ее.
– Ой, извини!
– Я лучше отнесу их внутрь.
– Да, конечно, неси их внутрь. То-то попируем!
Войдя в кухню и увидев Шона, который стоял у плиты, уставившись на кастрюлю с водой, Мария задумалась. Конечно, она хорошо понимала, что задумал Шон. Она заметила, как он смотрел на Энни, как взволнованно говорил: «Занимайте, девушки, голубую спальню», – стараясь, чтобы это звучало щедро и благородно.
Она собиралась разложить приборы на столе, но остановилась. Слишком много шума. Вместо этого она просто стояла с серебром в руках, смотрела на спину Шона и наслаждалась тем, что она его видит, а он не знает об этом.
В их с Энни комнате была всего одна кровать. Мария сразу обратила на это внимание. Когда они, еще не сняв рюкзаки, вошли туда, Мария оглядела кровать и краем глаза заметила, что Энни тоже ее рассматривает. Это был момент безмолвного взаимопонимания: «Мы будем спать в одной постели!»
Но обсуждать это перед Шоном и Малькольмом было нельзя. Каждая из них знала, о чем подумала другая, но сказали они только: «Это здорово!» и «О, кровать с пологом. У меня была такая!»
Малькольм стоял на коленях в саду, наслаждаясь видением Энни в образе богини плодородия. Давно уже он не испытывал такого безрассудного удовольствия. В последние годы Урсула часто была не в духе. Малькольм старался понять, что ее раздражает, но его попытки злили ее еще сильнее. В какой-то момент он опустил руки. Они продолжали жить каждый своей жизнью и общались лишь по необходимости.
Он поднял несколько последних артишоков, которые Энни не удалось унести. Прижал к щеке, чтобы ощутить их прохладу. В этот момент ему вспомнилось время, проведенное в колледже, когда он познакомился с Шоном, – ощущение красоты окружающего мира, а вместе с тем – своего предназначения, своей судьбы, предчувствие, что все будет не зря. Но он забыл об этом. Жизнь с Урсулой и борьба с ней истощили Малькольма до такой степени, что он утратил силы. Она не была в этом виновата. Никто не был виноват.
Шон один за другим бросал артишоки в кипящую воду. Энни стояла рядом. Их плечи соприкасались. Он ощущал запах ее кожи, ее волос.
За столом Мария протирала приборы. Она горбилась, рассматривала пятнышки, щурясь, и время от времени потирала нос тыльной стороной ладони. Часть артишоков еще лежала на столе. Энни таскала их к плите, бережно передавала Шону, а тот бросал их в огромную кастрюлю с видом человека, который швыряет монетку в фонтан, чтобы загадать желание.
«Так выглядит настоящее счастье», – подумал Малькольм, входя с кучкой артишоков в руках. От кастрюли поднимался пар. Энни с Шоном вытаскивали из шкафчика тарелки и ополаскивали их. В дальней части кухни Мария раскладывала столовые приборы аккуратными стопками. Все было по-деревенски просто – собранные в саду овощи, огромная шипящая плита, две американки, напоминавшие Малькольму сельских девушек, которых он видел из окон поездов: легкие застывшие фигурки, движущиеся по дороге на велосипедах. Все дышало простотой, благополучием и здоровьем. Малькольм был настолько поражен этим зрелищем, что не мог заставить себя вмешаться. Он просто стоял в дверном проеме и смотрел.
Ему пришло в голову, что им предстоит волшебная трапеза. Меньше часа назад он разочарованно взирал на пустые шкафчики и думал, что вечер закончится поеданием бутербродов с луком и печенкой в шумном прокуренном пабе. А теперь кухня полна еды.
Невидимый в дверном проеме, Малькольм наблюдал за остальными. И чем дольше он смотрел, не будучи замечен, тем более странное чувство охватывало его. Вдруг он ощутил, что перешел из реальности кухни на другой уровень бытия; он не просто смотрел на жизнь, а прозревал ее. Не был ли он в какой-то мере мертв? Не прошел ли он ту точку, когда человек прощается с жизнью, расстается с нею? У раковины Шон выжимал желтое полотенце, Энни растапливала кусок масла над плитой, за столом Мария держала серебряную ложку в лучах света. Но никто из них, ни один не понимал значения той трапезы, которую они собирались разделить.
И с великой радостью Малькольм почувствовал, как движется вперед, из небытия на замечательную неподвижную землю. Его лицо озарилось светом. Он блаженно улыбался. У него еще было время, чтобы высказаться.
Шон не заметил, как Малькольм вошел в кухню, потому что нес на стол миску артишоков. Артишоки дымились, пар застил ему глаза.
Энни не заметила, как Малькольм вошел в кухню, потому что сочиняла очередное письмо домашним. Она опишет все это – и артишоки, и пар, и сверкающие тарелки!
Малькольм вошел, занял свое место за столом и положил артишоки на полу у себя под ногами. Лица девушек были невероятно прекрасными. И лицо его друга Шона было прекрасным.
Энни толком не обратила внимания на то, что Малькольм начал что-то говорить. Она слышала голос, но не понимала значения слов – просто какие-то звуки издалека. Она все еще пыталась просчитать, какое впечатление произведет ее рассказ, представить семью за столом – мама в очках читает письмо, а маленькие сестры ноют от скуки. В памяти всплыли задний двор, заросший яблонями, вход на кухню, где зимой стоят в ряд мокрые башмаки. Сквозь череду воспоминаний пробивался медленный монотонный рассказ Малькольма, и постепенно до Энни стало доходить, о чем он говорил. Он вел машину. Он остановился у обрыва. Он смотрел на море.
Посреди стола на тарелке благоухали артишоки. Энни потянулась и прикоснулась к одному из них, но он был еще слишком горячим. Потом она посмотрела на профили Шона и Марии и заметила, что им неловко. И после этого полностью осознала смысл слов Малькольма. Он говорил о самоубийстве. Собственном.
Мария представила, как толстый человек средних лет бросается со скалы, и этот образ показался ей нелепым. Она видела, что глаза Малькольма увлажнились, но искренность делала его лишь более чуждым. Может, он и правда собирался покончить с собой, может, этот ужин действительно, как он утверждал, вернул его к жизни, но странно было считать, что она разделит его печали и радости. Мария устыдилась того, что не может заставить себя сопереживать Малькольму (он возвышенным голосом описывал «темные дни», когда от него ушла жена), но это быстро прошло. Она призналась себе, что ничего не чувствует и толкнула Энни ногой под столом. Энни улыбнулась было, но прикрыла губы салфеткой. Мария дотронулась ступней до икры Энни. Энни убрала ногу, и Мария не смогла найти ее вновь. Она водила ногой вперед и назад, чтобы толкнуть Энни и подмигнуть ей, но Энни уткнулась в свою тарелку.
Шон смотрел, как Малькольм поглощает артишоки. Он застал их врасплох и начал есть и говорить одновременно. Вот ведь момент выбрал! Ничто так разрушительно не действует на романтическую атмосферу, которую Шон так хотел создать, чем рассуждения о смерти. Он заметил, как Энни напряглась, ссутулилась, поджала (наверняка) свои чудесные ноги. Смерть, прыжки с обрыва – ну зачем Малькольму рассуждать обо этом сейчас? Как будто им не все равно! В какой-то драматический момент Малькольм решил сказать, что ему приходится заставлять себя верить в то, что он может чувствовать любовь. Много ли он понимает в любви? Не слишком ли быстро он решил, что все прошло? Пять недель!
– Я никогда не думал, что смогу снова наслаждаться простой трапезой в кругу друзей, – говорил он, и Шон видел, как огромная слеза катится по его щеке.
Малькольм плакал, сдирая листья с огромного артишока (даже буря эмоций не помешала ему выбрать самый большой), сдирая листья и окуная их в масло, засовывая их в рот.
– Мы так быстро живем, что не можем осознать ценность нашей жизни! – проповедовал им Малькольм, и казалось, что ближе них у него в жизни никого не было.
Все молчали, внимая каждому его слову, и чувства вывели Малькольма на вершины красноречия, прежде ему неведомые. Как часто люди говорят какие-то незначительные, тривиальные вещи, просто чтобы сказать хоть что-нибудь! И лишь изредка выпадает шанс облегчить сердце, поговорить о красоте и смысле жизни, ее прелести, и добиться того, чтобы вас слушали. Лишь несколько мгновений назад он пребывал в агонии отчуждения от жизни, а теперь чувствует радость общения, делится интимными мыслями, и его тело приятно вибрирует от звуков собственного голоса.
Как только предоставилась возможность, Шон прервал мрачный монолог Малькольма: взял артишок с тарелки и сказал:
– Держи, Энни. Он уже остыл.
– Они чудесны, – произнес Малькольм, потирая глаза.
– Ты знаешь, как их есть, Энни? – спросил Шон. – Просто срываешь листья, окунаешь в масло и соскребаешь мякоть зубами.
Объясняя, Шон показал пример: оторвал лист, окунул в масло и поднес к губам девушки.
– Давай, попробуй, – сказал он.
Энни открыла рот, схватила лист губами и аккуратно укусила.
– Знаешь, Шон, у нас в Америке есть артишоки, – сообщила Мария, взяв овощ с тарелки. – Мы ели их и раньше.
– Я нет, – сказала Энни, жуя и улыбаясь Шону.
– Ты тоже ела, – возразила Мария. – Я видела, как ты их ела. Много раз.
– Может, это была спаржа, – предположил Шон, и они с Энни засмеялись.
Ужин продолжался. Шон заметил, что Энни теперь сидит повернувшись к нему. Малькольм ел молча, и его мокрые щеки сияли, как намасленный артишок в его руке. Один за другим овощи исчезали с тарелки, один за другим отрывались их листья. Шон продолжал давать Энни еду по кусочкам, проявляя заботу простыми фразами: «Еще штучку? Масла? Воды?» Между порциями он поворачивал к ней лицо, и воздух между ними наполнялся теплым ароматом съеденной пищи.
Он думал об их дальнейшем свидании. План был таков: после ужина он предложит поиграть в триктрак; она немедля согласится, и они вместе отправятся в бильярдную; они будут играть, пока все остальные не пойдут спать, и тогда они вдвоем отправятся наверх смотреть на реликвию.
И тут Малькольм сказал:
– Леди, посмотрите на двух стариков, что сидят перед вами. Мы с Шоном старые добрые друзья. В Оксфорде мы были неразлучны.
Шон взглянул на него. Малькольм тепло улыбался ему с той стороны стола, глаза его все еще слезились. Он размягчился и выглядел по-идиотски, но продолжал:
– Даст бог, ваша дружба, такая юная, будет столь же долгой, как и наша.
Теперь Малькольм смотрел на девушек – на одну, потом на другую.
– Старые друзья, – прошептал он, – самые верные.
– Может, кто-нибудь хочет пойти в бильярдную и сыграть в триктрак? – громко предложил Шон всем собравшимся, но Энни знала, что он обращается в первую очередь к ней. Она уже было собиралась согласиться, но заметила, что Мария смотрит на нее из своего угла. Энни знала, что Мария ждет ее ответа. Если она согласится, согласится и Мария. Внезапно Энни поняла, что план не сработает: Мария в жизни не пойдет спать без нее. Энни положила руки на стол, полюбовалась своими ногтями и спросила:
– Мария, что думаешь?
– Ой, я не знаю, – сказала Мария.
– Мы же не можем играть все, – сказал Шон. – Боюсь, это игра на двоих.
– Триктрак? Звучит заманчиво, – сказал Малькольм.
Энни передернуло. Она слишком долго тянула. Она все испортила.
– Все равно нам рано вставать, – сказала Мария.
– Ладно, мы простим двух усталых путниц, – сказал Малькольм. – С большим сожалением.
– Пожалуй, час действительно поздний, – сказал Шон.
– Ерунда! – сказал Малькольм. – Вечер только начинается!
Он отодвинул свой стул и решительно встал.
Шон ничего не мог сделать. Он не понимал, почему Энни спутала их планы. Он подозревал, что действовал слишком прямолинейно во время ужина, выдал свои истинные намерения и спугнул ее. Как бы то ни было, теперь ничего не оставалось – только встать, замаскировать отчаянные сигналы сердца улыбкой и проследовать к подвальной двери. Пока Шон спускался по ступеням – и Малькольм за ним, – он безуспешно пытался расслышать, о чем говорят девушки.
Комната была длинной, узкой, обшитой панелями, с бильярдным столом посередине, а напротив стены стоял кожаный диван, перед которым висел телевизор. Шон сразу пошел к нему и включил.
– Так что, в триктрак? – спросил Малькольм.
– Мне расхотелось, – ответил Шон.
Малькольм неуверенно поглядел на него:
– Я надеюсь, вас не огорчила моя маленькая речь? Боюсь, я не дал вам побеседовать.
Шон продолжал пялиться в телевизор.
– Да я почти и не слушал, – произнес он.
– Ты нравишься Шону, – сказала Мария Энни, как только они остались наедине.
– Ничего подобного.
– Очень даже. Я уверена.
– Он просто вежливый.
Они вытирали последние тарелки, стоя плечом к плечу у раковины.
– Что он сказал тебе в саду?
– Когда?
– В саду. Когда увел тебя подальше.
– Он сказал, что никогда не встречал такой красивой девушки, и предложил выйти за него замуж.
Мария мыла тарелку. Она погрузила ее в воду и ничего не ответила.
– Шучу, – произнесла Энни. – Он просто рассказывал про участок – как трудно за ним ухаживать.
Мария начала скрести тарелку, хотя она была абсолютно чистой.
– Я шучу, – снова сказала Энни.
Энни собиралась мыть посуду как можно дольше. Если Шон вернется, она даст ему знать, что они могут встретиться позже. Но тарелки оказались не слишком грязными, и их было всего четыре, да еще несколько стаканов. Вскоре девушки закончили.
– Я устала, – сказала Мария. – А ты не устала?
– Нет.
– А выглядишь усталой.
– Я не устала.
– И что мы теперь делаем?
Энни не могла придумать повода, чтобы задержаться на кухне. Можно пойти вниз, но там Малькольм. Он будет везде, всю ночь. Он никогда не пойдет спать – ведь он так счастлив, что жив. Так что в конечном итоге она решила:
– Делать тут больше нечего. Пойду-ка я спать.
– Я с тобой, – сказала Мария.
– Зачем нам смотреть телевизор, Шон? – спросил Малькольм. – Так нам и поговорить не удастся. Мы уже двадцать лет не разговаривали!
– Я уже две недели не смотрел телевизор, – ответил Шон.
Малькольм дружелюбно засмеялся:
– Шон, зачем все это? Ты от меня не убежишь. Особенно этой ночью.
Он ждал ответа, но не дождался. На него снизошло непоколебимое спокойствие. Он может сказать все, что захочет, и остается только гадать, почему Шон, напротив, выглядит таким отчужденным. Но через минуту до него дошло: он просто слишком привык быть непроницаемым. Это не более чем маска. Глубоко внутри Шон тоже одинок, печалится о своем неудачном браке так же, как Малькольм. Потому он и пытается шутить и окружает себя молодыми женщинами.
Малькольм удивился, что не сообразил раньше. Теперь он многое понял. Он смотрел на друга и глубоко ему сочувствовал. И он сказал:
– Расскажи мне про Мег, Шон. Тут нечего стесняться. Мы в одной лодке, сам понимаешь.
Тогда Шон повернулся и встретил его взгляд. Он все еще притворялся, ему было трудно, но в конце концов он ответил:
– Мы не в одной лодке, Малькольм. Отнюдь нет. Я бросил Мег. Мег меня не бросала.
Малькольм смотрел в сторону, на пол.
– И она, боюсь, не смогла это принять, – продолжил Шон. – Она бросилась под поезд.
– Она пыталась покончить с собой? – спросил Малькольм. – Боже мой!
– Не просто пыталась. У нее получилось.
– Мег умерла?
– Да. Вот поэтому сад так и запущен.
– Шон, мне так жаль. Почему ты ничего не сказал?
– Мне не хотелось об этом говорить, – ответил Шон.
Эта месть порадовала Шона. Малькольм испортил ему вечер, но теперь Шон одержал верх над ним, заставил поверить в то, во что ему хотелось. Малькольм откинул голову на спинку дивана, и Шон произнес:
– Вот ведь как совпало, что сегодня ты оказался здесь. И поведал свою историю. Будто что-то привело тебя сюда.
– Я не знал, – мягко сказал Малькольм.
Шон продолжал буравить взглядом своего друга, чувствуя, что может создать для Малькольма персональную картину мира, где ничто не происходит случайно, даже самоубийства.
Он оставил Малькольма на диване и пошел к лестнице.
Когда Мария отправилась в ванную чистить зубы, Энни подкралась к входу в спальню. До нее не доносилось ни звука. Дом был тих. Она слышала лишь как Мария полощет рот и сплевывает воду в раковину. Она шагнула в холл. Снова ни звука. Потом Мария вышла из ванны. Она сняла очки и растянулась на кровати.
Шон пришел на кухню и никого там не обнаружил. Он проклинал свою идею с триктраком, проклинал вмешавшегося Малькольма, проклинал Энни, нарушившую их план. Что бы он ни делал, все без толку. Дом, артишоки, реликвия – этого оказалось мало. Он представил, как жена танцует где-то в тропиках, а затем увидел себя – одинокого, в холодном доме, с неисполненными желаниями.
Он подошел к нижней двери и прислушался. Телевизор все еще работал. Ошеломленный Малькольм так и сидел перед ним. Шон развернулся и собрался оставить Малькольма там на всю ночь, но внезапно замер на месте. Ведь перед ним, одетая лишь в мужскую длинную футболку, стояла Энни.
Наверху Мария, навострив уши, ждала, пока Энни вернется в постель. Не успев лечь, она вдруг вылезла и сказала, что сходит вниз за водой.
– Попей из крана в ванной, – предложила Мария, но Энни ответила:
– Я хочу из стакана.
После всего, что было, даже после поцелуя в поезде, Энни все еще стеснялась. Она нервничала, только легла в постель – и сразу выпрыгнула. Мария прекрасно понимала, через что проходит Энни. Она заложила руки за голову. Разглядывая лепнину на потолке, она чувствовала, как ее тело тонет в матрасе и подушках. На нее снизошло спокойствие, и она твердо поверила, что теперь-то уж наконец все ее желания действительно исполнятся, осталось лишь подождать.
Малькольм встал и выключил телевизор. Он пошел к бильярдному столу. Он взял один из шаров, покатил его по сукну и смотрел, как тот бьется о стенки. Потом поймал шар и покатил еще раз. Шар мягко стукался о бортики.
Малькольм размышлял над рассказом Шона. Он пытался понять, что же все это может значить.
Чтобы не встретить Малькольма, если тот появится, Шон повел Энни к себе в кабинет. По пути он захватил чемодан, который оставил в передней. Закрыв дверь, он шепотом попросил Энни хранить молчание. Затем торжественно наклонился и открыл чемодан. Открывая металлические запоры, он заметил, что голые бедра Энни оказались в считанных дюймах от его лица. Он хотел протянуть руки, обнять ее за ноги, притянуть девушку к себе и уткнуться лицом в ее бедра. Но ничего этого он не сделал. Просто достал серый шерстяной носок и извлек из него желтоватую кость менее трех дюймов длиной.
– Вот он, – сказал он, показывая реликвию. – Прямо из Рима. Указательный палец святого Августина.
– Когда, говоришь, он жил?
– Пятнадцать веков назад.
Энни протянула руку и дотронулась до кости, а Шон глазел на ее губы, щеки, глаза, волосы.
Энни знала, что он собирается ее поцеловать. Она всегда знала, когда мужчины собирались ее поцеловать. Иногда она чинила препятствия – отстранялась или спрашивала о чем-нибудь. А иногда предпочитала делать вид, будто ничего не замечает, – вот и сейчас она просто разглядывала палец святого.
Тогда Шон сказал:
– Я боялся, что наша маленькая встреча так и не состоится.
– От еретиков бывает трудно укрыться, – ответила Энни.
В поисках Шона Малькольм забрел на кухню, но обнаружил там лишь тщательно вымытые девушками тарелки, аккуратно сложенные рядом с раковиной. Он побродил по кухне, погрел руки над огнем, затем заметил, что артишоки, которые он свалил на полу перед дверью, так и там и остались, и переложил их на стол. И лишь после этого он подошел в кухонному окну и поглядел в сад.
Когда Мария увидела, что они над чем-то склонились, головы их почти соприкасались. Она сразу поняла, что случилось. Энни спустилась за стаканом воды, и Шон подстерег ее. Она пришла как раз вовремя, чтобы спасти подругу от неловкой ситуации.
– Что тут у вас? – воскликнула она и триумфально ворвалась в комнату.
Голос Марии был словно голос неотвратимой судьбы. Едва почувствовав себя победителем, когда его желания вот-вот должны были исполниться (их с Энни щеки почти соприкасались), Шон услышал голос Марии, и все его надежды испарились. Он ничего не сказал. Он просто стоял молча, а Энни была рядом и сжимала реликвию в холодной руке.
– Это палец святого Августина, – объяснила Энни.
Мария взглянула на кость, затем протянула ее назад Шо-ну и просто произнесла:
– Не может быть.
Девушки повернулись (вместе) и пошли к двери.
– Спокойной ночи, – сказали они, и Шон, замерев, слушал, как их голоса сливаются в мучительный унисон.
– Ты же не поверила ему, правда? – вновь спросила Мария, когда они остались в комнате наедине.
Энни не ответила, просто легла на кровать и закрыла глаза. Мария выключила свет и пошла к кровати на ощупь.
– Я не могу поверить, что ты на это повелась. Палец святого Августина! – засмеялась она. – Чего только парни не наговорят!
Она забралась в постель и натянула одеяло, а затем стала глядеть во тьму, размышляя о мужском коварстве.
– Энни, – прошептала она, но подруга не отвечала.
Мария подвинулась ближе.
– Энни, – сказала она погромче.
Та отодвинулась. Мария коснулась бедром бедра Энни и снова позвала:
– Энни.
Но подруга не ответила, не прижалась к ней покрепче.
– Я хочу спать! – сказала Энни и отвернулась.
Шон так и остался с поддельным пальцем знаменитого святого в руках. В коридоре ему показалось, что девушки хихикают. Потом послышался звук их шагов по ступеням, скрип и стук закрывающейся двери в спальню, а затем – тишина.
Кость была покрыта пленкой белой пыли, которая осыпалась на его раскрытую ладонь. Хотелось швырнуть ее в стену или бросить на пол и растоптать, но что-то его держало. Он разглядывал кость, и вдруг ему показалось, что на него самого кто-то смотрит. Он огляделся, но в комнате никого не было. Когда он опять взглянул на кость, случилась странная вещь. Палец как будто указывал на него, словно до сих пор принадлежал живому человеку или обладал разумом. Он обвинял и упрекал.
К счастью, это чувство сразу прошло. Палец больше ни на кого не был нацелен. Он снова стал просто костью.
Луна взошла, и в ее свете Малькольм четко видел сад – бледно-голубой круг с травой по краям. Он посмотрел на оставшиеся на столе артишоки. Потом направился к задней двери, открыл ее и вышел.
Сад выглядел даже хуже, чем прежде. Мертвые цветы, которые раньше хотя бы стояли ровно, теперь были вытоптаны, вырваны и поломаны. Везде были следы. Спокойствие запустения сменила разруха.
Малькольм смотрел на отпечатки своих ботинок, большие и глубокие. Потом заметил следы поменьше, от кроссовок Энни. Он шагнул в сад и поставил ноги поверх ее следов, и ему понравилось, что его ботинки полностью их закрывают. Теперь он перестал думать о том, что произошло с Шоном. Он не знал, в какой именно части дома сейчас находится каждый из них, что Мария лежит на одной стороне кровати, Энни на другой, а Шон в своем кабинете взирает на кусочек кости. На секунду Малькольм забыл о своих друзьях, пока стоял в саду, который Мег, его сестра-близнец, посадила и забыла. Мег ушла, сдалась, но он-то все еще здесь. Он думал, что ему нужен собственный дом и собственный сад. Он представил, как будет ухаживать за розами и собирать бобы. И ему казалось, что эти простые перемены наконец сделают его счастливым.
Великий эксперимент
«Если ты такой умный, почему такой бедный?»
Вопрос задавал город. Чикаго, сверкающий в ранневечернем позднекапиталистическом свете. Кендалл сидел в пентхаусе (чужом) на Лейк-Шор-драйв, в доме, где квартиры продавались только за наличные. Из окон открывался вид на воду восемнадцатью этажами ниже. Но если прижаться к стеклу, как сделал Кендалл, можно увидеть бисквитный пляж, спускающийся к морскому причалу, где как раз вспыхнули огни на колесе обозрения.
Готический серый камень небоскреба Трибьюн-тауэр, черная сталь соседнего небоскреба работы Миса – цвета нового Чикаго были другими. Теперь застройщики прислушивались к датским архитекторам, а те прислушивались к природе, поэтому в последнее время кондоминиумы стали органическими – светло-зеленые фасады, волнистые линии крыш, словно листья травы на ветру.
Когда-то здесь были прерии, говорили эти здания.
Кендалл разглядывал шикарные дома, размышлял о людях, которые жили там (он не из их числа), и гадал, что же такое знают они, чего не знает он. Проехавшись лбом по стеклу, он услышал шуршание бумаги. К нему прилип желтый листок. Видимо, пока Кендалл дремал за столом, заходил Пьясецки.
«Подумай», – гласила бумажка.
Кендалл скомкал ее и бросил в корзину, после чего снова стал разглядывать мерцающий Золотой берег.
Последние шестнадцать лет Чикаго безусловно поддерживал Кендалла. Город радушно принял его, когда он привез сюда «Цикл песен» – стихи, сочиненные на писательском семинаре в Айове. Город восхищался причудливым перечнем его интеллектуальных занятий в первые годы: корректор в «Баффлере», преподаватель латыни в латинской школе. Если тебе двадцать с небольшим, а ты уже закончил Амхерст с отличием, получил грант Миченера [29] и опубликовал в литературном приложении к «Таймс» бескомпромиссно мрачную вилланеллу[30] меньше чем через год после того, как покинул Айова-Сити, будущее выглядит крайне многообещающе. Возможно, к тридцатилетию Кендалла город и усомнился в его гениальности, но он этого не заметил. Кендалл работал редактором в маленьком издательстве «Великий эксперимент», где выходило пять книг в год. Издательство принадлежало Джимми Бойко – теперь тому было восемьдесят два. Жители Чикаго помнили Бойко скорее по шестидесятым и семидесятым, когда он торговал порнушкой на Стейт-стрит, а не за куда более продолжительную деятельность в роли защитника свободы слова и издателя либертарианской литературы. Кендалл работал в пентхаусе, принадлежащем Джимми, и в настоящий момент любовался видом, также принадлежащим Джимми. Сам Джимми сохранил живость рассудка. Он плохо слышал, но если ты напрягал глотку и сообщал о том, что происходит в Вашингтоне, голубые глаза старика хищно загорались – бунтарь в нем еще был жив.
Кендалл отодвинулся от окна, вернулся к столу и взял в руки книгу – «Демократию в Америке» Алексиса де Ток-виля. Этот автор был одним из страстных увлечений Джимми. У него он позаимствовал название для издательства. Как-то полгода назад, после ежевечерней порции мартини, Джимми решил, что этой стране нужна ключевая работа Токвиля в очень кратком изложении, где сообщались бы все соображения француза об Америке, особенно те, что выставят администрацию Буша в самом дурном свете. Этим Кендалл и занимался всю последнюю неделю – читал «Демократию в Америке» и выбирал особенно яркие высказывания. Например, вступление: «Среди множества новых предметов и явлений, привлекших к себе мое внимание во время пребывания в Соединенных Штатах, сильнее всего я был поражен равенством условий существования людей»[31].
– Невероятно! – вскричал Джимми, когда Кендалл зачитал ему этот отрывок по телефону. – Бушевская Америка максимально далека от равенства условий существования!
Джимми хотел назвать книжку «Демократия в кармане». После того, как первоначальный пыл утих, он передал проект Кендаллу. Сначала Кендалл пытался читать все подряд, но через некоторое время стал пролистывать. И в первом, и во втором томе были невероятно скучные куски: методология американской юриспруденции, исследование американского градостроения. Джимми интересовали только те фрагменты, которые оказались провидческими. «Демократия в Америке» напоминала истории, которые родители рассказывали детям о своей юности: описания характеров, которые выкристаллизовались со временем, или же странностей и предпочтений, оставшихся в прошлом. Странно было читать рассуждения француза об Америке той поры, когда страна была маленькой, милой и безобидной, когда ее еще недооценивали, а французы могли присвоить и превзойти ее достижения, – что-то вроде серийной музыки или романов Джона Фанте: «Здесь, как и в лесах, уже укрощенных человеком, смерть без устали наносила свои удары. Остатки мертвых деревьев и растений образовывали завалы, которые наслаивались один на другой; требовалось слишком много времени, чтобы превратить все это в прах и дать место новой поросли. Но даже в самой глубине этих завалов ни на минуту не прекращалось зарождение новой жизни. Ползучие растения и всевозможные травы пробивались к свету сквозь препятствия; они стлались по земле возле поваленных деревьев, проникали в их трухлявую сердцевину, приподнимали и разрушали усохшую кору, которая все еще покрывала эти останки, расчищая таким образом путь для своих молодых побегов. В известном смысле смерть способствовала здесь утверждению жизни».
Как восхитительно! Как приятно воображать, какой была Америка в 1831 году, до появления торговых комплексов и шоссе, окраин и пригородов, когда берега были «обрамлены лесами, ровесниками мира». Какой была страна в детстве? А главное – что же пошло не так, и как найти путь обратно? Когда смерть перестала способствовать утверждению жизни?
Описанная Токвилем страна мало походила на ту, что знал Кендалл. Некоторые суждения словно приоткрывали занавес, демонстрируя настолько неотъемлемые качества Америки, что их уже никто не замечал. Постоянно усиливающаяся неловкость, которую Кендалл испытывал, будучи американцем, ощущение, что юность, выпавшая на времена холодной войны, научила его бездумно принимать национальные добродетели, что пропаганда промыла ему мозги так же эффективно, как и какому-нибудь юному москвичу, – все это теперь вызывало в нем желание осмыслить и постичь этот эксперимент под названием «Америка».
Однако чем больше он читал про Америку 1831 года, тем отчетливее понимал, как мало знает об Америке 2005 года, о том, во что верят и как живут ее граждане.
Взять хотя бы Пьясецки. Как-то вечером они сидели в «Золотом петухе», и он сказал:
– Не будь мы с тобой такими честными, отлично бы заработали.
– Ты о чем?
Пьясецки был бухгалтером Джимми Бойко. Он приходил по пятницам, оплачивал счета и вел учет. Бледный, потный, с реденькими светлыми волосами, зачесанными назад с выпуклого лба.
– Он вообще ничего не проверяет, представляешь? – сказал Пьясецки. – Даже не знает, сколько у него денег.
– А сколько?
– Это конфиденциальная информация. Первое, чему учат в бухгалтерской школе: рот на замок.
Кендалл не стал настаивать. Он с подозрением относился к разглагольствованиям Пьясецки о бухгалтерском деле. Когда компания «Артур Андерсен» развалилась в 2002 году, Пьясецки – как и восемьдесят пять тысяч его коллег – остался без работы. Он так и не оправился после этого удара – вес его сильно колебался, он принимал «Никоретте» и таблетки для похудания и много пил.
Сейчас, сидя в полумраке, в окружении красной кожаной мебели и завсегдатаев бара в счастливые часы, Пьясецки заказал виски. Кендалл последовал его примеру.
– Ну что, плеснуть вам, как директору? – спросил бармен.
Кендаллу никогда не стать директором. Но он был не против, чтобы ему наливали, как директору.
– Да, – ответил он.
Несколько мгновений они молча смотрели в телевизор, где шел бейсбольный матч конца сезона. На поле сражались две новых команды Западного дивизиона. Кендалл не узнавал их форму. Бейсбол и тот стал подделкой.
– Не знаю, – сказал Пьясецки. – Просто когда испытаешь то, что довелось мне, начинаешь по-другому смотреть на вещи. Я раньше думал, что большинство людей соблюдает правила. Но когда «Андерсен» рухнул… Бичевать целую компанию за то, что сделали какие-то отморозки для Кеннета Лэя и «Энрона»…[32] – Он осекся. Во взгляде его полыхнула свежая боль.
Им принесли виски в стаканах, похожих на миниатюрные бочонки. Они выпили и заказали еще. Пьяцески угостился бесплатными закусками.
– Девять из десяти на нашем месте хотя бы подумали бы об этом! – сказал он. – Ты знаешь, на чем этот урод сколотил первый капитал? На шлюхах! Это была его фишка. Он первый начал фотографировать лохматки. Понял, что мода на сиськи и задницы прошла, и тут же о них забыл. А теперь он, значит, святой? Политический активист? Ты же не веришь в это дерьмо, я надеюсь?
– Вообще-то верю, – сказал Кендалл.
– Из-за этих твоих книжонок? Я видел цифры, ясно? Вы каждый год теряете деньги. Их никто не читает.
Кендалл попытался защититься:
– Мы продали пять тысяч экземпляров «Записок федералиста».
– В основном в Вайоминге, – парировал Пьясецки.
– Джимми умеет обращаться с деньгами. Как насчет взносов в Американский союз защиты гражданских свобод? Издательство – всего лишь часть его деятельности. – Кендалл чувствовал, что обязан это сказать.
– Ладно, забудем ненадолго про Джимми, – продолжил Пьясецки. – Просто сам взгляни на эту страну. Буш, Клинтон, Буш, а там, может, снова Клинтон. Это не демократия, понятно? Это династическая монархия. И что делать людям вроде нас с тобой? Что такого, если мы снимем себе немножко сливочек? Всего чуть-чуть. Я, блин, ненавижу свою жизнь, и я постоянно об этом думаю. Нам уже вынесли приговор и забрали наши жизни, и неважно, как мы себя вели. Так я и думаю – если мы уже виноваты, какая разница?
Когда Кендалл напивался, когда попадал в какие-нибудь странные места, вроде этого «Золотого петуха», когда становился свидетелем чужого горя, – даже в такие моменты он по-прежнему чувствовал себя поэтом. Слова принимались жужжать где-то на задворках разума, словно ему вновь хватило бы усердия записать их. Он оглядел лиловые мешки под глазами Пьясецки, маниакально ходящие под кожей желваки, плохой костюм, волосы цвета кукурузы и синие очки с эмблемой «Тур де Франс», поднятые на лоб.
– Позволь-ка задать вопрос, – сказал Пьясецки. – Сколько тебе лет?
– Сорок пять.
– И ты до конца жизни хочешь быть редактором в маленьком издательстве?
– Да я ничего не хочу делать до конца жизни, – улыбнулся Кендалл.
– Джимми не предоставляет тебе страховку, верно? – Да.
– У него столько денег, а мы с тобой прямо как фрилансеры. А послушать тебя, так он какой-то народный герой.
– Моей жене это тоже не по нраву.
– У тебя умная жена, – одобрительно кивнул Пьясецки. – Может, мне стоило с ней поговорить.
В поезде на Оук-Парк было так душно и мрачно, что дорога казалась карой за неведомое преступление. Колеса стучали, свет моргал. Когда появлялось хоть какое-то освещение, Кендалл читал Токвиля: «Истребление индейских племен началось сразу же, как только первые европейцы высадились на побережье Америки, и с тех пор не прекращалось вплоть до наших дней». Поезд покачнулся, выехав на мост, и начал пересекать реку. На противоположном берегу над водой парили и переливались огнями восхитительные строения из стекла и стали. «Эти берега, столь благоприятные для развития торговли и промышленности, эти глубокие реки, эта неистощимая в своем плодородии долина реки Миссисипи – словом, весь этот континент, казалось, был создан для того, чтобы стать колыбелью еще не родившейся великой нации».
Зазвонил телефон, Кендалл взял трубку. Это был Пьясец-ки, который шел по улице домой.
– Помнишь, о чем мы говорили? – спросил он. – Так вот, я напился.
– Да я тоже, – ответил Кендалл. – Не беспокойся.
– Я напился, – повторил Пьясецки, – но говорил серьезно.
Кендалл никогда не предполагал, что станет таким же богатым, как его родители, но также не думал, что будет зарабатывать так мало и это станет проблемой. За пять лет работы в «Великом эксперименте» им с женой Стефани удалось скопить сумму, которой хватило лишь на просторную развалюху в Оук-Парке в ужасном состоянии. Дом нуждался в ремонте, но денег на это у них уже не хватило.
Раньше Кендалла не смущало скромное жилье. Ему нравились амбары, переделанные под дома, и неотапливаемые квартиры над гаражами, где они со Стефани жили до свадьбы, равно как и чуть более комфортабельные апартаменты в сомнительных районах, в которых они обитали после. Он воспринимал свой брак как контркультурное явление, творческий союз, питаемый виниловыми пластинками и литературными журналами Среднего Запада. Это ощущение осталось даже после рождения Макса и Элеаноры. Разве это не чудесно – менять подгузники в бразильском гамаке? А постер Бека прекрасно смотрится над колыбелью, да и к тому же прикрывает дырку в стене.
Кендаллу никогда не хотелось жить, как его родители. В этом-то и крылась его возвышенная идея, из-за которой собиралась коллекция снежных шаров и покупались очки на блошиных рынках. Но когда дети подросли, Кендалл начал сравнивать их детство и свое (не в их пользу) и ощущать вину.
С улицы, из-под темных, сочащихся дождем деревьев дом смотрелся довольно внушительно. Перед ним раскинулась просторная лужайка. Две каменные урны охраняли ступени, ведущие к широкому крыльцу. Если не обращать внимание на облупившуюся под карнизами краску, внешне дом был очень даже ничего. Проблемы начинались внутри. Взять хотя бы само слово «интерьер». Стефани оно нравилось. Это слово то и дело встречалось в дизайнерских журналах, которые она изучала. Один так и назывался: «Интерьеры». Но Кендалл сомневался, что обстановка его дома была достойна столь пышного названия. Взять хотя бы тот факт, что окружающий мир постоянно пытался проникнуть внутрь: дождь протекал через потолок главной ванной, канализация затопляла слив в подвале.
Через дорогу был припаркован рэндж-ровер с дымящейся трубой. Проходя мимо, Кендалл с неприязнью посмотрел на водителя. Он ожидал увидеть какого-нибудь бизнесмена или стильную дамочку из пригорода, но за рулем сидела некрасивая тетка в толстовке с надписью «Висконсин» и болтала по мобильному.
Кендалл ненавидел кроссоверы, но знал, что в базовой комплектации такая машина стоит семьдесят пять тысяч долларов. На официальном сайте, где чей-нибудь муж мог в ночи собрать себе идеальный автомобиль, сообщалось, что в комплектации люкс (кашемировая обивка салона, синяя окантовка, приборная панель каштанового цвета) машина будет стоить уже восемьдесят две тысячи. Немыслимая, унизительная сумма. Несмотря на это, в данный момент на участок поблизости заезжал еще один рэндж-ровер – соседа Билла Феррета. Билл занимался чем-то, связанным с программным обеспечением: то ли разрабатывал его, то ли продавал. Прошлым летом на барбекю Билл рассказывал о своей работе, а Кендалл с серьезным видом слушал. Серьезный вид ему отлично удавался. Он отработал его в старших классах и колледже, где всегда сидел на первой парте: лицо сообразительного отличника. Несмотря на демонстрируемое внимание, Кендалл не запомнил, что именно рассказывал Билл. В Канаде была какая-то компания под названием «Уоксмен», и Билл владел акциями этой компании, или же у «Уоксмена» была доля в компании Билла, «Дупли-кейт», и какая-то из этих компаний собиралась выйти на открытый рынок, и это вроде бы было хорошо, но Билл только что открыл третью компанию, «Трипликейт», и поэтому «Уоксмен» (или «Дупликейт») заставил его дать обязательство об отказе от конкуренции в течение следующего года.
Пережевывая гамбургер, Кендалл думал, что так люди и разговаривают в настоящем мире, в котором он сам вроде бы и жил, но к которому странным образом не принадлежал.
В этом мире существовали такие понятия как «индивидуальное программное обеспечение», «процент долевого участия», макиавеллиевские корпоративные интриги, и благодаря всему этому кто-то въезжал на душераздирающе красивом темно-зеленом рэндж-ровере на свою собственную подъездную дорожку.
Может, Кендалл не так уж и умен.
Он вошел в дом и обнаружил Стефани на кухне – она сидела рядом с открытой светящейся духовкой. Накопившаяся за день почта была рассыпана по столу, жена листала архитектурный журнал. Кендалл подошел сзади и поцеловал ее в шею.
– Не сердись, – сказала Стефани. – Я только что включила.
– Я не сержусь. Я вообще никогда не сержусь.
Стефани почла за лучшее не спорить. Маленькая изящная женщина, она работала в галерее современной фотографии. У нее до сих пор была та же стрижка под ощипанного пажа, как и в тот день, когда они встретились на семинаре по Хильде Дулитл[33] двадцать два года назад. Когда Стефани исполнилось сорок, она стала спрашивать Кендалла, не слишком ли стара для такого образа. Но он честно отвечал, что ей очень идут тщательно подобранные в комиссионке наряды: длинные пестрые кожаные жакеты, юбочки, словно у девушек из военного оркестра, русские шапки из искусственного белого меха.
Стефани разглядывала в журнале фотографии переделанных зданий. На одной странице был изображен кирпичный дом, заднюю часть которого увеличили, чтобы вместить стеклянную пристройку. На другой – дом из песчаника, который выпотрошили так, что он стал напоминать просторные светлые лофты в Сохо. В этом и крылась цель: сохраняя верность градоохранному пафосу, все же не отказывать себе в современных радостях комфорта. На фотографиях были запечатлены обаятельные зажиточные семьи владельцев – они завтракали или отдыхали, и жизнь их, казалось, приближалась к идеалу именно благодаря дизайнерским решениям: даже включая свет или набирая ванну, они ощущали гармонию и удовлетворение.
Кендалл склонился к Стефани и принялся вместе с ней рассматривать снимки. Потом спросил:
– А где дети?
– Макс у Сэма. Элеанор сказала, что дома слишком холодно, так что она заночует у Оливии.
– Знаешь что, пошло оно все к черту! Давай включим отопление.
– Нельзя. В прошлом месяце пришел жуткий счет.
– Что ж теперь, так и сидеть с открытой духовкой?
– Да уж. Но тут правда дубак.
– Пьясецки сегодня сказал кое-что интересное.
– Кто?
– Пьясецки, бухгалтер с работы. Говорит, мол, это ужасно, что Джимми мне даже страховки не дает.
– Я говорила то же самое.
– Так вот, Пьясецки с тобой согласен.
Стефани закрыла журнал, захлопнула дверцу духовки и выключила газ:
– Мы платим страховой компании шесть тысяч долларов в год. За три года могли бы накопить на новую кухню.
– Или потратить их на отопление, – сказал Кендалл. – И тогда наши дети не бросили бы нас. Не разлюбили бы.
– Они тебя не разлюбили. Не беспокойся, весной вернутся.
Кендалл снова поцеловал жену в шею и вышел из кухни. Он поднялся на второй этаж: во-первых, надо было сходить в туалет, а во-вторых, хотелось надеть свитер. Однако стоило ему зайти в спальню, он застыл на месте.
В Чикаго было множество таких супружеских спален. Их количество росло по всей стране – в них обитали усталые пары, живущие только на зарплату. Сплетенье простыней и одеял на постели, сплющенные, а то и лишенные наволочек подушки, демонстрирующие пятна слюны и торчащие перья, носки и трусы на полу, словно шкурки мелких зверей, – спальня напоминала берлогу, в которой еще недавно спали два медведя. Возможно, они так и не проснулись. В дальнем углу возвышался холм грязной одежды. Несколько месяцев назад Кендалл отправился в магазин домашней утвари и купил плетеную корзину для грязного белья. После этого все начали старательно складывать туда одежду. Вскоре корзина переполнилась, и домочадцы стали просто бросать вещи сверху. Возможно, корзина до сих пор таилась где-то внутри пирамиды, погребенная под бельем.
Как подобное могло произойти всего за одно поколение? Спальня его родителей никогда так не выглядела. У отца Кендалла был целый комод с бережно сложенным бельем, целый шкаф выглаженных костюмов и рубашек. Каждую ночь он ложился спать в аккуратно застланную постель. Теперь же, если бы Кендалл пожелал жить так же, как его отец, ему пришлось бы нанять прачку, уборщицу, секретаршу и повариху. Ему бы пришлось нанять жену. Вот было бы здорово. Стефани она бы тоже пригодилась. Жена нужна всем, но ее ни у кого больше нет.
Но у Кендалла не было денег, чтобы нанять жену. Так что приходилось жить по-прежнему – нищей жизнью среднего класса, жизнью женатого холостяка.
Как и большинство честных граждан, Кендалл порой мечтал совершить преступление. Однако в следующие несколько дней мечты о преступлении стали посещать его преступно часто. Как присвоить деньги и не попасться? Какие ошибки совершают по незнанию? Чем можно выдать себя, и каковы будут последствия?
Просто удивительно, насколько подробные инструкции может найти в газетах человек, задумавший аферу. И не только в бульварной «Чикаго Сан Таймс», где печатали рассказы о бухгалтерах-игроманах и ирландских грузовых компаниях. Куда интереснее были деловые разделы в «Трибьюн» или «Таймс». Они писали и о менеджере пенсионного фонда, который украл пять миллионов, и об американо-корейском гении хеджирования, который растворился в воздухе вместе с четвертью миллиарда, ранее принадлежавшей пенсионерам из Палм-Бич, да к тому же в итоге оказался мексиканцем по фамилии Лопес. На следующей странице говорилось о главе компании «Боинг», приговоренном к четырем месяцам тюрьмы за подделку контрактов с ВВС. О злоупотреблении служебным положением Берни Эбберса и Денниса Козловски[34] сообщали на первых полосах, но в заметках в середине газеты рассматривались дела потише: настоящие художники махинаций работали мелкими мазками и пускали в оборот все, что попадалось под руку. Так Кендалл стал постигать истинный размах всеобщей лжи.
– Знаешь, какие ошибки совершает большинство? – спросил его Пьясецки в «Золотом петухе» в следующую пятницу.
– Какие?
– Покупают дом на побережье или «Порше». Подозрительно себя ведут. Не могут удержаться.
– Им недостает дисциплины, – сказал Кендалл.
– Точно.
– Никакого внутреннего стержня.
– Именно.
Вся Америка жила за счет махинаций, разве нет? Настоящая Америка, которую Кендалл упустил, уткнувшись носом в антологию Джона Холландера[35]. Насколько были далеки эти маленькие растраты от дела «Энрона»? А как насчет бизнесменов, которым хватило ума не попасться? Честность и открытость более не были образцами для подражания, скорее, наоборот.
А на улицах Чикаго, как и на улицах Лос-Анджелеса, Нью-Йорка, Хьюстона и Окленда, происходило то же самое. Несколько недель назад Кендалл посмотрел фильм «Паттон». Он напомнил ему о том, что когда-то генерала действительно могли наказать за то, что он дал пощечину солдату. Теперь же Рамсфелд избежал ответственности за Абу Граиб[36]. Президента, который солгал про оружие массового поражения, переизбрали на второй срок. На улицах творилось то же самое. Имели значение только победа, сила, демагогия. Это было видно по тому, как люди водили машины, подрезали вас, показывали средний палец, матерились. Это происходило и с мужчинами, и с женщинами – они демонстрировали свою неуязвимость, свою ярость. Все знали, чего хотят и как этого добиться. Все требовали, чтобы с ними считались.
Страна – это отражение души. Чем больше ее узнаешь, тем больше стыдишься.
С другой стороны, жить в эпоху плутократии не так уж невыносимо. Джимми по-прежнему оставался в Монтесито, и по будням его квартира оставалась в распоряжении Кендалла. Невидимые уборщики выносили мусор, был подлиза-швейцар, отряд польских горничных по средам и пятницам убирался, чистил унитаз в мавританской ванной, отмывал залитую солнцем кухню, где обедал Кендалл. Это была двухэтажная квартира, и Кендалл работал наверху. Внизу располагалась Нефритовая комната Джимми, где он хранил коллекцию китайского нефрита в стеклянных витринах самого что ни на есть музейного вида. Если вы замыслили преступление, было бы разумно начать именно с этой комнаты.
Когда, сидя в кабинете, Кендалл отрывал глаза от Токвиля, его взору представало опаловое озеро. Возможно, бешеная активность Чикаго была связана с тем, что его окружала пустота, что город вдруг просто обрывался. Особенно это впечатление усиливалось на закате или во время тумана. Земля так и ждала, пока ее исследуют. На этих берегах, столь подходящих для производства и коммерции, выросли сотни фабрик. Они торговали стальными машинами по всему миру, а теперь эти машины, одетые в броню, сражались за нефть, которая питала все вокруг.
Через два дня после разговора с Пьясецки Кендалл позвонил своему начальнику в Монтесито. Трубку взяла жена Джимми, Паулина. Она была его последней женой, с ней он наконец обрел покой. До этого Джимми женился дважды: один раз на школьной подружке, а второй – на Мисс Вселенная тридцатью годами младше. Паулина подходила ему по возрасту, была разумной и доброй. Она управляла Фондом Бойко и занималась тем, что тратила деньги Джимми.
Поболтав минутку с Паулиной, Кендалл спросил, не занят ли Джимми, и через несколько секунд услышал его громкий голос:
– Как дела, дружище?
– Привет, Джимми! Как ты там?
– Только слез со своего «харлея». Ездил в Вентуру. Задница теперь отваливается, но я счастлив. Хотел чего-то?
– Да, – сказал Кендалл. – Хотел поговорить. Я здесь работаю уже шесть лет. Думаю, что ты мной доволен.
– Очень доволен, – ответил Джимми. – Жаловаться не на что.
– Поскольку я хорошо работаю, и прошло уже столько лет, хотелось бы узнать, возможно ли организовать какую-нибудь страховку. Мне бы…
– Нет, – прервал его Джимми со свойственной ему резкостью. Она была стеной, что он возводил вокруг себя всю жизнь, защищаясь от польских детей, которые колотили его по дороге из школы, от отца, который твердил ему, что он жалкий неудачник и ничего не добьется, а впоследствии и от полицейских, которые разграбили студию Джимми и продали его журналы для взрослых, от конкурентов, которые пытались надуть его, и, наконец, от политических ханжей и святош, которые отрицали первую поправку к Конституции и чересчур вольно трактовали вторую. – Мы так не договаривались. У нас некоммерческая организация, сынок. Пьясецки только что прислал мне цифры. Мы не зарабатываем. Мы вообще ничего не зарабатываем. Печатаем важнейшие фундаментальные патриотические книги, и их никто не покупает! Эта страна спит! Вся нация сидит на снотворном! Песочный человек засыпал всем глаза!
Он еще некоторое время проклинал Буша, Вулфовица, Перла, но потом, видимо, ему стало неловко за уход от темы, и он сказал, уже мягче:
– Слушай, я понимаю, у тебя семья. Поступай, как считаешь правильным. Если захочешь проверить, сколько стоишь на рынке труда, я не обижусь. Мне бы очень не хотелось тебя терять, Кендалл, но я пойму, если ты решишь идти дальше.
Наступила тишина.
– Подумай, – произнес Джимми и откашлялся. – Ладно, раз уж ты позвонил, расскажи, как там дела с «Демократией в кармане».
Кендаллу очень хотелось сохранять деловой тон, но в его голосе звучала обида:
– Нормально.
– Как думаешь, когда сможешь показать мне хоть что-нибудь?
– Не знаю.
– В смысле?
– В данный момент мне нечего тебе ответить.
– Так, слушай, мы тут делом занимаемся, – сказал Джимми. – Думаешь, ты у меня первый редактор? Нет. Я нанимаю молодых людей и отпускаю их, когда они решают двигаться дальше. Можешь поступить так же – это нормально. И никак не повлияет на проделанную тобой работу – первоклассную, кстати. Прости, сынок. Дай знать, как что-нибудь надумаешь.
Когда Кендалл повесил трубку, солнце уже садилось. В воде отражалось темнеющее сизое небо. На водокачках зажглись огни, благодаря чему они стали напоминать плывущие по воде беседки. Он плюхнулся в кресло. Стол был устлан ксерокопиями «Демократии в Америке». Левый висок пульсировал. Кендалл потер лоб и уставился на страницу перед собой: «Это вовсе не означает, что в Соединенных Штатах, да и в других местах, нельзя встретить богатых современников. Напротив, я, пожалуй, даже не знаю другой такой страны, где любовь к деньгам занимала столь прочное место в сердцах людей и где открыто высказывалось столь глубокое презрение к теории о неизменном имущественном равенстве. Однако состояния обращаются в этой стране с невероятной быстротой, а опыт свидетельствует о том, насколько редко случается, чтобы два поколения подряд пользовались привилегией быть богатыми».
Кендалл повернулся в кресле, схватил телефон и набрал Пьясецки. Тот ответил после первого же гудка.
– Давай встретимся в «Золотом петухе», – сказал Кендалл.
– Прямо сейчас? Что случилось?
– Не хочу говорить по телефону. При встрече расскажу.
Так-то. Это называется действовать. Все может измениться за несколько секунд.
Кендалл в меркнущем свете дошел до отеля «Дрейк» и входа в бар. Он занял кабинку в глубине зала, подальше от пианиста во фраке, и в ожидании Пьясецки заказал себе выпить.
Тот появился через полчаса. Как только он уселся, Кендалл улыбнулся ему:
– Помнишь, о чем мы беседовали на днях?
Пьясецки искоса посмотрел на него:
– Ты серьезно или так, поговорить?
– Мне интересно.
– Дурака не валяй.
– Я не валяю, – сказал Кендалл. – Просто я думал – как это провернуть, технически?
Пьясецки наклонился, чтобы его не заглушала музыка:
– Я этого тебе не говорил, ясно?
– Ясно.
– В подобных случаях создают так называемую подставную компанию. Ты выписываешь счета от ее имени, а «Великий эксперимент» их оплачивает. Через несколько лет ты закрываешь счет и ликвидируешь компанию.
Кендалл пытался понять:
– Но это же будут счета ни за что. Сразу все будет ясно.
– Когда Джимми в последний раз проверял счета? Господи, да ему восемьдесят два года, он пьет виагру в Калифорнии, чтобы трахнуть очередную проститутку. Плевать ему на счета, он о другом думает.
– А если к нам придет аудит?
Теперь заулыбался Пьясецки:
– Мне нравится, что ты говоришь «к нам». Это уже мое дело. Если придет аудит, кто будет этим заниматься? Я, конечно. Покажу федеральному налоговому управлению счета и платежи. Поскольку платежи будут соответствовать счетам, все в порядке. Если мы будем платить налоги с доходов, им не на что жаловаться.
Все оказалось не так сложно. Кендалл не привык к подобному образу мыслей – не преступному, а финансовому. Однако по мере убывания виски в стакане он начинал понимать, что план, пожалуй, может сработать. Он оглядел бар – вокруг выпивали и заключали сделки.
– Речь идет не о каких-то астрономических суммах, – продолжал Пьясецки. – Джимми стоит миллионов восемьдесят. Я думаю, у нас будет где-то по полмиллиона. Может, если все получится, по миллиону. Потом прикроем лавочку, заметем следы и переедем на Бермуды. – Глаза Пьясецки жадно горели: – Джимми зарабатывает на рынке по миллиону каждые четыре месяца. Он и не заметит.
– А если что-то пойдет не так? У меня семья.
– А у меня нет? Я о семье и думаю. В этой стране все вокруг нечестно. И почему бы неглупому чуваку вроде тебя не урвать себе немножко? Тебе что, страшно?
– Да, – ответил Кендалл.
– Тебе и должно быть страшно. Немножко. Хотя статистика говорит, что вероятность провала – примерно один процент. Может, меньше.
Разговор приводил Кендалла в восторг. Все в обстановке «Золотого петуха» – декор в наполеоновском стиле, старомодная музыка, словно из переулка Жестяных Кастрюль[37] жирные закуски – отсылало к 1926 году. Кендалл и Пьясецки заговорщически склонились друг к другу, словно гангстеры из прошлого. Они видели фильмы про мафию, так что знали, как это делается. Преступность отличалась от поэзии, в которой различные течения сменяли друг друга. Сейчас происходило то же самое, что творилось в Чикаго восемьдесят лет назад.
– Говорю тебе, через пару лет все будет позади, – сказал Пьясецки. – Все аккуратно провернем, следов не останется. А потом вложим деньги и сделаем что-нибудь для страны.
Поэт живет в воображаемом мире. Он мечтает, но ничего не делает. А что, если взять и сделать что-нибудь? Погрузиться не в воображаемый мир фантазий, а в живой, осязаемый мир финансов.
Стефани он ничего не скажет. Просто наврет, что ему подняли зарплату. И тут же другая мысль: отремонтировать кухню не значит выдать себя. Можно переделать весь дом, не привлекая внимания.
Перед мысленным взором Кендалла встал его дом, каким он мог бы стать через пару лет: современный, светлый, теплый, дети счастливы, старания жены наконец-то окупились сторицей. «Состояния обращаются… с невероятной быстротой…», «привилегия быть богатыми…»
– Ладно, я в деле, – сказал Кендалл.
– Точно?
– Мне надо подумать.
Пьясецки удовлетворился услышанным и поднял стакан:
– Выпьем за моего героя, за Кена Лэя!
– Какого рода предприятие вы открываете?
– Складские помещения.
– И вы будете…
– Директором. Совместно с моим партнером.
– Мистером… – Юрист, коренастая женщина с густой шевелюрой, заглянула в бумаги. – Мистером Пьясецки, так?
– Именно.
Был субботний день, Кендалл приехал в центр города, в скромную контору, увешанную дипломами. Макс ждал его на улице – носился за падающими листьями, раскинув руки.
– Да уж, я бы воспользовалась складом, – пошутила юрист. – У детей столько спортивного инвентаря, что можно с ума сойти. Сноуборды, доски для серфинга, ракетки, клюшки для лакросса. Еле-еле завожу машину в гараж.
– У нас будут коммерческие склады, – сказал Кендалл. – Для товаров. Так что увы.
Он даже не видел помещение. Оно находилось в каком-то захолустье, где-то под Кевани. Пьясецки съездил туда и арендовал землю. На ней ничего не было, кроме старой, поросшей травой заправки. Но у нее имелся юридический адрес, а вскоре должен был появиться и приличный доход.
Поскольку книги «Великого эксперимента» продавались плохо, у издательства было достаточно товара на руках. Теперь Кендалл собирался посылать книги не только на обычный склад в Шаумбурге, но и на склад в Кевани. Компания «Среднезападный склад» будет выставлять издательству счета за эту услугу, а Пьясецки – посылать им чеки. Он собирался открыть счет организации в банке, как только на руках будут необходимые документы. Право подписи счета – у Майкла Д. Пьясецки и у Кендалла Уоллиса.
Задумка была крайне изящная. Кендаллу и Пьясецки принадлежит совершенно легальная компания, которая абсолютно легально зарабатывает деньги и платит налоги. Они делят прибыль и указывают в налоговых декларациях, что это доход от предпринимательской деятельности. Кто узнает, что на складе нет никаких книг, поскольку самого склада не существует?
– Надеюсь, старик не склеит ласты, – говорил Пьясецки. – Нам надо молиться за его здоровье.
Когда Кендалл подписал все бумаги, юрист сказала:
– В понедельник все отправлю. Поздравляю, теперь вы – владелец компании в штате Иллинойс!
Макс по-прежнему носился за падающими листьями.
– Ну что, сколько поймал? – спросил Кендалл.
– Двадцать два! – выкрикнул Макс.
Кендалл поднял взгляд к небу, глядя, как в воздухе кружатся алые и золотые листья, и покрепче перехватил документы под мышкой.
– Еще пять штук – и пойдем домой.
– Десять!
– Ладно, десять. Готов? Олимпийские состязания по ловле листьев объявляются открытыми!
Теперь на дворе был январь, понедельник, неделя началась, и Кендалл снова ехал в поезде и читал про Америку: «Ни у одного из народов Европы та великая социальная революция, о которой я намерен писать, не протекала столь стремительно, как у нас, однако здесь она всегда шла наугад».
На Кендалле были новые ботинки из роскошной двухцветной кожи, купленные в магазине «Аллен Эдмондс» на Мичиган-авеню. В остальном он выглядел по-прежнему – те же брюки, тот же вельветовый пиджак с лоснящимися локтями. Никто из пассажиров не догадался бы, что этот кроткий зануда вовсе не тот, кем кажется. Никто не мог себе представить, как он подбрасывает письма в почтовый ящик у чужого дома, чтобы никто не обратил внимания на поток конвертов в адрес банка Кевани. Видя, как Кендалл что-то рисует на газете, окружающие предполагали, что он разгадывает судоку, тогда как на самом деле он прикидывал потенциальную прибыль от депозита на пять лет. Костюм редактора был идеальным прикрытием, вроде похищенного письма из рассказа По, спрятанного у всех на виду. Ну и кто сказал, что он не умен? Первые несколько недель страх был особенно сильным. Кендалл просыпался в три часа ночи, и ему казалось, будто к пупку провели ток. А если Джимми заметит расходы на печать, транспортировку и хранение? А если Пьясецки спьяну признается во всем хорошенькой барменше, а ее брат окажется полицейским? Мозг Кендалла взрывался при мысли о возможных опасностях и проколах. Как он ввязался в подобное дело с подобным партнером? Лежа рядом со Стефани, которая спала сном праведника, Кендалл мучился бессонницей, воображая тюрьму и конвой.
Через некоторое время стало легче. Страх – такое же чувство, как любое другое. Поначалу он захлестывает вас, но потом постепенно отступает и становится привычным, а через некоторое время вы уже его не замечаете. Кроме того, дела шли отлично. Кендалл выписывал разные чеки на книги, которые печатались на самом деле, и на те, что в действительности не существовали. По пятницам Пьясецки вычитал эти расходы из недельного дохода.
– Выглядит как нормальный отчет, – говорил он Кендаллу. – Мы помогаем Джимми сэкономить на налогах. Мог бы нам и спасибо сказать.
– Так может, посвятить его в дело? – предложил Кендалл.
Пьясецки только рассмеялся:
– Да он не от мира сего. Даже не поймет, о чем речь.
Кендалл старался не высовываться. Банковский счет «Среднезападного склада» рос, но он ездил на все том же стареньком вольво. Деньги хранились вдали от любопытных взоров. Они были заметны только внутри, в интерьере. Вернувшись домой вечером, Кендалл смотрел, что успели за день нанятые им штукатуры, плотники и укладчики ковров. Не забывал он и о других интерьерах: окруженных стенами садов сбережений на колледж (сада Макса и сада Элеанор), святилища пенсионных накоплений.
В доме появилось еще одно прибавление: жена. Ее звали Арабелла, она приехала из Венесуэлы и почти не говорила по-английски. В первый же день, увидев гору грязного белья в спальне, она не удивилась и не ужаснулась, – просто принялась загружать его в стиральную машину, складывать чистое и убирать в ящики.
Кроме того, Кендалл занялся тем, чем не занимался уже давно: работой. Он закончил «Демократию в Америке», отправил размеченную рукопись в Монтесито и на следующий же день начал писать проект возвращения в печать давно забытых книг. Он отсылал по два-три предложения в день, а вместе с ними – цифровые или бумажные экземпляры предлагаемых текстов. Вместо того, чтобы дожидаться ответов Джимми, Кендалл звонил и забрасывал его вопросами. Поначалу Джимми отвечал, но потом велел оставить его в покое и принимать решения самостоятельно.
– Я доверяю твоему вкусу, – сказал Джимми.
Теперь он почти не звонил в офис.
Поезд привез Кендалла на станцию «Юнион». Он вышел на Мэдисон-стрит, сел в такси (оплата – наличными, которые невозможно отследить) и вылез за квартал до нужного дома, завернул за угол, так что казалось, будто он пришел сюда пешком. Он поздоровался с дежурным швейцаром Майком и направился к лифту.
Пентхаус пустовал. Даже горничной не было. Лифт привозил вас на первый этаж, и путь к винтовой лестнице в кабинет пролегал мимо Нефритовой комнаты. Кендалл подергал дверь, которая оказалась не заперта, и вошел.
Он не собирался ничего красть. Это было бы глупо. Ему просто хотелось нарушить границу, добавить этот мизерный акт неповиновения к своему масштабному робингудовскому бунту. Нефритовая комната напоминала музей или дорогой ювелирный магазин: стеллажи и комоды тянулись вдоль великолепных резных стен. На равном расстоянии друг друга стояли подсвеченные витрины, в которых лежали куски нефрита. Камень оказался не темным, а светло-зеленым. Кендалл вспомнил, как Джимми рассказывал, что самый лучший, самый редкий нефрит – почти белый, и что наиболее ценные предметы вырезаются из цельных кусков камня.
Сложно было понять, что изображают резные фигурки: их формы были так причудливы, что поначалу Кендалл принял их за змей, но потом понял, что перед ним – удлиненные конусообразные лошадиные головы, повернутые в сторону – так лошади утыкаются мордами себе в бока, чтобы уснуть.
Он открыл один из ящиков. Внутри на бархатной подушечке лежала еще одна лошадь.
Кендалл взял фигурку в руки. Пробежал пальцами по гриве. Подумал о художнике, который пятнадцать веков назад сделал эту штучку в Китае. Его имя уже забыли, он умер так же, как и все, кто жил при династии Цзинь. Но этот мастер, взглянув однажды на живую, дышащую лошадь в туманном поле где-то в долине Желтой реки, так увидел ее, что сумел воплотить в этом драгоценном камне, тем самым сделав его еще более ценным. Раньше Кендалла восхищало человеческое стремление к подобной деятельности – бесполезной, изнурительной, требующей мастерства и доли безумия. Он перестал восхищаться, поняв, что сам на такое не способен. Ему недоставало упорства и мужества, чтобы не стыдиться подобного занятия в культурной среде, которая не просто не поощряла дисциплину, но и открыто над ней насмехалась.
Однако этого резчика по нефриту ждал успех. Сам он этого не знал, но белая дремлющая лошадь, жившая много веков назад, не умерла, еще не умерла, и теперь лежала на ладони Кендалла под мягким светом галогеновой лампы в комнате, напоминавшей шкатулку для украшений.
Кендалл благоговейно вернул фигурку на бархат и закрыл ящик, после чего вышел из Нефритовой комнаты и поднялся в кабинет.
Пол был уставлен коробками на отправку. Типография – настоящая типография – только что доставила первый выпуск «Демократии в кармане», и Кендалл рассылал экземпляры в книжные и музейные магазины. Стоило ему сесть за стол и включить компьютер, зазвенел телефон. Это был Джимми.
– Привет, сынок, мне только что пришла новая книжка! Выглядит потрясающе! Отличная работа!
– Спасибо.
– А как ее заказывают?
– Через пару недель посмотрим.
– Думаю, цена нормальная. И формат подходящий. Можно положить рядом с кассой, и разлетится вмиг. Обложка просто класс!
– Мне тоже нравится.
– А что с отзывами?
– Этой книжке две сотни лет. Так себе новинка.
– Такие новинки не устаревают, – сказал Джимми. – Теперь реклама. Пришли мне список подходящих мест. Только не «Нью-Йорский книжный обозреватель», ради бога. Это как проповедовать уже обращенным. Надо, чтобы о нашей книжке узнали везде. Это важно!
– Я подумаю, – ответил Кендалл.
– Так, что еще… Точно! Закладка – отличная идея. Всем понравится. Реклама и книги, и нашего бренда. Ты планируешь их раздавать для рекламы или просто вкладывать в книги?
– И так, и так.
– Отлично. Может, еще и плакаты сделать? С разными цитатами. Их наверняка повесят в магазинах. Сделай несколько макетов и пришли мне, ладно?
– Хорошо.
– Что-то я оптимистично настроен. Может, в конце концов продадим немножко книг.
– Надеюсь.
– Знаешь что, – сказал Джимми, – если эта книга выстрелит так, как я думаю, выпишу тебе страховку.
Кендалл замялся:
– Было бы здорово.
– Не хочу терять тебя, сынок. К тому же это такой геморрой – искать кого-то!
Это предложение было не настолько хорошим, чтобы передумать. Джимми не торопился с решением, так ведь? К тому же, он сказал «если». «Если», а не «когда». Нет уж, подумал Кендалл, надо подождать и посмотреть, что будет. Если Джимми даст страховку и поднимет зарплату, можно задуматься о том, чтобы закрыть «Среднезападный склад». Но не раньше.
– А, и еще один вопрос, – сказал Джимми. – Пьясецки прислал отчеты. Там какие-то странные цифры.
– Что-что?
– Зачем мы напечатали тридцать тысяч экземпляров Томаса Пейна? И почему у нас две типографии?
Во время слушаний в Конгрессе или судебных процессов обвиняемые руководители выбирали одну из двух стратегий – они либо не знали, либо не помнили, о чем речь.
– Не помню, зачем, – произнес Кендалл. – Надо будет посмотреть. А с типографиями общается Пьясецки. Может, кто-то предложил условия повыгодней.
– В новой типографии цены выше.
Об этом Пьясецки Кендаллу не говорил. Видимо, пожадничал и решил взять деньги себе.
– Пришли мне контакты новой типографии, – сказал Джимми. – И этого вашего нового склада. Попрошу своего человека разобраться.
Кендалл выпрямился:
– Твоего человека?
– Моего бухгалтера. Что, думаешь, я бы позволил Пья-сецки работать без надзора? Да конечно! Я проверяю все, что он делает. Если он начал воровать, мы узнаем. Не волнуйся! Если это правда, то поляку кранты.
Кендалл лихорадочно размышлял. Он пытался придумать что-нибудь, чтобы предотвратить или отложить проверку, но не успел заговорить, как Джимми сказал:
– Слушай, сынок, я на следующей неделе еду в Лондон, дом будет пустой. Бери жену с детьми, приезжайте, погреетесь.
– Надо будет обсудить со Стефани, – безжизненно пробормотал Кендалл. – И узнать, что у детей в школе.
– Пропустят уроки разочек, подумаешь!
– Я поговорю с женой.
– Ты молодец, сынок! Взял у Токвиля самое лучшее. Помню, как я впервые прочел эту книжку. Мне двадцать один год был, двадцать два. Просто восторг!
Джимми принялся по памяти цитировать отрывок из Токвиля своим скрипучим, дребезжащим голосом – тот самый отрывок, который напечатали на закладках, и в честь которого назвали издательство: «Именно здесь цивилизованным людям предстояло попытаться создать общество, основанное на принципиально новых устоях, и, применив теории, прежде либо вовсе не известные миру, либо признанные неосуществимыми, явить человечеству такой удивительный строй жизни, к которому вся предыдущая история никак его не подготовила».
Кендалл смотрел на озеро: оно представлялось бесконечным. Обычно этот вид приносил успокоение и освобождение, но теперь казалось, что тонны ледяной воды смыкаются над ним.
– Просто с ума сойти, – сказал Джимми. – Это ж надо было такое придумать!
По свежим следам
К тому моменту как Мэтью выяснил, что обвинения сняты и ему больше не грозят ни экстрадиция, ни суд, он пробыл в Англии уже четыре месяца. Рут и Джим купили домик у моря в Дорсете. Он куда меньше того, в котором выросли Мэтью с сестрой. Рут тогда еще была замужем за их отцом. Но этот дом полон вещей, которые Мэтью помнит с детства, проведенного в Лондоне. Поднимаясь в гостевую спальню вечером или выходя через заднюю дверь в паб, он натыкается на знакомые предметы: резную фигурку альпиниста в баварском народном костюме, которую они купили, когда ездили все вместе в Швейцарию в 1977 году, или же стеклянные упоры для книг из папиного кабинета: прозрачные кубы с плененными золотыми яблоками внутри. Детям они казались по-настоящему волшебными, но теперь подпирали кулинарные книги Рут на кухне.
Задняя дверь выходит на брусчатую дорожку, которая пролегает за соседними домами, мимо церкви и кладбища, и ведет в центр города. Паб стоит напротив аптеки и аутле-та Н&М. Мэттью частенько туда захаживает. Завсегдатаи иногда спрашивают, зачем он вернулся в Англию, но он говорит, что у него возникли проблемы с рабочей визой или налогами, и это удовлетворяет их любопытство. Он беспокоится, что о его деле напишут в интернете, но пока что этого не произошло. Город находится неподалеку от Ла-Манша, в ста двадцати милях от Лондона. Пи Джей Харви записала свой альбом «Let England Shake» в местной церкви. Мэтью слушает его во время прогулок по болотам или в машине, если ему удается заставить блютус работать. Родина приветствует его песнями, в которых поется о древних битвах, погибших англичанах и местах священной памяти.
Иногда, проезжая по деревне, он краем глаза видит какие-то вспышки: белокурую девушку или компанию студентов, курящих у медицинского колледжа. Он чувствует себя преступником, просто глядя на них.
Как-то днем он отправляется на побережье. Припарковав машину, идет гулять. Облака, как здесь водится, низко нависают над землей. Кажется, что они прибыли из-за океана, неожиданно нашли здесь землю и не успели удалиться от нее на подобающее расстояние.
Он бредет по тропе, пока не добирается до обрыва. И именно здесь, глядя на океан, вдруг осознает: теперь он может вернуться в Америку. Может увидеть детей. Это безопасно.
Одиннадцать месяцев назад, в начале года, Мэтью пригласили прочесть лекцию в маленьком колледже в Делавере. В понедельник утром он сел на поезд из Нью-Йорка, где жил с женой Трейси, американкой, и двумя детьми – Джейкобом и Хэйзел. В три часа дня он в кофейне напротив гостиницы ждал, пока кто-нибудь с факультета физики встретит его и отведет в аудиторию.
Мэтью выбрал столик у окна, чтобы его легче было найти. Попивая эспрессо, он просматривал на компьютере заметки к лекции, но вскоре отвлекся на почту, а потом – на сайт «Гардиан». Он уже допил кофе и подумывал заказать второй, как вдруг услышал чей-то голос.
– Профессор?
В нескольких футах от него стояла темноволосая девушка в мешковатой кофте и с рюкзаком за спиной. Когда Мэтью поднял взгляд, она подняла руки, как бы сдаваясь.
– Я не собиралась вас преследовать, – сказала она. – Честное слово.
– Я и не думал, что вы меня преследуете.
– Вы Мэтью Уилкс? Я иду на вашу лекцию!
Она объявила это так, будто Мэтью мучился неведением. Поняв, видимо, что надо объясниться, она опустила руки:
– Я там учусь. Я студентка. – Она оттянула кофту, чтобы показать эмблему колледжа.
Мэтью редко узнавали на улице. Когда же это происходило, оказывалось, что это коллеги, специалисты по космологии, или аспиранты. Иногда – читатели средних лет или старше. Но никого вроде этой девушки.
Она походила на индианку. Разговаривала она и выглядела как типичная американка ее возраста, и все же неопрятный наряд, выдававший факт того, что она жила в общежитии, – черные легинсы, ботинки «Тимберленд», теплые лиловые носки – не скрывал экзотичность ее внешности. Девушка напоминала Мэтью индуистскую миниатюру: темные губы, нос с горбинкой и вздутыми ноздрями, но главное – поразительные глаза того цвета, что мог существовать только в живописи, когда художник вольно смешивал зеленый, синий и желтый. Она выглядела не как студентка из Делавера, но как танцующая гопи, пастушка, или юная святая, которой поклоняются толпы.
– Видимо, ваша специализация – физика, – сумел произнести Мэтью, прервав свои размышления, – раз вы собираетесь на мою лекцию.
Девушка покачала головой:
– Я из свежего набора. Мы выбираем специализацию в следующем году. – Она сняла рюкзак и поставила его на пол, словно собиралась здесь обосноваться. – Родители хотели, чтобы я занялась наукой. И мне нравится физика. У меня был углубленный курс физики в старших классах. Но я еще думаю о юриспруденции, а это скорее гуманитарная наука. Вы можете мне что-нибудь посоветовать?
Было странно сидеть, пока она стояла, но пригласить ее за столик означало вступить в долгую беседу, а у Мэтью не было для этого ни времени, ни желания.
– Я советую изучать то, что интересно. У вас будет время определиться.
– Вы же так и поступили, да? В Оксфорде. Начали изучать философию, а потом переключились на физику.
– Совершенно верно.
– Мне бы хотелось узнать, вам удается совмещать все эти интересы, – сказала девушка. – Я бы тоже так хотела. Вы замечательно пишете! Вы так описываете большой взрыв и хаотическую инфляцию, что я словно вижу, как это было. Вы много занимались литературой в колледже?
– Занимался некоторое время.
– Я просто подсела на ваш блог. Когда узнала, что вы приезжаете, просто ушам не поверила!
Она умолкла, глядя на него и улыбаясь.
– У вас не найдется времени выпить со мной кофе, профессор?
Это была дерзкая просьба, но Мэтью не удивился. В каждом классе был хотя бы один настырный ребенок. Такие ребята строили свое резюме, начиная с детского сада. Они хотели выпить кофе, зайти к нему в кабинет, пообщаться, надеясь получить какие-нибудь рекомендации и стажировки или просто на несколько минут расслабиться и забыть о вечной гонке, побыть немного в покое. Ему было знакомо то, как напряженно держалась эта девушка, как в ней бурлил энтузиазм, напоминавший невроз.
Мэтью был далеко от дома, он приехал сюда по делу, и ему не хотелось тратить время на консультации для первокурсников.
– У меня очень напряженное расписание, – сказал он. – Все время занят.
– А на сколько вы приехали?
– Всего на день.
– Понятно. Ладно, хотя бы лекцию вашу послушаю.
– Именно.
– Хотела прийти завтра на семинар, но у меня занятия.
– Вы ничего не пропустите. Обычно я повторяю уже сказанное.
– Не верю!
Она взяла рюкзак и, казалось, собралась уходить, как вдруг спросила:
– Вам показать, где аудитория? Я до сих пор здесь иногда теряюсь, но ее-то, наверное, найду. Я как раз туда собиралась, как вы понимаете.
– За мной кого-то послали.
– Ладно. Теперь вы точно примете меня за ненормальную. Приятно было познакомиться, профессор.
– Приятно познакомиться.
Но она все не уходила. Она продолжала разглядывать Мэтью – пристально, и вместе с тем отстраненно. Откуда-то из этой отстраненности, словно передавая сообщение из другого мира, она заявила:
– Вы в жизни лучше, чем на фото.
– Не уверен, что это комплимент.
– Это факт.
– Вряд ли это хорошо. Большинство людей скорее увидят меня на фото, чем вживую.
– Я же не говорила, что вы плохо выглядите на фото, профессор, – сказала она, забросила рюкзак на плечо и удалилась – не то обидевшись, не то демонстрируя, что разговор ее немного разочаровал.
Мэтью повернулся к компьютеру. Посмотрел на экран. Только когда девушка покинула кофейню и пошла мимо окна, он поднял взгляд, чтобы разглядеть вид сзади.
Это было нечестно.
Несмотря на то, что треть учеников школы были индийцами, Дивали[38] не считался официальным праздником. Конечно, их отпускали на Рождество и на Пасху, на Рош Ашана и Йом Кипур, но когда дело доходило до индуистских или мусульманских праздников, им доставались только послабления. Это значило, что их отпускали с уроков, но все равно давали домашние задания. А потом спрашивали то, что проходили в тот день.
Практри должна была пропустить четыре дня. Почти целую неделю. Более неудачное время нельзя было и придумать: прямо перед экзаменами по математике и истории в самый важный год учебы. При одной мысли об этом она начинала паниковать.
Практри умоляла родителей отменить поездку. Непонятно, почему они не могли отметить праздник дома, как все их знакомые. Мать объяснила, что скучает по семье – по сестре Диипе и братьям Пратулу и Амитаве. Ее родители, бабушка и дедушка Практри и Дурвы, тоже не молодели. Разве Практри не хочет повидать бабу с дедом, пока те не исчезли с лица земли?
Практри ничего не ответила. Она плохо знала бабушку с дедушкой – они общались только во время редких визитов в чужую для нее страну. Не ее вина, что бабушка с дедушкой казались незнакомыми, почти бестелесными, и все же она понимала, что говорить этого вслух нельзя.
– Оставьте меня, – сказала она. – Я сама могу о себе позаботиться.
Это не сработало.
Они вылетели из международного аэропорта Филадельфии в понедельник вечером в начале ноября. Сидя в хвосте самолета рядом с младшей сестрой, Практри включила лампочку над головой. Она хотела по пути туда прочесть «Алую букву», а на обратном – написать о ней эссе. Но сосредоточиться не удавалось. В замкнутой атмосфере салона самолета символизм Готорна казался удушающим; и хотя она сочувствовала Эстер Прин, которую наказали за то, что она вела себя так, как принято в наше время, стоило стюардам принести ужин, Практри воспользовалась этим предлогом, опустила столик и включила кино.
Когда они прибыли в Калькутту, она была слишком измучена джетлагом, чтобы делать уроки. К тому же ей не хватало времени. Тетя Диипа заявила, что ложиться спать нельзя, и повела их с матерью и кузиной Смитой за покупками. Они отправились в шикарный новый магазин, где набрали столовых приборов: серебряные вилки, ножи и сервировочные ложки, а для девочек – золотые и серебряные браслеты[39]. После этого они пошли на крытый рынок, что-то вроде базара с торговыми рядами, где купили рис и киноварь. Вернувшись в квартиру, начали готовиться к празднику. Практри, Дурве и Смите поручили следы Лакшми[40] Сестры разулись, наступили во влажную киноварь перед входной дверью, а потом зашли в дом, оставляя отпечатки ног. Девочки сделали две цепочки следов, белую и красную; а поскольку Лакшми приносила в дом процветание, они не пропустили ни одной комнаты: следы заходили в кухню, гостиную и даже в ванную.
В комнате Раджива, кузена на год старше Практри, были две игровых приставки. Остаток дня Практри провела, играя с Радживом в «Падение титанов». Интернет просто летал и ни разу не завис. В предыдущие приезды в Индию Практри с презрением смотрела на старые компьютеры кузенов, но теперь они обошли ее, как и сама Калькутта. Город местами выглядел просто-таки футуристично, особенно по сравнению с бедным старым Довером с его красными кирпичными магазинами, покосившимися телефонными столбами и ухабистыми дорогами.
Чтобы не помять сари, Практри и Дурва упаковали их в пластиковые мешки из химчистки. Тем же вечером они надели их, поскольку начался Дантерас[41]. Надев новые браслеты, девочки замерли перед зеркалом, наблюдая, как свет отражается в металле.
Как только стемнело, они зажгли дийи[42] и расставили их по дому: на подоконниках, кофейных столиках, в центре обеденного стола и на дядюшкиных колонках, из которых раздавалась музыка. Вся семья собралась за столом, пировала и пела бхаджаны.
Родственники прибывали всю ночь. Некоторых Практри узнавала, но большинство – нет, а вот они знали о ней все: что она учится на отлично, что участвует в дискуссионном клубе и собирается в следующем году заранее подать документы в университет Чикаго. Они были согласны с ее матерью – Чикаго слишком далеко от Делавера, и там слишком холодно. Она что, правда хочет уехать? Не боится замерзнуть?
Компания седых громогласных женщин тоже хотела пообщаться с Практри. Они окружили ее своими отвисшими грудями и животами и стали задавать вопросы на бенгали, перекрикивая друг друга. Когда Практри чего-то не понимала (а так в основном и происходило), они повышали голос, но в конце концов сдавались и качали головами, пораженные и возмущенные ее американским невежеством.
Около полуночи джетлаг пересилил, и Практри уснула на диване. Проснувшись, она увидела, что три старухи стоят вокруг и обсуждают ее.
– Просто жуть, – произнесла Дурва, когда Практри сообщила ей об этом.
– Скажи?
Следующие несколько дней были такими же безумными. Они ходили в храм, навещали семьи дядюшек, обменивались подарками и объедались. Некоторые родственники соблюдали все традиции и ритуалы, другие – лишь выборочно, но все равно устроили себе праздник длиной в неделю. В ночь Дивали они пошли на празднества у реки. Днем река Хугли казалась бурой и грязной, но теперь, под звездным небом, она напоминала сверкающее черное зеркало. На берегах толпились тысячи людей. Несмотря на толчею, давки не было – все спокойно подходили к воде и опускали в нее цветы. Толпа двигалась как единый организм – любое движение в одном направлении тут же компенсировалось поворотом в другом. Эта слаженность восхищала. Кроме того, отец сообщил Практри, что все, что опускают в воду, – пальмовые листья, цветы, даже свечи из пчелиного воска – к завтрашнему утру погибнет, и праздник огней угаснет без следа.
Блестящая дребедень, сопутствующая празднику, – Лакшми, богиня процветания, золотые и серебряные побрякушки, блестящие ножи, вилки и ложки – все это символизировало свет и его недолговечность. Ты жил, горел, светился, а потом пффф – и твоя душа уже в другом теле. Мама в это верила. Отец сомневался, а сама Практри знала, что это не так. Она не собиралась умирать, сначала надо было сделать что-нибудь со своей жизнью. Девушка обняла сестренку, и они вместе наблюдали, как уплывают их свечи, вливаясь в общее море огней.
Все было бы ничего, если бы они уехали на выходных, как собирались. Но после Бхайя-Дуджа, последнего дня праздника, мать объявила, что поменяла билеты, и они останутся еще на день.
Практри так разозлилась, что не смогла заснуть. На следующее утро она явилась на завтрак в трениках и майке, непричесанная и мрачная.
– Практри, нельзя выходить из дома в таком виде, – сказала мать. – Надень сари.
– Нет.
– Что?
– Оно все пропотело. Я его уже три раза надевала. От чоли[43] уже воняет.
– Иди оденься!
– Почему я? А Дурва?
– Твоя сестра младше. Ей сгодится и сальвар камиз[44].
Практри надела сари, но мать осталась недовольна и отвела ее в спальню, чтобы намотать его заново. Потом осмотрела ногти Практри, выщипала несколько волосков из бровей, и наконец – это было что-то новенькое, – обвела ей глаза сурьмой.
– Не надо! – Практри отпрянула.
Мать обхватила ее лицо руками:
– Стой спокойно!
Их уже ждала машина. Они ехали почти час, выбрались из города и остановились перед огороженной территорией, стены которой венчала колючая проволока.
Привратник провел их к дому через грязный двор. Они миновали выложенный плиткой холл, поднялись по лестнице и попали в просторную комнату с высокими окнами, выходившими на три стороны, и деревянными вентиляторами на потолке. Несмотря на жару, они не работали. В комнате почти не было мебели. В одном из углов на коврике сидел седовласый мужчина в пиджаке в стиле Неру. Такого человека и предполагаешь встретить в Индии: гуру или политика.
В противоположном углу на маленьком диване сидела пара средних лет. Когда в комнату вошли Практри и ее семья, они кивнули в знак приветствия.
Родители сели напротив пары на диване. Дурву посадили на стул рядом. Практри отвели на лавку или помост – она не знала, как это называется, – поодаль от остальных. Лавка из сандала была инкрустирована слоновой костью. Вероятно, она предназначена для каких-то церемоний. Усаживаясь, Практри учуяла запах – из-за жары она вспотела. Ей не хотелось об этом беспокоиться. Она даже была бы не прочь, чтобы его почувствовали все присутствующие, и мать смутилась. Но, конечно, это невозможно. Она паниковала, так что просто сидела, стараясь не шевелиться.
Во время дальнейшего разговора ее имя упомянули несколько раз, но напрямую ни разу не обратились.
Подали чай и индийские сладости. После недели в этой стране Практри уже тошнило от них, но из вежливости она поела.
Ей не хватало телефона. Ей хотелось написать подружке Кайли и описать эту пытку. Шло время, она сидела на жесткой лавке, входили и выходили слуги, люди шли по коридору и заглядывали в комнату. В доме, казалось, находилось десяток человек, любопытных, бесцеремонных.
Когда все закончилось, Практри дала обет молчания. Она залезла в машину, решив, что не скажет родителям ни слова, пока они не вернутся домой. Так что Дурве пришлось спросить самой:
– Кто эти люди?
– Я же сказала, – ответила мать. – Кумары.
– Это наши родственники?
Мать рассмеялась.
– В будущем, возможно. – Она выглянула в окно, и на лице ее было написано злорадство: – Это родители мальчика, который хочет жениться на твоей сестре.
Как и требовалось, Мэтью читал лекцию в течение сорока пяти минут. В тот день он рассказывал о гравитационных волнах – о том, как их недавно распознали два интерференционных прибора, расположенных в совершенно разных точках Америки. Мэтью шагал по сцене в темно-синем пиджаке и джинсах и говорил в микрофон в петличке: «Эйнштейн теоретически предсказал существование этих волн почти сто лет назад, но доказательство было найдено только в этом году». Чтобы проиллюстрировать презентацию, он привез с собой специально разработанную цифровую модель двух черных дыр, которые слились в галактике в 1,3 миллиарда световых лет от Земли и тем самым создали волны, которые незримо и неслышно пропутешествовали по Вселенной и были опознаны высокочувствительными устройствами в Ливингстоне, штат Луизиана, и Хэнфорде, штат Вашингтон.
– Чуткие, словно ухо Господне, – сказал Мэтью. – Даже лучше.
Аудитория была заполнена меньше чем наполовину. К тому же расстраивало, что большинство слушателей оказались местными пенсионерами лет семидесяти-восьмидесяти, которые ходили на лекции, поскольку те были бесплатными, проводились в удобное время и давали повод для обсуждения за ужином.
Когда началась автограф-сессия, оставшиеся сгрудились вокруг Мэтью. Он сел за стол, вооружившись маркером и бокалом вина. Многие держали в руках большие бежевые сумки, на женщинах были яркие шарфики и свободные непритязательные свитера, на мужчинах – бесформенные брюки. Все держались сдержанно, но заинтересованно. Непонятно, читали ли они книгу Мэтью, понимали ли что-нибудь в науке, но все хотели автограф. Большинство просто улыбались и говорили: «Спасибо, что приехали в Довер!», словно он делал это бесплатно. Несколько мужчин поспешно извлекали из памяти то, что запомнили на уроках физики в школе или колледже, и пытались применить эти знания к докладу.
К Мэтью подошла женщина с белой челкой и красными щеками. Она рассказала, что недавно приехала в Англию, чтобы исследовать свою родословную, после чего подробно описала найденные на различных церковных кладбищах Кента могильные плиты предполагаемых предков. Когда она отошла, ее место заняла девушка из кофейни.
– У меня нет вашей книги, – сказала она прямо.
– Ничего страшного. Это необязательно.
– Денег на книги вообще не хватает – колледж обходится слишком дорого.
Чуть больше часа назад девушка казалась Мэтью навязчивой, но теперь, утомленный чередой старых изможденных лиц, он смотрел на нее с облегчением и благодарностью. Она сняла мешковатую кофту и осталась в белом топике, оголявшем плечи.
– Выпейте хотя бы вина, – предложил Мэтью. – Это бесплатно.
– Мне еще нет двадцати одного. В мае только исполнится девятнадцать.
– Не думаю, что кто-то будет против.
– Вы пытаетесь подпоить меня, профессор? – спросила она.
Мэтью почувствовал, что краснеет. Попытался придумать, как возразить, но поскольку ее слова были недалеки от истины, в голову ничего не приходило. К счастью, девушка, в свойственной ей порывистой манере, уже сменила тему.
– Придумала! – воскликнула она. Глаза ее расширились. – Можете оставить мне автограф на бумажке? А потом я вклею ее в книгу.
– Если когда-нибудь купите.
– Точно. Но сначала мне надо закончить учебу и выплатить кредит.
Она уже поставила рюкзак на стол. До Мэтью донесся ее аромат. Он напоминал запах талька, свежий и нежный.
За ней в очереди стояло около десятка человек. Они не выказывали нетерпения, но некоторые из них уже стали тянуть шеи, чтобы понять причину задержки.
Девушка достала из рюкзака блокнотик на пружине. Открыв его, принялась искать чистую страницу. В этот момент ее черные волосы рассыпались, образовав занавес, отгородивший их от очереди. И тут произошло нечто странное: девушка поежилась. Ее как будто осенило, и она почувствовала нечто – не то приятное, не то мучительное. Она ветре-тилась взглядом с Мэтью и, словно поддавшись искушению, воскликнула:
– Господи, а почему бы вам не расписаться на моем теле!
Это заявление было таким внезапным, таким нелепым, таким желанным, что на мгновение Мэтью словно онемел. Он взглянул на очередь, чтобы понять, слышал ли его кто-нибудь.
– Думаю, я ограничусь блокнотом, – сказал он.
Девушка протянула блокнот. Положив его на стол, Мэтью спросил:
– Кому надписать?
– Практри. Произнести по буквам?
Но он уже писал: «Практри, свежему человеку».
Девушка рассмеялась, а потом задала вопрос – так, словно невинней ничего нельзя было представить:
– Дадите мне свой номер?
Мэтью не осмеливался поднять взгляд. Лицо горело. Больше всего ему хотелось, чтобы все это закончилось, – и вместе с тем он был в восторге. Он нацарапал в блокноте номер своего телефона.
– Спасибо, что пришли, – сказал он, отодвигая блокнот, и повернулся к следующему в очереди.
Молодого человека звали Дев. Дев Кумар. Ему было двадцать, он работал в магазине, где продавали телевизоры и видеоаппаратуру, и учился в вечерней школе, чтобы получить диплом по специальности «Информатика». Об этом поведала мать на обратном пути.
Сама идея выйти замуж за незнакомца, да и просто выйти замуж в обозримом будущем, казалась Практри слишком нелепой, чтобы воспринимать ее всерьез.
– Мам, ку-ку, мне всего шестнадцать!
– Мне было семнадцать, когда мы с твоим отцом обручились.
«Да, и посмотри, что из этого вышло», – подумала Прак-три, но ничего не сказала. Обсуждать эту идею значило легализовать ее, а ей хотелось поскорее о этом забыть. Мать вечно витала в облаках. Она мечтала вернуться в Индию, когда отец Практри выйдет на пенсию. Она хотела, чтобы дочь нашла работу в Бангалоре или Мумбае, вышла за индийского мальчика и купила дом такого размера, чтобы там могли жить и ее родители. Дев Кумар был просто очередным воплощением этих фантазий.
Практри надела наушники, чтобы заглушить голос матери. Остаток полета она провела за эссе по «Алой букве».
Когда они вернулись, этот ужасный сценарий забылся, как она и надеялась. Мама еще несколько раз очень вовремя упомянула Дева, но потом перестала о нем говорить. Отец вернулся к работе, словно бы и вовсе не вспоминал про Кумаров. Сама же Практри снова погрузилась в учебу. Каждый вечер она засиживалась допоздна, путешествовала с дискуссионным клубом, по утрам в субботу ходила на занятия по подготовке к экзаменам.
Как-то в один из декабрьских выходных Практри делала уроки у себя в спальне и одновременно болтала с Кайли по «Фэйстайму». Телефон валялся на кровати, и из динамика доносился голос подруги:
– Короче, он пришел к моему дому и оставил цветы на крыльце.
– Зияд?
– Ага. Просто оставил. Цветы так себе, магазинные, но зато целая охапка. А потом, значит, пришли родители с братом и все это увидели. Мне так стыдно было. Погоди, он мне пишет.
Ожидая, пока Кайли прочтет сообщение, Практри сказала:
– Да брось ты его! Он незрелый, пишет с ошибками и, прости уж, но он просто огромный.
Тут телефон Практри пикнул, и девушка подумала, что Кайли переслала ей сообщение Зияда, чтобы обсудить и решить, что ответить. Она открыла сообщение, не глядя на отправителя, и на экране вдруг появилось лицо Дева Кумара.
Она поняла, что это он, по болезненно напряженному выражению лица. Дев стоял – или, видимо, его заставили встать – под извилистыми ветвями баньяна, в выгодном освещении. Тощий, как люди на картинках, изображающих страны третьего мира, – как будто в детстве недополучал белка. Кузен Раджив и его друзья одевались точно так же, как и мальчики в школе Практри, может, чуть лучше. Они носили одежду тех же марок, так же стриглись. На Деве же была белая рубашка с непомерно широкими лацканами в духе семидесятых и дурно сидящие серые брюки. Он криво улыбался, черные волосы блестели от масла.
В другой ситуации Практри послала бы фото Кайли. Сел-фи парней, которые слишком уж старались, посылали фото своих торсов и использовали фильтры, обычно вызывали у них приступы хохота. Но тем вечером Практри выключила и убрала телефон. Ей не хотелось объяснять, кто такой Дев, – было слишком стыдно.
Она не рассказала об этом и своим индийским подружкам. Родители многих из них женились по сговору, поэтому они нормально относились к этой практике. Некоторые родители хвалили такие браки, ссылаясь на низкий процент разводов в Индии. Мир Мехта, отец Деви Мехты, любил цитировать научную статью в «Современной психологии», в которой говорилось, что люди в браках по любви больше любили друг друга в первые пять лет, тогда как люди в браках по расчету были сильнее влюблены тридцать лет спустя. Подразумевалось, что любовь процветала на почве совместного опыта. Это было вознаграждение, а не дар.
Разумеется, родителям полагалось так говорить. Утверждая обратное, они бы обесценили собственные союзы. Но все это было враньем. Они знали, что в Америке живут по-другому.
Хотя иногда об этом словно забывали. В школе Практри были девочки из суперконсервативных семей, которые родились или выросли в Индии, и потому полностью подчинялись родителям. Хотя на уроках они идеально говорили по-английски и писали эссе странным великолепным, почти викторианским языком, между собой они общались на хинди, гуджа-рати и прочих наречиях. Они никогда не ели в кафетерии, не пользовались автоматами с едой, а вместо этого приносили с собой вегетарианскую еду в судках. Этим девочкам не разрешалось ходить на школьные танцы и вступать в клубы, в которых состояли мальчики. Они приходили в школу, тихо и трудолюбиво выполняли задания, а когда звенел последний звонок, садились в седаны «Киа» и минивэны «Хонда» и возвращались к своему изолированному существованию. Ходили слухи, что эти девочки так берегут свои девственные плевы, что не пользуются тампонами. Практри с подружками так и прозвали их «плевами»: «Смотри, плевы идут!»
– Я даже не знаю, почему он мне нравится, – продолжала Кайли. – У нас был ньюфаундленд Бартлби – Зияд мне его напоминает.
– Что?
– Ты вообще меня слушаешь?
– Извини, – сказала Практри. – Да, конечно, мерзкие собаки. Вечно пускают слюни.
Она удалила фотографию.
– Ты что, раздаешь мой номер посторонним? – спросила Практри мать на следующий день.
– Ты получила фотографию Дева? Его мама обещала, что он тебе напишет.
– Ты велела никогда не сообщать мой номер незнакомцам, а теперь сама раздаешь его?
– Какой же Дев незнакомец?
– Я с ним не знакома.
– Дай я тебя сфотографирую, пошлем твой портрет. Я обещала миссис Кумар.
– Нет.
– Ну давай! Не смотри так мрачно. Дев решит, что у тебя ужасный характер. Улыбнись, Практри! Я что, должна тебя заставлять?
«Почему бы вам не расписаться на моем теле!» Сидя за ужином в ресторане вблизи кампуса, беседуя с членами лекционного комитета, Мэтью снова и снова слышал голос девушки у себя в голове.
Она говорила всерьез? Или это просто глупая провокационная шуточка, принятая у современных американок? В духе их танцев, обжиманий, тверка, всех этих бессознательных намеков. Будь Мэтью моложе, будь хоть немного ближе к ней по возрасту, он бы знал ответ.
Ресторан превзошел ожидания. Много дерева, фермерская кухня, уютный интерьер. Им дали столик неподалеку от бара, и Мэтью радушно усадили в центре.
Сидящая рядом женщина – преподаватель философии за тридцать, с пушистыми волосами, широким лицом, агрессивными манерами, обратилась к Мэтью:
– У меня вопрос по космологии. Если мы считаем, что есть бесконечное множество вселенных, среди которых существуют всевозможные варианты, тогда есть и та, в которой Бог существует, и та, в которой его – то есть ее – нет. В какой из них мы живем?
– К счастью, в той, где есть алкоголь, – сказал Мэтью, поднимая бокал.
– А существует вселенная, в которой у меня есть волосы? – спросил лысый, но бородатый экономист, сидящий через два стула от них.
Так разговор и тек – легко, жизнерадостно. Мэтью забросали вопросами. Когда он открывал рот, чтобы ответить, все утихали. Вопросы не имели никакого отношения к его докладу, о котором уже забыли: присутствующих интересовали инопланетяне и бозон Хиггса. За столом был еще один физик, но он, видимо, завидовал успеху Мэтью и не произнес ни слова. По пути в ресторан он сказал:
– Ваш блог очень популярен среди студентов последнего курса. Дети его просто обожают!
После основного блюда, пока убирали тарелки, председатель комитета велел соседям Мэтью поменяться местами с теми, кто сидел на другом конце стола. Все заказали десерт, но когда очередь дошла до Мэтью, он попросил виски. Когда ему принесли стакан, в кармане зажужжал телефон.
Теперь рядом с ним сидела бледная женщина в брючном костюме, похожая на птицу.
– Я не преподаватель, – сказала она. – Я жена Пита. – Она указала на своего мужа, который сидел напротив.
Мэтью достал из кармана телефон и украдкой взглянул на него. Номер был неизвестный. Сообщение гласило: «привет».
Вернув телефон в карман, Мэтью отхлебнул виски, откинулся на спинку стула и оглядел зал. Началась та стадия вечера (так бывало в поездках), когда все вокруг казалось подернутым розовым светом. Ресторан медленно заливало красивым прозрачным сиянием. Розовый свет исходил от бара, где на зеркальных полках стояли ряды разноцветных бутылок, от канделябров на стенах, от пламени свечей, отражавшегося в зеркальных окнах с золотой гравировкой. Этот свет был частью ресторанного шума, гула людских голосов и смеха, радостных городских звуков, а еще он был частью самого Мэтью, всевозрастающим довольством собой, окружением, свободой поступать как заблагорассудится. Кроме того, розовый свет был связан с мыслями о единственном слове «привет», которое таилось в телефоне, туго прижатом к бедру.
Впрочем, сам по себе свет долго не продержался бы. Ему нужна была поддержка Мэтью. Он заказал еще виски, извинился, встал, восстановил равновесие и направился к лестнице, которая вела в уборную.
В мужском туалете было пусто. В колонках гремела музыка, которая, видимо, играла и в шумном ресторане. Она оказалась на удивление неплохой, и Мэтью дотанцевал до одной из кабинок. Закрыв за собой дверь, он вытащил телефон и стал набирать одним пальцем:
Извините, номер не распознается. Кто это?
Ответ пришел почти сразу:
свежий человек:)
Привет-привет.
как дела?
Напиваюсь в ресторане.
звучит неплохо не одиноко?
Мэтью поколебался. Затем написал:
Отчаянно одиноко.
Это напоминало катание на горных лыжах. Словно вы на вершине и начинаете ехать вниз, но за дело берется гравитация, и вот вы уже летите. Следующие несколько минут, пока они обменивались сообщениями, Мэтью мог лишь очень смутно припомнить девушку, с которой переписывался. Два ее образа – в мешковатой кофте и в белом топе – никак не удавалось совместить. Он уже почти забыл, как она выглядела. Это был конкретный образ, но все же достаточно размытый, чтобы относиться к любой женщине, ко всем женщинам. В ответ на каждую реплику Мэтью от нее приходила не менее интригующая, он усиливал игривый тон, она не отставала. Эта пальба кокетливыми сообщениями в пустоту бесконечно возбуждала.
На экране появились три точки: она что-то печатала. Мэтью в ожидании уставился на экран. Он буквально ощущал ее на том конце связующего их невидимого провода: голова опущена, черные волосы спадают на лицо, как тогда, у стола с книгами, ловкие пальцы бегают по кнопкам телефона.
И тут на экране высветился ответ:
ты женат так ведь?
Это было неожиданно. Мэтью словно протрезвел. На мгновение он вдруг увидел себя со стороны – мужчина средних лет, муж, отец прячется в кабинке туалета и переписывается с девушкой вдвое младше.
На этот вопрос был только один достойный ответ:
Совершенно верно.
Снова три точки. Исчезли. Больше не появлялись. Мэтью подождал еще несколько минут и вышел из кабинки. Увидев в зеркале свое отражение, он скорчил гримасу и воскликнул:
– Жалкое зрелище!
Но на самом деле он так не чувствовал. В общем и целом он был довольно-таки горд собой, как будто потерпел поражение при выполнении впечатляющего трюка на спортивном состязании.
Когда он поднимался обратно в ресторан, в кармане снова зажужжал телефон:
если тебе все равно то мне тоже.
На комоде в хозяйской спальне стоял свадебный портрет. На этой картине, выполненной в кричащих тонах, были изображены мальчик и девочка, будущие родители Практри, – они торжественно вытянулись рядом, словно по принуждению. Невероятно худое папино лицо венчал белый тюрбан. На гладком лбу матери лежала золотая диадема, сочетающаяся с кольцом в носу, волосы прикрывала красная кружевная шаль. На шеях обоих были тяжелые ожерелья из нескольких нитей блестящих красных ягод. Впрочем, возможно, это были не ягоды, а косточки. К тому моменту, как сделали этот портрет, родители были знакомы всего двадцать четыре часа.
Большую часть времени Практри и не думала о браке родителей. Это случилось много лет назад, в другой стране, тогда действовали иные правила. Но время от времени, движимая как любопытством, так и негодованием, она заставляла себя вообразить, что же произошло после того, как сделали этот портрет. Случайная гостиница, ее семнадцатилетняя мать стоит посреди комнаты. Наивная деревенская девочка, которая ничего не знает ни о сексе, ни о мужчинах, ни о предохранении, но зато понимает, что от нее в требуется данный момент. Она осознает, что ее долг сейчас – раздеться перед этим мужчиной, который для нее такой же незнакомец, как и любой из прохожих на улице.
Снять свадебное сари, атласные туфельки, вышитое вручную белье, золотые браслеты и ожерелья, лечь на спину и позволить ему делать все что угодно. Подчиниться. Студенту-бухгалтеру, который снимает квартиру в Ньюарке вместе с шестью холостяками, у которого изо рта все еще пахнет американским фастфудом, торопливо проглоченным прежде чем вскочить в самолет в Индию.
Практри никак не удавалось представить, что такая возмутительная история – это же напоминало проституцию – могла случиться с ее чопорной аристократичной матерью. Скорее всего, решила она, все было совсем по-другому. Нет, вероятно, первые недели или месяцы их брака ничего не происходило, и все случилось гораздо позже, когда они уже узнали друг друга, когда в этом уже не было принуждения или насилия. Практри все равно никогда бы не узнала истинное положение дел: она боялась спрашивать.
Она искала в интернете тех, кто столкнулся с подобной ситуацией. Как обычно, потребовалось всего несколько поисковых запросов, чтобы найти форумы, где жаловались, советовали, оправдывали, молили о помощи и утешали. Некоторые женщины, в основном образованные жительницы больших городов, говорили об этом крайне эмоционально, словно находились в очередном эпизоде дурацкого ситкома. Они описывали своих родителей как доброжелательных людей, которые пусть и раздражали тем, что вечно лезли не в свое дело, все же искренне любили своих детей.
«Короче, мамаша постоянно раздает мой адрес новым знакомым. Недавно мне написал отец какого-то чувака и начал задавать всякие личные вопросы, типа сколько я вешу, и курю ли я, и не принимаю ли наркотики, и есть ли у меня какие-нибудь проблемы со здоровьем или по женской части, о которых ему надо знать, и все это для того, чтобы оценить, гожусь ли я в жены его сынку, которому я бы не дала даже из жалости, даже если б мы были на „Бернинг Мэне“[45] под экстази!»
Некоторые женщины, наоборот, поддались родительскому давлению. «Вы хотите сказать, что это хуже, чем сайты знакомств? – писала одна из них. – Хуже, чем когда в баре тебе в лицо дышит пивом какой-то мужик?»
Но были и совершенно ужасные сообщения – от девушек, близких по возрасту к Практри. Эти девушки плохо умели выражать свои мысли: возможно, они учились в не очень хороших школах или жили в Штатах совсем недолго. Практри запала в душу история одной девушки, которая подписалась как «Сломанная жизнью»: «Привет, я живу в Арканзасе. Здесь по закону нельзя выходить замуж в моем возрасте (мне пятнадцать), только с родительского согласия. Проблема в том, что отец хочет выдать меня за своего друга из Индии. Мы с ним даже не встречались. Я попросила фотографию, но отец показал снимок какого-то чувака, который слишком молод, чтобы быть его другом (папе пятьдесят шесть). Такое ощущение, что отец просто меня продает. Может кто-то мне помочь? Куда обратиться за юридической помощью? Что делать, если тебе слишком мало лет и ты не хочешь замуж, но боишься перечить родителям, потому что тебя раньше уже наказывали?»
Проведя несколько часов в интернете за чтением всех этих историй, Практри пришла в отчаяние. Все словно стало более реальным. То, что она считала безумием, оказалось обычной практикой, с которой борются или смиряются.
В Дорсете Мэтью садится на поезд до Лондона, а потом пересаживается на другой, до Хитроу. Через два часа он уже в воздухе, направляется в аэропорт Кеннеди. Он выбрал сиденье у окна, чтобы его не беспокоили. За окном – крыло самолета и огромный грязный цилиндрический мотор. Мэтью воображает, как открывает аварийный выход, вылезает на крыло и балансирует, борясь с ветром. На мгновение эта мысль кажется вполне допустимой.
Четыре месяца, которые он пробыл в Англии, он общался с детьми с помощью сообщений. Электронную почту они не любили – слишком медленно. Их любимый «Скайп» приводил Мэтью в ступор. Когда на экране появлялись изображения Джейкоба и Хэйзел, дети казались одновременно близкими и безвозвратно потерянными. Лицо Джейкоба выглядело пухлее. Он часто отвлекался и куда-то смотрел – возможно, на другой экран. Все внимание Хэйзел было направлено на отца. Наклонившись вперед, она подносила к камере свои локоны, чтобы показать цветные прядки: красные, лиловые, синие. Порой экран замирал, и пиксельные лица детей казались чем-то искусственным, ненастоящим.
Собственное изображение в уголке экрана Мэтью тоже не нравилось: посмотрите-ка, вот он, ваш таинственный отец, прячется в укрытии.
Все попытки казаться жизнерадостным звучали очень фальшиво.
Из этой ситуации нет хорошего выхода: если дети страдают от его отсутствия, это ужасно, если кажутся отстраненными и независимыми – тоже ничего хорошего. Видя знакомые предметы обстановки, Мэтью ощущал болезненный укол в сердце: набивные обои в комнате Хэйзел, хоккейные плакаты Джейкоба.
Дети чувствовали, что их жизнь утратила стабильность. Они подслушивали, как Трейси говорит по телефону с Мэтью, с родственниками и друзьями, с адвокатом. Дети спрашивали отца, разведутся ли они с мамой, и он честно отвечал, что не знает. Он не знает, станут ли они семьей снова.
Более всего сейчас его поражала собственная глупость. Он думал, что его измена касается только Трейси. Верил, что предает только ее доверие и что предательство смягчается (если не оправдывается) тяготами семейной жизни, обидами, физическим неудовлетворением. Он потерял управление в то время, когда на заднем сиденье были дети, и думал, что они не пострадают.
Иногда во время разговора по «Скайпу» в комнату входила Трейси. Увидев, с кем общаются дети, она здоровается с Мэтью и говорит с усилием, как бы снова прощая его. Но она не заходит в кадр, чтобы не показывать лицо. И не увидеть его.
– Сейчас было неловко, – сказала Хэйзел после одного из таких эпизодов.
Сложно понять, что дети думали о его проступке. К счастью, они никогда об этом не говорли.
– Ты совершил одну-единственную ошибку, – сказал Джим в Дорсете несколько недель назад. Рут ушла в свой клуб любителей пьес, и мужчины курили сигары, сидя на крыльце. – Ты совершил ошибку одной-единственной ночью, будучи в браке, который состоит из сотен ночей. Тысяч.
– Честно говоря, ошибок было несколько.
Джим отмахнулся от него дымящейся сигарой:
– Ну ладно, ты не святой. Но ты же был хорошим мужем, по сравнению со многими другими. И тебя соблазнили.
Мэтью задумался над этим словом. Соблазнили. Так ли это? Или дело в том, как он рассказал о случившемся Рут, которая тут же встала на его сторону, как и любая мать, а потом рассказала обо всем Джиму. Как бы то ни было, невозможно соблазниться тем, чего изначально не хотел. В этом-то и проблема: в его похоти, хронической воспалительной болезни.
Практри с Кайли любили приходить в кофейню возле университета. Они садились в дальнем зале и старались ничем не отличаться от студентов за соседними столиками. Если с ними кто-нибудь заговаривал, они притворялись первокурсницами. Кайли становилась серфингисткой Меган родом из Калифорнии, а Практри представлялась Жасмин из Квинса.
– Не обижайся, но белые бывают такими тупыми, – заметила Практри в самом начале. – Считают, что всех индианок называют в честь специй. Может, сказать, что меня зовут Имбирь? Или Кинза?
– Или Карри. Привет, меня зовут Карри, я горячая штучка!
Девушки покатились со смеху.
В конце января, когда на носу были экзамены, они стали ходить в кофейню два-три раза в неделю. Одним ветреным вечером среды Практри пришла первой. Она заняла любимый столик и вытащила ноутбук.
С начала года ей приходили письма из колледжей, которые приглашали поступать к ним. Поначалу ей писали только из тех, которые Практри даже не рассматривала – они находились далеко, не подходили по религиозным соображениям или были недостаточно престижными. Но в ноябре пришло письмо из Станфорда. А несколько недель спустя – из Гарварда.
Ощущение собственной востребованности вызывало у Практри радость или, по крайней мере, успокаивало.
Она открыла электронную почту. В кофейню вошла компания девушек в ярких резиновых сапогах. Смеясь и приглаживая взлохмаченные ветром волосы, они сели за соседний столик. Одна из них улыбнулась Практри, и та улыбнулась в ответ.
В почте было одно непрочитанное сообщение.
«Уважаемая мисс Банерджи!
Мой брат Нил предлагает обращаться к Вам именно так и не писать „дорогая Практри“. Он младше меня, но английский знает лучше. Он исправляет мои ошибки, чтобы я не произвел на Вас дурного впечатления. Может, и не надо было этого Вам рассказывать. Нил говорит, что не надо.
Я считаю, что если мы когда-нибудь поженимся, то мне надо быть с Вами честным и показать, какой я на самом деле, чтобы Вы лучше меня узнали.
Думаю, мне надо задать Вам кучу вопросов. Например, что Вы обычно делаете в свободное время? Какие фильмы любите? Какая музыка Вам нравится? Эти вопросы могли бы показать, насколько мы совместимы, но это неважно.
Важнее узнать насчет культуры и религии. Например, хотелось бы Вам когда-нибудь иметь большую семью? Возможно, это слишком серьезный вопрос, чтобы задавать его в самом начале переписки. Сам я родом из очень большой семьи, так что привык к домашней суете. Иногда мне кажется, что хорошо было бы иметь семью поменьше, как это сейчас принято.
Думаю, мои родители уже рассказали Вашим, что я надеюсь стать программистом в большой фирме вроде „Гугла“ или „Фейсбука“. Я всегда мечтал жить в Калифорнии. Я знаю, что Делавер далеко от Калифорнии, но близко к Вашингтону.
В свободное время мне нравится смотреть крикет и читать мангу. А Вам чем нравится заниматься?
В завершение мне бы хотелось сказать, что когда мы встретились в доме моего двоюродного дедушки, я подумал, что Вы очень красивая. Простите, что я не поздоровался с Вами, но мама сказала, что это не принято. Мы часто не понимаем старые традиции, но надо верить в мудрость наших родителей, потому что на их стороне большой жизненный опыт.
Спасибо за Вашу фотографию. Я храню ее у сердца».
Если бы этот мальчик поставил перед собой цель взбесить Практри каждым словом, если бы он был настоящим Шекспиром всего омерзительного, у него и то не получилось бы лучше. Практри не знала, что хуже. Упоминание о рождении детей, подразумевавшем физическую близость, о которой ей и думать не хотелось, само по себе неприятно. Но почему-то словосочетание «очень красивая» оказалось еще хуже.
Практри не знала, что делать. Она хотела написать Деву Кумару, чтобы он оставил ее в покое, но боялась, что об этом узнает мать.
Вместо этого она погуглила: «совершеннолетие США». Результат поиска показал, что по достижении восемнадцати лет она получит право покупать имущество, завести банковский счет и пойти в амию. Больше всего ее приободрила информация, что с восемнадцати лет человек «приобретает контроль над своей жизнью, решениями и поступками, что означает окончание правовых полномочий родителей над жизнью ребенка».
Восемнадцать. Еще полтора года. К тому времени Практри уже поступит в колледж. Неважно, если родители будут против или захотят, чтобы она поселилась неподалеку. Она все равно уедет. Можно попросить финансовую помощь. Или выиграть грант. Или взять кредит, если потребуется. Она сможет подрабатывать во время учебы, не будет ни о чем просить родителей, а значит, не будет им ничего должна. И как они себя почувствуют? Что они тогда сделают, а? Пожалеют, что вообще пытались выдать ее замуж. Станут раскаиваться и молить о прощении. И когда Практри уже будет учиться в магистратуре или жить в Чикаго, она, возможно, их и простит.
В образах Меган и Жасмин девушки становились ленивее, чуть тупее, но вместе с тем и смелее. Как-то раз Кайли подошла к симпатичному парню и сказала:
– Короче, я хожу на психологию, и нам задали кого-нибудь протестировать, это всего на несколько минут.
Она подозвала Практри-Жасмин, и они вместе начали задавать вопросы, выдумывая их на ходу: «Что последнее тебе снилось? Если бы ты был животным, то каким?» У парня были дреды и ямочки на щеках. Через некоторое время, слушая их безумные вопросы, он что-то заподозрил.
– Это для занятия? Правда? – спросил он.
Девочки захихикали, но Кайли сказала:
– Да! Завтра сдавать!
В этот момент их выдумка удвоилась: теперь они не просто школьницы, которые притворяются студентками, а студентки, которые притворяются, что проводят психологический тест, чтобы поболтать с симпатичным мальчиком. Другими словами, они уже обживали свои будущие жизни, свои будущие личности.
Теперь все это казалось очень далеким. Практри смотрела на девочек в легинсах и резиновых сапогах. За другими столами что-то печатали, читали или разговаривали с преподавателями.
Ей почудилось, что она – часть этого мира. Не Жасмин из Квинса, но она сама.
У нее закружилась голова. В глазах померкло. Казалось, что пол кофейни исчезает, а между ней и студентками разверзается пропасть. Практри ухватилась за край стола, чтобы удержаться, но все еще чувствовала, будто падает.
Вскоре она поняла, что это не так, – ее тянут назад, ее окружают. Ее выбрали. Закрыв глаза, Практри представляла, как они идут к ней – так же, как ходят по школьным коридорам. Они уставились в пол темными глазами, они бормочут на иностранных языках – ее языках, они похожи на нее и тянут к ней руки, чтобы сделать одной из них. Плевы.
Практри не знала, сколько прошло времени. Посидев с закрытыми глазами, чтобы перебороть головокружение, она поднялась на ноги и пошла к выходу.
Рядом с дверью висела доска, увешанная флаерами, объявлениями, визитками и отрывными листками, предлагавшими репетиторские услуги или комнаты внаем. В правом верхнем углу висел частично скрытый другими плакат с объявлением о предстоящей лекции. Тема Практри ничего не говорила. Ее внимание привлекла дата мероприятия – на следующей неделе – и фотография выступающего. Розовощекий мужчина со светлыми волосами и дружелюбным лицом. Приглашенный профессор из Англии. Неместный.
Когда девушка пришла в номер, Мэтью уже все решил. Он собирался предложить ей выпить. Посидеть, поговорить, насладиться ее компанией, близостью молодости и красоты, но ничего более. Он был достаточно пьян, чтобы удовлетвориться этим. Он не чувствовал особенно сильного желания, только восторженное предвкушение, как будто ему удалось попасть на закрытую вечеринку.
И тут она вошла, и ее пудровый аромат охватил его с новой силой.
Она не смотрела ему в глаза и не сказала ни слова, просто положила рюкзак на пол и встала, опустив взгляд. Она даже не сняла пальто.
Мэтью спросил, не хочет ли она чего-нибудь выпить. Она отказалась. Она явно нервничала и сомневалась, и ему захотелось приободрить или успокоить ее.
Сделав шаг вперед, он обнял ее и зарылся носом в волосы. Она не возражала. Через некоторое время Мэтью опустил голову и поцеловал девушку. Она реагировала вяло, не разжимая губ. Он уткнулся ей в шею. Когда он вернулся к губам, она отстранилась.
– У тебя есть презерватив? – спросила она.
– Нет, – ответил Мэтью, удивленный ее прямотой. – Боюсь, что я не из поколения презервативов.
– Можешь за ним сходить?
Все кокетство ее покинуло. Она держалась деловито, сдвинув брови. Мэтью еще раз задумался, хочет ли он идти дальше. И все же сказал:
– Могу. Но где их купить в такое время?
– На площади. Там есть один магазинчик. Все остальные уже закрыты.
Потом, уже в Англии, все долгие месяцы обвинений и сожалений, Мэтью признал, что у него было время передумать. Он покинул отель в одном пиджаке. На улице похолодало. В голове у него прояснилось, но недостаточно, и это не помешало ему войти в магазин.
Внутри представился еще один шанс передумать. Презервативов на прилавке не оказалось, их надо было просить у продавца, восточного мужчины средних лет, и на секунду ему в голову пришла безумная идея, что он покупает презервативы у отца девушки.
Мэтью заплатил наличными, избегая взгляда продавца, и поспешил прочь.
Когда он вернулся, в комнате было темно. Он решил, что она ушла, и почувствовал разочарование и облегчение. Но из постели донесся голос:
– Не зажигай свет.
Мэтью разделся в темноте. Когда он лег и обнаружил рядом с собой обнаженную девушку, его уже ничего не сдерживало.
Он неловко натянул презерватив и залез на нее. Она раздвинула ноги, но не успел он что-либо сделать, как она вся напряглась и села.
– Ты вошел?
Мэтью решил, что ее беспокоит беременность.
– Я надел презерватив, – успокоил он ее.
Девушка положила руку ему на грудь и замерла, словно прислушиваясь к себе.
– Я не могу, – сказала она наконец. – Я передумала. Мгновение спустя она исчезла, не сказав ни слова.
На следующее утро Мэтью проснулся за полчаса до встречи. Выпрыгнув из постели, он принял душ, почистил зубы гостиничной пастой и оделся. Через пятнадцать минут он уже шел в кампус.
Его не мучило похмелье – скорее, он еще был немного пьян. Пока он шагал под голыми деревьями, голова казалась легкой. Все вокруг выглядело как будто бесплотным – мокрые листья на асфальте, рваные облака в небе – словно он наблюдал за ними через сетку.
Ничего не случилось. В самом деле. По сравнению с тем, что могло бы произойти, он практически не был виноват, поэтому казалось, что он вообще ничего такого не сделал.
Посреди встречи у него разболелась голова. Мэтью как раз был на факультете физики. Когда он пришел, то забеспокоился, что среди студентов в ярко освещенной аудитории может оказаться та девушка, но потом вспомнил, что она занята. Он расслабился и отвечал на вопросы на автопилоте. Ему почти не приходилось думать.
К полудню он уже возвращался в Нью-Йорк с чеком в кармане.
Проехав Эдисон, он практически задремал в кресле, как вдруг ему пришло сообщение:
Спасибо за автограф. Может быть, продам его как-нибудь. Было приятно познакомиться.
Всего доброго.
Мэтью написал: «Пришлю книгу, чтобы было куда вклеить автограф», но это выглядело как намек на продолжение, и он стер эту фразу. «Мне тоже было приятно познакомиться. Удачи в учебе». Нажав на кнопку «отправить», он удалил всю переписку.
Она слишком долго выжидала, прежде чем отправиться в полицию. Вот в чем была проблема. Потому ей и не поверили. Практри уже как-то видела городского прокурора, бочкоподобного мужчину с открытым добрым лицом и белокурым пухом на голове. Он был грубоват и часто ругался, но с Практри держался очень деликатно.
– Вопрос, кто виноват, здесь не стоит, – сказал прокурор. – Но мне надо выдвинуть обвинение против этого ублюдка, а его адвокат будут оспаривать ваши показания. Поэтому нам надо подготовиться и обсудить детали, о которых он станет спрашивать. Понимаете? Я сам не рад об этом говорить, поверьте уж.
Он попросил Практри рассказать все еще раз, с самого начала. Пила ли она в тот вечер? Он попросил в подробностях описать сексуальный акт. Что именно они делали? Что было позволено, а что нет? Кому пришла в голову идея презерватива? Были ли у нее до этого интимные связи? Был ли у нее бойфренд, о котором не знали родители?
Практри отвечала как могла, но чувствовала, что не подготовилась. Она переспала со взрослым мужчиной именно для того, чтобы избежать подобных вопросов. Вопросов о ее готовности, об уровне алкоголя в крови, о провокационном поведении. Она слышала достаточно подобных историй и посмотрела на телефоне достаточно эпизодов сериала «Закон и порядок», чтобы знать, как решаются подобные дела. Не в пользу женщин. Закон всегда на стороне насильника.
Ей нужно было, чтобы секс сам по себе считался преступлением. Только тогда она могла бы считаться жертвой. Невинной. Невинной, и вместе с тем, по определению, уже не девственницей. Негодной невестой.
В этом и заключался план Практри.
Ей нужен был взрослый мужчина, потому что в этом случае было неважно, писала ли она ему игривые сообщения, сама ли пришла к нему в номер. Возраст согласия в Делаве-ре был семнадцать лет. Практри сверилась с законом. Юридически она не могла дать согласие на секс. Таким образом, не было необходимости в том, чтобы доказывать факт изнасилования.
Взрослый женатый мужчина не захотел бы обсуждать случившееся. Он захотел бы скрыть это от прессы. В школе бы никто не узнал. Поискав ее имя в интернете, члены приемной комиссии в колледже не нашли бы записей о следствии.
Наконец, взрослый женатый мужчина заслуживал такой участи. Она бы не чувствовала за собой вины, вовлекая его в подобную историю, в отличие от ничего не подозревающего парня из школы.
Но потом она встретила этого мужчину, английского физика, осуществила свой план, и ее охватили сожаления. Он оказался милым. Скорее печальным, чем каким-либо еще. Может, он и был уродом – просто наверняка, – но все же он немного ей понравился, и ей было жаль, что она его обманула.
Именно поэтому Практри несколько месяцев откладывала поход в полицию. Она надеялась, что ей не придется претворять в жизнь последнюю часть плана, что ситуация изменится.
Учебный год подошел к концу. Практри устроилась на лето торговать мороженым. Ей предстояло носить полосатый фартук и белую бумажную шапочку.
Как-то раз, в конце июля, когда Практри вернулась домой с работы, мать вручила ей письмо. Настоящее письмо, написанное на бумаге и отправленное по почте. На марках был изображен улыбающийся крикетист.
«Дорогая Практри! Простите, что не написал раньше. Уче-ба в университете отнимала все мое время, и я тратил на нее все свои силы. Меня поддерживает мысль, что я тружусь ради будущего моей будущей семьи, частью которой, конечно, будете и Вы. Я начинаю понимать, что попасть в „Гугл“ или „Фейсбук" может быть не так просто. Я подумываю устроиться в финансовую компанию в Нью-Брансуике, где работает мой дядя. У меня нет водительских прав, и это начинает меня бес-покоить. У Вас есть права? А может, есть собственная машина? Я знаю, что наши родители обсуждали возможность покупки автомобиля в качестве части приданого. Меня бы это абсолютно устроило».
Дальше Практри читать не стала. На следующий день она не пошла домой после работы, а отправилась в полицейский участок, который находился за городской администрацией. С тех пор прошел месяц. Полицейские искали этого мужчину, но так и не арестовали его. Возникла какая-то задержка.
– Судья захочет знать, почему вы так долго ждали, – сказал прокурор.
– Я не понимаю, – ответила Практри. – Я читала закон в интернете. Сейчас мне уже семнадцать, но было шестнадцать, когда это случилось. Это по определению изнасилование.
– Все верно. Но он утверждает, что секса не было. Не было… проникновения.
– Разумеется, проникновение было. – Практри нахмурилась. – Почитайте сообщения. Посмотрите видео. Вы же видите, что произошло.
Она послала мужчину в магазин именно потому, что знала: там работает камера. Она собиралась оставить себе презерватив и завязать его узелком, чтобы сохранить сперму. Но в тот момент все было сложно, и она забыла об этом.
– Из сообщений видно, что вы флиртовали, – сказал прокурор. – Они демонстрируют намерение. Как и видеозапись, на которой он покупает презервативы. Но у нас нет доказательств, подтверждающих, что именно случилось в комнате.
Практри опустила взгляд на свои руки. На большом пальце засохла капелька зеленого мороженого. Она сковырнула ее.
Когда мужчина взобрался на нее, Практри вдруг охватила волна нежности к собственному телу, желание защитить его. От мужчины остро и сладко пахло алкоголем. Он оказался тяжелее, чем она думала. Когда она вошла в гостиничный номер, он стоял перед ней босиком и казался старше и худее, чем днем. Теперь она закрыла глаза. Она беспокоилась, что будет больно. На девственность ей было плевать, но хотелось как можно меньше участвовать в процессе. Акт должен был соответствовать юридическим критериям, но с ее стороны не будет никакого поощрения и, разумеется, никакой нежности.
Теперь он был у нее между ног и давил. Она ощутила нажатие.
А потом оттолкнула его. Села.
Неужели это ощущение не было проникновением? Она бы знала, если бы ничего не произошло, разве нет?
– Ну если кто-то покупает презервативы, то понятно, зачем, – сказала она прокурору. – Как мне доказать, что проникновение было?
– Это непросто, потому что прошло много времени. Но возможно. Сколько времени длился секс?
– Не знаю. Минуту.
– Секс длился одну минуту.
– Может и меньше.
– Он кончил? Простите, я должен был спросить. Об этом будет спрашивать защита, и лучше подготовиться.
– Не знаю. Я никогда… это был мой первый раз.
– И вы уверены, что это был его пенис? А не палец, например?
Практри задумалась:
– Его руки были на моей голове. Он держал мою голову. Обеими руками.
– Мне бы очень помогло, если бы у нас был первоочередной свидетель, – сказал обвинитель. – Кто-то, с кем вы поделились произошедшим по свежим следам, кто мог бы подтвердить ваши слова. Вы кому-нибудь говорили об этом?
Практри никому не рассказывала о случившемся. Ей не хотелось, чтобы кто-то знал.
– Этот подонок говорит, что секса не было. Так что делу очень помогло бы, если бы вы рассказали о нападении сразу после изнасилования, по свежим следам. Идите домой. Подумайте. Попытайтесь вспомнить, не говорили ли вы с кем-либо. А может, кому-нибудь писали? Будем на связи.
Самолет, несущий Мэтью через океан, движется наравне с солнцем. Он прибывает в Нью-Йорк в то же время (плюс-минус два часа), в которое покинул Лондон. Когда он выходит из терминала, его атакует солнце. Казалось бы, ноябрьский день должен подходить к концу, чтобы смягчить возвращение, но солнце стоит в зените. Зона погрузки заполнена автобусами и такси.
Он диктует водителю адрес гостиницы. О возвращении домой не может быть и речи. Трейси согласилась сегодня привезти к нему детей. Когда Мэтью пригласил ее поужинать, надеясь, что они воссоединятся как семья и из этого что-нибудь выйдет, Трейси ответила крайне уклончиво. Но отказываться не стала.
Сам факт возвращения, контуры Манхэттена на горизонте вселяют в Мэтью оптимизм. Несколько месяцев он был беспомощен – арестовать его не могли, но он пребывал в лимбо, словно Джулиан Ассандж или Роман Полански. Теперь же он может действовать.
В августе стало известно, что Мэтью хотят допросить. Вести пришли, когда он читал лекции в Европе. Полиция Довера получила копию его паспорта из гостиницы – он предъявил его при заселении. Дальше они выяснили адрес его матери. Закончив лекции, он вернулся в Дорсет, чтобы навестить Рут и Джима, где его и ждало письмо.
За те полгода, что прошли между посещением делавер-ского колледжа и приходом письма, Мэтью успел почти позабыть о девушке. Он попотчевал этой историей нескольких друзей, описал странные заигрывания девушки и внезапную перемену настроения.
– Чего ты ждал, придурок? – сказал один из слушателей.
Но он же потом завистливо спросил:
– Девятнадцать? Это вообще как?
Честно говоря, Мэтью не помнил. Из воспоминаний того вечера самым отчетливым было то, как трепыхался ее живот, когда он взгромоздился сверху. Словно между ними оказался зажат какой-то крохотный зверек, песчанка или хомячок, который отчаянно пытался высвободиться. Никто из его женщин так не дрожал от страха или восторга. Прочее было как в тумане.
Когда Мэтью получил письмо из полиции, другой приятель, юрист, посоветовал найти адвоката из местных, то есть из Довера или графства Кент: они будут знакомы с прокурором и судьей.
– Попытайся нанять женщину, – сказал приятель. – Это поможет, если будет суд присяжных.
Мэтью нанял женщину по имени Симона дель Рио. Во время первого телефонного разговора он изложил свою версию событий, а она спросила:
– Это было в январе?
– Да.
– Как выдумаете, почему она ждала столько времени?
– Понятия не имею. Говорю же, она ненормальная.
– Задержка нам только на руку. Я поговорю с прокурором и попытаюсь что-нибудь выяснить.
Она перезвонила на следующий день:
– У меня новости. Предполагаемой жертве на момент происшествия было шестнадцать.
– Не может быть. Она училась на первом курсе. Сказала, что ей девятнадцать.
– Я не сомневаюсь. Но, видимо, тут она тоже соврала. Она старшеклассница. В мае ей исполнилось семнадцать.
– Это не важно, – сказал Мэтью, переварив услышанное. – Секса не было.
– Слушайте, против вас даже не подали иск. Я сказала прокурору, что пока они не имеют права вызывать вас на допрос. Кроме того, я заявила, в данной ситуации что ни одно большое жюри не выдвинет обвинение. Честно говоря, если бы вы могли просто не возвращаться в США, проблема была бы решена.
– Я не могу. Моя жена американка. Там живут мои дети. И я живу – раньше жил, во всяком случае.
Дальнейшие слова дель Рио были не столь утешительны. Девушка, как и Мэтью, стерла переписку, но полиция получила ордер на восстановление сообщений телефонной компанией.
– Такие вещи никуда не деваются, – сказала дель Рио. – Они хранятся на сервере.
Еще одной проблемой оказалась запись из магазина, на которой было указано время.
– Без возможности провести допрос расследование застопорится. Если так и будет продолжаться, мне, возможно, удастся замять это дело.
– Сколько времени это займет?
– Неизвестно. Но послушайте меня – я не могу велеть вам оставаться в Европе. Понятно? Не могу дать вам такой совет.
Мэтью все понял. Он остался в Англии.
На расстоянии он наблюдал, как рушится его жизнь. Трейси всхлипывала в телефон, проклинала его, потом отказывалась брать трубку и, наконец, подала документы на сепарацию. В августе Джейкоб три недели с ним не разговаривал. С Мэтью общалась только Хэйзел, хотя ей и не нравилась роль посредника. Время от времени она посылала ему эмод-зи в виде сердитой красной мордочки или спрашивала: «когда ты уже приедешь».
Эти сообщения приходили на английский номер Мэтью. В Англии его американский телефон был выключен.
Сидя в такси, едущем из аэропорта, он достает американский телефон из сумки и включает его. Ему не терпится сообщить, что он вернулся и они скоро увидятся.
Через две недели прокурор наконец перезвонил Прак-три. После уроков она села в машину к матери, и они поехали в администрацию.
Практри не знала, что сказать прокурору. Она не предполагала, что понадобится свидетель. Она не предполагала – хотя об этом можно было и подумать, – что мужчина будет в Европе, вдали от угрозы ареста и допроса. Все словно сговорились, чтобы затормозить ход дела, а вместе с тем и ее жизнь.
Практри подумывала, не попросить ли Кайли соврать. Но даже если бы Кайли поклялась, что никому не скажет, она не удержалась бы и все равно кому-нибудь разболтала, а тот разболтал бы еще кому-нибудь, и вскоре эту историю знала бы вся школа.
Дурва тоже не могла ей помочь. Она совершенно не умела врать. Если бы ее начали допрашивать присяжные из большого жюри, она бы раскололась. Кроме того, Практри не хотела, чтобы Дурва знала о случившемся. Она обещала родителям ничего не говорить младшей сестре.
Что же до родителей, она сама не понимала, что именно они знают. Она постеснялась рассказывать им о случившемся, и это сделал прокурор. Когда родители вышли с этой встречи, Практри была потрясена, увидев, что отец плачет. Мать была нежна и утешала дочь. Она предлагала вещи, до которых никогда не додумалась бы сама Практри, – эти идеи явно исходили от прокурора. Она спросила, не хочет ли Практри поговорить с кем-нибудь. Она сказала, что все понимает, подчеркнула, что Практри – жертва произошедшего и что случившееся – не ее вина.
В последующие недели и месяцы эту тему обходили молчанием. Родители не говорили об этом дома под предлогом того, что Дурва не должна ничего знать. Слово «изнасилование» ни разу не было произнесено. Они делали все необходимое, сотрудничали с полицией, общались с прокурором, но не более того.
Это ставило Практри в странное положение. Она гневалась на родителей за то, что они закрывают глаза на насилие – которого, по сути, не было.
Она уже сама не понимала, что произошло той ночью. Она знала, что мужчина виноват, но не была уверена, на ее ли стороне закон.
Но обратного пути не было. Она зашла слишком далеко.
Прошло больше десяти месяцев. Снова приближался Ди-вали – в этом году из-за новолуния праздник начинался раньше. Ехать в Индию они не планировали.
Когда она пришла в участок впервые, деревья перед зданием администрации были покрыты листвой. Теперь они оголились, открыв взорам конную статую Джорджа Вашингтона в конце колоннады. Мать припарковалась у участка, но выходить из машины не стала. Практри повернулась к ней:
– Ты зайдешь?
Мать посмотрела на нее. Не так, как в последнее время – нежно и уклончиво. Взгляд ее был жестким, неодобрительным, как обычно. Руки так крепко сжали руль, что костяшки пальцев побелели.
– Ты сама заварила эту кашу, сама и расхлебывай, – сказала она. – Хочешь отвечать за свою жизнь? Вперед. Я сдаюсь. Это бесполезно. Как мы теперь найдем тебе другого мужа?
Практри уцепилась за слово «другого»:
– Они знают? Кумары?
– Разумеется, знают! Твой отец им сообщил. Сказал, что это его долг. Я ему не верю. Он вообще не хотел, чтобы свадьба состоялась. Был счастлив, что может мне помешать, как обычно.
Практри молча осмысляла услышанное.
– Ты-то, конечно, в восторге, – сказала мать. – Ты же этого и хотела, так?
Разумеется, Практри этого и хотела. Но охватившие ее чувства были куда сложнее, чем восторг или облегчение. Это было ближе к раскаянию за то, что она сделала с родителями и с собой. Отвернувшись к двери, она разрыдалась.
Мать не пошевелилась, чтобы утешить ее. Когда она заговорила, в голосе звучала горькая усмешка:
– Так ты его все же любила? В этом все дело? Просто хотела одурачить родителей?
Телефон начинает бешено вибрировать у него в руке. Сыплются сообщения за последние месяцы.
Пока сыплются сообщения, Мэтью разглядывает дымку над Ист-Ривер и огромные билборды с рекламой фильмов и страховых компаний. Большинство сообщений – от Трейси или детей, но среди них проскальзывают имена друзей и коллег. Видна лишь первая строчка каждого сообщения. Перед ним прокручивается краткий обзор последних четырех месяцев – просьбы, гнев, отчаяние, упреки, горе. Он сует телефон обратно в сумку.
Пока они едут по туннелю, телефон продолжает жужжать. В него изливается безбрежный поток.
– Все отменяется, – сказала Практри, стоя в дверях кабинета прокурора. – Я отказываюсь от обвинений.
Лицо ее было по-прежнему мокрым от слез. Легко понять неправильно.
– Это совершенно не нужно, – ответил прокурор. – Мы дожмем этого ублюдка, обещаю.
Практри потрясла головой.
– Послушайте. Я много об этом думал, – продолжал прокурор. – Даже без свидетельства по свежим следам у нас есть что использовать. Семья этого мужика живет в Штатах. Ему надо будет туда вернуться.
Практри, казалось, не слушала его. Она смотрела на прокурора сверкающими глазами, словно внезапно осознав, что нужно сказать, чтобы все исправить.
– Я раньше не говорила, но после колледжа я хочу заниматься юриспруденцией. Я всегда хотела быть юристом. А теперь знаю, кем именно. Государственным защитником! Как вы. Только вы приносите миру пользу.
Раньше Мэтью всегда останавливался в этой гостинице в районе Восточных Двадцатых улиц – раньше она была популярна среди европейских издателей и журналистов. Теперь ее переделали до неузнаваемости. В похожем на пещеру лобби гремит техно, оно преследует Мэтью вплоть до лифтов, где сопровождается жутковатыми видео на встроенных в стены экранах. Вместо того чтобы оберегать постояльцев от городских улиц, гостиница впускает их внутрь, а с вместе с ними – их неугомонную суетливость.
В номере Мэтью принимает душ и надевает чистую рубашку. Через час он спускается обратно в лобби и под громкую музыку ждет Джейкоба и Хэйзел. И Трейси.
Он с неохотой начинает пролистывать сообщения и удалять их. От сестры Присциллы, от друзей, которые когда-то приглашали его в гости. Напоминания о платежах, горы спама.
Он открывает одно из сообщений:
это твой номер?
И сразу за ним следующее, с того же номера:
ладно не важно, я пишу тебе в последний раз а ты мне тоже видимо писать не будешь, просто хотела извиниться, не перед тобой а перед твоей семьей, я перегнула палку, психанула, но тогда все вышло из-под контроля и мне казалось что выбора нет. дальше я планирую стать хорошим человеком, может тебе тоже стоит об этом подумать, пока, спасибо за внимание.
Несколько месяцев Мэтью не чувствовал по отношению к этой девушке ничего, кроме ярости. Мысленно и вслух (оставаясь в одиночестве) он клял ее последними словами, используя самые худшие, самые оскорбительные, самые живые выражения. Однако эти сообщения не пробудили в нем прежней ненависти. Впрочем, он не простил ее и не считает, что все к лучшему. Удаляя сообщения, Мэтью кажется, что он ощупывает рану. Не машинально, как раньше, рискуя очередным кровотечением или нагноением, а просто чтобы проверить, заживает ли она.
Такие вещи не проходят.
В дальнем конце лобби появляются Джейкоб и Хэйзел. Рядом с ними – незнакомая девушка. Бордовая флиска, джинсы и кроссовки.
Трейси не придет. Никогда. Чтобы сообщить об этом, она послала вместо себя няню.
Джейкоб и Хэйзел еще не видят его. Их смутили мрачный швейцар и громкая музыка. Они щурятся в тусклом свете.
Мэтью встает. Его правая рука непроизвольно взмывает в воздух. Он и забыл, что может так широко улыбаться. Джейкоб и Хэйзел поворачиваются, видят отца и, несмотря ни на что, бегут к нему.
2017
Нытики
Подъезжая на арендованном автомобиле, Кэти видит вывеску и фыркает. «Уиндем Фолз. Достойная старость» – не совсем то, что описывала Делла.
Затем перед ней предстает здание. Главный корпус выглядит неплохо. Большой, стеклянный, окруженный белыми скамеечками, – все по-медицински стерильно. Но коттеджи в глубине сада кажутся тесными и запущенными. Крохотные крылечки, словно садки для животных. Чувствуется, что за зашторенными окнами и поврежденными непогодой дверями скрывается одиночество.
Выйдя из машины, Кэти ощущает, что воздух здесь градусов на десять теплее, чем был утром в детройтском аэропорту. На голубом январском небе ни единого облачка. Никаких признаков метели, которой стращал ее Кларк, надеясь, что она останется дома и будет его обхаживать.
– Съездишь на следующей неделе, – говорил он. – Подождет.
На полпути к входу Кэти вспоминает про подарок Делле и возвращается в машину. Вытащив его из чемодана, она снова любуется упаковкой. Бумага плотная, мясистая, небеленая – напоминает березовую кору. (Пришлось обойти три писчебумажных магазина, чтобы найти такую.) Вместо цветастого банта Кэти отрезала несколько веточек с елки, которую все равно собирались выбросить, и смастерила веночек. Теперь подарок выглядел самодельным и органическим, наподобие приношения в индейской церемонии – обычно такие преподносят не людям, а матушке-земле.
Внутри упаковки – ничего особенного. Как обычно, Кэти дарит Делле книгу.
Но на этот раз это не просто книга. Это своего рода лекарство.
С самого переезда в Коннектикут Делла жаловалась, что больше не может читать.
– Что-то никак не сосредоточиться, – сказала она по телефону, но не уточнила, почему. Они обе знали, в чем причина.
В прошлом августе, во время одного из традиционных ежегодных визитов Кэти в Контукук, где тогда еще жила Делла, та упомянула, что врач хочет, чтобы она прошла обследование. На часах было начало шестого, солнце валилось за сосны. Чтобы не дышать краской, они пили Маргариту на застекленной веранде.
– Какое обследование?
– Да ерунда какая-то. – Делла скорчила гримасу. – Сначала терапевт – она называет себя терапевтом, но на вид ей не больше двадцати пяти – отправила меня… В общем, она заставляет меня рисовать стрелки на часах, словно в детском саду. Или показывает картинки, чтобы я запоминала. А потом начинает говорить о чем-то еще —. отвлекает меня. И после этого спрашивает, что было на картинках.
Кэти взглянула на Деллу в полумраке. В свои восемьдесят восемь она сохранила прежнюю живость и обаяние. Ее белоснежные волосы были пострижены просто и напоминали Кэти напудренный парик. Иногда она говорит сама с собой или подолгу смотрит в одну точку, но это случается со всеми, кто столько времени проводит в одиночестве.
– И как ты справляешься?
– Так себе.
Накануне они возвращались из магазина стройматериалов в соседнем Конкорде, и Делла все не могла успокоиться насчет выбранной ими краски. Не слишком ли тускло? Может, лучше вернуть? На выкраске в магазине цвет смотрелся куда ярче. Зря только деньги потратили.
– Делла, у тебя снова приступ тревожности, – произнесла наконец Кэти.
Этого оказалось довольно. Делла вдруг расслабилась, словно фея осыпала ее волшебной пыльцой.
– Ты права, – согласилась она. – Скажи, если я опять начну.
Сидя на крыльце, Кэти отхлебнула Маргариты и заметила:
– Такие тесты кого хочешь из себя выведут. Не беспокойся.
Несколько дней спустя Кэти вернулась в Детройт. Больше о тестах речь не заходила. В сентябре Делла позвонила и сообщила, что доктор Саттон пожелала прийти к ней домой и попросила, чтобы при этом присутствовал старший сын Деллы, Беннетт.
– Если она хочет, чтобы приехал Беннетт, значит, все плохо, – сказала она.
Визит запланировали на понедельник, и Кэти ждала звонка. Когда та наконец позвонила, голос ее прямо-таки звенел от радости. Кэти решила, что врач сочла ее здоровой, но Делла даже не упомянула результаты обследования.
– Доктор Саттон говорит, что у нас просто потрясающий ремонт! – щебетала она, едва не задыхаясь от счастья. – Я ей рассказала, какая тут была халупа и как мы с тобой каждый раз, когда ты приезжаешь, что-нибудь ремонтируем, и она просто не могла поверить! Ей так понравилось!
Или Делла не могла смириться с новостями, или уже забыла про них. Как бы то ни было, Кэти стало не по себе.
Пришлось дождаться, пока Беннетт вмешается и расскажет все как есть. Он говорил сухо и прямо – возможно потому, что работал в страховой компании в Хартфорде и каждый день высчитывал вероятность того, что кто-нибудь заболеет или умрет.
– Врач говорит, что маме больше нельзя водить и пользоваться плитой. Ей будут давать какое-то лекарство для стабилизации. Некоторое время. Короче, она больше не может жить одна.
– Я приезжала всего месяц назад, все было хорошо, – сказала Кэти. – Она просто тревожится иногда.
Пауза.
– Ну да. Тревожность – это один из признаков.
Что могла сделать Кэти? Она не только жила в другом штате – в жизни Деллы она вообще была чужаком, непрошенной гостьей. Они познакомились, когда работали в медсестринском колледже. Ей было тридцать. Кэти только недавно развелась и переехала обратно к родителям, чтобы мать приглядывала за Майком и Джоном, пока она работает. Делле было за пятьдесят – мать семейства, живущая в фешенебельном загородном доме у озера. Двое старших сыновей уже уехали. Младший, Робби, учился в старших классах.
При других обстоятельствах они бы не познакомились. Кэти работала на первом этаже, в финансовом отделе. Делла была старшим секретарем декана. Но как-то раз в кафетерии Кэти услышала, как Делла восторженно рассказывала о клубе худеющих – какая это простая программа, да как там совершенно не требуется голодать.
Кэти только недавно начала снова встречаться с мужчинами. Вернее, спать со всеми подряд. После развода ее охватило отчаянное желание наверстать упущенное. Она вела себя бездумно, словно подросток, и сходилась с практически незнакомыми людьми – на задних сиденьях автомобилей, на полах микроавтобусов, припаркованных рядом с домами, где мирно спали добрые христиане. Помимо эпизодического физического удовольствия Кэти словно искала в этих случайных связях вразумления: как будто все это тыканье и тисканье должно было каким-то образом наставить ее на путь истинный, чтобы в следующий раз хватило мозгов не выходить за типа вроде бывшего мужа.
Как-то ночью, вернувшись с очередной подобной встречи, Кэти приняла душ и уставилась в зеркало, оценивая себя так же бесстрастно, как впоследствии оценивала требующие ремонта дома. Что починить? Что замаскировать? С чем придется смириться и на что не обращать внимание?
Она вступила в клуб худеющих. Делла возила ее на встречи. Миниатюрная, подтянутая Делла, с проседью в волосах, в крупных очках в прозрачной розоватой оправе и блестящей блузке водила автомобиль, сидя на подушке, чтобы хоть что-то видеть из-за руля кадиллака. Она носила безвкусные заколки в виде шмелей и такс и щедро поливалась духами – каким-то недорогим приторно-цветочным парфюмом, призванным замаскировать естественный запах женского тела вместо того чтобы подчеркнуть его, как те ароматические масла, которые Кэти втирала себе туда, где бился пульс. Она воображала, как Делла прыскает в воздух духами и кружится в ароматном облаке.
Похудев на несколько фунтов, они стали раз в неделю баловать себя ужином и выпивкой. Делла приносила счетчик калорий, чтобы не слишком увлекаться. Тогда они и открыли для себя Маргариту.
– Знаешь, где меньше всего калорий? В текиле! – заявила Делла. – Всего восемьдесят пять!
Про сахар они старались не думать.
Делла была всего на пять лет старше матери Кэти и во многом придерживалась схожих взглядов на секс и брак. Однако оказалось, что эти устаревшие максимы воспринимаются куда легче, если тот, кто их произносит, не считает себя собственником твоего тела. Кроме того, видя, насколько они разные, Кэти понимала, что мать – такой же человек, как они, а вовсе не духовный судья, которым она назначила ее у себя в голове.
Оказалось, что у Кэти и Деллы много общего. Обе обожали рукоделие: декупаж, плетение корзин, состаривание мебели, что угодно. Обе любили читать. Они одалживали друг другу библиотечные книги, а потом стали брать одни и те же, чтобы читать и обсуждать их одновременно. Они не считали себя интеллектуалками, но могли отличить хороший текст от плохого. Превыше всего они ценили хороший сюжет. Им легче было запомнить фабулу книги, чем ее автора.
Кэти избегала появляться в доме Деллы в Гросс-Пуанте. Ей не хотелось видеть ворсистые ковры, пастельные занавески, мужа-республиканца. К родителям она Деллу тоже не приглашала. Лучше было встречаться на нейтральной территории, где ничто не напоминало об их несовместимости.
Как-то раз, через пару лет после их знакомства, Кэти отвела Деллу на вечеринку, которую устраивали ее приятельницы. Все они расселись на подушках на полу и слушали рассказ подруги, побывавшей на лекции Кришнамурти. По кругу поплыл косяк.
Вот черт, подумала Кэти, когда очередь дошла до Деллы, но та, к ее изумлению, затянулась и передала сигарету дальше.
– Чего только не бывает! – сказала Делла после. – Теперь я из-за тебя травку курю.
– Прости, – со смехом ответила Кэти. – Ну что, тебя вштырило?
– К счастью, нет. Если б Дик узнал, что я употребляю марихуану, он бы вышел из себя!
Но она улыбалась. Радовалась, что у нее появилась тайна.
Были и другие тайны. Через несколько лет после того, как Кэти вышла замуж за Кларка, она решила, что сыта по горло, и съехала в мотель на улице Эйт Майл.
– Если Кларк позвонит, не говори, где я, – сказала она Делле.
Так та и поступила. Каждый вечер она приносила Кэти еду и слушала ее ругань, пока та не успокоилась достаточно, чтобы пойти на примирение.
– Подарок? Мне?
Делла с наивным восторгом глядит на сверток широко распахнутыми глазами. Она сидит в голубом кресле у окна – а точнее, в единственном кресле в этой тесной захламленной квартирке. Кэти неловко примостилась на краю кровати. В комнате царит полумрак, поскольку римские шторы опущены.
– Сюрприз! – говорит Кэти, натужно улыбаясь.
Из разговора с Беннеттом она сделала вывод, что «Уиндем Фолз» – это дом престарелых с уходом. На сайте организации упоминались ангелы-хранители и неотложная помощь. Однако в брошюре, которую Кэти взяла в лобби, говорилось, что «Уиндем» – это место для пенсионеров от пятидесяти пяти лет. Помимо стариков с алюминиевыми ходунками, по коридорам передвигались на электрокреслах жильцы помоложе – бородатые ветераны в жилетах и кепках. Медсестер здесь не было. Это заведение было дешевле дома престарелых, и сервис здесь предоставлялся минимальный – питание в столовой, раз в неделю смена постельного белья. Все.
Сама Делла, казалось, не изменилась с момента их последней встречи в августе. Она надела чистый джинсовый сарафан и желтую майку и накрасилась (косметика была нанесена на нужные места и в нужном количестве). Единственное отличие заключалось в том, что Делла теперь тоже использовала ходунки. Через неделю после переезда она упала перед входом, ударилась головой об асфальт и потеряла сознание. Придя в себя, она увидела, молодого широкоплечего голубоглазого фельдшера, склонившегося над ней.
– Я что, умерла и попала в рай? – вопросила Делла, глядя на него.
В больнице ей сделали МРТ, чтобы исключить мозговое кровотечение. Затем пришел молодой врач, чтобы выявить другие травмы.
– Представь себе, – рассказывала Делла по телефону, – мне восемьдесят восемь, а этот юноша осматривает каждую мою складочку. Каждую! Я ему так и заявила – не знаю уж, сколько вам тут платят, доктор, но вы заслуживаете большего.
Эти шутки подтвердили то, что Кэти подозревала с самого начала – спутанность сознания у Деллы вызвана причинами в основном эмоционального характера. Врачи любят выдавать диагнозы да пилюли, даже не взглянув на пациента.
Сама Делла никогда не произносит название своей болезни. Вместо этого она говорит: «Мой недуг», и еще «Ну, эта моя штука». Как-то раз она заявила: «Не могу запомнить, как называется эта штука, которой я болею. Которой в старости болеют. Которой все боятся». В другой раз она сказала: «Это не Альцгеймер, а что-то следующее».
Ничего удивительного, что Делла вытесняет из памяти слово «деменция». Звучит оно не очень-то приятно. Как будто речь идет о каком-то злобном демоне, пожирающем ваш мозг изнутри – впрочем, по сути, так оно и есть.
Теперь она разглядывает ходунки Деллы в углу комнаты – чудовищную лиловую конструкцию с черным дерматиновым сиденьем. Из-под койки торчат коробки. В раковине встроенной кухоньки громоздится посуда. Вроде бы ничего такого, но дома у Деллы всегда царил порядок, и это зрелище тревожит.
Кэти рада, что принесла подарок.
– Не хочешь открыть? – спрашивает она.
Делла глядит на подарок, словно он только что появился у нее в руках:
– И правда.
Она переворачивает сверток, рассматривает его с обратной стороны. Неуверенно улыбается. Такое впечатление, что она помнит – в этот момент положено улыбаться, а вот почему, не знает.
– Какая упаковка! – говорит она наконец. – Просто поразительно. Главное, не порвать. Может, потом еще пригодится.
– Можешь порвать, ничего страшного.
– Нет-нет, – упрямится Делла. – Я хочу сохранить бумагу.
Ее старые, покрытые пятнами руки трудятся над упаковкой – наконец, она поддается, и Делле на колени падает книга.
Ни малейших признаков узнавания.
Это, конечно, ничего не значит. Роман перевыпустили в новой обложке. Вместо рисунка, изображающего двух женщин в вигваме, там теперь красуется стильная цветная фотография усыпанных снегом гор.
– Наша любимая! – восклицает Делла секундой позже.
– А кроме того, это юбилейное двадцатое переиздание, – говорит Кэти, показывая на обложку. – Видишь? Продано два миллиона экземпляров. Представляешь?
– Ну, мы-то всегда знали, что это отличная книга.
– Мы-то да. Надо было нас слушать. Делла, я думаю, что ты можешь снова начать читать, – прибавляет Кэти мягко. – Ты же ее и так знаешь наизусть.
– И правда. Для разгону, так сказать. Ты мне тут прислала книжку – «Комната», так? Я ее уже два месяца читаю, а осилила всего страниц двадцать.
– Да, это тяжелая книга.
– Там героиня сидит взаперти – знакомая ситуация!
Кэти смеется, но Делла, судя по всему, отчасти говорит всерьез. Воспользовавшись возможностью, Кэти слезает с кровати, указывает на стены и вопрошает:
– Неужели Беннетт и Робби не могли найти тебе чего поприличнее?
– Может, и могли бы, но говорят, что нет, – отвечает Делла. – Робби надо платить алименты и содержать ребенка. А Беннетту, видимо, Джоанна запрещает тратить на меня деньги. Она меня никогда не любила.
Кэти заглядывает в ванную. Все не так ужасно, никакой грязи или мерзости там не обнаруживается. Но прорезиненная занавеска для душа выглядит так, словно ее принесли из какой-то психбольницы. Это легко исправить.
– Идея! – говорит Кэти, обернувшись к Делле. – У тебя есть какие-нибудь фотографии?
– Конечно. Я Беннетту сразу сказала, что без фотоальбомов и с места не двинусь. Он и так заставил меня оставить всю хорошую мебель, чтобы дом лучше продавался. И представь себе, его даже ни разу не посмотрели.
Если Кэти и слушает, то ничем себя не выдает. Она подходит к окну и поднимает шторы:
– Давай-ка для начала немножко тут все украсим. Повесим фотографии на стены. Чтобы было похоже на твой дом.
– Хорошо бы. Будь это место не таким убогим, мне бы и жилось полегче. А то здесь как в тюрьме. – Делла трясет головой. – Некоторые тут просто-таки на грани.
– Что, опасная публика?
– Да я просто по краю хожу, – смеется Делла. – Главное – следить, с кем садишься за обедом.
Когда Кэти уходит, Делла наблюдает за парковкой из окна. Вдали собираются тучи. Кэти сказала, что ураган доберется сюда только к понедельнику, когда ее уже не будет, но Деллу мучают дурные предчувствия, и она тянется к пульту.
Направив его на телевизор, она нажимает кнопку, но ничего не происходит.
– Беннетт купил новый телевизор, но толку от него никакого, – говорит она вслух, как будто Кэти – или еще кто-нибудь – по-прежнему в комнате. – Сначала включаешь телевизор, потом эту коробочку внизу. Жди, пока заработает, а смотреть все равно нечего.
Она откладывает пульт и видит, как Кэти выходит из здания и направляется к автомобилю. Делла в легком смятении наблюдает за ней. Она отговаривала подругу приехать не только из-за погоды. Дело в том, что Делла не знала, осилит ли этот визит. С тех пор, как она упала и угодила в больницу, она неважно себя чувствовала. Развалюха какая-то. Неуемная энергия Кэти могла оказаться чрезмерным испытанием.
С другой стороны, освежить квартиру и впрямь стоит. Глядя на голые стены, Делла пытается вообразить, как они будут выглядеть, если их украсят любимые, дорогие лица.
И вдруг с ней перестает что-либо происходить – в настоящем времени, во всяком случае. С недавних пор подобные интерлюдии случаются все чаще и чаще. Делла ищет записную книжку или заваривает кофе, и вдруг ее уносит к людям и предметам, о которых она не думала годами. Эти воспоминания тревожат не потому, что неприятны (хотя зачастую так и есть), но потому, что своей яркостью они настолько превосходят повседневную жизнь, что она кажется линялой, словно старая застиранная блузка. Недавно ей начал вспоминаться подвал с углем, где она спала в детстве. Это было после того, как они переехали из Падуки в Детройт и сбежал отец. Они поселились в общежитии. Маме и брату Гленну достались обычные комнаты на втором этаже, но Делле пришлось спать в подвале. В ее комнату даже нельзя было попасть из дома – приходилось выходить во двор и поднимать дверь, ведущую в подвал. Хозяйка побелила комнату, поставила кровать и набросала мешков из-под муки в качестве подушек. Но Деллу не одурачить. Дверь была металлической, а окна в комнате отсутствовали. Темно, хоть глаз выколи. Господи, как же я ненавидела спускаться в этот подвал! Словно сходить в могилу.
Но я никогда не жаловалась. Просто делала, что говорили.
Маленький домик в Контукуке был ее первым собственным жилищем. Разумеется, в ее возрасте это причиняло неудобства – зимой приходилось карабкаться на холм или искать, кто сгребет снег с крыши, чтобы не оказаться похороненной заживо. Возможно, доктор Саттон, Беннетт и Робби правы. А что если здесь ей будет лучше?
Выглянув из окна, она видит, что автомобиль Кэти уже исчез. Поэтому Делла берет в руки книгу. Синие горы на обложке кажутся ей возмутительными. Но название не изменилось: «Две старухи: Легенда Аляски о предательстве, храбрости и выживании». Она пролистывает книгу, останавливаясь, чтобы полюбоваться иллюстрациями.
Затем она возвращается к первой странице. Фокусирует взгляд на словах и ведет им по странице. Одно предложение. Два. Целый абзац. С прошлого раза она почти забыла сюжет, и история снова кажется ей новой, хотя и знакомой. Уютной. Но главное здесь – сам процесс чтения, облегчение, забвение, погружение в чужие жизни.
Как и многие другие книги, «Двух старух» Делле посоветовала Кэти. Закончив колледж, Кэти устроилась на работу в книжный магазин. К тому времени она уже снова вышла замуж и вместе с Кларком переехала на старую ферму, которую ремонтировала следующие десять лет.
Делла выучила расписание Кэти и заглядывала в магазин в ее смены, а чаще всего – по четвергам, вечером, когда покупателей становилось меньше, и подругам удавалось поболтать.
Поэтому Делла выбрала именно четверг, чтобы поделиться новостями.
– Давай, я слушаю, – сказала Кэти.
Она возила по магазину тележку с книгами и расставляла их по местам, а Делла устроилась в кресле в отделе поэзии.
– Надо взять пива. – Кэти обнаружила бутылку в офисном холодильнике – осталась с какой-то встречи с читателями. Восьмой час вечера, апрель, в магазине пусто.
Делла стала рассказывать, что ее муж в последнее время странно себя ведет. Говорила, что не понимает, что на него нашло.
– Например, пару недель назад он встает посреди ночи, а потом я слышу, как его машина отъезжает от дома. Ну и думаю: может, все, он уехал, больше я его не увижу.
– Но он вернулся, – уточнила Кэти и поставила книгу на полку.
– Да. Через час. Я спускаюсь на первый этаж, а он там – стоит на коленях, обложившись дорожными картами.
Когда Делла спросила мужа, в чем дело, Дик сообщил, что подыскивает, во что бы вложить деньги во Флориде. Например, в дома у моря в дешевых районах, куда можно добраться прямыми рейсами из крупных городов.
– Я ему говорю: да у нас есть деньги, ты можешь спокойно выйти на пенсию, и все будет нормально. Зачем так рисковать? И знаешь, что он сказал? В моем словаре, мол, нет слова «пенсия».
Кэти скрылась среди полок с книжками по саморазвитию. Делла настолько погрузилась в свой рассказ, что не пошла за ней следом. Она удрученно уставилась в пол. Ее переполняли гнев и недоумение – мужчины вечно цепляются за какие-то идеи, особенно с возрастом. Эти идеи напоминают приступы безумия, но мужья считают их озарением. «У меня идея!» – говорил вдруг Дик. Это могло произойти в любой момент – они ужинали или шли в кино, и вдруг его охватывало вдохновение, он замирал на месте и сообщал: «У меня появилась мысль!», после чего принимался чесать подбородок и строить планы.
Последней его идеей была гостиница вблизи Эверглейдса[46]. На полароидном снимке Делла увидела очаровательное, но обветшалое здание, окруженное дубами. На этот раз, однако, Дик уже начал действовать. Ничего не сказав жене, он взял кредит и воспользовался изрядной частью их накоплений, чтобы внести первый платеж.
– Теперь у нас есть собственная гостиница в Эверглейдсе! – объявил он.
Как бы Делле ни было больно сообщать об этом Кэти, она все же испытывала некоторое удовольствие. Она сжала бутылку с пивом обеими руками. В магазине было тихо, небо уже потемнело, соседние лавки закрылись. Казалось, что они тут хозяйки.
– И теперь на нас повисла эта чертова дыра, – говорит Делла. – Дик хочет переделать ее в апартаменты, а для этого надо переехать во Флориду. Ну и разумеется, он тащит с собой меня.
Кэти вернулась, толкая перед собой тележку. Делла предполагала, что подруга выразит сочувствие, но Кэти плотно сжала губы.
– Уезжаешь, значит? – спросила она холодно.
– У меня нет выхода. Он меня заставляет.
– Никто тебя не заставляет.
В последнее время Кэти освоила особый высокомерный тон, и сейчас говорила именно так. Как будто она прочла все книжки по саморазвитию, которые имелись в магазине, и теперь делилась с окружающими своими инсайтами и житейской мудростью.
– Ну что значит, не заставляет? Заставляет.
– А работа как же?
– Придется уволиться. Жаль, конечно, мне нравится работать, но…
– Но ты, как обычно, уступишь.
Это замечание было не только недобрым, но и несправедливым. Как, по мнению Кэти, Делле надо было поступить? Бросить мужа после сорока лет семейной жизни? Обзавестись отдельной квартирой и начать спать со всеми подряд, как делала Кэти, когда они познакомились?
– Если хочешь бросить работу и уехать во Флориду, ради бога, – говорит Кэти. – Но у меня работа пока что есть, и мне надо еще кое-что успеть до закрытия, извини уж.
Раньше они никогда не ссорились. Следующие несколько недель, когда Делле хотелось позвонить Кэти, она всякий раз понимала, что еще сердится. Да кем она себя возомнила? Они с Кларком сами собачатся не переставая.
Месяц спустя Кэти пришла сама – Делла как раз паковала последние коробки.
– Ты на меня сердишься? – спросила Кэти, когда Делла открыла дверь.
– Ну, ты себя иногда так ведешь, словно все знаешь лучше всех.
Возможно, это прозвучало слишком резко, потому что Кэти разрыдалась. Она бросилась к Делле и буквально провыла:
– Я буду по тебе скучать!
По лицу струились слезы, руки распахнулись, словно приглашая в объятия. Делла не одобряла ни слез, ни, пожалуй, объятий.
– Ну хватит, хватит, – сказала она. – А то и я расплачусь.
Кэти разревелась еще сильнее. Делла встревожилась.
– Мы же будем говорить по телефону. И переписываться. И навещать друг друга. Можешь приехать к нам в отель. Там наверняка полно змей и аллигаторов, но ты все равно приезжай.
Кэти не рассмеялась.
– Дик будет против, – сказала она сквозь слезы. – Он меня ненавидит.
– Ничего подобного!
– Ну так я его ненавижу! Делла, он ужасно с тобой обращается. Прости, но так и есть. А теперь заставил бросить работу и уехать во Флориду. И ради чего?
– Ладно, хватит об этом, – перебила Делла.
– Ладно. Просто я так злюсь!
Впрочем, Кэти начала успокаиваться.
– У меня для тебя есть подарок, – немного помолчав, сказала она и открыла сумку. – Недавно прислали в магазин из маленького издательства на Аляске. Мы не заказывали, но я начала читать и увлеклась. Не буду пересказывать, но сюжет – прямо про нас. Сама увидишь. – Она взглянула Делле прямо в глаза. – Иногда книги приходят в нашу жизнь не просто так, Делла. Это просто удивительно!
Делла никогда не знала, что ответить, когда на Кэти нападал мистический стих. Иногда она заявляла, что луна влияет на ее настроение, или наделяла совпадения скрытым смыслом. В тот день Делла поблагодарила подругу за книгу и сумела не расплакаться, когда они наконец попрощались.
На обложке были нарисованы две индианки в типи[47]. В последнее время Кэти увлекалась подобными историями о коренных американцах, восстаниях рабов на Гаити, рассказами о привидениях или сверхъестественных событиях. Некоторые Делле нравились, некоторые – нет.
Она сунула книгу в коробку с мелочами, которые не упаковала раньше.
Что же было потом? Она отправила коробку во Флориду вместе со всеми остальными вещами. Оказалось, что в их двухкомнатную хижину влезает не все, поэтому кое-что пришлось сдать на склад. Гостиница прогорела через год. Вскоре Дик заставил Деллу переехать в Майами, оттуда – в Дайтону, и, наконец, в Хилтон-Хед. Все это время он пытался добиться успеха. Только после его смерти, когда Делла проходила через процедуру банкротства, ей пришлось заняться вещами на складе и продать мебель. Перебирая ящики, которые приехали из Флориды почти десять лет назад, она вскрыла коробку со всякой мелочью, и из нее выпали «Две старухи».
В книге пересказывается одна из древних легенд атабасков[48] – автор, Бельма Уоллис, узнала ее в детстве. Эту легенду много поколений передают от матери к дочери, и в ней говорится о двух старухах, Чьидзигьяк и Са. Когда наступил голод, соплеменники оставили их и ушли. Иными словами, бросили умирать. Так было принято.
Однако две старухи не умерли. Оставшись в лесу, они разговорились. Раз уж они умеют охотиться, рыбачить и собирать грибы и ягоды, почему бы не заняться этим снова? Так они и поступили, и заново учились всему, что умели в молодости. Они охотились, ловили подо льдом рыбу, а как-то раз им пришлось прятаться от каннибалов. Такая история.
На одной из иллюстраций героини пробирались по тундре в куртках с капюшонами и сапогах из тюленьей кожи. Они тащили за собой санки, и та, что шагала впереди, горбилась чуть меньше, чем вторая. В подписи говорилось: «Наше племя ушло на поиски еды, в землю за горами, о которой нам рассказывали деды. Но нас с собой не взяли с собой, потому что мы ходим медленно, опираясь на палки».
Некоторые куски текста особенно выделялись – например тот, в котором Чьидзигьяк говорила: «„Знаю, ты уверена, что выживешь. Ты же молодая“. Она горько улыбнулась, потому что лишь накануне их обеих признали слишком старыми».
– Это же о нас, – сказала Делла, когда наконец дочитала книгу и позвонила Кэти. – Одна моложе второй, но они обе в одной упряжке.
Сначала это была шутка. Их забавляло сравнивать свою жизнь в пригороде Детройта, сельском Нью-Гэмпшире, с борьбой за выживание, которую вели две старухи. Однако совпадения были очевидны. Делла переехала в Контукук, чтобы быть поближе к Робби, но два года спустя он уехал в Нью-Йорк – и оставил ее в лесу. Книжный магазин Кэти закрылся. Она начала торговать домашними тортами. Кларк вышел на пенсию и целыми днями торчал перед телевизором, очарованный ведущими прогнозов погоды. Пышногрудые прелестницы в узких ярких платьях колыхались перед картами, словно имитируя движения погодных фронтов. Все четверо сыновей Кэти покинули Детройт. Теперь они жили далеко, по ту сторону гор.
Кэти и Делла особенно любили одну из иллюстраций. На ней Чьидзигьяк бросала томагавк, а Са наблюдала за ней. «Если мы увидим белку – убьем ее томагавком, как делали в молодости», – гласила подпись.
Это стало их девизом. Когда одна из подруг расстраивалась или сталкивалась с проблемой, вторая говорила: «Время взяться за томагавк». Это значило: действуй, не ной.
С инуитскими старухами их роднило кое-что еще. Соплеменники бросили Чьидзигьяк и Са не только потому, что те состарились. Они постоянно жаловались. Вечно ныли, что у них что-то болит.
Мужья часто говорят, что их жены слишком много ноют. Но ведь это тоже нытье. Эдакий способ заткнуть женщин. Но Делла и Кэти понимали, что отчасти сами виноваты в своих несчастьях. Они позволяли проблемам нагноиться, они поддавались дурному настроению и дулись. Даже если мужья спрашивали, что случилось, они отмалчивались. Слишком приятно быть жертвой. Облегчив душу, они перестали бы быть собой.
Почему же ныть было так приятно? Почему после сеанса жалоб вы с сострадалицей чувствовали себя словно после сауны – обновленными, свежими, бодрыми?
Делла и Кэти порой надолго забывали о «Двух старухах». Затем одна из них перечитывала книгу и, преисполнившись энтузиазма, уговаривала подругу перечитать ее. Эта книга отличалась от детективов и триллеров, которые они обычно читали. Она скорее напоминала учебник жизни. Она вдохновляла их. Они бы не потерпели критических замечаний в ее адрес от своих высокомерных сыновей. Но теперь уже не было нужды защищать книгу. Продано два миллиона экземпляров! Юбилейное издание! Они были правы.
Когда Кэти приезжает в «Уиндем Фолз» на следующее утро, воздух пахнет снегом. Температура упала, и все вокруг словно застыло – ветра нет, птицы спрятались.
В детстве, в Мичигане, ей нравилась подобная зловещая тишина. Это значило, что уроки отменят и можно будет остаться дома с мамой и строить во дворе снежную крепость. Даже теперь, в семьдесят, она неизменно радуется метелям. Но теперь в ее предвкушении кроется некое тайное желание – стремление исчезнуть или очиститься. Размышляя о переменах климата и грядущих мировых катаклизмах, Кэти порой думает: да ладно, мы сами виноваты. Надо начать заново. С чистого листа.
Делла уже одета и готова к выходу. Кэти говорит, что она прекрасно выглядит, но не может удержаться от замечания:
– Скажи парикмахерше, чтобы не использовала кондиционер. У тебя слишком тонкие волосы. Кондиционер убивает весь объем.
– Сама попробуй ей что-нибудь сказать! – говорит Делла, переставляя ходунки. – Она меня не слушает.
– Тогда пусть Беннетт отведет тебя в салон.
– Конечно. Так и побежал.
Пока они выходят на улицу, Кэти отмечает про себя – написать Беннетту. Возможно, он просто не понимает, как такая мелочь – свежая прическа – поднимает настроение.
Передвигаются они медленно из-за ходунков Деллы. До парковки им приходится преодолеть пешеходную дорожку и бордюр. Когда они добираются до автомобиля, Кэти усаживает Деллу на пассажирское сиденье, а потом идет к багажнику и убирает туда ходунки. На то, чтобы понять, как их сложить и поднять сиденье, уходит некоторое время.
Затем они отправляются в путь. Делла наклоняется вперед, тревожно следит за дорогой и дает Кэти указания.
– Да ты уже ориентируешься, – говорит Кэти одобрительно.
– Ага. Может, таблетки сработали.
Сама Кэти поехала бы за рамками в какой-нибудь хороший магазин типа «Поттери Барн» или «Крэйт-энд-Бэррел», но Делла просит отвезти ее в магазин подержанных товаров в ближайшем торговом центре. Припарковавшись, Кэти проделывает то же самое в обратном порядке: раскладывает ходунки и приносит их Делле, чтобы та могла выбраться наружу. Тронувшись с места, Делла развивает неплохую скорость.
Войдя в магазин, они словно окунаются в прошлое. Они двигаются по ослепительно освещенному залу со сверкающими полами и хищно водят взглядами, словно ищут предметы на скорость.
Рамы находятся в дальней части зала. На полпути линолеум под ногами сменяется цементом.
Увидев отдел посуды, Делла говорит, что ей нужны новые стаканы, и подруги меняют курс.
– Надо бы поосторожнее, – замечает Делла. – А то костей не соберу.
Кэти берет ее под руку. Когда они подходят к полкам, она говорит:
– Постой здесь, я посмотрю.
Сложнее всего найти несколько одинаковых рамок – как оно обычно и бывает с подержанными товарами.
Все в беспорядке. Кэти перебирает рамы разных цветов и размеров. Минуту спустя ей удается найти несколько одинаковых черных деревянных рамок. В этот момент она слышит какой-то звук – даже не вскрик, скорее, резкий вдох. Она поворачивается и видит удивленную Деллу. Она потянулась, чтобы достать что-то – Кэти не знает, что именно, – и рука соскольнула с ходунков.
Много лет назад, когда у Деллы и Дика еще была лодка, Делла чуть не утонула. Она поскользнулась, пытаясь взобраться на борт, и погрузилась в мутно-зеленую морскую воду.
– Я же так и не научилась плавать, – рассказывала она Кэти. – Но я даже не испугалась. Там было как-то спокойно. Но мне все же удалось вынырнуть. Дик вопил и звал на помощь, но потом все-таки вытащил меня.
Должно быть, сейчас Делла выглядит именно так, как тогда, под водой. Изумленной. Спокойной. Словно за дело взялись силы, над которыми она не властна, и больше нет смысла сопротивляться.
На этот раз чуда не происходит. Делла падает прямо на полки. Кожа руки с резким звуком сдирается о металлический край. Висок бьется о другую полку. Кэти кричит. Стекло разлетается вдребезги.
Деллу оставили в больнице на ночь. Сделали МРТ, чтобы проверить, нет ли кровоизлияния в мозг, просветили на рентгене бедро, наложили эластичную повязку на руку – через неделю ее снимут и посмотрят, зажила ли кожа. В таком возрасте шансы пятьдесят на пятьдесят.
Все это им рассказывает доктор Мета, молодая женщина, которая выглядит так роскошно, будто играет врача в сериале. На шее с круговыми морщинами – две нити жемчуга. Серое вязаное платье свободно ниспадает, не скрывая изгибы пышного тела. Единственный свой недостаток – тощие икры – она маскирует броскими чулками в ромбик. На ногах – серые туфли на высоких каблуках, цветом идеально подходящие к платью. Доктор Мета представляет собой новое для Кэти явление – молодое поколение женщин, которые превзошли ее не только на профессиональном поприще, но и в украшении себя (это занятие раньше считалось старомодным). На пальце у нее обручальное кольцо с внушительным бриллиантом. Возможно, выходит замуж за другого доктора, и они объединят свои кругленькие зарплаты.
– А если рана не заживет? – спрашивает Кэти.
– Тогда повязку придется оставить.
– Навсегда?
– Давайте посмотрим, что будет через неделю, – говорит доктор Мета.
Проходит несколько часов. Уже семь вечера. У Деллы начал проявляться фингал. В половину девятого врачи решают оставить ее для дальнейшего наблюдения.
– Вы хотите сказать, что мне нельзя домой? – спрашивает Делла доктора Мету. Голос ее звучит жалобно.
– Пока что нет. Нам надо за вами понаблюдать.
Кэти решает остаться с Деллой на ночь. Ядовито-зеленый диван раскладывается в кровать. Медсестра обещает принести простыню и одеяло.
Пока Кэти сидит в кафе и утешает себя шоколадным пудингом, приезжают сыновья Деллы.
Много лет назад сын Кэти, Майк, заставил ее посмотреть фантастический фильм о наемных убийцах, которые возвращаются на землю будущего. На экране происходила совершенно обычная нелепая кутерьма, но Майк, который тогда учился в колледже, утверждал, что сцены с акробатическими потасовками наполнены глубочайшим философским смыслом. Картезианским, сказал он.
Кэти так ничего и не поняла. Однако именно этот фильм приходит ей в голову, когда в зале появляются входят Беннетт и Робби. Их бледные неулыбчивые лица и темные костюмы выглядят одновременно невзрачно и зловеще, словно они – тайные агенты. Которые ее нашли.
– Это моя вина! – говорит Кэти, когда они подходят. – Я за ней не уследила.
– Не вините себя, – говорит Беннет. Эти слова кажутся проявлением доброты, пока он не добавляет. – Она уже старая. Она падает. Это обычное дело.
– Все из-за атаксии[49] – говорит Робби.
Кэти не хочет знать, что такое атаксия. Очередной диагноз.
– Все было хорошо, пока она не упала, – говорит она. – Мы чудно проводили время. Потом я на секунду отвернулась – и все.
– Секунды достаточно, – говорит Беннет. – Это невозможно предотвратить.
– Она принимает арицепт, но это паллиативное средство, – говорит Робби. – Если у него и есть какой-то эффект, то его хватает на год-два.
– Вашей матери восемьдесят восемь. Двух лет вполне достаточно.
Подтекст висит в воздухе, пока Беннет не отвечает:
– Но она все время падает. И попадает в больницу.
– Надо ее отдать в другое место, – говорит Робби, повышая голос. – «Уиндем» ей не подходит. Нужен постоянный контроль.
Робби и Беннет – не сыновья Кэти, они старше и не нравятся ей. Она не чувствует с ними никакой связи. И все же они напоминают ей Майка, а чем, ей и думать не хочется.
Ни один из них не предложил матери перебраться к нему. Робби все время в разъездах. У Беннетта дома слишком много лестниц. Но больше всего Кэти беспокоит не их эгоизм. Дело в том, как они раздуваются от собственной практичности, просто-таки сочатся ею. Они хотят быстро и окончательно решить проблему, прилагая как можно меньше усилий. Они убедили себя, что действуют благоразумно и не дают эмоциям затмить разум, но на самом деле их желание быстро со всем разобраться продиктовано именно эмоциями – страхом, чувством вины, досадой.
И кто им Кэти? Старая мамина подруга. Та, которая работала в книжном. Та, которая как-то накурила маму.
Кэти отворачивается и оглядывает кафетерий, который понемногу заполняется сотрудниками больницы – у них начался обеденный перерыв. Она устала.
– Ладно, – говорит она. – Не говорите ей пока. Подождем.
Медицинские аппараты всю ночь щелкают и жужжат. Время от времени мониторы начинают тревожно пищать, и Кэти просыпается. Каждый раз приходит медсестра, всякий раз новая, и выключает сигнал. Видимо, он ничего не обозначает.
В комнате ужасно холодно. Кондиционер дует прямо на Кэти. Выданное ей одеяло не толще туалетной бумаги.
Детройтская подруга Кэти вот уже тридцать лет посещает психотерапевта и недавно поделилась одним из его советов: не обращайте внимания на ночные страхи. Наша психика по ночам находится в упадке и не может защищать себя. Вам кажется, что вы отчаялись, но это не так. Это всего лишь умственная усталость, выдающая себя за озарение.
Кэти напоминает себе об этом, лежа без сна на неровном матрасе. Невозможность помочь Делле повергает ее в пучину нигилистических размышлений. Ее терзает страшное предчувствие. На самом деле, она не знает, что за человек Кларк. В их браке нет близости. Если бы Майк, Джон, Крис и Палмер не были бы ее детьми, она бы относилась к ним неодобрительно. Всю жизнь она угождает людям, которые потом исчезают, – словно тот книжный, где она раньше работала.
Наконец к ней приходит сон. Наутро Кэти просыпается и чувствует, как у нее все затекло, но с радостью убеждается, что психотерапевт был прав – солнце взошло, и мир уже не так мрачен. Но частичку этой тьмы надо сохранить, поскольку Кэти приняла решение. Эта мысль так и пылает у нее внутри. В этом нет ничего доброго или милого – это настолько новое чувство, что она не знает, как его назвать.
Когда Делла приходит в себя, Кэти сидит рядом с ее кроватью. Она ничего не говорит о доме престарелых. Вместо этого она произносит:
– Доброе утро, Делла. Знаешь, какое настало время?
Делла мигает. Она еще не совсем проснулась.
– Время взяться за томагавк, – говорит Кэти.
Когда они пересекают границу штата Массачусетс, начинает идти снег. До Контукука осталось два часа. Навигатор служит им маяком, поскольку вокруг ничего не видно.
Кларк узнает о метели из прогноза погоды. Он позвонит или напишет, беспокоясь, что ее рейс отменят.
Бедняга и не представляет.
Они едут в машине, шуршат дворники, пахнет незамер-зайкой, и Делла, кажется, не очень понимает, что происходит. Она все время спрашивает одно и то же:
– А как мы попадем в дом?
– Ты же говоришь, что у Герти есть ключ.
– Точно. Я забыла. Тогда мы возьмем ключ у Герти и откроем дом. Там будет очень холодно. Мы держали отопление на самом низком уровне, чтобы сэкономить. Только чтобы трубы не замерзли.
– Прогреем все, когда приедем.
– И я буду там жить?
– Мы будем там жить вместе. Пока не решим, что дальше. Наймем приходящую сиделку. И будем заказывать еду на дом.
– Это дорого, наверное.
– Не обязательно. Разберемся.
Повторяя одно и то же, Кэти сама начинает в это верить. Завтра она позвонит Кларку и скажет, что ей надо остаться с Деллой на месяцок. Он не обрадуется, но как-нибудь переживет. А она потом придумает, как загладить вину.
Беннетт и Робби – проблема посерьезнее. У нее в телефоне уже висит три сообщения от Беннетта и одно – от Робби, плюс сообщения на автоотвечике. Спрашивают, куда они с Деллой подевались.
Тайком вызволить Деллу из больницы оказалось куда проще, чем предполагала Кэти. Капельницу, к счастью, уже сняли. Кэти просто провела ее по холлу, словно на прогулке, а потом они направились к лифтам. Пока шагали к машине, она ждала, что вот-вот зазвонит сирена, и за ними побегут охранники. Но ничего не произошло.
Снег ложится на деревья, но не на шоссе – пока что. Когда машин становится поменьше, Кэти выбирается из правой полосы. Она превышает скорость – ей хочется приехать до темноты.
– Беннетт и Робби будут недовольны, – говорит Делла, глядя на метель. – Думают, что у меня уже не хватает мозгов жить в одиночестве. Может, они и правы.
– Ты же не будешь в одиночестве, – отвечает Кэти. – Я поживу с собой, пока мы не разберемся.
– Не уверена, что с деменцией можно разобраться.
Вот оно – болезнь названа вслух. Кэти косится на Деллу, чтобы понять, отметила ли она сама этот момент, но та сохраняет смиренный вид.
Когда они добираются до Контукука, снега уже насыпало столько, что они не уверены, удастся ли взобраться на холм. Кэти въезжает на подъем на хорошей скорости и, чуть по-буксовав, добирается-таки до вершины. Их возвращение начинается на триумфальной ноте.
– Купим продукты утром, – говорит Кэти. – Сейчас слишком сильный снегопад.
На следующее утро, однако, снег не прекращается. Он продолжает идти весь день, пока автоответчик Кэти забивается сообщениями Робби и Беннетта. Она не осмеливается отвечать.
Как-то раз, когда они с Деллой только подружились, Кэти забыла оставить Кларку ужин в холодильнике. Когда она вернулась домой вечером, он так и накинулся на нее:
– Вечно ты с этой Деллой! Вы словно парочка лесбиянок!
Дело было не в этом. Никаких запретных страстей. Они просто возмещали друг другу недостачи в тех областях жизни, которые оказались менее удовлетворительными, чем обещалось. Брак, например. Или материнство – куда в большей степени, чем они готовы были признать.
Кэти читала в газете о некой женской группе, своеобразном движении. Участницы этой группы, женщины средних лет и старше, наряжались в пух и прах и носили яркие шляпы – то ли розовые, то ли лиловые, она уже забыла. Группа прославилась этими шляпками. Они заполняли целые рестораны. Мужчины в группу не допускались. Женщины наряжались друг для друга, и к черту всех остальных. Когда Кэти рассказала об этом Делле, та ответила:
– Я бы не стала выряжаться и нацеплять какую-то идиотскую шляпу ради ужина с посторонними тетками. Может, мне с ними и говорить не захочется. И потом, у меня уже не осталось нарядов.
Может быть, Кэти сходит в эту группу сама. Когда устроит Деллу. Когда вернется в Детройт.
Кэти находит в морозилке булочки и размораживает их в микроволновке. Кроме того, есть какая-то замороженная готовая еда и кофе. Его можно пить и без молока.
Лицо у Деллы выглядит неважно, но в остальном она пришла в себя. Она рада, что выбралась из больницы. Там было невозможно спать – шум, суматоха, вечно кто-нибудь приходит, чтобы тебя осмотреть и отвезти на очередное обследование.
Или же вообще никто не приходит, сколько ни жми на кнопку.
Уехать в метель казалось безумием, но им повезло, что они выбрали именно этот день. Подожди они хоть немного, и уже не добрались бы до Контукука. Холм стал скользким. Снег засыпал дорожку и ступени у заднего входа. Но когда они оказались внутри дома и включили отопление, стало очень уютно. Снег сыпался за окнами, точно конфетти.
По телевизору ведущие встревоженно рассказывали о метели. Дорога в Бостон и Провиденс перекрыта. Морские волны выкатились на берег и замерзли, покрыв дома коркой льда.
Они застряли в доме на неделю. Сугробы наполовину перекрыли заднюю дверь. Даже если им удалось бы добраться до автомобиля, на дорогу они бы не выехали. Кэти пришлось позвонить в прокатную компанию и продлить время аренды. Делле неловко, она предлагает заплатить, но Кэти против.
На третий день заточения Кэти вдруг слетает с дивана с возгласом:
– Текила! У нас не осталось текилы?
В шкафчике над плитой обнаруживается бутылка текилы и полбутылки смеси для Маргариты.
– Ну теперь-то точно выживем, – говорит Кэти, потрясая бутылкой. Они хохочут.
Каждый вечер около шести, прежде чем включить Брайана Уильямса[50], они готовят в блендере ледяную Маргариту. Делла волнуется, стоит ли в ее состоянии пить алкоголь. С другой стороны – кто на нее донесет?
– Никто, – говорит Кэти. – Я же тебя балую.
Иногда идет снег, и тогда Делла снова начинает путать время. Ей кажется, что метель так и не утихала, и она только что вернулась из больницы.
Как-то раз она смотрит на календарь и замечает, что наступил февраль. Прошел месяц. Заглянув в зеркало в ванной, она видит, что фингал исчез – осталась лишь желтая тень в углу глаза.
Каждый день Делла читает по несколько страниц. Она делает это довольно уверенно. Взгляд ползет по словам, которые звучат у нее в голове и пробуждают образы. Порой сложно понять, читает ли она или вспоминает сто раз перечитанные абзацы. Но она решает, что это не важно.
– Вот теперь мы точно как эти две старухи! – говорит как-то Делла Кэти.
– Только я все равно моложе. Не забывай.
– Точно. Ты молодая старуха, а я – старая старуха.
Им не приходится охотиться или заниматься собирательством. Соседка Деллы, Герти, вдова священника, притаскивает им хлеб, молоко и яйца с рынка. Лайл, дом которого стоит позади Деллиного, пробирается к ним по заснеженному двору и приносит прочие продукты. Электричество работает. Это самое важное.
Лайл подрабатывает тем, что убирает снег. Он откапывает их подъездную дорожку, и Кэти отправляется за покупками на арендованной машине.
У них появляются посетители. Физиотерапевт заставляет Деллу выполнять упражнения на равновесие и очень строг с ней. Приходящая медсестра осматривает ее. Соседская девочка готовит простые блюда в те вечера, когда Делла не пользуется микроволновкой.
К тому моменту Кэти уже уехала. Ее сменил Беннетт. Он приезжает на выходные и проводит с Деллой воскресный вечер, а в понедельник встает пораньше и отправляется на работу. Несколько месяцев спустя у Деллы начинается бронхит – как-то утром она просыпается, задыхаясь, и скорая помощь увозит ее в больницу. Из Нью-Йорка приезжает Робби и проводит у бабушки неделю, пока ей не становится лучше.
Иногда Робби привозит с собой подружку, канадку из Монреаля, которая зарабатывает тем, что разводит собак. Делла особо о ней не расспрашивает, хотя держится вполне дружелюбно. Личная жизнь Робби больше ее не касается. Делле осталось немного, так что теперь уж все равно.
Иногда она берет «Двух старух», чтобы почитать еще немного, но добраться до финала ей никак не удается. Это тоже не важно. Она знает, чем все кончится. Старухи переживут суровую зиму, и когда изголодавшиеся соплеменники вернутся, старухи научат их всему, что узнали. И с тех пор это индейское племя больше никогда не будет бросать своих стариков.
Делла много времени проводит одна. Ее помощники после работы уходят домой, или же у них выходной, а Беннетт занят. Снова наступила зима. Прошло два года. Ей почти девяносто. Кажется, она не особенно глупеет – разве что самую чуточку. Почти незаметно.
Снова идет снег. Остановившись у окна, Делла ощущает непреодолимое желание выбраться. Уйти так далеко, как унесут ее старые ноги. Ей даже трость не понадобится. Ничего не понадобится. Делла смотрит, как снег вьется у оконного стекла, и ей кажется, будто она заглядывает в свой мозг. Ее мысли теперь ведут себя также – постоянно кружатся, перемещаются, и в голове царит такая же белая мешанина. Выйти в снег, затеряться в нем – для нее это будет обычное дело. Словно внешнее наконец придет в согласие с внутренним. Все вокруг белое. Иди. Не останавливайся. Возможно, она встретит там кого-то – или же нет. Например, друга.
2017
Благодарности
Выражаю благодарность редакторам Питеру Ститту, Д. Д. Макклетчи, Брэдфорду Морроу, Биллу Бафорду, Крес-сиде Лейшон и Деборе Трейсман.
Благодарю за первые публикации ранних версий нижеперечисленных рассказов:
«Воздушная почта» в «Йель Ревью», октябрь 1996 г.;
«Спринцовка» в «Нью-Йоркере», 17 июня 1996 г.;
«Старинная музыка» в «Нью-Йоркере», 10 октября 2005 г.;
«Таймшер» в «Конджанкшне», выпуск 28, весна 1997 г.;
«Найти виноватого» в «Нью-Йоркере» 18 ноября 2013 г.;
«Прорицание вульвы» в «Нью-Йоркере», 21 июня 1999 г.;
«Прихотливые сады» в «Геттисберг Ревью», зима 1989 г.;
«Великий эксперимент» в «Нью-Йоркере», 31 марта 2008 г.
Примечания
1
Христианская наука – околохристианское религиозное учение, основная идея которого – исцеление через веру.
(обратно)2
Мохандас – настоящее имя Махатмы Ганди, Махатма же – титул, означающий «великая душа»).
(обратно)3
Чилим – курительная трубка.
(обратно)4
Биди – тонкая азиатская сигарета-самокрутка.
(обратно)5
Майя в буддизме и индуизме – это иллюзия, скрывающая истинную природу вещей.
(обратно)6
Идли – небольшие рисовые лепешки, самбар – чечевичный соус с овощами.
(обратно)7
Мегила – трактат Талмуда.
(обратно)8
Рейксмузеум – главный художественный музей Амстердама.
(обратно)9
Лунги – традиционная мужская одежда в Индии, которая обматывается вокруг талии, тип саронга.
(обратно)10
Техника Александера – комплекс физических упражнений, призванный обучить правильному и гармоничному движению.
(обратно)11
Бароло – итальянское вино, считается одним из лучших в мире.
(обратно)12
Фрикасе из кролика (фр.).
(обратно)13
Хорошо темперированный (нем.).
(обратно)14
Свободный университет (нем.) – крупнейший университет в Берлине.
(обратно)15
Коммунальной квартиры (нем.).
(обратно)16
Тангенты – металлические клинышки, присоединявшиеся к задним концам клавиш старинных клавикордов. Благодаря им извлекался особый звук, похожий на тот, который издавали смычковые инстументы. – Примеч. ред.
(обратно)17
Менно ван Делфт – современный нидерландский исполнитель старинной музыки. Пьер Гуа – швейцарский пианист.
(обратно)18
Окала – город в штате Флорида.
(обратно)19
Чарли Дэниелс (род. в 1936) – американский кантри-певец, обладатель премии «Грэмми». – Примеч. ред.
(обратно)20
South by Southwest (SXSW) – ежегодное мероприятие, проходящее в г. Остин в Техасе с 1987 г. В его рамках проводятся музыкальный и кинофестиваль, различные конференции и семинары. – Примеч. ред.
(обратно)21
Пиво «Pabst Blue Ribbon» – американский сорт лагера.
(обратно)22
George Dickel – марка тенессийского виски. – Примеч. ред.
(обратно)23
«Искатели» – фильм-вестерн Джона Форда (1956 г.). Джон Уэйн сыграл в нем бывшего солдата конфедерации, который разыскивает свою племянницу, похищенную индейцами. – Примеч. ред.
(обратно)24
Казуарины – вечнозеленые кустарники и деревья, побеги которых немного напоминают хвощи.
(обратно)25
Ксавьера Холландер (род. в 1943) – американская журналистка и писательница, в прошлом – девушка по вызову и хозяйка публичного дома. Вела колонку сексуальных советов в журнале «Пентхаус». – Примеч. ред.
(обратно)26
Бердаши в индейских племенах Северной Америки – люди, выполняющие гендерные функции и носящие одежду противоположного пола.
(обратно)27
Пер. М. Е. Сергеенко
(обратно)28
Епископальная церковь – протестанская церковь Англиканского сообщества в США.
(обратно)29
Джеймс Миченер (1907–1997) – американский писатель, автор исторических саг.
(обратно)30
Вилланелла – форма лирического стихотворения сложной композиции в староитальянской поэзии.
(обратно)31
Здесь и далее цит. по кн.: «Демократия в Америке», пер. с фр. В. Олейника, Е. Орловой, И. Малаховой, И. Иваняна, Б. Ворожцова. – М.: Издательство «Весь Мир», 2000.
(обратно)32
Кеннет «Кен» Лэй – американский бизнесмен, осужденный за мошенничество, приведшее к банкротству корпорации «Энрон», в которой он был генеральным директором.
(обратно)33
Хильда Дулитл (1886–1961) – американская поэтесса, вместе с Ричардом Олдингтоном основавшая новое направление в поэзии – имажизм.
(обратно)34
Бернард Эбберс – американский бизнесмен, осужденный за мошенничество и фальсификацию финансовой отчетности компании «ВорлдКом», в которой он был генеральным директором. Деннис Козловски – бывший генеральный директор компании «Тико Интернешнл», осужденный за финансовое мошенничество.
(обратно)35
Джон Холландер (1929–2013) – американский поэт и литературный критик.
(обратно)36
Министра обороны США Джона Рамсфелда обвиняли в том, что он санкционировал пытки заключенных в Ираке.
(обратно)37
Переулком Жестяных Кастрюль (Tin Pan Alley) называли 28-ю улицу в Нью-Йорке, где находились магазины, торговавшие нотами и инструментами, музыкальные издательства и другие предприятия, связанные с музыкой. Впоследствии это выражение стало обозначать американскую музыкальную индустрию в целом.
(обратно)38
Дивали, или Фестиваль огней – главный праздник в индуизме. Дивали длится пять дней, и празднования включают в себя множество ритуалов.
(обратно)39
В первый день Дивали, Дантерас, принято, среди прочего, покупать кухонную утварь и украшения.
(обратно)40
Еще один обычай Дивали – наносить с помощью муки или краски на пол следы, которые символизируют ожидание прихода Лакшми, богини благополучия и процветания.
(обратно)41
Дантерас – первый день праздника Дивали.
(обратно)42
Дийя – лампада с гхи, топленым маслом.
(обратно)43
Чоли – женская блуза, часть национального праздничного костюма.
(обратно)44
Сальвар-камиз – традиционный наряд, состоящий из широких брюк и туники. Этот костюм часто носят девочки-подростки.
(обратно)45
Бернинг Мэн – ежегодный восьмидневный фестиваль в штате Невада.
(обратно)46
Эверглейдс – национальный парк в штате Флорида, заболоченная тропическая территория.
(обратно)47
Типи – переносной конусообразный дом кочевых индейцев.
(обратно)48
Атабаски – коренные индейцы Аляски.
(обратно)49
Атаксия – нарушение координации движений.
(обратно)50
Брайан Уильямс – американский ведущий вечерних новостей на канале NBC.
(обратно)

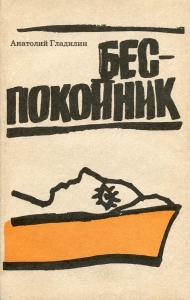

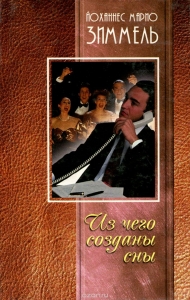



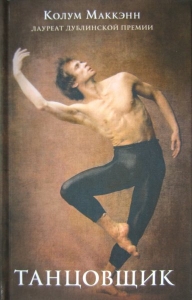
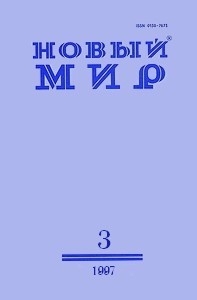
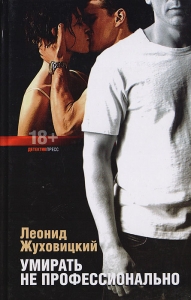


Комментарии к книге «Найти виноватого», Джеффри Евгенидис
Всего 0 комментариев