ИСЧЕЗНОВЕНИЕ (Роман)
1. Двоюродные братья
Двоюродные братья внешне были так похожи друг на друга, что им могли бы позавидовать не только некоторые родные братья, но и самые что ни на есть неразлучные и неразличимые близнецы, вроде Кастора с Поллуксом.
Сходство, как ртуть, проступало сквозь различия.
Братьев было трое: мелкий предприниматель Леонид Гайдебуров, крупный чиновник, руководитель важного ведомства Петр Петрович Куракин и шофер Колька Ермолаев. Ветвь кузенов украшала двоюродная сестра Мария. Корни их генеалогического древа залегали поблизости, в Карелии. Братья произошли от трех сестер, а Мария родилась от старшего брата этих трех сестер, летчика морской авиации. Дядя и тетки скончались. Теперь уже все. Сегодня хоронили последнюю, младшенькую, тетю Женю, мать Кольки Ермолаева. По этому прискорбному случаю и свиделись, и нечаянно сгрудились у краешка мира, на отшибе Петербурга, и присмотрелись друг к другу на долгую память с прямодушной обидой.
Братья выглядели сорокалетними, плотными и плотскими. Может быть, только ноги их были слегка мозглявыми, по сравнению с мясистыми туловищами, и животы были изрядно покатыми, по сравнению с чересчур поднятыми, как бурки, плечами. Каждый из братьев отметил про себя с ностальгическим ликованием дородность двух других и раздобревшие, рассыпчатые формы их некогда ломкой, визгливой подружки-сестрицы. У всех на скулах, лбах и шеях разместились повседневные красные, гипертонические кляксы. А у Куракина на носу примостились еще несколько загадочных розеол, впрочем, сливающихся с остальным телесным кумачом. Все братья были обладателями молодых, неглубоких, вырезанных по одному лекалу залысин, которые они, слава богу, не стремились нивелировать жеманными зачесами, а, напротив, ловили ими солнечные и космические блики. Два брата, Куракин и Ермолаев, носили почти одинаковые, убористые, толстые бороды, с хорошо выбритыми границами (под прямым углом на щеках и прямолинейно на горле), только у Куракина борода отливала темным, шерстяным светом ровнее, чем у Кольки Ермолаева. Гайдебуров же предпочитал бриться, с тем чтобы в излучинах его многократного, респектабельного подбородка копились и перемежались тени и свет. Таким же слоистым получался подбородок и у Марии, когда она опускала голову.
Совсем подозрительным и страшным представлялось разительное подобие кистей всех четверых родственников, особенно у братьев. Казалось, у них это была вообще одна и та же пара рук. Различие заключалось в степени ухоженности. Это была большая, прикладная, положительная ладонь. Пальцы росли как по линейке, свободно, без узлов. Интервал между ними соблюдался благородный. Не было бесцеремонной разбросанности, разлапистости, и вместе с тем они не липли друг к другу, не смыкались в клин, находились в некотором отдалении друг от друга, чтобы воздух между ними продолжал гулять. Особенно красиво смотрелся большой палец. Он был действительно большой и самодостаточный, конгениально переламывающийся у всех посередине, с лобастой верхней фалангой, привлекающий к себе внимание, как какой-нибудь гладкоголовый античный бюст. Большой держался на расстоянии от остальной четверки. В целом же это была крепкая, народная рука. И вела она себя в зависимости от ситуации по-народному. У Гайдебурова и Куракина под кожей сквозила незаметная, прирученная дрожь. Ермолаев у своей обгрыз все ногти. У Марии руки оставались в независимости от ситуации теплыми и спокойными. У нее же они были и самыми холеными. Далее, по уровню содержания, шли терракотовые, в редких звездочках и в черных, каких-то кавказских волосиках, с широким обручальным кольцом, шаловливо потираемые руки Куракина, которые он любил порой брать назад. Затем шли опрятные, но мокрые руки Гайдебурова и, наконец, — битые, с болячками и неясной татуировкой у запястья, мужицкие длани Кольки Ермолаева.
...Коля Ермолаев теперь страдал и поэтому вытирал пятернею рыдающие глаза, закрывая себе сразу полголовы. Особенно ему стало тяжело и плаксиво, когда мать отпевал моложавый батюшка, с чалым, как у лошади, хвостиком. Он отпевал старательно, не торопясь, не комкая псалмы, не пропуская важных для новопреставленной слов. Упокой душу в лоне Авраама, Исаака и Иакова. Очень хорошо было то, что священник совершал обряд не в одиночку, что ему помогали писклявыми фистулами старые женщины, приятельницы матери Кольки Ермолаева, и некая профессиональная, но бескорыстная плакальщица. Позади священника находился пришедший с ним мальчик, может быть, его сынишка, только не очень похожий на отца, какой-то чернявенький, цыганистый, стриженый и бесстрастный. Он подавал батюшке различные предметы, иногда целуя ему обшлаг подрясника, иногда забывая это делать. Батюшка что-то между делом шептал мальчику, и тот кивал головой. Когда батюшка окончил основное священнодействие, то повернулся к полукругу родни и, складывая в спортивную сумку ритуальные принадлежности, начал бесхитростную проповедь, стараясь не смотреть на лица людей, а больше наклоняясь к своей поклаже и к колючей макушке воспитанника. Батюшка повторял одну и ту же мысль несколько раз кряду, что надо ходить в церковь не только тогда, когда вам приспичит, когда вы по той или иной причине лишитесь своих богатств или заболеете или заболеют ваши домочадцы, но и тогда, когда у вас всё благополучно. Он твердил о необходимости нелицемерных молитв не только в трудную, но и в счастливую свою минуту. Научитесь не только просить, но и благодарить Бога. Морщинки под его зелеными глазами были не старческими, а, напротив, юношескими, словно присыпанными чистым песочком. Он говорил, что соединение с любимым, совершенным Богом нашим Иисусом Христом через молитву есть самое сладкое и самое полное соединение. Люди его понимали каждый по-своему, женщины всхлипывали, поглядывая на крохотное тело в гробу, а мужчины почтительно мрачнели. Громкие, уместные в такой момент вздохи словно подпирали своды хрупкой скорби.
Колька Ермолаев опасался того, что собравшиеся люди думают теперь не о себе, не о смерти и не о его матери, тете Жене, а думают о нем, Кольке Ермолаеве, с осуждением. Он и сам был переполнен какой-то внезапной, не известной до этого дня виной перед матерью. Он видел на ее детском, усохшем личике, завернутом в белый платок, огромные, безволосые, пустые ноздри, направленные вверх. Они зияли густой темнотой строго и отчужденно. Он не помнил, чтобы у матери при жизни были такие заметные полые ноздри. Он не понимал, чем он обидел мать накануне смерти и чем он обижал ее теперь. Он только повторял: «Маманя, маманя, прости меня». Люди его слова одобряли, как любят одобрять всякое публичное, даже напрасное, раскаяние. Он недоумевал, почему не пришла на похороны Иветта, которая считалась теперь его невестой, которую он представил матери как свою будущую жену. Явилась даже бывшая его супруга, чтобы посмотреть на него издали с грубой иронией и сесть на табуретку рядом с огорченным профилем полузабытой свекрови, — вконец подурневшая, с обвислыми серыми прядями, с рахитичным пузцом, с серным запахом неутоленной мести.
Матери Кольки Ермолаева в Иветте понравилась лишь ее внешность, вернее, именно эта молодая, эффектная внешность матери Кольки Ермолаева как раз и не понравилась. Мать заподозрила обычную экспансию, когда увидела рядом со своим мешкотным и воодушевленным сыном, одетым в рваный, рабочий свитерок, слишком рослую, белокурую штучку на каблуках, которая даже не удосужилась разуться, прежде чем пройти в комнаты. Лицо ее было свежее, ясное, прозрачное, но лисье. Ресницы у нее были длинные, но редкие. Губы складывались в мягкий, симметричный узор, но над ними, стоило ей чуть-чуть улыбнуться одною стороной, образовывалась такая неприятная, хулиганская складка, что хоть глаза зажмуривай, чтобы с души не стало воротить. Старая женщина с болезненным пониманием посмотрела тогда перед собой на пол, на две пары ног, поставленные рядом, как будто отрубленные, одни — в узконосых, фиолетовых, с ажурной перфорацией сапожках, другие, сына Кольки, — распухшие, в грязно-белых камвольных носках, словно забинтованные. Мать начинала предостерегать сына: «Иветта эта — блядь. Ты говоришь, живет в общежитии? Правильно, тащи ее в дом, прописывай. Я-то умру скоро, а тебя она выгонит на улицу. Бомжом станешь, сыночек. Блядь она, сыночек». — «Маманя, маманя, при чем здесь, что ты говоришь? Она мне подходит». — «Она блядь, сыночек». — «Маманя, маманя, при чем здесь, зачем ты так говоришь?!»
Тело тети Жени везли на кладбище нелепым, будто показательным маршрутом, по линиям, по набережным, по Фонтанке, словно давали огромному городу возможность проститься с бедной, маленькой, старой женщиной как с какой-то значительной персоной, за которой стоит великое, до конца не оцененное явление. Предположить же обратное, что это умершей бабушке в качестве благотворительности позволяли в последний раз лицезреть Петербург, было бы еще большим нонсенсом. Во-первых, Петербург для тети Жени ничего особенного не значил, но даже если бы он что-то и значил — есть ли на свете нечто более путаное и несовместимое, чем легендарный образ Петербурга и конкретное, безвестное, бездыханное тело?
Новочадов, гражданский муж Марии, с недоумением теперь переводил взгляд то на гроб с тетей Женей, то на очередной городской знаменитый ракурс. Он предположил, что эта традиция возить трупы через центр Питера берет свое начало с блокады, со времени, когда саночки с мертвецами вереницей скользили по Невскому проспекту. Тетю Женю, таким образом, везли по инерции, согласно зову предков.
В Петербурге продолжали мостить и асфальтировать. Вдалеке на строительном объекте виднелся один из городских начальников. На ветру его лицо пунцовело, рот ходил ходуном, а крика не было слышно. Он кого-то, вероятно, отчитывал, он внушал, что настоящая красота есть вот эти самые строительные леса, цементная пыль, эти самые недоделки, а то, что будет потом сиять, это уже не красота, а недвижимость. В желтых зданиях угадывался европейский шик. Там жили банкиры, пивовары, популярные артисты, барды.
Тетя Женя покачивалась в гробу безучастно.
Недалеко от Аничкова моста, рядом с Шереметевским дворцом, надолго увязли в пробке. Кладбищенский автобус, расписанный изумрудными крестами и вензелями, не меньше, чем остальной транспорт, проявлял житейское нетерпение, безбожно маневрировал, сигналил, уповал на сочувствие другого транспорта. Соседние машины считали доброй приметой держать в поле зрения похоронную процессию и неохотно уступали путь катафалку, полагая, что тому некуда спешить.
Капитальный ремонт в Петербурге не обходится без волшебства. С моста в автобус заглядывали бешеные кони. На Аничков мост они вернулись какими-то облегченными, словно вылепленными из пластилина. Голые архаровцы, казалось, могли смутить мертвую тетю Женю, казалось, сквозь опущенные веки она могла еще стыдливо любоваться их неистовой наготой. Новочадов теперь вынужден был испытывать эту целомудренную неловкость за покойную тетю Женю. Он не знал ее живую. Но, проведя в предпохоронных хлопотах три дня рядом с мертвой тетей Женей, почти сдружился с нею. И она, казалось, стала узнавать его среди других. По крайней мере, свечи при его появлении в комнате с ее гробом начинали трепыхать сильнее из стороны в сторону...
В землю тетя Женя ушла легко, гроб опускался как пушинка. Небо, несмотря на позднюю осень, было солнечным и неподвижным. Суглинок был вывернут наизнанку, и вниз, на крышку гроба, падали светлые, чистые комья. Колька Ермолаев зарыдал, когда гроб совсем исчез из виду. Мария поежилась от страшного любопытства: как там внизу, под землей? Подняли большой красивый крест, и Колька Ермолаев сразу успокоился. Мария раздала всем карамельки — помянуть, любимые конфеты покойной — «Сливочные». Новочадов любил похороны, на них печаль граничит с главным чаянием, уголки природы кажутся одушевленными, а люди — безыскусными. Они чувствуют, что с человека, которого они хоронят, слетели все грехи, страхи и сама смерть.
Новочадов думал теперь, какой воскреснет тетя Женя. Не вернется же она опять старой и больной? Нет, вечность она встретит в прекрасном, стройном, ароматном теле. Она будет выглядеть такой, какой, вероятно, мечтала выглядеть, без изъянов, без порчи, без следов здешнего времени. По нашим меркам, она будет молодой и привлекательной, по нашим меркам, она будет нестерпимо соблазнительной. Новочадов хотел верить тому, что, переходя в загробный мир, тело меняется с душой местами: там незримое тело находится в осязаемой душе, как здесь — наоборот. Там томится тело, как здесь душа.
Тете Жене выпало хорошее, сухое место у кладбищенской дороги, вдали от болота. И соседи ей достались приличные: рядом лежала двадцатилетняя улыбчивая девушка, с другого бока вырыли могилу для отставного полковника. Ни наркоманов тебе, ни задиристых алкашей, ни бандитов. У последних проложены свои душещипательные аллеи, посыпанные гранитной крошкой, с любимыми елочками и березками, с черными зеркальными камнями, с коваными оградами, с барельефами и горельефами, с золочеными перстнями на мраморных оттопыренных перстах, с впаянными в памятники автомобильными рулями от BMW, с удаляющейся к перелеску перспективой, с эпитафиями типа:
«Здесь спит Вован, пацан конкретный. Жизнь наша — пепел сигаретный».Новочадов вспоминал своего отца. Тот умирал с тихой, смущенной, осознаваемой виноватостью. Сквозь эту стыдливую грусть отец, казалось, надеялся увидеть в сыне не легкомысленное, стремительное сочувствие, а подлинное горе. Но не увидел. Вот что теперь мучило зрелого Новочадова. Отец, казалось, понимал, что виноват не только перед семьей, женой и детьми, а виноват вообще перед жизнью, в конце концов, перед Богом, который даровал ему эту жизнь, а другого обошел, а он, отец, ее бестолково, с крайней беспечностью профукал. Отец боялся, глядя на суетливые жесты сына, что и тот свою жизнь проведет столь же несообразно. Он видел в сыне то же самое — свое генетическое проклятье, залихватскую, отчаянную бестактность: ты, Господи, меня таким несуразным сотворил, ты и расхлебывай мое ничтожество. Юный сын и губы кривил так же отвратительно и тщеславно, как его отец в свое время. Новочадов замечал, что и у других людей обида на родителей разъедалась виной перед ними. Это противоречие, кажется, было самым плодотворным из всех человеческих расхождений...
Новочадов был немодным, несутяжным, потрепанным журналистом и безвестным, подпольным писателем. Марию его полуночные кропания почти не раздражали, как не могут особенно раздражать шумы осени за окном и полоса зари на паркете. В литературе Мария не находила никакого насущного смысла, кроме причудливости и надменности досуга, сама читала лишь бесконечную Донцову или Маринину, привыкла довольствоваться Новочадовым смиренным, тоскливым, худым, иногда замолкающим и уходящим на неделю, на две в свою коммуналку на Петроградской стороне. Это его внезапно возникающее, неприступное, в чем-то величественное безмолвие наводило ее порой на мысль о том, что занятия литературой, может быть, и стоит считать серьезным делом, но только лишь в той степени, в какой эти занятия влияют на психику человека.
Он говорил ей, что у тишины есть свои альты, у глубины есть свои просторы. Он говорил ей, что когда выйдешь из подполья на люди, увидишь свое будущее как будто продленным раза в полтора.
Мария чувствовала уязвление от таинственности Новочадова, оттого что не могла понять, зачем он с заметным неудовольствием уходит от нее, как будто периодически она становится ему в тягость. Эти приступы одиночества казались ей ненужными и жалкими. Другое дело, когда Новочадов находился в гуще событий, с людьми, когда становился незаменимым, как на этих похоронах тети Жени.
2. Современная идейка
На поминках, когда уже выпили, Мария вдруг с раздражением вспомнила про кутью, шумно отодвинула стул и побежала на кухню. Мария выглядела раздосадованной и брезгливой. С неодобрением она отозвалась о Куракине, который не поехал на кладбище и не присутствовал на поминках. Она надеялась с ним побеседовать и надеялась, вспоминая общее дружное детство, увидеть всех братьев, как и раньше, близкими и равными. Мария думала о том, что, чем больше человек отрывается от семейных традиций, тем больше он опошляется, тем отвратительнее выглядит.
— Мы все-таки родня, тетя Женя все-таки ему родная тетка. Хоть бы рубль на похороны выделил, — негодовала Мария.
— Капитализм, какая теперь родня? — заметила соседка покойной тети Жени.
— Петру Петровичу теперь не до нас. Он человек государственный, занятой, — поддержал Марию с удовольствием Гайдебуров.
— Нельзя так поступать, — не унималась Мария. — Последнюю сегодня тетушку похоронили.
— Маманя, маманя, — хныкал, как маленький, Колька Ермолаев.
— Следующий наш черед, — говорил Гайдебуров.
— Смотрю я на вас и думаю, как вы все-таки похожи друг на друга, — удивлялась соседка.
— Особенно Колька с Куракиным, — подхватил Гайдебуров. — В детстве в деревне тетя Женя кричала Кольку, а прибегал Петька: «Я Колька, я Колька».
— Я Колька, — подтвердил Колька, которому сходство с братьями теперь льстило.
— Теперь не перепутаешь, — говорила соседка. — Коля у нас простой парень, работяга, а Куракин — птица высокого полета.
— Фазан, — сказала Мария.
— Павлин, — поправил Гайдебуров.
— А я воробей, — засмеялся Колька.
— Воробышек, — обняла его Мария и поцеловала в путаную бороду.
— Просто человек умеет нос по ветру держать, — отозвался о Куракине Новочадов.
— Да, нос у него завидный, бордовый. По телевизору не так заметно, гримируют.
— И глаза тоже не белые. Жизнь, наверно, тяжелая.
— Что там на него за дело шьют? Не слышали?
— Шахер-махер. Бюджет пилят. Там ни одного уже без дела не осталось.
— Деловые все стали. Заведут, хвост прижмут и закроют дело.
— Бросьте вы о них. Давайте помянем тетю Женю. Тетя Женя была хорошая.
Новочадов вполголоса пытался объяснить воспаленной, прослезившейся Марии, что от Куракина не следует ждать прилива родственных чувств, что Куракин действительно крупная и популярная в городе персона, что у больших людей душа меняется машинально. Если бы он был шишкой где-нибудь в Урюпинске — это одно дело. Здесь, в Петербурге, и особенно в Москве, всякие там родственные узы — вещь ненужная и обременительная. И потом всякий выход публичного политика на люди должен быть обставлен и оправдан с точки зрения пиара, занимать определенное количество времени согласно протоколу. Честь и хвала Куракину, что он вообще нашел минутку, чтобы появиться здесь и попрощаться с полузабытой теткой, хотя бы немного насупился, вопреки своему знаменитому игривому нраву.
— Ты чего руки не помыл после кладбища? Иди немедленно в ванную, — шепнула Мария Новочадову, увидев его заляпанные пальцы. На среднем правой руки левее и ниже ногтя образовался желтоватый, мозолистый, писательский нарост.
Мария думала о поколении разобщенных людей, об их отвращении к совместному честному существованию, об их непреодолимом, похабном эгоизме, о гуле сгущающейся пустоты вокруг себя, о своем заскорузлом сиротстве. Она понимала, что Новочадов живет сам по себе, а она сама по себе. Она подумала о собственной смерти и совсем не ужаснулась. Она представила свою смерть в знакомой обстановке, представила, как медленно обессиливает и как медленно затмевается вокруг нее свет.
Куракин, перед тем как уехать с похорон и со всеми расцеловаться, перебросился парой фраз с Гайдебуровым.
— Ленька, что там у тебя за конфликт с Болотиным? — спросил Куракин.
Эти слова вывели Гайдебурова из горестного, благодушного равновесия. Он почувствовал влажный жар и скачок давления.
— С каким Болотиным, Петр Петрович?
— Перестань. Со старшим, с Михаил Аркадьичем. Ты, пожалуйста, там разберись. Он уже мне жалуется, как родственнику. Хорошо — мне, а не на меня.
— История эта выеденного яйца не стоит, Петр Петрович.
— Какие ты ему там деньги должен? Отдай, Ленька. Он старик вредный.
— Да это все мелочи, Петр Петрович. Старый стукач. Ты на этот счет не беспокойся. Я с этим старым жидом сам разберусь.
— Отдай, Ленька. — Куракин держал лицо спокойным и усталым, но глазам позволял радостно прыгать, как на пружинистом тюфяке. — Ну ладно, брат, пока, звони, если какие проблемы возникнут.
— Да вот уже возникли, Петр Петрович.
— Перестань, Ленька. Это — не проблемы, это пока мелкое недоразумение. Не запускай болезнь.
Куракин был весь в черном, не то чтобы по случаю траура, — он вообще предпочитал однотонные одежды: в прохладную погоду — черные, темно-серые, темно-синие, летом — светлые, льняные и благородного тонковолокнистого хлопка. На нем было черное, кашемировое, до колен пальто, вальяжно распахнутое, с переливчатой подкладкой; эбонитовым светом отливал дорогой, едва примятый в нужных местах костюм (пиджак драпировал торс, как всякий хороший пиджак, который повторяет не тело, а телодвижения); галстук набивного, иссиня-черного шелка, завязанный большим, нарочито небрежным узлом, был зажат мягким воротником сорочки ежевичного цвета, с мелкими белыми пуговками. Садясь в приземистый, лаковый, с тонированными стеклами лимузин, Куракин долго задирал ноги, обутые в узконосые сияющие туфли. Гайдебуров не отрываясь смотрел на крохотные алые узоры вверху длинных, отлично натянутых куракинских носков.
Одни остались Гайдебуров и Колька Ермолаев в опустевшей и опустошенной квартире, пахнущей сгоревшим воском, уличным ветром, накрахмаленными ветхими полотенцами, пролитым компотом, смесью посторонних, скоропалительных духов. Полы были натоптаны, мебель сдвинута, трюмо, телевизор, зеркало в коридоре были покрыты простынями, захватанными уже чьими-то масляными лапами.
Двоюродные братья выпивали на кухне в полумраке, в средоточии приторной, испускаемой вместе с дымом, спиртуозной сентиментальности. Гайдебурову доставляло удовольствие быть человеком сострадательным. Он любил слушать человеческие истории, вынимая из них, как моллюска из раковины, скользкое, сочащееся мучение. Он любил чужое мучение соединять со своим, настоящим или выдуманным. Ему приятно было находить общее в судьбах и помогать собеседнику видеть одинаковое и кровное в душах.
— Моя первая, Ленка, была дура и хитрюга, — говорил Колька Ермолаев. — Слышь, видел, приперлась? Ко мне даже не подошла с соболезнованиями. Ни «здрасьте», ни «спокойной ночи».
— Да, мегеристая баба, — согласился Гайдебуров. — Я подозреваю, Колька, что моя мне тоже изменяет напропалую. Буду что-то решать.
— Слышь, — Ермолаеву понравилось, что Гайдебурову жена изменяет не как-нибудь, а именно напропалую, поэтому он весело раскрыл глаза и смотрел на Гайдебурова с высокомерной понятливостью. — Купил живого лосося, она, моя первая, взяла его в морозильник бросила. Слышь, я его, конечно, оттуда вытащил, разрубил на три части, посыпал солью крупной, придавил камнем. На бутерброды на полгода хватило. А так?
Колька показывал ребром ладони, как беспощадно на три части разрубил он рыбу. Время от времени он стучал по столу внешней стороной ладони, наверное, чтобы взбадривать внимание Гайдебурова.
— Слышь, осталось в бокале на Новый год шампанское, она его в раковину вылила. При чем здесь...
— Тебе жениться надо, Колька. Хорошую бабу найти и официально жениться. Одному тебе смысла нет.
Ермолаев вдруг насупился, вдохнул воздуха полную грудь, как перед погружением в глубокую воду, и, зажмурив глаза, сипло выпустил вонючий воздух обратно, плечи уронил настолько низко, насколько позволяли суставы и связки, и пальцами суровых рук задел за линолеум.
— Я говорил матери, матери... Иветта даже не пришла на похороны. При чем здесь... Зарплату этот буржуй не поднимает. Уже везде водителям подняли. Инфляция ведь. А мне ей колечко не купить. Убить, убить мало. Я ему руку сломаю... Леонид, не дашь мне взаймы? — неожиданно трезво спросил Ермолаев.
— Согласен, проститутки — это все не то, это все механика. А нужна кибернетика. Нужна теплота отношений, привязанность, понимание, присмотр друг за другом, влечение тела и души сразу, в один момент, — говорил, словно не слыша Ермолаева, Гайдебуров.
Колька вдруг поднялся, включил свет и стал выглядеть взбудораженным и целеустремленным. Он подсел поближе к Гайдебурову, который от этой напористой близости слегка напружинился, но старался казаться размякшим. Ермолаев в своей манере стал похлопывать с неимоверной частотой по колену Гайдебурова.
— Слышь, — произносил он мокрым ртом, мокрой же была его бороденка, в глазах мутно блестели слезы, — я хочу приобрести «камаза» или хотя бы в аренду взять и самостоятельно работать по перевозкам. Надоело на этого буржуя горбатиться. Зимних ботинок нет, не на что купить. Нужен начальный капитал... Дай в долг, Леня. Мы же не чужие люди. С процентами, при чем здесь...
Гайдебуров видел, что настойчивость Ермолаева становилась невыносимой и опасной. Гайдебуров параллельно думал о своем ярме. Слова Куракина до сих пор торпедировали мнительный мозг. Гайдебуров случайно наклонился вперед и ударился как-то смешно своим лбом о Колькин лоб. От столкновения оба лба покраснели и начали побаливать. Вдруг Гайдебурову пришла мысль, связанная с Болотиным, и тут же оформилась в идейку самую заурядную и злободневную. По тому, как подозрительно стал смотреть с близкого расстояния в глаза Гайдебурова Ермолаев, Гайдебурову показалось, что нечто подобное зародилось и в голове Ермолаева, внутри его сильно шелушащегося лба.
В первую очередь Гайдебуров выяснил, кто такой был «буржуй», которого Ермолаев готов был убить или которому, по крайней мере, собирался сломать руку. Оказалось, что «буржуй» был тем самым директором, которого возил несчастный Колька Ермолаев. Оказалось, что «буржуй» грозился уволить Ермолаева, потому что тот не удовлетворяет его как водитель: ездит как черепаха, пропускает и наших и ваших, то и дело ломается и разводит руками, припарковывается в лужу, машину забывает помыть (а директор пачкается) и иногда, раз в месяц, опаздывает, но именно тогда, когда директору невтерпеж куда-то надо мчаться. Гайдебуров также выяснил, что существует еще некий замдиректора и тоже совладелец фирмы, который, как ни трудно было догадаться, спит и видит, как бы сместить сумасбродного компаньона, и лучше безвозвратно и лучше тихонько, при помощи типичного несчастного случая. Гайдебурову стало ясно, что этот лукавый замдиректора вкрадчивыми наущениями подталкивает бедолагу Ермолаева к кровавой развязке: вот он, директор, тебя унижает, вот он тебя за человека не держит, вот он тебя скоро по миру пустит, подставит как-нибудь с машиной, а ты будешь платить, может быть, квартиру отнимет, есть, мол, у меня такая информация; другое дело, если бы я был директором, тогда бы ты у меня, как у Христа за пазухой, нежился, уж зарплату бы я тебе раза в два сразу поднял, да что там в два — в три, а директор, он — тиран, трутень, он достал уже всех, вот и думай, Коля, про умную аварию, про разбойное нападение в парадной, монтировка-то всегда под рукой должна быть, под ковриком в машине, про необходимую оборону, в конце концов: директор всегда с пистолетом ездит, ему ничего не стоит дуло и на тебя навести по пьяной лавочке.
Гайдебуров, разумеется, понимал, что из кислого Колькиного теста профессионального киллера не слепить, но вот безумный убивец, остервенелый, доведенный до крайности душегуб в тяжелую минуту в Кольке может проснуться. Чего только стоит эта его дурацкая привычка дубасить лапой направо и налево и эта его благоприобретенная дикость!
Гайдебуров сказал, что и рад бы помочь братану, да сам в трудном положении находится, что висит у него ярмо на шее по фамилии Болотин, и рассказал Кольке в красках о живоглоте, от исчезновения которого с грешной земли выиграл бы и Гайдебуров и другие хорошие люди, в том числе их брат Куракин, и Колька бы запросто свои проблемы с «камазом» решил, а заодно и с невестой тоже.
Гайдебуров видел, что Колька актуальную идейку понял, но, когда невольно связал ее со своей судьбой, опять расклеился и стал валиться на пол с табуретки. Гайдебуров усадил его основательно и для крепости осанки положил его локти на стол. Братья выпили за Царствие Небесное. Заскулившему Кольке нужна была видимая поддержка, и Гайдебуров признался Кольке, что его, Гайдебурова, самого мучает вина перед собственной покойной матерью, на похороны к которой в прошлом году он, совестно сказать, опоздал.
— Ты помнишь, меня не было на похоронах? — сказал Гайдебуров.
— Угу. Все ждали, — подтвердил Колька с застарелым осуждением.
— Я тогда в Сочи был. И в те дни именно, когда мать умирала, особенно сильно пьянствовал и безобразничал. Телефон потерял. Попал в какой-то шалман. А мама умирала в это время. И не дождалась меня, умерла. Я так и не увидел ее мертвой. У меня вся душа выболела, Колька. И представляешь, мать мне совсем не снится. Ни разу не приснилась за это время. Как будто оскорбилась и прокляла. Лучше бы уж каждую ночь снилась, звала бы. Нет, не снится, — говорил Гайдебуров.
— Маманя, маманя, прости меня, прости меня, — лил слезы в полудреме Колька.
Гайдебуров начал сожалеть, что разоткровенничался, что выпустил в свободное плавание пирогу с бесшабашными гребцами. Колька ему казался простоватым и склонным к вероломству, как всякая последняя святая простота.
Вдруг Гайдебуров подумал с молодецким восторгом, а не осуществить ли ему самому свою идейку. Хотя бы ради испытания, ради экстремального самоутверждения.
Гайдебуров отвел падающего Кольку в комнату к кровати, а сам вернулся на кухню, где в холодильнике он заметил початую бутылку шампанского. С удовольствием из горлышка он допивал холодное шампанское и трезвел до головокружительной решимости. Ему нравилось уповать на беспечность, для которой нет ничего страшного ни на этом, ни на том свете. Никакого дурацкого страхования. О себе Гайдебуров думал, что он лишь сытая жертва голодных девяностых годов, что в новом времени ему не удастся прижиться без того или иного безоглядного радикализма. Когда он смотрел в окно, ему казалось, что по ту сторону неба было светло и жарко, как в топке. В роли лаза туда, в жаркий мир, выступала луна.
3. Сны Гайдебурова
Гайдебуров вытерпел тяжелую ночь. Ее тяжесть соответствовала мере абстиненции, как он называл ради шутливого самоуспокоения тривиальный отходняк третьего дня. Кошмары стали приобретать характер обратимый, стали смешиваться с явью, становиться правдоподобными деталями ее антуража. Холодный пот, льющийся будто из бездны сквозь тело Гайдебурова, обильно намочив белье и постель, возвращался обратно в хлябь по тем же капиллярам и железам, превращаясь в горячий земной настой.
Всю ночь сознание сталкивалось с подсознанием, высекая искры тревоги. Со всех сторон Гайдебуров видел угрозы — своему положению, своей семье, своему крохотному бизнесу, может быть, даже действительности вообще. Его пугали сполохи безденежья, абсолютный крах, позор, предчувствия неизлечимой болезни, зев смерти. Всё это смешивалось в один цельный комок и летело в преисподнюю.
Сначала ему пригрезилось какое-то странное сборище на открытом вечернем пространстве. Заходило солнце за дальние хребты и освещало окрестности опаловым, стекловидным светом. В сепии копошилось множество смуглых, худосочных, полуобнаженных, лохматых людей, каких-то даже не китайцев, а индонезийцев. Они повсюду жгли костры и словно грелись у этих костров. Вдруг Гайдебуров встречает между ними Михаила Аркадьевича Болотина, в синем, переливчатом, как милицейская мигалка, галстуке. Гайдебуров и Михаил Аркадьевич начинают препираться по поводу денег, которые Гайдебуров задолжал Болотину, но считает, что вернул ему долг другим, нематериальным, каким-то душевным и нравственным бартером. Болотин называет Гайдебурова «зайчиком», по обыкновению начинает брызгать слюной, которая оказывается липкой и жгучей, и пытается наотмашь ударить Гайдебурова безвольной рукой. Гайдебуров увертывается и плюет старику Болотину в лицо. Гайдебуров кричит тому, что тот «старый пидор». В этот момент поднимается вой. Сотни мелких, узкоглазых, косматых иностранцев срываются со своих мест на помощь старику Болотину. Они уважают его за что-то и стараются за него заступиться. Гайдебуров вяло пускается наутек. Этих желтых людишек много, как вшей. Они окружают Гайдебурова со всех сторон. Они ставят какие-то силки. В отдалении они роют огромную яму и сваливают в нее дрова. Они уже близко — беспощадные, щуплые, полуголые. Гайдебуров бросается на них, и в одном месте ему удается собою разорвать сеть. Он видит, что нападавшие удивлены тем обстоятельством, что он каким-то образом сумел повредить их священные сети. Ему кажется, что он даже слышит, как они кричат в ужасе: «О, священные сети! О, священные сети!» Гайдебуров проскальзывает обычный городской двор, окруженный панельными домами. Здесь его встречает семейная пара, простые жители, мужчина из работяг и женщина, не любящая пьяниц. Видя положение Гайдебурова, они начинают отгонять от него преследователей, лупя их чем ни попадя, и те действительно отступают, огрызаясь...
Гайдебуров очнулся и, когда с испугом начал осматривать темную комнату, вдруг увидел в глубине, в кресле у окна троих или четверых просочившихся из сна пришельцев, желтолицых, жестоко смеющихся карликов. Страх жизни поднял Гайдебурова мгновенно. Он зажег свет. Конечно же, в кресле было пусто. Гайдебуров в комнате спал один, жена, вероятно, ушла спать в гостиную на диван, как он полагал, от его беспокойства и от его особого в эти дни амбре.
Гайдебуров на всякий случай оставил дверь открытой. Он достал с платяного шкафа икону целителя Пантелеймона, отер с нее пыль мокрой майкой, поцеловал на иконе руку, держащую ложечку с каким-то снадобьем. Ложечка была с маленьким крестиком. Гайдебуров удостоверился, что и на нем самом висит крестик, весь липкий и мокрый, поцеловал и его, перекрестился и стал повторять с облегчением: «Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй». Он положил икону на подушку жены, потушил свет и лег невдалеке от иконы. Он посмотрел в сторону злополучного кресла. Сваленное на него бугром покрывало и принял Гайдебуров за групповой портрет нечистой силы. Гайдебурову стало смешно, оттого что он допился-таки до настоящих чертиков. Он поднялся и водрузил икону обратно на шкаф.
Часа два он еще ворочался, ложился то вдоль, то поперек кровати, то к окну головой, то к стене. Уснуть он не мог и поэтому призывал себя покончить с самоубийственным существованием, набраться наконец некого мужества, чтобы сосредоточиться на важном, главном, быть сдержанным, разумным, осторожным и даже циничным. Половины жизни нет. Может быть, нет уже и другой половины. Надо помнить, что большинство людей — хищники, и если ты вдруг встречаешь среди них ангела, надо любить его и держаться за него. Надо завязывать с пьянкой. Не пить вовсе. То есть ни капли не пить. Наслаждаться трезвостью и здоровьем.
Без надежды Гайдебуров принял мягкое снотворное, имован. На рассвете он забылся еще одним сном, на этот раз безобидным. Гайдебурову снилась какая-то казахстанская, теплая, палевая пустыня с геометрически правильными барханами, с пыльным солнцем и железнодорожными путями, оберегаемыми от подвижных песков высокими заборами. Ему снилось, будто он посетил этот край в составе правительственной делегации. Делегацию возглавлял почему-то давно забытый уже Черномырдин, с которым там Гайдебуров вел себя запросто. Там же находился и Куракин. У местного руководителя, казаха, жена была русская. С остановившегося посреди пустыни поезда делегация пересела на двугорбых верблюдов и плавно, не подскакивая и не заваливаясь, направилась к розоватому низкому горизонту. Наконец, истомившись, они остановились, словно на привал, у двух юрт и, сбивая с себя вениками песок, как снег зимой, долго хохотали неизвестно над чем. Казахский начальник и его жена вытащили из юрты огромный цветастый узел и вручили его в качестве дара Гайдебурову. Он развязал его, и на ковер, брошенный поверх песка, посыпались сорочки, брюки, галстуки. Гайдебуров принялся их торопливо примерять, боясь отстать от делегации, снова засобиравшейся в дорогу. Подаренная одежда была преимущественно светло-коричневых, пастельных тонов. Все вещи Гайдебурову оказались чрезвычайно велики: рубашки падали до пят, брюки надувались на ветру, как пододеяльники, даже галстуки, как убористо он их ни повязывал, стелились по земле... Гайдебуров проснулся от растущего чувства досады и от того, что ощущал себя в новых балахонах запутанным и обманутым.
Гайдебуров услышал характерное постукивание шлепанцев жены. Он встал и закрыл дверь. Он решил переждать, пока жена и дети помоются, позавтракают и отправятся по своим делам. Не хотел, чтобы они его опять видели дрожащим и тревожным. Он знал, что тревога заразительна, как зевота. С улыбкой он вспомнил, что фамилию Черномырдин без ущерба для ее обладателя можно заменить на фамилию, например, Мироедов. Он взял с тумбочки журнал и прочитал, что барсетки опять в моде. Информация о них находилась наверху страницы, в UP. Он вспомнил, что в предыдущем номере с этими самыми злосчастными барсетками всё было наоборот: их клеймили позором в самом низу, в DOWN. Ему приятно было думать о том, что эти глянцевые современные журналы не поймешь: то так пишут, то эдак. Он пролистнул еще несколько страниц и, наткнувшись на галерею выхоленных мужиков в тесных, с иголочки костюмах, с отвращением отбросил журнал на пол. «И с отвращением читаю жизнь...» — вспомнил он, начав презирать свой возраст, свою одутловатость, вспученный живот, общую задрипанность, безвозвратность и безысходность.
Всю низость своего теперешнего положения он почему-то связывал с тем, что с самого своего рождения и по сей день был предоставлен самому себе. Ни тебе нормального воспитателя, ни тебе нормального надзирателя. Ему казалось, что его характер развивался на пустом месте. С характером, сформированным в вакууме, легко идти на обман и легко предаваться самообману. Жил он наугад, доверяясь пронзительной, но двурушнической интуиции. Своей бедой он считал то обстоятельство, что ему не повезло с компанией глубоких, отзывчивых личностей. Скорее всего, он сам чурался таких людей, откладывая встречу с ними до некоего непреодолимого, переломного срока, с которого, собственно, и должна была начаться сама жизнь, а все эти прожитые годы стоило лишь считать напрасным приготовлением к ней.
У него ныла правая рука и боль переползала к спине. Он знал, что обострение артрита, случающееся у него в ненастье после запоя, сосредоточивается обычно в ногах, здесь же пахло другим, куда более серьезным диагнозом. Он выпил пару таблеток американского аспирина и укрылся пледом. Оставалось спокойных полчаса до начала рабочих звонков. Вдруг Гайдебуров поднялся, нашел листок с молитвой оптинских старцев и, поглядывая на как бы хорошего знакомого Пантелеймона на иконе, стал читать и креститься: «Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить всё, что даст мне сей день. Господи, дай мне вполне предаться воле Твоей». Он удивлялся тому, что фразы этой молитвы были сложены не из анахронизмов, а, наоборот, напоминали обычную современную речь, умную инструкцию по эксплуатации, важное ходатайство. Все заклинания были пронизаны единой логикой, и не было ни одного лишнего или недостающего слова. Всё, что касалось текущей жизни и ее конкретного дня, выражалось простыми просьбами, емко и исчерпывающе, — и о божественном промысле, и о личной стойкости, и о разумной любви, и о стиле поведения, исполненном кротости и самообладания, и об укреплении сил, и о твердости духа, и о смирении перед фатумом. Человек жаждал милостивой поддержки.
Гайдебуров сомневался, правильно ли он делает, по рангу ли, что произносит эту молитву перед иконой святого Пантелеймона, а не перед неким главным образом, не перед Троицей, не перед Распятием. Но других икон у него теперь не было. Гайдебуров посмотрел на свой нательный крестик, который гляделся на его волосатой крупной груди каким-то младенческим, и решил купить себе новый, внушительный, соответствующий его, Гайдебурова, телесным габаритам.
«Остави нам долги наша», — почему-то невнятно прошептал он.
В половине десятого Гайдебуров вышел из дома с неистребимым похмельным мучением. Когда он хлопнул дверью парадной и оглянулся назад, на окна первого этажа, рядом с мусоропроводом, он заметил в них знакомое оживление: зашевелилась рваная занавеска, из-за нее мелькнули хмурые, гадкие образины — одна вслед за другой. Он опять успел заметить в них пристальный, кажется, криминальный интерес к своей персоне, к своему черному, мягкому, кожаному портфелю, к своей дубленке и норковому кепи. Эта квартира на первом этаже уже не раз горела, оттуда не раз выносили скрюченные трупы и истлевшие матрасы, но крайне опустившихся живых существ меньше в ней не становилось, наоборот, их становилось больше в каждом из трех разбитых, черных окон. Он опасался того, что в один из вечеров станет их законной добычей, что они подкараулят его в грязной темноте и проломят ему череп, предварительно смахнув с него дорогой, переливчатый головной убор.
Справедливости ради Гайдебуров вспомнил, как однажды, ожидая лифта, услышал сквозь искореженную дверь этого притона вдруг утешительно, провинциально звучащий говорок, принадлежащий, по-видимому, пожилому трезвому мужчине. «Не дурите, — внушал кому-то старомодный голос. — Отдайте Петьку в школу. Парню учиться надо».
Гайдебуров вернулся в подъезд за почтой, постоял на площадке первого этажа пару минут, надеясь опять услышать хорошие слова из плохой квартиры, но расслышал лишь звуки каких-то панических, осторожных скачков.
Гайдебуров достал из разбитого почтового ящика хлипкий листик, извещение на имя руководителя ООО «Северный феникс», то есть на свое имя, посмотрел с пустым вниманием на оборотную сторону, понимая, откуда пришло заказное письмо, залился новой кипящей краской, пошатнулся от бессилия и, пронзительно задеревенев, как птица на одной лапе, стал ждать в себе возврата самообладания.
Гайдебуров вел машину беспечно, как бы обреченно, без жалости к ней. Перед глазами росла метельная стремительная рябь, издалека наползало дымчатое марево. У моста Александра Невского, у одноименного, какого-то безвестного памятника, вставшего задом к лавре и передом к Западу, Гайдебуров застрял в мучительной пробке. Причиной ее было мелкое дорожное происшествие, на которое долго ждали ГАИ. Поцеловались старая вишневая «пятерка» и новый, пальчики оближешь, «ниссан». Водители сговориться не смогли, ненавидя сущности друг друга. Из проезжавших автомобилей их мещанскую мелочность поливали презрением. Водитель «жигулей» в шапочке, нахлобученной на детские глаза, сидел в машине спокойно, но вид изображал затравленный. Водитель «ниссана», эдакий менеджер средней руки, тридцатилетний, с гневным лицом и полосатым галстуком, с внешней рассудительностью разговаривал по мобильному телефону и ожесточенно давил длинными извилистыми туфлями осколки фар «жигуленка». Гайдебурову было понятно, что молодой ухоженный человек, с его порывистыми движениями, пребывал в невыносимом промежуточном состоянии: он уже выбился из торговых агентов, но не прибился еще к стану топ-менеджеров. Гайдебуров видел, что, согласно твердым представлениям этого джентльмена-бедолаги, автомобиль он должен был менять хотя бы раз в три года, так же, как часы носить не ниже класса «Лонжин», иметь три, по видимости, добротных костюма, один из которых — темно-синий, двубортный, в слабую полоску, иметь дюжину хороших сорочек, дюжину хороших приглушенных галстуков, десяток пар обуви, которая обращает на себя внимание, выезжать ради активного отдыха в венесуэльские джунгли, меняя классические часы на спортивный хронометр, не бояться белых носков и испускать модный аромат какого-нибудь Fendi.
Гайдебуров видел, что водитель «ниссана» раздосадован не столько пустяковой, в сущности, аварией, сколько дезорганизацией почти привычного хода вещей, случившейся, разумеется, по вине этих несуразных, живучих, медленно стираемых с лица земли колхозников. В своем сознании водитель «ниссана» преодолел ностальгию по недавней эпохе бандитских разборок, ставшую для него магической историей, и считал себя обязанным теперь личными поступками помогать становлению правового гражданского общества. Было видно, что, несмотря на огорчение, ему приятно было ждать теперь представителя страховой компании. Его колючая миловидная стрижка покрывалась влажными блестками, и очки лихорадочно слезились...
«Какая мерзость!» — думал Гайдебуров о радиоэфире. Ведущие — вероятно, толстые, взлохмаченные дядьки, намеренно практикующие подростковую дикцию и молодежный сленг, — все утро на все лады разглагольствовали о тринадцатилетнем юбилее своей радиостанции, о том, как они сиротливо начинали, о том, какие у них демократичные отношения с начальством, и как они сегодня все погуляют и вновь переженятся в ознаменование этого счастливого сочетания цифр. Когда они в очередной раз скаламбурили на два голоса, что, мол, «начало у этой рубрики, как вы понимаете, будет женское, а конец, ха-ха, мужским», Гайдебуров с раздражением выключил магнитолу.
4. Гайдебуров кричит
Сивухина от неизбывной, ликующей осведомленности терла и поламывала себе пальцы, то закладывая их за спину, то поднимая опять к своей сухой, тряпичной груди. Она, конечно, заметила следы русского недуга в Гайдебурове, проступавшие сквозь парфюмерный камуфляж, но теперь ее увлекало другое, куда более страшное безобразие, поэтому она лишь беззвучно хмыкнула и ее немота на несколько мгновений исказила нижние эпителии щек.
— Ну, говорите же, черт побери, что случилось, Клеопатра Львовна? — с усилием округлил измученные глаза Гайдебуров.
Сивухина, которую на самом деле звали Мариной Петровной или, из-за тощей кички на макушке, Луковицей, перестала теребить руки и опустила их теперь по швам, вдоль призрачных бедер, к подолу рабочего синего халата. Она стояла перед Гайдебуровым как своенравная школьница, не сразу, сквозь антипатии, проверки и козни, принявшая учителя со всеми его недостатками и насмешливостью.
— Пойдемте, Леонид Витальич, полюбуетесь. Слышите?
Сивухину в коллективе называть стукачкой не осмеливались, настолько бескорыстными и ежедневными были ее доносы.
— Что, опять Михайлов?
— А что, вы не слышите, чей это храп?
— Слышу.
Гайдебуров в это утро ожидал непоправимого сгустка событий: провала тендера, звонка от Болотина, телефонограммы из налоговой. Теперь он перевел дух и даже уверенно поднялся и уверенно, стараясь топать новыми каблуками мерно, прошел за щуплыми, взволнованными ключицами Сивухиной в ближнюю подсобку.
Михайлов, скрутив свое тельце от холода и судорожной отваги в змеиное кольцо, издавая подчеркнуто скандальный, спиртуозный, несчастный храп, лежал на высокой кипе готовой печатной продукции — каких-то афишах, — таким образом пытаясь всем своим существом защитить свою кровную ночную халтуру, как обозленная собака уворованную кость.
Внешне Гайдебуров был готов к негодованию, внутренне — к нравственному облегчению.
— Ну что, Владимир Алексеич, ва-банк пошел, да? — громко воскликнул Гайдебуров, чтобы его зам проснулся и сконфузился. — Все? Осмелился? Сжег корабли? Молодец!
Гайдебуров почувствовал, что «ва-банк» прозвучало как-то неуместно. В комнате, предназначенной для переодевания рабочих, некоторые шкафчики в боязливой спешке были оставлены приоткрытыми, пахло чистым, вымытым линолеумом, мелованной бумагой, впитавшей краску с растворителем.
Михайлов разомкнулся и мгновенно оказался сидячим. Его аккуратные ноги в тесных, в засаленный рубчик, брюках, в коричневых полусапожках с расстегнутой молнией, висели, как парализованные, не касаясь пола. Михайлов, не открывая глаз, тряс головой, руки его упирались в толщу бумаги.
— Владимир Алексеич, не жалко продукцию-то? Мнешь ведь задницей, — говорил Гайдебуров, испытывая удовольствие от того, что Михайлову нечего было сказать в оправдание.
Речь Михайлова, для которой он уже был готов отверзнуть уста, почему-то не полилась, а вместо этого липкой, медвяной струйкой полилась слюна.
— Чего жалеть? С запасом отпечатано, — подсказала Сивухина. — На официальных заказах сэкономлено.
Михайлов спрыгнул на пол, нагнулся, поддернул молнии на ботинках, подошел к умывальнику, включил воду и стал поразительно собранно умываться, при помощи точных, аристократичных движений, бесшумно, не брызгаясь, как будто всухую.
Гайдебуров разглядывал отпечатанные листы второго формата. Это были рекламные плакаты фирмы «Грюндиг», с выползающим из телевизора сытым, щекастым крокодилом. По количеству бумаги и степени сложности работы, оценивал Гайдебуров, заказ тянул не меньше чем на тысячу долларов. Он окинул взглядом объем бумажной стопы, вспомнил, что Михайлов не доставал ногами пола, сидя на ней, и от этого метафорического способа измерения высоты почувствовал себя особенно обманутым. Видите ли, стопа была настолько высокой, что Михайлову даже пришлось спрыгнуть с нее и бесцеремонно отряхнуться.
Злость Гайдебурова улеглась в кабинете, когда Гайдебуров в последний раз посмотрел на Михайлова. Челка Михайлова уже была повернута вправо, сивая щетина стремительно лезла из правильного, приятного овала, из рукавов пиджака, как смерзшиеся варежки, свисали желтые руки, взгляд оставался неутоленным, не желающим ни раскаяния, ни понимания, ни вреда, ни примирения.
— Я могу забрать эти плакаты в счет полного расчета со мной? — спросил Михайлов.
— Нет, Леонид Витальич, — опередила Гайдебурова тревожная Сивухина. — Так никто не делает. Все через бухгалтерию надо оформить.
Михайлов уповал на Гайдебурова. Гайдебуров вспоминал его на коне, гладко выбритым, с синим галстуком под воротником с чистыми катышками.
— Нет, Владимир Алексеич, — согласился Гайдебуров. — Пойми, надо все через бухгалтерию. Марина Петровна оформит, и трудовую у нее заберешь.
Михайлов декоративно поклонился и вышел с неопределенно улыбчивым лицом. На его пиджаке было крупное пятно от желтой краски.
Сивухина поморщилась презрительно, потом оглянулась на Гайдебурова, осеклась, стала пережидать противоречивую досаду начальника.
Гайдебуров догадался, почему последняя усмешка Михайлова показалась такой пустой: Михайлов так и не вставил себе зубы. Гайдебуров незаметно развеселился. Сивухина посчитала это добрым знаком и принялась возмущаться.
— Наглость. Не убрать халтуру с глаз долой. Я уж ничего вам не говорила, что он левачит по ночам. Печатники, Леонид Витальич, здесь сбоку припека. Он им гроши платил. Любовнице своей все угождал. Она, видите ли, простое шампанское не пьет, только мускатное. А женушка его совсем совесть потеряла. Взяла у меня деньги на мешок сахара, и до сих пор ни сахара ни денег. Три месяца прошло. «Я трудоголик, я трудоголик». В свой карман он трудоголик. Леонид Витальич, машину загонял своими ночными халтурами. А днем сонный ходит, не подойти — зевать начинает, как гиппопотам беззубый.
— Как крокодил.
— Это уже не первый крокодил. Я еще у Аркадия форму нашла. Аркадия подпаивал в его каморке. Там и формы на паленую водку, Леонид Витальич, «Русскую». Это уже криминал. Нагрянет налоговая.
— Уничтожь... Почему молчала?
— Уже уничтожила... Как будто вы не знали?
Гайдебуров одной улыбкой улыбался треснутому стеклу в очках Сивухиной и далекому происшествию.
«Почему она не любит Михайлова? — думал Гайдебуров. — Ее чувства смешаны с ее правдолюбием не меньше, чем с текущим моментом».
Он вспоминал, как Михайлов лишился своих вставных золотых зубов. Они ехали вдвоем в Москву поездом. Полночи выпивали и закусывали, кстати, копченым угрем, чем смутили весь вагон. Опьянев, Михайлов превратился в прожектера. Его синеглазая неприязнь к Гайдебурову лишь усиливалась алкоголем и качкой. Гайдебуров вежливо смеялся над планами Михайлова. Гайдебуров был теперь не только его директором, но благодаря каким-то непонятным для Михайлова махинациям превратился в единоличного владельца типографии, сменил название предприятия, главного бухгалтера, банк и поменял выражение лица: с терпеливой нервозности на рассерженную вальяжность. «Троянский конь», — говорил Михайлов к месту и не к месту. В советское время он был главным инженером большой типографии. Почему-то он не мог примириться с несправедливостью хода жизни, с тем, что ее хозяевами в девяностые годы стали дилетанты и беспощадные мальчики. Михайлов считал, что в меру воровать простительно лишь тем, кто предмет этого воровства создает своими руками. Создавая нечто, мастер некоторую толику как прибавочную стоимость закладывает в это нечто и для себя и таким образом приводит к равновесию свое и чужое, личное и общественное... Тогда в поезде поутру Михайлов побрел в клозет чистить, видите ли, зубы перед столицей, а вернулся без них. Гайдебуров смеялся, наливая Михайлову коньяку, говорил, что теперь есть лишь одна возможность найти зубы, которые от трения зубной щеткой вывалились изо рта в умывальник, в сквозную трубу и упали на железнодорожное полотно, — это пойти обратно по шпалам в сторону Питера, приглядываясь ко всему, что блестит. Михайлов пил тогда коньяк неуклюже, шлепая по краю стакана ослабленной губой, защищая глаза дрожащей рукой...
Гайдебуров подошел к окну, чтобы посмотреть, как уходит Михайлов. Он шел быстро по скользким кочкам своими обычными семенящими шажками. «Его изглодала зависть, — думал Гайдебуров. — Мы начинали вместе, начинали на равных. В современной России Боливар не только двоих, одного с трудом выносит».
Пройдет некоторое время, и Сивухина сообщит Гайдебурову, что Михайлова убили чеченцы: он взял у них ссуду на приобретение печатного станка, чтобы начать собственное дело, но прогорел и то ли отказался им отдать квартиру, то ли попросту нагрубил этим рабовладельцам. Его маленькое тело нашли скрюченным у Парголово, со следами пыток, с воздетыми руками, с улыбчивым, изуродованным ртом. Сивухина общалась с людьми, которые ездили его опознавать. Сивухина не меняла своего последнего мнения о человеке никогда. Вот и смерть — не была тем событием, которое могло бы ее разжалобить и разубедить...
Гайдебуров направился в цех и вдруг начал кричать. Последнее время он делал это бессмысленно часто. Сивухина смотрела на его укрупнившуюся, сутулую спину, багровый, стриженный под ноль затылок и крохотные, как крендельки, уши с растущим пренебрежением. Она сигнализировала таким образом сослуживцам, на которых теперь двигался Гайдебуров, что обижаться на него не следует, что у начальника плохое настроение, но это лучше, чем если бы оно было хорошим, деятельным. Она понимала, что кричит он потому, что превращается в человека слабохарактерного и обманчивого. Знала, что у него наметился разрыв с женой. Знала и то, что его жена была устроена так, что не могла довольствоваться исключительно чувством долга, а нуждалась в большем. Муж Сивухиной, Алексей, увидев однажды жену Гайдебурова, смуглую, благородную, высокую, сказал, что она настоящая красавица, а вечером в подпитии поколотил Сивухину за то, что та напомнила ему эти слова с издевкой.
Гайдебуров кричал в воздух:
— Я свои обязательства перед трудовым коллективом выполняю. Я хоть раз задержал вам зарплату? Почему же вы не выполняете свои обязательства предо мной? Боря, ты что не видишь, что печатаешь брак? Нет элементарного совмещения.
— Пленки такие, Леонид Витальич, — говорил Боря Рахметов, старший печатник, рыжеусый, с белеющими кудрями. — Луковица такие принимала.
— Счас! Неправда! При чем здесь Сивухина? — донесся голос Сивухиной, как из репродуктора. Самой ее не было видно. — Это Аркадий что-то мудрил с Михайловым.
Сивухину искали глазами, она таилась.
— Борис, ты четверть века в полиграфии. Ты разве не видишь, что пленки никудышные? Зачем ты гонишь брак? — продолжал Гайдебуров и бил по стопке бумаги кулаком — вспомнил эту неотразимую манеру Кольки Ермолаева.
Рахметов потел боязливым, тухлым потом. Его подмышки были темными от сырости.
— Вы что, хотите мне навредить? — опять кричал Гайдебуров. — У вас ничего не получится. Если я сам не захочу, меня никто не свалит. Понимаете? Я не посмотрю на твои заслуги перед родиной. Ночью тоже пленки плохие, Борис?
Рахметов, хотя и носил почти русскую фамилию, был крымским татарином или караимом.
— Не было меня ночью, Леонид Витальич. Я за день так устаю, что не до ночных мне смен, — обижался Рахметов, как восточный человек, наливаясь судорожной, мрачной свирепостью.
Гайдебуров внимательно озирал волосатые разноцветные плечи печатника, заляпанную пурпурной краской футболку, злопамятный взгляд Рахметова, волосы в ноздрях и вдруг смягчался.
Было понятно, что Гайдебуров кричал о своем длительном, невыразимом мучении. Ему ли было не знать, что всякий холостой крик подразумевает перезревшее одиночество, что изоляция безысходности оборачивается мерзкими пароксизмами.
Гайдебуров, крича, хотел спросить: «Скажи, что мне теперь делать?» — «Решай сам». — «Я не знаю, что мне решать». — «Решай сам».
Сивухину радовала отходчивость Гайдебурова — свойство порядочных людей. Между хозяином и работниками пропасть формировалась плохо. Сивухину радовало, что Гайдебуров нуждался в преданности и телепатическом утешении.
Гайдебуров сидел в кабинете с карандашом в зубах. Приятно было чувствовать школьный привкус. В окно просачивалась оттепель, хранительница прошедших ощущений. Гайдебуров поручил Сивухиной на все звонки отвечать с несвойственной ей корректностью одно и то же: сегодня директора не будет, а завтра он будет после обеда или, наоборот, только до обеда. Он слышал, что Сивухина несколько раз откликнулась по-своему: сегодня его не будет после обеда, а завтра не будет и до обеда. Он недоумевал, почему нельзя научиться буржуазной вежливости.
Перед ним лежал «Коммерсантъ». На первой полосе было огромное, страшное, видимо, намеренно искаженное лицо министра по налогам и сборам. Гайдебуров вспомнил своего налогового инспектора, Валентину Ивановну, заведомо взыскательную, в каштановом парике, из-под которого на шее, как майка из-под кофты, торчали седые клоки. Эта Валентина Ивановна почему-то была пронизана классовой ненавистью к мелкому, вертлявому предпринимательству и, наоборот, благоволила крупному компрадорскому капиталу. Гайдебуров понимал, что на этот раз налоговая инспекция прилипла к нему крепко — как жвачка к брюкам. Он думал, что надо срочно открывать новое ООО или так же срочно продавать оборудование и сматывать удочки. Гори все синим пламенем, весь этот несчастный бизнес. Гайдебуров смирялся с тем, что тендер он проиграл. Конкуренты лезли во все щели, особенно «Питер-принт». Чиновник из администрации с томной, табуированной фамилией красноречиво молчал. В этой отчаянной обстановке был один положительный момент: угрозы Болотина можно было воспринимать без отчаяния.
«Надо пообедать и выпить, — соображал Гайдебуров. — Нельзя всю жизнь сводить концы с концами. Надо позвонить Куракину, пригласить его пообедать и выпить».
Куракин был облечен недосягаемой властью, и дозвониться до него было невозможно, поэтому дозваниваться до Куракина считалось дурным тоном.
Вошла Сивухина, одновременно испуганная и завороженная. Она сказала, что на проводе — Куракин.
— Не пугай меня. На каком проводе? — решил быть остроумным Гайдебуров.
Сивухина каким-то сдвоенным движением глаз (он увидел, что они у нее были все-таки косящими) показала на телефонный аппарат. Гладкая, вытянутая голова Сивухиной теперь, как никогда, напоминала луковицу. Гайдебурову даже почудилось, что она проросла млечными, бескровными, горькими ростками, а из темечка торчали новые, свежие стрелки.
Перед тем как снять трубку, Гайдебуров успел прокрутить разговор с Куракиным в мелочах. Он даже успел улыбнуться тому, каким образом Куракин после разговора попрощается — по-свойски произнесет: «Бывай. Целую в зад».
5. Вера Гайдебурова
Мария пришла к Вере со своей бедой, а обнаружила чужую. Сквозь наслоившуюся неприбранность в квартире Гайдебуровых она рассмотрела тайное неблагополучие. Пыльная полоса на щеколде входной двери почернела от времени. Из приоткрытого туалета доносился запах животной мочи. Мария поправила коврик под ногами и обратила внимание на то, в каком беспорядке у порога валялась многочисленная обувь. Мария любила, чтобы обувь стояла ботиночек к ботиночку. Свои туфли она мыла и чистила каждый вечер, чтобы городская соль не разъедала их кожу.
Мария предполагала найти в квартире Гайдебуровых, по ее мнению, людей состоятельных, евроремонт и была разочарована линолеумом повсюду, советским кафелем в ванной, стенкой начала девяностых в гостиной. Стиральная машина «Бош» находилась на кухне, и из нее торчало белье, холодильник был небольшим, газовая плита была не из дорогих — «Индезит». Раковины и тумбы кухонного гарнитура были загромождены разномастной посудой. На мягком велюровом уголке спал старый кот. Свалявшийся ворс копился на коврах. Одни цветы в горшках подсыхали, другие достигали монстрообразных размеров. Телевизор не последнего поколения, картины на стенах — петербургские ложные пейзажи. Она слышала о фонтанах в виде акрилового столба в холлах, но этого у Гайдебуровых не было, как, впрочем, и самого холла.
Мария перестала надеяться на Верину помощь и села с ней пить чай и вино. Вера достала икру, семгу, мандарины, китайские груши и крепкую, багровую бастурму, облепленную специями. С хорошим тонким смуглым лицом Вера выглядела стойкой, молодой, рослой. Она была надушена упрямыми, элитными духами, которые любили ее красивую кожу. Расклешенные фиолетовые брюки повторяли Верину пластику с грациозным опозданием, с тягучим усилием. Верины глаза были твердыми и гостеприимными. Они не выдавали переживаний. Какой-то чудаковатой, отрешенной смотрелась ее прическа, длинное блестящее каре, словно юбка из плотного шелка с разрезом. Вера ушла в комнаты и вернулась с украшениями на слабых пальцах. Огромным казался перстень с гранатовыми гранями, испускавшими сумеречный, закатный блеск. Перстень загораживал собой место для обручального колечка.
— Тебе идет декольте, — сказала Вера, изучая издалека золотой крестик Марии.
Они поговорили о детях Гайдебуровых, потому что своих у Марии не было. Дети у Гайдебуровых стали взрослыми. Мальчик учился в институте на первом курсе, девочка заканчивала школу. Вера принесла семейные фотографии, где было много ее и детей, симпатичных, стройных, лучистых, и мало отца, Леонида Гайдебурова. Казалось, он понимал, что родился на свет не фотогеничным, поэтому в момент съемки скукоживался, отчего недостатки его внешности вылезали на первый план. Особенно его одутловатое лицо и вся поникшая, угрюмая поза.
Мария рассказала о похоронах тети Жени, о деградирующем Кольке Ермолаеве, о непорядочном Куракине. Вера не могла вспомнить, видела ли она кого-нибудь из них хоть раз в жизни. Она думала о дочери, которая опаздывала из школы и могла не успеть к назначенному времени к репетитору.
— Диета не помогает. Я уже пробовала по группе крови и по Волкову, — сетовала Мария.
— Напрасно ты худеешь. Тебе идет полнота, — говорила Вера.
— Нет, немного надо похудеть. Особенно меня мучает лицо. Думаю, не решиться ли на пластическую операцию.
— Я тебе не советую, — говорила Вера.
— Хорошо говорить худым.
— Я тоже прибавляю в боках, в попе.
— Это не страшно, это можно скрадывать.
— А мой муженек любит полненьких, даже пышнотелых, с ямочками на всех местах, — сказала Вера и засмеялась.
— Странно, ты ведь не такая? — удивилась Мария.
— Видишь, как бывает в жизни.
— Ты придумываешь.
— Я знаю... А меня измучили мои волосы, — говорила Вера. — Лезут безбожно. Чем я их только не мазала, какую только гомеопатию не пила, все напрасно. Скоро лысая буду.
— Вера, волосы и должны лезть. Если волосы не лезут, значит, это уже не волосы, это уже что-то другое.
Обе одинаково засмеялись.
— Я от своих тоже не без ума, — продолжала Мария.
— Я купила себе уже парик. Хочешь покажу?
Вера удалилась на несколько минут, в течение которых Мария гладила податливую спину сонного кота, чья шерсть, несмотря на какую-то изношенность, отливала глубоким, наэлектризованным бархатом. Когда Вера возвратилась, Мария насобирала полную горсть кошачьих шерстинок.
Лиловый обильный парик портил, мельчил Верино лицо. Хрупкий Верин овал тонул в волнах, в девятом вале.
— Вещь богатая, но какая-то старушечья, — проговорила Мария.
— Что делать? Придется быть фальшивой старухой.
Вера освободилась от парика, как от тяжелой шапки, встряхнула собственными волосами, концы которых стали виновато, с ласкательным трепетанием закругляться поверх Вериных плеч. Поднялся кот, изогнулся удлиняющимся хребтом и зевнул всей мордой, как питон. Мария почувствовала запах испорченного кишечника. Кота звали странно — Гермагеном.
Мария все-таки решилась поделиться с Верой своим горем. Она понимала, что не ровня Вере, что Вера стоит выше ее в некой женской иерархии, предполагающей те или иные преимущества — привлекательность, успех у мужчин, богатство, добропорядочные брачные отношения, наряды, материнское счастье, образованность, приятный нрав. Мария замечала в Вере и некоторое высокомерие. Но это высокомерие было совсем не обидным, внешним, похожим на защитную реакцию беззащитного организма. Верину холодность нельзя было бы называть гордыней или даже гордостью. Новочадов, вспомнила Мария, называл эту тугую недоступность горделивостью.
Женщины доверчиво смотрели друг на друга и, хмелея, старались пить с элегантностью, которая диктовалась добротными бокалами из свинцового хрусталя.
Мария теперь легко рассказала, что с ней произошло: как ее кинули (так она выразилась неоднократно). Полгода назад Мария, как умная Маша, внесла пай за квартиру в строящемся доме на Ленинском проспекте, чтобы к Новому году справить новоселье. Неделю назад она узнала, что ее кинули. Директор фирмы-застройщика, собрав за семьдесят квартир два миллиона долларов, исчез вместе с деньгами. Договоры на квартиры оказались ничтожными, оформленными с нарушением законодательства. Эти же самые квартиры ранее были уже проданы другим клиентам, а деньги Марии, как и прочих обманутых, прошли мимо официальной кассы.
— Мне знакомая из банка порекомендовала. Мол, приличная фирма, не один, мол, дом уже построили, без всякого этого кидалова. И вот, пожалуйста, самое настоящее кидалово! — Мария сердечно вздохнула. — Представляешь? Ведь я знала, что такое возможно, что такое сплошь и рядом творится, этот бардак, этот беспредел. Ведь сколько раз читала, сколько раз по телевизору смотрела, все эти самозахваты квартир, то, что одну и ту же квартиру разным людям продают, и другие безобразия на рынке недвижимости. И вот, представляешь, сама попала, как умная Маша.
— У нас на углу такой же дом пустой стоит. Омоновцы охраняют. На одну квартиру по три ордера, — сказала Вера.
— Сволочи, Верочка. Что делать? Я очень хотела выехать из своей коммуналки. Ты знаешь. Копила, отказывала себе во всем. Мамину комнату, царство ей небесное, продала. Сама виновата. Клюнула на низкую цену. Такая квартира все двадцать пять сейчас стоит, а мне предложили за двадцать две. Я и купилась. Я ведь ездила смотреть, ходила по этой чертовой квартире. Седьмой этаж, большая кухня. Остались отделочные работы. Одно меня тогда смущало, что директор этой строительной фирмы — какой-то грузин или абхазец. Но он такой обходительный был. Бритый, по-русски говорил без акцента. Вот черные что с нами вытворяют! Я не знаю, что мне теперь делать. Новочадов не помощник. В суд подавать бесполезно.
Мария была признательна Вере за то, что ее изумление было молчаливо горестным, что у нее болезненно затвердели черты лица, что никакого, даже рефлекторного шороха злорадства, как это часто бывает, в Вере не промелькнуло. В последние дни Мария замечала во многих людях мнимый праведный гнев, внутреннее благодарение: «Чур, не меня!» Замечала у близких людей удовлетворенную зависть, презрение и досаду: «Ну и дура же ты! Лоханулась! Так вам дуракам и надо!»
Когда Вера вдруг заплакала и стала звонко, высоко всхлипывать, следом заплакала и Мария. Она вдруг вспомнила, какую огромную сумму денег потеряла, какой сгусток долгого времени, какую близкую мечту; она вдруг поняла, что теперь уже никогда не получит отдельную жилплощадь.
Между тем все же спросила Веру:
— Ты можешь мне помочь?
— Как? — испугалась Вера.
— Ты можешь встретиться с Ковалевым?
— С каким Ковалевым?
— С твоим одноклассником. Он теперь депутат. Мне сообщили: он имеет влияние на ту фирму, которая теперь занимается этим домом.
— Ковалев? Сережа? А откуда ты узнала... о нем? — Вера хотела сказать «о нас».
— Твоя мама рассказала, Ольга Павловна. Рассказала даже, что он за тобой ухаживал по молодости.
Вера вдруг почувствовала косвенный умысел в этой просьбе и во всей этой ужасной квартирной истории Марии и в том, что сюда привлечена ее мама. Вера сходила в дальнюю комнату за школьным выпускным альбомом и показала Марии щуплого Ковалева в очечках.
— Разве это он? — спросила она у Марии.
— Он самый, — подтвердила Мария.
...Мария шла в потемках от дома Гайдебуровых к тому пустующему дому на перекрестке, о котором говорила Вера. Напротив была трамвайная остановка. Пустой дом сиял чистыми, слюдяными окнами. Двери всех парадных были железными. У торца дома торчала деревянная будка, похожая на дачный сортир, внутри горел свет. Мария понимала, что этот депутат Ковалев и его школьная пассия Вера (у обоих медленно оскудевало раннее изящество) поленятся взять шефство над ее бедой. Теперь всякое равнодушие понятно. Когда они встретятся и обрадуются тому, что оба почти не изменились за минувшие годы, Мария с ее недоразумением им больше не понадобится. Мария внимательно посмотрела на новенький пустой дом, и ей захотелось захватить его весь, со всеми зияющими балконами и зарешеченными помещениями. Из будки вышел пятнистый охранник, издали сутулой, безвольной спиной напомнивший ее Новочадова. Охранник смотрел на ее сумку. Не террористка ли? Она повернулась и раздраженно пошла прочь. Ей было хорошо плакать в сырой темноте.
...Вера вспоминала юного Ковалева. Ей припомнилась одна из вечеринок у нее дома. Ковалев был долговязым улыбчивым подростком, с тощими острыми ногами. Вере в нем могло нравиться лишь его поразительно пропорциональное, строгое лицо. Он был светленький, но с черными бровями. Она даже недоумевала тогда, почему красивое мужское лицо так редко сочетается с красивой мужской фигурой. В тот вечер ей было приятно чувствовать на своей талии завороженные длинные пальцы Ковалева. В них стучала пугливая дрожь. Он заговорщически переводил свою руку выше к ее небольшому бюсту, и она знала, что он впервые касается краешка женской груди и что это начинание его раскрепощает. Ей нравилось, что именно ее грудь стала первым объектом его нежного познания. Какие ухаживания? — думала Вера. Это она за ним, кажется, ухаживала. Они так ни разу и не поцеловались. Напротив, когда он нечаянно увидел, как она взасос целовалась с некрасивым Витькой Поповым, он стал избегать ее с брезгливостью.
Вера подошла к зеркалу, сняла блузку. Она смотрела на свое лицо и грудь, увидела свою высокую, ранимую шею. Все было одинакового, смуглого, ровного оттенка. Грудь была по-прежнему маленькой и беззащитной, но впечатления таинственности больше не вызывала. Вера не любила дотрагиваться до своей груди.
«Почему он меня не любит? — думала Вера о муже. — Это я должна его не любить».
Она вспомнила, как хорошо, несмотря на запах алкоголя, пахли юноши и девушки на школьных вечеринках, каким свежим и прохладным был язык у Витьки Попова, каким древесным, весенним, чуть горьковатым, как лопнувшая почка, было короткое, обрывистое дыхание у Сережи Ковалева.
Вера подняла руки к лицу и понюхала свои подмышки, затем поднесла к губам и носу пряди волос. Зазвонил телефон. Одеваясь, Вера говорила с подругой Кругликовой. Та находилась в эйфории от новой шубы. Вера подумала, что если речь идет об очередной шубе, то следует ждать очередного развода Кругликовой.
Вера надеялась на семейную жизнь, как на счастливое равновесие. Для нее это означало, прежде всего, знать, где в тот или иной момент находятся ее дети и чем они занимаются, быть уверенной в том, что им комфортно, что они в безопасности, знать, где находится ее муж, что он делает, верить, что он вспоминает о ней в ту самую минуту, когда она вспоминает о нем, верить, что их общая память заботлива, любострастна и отчасти иронична.
Вера считала, что современной женщиной, такой, например, как Кругликова, ей стать уже не суждено, как будто в ее душе, наполовину сиротливой, наполовину жертвенной, места для эффектной самостоятельности совсем не осталось. Вере было почему-то неловко жить самой по себе, неловко думать о возможных изменах, неловко причинять заведомую, пусть и справедливую боль. Она замечала, что женская независимость зачастую предполагала хищническое, отвратное поведение. Ей было приятно последнее время склоняться к предопределенности, все чаще мысленно твердить о «такой своей судьбе».
Кот Гермаген смотрел на нее чуткими, орнаментальными глазами. Вера вспомнила его недавнее мучение, его неудавшуюся, может быть, попытку покончить с собой. Она взяла его на руки, как взрослого, не очень тяжелого ребенка. Она подумала, что животные своим присутствием связывают людей с тем, иным, загробным миром. Они оттуда. Они, особенно кошки, — эмблемы того мира, его отсвет здесь.
— Ну что, Геруся, прижился?
«Где же эта Танища?» — думала Вера о дочери.
6. Исполу
Куракин дорожил своим обликом потешного и разлакомившегося человека.
От следователя прокуратуры он вернулся как с циркового представления — в приподнятом расположении духа. Следователь прокуратуры для встречи с ним переодевался в форменный мундир с золотыми полковничьими погонами. Это скоропалительное театральное переодевание так забавляло Куракина, что он прыскал в бороду мелкими, смешливыми слюнками, особенно когда заглядывал под стол и обнаруживал на острых прокурорских ножках истрепанные, хлипкие джинсы. Ему было нестерпимо весело видеть, с какой брезгливостью шерстяное, синее, толстое сукно соприкасалось с тряпичной джинсовой бумазеей. У полковника были редкие перламутровые зубы, обвислые, бескровные уши, пышная, словно шиньон, челка, профессионально усталые, твердые, как два кофейных зернышка, глаза и грамматически правильная, до панической судороги, речь. Сегодня он, не заглядывая в бумаги, зачитал Петру Петровичу обвинение в том, что Куракин П. П. вместе с Молотковым В. Д., действуя в пользу созданной ими автономной некоммерческой организации «Простор СПб» и игнорируя известные им обстоятельства об отсутствии у АНО «Простор СПб» платежеспособности, материально-технической базы, финансовых средств, необходимых трудовых ресурсов, а также опыта и положительной репутации, обеспечили победу этой организации в восьми конкурсах, о том, что Куракин П. П. подписывал соответствующие договоры, утверждал заведомо завышенные сметы расходов, производя оплату по ним сразу же после их заключения, а не по результатам работы, вследствие чего бюджету города нанесен существенный ущерб. Свидание с прокурором длилось пять минут. Куракин и следователь пожали друг другу руки. Куракин ждал, что следователь приподнимется и разведет руки, мол, закон есть закон, такова процедура, но следователь пожимал руку Куракину сидя, и его мнимая обезноженность представлялась Куракину особенно комичной. Он прочел в ленивом взгляде следователя, что посадить Куракина, конечно, не посадят, потому что за него сидит уже бедолага Молотков, а вот кровь испортить постараются хотя бы ради того, чтобы ни одно запущенное колесо не вращалось бы вхолостую в этом мире. Следователь своими длинными прядями и своими искушенными, сибаритскими глазами напоминал Куракину какого-то советского писателя и, скорее всего, действительно пописывал на досуге. Его худоба была болезненной, злокозненной и благородной. Казалось, еще мгновение, и он начнет рассуждать о совершенно другом предмете — о сочетании в литературном произведении оригинального материала с аллюзиями.
«Выжига», — заключил следователь о Куракине.
«Извращенец», — догадался Куракин о следователе.
Куракин любил долго, церемониально идти по коридорам до своего кабинета, по этим высоким прелым тоннелям, соединяющим иногда помещения, иногда эпохи. Здесь, как Гераклитов огонь, плавал стойкий, загустевший воздух. Пахло старым деревом, краской, крутым кипятком, хлоркой, газетами, «Беломором», кожаными папками. Ничто и никогда не выветривалось отсюда, а образовывало самодостаточный круговорот. Здесь рождалась догадка о том, что пространством и временем Бог и дьявол владеют попеременно. Причем так: если временем распоряжается Бог, то пространством — дьявол. Здесь человеку становилось ясно, что Бог и дьявол стараются в жизни не пересекаться. Случайный посетитель, озираясь, думал, что в его личном пространстве теперь расположился дьявол, зато в его личном времени обитает Бог. Или наоборот.
Куракин любил идти и раскланиваться, как японец. Иногда он останавливался и с кем-нибудь стремительно обнимался, а кого-то и троекратно лобызал. Он шел по середине топкой ковровой дорожки. Его озорные туфли припоминали невидимые свои следы, запечатлевшиеся на полу во время предыдущих триумфальных проходов.
Распрямленный и осанистый, он шел с той поспешной размеренностью, которая помогала его богатырской бороде молниеносно впитывать искусственный свет, громоздя гроздья ответных бликов, ворохи переливов, мириады жестких огоньков. Казалось, что борода безудержно хохотала в то время, когда глаза наполнялись почтительной бесцветной сдержанностью.
Первым он поручкался с директором одного из городских музеев Рыбаковым. На директоре, презрительном и долговязом, был обвислый белый свитер с горлом под черным клубным пиджаком. Такой белой вороной без галстука появляться в административном учреждении позволяло ему, видимо, его кокетливое высокомерие. Рыбаков, будучи независимым страстотерпцем, ожидал от бытия большего утешения, чем то, что получал, так же как от Петьки Куракина — больших знаков внимания, нежели те, что тот выделил ему теперь. Рыбаков надеялся на теплый шепоток Куракина, а был удостоен липкой, быстрой ладошки. Куракин почему-то боялся поцеловать Рыбакова в его артистические, гитлеровские усики, контрастирующие с глубокими, синими глазками.
Издалека Куракин кивнул парочке обоюдно спивающихся прожектеров, некогда крупных работников Смольного, кажется, Мажорову и Жданову, выходящих с подержанными дипломатами из туалета, в сигаретном пепле и мрачных раздумьях. Его вид их окрылил, они было потрусили за ним, но его шаг был беспощадно скор. Он понимал, что эти одутловатые мошенники нуждались в его веселом нраве и в его бутылке коньяка.
На повороте он обнялся с Дерябкиным, вице-президентом топливной компании. Тот был в мятом светлом двубортнике, его щеки стыдливо и ярко горели, губы непроизвольно боролись с языком. Обоим, Куракину и Дерябкину, было приятно от того, что они не только телами, но обнялись и своими дорогими, пахучими одеколонами. Куракин успел заметить Дерябкину, что одно дело — пунцовые пятна на впалых щеках и совсем другое дело — на круглых. Дерябкин зарделся с новым довольством. Куракину было приятно видеть в утомленном, смущенном бизнесмене бывшего чекиста и беспринципного бандита.
На лестничном марше Петр Петрович приложился к кукольной ручке Ленки Астаховой, владелицы бизнес-центра на Садовой. У них была общая комсомольская пленительная звезда, и в те годы Ленку Астахову за ее мужскую, товарищескую хватку звали «Ленка-мужик». Теперь она всеми силами торопилась походить на актрису Гурченко, подгоняя под ее вневозрастную бестелесность свою диетическую сухопарость, двигаясь танцующими перебежками, мельчить которые ей поневоле помогали поразительно узкие подолы ее юбок.
— Ленка! Какая у тебя красивая, какая-то неуловимая оправа! — восхитился Петр Петрович тому, как в ее очках, сползших на кончик прооперированного носа, ее зрачки делились и множились, как в калейдоскопе.
— Кристиан Диор! Компьютерный подбор к лицу. Мне с тобой посоветоваться надо, Петька.
— Советов никогда не жалко. Заходи.
— Я через часик загляну.
— Слушай, Ленка! Не помнишь, сколько орденов было у Ленинского комсомола?
— Чего это тебе приспичило? Ой, не ерничай, Петька!
На третьем этаже Куракин встретил Мудрик, председателя смежного, отчасти конкурирующего ведомства, в новой мальчишеской стрижке. «Ба, бабушка затеяла очередную каверзу», — догадался он. Мудрик улыбнулась ему исподтишка, но гладко и нежно.
— Соперничать должны департаменты, а людям надо дружить. Не правда ли, Валерия Сергеевна? — Петр Петрович поцеловал холодные, дрожащие, напудренные щеки беспокойной стареющей женщины.
— Жаль, Петр Петрович, что вы не присутствовали на совещании у губернатора, — сказала, не скрывая загадочности, Мудрик, которой доложили, что Куракин нет-нет да и зовет ее «бабушкой».
«Бабушкой» он ее окрестил за низкую, тяжелую посадку, за ее останавливающийся взгляд, за однотонные шелковые балахоны на одной массивной, как блюдце, пуговице, толстые белые лодыжки, дерзкие куцые прически, громкие каблуки и невинные, путаные интриги, детали которых она вдохновенно забывала, а записывать не удосуживалась.
— Неотложные дела, Валерия Сергеевна.
— Понятное дело, Петр Петрович, — нажала Валерия Сергеевна на слово «дело». — Что же, теперь Пилицын вместо вас ублажает журналистов.
— Ему сам бог велел. Он все-таки чуть ли не вице-губернатор по вопросам... баскетбольного клуба, — парировал Петр Петрович.
Петр Петрович увидел пеструю, демократичную толпу, внутри которой сквозил Пилицын, небольшого роста, в желтом галстуке, зажатом высоким клетчатым воротником. Пилицын, как неофит, от возбуждения постукивал лаковой ножкой. Все знали, что он был человеком абсолютно непьющим и поэтому компенсировал этот свой недостаток излишним кураторством спорта, особенно такого малодоступного ему, как баскетбол, а также модничанием и любовью к матерному слову и родному городу.
Петр Петрович, проходя, поклонился Пилицыну, Пилицын, мгновенно отвлекшись, поклонился Куракину. Странно, при поклоне у Пилицына ни один волосок на голове не шевельнулся. Петр Петрович был осведомлен о том, что прошедшее совещание у губернатора было посвящено итогам недавнего визита президента в Санкт-Петербург.
Петр Петрович расслышал конфузливый комментарий Пилицына:
— Совещание было жизненным. То, что президент, не подбирал слова, лишний раз доказывает, что он знает, что делается в городе.
На ближних подступах к своим апартаментам Куракин успел пошутить про Пилицына с пресс-секретарем Зиновьевым, как всегда пахнущим дешевым бензином, рассказать последний анекдот от Трахтенберга глумливому депутату-яблочнику Баршаю, расцеловаться с полузабытым Печуркиным, ликующе поздороваться с обладателями каких-то смешных фамилий: с Кирдяшкиным, со Свищом, с Зейналовым, Сумбуровым, Подобедом, Ивановым и непристойно махнуть ручкой госпоже Вержбицкой. Петр Петрович понимал, что теперь она простит ему это амикошонство, даже будет благодарна ему за внезапное приветствие, так как была занята как раз тем, что изо всех сил старалась не смотреть в ту сторону, откуда смешливо шел на нее презираемый ею популярный ректор. Куракин издалека помахал и богатому ректору, нарядившемуся в разбойничий, извилистый, как питон, галстук.
В приемной секретарь Люда подала Петру Петровичу характеристику на провинившегося городского бузотера, которого по просьбе губернатора предполагалось схарчить руками остроумного Куракина. Куракин моментально прочел документ и, перечеркнув фразу «Лаврентьев конфликтен и обладает неуравновешенным характером», надписал другую, убийственную: «Лаврентьев в решении служебных вопросов склонен к неконструктивным конфликтам». Люда из-за плеча Куракина увидела написанное и в который раз поняла, насколько ее милейший шеф может быть опасным.
В своем кабинете Куракин обнаружил любимый им сквозняк и Михаила Аркадьевича Болотина.
— Вы же простудитесь, Михаил Аркадьич!
Куракин быстро обнял поднявшегося с одышкой старика Болотина и устремился к окну захлопывать форточку.
— Меня сквозняки не мучают, Петр Петрович. Меня мучают плохие люди, — на выдохе садился сразу на два стула Болотин, по-стариковски, почтенно грузный.
— А вы замечательно выглядите, Михаил Аркадьевич! И личико румяное, и, кажется, осунулись.
— Нет, Петр Петрович, не осунулся. Хотел было сбросить десяток килограммов. Жужжат все, якобы очищение организма по китайской методике. Я уже и билет взял в Пекин, и вдруг меня осенило: нетушки, то, что китайцу хорошо, то старому больному еврею — смерть. Мне мой вес, Петр Петрович, по правде сказать, ни в чем не мешает, да и мешать-то не в чем уже. Можно я покурю немного? Вы, Петр Петрович, извините меня, тоже дюже раздобрели. Но я хочу сказать, что вам эта доброта очень, знаете, к лицу. Она вам политической энергии добавляет, этакой респектабельности. Это замечательно, Петр Петрович. Есть люди жирные, печальные. А есть гладкие, жизнерадостные. Вот вы такой. Любо-дорого на вас смотреть.
— Спасибо, Михаил Аркадьевич. Давайте и я закурю и расскажу, что я придумал.
— Заранее со всем согласен, Петр Петрович.
— Вы мои мысли сквозь череп читаете. — Куракин постучал себе пальцем по виску. — Ой, нельзя показывать на себе.
Им было приятно беседовать задушевно о текущих и стратегических интересах. Куракин с гостеприимной, плутоватой любовью рассматривал внешнюю нелепость старика Болотина: его короткополый, допотопный пиджак в засаленную полоску и короткие серые брюки (настолько короткие, насколько короткими они могут быть только у хлопотливого, башковитого, старого богача), его мятую от соприкосновения со складками живота рубашку, кургузый, как язык, красный, в посторонних пятнышках галстук, армейские теплые чеботы, пегие, кое-где надтреснутые подтяжки, его тяжелое спокойное лицо с мохнатыми ноздрями, с крупными роговыми очками, усиливающими черноту под слезящимися глазами, его больше чернявую, чем седую, крученую, вздыбленную шевелюру, его крупную мирную, как манка, перхоть на спине. Эти люди могли разговаривать друг с другом тихо и недомолвками. На каком-то этапе совместного гешефта одна из сторон решительно пойдет на надувательство. О приближении этого скверного момента жертва почувствует заранее, но ничего не предпримет для безопасности, действуя по всемогущей инерции и по законам собственного распада. Вопрос только в том, кто первым начнет деградировать, тогда второй, учуяв вонь разложения, сочтет честным поступком оставить с носом компаньона.
Они обсудили в том числе и предстоящие выборы, участие в которых понадобилось младшему Болотину для полноты мировосприятия. Тридцатилетний Михаил Михайлович, видимо, достиг той зрелости, когда пресыщение вдруг превращается в голод. Кроме этого, ему, возможно, показалось, что он по счастливому стечению обстоятельств находится в той точке, где ожидается вскоре рождение чуда. Куракин догадался, что молодой Болотин захандрил от примитивного могущества денег, от трепета прежнего, юношеского, честолюбивого завета. Он видел, что молодой Болотин, как какой-то вырожденец, давал слабину. Он видел, что самообольщением сына заражался и отец. Куракин припоминал, что молодой Болотин выглядел неизменным хищным увальнем, таким же рыхлым и кривым, как и отец. Родовая мешкотная осанка, недавно появившаяся бородка, которая никак не хотела быть стильной на громоздком лице, сиплый, негромкий голос камуфлировали его полный приторного изнеможения вялый цинизм.
«Нельзя так показывать на череп — некоторых это возбуждает», — подумал Куракин. Он понимал, что молодого Болотина, разумеется, не выберут, и радовался тому, что отец и сын этого пока не осознают. Куракину почему-то всегда было неприятно по пути на дачу заезжать за продуктами в супермаркет, принадлежащий младшему Болотину. Петру Петровичу почему-то мерещилось, что его здесь любезно обирают.
— Договорились. Мы включаем Михаила в губернаторский список, что уже само по себе почти стопроцентная гарантия прохождения, — говорил Куракин. — Конечно, в надежде на равноценную поддержку с вашей стороны.
— Да, это само собой разумеется, — отвечал Болотин. — Я не знаю, зачем это нужно Михаилу. Но поверьте, Петр Петрович, это не каприз барчука. Мне кажется, ему, с его образованием, стало тесно в бизнесе и обидно, что политикой занимаются зачастую какие-то маргиналы, кто не умеет ни работать, ни зарабатывать. В общем, кризис среднего возраста.
— До среднего возраста вроде бы ему еще далековато, тем более — до кризиса.
— Если честно, Петр Петрович, я не одобряю этого его решения. Я даже побаиваюсь этой активности их молодого брата. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Они многого не знают, не знают, чем все это может обернуться. Они, как ни странно, не видят существенных перемен. Ведь на дворе уже не девяностые годы. Но Миша упрям, как вол. Он думает, что политика — это тот же бизнес.
— О, тогда он сильно заблуждается. Это совсем не так. Это вещи разного порядка. Но ничего страшного не произойдет, если молодой человек попробует откусить и от другого пирога.
Некоторое время Куракин и старик Болотин сокровенно молчали о деле Куракина. Старый Болотин, осмотрев пустой протяженный стол для заседаний у окна, пачку «Мальборо», увесистую хрустальную пепельницу, вспомнил происшествие теперь уже десятилетней давности. Приблизительно такой же массивный стол в ту пору находился и в его директорском кабинете. Он вспомнил, как однажды к нему вошли бандиты, человек шесть, сели за тот стол, предъявили известные ему претензии, причем выступал один, некий Коля Баста, белокурый и внешне не злой щенок, рядом с которым в качестве приглашенного арбитра расположился улыбчивый, тогда безбородый Куракин. Кончив говорить, Коля Баста вдруг ритуально запалил пустую пачку «Мальборо» прямо на полированной столешнице, и, пока пачка не догорела, пацаны не переставали наблюдать за реакцией старика Болотина (его уже в те годы считали стариком). Михаил Аркадьевич помнил, что чувствовал тогда себя абсолютно индифферентно, что таким же хладнокровным и печальным выглядело и его лицо. Где теперь эти удалые, неграмотные гангстеры? Коля Баста точно в могиле. Молчаливый Отбойник там же. Субботин там же. Эх, ребятки, ребятки! А вот Петр Петрович да Михаил Аркадьевич живехоньки курилки, может быть, единственные из тех, кто присутствовал тогда при этом смешном аутодафе.
Старику Болотину показалось, что и Куракин задумался о том же самом жизненном превосходстве — превосходстве, которое растет в умном человеке от реванша к реваншу. Они посмотрели друг на друга и одинаково прыснули, как близкие, чувствительные люди.
Вошла секретарша и предупредила о Гайдебурове.
— Зови, — сказал Петр Петрович.
Гайдебуров вошел кротким и красным, зная о присутствии старика Болотина.
Болотин удивился тому, насколько Гайдебуров был похож на Куракина. Двоюродные братья обнялись, а Болотину Гайдебуров издалека, с намеренной опаской протянул руку.
— Леня, зайчик, что же ты от меня бегаешь? — спросил старик Болотин, потряхивая руку Гайдебурова, как какую-то емкость.
— Отнюдь нет, драгоценный Михаил Аркадьевич. Я сижу на одном месте. Даже тошно.
— Друзья! — прервал возможную перепалку Петр Петрович, догадавшийся о предрасположенности Гайдебурова к депрессивной раздражительности. — Каждого из вас в отдельности я уже посвятил в суть дела, которое, надеюсь, закроет ваш конфликт сполна. Сейчас нам нужно очно посмотреть, что называется, друг другу в глаза без всяких там кривотолков и обид, всей нашей, так сказать, трехсторонней комиссией, ударить по рукам и начать действовать. В принципе, действовать нужно тебе, Леня.
— Я готов.
— Исполу, — сказал Михаил Аркадьевич.
— Да, исполу, — подтвердил Куракин.
Гайдебуров сделал недоуменное выражение лица, хотя понял, что влип.
— Объясняю, Леня. «Исполу» значит половина урожая. То есть по тому контракту, который я с тобой подпишу, половину денежных средств ты незамедлительно, буквально на следующий день как получишь, перечисляешь Михаилу Аркадьичу, а оставшейся половины тебе хватит на все остальное, о чем мы с тобой говорили. Тебе такой заказ и не снился никогда. И не думай глупостями заниматься!
— Какие глупости! Половины мне не хватит. Себестоимость тянет на семьдесят пять процентов от суммы. Это не реально.
— Перестань, Леня. Я все твои затраты знаю. Кроме того, не забывай, что таким образом я помогаю тебе разрешить твой сложнейший вопрос с Михаилом Аркадьичем. Для этого можно и поджаться немного. Ты забыл, что ты должник?
Гайдебуров понимал, что ни за что не впишется в расходы. Вместе с тем он вынужден был последнее время вести дела авантюрно, пускаясь во все тяжкие, по принципу «главное ввязаться в бой, а там видно будет», главное выиграть время, хотя бы месяц.
Внезапный страх Гайдебурова упростился до тоскливой обреченности. Старик Болотин видел, что Гайдебуров не выполнит своих обязательств, но это при любом раскладе было бы на руку Михаилу Аркадьевичу, особенно в дальнейших отношениях с Куракиным.
— Ну что, друзья, договорились? — спросил Куракин.
Кажется, и Куракин тоже догадывался, что Гайдебуров не сможет вынести этой ноши.
— Договорились, — вздохнул Гайдебуров. — Куда мелкому предпринимателю деваться? С одной стороны — двоюродный брат, с другой — Михаил Аркадьич.
— Не прибедняйся, Леня. Михаил Аркадьич, между прочим, таких дорогих ботинок, как у тебя, не носит, — сказал Куракин, оглядывая обувь Гайдебурова.
Михаил Аркадьевич подсел к Гайдебурову и, как когда-то, обнял его. Гайдебуров почувствовал прежний, серный запах старика Болотина.
— Ну что, зайчик, не убежишь? Обмыть бы это дело надо, Петр Петрович? — сказал старик Болотин.
Куракин откуда-то из-под стола достал бутылку «Хеннесси».
Только теперь Гайдебуров сообразил, почему ему было так неуютно в кабинете Куракина. Кабинет выглядел абсолютно не обжитым. Нигде не было ни бумажечки, ни книжечки, ни скоросшивателя. Порожними стояли шкафы. На столах было хоть шаром покати, кроме пепельницы с двумя окурками и графина с тремя стаканами. Огромные окна без штор смотрелись нечестиво. Можно было предположить, что хозяин кабинета сразу же, как въехал сюда, не медля, сел на чемоданы и стал ждать великого переселения.
— Бизнес в наши дни, — рассуждал старик Болотин, когда выпили, — это прийти на завод нищим, а уйти миллионером, оставив завод банкротом, это — поставить на производство суперсовременный конвейер, а затем разрезать его на металлолом. Бизнес — это быть честным и порядочным, когда тебе это выгодно, и не быть таковым, если на данный момент это не выгодно. Вот так-то, зайчик. Хотя, конечно, все это не очень хорошо.
Куракин терялся в догадках, почему до сих пор его не вызвали к губернатору. Неужели Бабушка, эта мерзавка, какую-нибудь двухходовку приготовила? Неужели градус отстранения для него начал увеличиваться катастрофически?
— Что, Леня, я тебя чем-то пугаю? — спросил Куракин.
— Да, Петр Петрович. Каким-то у тебя вдруг напряженным стало лицо, — сказал Гайдебуров. — Что с тобой? Тебе не плохо?
— Успокойся, Леня. Это не то, что ты думаешь. У меня, должно быть, сейчас такое выражение лица, будто я сижу на унитазе и тужусь? Да? А на самом деле, в целях профилактики простатита, я всякую свободную минуту посвящаю тому, что напрягаю и расслабляю мышцы промежности.
7. Ревность Гайдебурова
Нет на свете скучнее зрелища, чем превращение юношей и девушек в мужиков и баб.
Вера недоумевала, зачем Мария убеждала ее в том, что Ковалев почти не изменился. Это «почти» оказалось оглушительным. Юный Ковалев был изогнутым, нежненьким, длинноволосым очкариком с матовым, умным лицом. Вера помнила, что при всей его долговязой худобе у него была плоская и широковатая задница, сквозь белую рубашку широко выпирали подвздошные косточки, что было особенно заметно, когда он шел на тебя как-то заведомо по-балетному, с неудобно вывернутыми стопами. Веру тогда удивляло, что красивое, виртуозное лицо и высокая, даже сильная шея сочетались с хилой, худосочной фигурой, с игрушечными, словно разбалансированными ногами. У него были продолговатые глаза и под стать их тонким кривым линиям — тонкий, остроугольный нос. Ей нравилась нижняя часть его лица: длинные, гладко выструганные, вертикальные выемки, соединяющие грустные губы с ранимым подбородком. Она была девственницей, но, помнится, не боялась его соблазнять, потому что чувствовала, что и он был девственником. Она полагала, что девственник целомудреннее девственницы. Она думала, что с ним, в отличие от опытных парней, ей будет легко, непринужденно, не больно и не стыдно лишаться физической невинности. Ей казалось, что духовной невинности она была лишена изначально. Она почему-то считала, что если девочки рождаются с внешним целомудрием, то у мальчиков, наоборот, от рождения непорочной бывает душа. К сожалению, в процессе плотских сближений, связанных с ними невнятных восторгов, жалких чаяний и ясных обид, в процессе взаимопроникновения души и тела, вообще в этом ускоряющемся и сокращающемся процессе, невидимое становится телесным, а грешное бестелесным, женщины становятся ангелами, а мужчины — стервами.
Теперь Ковалев выглядел богатым, жизнелюбивым хамом, который для своих старых знакомых, тем более прежних, с позволения сказать, пассий, тем более пассий невысказанных, старательно затушевывает бравурное самодовольство джентльменскими повадками, ностальгией, проникновенностью, пониманием неумолимой тщеты. Вера не видела Ковалева двадцать лет. Самым непоправимым в лице Ковалева стало исчезновение с этого лица (нет, не носа, это было бы уж совсем смешно, нос, кстати, оставался таким же заостренным, одномерным, как аппликация, с резными, нахальными ноздрями) его восхитительно впалых щек, гладких, светящихся, свежих. По бокам лица теперь располагались плохо раскатанные лепешки, окаймляющие пожирневший, кажется, на ощупь мягкий и полый подбородок. Трехмиллиметровая стильная щетина на этой буханке хлеба служила, видимо, душещипательной корочкой. Странное дело, но глаза Ковалева теперь каким-то волшебным образом расширились, временами, когда он говорил забавные вещи, они даже округлялись, что, конечно, диссонировало с его ястребиным профилем. Прежним в глазах Ковалева оставалось то, что они так же жалостливо и водянисто слезились. Туловище Ковалева теперь шло крещендо, руки и ноги уменьшились, а ягодицы, какие-то простодушные и рассыпчатые, собирались вместе только благодаря брюкам. Между тем, именно тело Ковалева теперь представлялось Вере в выгодном свете по сравнению с его нещадно переродившимся лицом.
«Он ничем не лучше моего Лени, — подумала Вера. — Такой же безнравственный, откормленный, испитой, пошловатый сорокалетний сукин кот. Только богатый и расчетливый. Леня — все больше картинный, несчастный, изворотливый расточитель. Его мотовство равно позорному самоубийству. Сострадать его неудачам я устала. Пусть погибает, если ему это так нравится».
А помнишь?.. Ковалев не придавал значения вешним сполохам общей памяти. Он, в отличие от Гайдебурова, нашел победоносную манеру взаимоотношений с действительностью — равнодушный практицизм, настороженную вальяжность, умеренную скабрезность, деликатную беспощадность. Когда Вера с волнением рассказывала ему о квартирной беде Марии, вся сила его терпения поднималась к глазам, и они медленно прикрывались какими-то черными, болезненными веками.
— Я знаю кредитную историю этого дома, — сказал он с чопорным минимализмом. — Но в этом безнадежном деле твоей подруге не только я, никто не сможет помочь. Человека того уже нет. Попала подруга. Ты мне оставь, конечно, ее координаты ради проформы. Бывшие советские люди отличаются поразительной юридической беспечностью. Между прочим, наступил век закона в самом жестком понимании этого слова. То есть грабить можно по закону. Надо только его знать и выбирать жертву, которая его не знает.
Они сидели в чистеньком малолюдном кафе с кровянистым, несуразным освещением, которое было задумано ради лирической фальши, а вызывало какую-то дремотную, сомнамбулическую головную боль. Вот откуда у ее Лени эта привычка держаться расслабленно и приглушенно в публичных презентабельных местах — от таких, как Ковалев. Только у Ковалева эта тишина выглядит натурально, а у ее муженька, человека неуверенного, хмурого и зависимого, его периодическая бесшумность замещает смятение, вечное состояние стыда и боязнь людей. Он озирается жалко и мрачно, а Ковалев не принуждает себя кого бы то ни было замечать.
На Ковалеве был дорогой, видимо, пошитый на заказ, темносиний в полоску костюм, сорочка в оранжевую полоску и фиолетовый галстук с пухлым узлом. Гайдебуров не умеет так завязывать галстуки. Он их завязывает не на себе, а раскладывая на поверхности кровати, добиваясь необходимой длины за несколько раздражительных приемов.
Вере неприятно было думать, что Ковалев может посчитать беду Марии лишь поводом для встречи с ним, — встречи, которая, если и не будет иметь продолжения, сама по себе способна исчерпать одно из самых незаметных, долговременных и томительных ощущений. На Ковалеве были белые с черным штиблеты с закругленными, какими-то шарообразными, клоунскими носами. Без досадливой усмешки на них невозможно было смотреть. Вере было неприятно, что Ковалев пригласил ее в кафе, где заурядные блюда носили названия с вульгарным, якобы амурным оттенком: салат «Первое свидание», суп «Восточная страсть», свинина «Либидо». Пили они аперитив «Дездемона», на самом деле — обычную «Маргариту». Ей было теперь неловко за себя, что перед встречей она сделала себе в салоне новую, объемную прическу с нарочито утолщенными, как пряжа, локонами, что покрасилась в темно-фиолетовый, искрящийся цвет. Она то и дело стала приминать себе волосы без опаски испортить впечатление. Вера начинала думать, что Ковалев может понять эту их встречу как прелюдию к чему-то большему, что захочет попросту переспать с ней ради некого непонятного реванша за прежнюю собственную нерешительность, ради некой завершенности, ради того, чтобы каждое начинание рано или поздно доводилось бы до конца. Она догадывалась, что Ковалев испытывал в жизни зудящий дискомфорт, если что-то, даже такое мелкое и давнее, как подростковое влечение, оставалось не реализованным. Вере возможная близость с теперешним Ковалевым была противна. Когда Мария сказала Вере, что Ковалев почти не изменился, Вера, таясь, надеялась на эту неизменность как на поддержку былой симпатии. Ей было тяжело последние годы не чувствовать сердечной склонности, равной той, упущенной, молодой, пусть даже безадресной и безымянной. Внутренне она грустила, глядя на Ковалева. Нет, Ковалев нисколько не лучше ее Леонида. Может быть, и хуже с этим своим терапевтическим тоном. В Леониде, несмотря на все его безобразное состояние, грубость и презрение к ней, одичание от неудач и слабого, плебейского характера, все-таки сохраняется какое-то истеричное, подлинное, страстное мучение. Она помнила, что в молодости то, что теперь стало этим мучением, было интенсивной радостью, бесконечным триумфом неумолимой, подкупающей перспективности.
Ковалев расстегнул верхнюю, приметную, какую-то костяную пуговицу у своей сорочки, и его щетинистое телесное жабо плавно расправилось. Несмотря на то, что взгляд у Веры стал другим, искушенным и усталым, несмотря на ее новую, сознательную неприступность в противовес прежней, девичьей, уязвимой, Вера в глазах Ковалева оставалась столь же привлекательной, худощаво статной. Он поразился, что совершенно не изменилась ее ухоженная, тонкая шея. На шее не было ни единой складки. Кожа была все такой же смуглой и мелкозернистой. Ниже декольте виднелась та же косточка между грудями. Ковалев думал, что, даже если Вера не смогла сохранить прежнюю нежную свежесть, то формы той нежности она сохранила неискаженными. Он обратил внимание на то, что основная нота ее духов, настоянных на тропической экзотике, усиливала впечатление от нее как от выразительной, теплокровной брюнетки. Между тем рука ее, до которой он случайно коснулся, была холодна.
Они говорили о своих семьях и одинаково чувствовали какой-то приятный груз, который раздавил их молодую свободу. Веру озадачило то, что, оказывается, Ковалев, вопреки своему, видимо, разнообразному светскому опыту, так и не научился подбирать темы для застольных бесед. Веру покоробило, когда Ковалев, рассказывая о своем талантливом сыне, студенте юрфака, решил, что было бы неплохо познакомить его Серегу с Вериной дочерью.
— Она ведь в маму? — поинтересовался Ковалев.
— В основном в папу, — ответила Вера.
Мужем Веры Ковалев не поинтересовался вовсе, даже из приличия, вероятно, догадавшись, глядя на Веру, что тот собой представляет.
— Жаль, мой Серега тоже похож на маму.
— Ситуация с их знакомством может получиться непредсказуемой.
— Да. Вот если наоборот.
— Говорят, хорошо, если девочки похожи на отцов, а мальчики на матерей.
— Не знаю. Иногда лучше наоборот.
— Чем занимается твоя супруга?
— Как ты думаешь? — почему-то тщеславно спросил Ковалев.
— Я думаю, она занимается домашним хозяйством, — нарочито развернуто ответила Вера.
— Правильно. Она у меня домохозяйка.
Зачем-то Ковалев попросил подошедшую официантку заменить им приборы без объяснения причин.
— Безграмотное обслуживание, — объяснил он Вере. — Будем есть мясо, а вилки подают для рыбы.
Вера со знанием дела улыбнулась, предполагая, что ее муженек до такой степени разборчивости еще не дорос, слава богу.
Кажется, молодые не бывают чванливыми. Чванство — черта благоприобретенная, а скромность — исключительно врожденная. «Как приятно любить простых, честных, смелых, умных и сильных людей!» — вздохнула Вера и улыбнулась собственному феерическому желанию, как будто последним словам Ковалева о том, что жене не нравится, когда ее называют домохозяйкой, ей нравится, чтобы ее называли супругой депутата Ковалева.
Что-то загрохотало за спиной у Веры, в смежном зале.
— Вот еще один недовольный! — захохотал Ковалев. — Даже стул уронил.
Вера продолжала сидеть, не оборачиваясь.
— Сумасшедший какой-то, — сказала напудренная до стерильной бледности официантка с новыми приборами. — Ничего не заказал, вспыхнул и кинулся бежать.
— Чем-то вы его расстроили.
— Если тебе не по карману, не ходи в приличные заведения, — отвечала официантка. — Пришел весь такой из себя скучающий господин и вдруг закипел.
В проеме появился водитель Ковалева, рыжеголовый верзила порицающего вида.
— Все путем, Юрик. Не заслоняй свет, иди! — махнул своему человеку развеселившийся Ковалев.
Вера прикрыла зубчатый вырез своего платья шелковым светло-розовым палантином, безумным подарком мужа. Ей были уже отвратительны эти мужнины ужимки якобы шального толстосума. Несчастный зрелый мужчина начинает выглядеть жалким. Она вспомнила, что Леонид, психуя, тоже любит опрокидывать стулья или бросать портфель с размаху на пол, или рвать носовой платок. «Ему нужна женщина, которая держала бы его за руку. Я этого не умею. Мне же, наверно, нужен мужчина, который бы носил меня на руках. Хотя бы какое-то время, хотя бы когда мне бывает тяжело», — думала Вера.
...Дорогой в метро Вера смотрела с напрасной завистью на молоденьких счастливых девушек, таких, как ее миловидная дочь. От их красоты и будущности Вере хотелось плакать.
«Мы влюбляемся в молодое тело, как в прообраз совершенной души», — улыбалась Вера.
Она вспоминала, как Ковалев с деланной кокетливостью сокрушался, что его жена вкладывает чересчур много души в дом, теперь — еще и в машину. Он подарил жене «феррари». Она не чает теперь в этой машине души. Так и выразился: «не чает в этой машине души». «Странно, какая у “феррари” душа?»
Гайдебуров вошел в кафе, прельстившись его манящей вывеской «Пышечка», доверившись массивным старинным дверям и обнаружив сквозь большие стрельчатые окна относительную пустоту внутри.
Гайдебуров намеревался этот день провести в раскованной, степенной истоме, как некая драгоценная вещь в себе, как эдакий бриллиант без изъянов. Иначе говоря, он собирался провести красивый день или, как он говорил, День красоты.
Гайдебурову хотелось выглядеть мятежным, обаятельно пьющим человеком, респектабельным пьяницей, бросающим реплику случайному собутыльнику: «Если человек в перерывах между запоями не перестает читать хорошие книги, такой ли уж он конченый человек, спрашиваю я вас?»
На этот раз Гайдебуров решился одеться как-то по-молодежному: в расклешенные вельветовые брюки, в добротный сиреневый свитер с молнией, в замшевую куртку с трикотажными вкраплениями и широкую, клетчатую, восьмиклинную кепку. Весь этот исступленный, ренегатский маскарад венчали (в смысле — подчеркивали) бурые, с высветленными красивыми протертостями ботинки. Шарфика на шее не было, только стойка белой рубашки. Парфюм у него был прежний и на этот раз единственный, «Живанши», последний подарок жены.
В кафе ему почему-то сразу стало не по себе, хотя он и любил пустынные, чинные заведения с отдаленным рабочим шарканием. Ему не нравилось не только противоречие между внешним видом официанток, гейш в коротких фартуках, и китчеобразным, пышноватым убранством зала, но и какая-то просматриваемость со всех сторон, какое-то ощущение, что его здесь бессовестно и незаслуженно обидят. Ему не понравилось и меню, не цены, а названия в стиле заведения — бульон «Фригидный», горячее блюдо «Крайняя плоть». Он услышал, как официантка попросила бармена, молодого строгого человека с жидкими, причудливо длинными бачками, приготовить два коктейля «Совращение».
Гайдебурова раздражала бесшумная чопорность пары посетителей в соседнем зале. Гайдебуров смотрел наискосок на лощеного нового русского его лет и его комплекции и на высокую, слегка сутуловатую спину женщины. Плечи ее были бережно прикрыты искрящейся накидкой.
В том зале курили, но и в этом Гайдебурову на стол поставили фаянсовую пепельницу, имитирующую вагину. Гайдебуров решил уйти отсюда подобру-поздорову. Ему досаждал красноватый свет, который пучками и мокрыми кляксами скапливался повсеместно, особенно на взбитых волосах полузнакомой дамы. Его угнетала гробовая, плотоядная тишина в соседнем зале, при том что люди там беседовали и даже смеялись. Ему почему-то вдруг стала понятна мерзость отдельных кабаков, кафешантанов, харчевен, забегаловок, бистро и прочая.
Гайдебуров собирался встать аккуратно, как человек воспитанный, а получилось, что он встал раздраженно и крайне неуклюже, как медведь, так что случайно, без особого рвения опрокинул тяжелый, с подлокотниками стул. Именно от того, что он так неловко, так симптоматично повалил стул, Гайдебуров побежал вприпрыжку, как будто что-то похитил со стола, салфетки или эту пепельницу-вульву, или хлипкий фаллический подсвечник. Ему совсем не хотелось, чтобы та притворная пара из соседнего зазеркального зала стала свидетелем его постыдной мешковатости и позорного ретирования. Он старался пройти по улице, минуя окна кафе, так, чтобы неприятные ему люди не смогли различить в его сумбурной, копотливой осанке предельную степень обескураженности, может быть, шок, может быть, ярость, смешанную с бессилием. В этой рябенькой разлапистой кепке он теперь выглядел профессиональным несчастным клоуном, которому директор цирка сделал последнее предупреждение, попросту говоря, вставил пистон...
Гайдебуров, запыхавшись, вошел в другое кафе, непретенциозное, дешевое, с приемлемой грязнотцой, с маленьким, трескучим камином. Кафе было рассчитано на четыре тесно сгрудившихся столика. Располагалось оно, кажется, в бывшем парадном подъезде. Буфетчица, молодая девушка, какая-то растерянная, в полуступоре, в великоватой блузке, с невнимательными глазами, долго не могла увидеть, что Гайдебуров сел за столик. Наконец он сообразил, что здесь надо самому подходить к стойке заказывать, и почему-то обрадовался этому старому, отжившему порядку. Гайдебуров заказал отбивную на косточке с жареной картошкой, греческий салат, томатный сок и триста граммов водки. Поначалу он планировал в этот день пить исключительно красное вино, но происшествие в кафе «Пышечка», его подозрения и радостный, гибельный ажиотаж спутали его карты, вернее, его винную карту.
Гайдебурова начала умилять, как хорошая живопись, крупная, тестообразная женщина, по всей видимости, мелкая бизнесменша, сидевшая в одиночестве напротив и заказавшая на обед салат «Столичный», лобио, такую же, как у Гайдебурова, отбивную на косточке, бутылку боржоми и водку в графине. Гайдебуров начал ей улыбаться, ожидая свою закуску. Бизнесменша выпила полную рюмку и посмотрела на Гайдебурова с миролюбивым, усталым предостережением: мол, слышь, мужик, не мешай отдыхать в одиночестве, самой с собой, без вас, без мужиков, и без всего этого тошнотворного мира. Гайдебурову понравилось отношение к жизни этой бизнесменши, и он, набравшись храбрости, поднял навстречу ей свою полную рюмку. Бизнесменша не рассердилась, напротив, слегка, насколько позволял ей это сделать крошечный рот, усмехнулась, но свою рюмку, правда, пустую, не приподняла. Бескорыстным ухаживаниям мужиков она не верила. Гайдебурова она видела насквозь, тем более что он не только не скрывал, но и выпячивал теперешнее свое новое состояние податливого, завравшегося, истеричного, праздного обманутого мужа. «Его жена, — думала бизнесменша, — если и способна на измены, то это все измены мелкие, чистенькие, гигиенические».
Ревность Гайдебурова шершавым кошачьим языком вылизывала его душу. Он недоумевал, почему нельзя было им, тем в «Пышечке», в качестве прелюдии придумать нечто оригинальное, вместо этого банальнейшего ужина, хуже того — обеда, в пресловутом, аляповатом заведении. Нет у любовников фантазии. Гайдебуров думал поспеть сегодня еще домой на пятнадцать минут, до возвращения жены, чтобы уничтожить, вероятно разорвать на мелкие кусочки (жалко, что не сжечь), свои любовные солдатские письма будущей торопливой блуднице. Некогда он почитал ее святой на своем исковерканном фоне. И вот — нате! По-настоящему мучает лишь собственная греховность. Через грех все теряешь и все находишь. Он помнил, что письма были написаны умным почерком. Теперь они бесили своими сентиментальными излишествами, чересчур ласкательными суффиксами, неоправданным, грядущим семейным счастьем.
Гайдебуров в такие разоблачительные минуты любил предаваться мыслям о самоубийстве. Это все сладкие мысли, не имеющие ничего общего с настоящими суицидальными приготовлениями, — мысли о красоте последнего поступка, мысли о белом мраморном небе, о душещипательной решительности, о благородном демарше. Он вспомнил, что его дядя по отцу тоже застрелился, кажется, в этом же возрасте, кажется, из-за таких же житейских и совершенно опустошительных личных неудач. Гайдебуров подумал о генетической склонности к самоубийству. Ничто так не задевает, как родовая память, как наследственная предрасположенность, как судьба. На фотографиях дядя был красивым, сдержанным, добрым, мягким, в общем — интровертом. Его жена на фотографиях была чернявой, черноглазой, с гроздьями кудряшек, тихой, ликующей, безвредной, сильной, счастливой женщиной. Их маленькая дочь была похожа на дочь Гайдебурова, когда та была пятилетней. Гайдебуров, становясь мистиком, предположил, что дядина жена, которую звали Светлана, которую, так же как своего дядю, он никогда не видел за давностью произошедшей трагедии, — так вот эта состарившаяся женщина погибла в момент крушения истребителя во время летнего летного шоу во Львове. Тогда самолет упал на толпу. Она ведь переехала с маленькой дочерью во Львов после похорон мужа-самоубийцы.
Гайдебуров решил не психовать, не показывать вида, что осведомлен о предательстве, если и проявлять в дальнейшем истеричность, то молчаливую, пренебрежительную, вежливую... «Когда же кончится эта двоящаяся, двоякая жизнь, это двоедушие, это междуцарствие?» — думал Гайдебуров.
Он разговаривал с мелкой бизнесменшей через два стола, не подсаживаясь к ней. Впрочем, в кафе больше никого и не было, и их разговор, двух самостоятельно выпивающих людей, казался размеренным и негромким. Победно трещали поленья в камине. Клевала носом буфетчица, шел беглый снежок за окном. На бизнесменше была какая-то тесная кацавейка со стеганой подкладкой. Ее глаза красиво, с плаксивостью расширялись, она становилась приветливой и чуткой, ее начинало интересовать чужое красочное горе. Эта женщина вообще-то не любила аутистов и их околичности. Но еще больше она не любила мачо.
— Вы не любите людей, поэтому столь патологически застенчивы, — говорила она Гайдебурову.
— Неправда! — восклицал Гайдебуров. — Это люди не любят меня. Поэтому я, как вы говорите, патологически застенчив.
— Нельзя быть одному.
— А я остался один.
— Так можно сойти с ума.
— Я всегда гордился своей крепкой, скептической психикой.
— Вы много пьете.
— В меру.
— Вы любите обман и особенно, когда вас обманывают.
— А вы уже уходите?
— Я уже ухожу.
— Не уходите хоть вы.
— Дела.
Гайдебуров смотрел на бирюзовую пелену, в которую погружалась неприхотливая молоденькая буфетчица, и засыпал. Ему приснился мгновенный сон, обласканный пламенем камина. Ему приснилось, что он ел большой помидор, «бычье сердце», а рядом Вера ходила разряженной, причем в том числе в его замшевую жилетку. Он сказал цыганистой Вере: «В этой жилетке завтра же пойдем подавать заявление на развод». Вера развратно захохотала.
Гайдебурова разбудил звонящий телефон. Посвежевшая, взбодренная буфетчица смотрела на Гайдебурова с опасливым вниманием. Она обрадовалась тому, что клиент очнулся сам, без постороннего вмешательства.
Гайдебурову звонил Колька Ермолаев.
— Я решил, — сказал он Гайдебурову коротко.
— Хорошо, — сказал Гайдебуров, не понимая. — Перезвони мне завтра. Я сегодня занят.
— Я в любом случае решил. Не твоего, так своего, — подтвердил Колька.
— Хорошо, братан. Переговорим.
Гайдебуров подумал, что Колька — запасной вариант. Он, Гайдебуров, собственноручно сделает это лучше. Идти на преступление надо в одиночку, чтобы не было чересчур совестно. Совесть должна оставаться равнодушной к гибели мироеда. Совесть — это высокая, изящная, неизлечимая болезнь.
Гайдебуров представил, с каким насмешливым видом сегодняшний Верин кавалер обращал ее внимание на скабрезные названия в кафе «Пышечка». Гайдебуров знал, каким было у нее теперь выражение лица.
— Я поехал, — сказал он буфетчице, нахлобучивая спасительную кепку. — Наверно, к брату.
— Приходите еще.
— Девушка, для разжижения крови принимайте американский аспирин.
8. Колька
Хотя Колька Ермолаев и грозился ломать руки направо и налево, попадало обычно ему, человеку с претенциозной, запущенной бороденкой, огромными ступнями, красно-черными зенками, которые, вероятно, и притягивали к нему тридцать три несчастья.
Последний раз на него упала одинокая, крепкая, как кокос, сосулька и повредила череп. Две недели Ермолаев зализывал раны. Он стал уже любить физическую боль. Он догадывался, что и новое увечье придумано его невестой Иветтой. И все другие связаны с ней. И в его смерти надо будет винить ее.
Незадолго до очередного травмирования Ермолаев подарил капризной Иветте тонкую золотую цепочку. Конечно, это был неудачный, скороспелый, плюгавый презент. Иветта, увидев это ничтожество, взбеленилась и впервые визжала на жениха безумным, сухим фальцетом: «Как ты смеешь дарить мне такую хренятину? Ты не понимаешь, что такие сопливые нитки носят только малолетки с крестиком? Ты что, думаешь меня взять турецкой дешевкой? Ты забыл мне цену? Ты думаешь, что я тебя так сильно люблю, что готова стать посмешищем? Ах, какой осел!»
Ермолаев на работе бахвалился, что его Иветта, видите ли, супермодель. Сослуживцы однажды видели его с ней и были поражены сногсшибательным мезальянсом. Иветта была длинна, извилиста, затянута в гламурную кожу. Ее плоть привлекала актуальной порочностью: холеной спиной, мальчишеской попкой, низко повисшими кистями, вразумительной, даже издалека нежной грудью, бесстрастным лицом. Она старалась быть разной до неузнаваемости. Только усмешка, если таковая появлялась, оставалась постоянной, дерзкой, подростковой и одновременно старушечьей. Как ни странно, у Иветты были чистые, молочные зубы, правда, не все.
То, что Иветта понравилась его сослуживцам, только поначалу польстило Ермолаеву. Только мгновение длился умозрительный восторг самца, а потом неприятный, злобный тип по фамилии или по кличке Мгновенье, некий недавний зэк и приторный бабский угодник с душою женоненавистника (в принципе, на его месте мог оказаться и другой сквернослов, даже зам или сам директор), позволил себе бестактность в адрес Иветты, а фактически в адрес самого Кольки Ермолаева. Этот слащавый, как прихвостень, Сережа Мгновенье бросил: «Типичная шмара!» — и, кажется, сплюнул на новые ботинки Ермолаева.
— Что ты сказал? — спросил Колька Ермолаев.
Но Мгновенье отвернулся от него с гнусной скукой. Ермолаев думал сломать ему руку, но только ткнул своей широкой ладонью в затылок этого негодяя. Вместо того, чтобы затихнуть, коллеги по работе начали гоготать. Ермолаев вторично ткнул Мгновенье в то же место. Голова Мгновенья, как ванька-встанька, вернулась в исходное положение. Ермолаев не отслеживал, как Мгновенье готовился к ответу. А Мгновенье сначала взглядом, затем стремительным, отточенным движением руки схватил со стола, за которым сидели и обедали, бутылку с безалкогольным пивом «Сокол» и, почти не разворачиваясь, из-под себя, нанес удар бутылкой в середину лица Ермолаева, вдоль всего носа. Ермолаев залился кровью, но, выхватив бутылку из мелких обсосанных пальцев Мгновенья, ударил того сбоку в ухо. Мгновенье завизжал продолжительной безобразной фистулой и прислонился битым ухом к полу. Снизу он кричал Ермолаеву:
— Фуфло домотканое! Козлетрон! Лошок передроченный! Замочу! Зарежу! — Почему-то «зарежу» он произносил на какой-то кавказский манер — «зарэжу», как будто не всерьез, как будто потешался.
Южанский акцент равняется блатарскому. Может быть, в силу того, что южане воспринимают русский язык в блатарском его варианте. Колька Ермолаев не любил и черных, и чернявеньких, вроде этого Сережи Мгновенья.
Сережа Мгновенье воспользовался секундной задумчивостью Кольки Ермолаева, незаметно, как ангелочек, вскочил и оглушил Кольку Ермолаева легкой кухонной табуреткой. Бил ребром сиденья, метко, в висок. Вот почему такого мелкотравчатого человека звали «Мгновеньем». Он вернулся из мест заключения с крохотными наколками и неистребимыми понятиями о жизни как балансе унижений и реваншей. Сережа Мгновенье, несмотря на всю свою светскую пошлость, был вероломным озорником. Лежа, Ермолаев думал, что Иветте нравятся такие парни, как Мгновенье.
Потом Кольку Ермолаева, пока он находился в контузии, лупцевали всей конторой. Менее всего усердствовал, кстати, сам Сережа Мгновенье. Он вяло пинал в основном по бокам несчастного противника. Секретарша Оля, присев на корточки у головы Ермолаева, колошматила его по макушке органайзером. Зам, огибая всего Ермолаева копотливыми шажками, мутузил и по мягким, и по твердым местам, целился и в пах, и по лицу. Приходил и директор тюкнуть пару раз кулаком в загривок. Колька Ермолаев недоумевал, почему никто не скачет по его спине, никто не пританцовывает на его пояснице, никто не дробит ему пальцы громкими итальянскими каблуками. Он слышал, как зам, отдыхая, цокал большим, пьяным, коровьим языком, как говорил о сексуальности Иветты и его, Колькиной, чмошности. Колька слышал, как директор сказал, почему-то запыхавшись, что он, Ермолаев, уволен с сегодняшнего дня за дебош, учиненный на рабочем месте.
Колька поднялся и вышел за дверь проплакаться. «Почему, — думал он, — они любят Мгновенье и ненавидят меня?» Он вытер свою кровь и мокроту Мгновенья с широких носков своих новых ботинок и ушел из проклятого офиса навсегда...
Иветта опять вызывающе просила, трепетно требовала, заунывно клянчила, гордо умоляла Кольку Ермолаева прописать ее к себе, чтобы она находилась бы рядом с ним и всегда могла бы прийти ему на помощь, потому что он бестолковый и беспомощный осел, потому что он ненормальный и одичавший дурень. Ему было неприятно, что Иветта, смачивая ему гематомы настоем из трав с примесью собственной утренней мочи, лениво и бесстыже, куда-то в сторону улыбалась. Ему стало приятно лишь тогда, когда она начала целовать его ушибы с искренним чувством — если не сострадания, то какой-то измученной жалости. Ему было приятно, что ее поцелуи пахли ее лобком. Боль ему была нипочем, а лукавая и забывчивая нежность спасительна. Он притворился задремавшим, чтобы Иветта перестала говорить, а лишь целовала и лизала бы его спокойную, разбитую физиономию. Когда он закрывал глаза, Иветте казалось, что его простосердечное лицо становилось значительным, глубоким. Стоило ему открыть их, как лицо его моментально опрощалось, словно попадало на свое замызганное место.
Колька знал, что Иветта любит его не только за будущую квартиру. Он верил, что подходит ей по каким-то грубо прописанным, человеческим параметрам. Ему казалось, что он умел доставлять ей телесное удовольствие. Когда они занимались любовью, она просила его закрывать глаза. Иногда он засыпал, а она продолжала половой акт с потерянным и спящим. Последнее время она намеренно дожидалась, когда он уснет, и подкрадывалась к нему для вороватого совокупления. Она взбиралась на него, мычащего и причмокивающего сквозь сон, и пускалась в дальний душный путь. «Ах, какой осел!» — иногда восклицала она. Когда Иветта была на нем, ему казалось, что он мчится в бесконечном кромешном тоннеле на крутом джипе. Он всегда врезался в тупиковую стену. Он просыпался от алчного, сладкого страха и видел улыбку Иветты, разморенную и уснащенную удовольствием. Ее фигурка увеличивалась, и груди скатывались по Колькиным заросшим щекам, как его собственные крупные слезы. Он знал, что Иветта оседлает его и мертвого. От этого знания ему становилось и мерзко, и тщеславно. Он улыбался: «Наслаждение — ведь не только щекотка?» — «Да, мой лысик!» Она оседлает его в последний его день, как только он ее пропишет, как только его прикончат по ее наущению. Его первая жена была пуританкой. Колька не мог вспомнить ее имени. Что-то простое, русское, городское.
Наконец, оправившись после несправедливости, в отсутствие Иветты, Колька Ермолаев решился согласиться на предложение Гайдебурова. Тот был братом, двоюродным, но близким. Коля решился убить человека, который мешал Гайдебурову. Гайдебуров, как положено в таких случаях, снабдил Ермолаева фотографией жертвы, показал нужный дом с консьержкой и предоставил Кольке свободу в выборе технических средств.
— Тебе не надо заходить в дом — там злая консьержка, — наставлял Гайдебуров. — Михаил Аркадьич любит гулять с собачкой по вечерам. Собачка маленькая, такса, не злая, даже не гавкает, только мяукает. Вот тогда и действуй. Лучше, чтобы получился как бы разбой, чтобы заказным убийством не особо пахло. Понимаешь?
— Угу, — отвечал Колька. — Нужен аванс.
— Нет! Мы же с тобой братья. Братьям надо верить. Это во-первых. Во-вторых, сейчас уже все работают без предоплаты в любой сфере. Только на выпивку для храбрости и на передвижение.
Гайдебуров, видя остатки побоев на Кольке, сомневался насчет его истинной решимости и тем более сомневался в его умении укокошить человека. Гайдебурову было неприятно оттого, что из пьяных фантазий начинало вызревать нечто нешуточное и опасное. Он надеялся на то, что Колька, получив от него какие-то деньги и пропивая их, забудет о деле. Если же Колька явится за добавкой, Гайдебуров отошьет его как ненадежного подрядчика и вообще сообщит, что все проблемы с Болотиным уже решил. Если же Колька захочет шантажировать, то Гайдебурову придется задуматься по-настоящему, что делать с Колькой. Гайдебуров, конечно же, клял себя за то, что по пьяной лавочке разоткровенничался с Колькой, но тот разговор еще можно было обратить в шутку, чем в действительности все это и было, именно шуткой. Сложность заключалась в том, что Гайдебуров сам настраивался на серьезный лад, что он начинал втягиваться в детали этого сумасбродного, виртуального мероприятия, что он иногда даже грезил тем, как Колька без сучка без задоринки справляется с поручением. Гайдебуров был из тех благодушных, нерешительных людей, которые любую пришедшую к ним идею готовы затянуть, замылить и замусолить до неузнаваемости. Когда же их проект берутся осуществлять другие люди, гайдебуровых охватывает оторопь и терзания: сделают ли исполнители так, как задумано, не переврут ли все на свете, не лучше ли в таком случае ради красоты замысла оставить план нетронутым, нереализованным, на потом, для себя.
Вдруг Гайдебуров начал правдоподобно и ожесточенно смеяться. Он сообщил Кольке, что разыграл его с подготовкой убийства Болотина с таксой, которая мяукает, и вообще с плохими мыслями. Извини, брат, я, мол, неисправимый затейник. Вижу, что тебе плохо, и решил развеселить, развеять, развести, а ты все за чистую монету принял. Нельзя, мол, так, брат. Разве можно даже подумать о таком преступлении? Чур, чур, нас с тобой!
— А деньги? — спросил Колька.
— Деньги оставь себе. Выпей, что ли, на них.
— При чем здесь. Я теперь не пью.
— А ты пей, да дело разумей.
— Слышь, так я что-то не понял, дело-то в силе остается?
— Да нет. Не в силе, Колька! Я же тебе толкую, что все это шутка, розыгрыш. Въезжаешь?
— При чем здесь?
Колька Ермолаев мог смотреть с недоверием на очевидные вещи и с фанатизмом на сущий бред. Он видел, что Гайдебуров юлит, чтобы меньше заплатить.
— Я на меньшую сумму не согласен, — сказал Колька. — Я же все рассчитал. На камаз, Иветте.
Гайдебуров увидел его непрошибаемую дикость и незаметно убрал фотографию старика Болотина в карман.
Гайдебуров с усилием вздохнул. Только так можно было заглушить рев предчувствий. Гайдебуров затягивал молчание.
— Я должен кого-нибудь убить, — после долгой паузы убежденно сказал Колька.
«Сумасшедший, — подумал Гайдебуров. — Вот связался! Надо драпать отсюда, пока не поздно».
— Уже поздно, — сказал Гайдебуров. — Давай разбегаться по домам.
— Я должен кого-нибудь убить, — твердил Колька.
— Ну не сегодня же? Надо рекогносцировку провести, то да се.
— Завтра!
— Через недельку, Колька, не торопись.
— Этого старого еврея?
— Нет, другого, Колька.
В первый вечер Колька сидел в скверике у дома зама. Рядом находилась сумка, в которой лежала запеленованная монтировка. Колька надеялся на мощь своих рук, особенно правой руки. Оделся он соответствующим образом: в черную вязаную шапочку, нахлобученную на почерневшие, не отражавшие света глаза, бороду обмотал грязно-лиловым материнским шарфиком, надел теплые материнские варежки, поверх всего — рабочий комбинезон на подкладке, в котором так ни разу и не ремонтировал машину — берег. Осанка Кольки на ломаной скамейке не вызывала интереса прохожих, так как была бомжеской, божеской. Сумка у его ног была продолговатой, потрепанной, с полустертыми линиями «Адидас».
Зам подъехал на своей изумрудной «тойоте» в девять вечера. Припарковываться он толком не умел. Очень хотелось ему встать между машинами, а не с краю. Он долго мудрил, мигал, крутил колесами и все-таки забрался через поребрик на газон. Не вылезал из машины минут пять. Наконец выбрался с громкой одышкой и начал кружить вокруг колес, заглядывая под днище, затмевая своей невероятно раздавшейся задницей пол-автомобиля. У левого переднего колеса зам минуты на три замер, наклонил голову в кожаной бейсболке набок, поднес руку к щеке и пригорюнился, как баба.
Колька ждал бандитского вдохновения. Нарочито вычурно хромая, он неслышно подошел к спине зама, чтобы тот мог почувствовать смертельный холодок. Когда зам, как уколотый, вздрогнул, Колька, шумно, колченого топая, отошел в темноту. Зам огляделся, нервно поиграл сигнализацией, посмотрел в Колькину сторону и с угодливым кокетством засеменил к парадной. Колька прыжками вернулся к автомобилю зама. Там в воздухе висела мясная, трусливая вонь.
«Пернул, — подумал Колька о заме. — Сейчас ментов вызовет».
Колька не любил зама за его толстую изворотливость, мнимое тугодумие, бесчувственную любезность, беспочвенные обещания, слипшиеся от ночного гноя глазки, за обвислые, хохляцкие усы, за то, что, когда он похвалялся, то закидывал одну свою пухлую ножку на другую и эдак противно подрыгивал ею, а руки забрасывал себе за голову с сонливым самодовольством.
На следующий вечер Колька дежурил у дома директора. Подъезд ему был хорошо известен, с железной дверью, с кодовым замком, с просторным тамбуром, с широкими лестничными маршами, с вечной, пустынной, сырой тишиной. Директор, в отличие от зама, был человеком невоздержанным, хмурым, дотошным, обидчивым. Он считал, что руководитель должен быть скорее честным тираном, нежели лживым демократом. Иногда он мог побаловать подчиненных и ласковым обхождением, и нравственным величием, и материальной щедростью, особенно тех, кто хорошо зазубрил свое место, кто даже в мыслях не помышлял переступить черту, за которой бы они с директором оказались бы на равных. Колька подумал, что, возможно, именно подступы к такой черте директор прочитал в Колькином поведении, возможно, в излишней в последнее время Колькиной молчаливости, какой-то затяжной человеческой муке, в уменьшающихся знаках подобострастия. Вероятно, эта нехватка в Кольке холуйства, которого раньше было хоть отбавляй и которое стало исчезать в последнее время буквально на глазах, и сыграла главную роль в его увольнении. Теперь одна природная черта захлестывалась другой. Колька директора, впрочем, любил, но убить ради тренировки мог и его.
Директор подъехал на прежнем автомобиле с новым водителем, разглядеть которого было невозможно из-за головы и туловища директора. Колька видел, что директор, кажется, был подшофе, с пьяным вывертом руки, не столько давал указания новому водителю, сколько отчитывал того. Колька вспомнил эту безобидную манеру директора придираться по пустякам и ностальгически осклабился.
Вдруг силуэт нового водителя как-то резко, бесцеремонно взметнулся в салоне, а потом новый водитель и вовсе выскочил из автомобиля, с силой хлопнул дверцей и лихорадочно начал стучать по карманам, наверное, искал пачку сигарет или зажигалку. Колька испугался за нового водителя, кажется, молодого, коренастого, уставшего парня, испугался, как за самого себя. «Молодой, — подумал Колька. — Терпения нет и уважительности».
В следующий момент Кольке стало радостно. Новый водитель курил, как мальчик, озираясь по сторонам. Ногой он слегка постукивал по бамперу. Колька знал, что директор выйдет лишь через минуту, приведя свои хмельные нервы к относительному благоразумию. Колька знал, что директор не будет кричать новому водителю, что тот — щегол и никто, а его, директора, весь город знает, и что он, новый водитель, уволен с этой минуты. Директор выйдет и скажет, что, мол, ладно, поезжай, разберемся завтра. Новый водитель обрадуется и сорвется с места, как ошпаренный, как счастливый победитель, а завтра будет раскаиваться и, может быть, даже всхлипывать и заикаться, и писать унизительную объяснительную с множеством орфографических ошибок. Директор любил заставлять неграмотных подчиненных писать длинные объяснительные записки. Когда директор вышел из машины, Колька Ермолаев из-за угла громко и размеренно зааплодировал своими отнюдь не эстетскими лапами и даже крикнул смешливо и непривычно:
— Браво! Бис!..
Ночь Колька спал уверенно, не храпел, не ворочался. Иветта отсутствовала, где-то шлялась. Его лицо с закрытыми глазами напоминало мертвого мудрого кочевника.
Следующим вечером Колька с монтировкой в Веселом поселке ради проформы поджидал Мгновенье. Мгновенья не было долго, почти до рассвета. Колька замерз и отчаялся. Силы стали уходить из его рук. Бешеный пес привык к нему и перестал облаивать. С некоторых пор, чтобы не вызывать подозрения излишней поклажей и натурально походить на несчастного побирушку-хромца, Колька искусно переделал монтировку в инвалидную клюку, чуть ли не трость. Трость сама по себе заставляет человека припадать на ногу и вместе с тем полезная для убийства вещь.
Колька смотрел с мостика на желтый сумбурный лед речушки Оккервиль. Вдруг у нужного подъезда остановилось цветастое, с рекламоносителем на крыше, такси. Было уже четыре часа утра, и холод усиливался перед зарей. Из такси, непрерывно извиваясь, в куртке нараспашку выпорхнул Мгновенье с блестящей черной прической, вытаскивая за руку какого-то толстого, очкастого, седовласого, кажется, в женской, до пят, искрящейся рыжими блестками шубе, весьма знакомого телевизионного господина. Такси отъехало, смешливо фыркая глушителем. Колька обратил внимание на то, что Мгновенье и его респектабельный гость явно милашничали: водили плечиками, ловили ручки друг друга и у дверей парадной поцеловались в губы. У обоих уши были в блестках, вокруг глаз, у ноздрей было красиво накрашено. У толстого от поцелуя покривились очки, и Мгновенье поправил их со смехом:
— Ну что ты, баронесса, как маленький?
— Какие дивные дома на Каменноостровском! — воскликнул толстяк.
— Ты чего, баронесса? Какой Каменноостровский? Это Веселый поселок, — хрипло хохотал Мгновенье.
Мгновенье вроде бы узнал в окоченевшем киллере Кольку и сплюнул в его сторону через меховое плечо толстяка.
Кольке надо было бы бежать и ударить одного и другого импровизированной тростью и убить одного и другого, тем более что у толстого должны были водиться при себе деньжата. Но Колькины ноги не слушались его сердца, которое наслаждалось издалека содомом и гоморрой, которое хихикало над развратом с высоты своего посконного целомудрия. Кольке стало очень приятно от того, что Мгновенье оказался педерастом. От души, по-человечески стало приятно.
...Оставалась Иветта в качестве жертвы, но где она теперь временами обитала, Колька не знал. Иветту он задушит в собственной квартире, как-нибудь расчленит и где-нибудь зароет. Только не на помойку. На помойках быстро находят и быстро идентифицируют. Но сначала он ее пропишет, чтобы подозрения на него не падало. Только бы опередить ее и ее сутенеров после прописки.
Теперь, после пробы, после трудных репетиций, Колька Ермолаев был готов к главному своему делу, к главному убийству — к расправе над стариком Болотиным. Колька уже видел его несколько раз гуляющим с бессловесной мерзлячкой-таксой. Кажется, и Болотин начал узнавать нового в их квартале калеку. Такса на Кольку не реагировала, и Болотин думал, что инвалид, наверное, не зловредный человек. Обездоленный, конечно, но не злой. «Почему русские думают, что евреи обязательно должны ненавидеть Россию? — думал старик Болотин. — Евреи жалеют Россию».
Михаилу Аркадьевичу было тяжело ходить по черствому снегу. Он полагал, что виной тому был его смещенный центр тяжести, так он именовал свой живот. Такса беспричинно молчала, как будто была не собакой, а каким-то иным, обидчивым, плохо одомашненным животным. Жена Михаила Аркадьевича находила в собаке симптомы человеческого заболевания, некого мутизма, то есть соблюдения полного молчания при кататоническом синдроме.
— Ты кто? — наконец-то спросил Михаил Аркадьевич.
Колька испугался, потому что подумал, что вопрос был адресован ему. Он хотел было уже назваться полным именем, но увидел, что старик Болотин смотрит не на него, а на свою надутую таксу.
Кольке меньше всего хотелось убивать Болотина железякой. Надо попросить у Гайдебурова денег на пистолет. Кольку смешили короткие брюки старика Болотина, из-под которых белели толстые шерстяные носки.
В этот вечер, возвращаясь домой, Колька стал проникаться завистью к Гайдебурову, гуляке, везунчику, плуту. Он не знал, что жизнь Гайдебурова была непосильно разорительной.
Окна Колькиной квартиры были освещены. В одном из них, в среднем, маячили расплывчатые очертания.
Кольку ударили в потемках на подходе к лифту. Ударили в лицо кулаком с кастетом. Колька всегда безошибочно угадывал то, чем его бьют. Он был знаток телесных повреждений. Потом его начали дубасить его же тростью. Голову почему-то не трогали, били по конечностям. Колька не терял сознания и убежденности, что останется жив. Били опять подручные Иветты: от них несло ее гадким, мускусным парфюмом. Били неумело и для очередной острастки. Зачем-то разули его. Колька попытался возмущенно мычать. Ударили тростью по голой пятке. Он услышал разговор Иветтиных прозелитов:
— Ты такие говнодавы будешь носить?
— Нет, ты что? И размерчик не мой.
— Тогда брось их в мусоропровод.
Колька опять подал челобитный голос и заворочался. На этот раз не сильно, шутя ударили по второй Колькиной стопе. Колька подумал: «Прощайте, мои дорогие чеботы!»
9. Симптомы Куракина
В воскресенье поутру Петр Петрович Куракин был, что называется, в полнейшем дезабилье. То есть его белье и чувства были растрепаны, как у какого-нибудь неряшливого актеришки, как у пожухшей, располневшей, бородатой травести. Дело в том, что Петра Петровича Куракина, весельчака и, по его собственной идентификации, массовика-затейника, обуял нешуточный, смертельный ужас.
Петр Петрович проснулся в своей огромной, по-настоящему петербургской, с темными бликами от водянистого неба, архитектурной, вечно необжитой квартире один. Это его внезапное одиночество, прелести которого, как человек компанейский и не умеющий довольствоваться самим собой, он никогда не понимал, теперь, как оказалось, сослужило ему добрую службу. Жена, примирившаяся со своими подозрениями, и флегматично циничный сын отправились в Вену вместе с оркестром Мариинки на какое-то всеевропейское шоу легкой классической музыки, некое новое торжество Штраусов. Петр Петрович не стеснялся включать своих домочадцев в состав официальных делегаций в качестве каких-либо внештатных консультантов по вопросам культуры или заштатных экспертов по имиджу и протоколу. Брак у Петра Петровича был вторым, осознанным и легким, сын был приемным, стало быть, пасынком, но понятливым и понимаемым Петром Петровичем. Жена Светлана Ивановна любила Петра Петровича таким, каким он был, успешным, непотопляемым, с сердечным, пустейшим нравом. Сам Петр Петрович жил от наслаждения к наслаждению, перемежая их редкими физиологическими муками. Кажется, сегодня был именно такой день — редкого и постыдного телесного страдания.
Петр Петрович по случаю одиночества прошелся по всему жилищу голым и беззастенчивым. Он включил музыкальный центр и поставил диск с тремя великими тенорами, которые, когда пели сообща, казалось, в приличествующие, дружелюбные обертоны подпускали столько неприметных, ревнивых, игольчатых ноток, что слушать эту высокую человеческую гармонию было одним удовольствием. Коммерческие и тщеславные пересуды дополняли невозмутимое, радостное спокойствие духа.
Петр Петрович прибавил звук на полную катушку и некоторое время в оцепенении улыбался стечению музыки и собственной наготы. Обнаженность превращает большого сорокалетнего мужчину в трогательного, беспомощного младенца или в задиристого волосатого сатира, что и в первом и во втором случае одинаково потешно и одинаково бесформенно, и малопривлекательно, каким бы купидоном или козлом он в этот момент ни прыгал.
Вдруг что-то нечистое ему показалось сначала — в запыленном, испорченном, антикварном, с мелкими вековыми червоточинами зеркале в прихожей, а затем неприятные сомнения стали усиливаться в ванной комнате, стены которой были сплошь зеркальными, сфокусированными, будто подсвеченными изнутри. Петр Петрович разглядел на своем теле, животе, пояснице, руках и преимущественно в том неопределенном перекрестии, про которое говорят — в паху, какие-то подозрительные, в большинстве своем красные или синюшные пятна и крепкие пупырышки различной величины.
Петр Петрович мужественно помертвел. Пласидо Доминго пел теперь в одиночку. Громкая нежность звуков была подернута нескрываемой, сочувственной, иногда бескомпромиссной укоризной, особенно в этом неожиданно металлическом «аморе», в издевательски визгливом «пьяно».
«Мамочка родная! Неужели зараза? Опять кожное? Черт, как некстати!» — взмолился Куракин.
Помертвевший Петр Петрович страшно, членораздельно взвыл и решил не замолкать, то есть выть на одном дыхании, до тех пор, пока не добежит до пульта от музыкального центра и не оборвет невыносимое мировое бельканто. Так он и сделал на песне «О sole mio». Он вернулся в ванную в громоздкой акустической тишине, стараясь идти на цыпочках и не касаться руками и голыми боками дверей и мебели. В ванной он внимательно, с гадливым пристрастием рассмотрел свой кожный покров. «Пока не вернулась семья, — думал он, — необходимо все прокипятить и дезинфицировать, а самому взять больничный и разместиться инкогнито в гостинице. Уж лучше инфаркт, чем сифилис!»
«Что это, вторая стадия сифилиса? Как я пропустил твердый шанкр? Идиот! Клятвопреступник! Дикарь! А если я уже заразил Светку? Как я мог пропустить твердый шанкр? О-о-о!» — опять завопил Петр Петрович ради облегчения, ради выхода, как при экстазе, чистой души из открытого загаженного тела, ради искусства, которое дарит надежду.
Петр Петрович решил свериться с медицинской энциклопедией. Он распахнул фолиант на месте цветных вкладок и увидел на туловище натурщика-сифилитика (именно вторичного периода) похожую на свою, раскиданную, развесистую сыпь.
Петр Петрович, вглядываясь в чужие волдыри и не будучи ипохондриком, начал брать себя в руки. Рядом на соседней картинке пунцовел твердый шанкр на половом ничтожном члене. Петра Петровича утешало, что подобного рода уродства на его мужском достоинстве все-таки не возникало никогда. Почему-то успокаивало и то обстоятельство, что на букву «С» «Сифилису» предшествовала «Система стандартов безопасности труда», а следом шла «Скарлатина». Петр Петрович стал вчитываться в мелкие гоношащиеся строчки. Петру Петровичу понравилось, что «французскую болезнь» стали называть «сифилисом» по имени распутного пастушка Сифилуса, героя поэмы некого итальянского врача и поэта XVI века, видимо, импотента. Конечно, Куракина не удивило, что болезнь передается через половые сношения, как правило, при беспорядочной половой жизни со случайными партнерами, часто в нетрезвом состоянии.
Петр Петрович виновато и намеренно громко вздохнул. Однако (и это, если так позволительно выразиться, обрадовало Куракина) возможен и бытовой путь заражения — через безобидные, товарищеские поцелуи, например, через общую, если хотите, зубную щетку. Ездил в Париж в командировку и по недоразумению с утра перепутал свою зубную щетку с чужой, коллеги по работе, жили ведь в одном номере ради экономии государственных средств. По крайней мере, хоть какая-то приличная отмазка. «В СССР бытовой сифилис в настоящее время практически не встречается», — прочел Куракин и опять приободрился: СССР, слава богу, уже давно не существует, а в современной России может встречаться и не такое. Петр Петрович внимательно, несколько раз прочитал все, что касается инкубационного периода заболевания, и особенно скрупулезные описания твердого шанкра. Нет, господа, никакой язвы округлой или овальной формы с уплотнением в основании и блестящим дном мясо-красного цвета у Петра Петровича в ближайшие полтора-два месяца нигде, собственно, не наблюдалось, ни там, ни там и ни там. Тем более не было никакого отека, тем более не увеличивались лимфатические узлы. Петр Петрович считал себя человеком современным и, конечно же, гигиену ставил на одно из первых мест, и, конечно же, моясь, бреясь и прихорашиваясь, нелепое новообразование где-нибудь на половых органах, на языке или на губах ни за что не пропустил бы просто так. Правда, его смутило, что в некоторых случаях дефект кожи при шанкре может быть очень поверхностным и напоминать некую ссадину, а эту-то мелкую, безболезненную эрозию Петр Петрович мог и не заметить при моционе, совершаемом все-таки в спешке. Петр Петрович решил обнадежить себя тем, что у него, как у человека крупного и крайне мужественного, если бы и появился этот самый злосчастный твердый шанкр, то никак уж не в виде неприметной царапины, а был бы уж представлен по-настоящему, по-взрослому, по большому счету, как и полагается самцу его комплекции и темперамента.
С особым, последним интересом Петр Петрович вчитывался все-таки в признаки вторичного периода, в эти розеолы и папулы медно-красного цвета, которые, надо же, в области заднего прохода могут резко увеличиваться и приподниматься над уровнем кожи, сливаясь в сплошные широкие кондиломы, нередко затрудняющие ходьбу. И, вероятно, не только ходьбу. Петр Петрович в этом месте оторвался от книги, вскочил и легко прошелся по просторной прихожей, нарочито пританцовывая и повиливая боками, потеснее прижимая ляжки друг к дружке. Нет, ничего не мешало. Никаких неудобств ходьба, даже такая претенциозная, у него не вызывала: ни межъягодичного раздражения, ни покалывания, ни ощущения чуждых разрастаний «там».
Он подошел к зеркалу и начал с умыслом ворошить свои волосы на голове, которые, как предупреждала энциклопедия, в этот период могли редеть и выпадать странным образом — только на небольших округлых участках, создавая так называемое сифилитическое облысение. Отнюдь нет. И это обстоятельство не находило подтверждения. Петр Петрович по-прежнему лысел красиво и благородно — от внушительного ухоженного лба в глубь головы, пропорциональными, лакированными вымоинами, выразительные очертания которых вместе с остроугольным мыском и височками образовывали четкую, здоровую, прописную букву «З», упавшую ничком. Петр Петрович с удовольствием озирал свое лицо с нестерпимо смешливыми, уменьшающимися глазами. Лицо и особенно средней длины борода выглядели спасительно. Ниже, на грудь, на живот, на невидимый пупок, и смотреть не хотелось.
Петр Петрович с незначительным сомнением раззявил свой рот широко, как на приеме у ларинголога. Он даже произнес долгое «а-а-а». Он вспомнил, что эти проклятые папулы могут обсыпать и нёбо, и альвеолы, и язык, и миндалины, и область голосовых связок, вызывая характерную, в сущности, приятную на слух, шансонную осиплость. И здесь Петра Петровича ждало утешение. Если «а» немного и хрипело, то этот хрип был следствием лишних мокрот, вызванных паникой. Ротовая полость Куракина была, как всегда, нежной, слюнявой, добродушной, как у большой собаки, с вылеченными, крупными, лошадиными зубами. Язык был ароматным и шаловливым, зев выглядел чистым и аппетитным, как парная телятина.
На всякий случай и ради растущего, триумфального ликования Петр Петрович решил окончательно опровергнуть дурной диагноз на вокальном уровне. Он решил что-нибудь спеть присущим ему зрелым тенором. Он пропел сразу высоко и трепетно: «Это русское раздолье! Это русская земля!»
Голос звучал, как никогда, опрятно и ровно, без колоратурных искринок, которые в этой ситуации могли бы показаться подозрительными или неоднозначными.
«Слава богу! — подумал Петр Петрович. — Никакой тебе натуральной хрипотцы. Я никогда не любил эту намеренную хрипатость, суровые, торчащие нитки, вымученный, блатарский надрыв. Петь следует ясно, прозрачно, живописно, умиротворенно и как-то заветно». Петр Петрович вприпрыжку побежал в гостиную, чтобы заново запустить музыкальный центр. Три певца опять пели в унисон: Паваротти — восторженно, Карерас — флегматично, Доминго — мистически. Вместе они создавали благообразный аккомпанемент таинственному вращению Земли вокруг своей невидимой душевной оси.
Теперь, в одночасье, когда подозрения на позорную болезнь рассеялись, Петр Петрович заметил, что он дико, лихорадочно, сладострастно чешется. Руки действовали бессознательно. В первое мгновение философичный Петр Петрович предположил, что хрен редьки не слаще и что у него если и не сифилис, чему противоречил и зуд, то, на худой конец, чесотка. Чесоткой Куракин страдал и раньше, в годы комсомольской юности, поэтому он со знанием дела всмотрелся в свои прыщики, ища старых знакомых. Прыщики все-таки были другими, незнакомыми, не такими кровавыми, как при чесотке, а какими-то полыми, без пузырьков, без самки внутри. Самым главным отсутствием было отсутствие рядом с пупырышками так называемых «чесоточных ходов», которые клещ без зазрения совести роет в роговом слое эпидермиса. Клиническая картина была иной, не столько постыдной, сколько неуютной.
Петр Петрович почувствовал явную усталость от несвойственной ему мнительности, от домыслов, от самоанализа. Рефлексия способна навевать психическую зевоту. Петр Петрович понял, что у него, по всей видимости, нервный зуд — предтеча неизлечимого заболевания, может быть, рака, может быть, шизофрении. Ради приличия Петр Петрович пролистал весь раздел кожных и венерических болезней, все эти дерматиты, и лепры, и почесухи, и фавусы, и эритемы, и остановился для проформы на лишае красном плоском. Ему понравилось не только простое человеческое название, но и то, что патогенез заболевания пока что наукой не был установлен, что вероятным было как инфекционное, так и неврогенное его происхождение. Петр Петрович запомнил, чем надо лечиться (особенно ему пришлась по душе какая-то известная с детства взбалтываемая взвесь для наружного применения), и отбросил книгу.
Он вспомнил, что когда в молодости подцепил мандавошек, то, не торопясь с ними расставаться, помазал зудящие места для развлечения зеленкой и был очень доволен, когда эти крашеные, пестрые пограничники с недоумением переползали на свежий лобок его пугливой подруги.
Петр Петрович оставался все еще голым, безразличным к своей фигуре и уверенным в своем самочувствии. Он подумал, что никогда, например, не мастурбировал, не имел в этом необходимости, и что в этом отказе от самообладания заключается внутренняя сила и внешняя слабость. Он сделал вывод, что мир вообще стал меньше мастурбировать.
Петр Петрович с удовольствием помылся, подровнял бороду, сварил кофе, выбрал галстук к темно-серому костюму, позвонил водителю, когда тот должен подъезжать, поговорил по телефону с вкрадчивым помощником Малявкиным, надушился и медленно, прочувствованно оделся. Некие красные волдырики выглядывали из-под мягких манжет, один, довольно чесучий, притаился у обручального кольца.
Коротая пустое время, Петр Петрович теперь слушал пение голосистого, возбужденного и истомленного подростка Робертино Лоретти.
Петру Петровичу показалось, что у юного Лоретти была душа искушенной, страдающей и любящей женщины, именно поэтому его исполнение было таким талантливым и таким приятно сентиментальным. Петр Петрович знал, что именно в голосе обитает душа, и по голосу, по тембру, по дикции можно определить качество человека.
Петр Петрович проникновенно подпевал вечному золотому мальчику: «О sole! О sole mio!»
Голос у Петра Петровича сохранялся таинственным в своей неприкосновенности. Никто, понимаете, никто не знал, что именно Петр Петрович думал о своей судьбе. Он думал, что похоронил свой дар, свой голос, он думал, что вместо комсомольско-чиновничьего благополучного пути должен был выбрать стезю одинокого бессмертного Орфея. Почему-то, особенно в молодости, ему было стыдно петь, ему было стыдно иметь красивый и сильный голос. Теперь, в сорок лет, то, что казалось постыдным, было еще и смешным, и жалким. Теперь, в сорок лет, временами было мучительное, временами оцепенелое прощание с собственным голосом.
«Джамайка!» — тихо, но зычно, с убедительной ностальгией подхватывал чужие звуки безвестный голос Петра Петровича.
Петр Петрович немного задремал от реминисценций, знакомых мелодий, удобного расположения тела. Краткий сон, который он успел увидеть, с одной стороны, был великодушным, с другой — предосудительным. Во сне, в какой-то путаной бюрократической обстановке, здороваясь, он первым протянул руку одному своему обидчику и врагу из полпредства президента, тогда как в реальной ситуации демонстративно старался это делать вторым, с выразительным лицемерием.
На пресс-конференции в Невском Паласе, посвященной открытию международного конгресса «Мировая культура в третьем тысячелетии», среди прочих свадебных генералов присутствовал и приснившийся обидчик. Петр Петрович ему церемонно кивнул издалека. Обидчик, хитро искрясь, ответил Петру Петровичу схожим кивком, явно передразнивая Петра Петровича. Петру Петровичу же сегодня на обидчика было наплевать, потому что деликатно пунцовеющий Малявкин успел перед мероприятием плюхнуть в портфель Петру Петровичу толстую пачку изумрудных ассигнаций.
Докладчиком на пресс-конференции был проходимец, черный пиарщик, доверенное лицо некоторых первых городских лиц Володя Цвитария в бархатном длинном бежевом пиджаке. Цвитария говорил на добротном, грамматически правильном, но синтаксически вычурном, со многими придаточными, русском языке. Собственно, он был бы и похож на русского человека, если бы не эти его новые, непривычные для аудитории, по-кавказски рыжеватые усы. Он, как всегда, старался говорить вещи непонятные и совершенно ритуальные — о глобализации мировой культуры и о месте Санкт-Петербурга, месте, конечно же, мистическом и магическом, в контексте этого, а не того процесса, и еще о каких-то гуманитарных, значительных, катастрофических, крайне затратных, великобюджетных мифах. Петр Петрович всегда, когда выступал Цвитария, жалел переводчиков и завидовал политкорректности иностранцев. Сам Петр Петрович, не скрываясь, поглаживая бороду, заливисто улыбался всему дружелюбному залу. Рядом с Петром Петровичем сидел молодой англоговорящий представитель генерального спонсора и славно, проникновенно немел. Петр Петрович хотел было уже от избытка чувств поправить молодому спонсору задравшийся рукав пиджака, из-под которого начали сиять дорогие, репрезентативные часы «Зенит» с прямоугольным циферблатом, но своевременно пресек свою игривость и только с заметной фамильярностью принюхался к парфюму соседа.
Зал понимал сокрушительную насмешливость своего парня Петра Петровича и отзывался тем, что забрасывал ногу на ногу, откидывался в креслах, почесывался совершенно авгуровым образом и все чаще с сиянием в глазах выходил перекурить. Впереди был банкет в ресторане и пьяная культурная программа для посвященных.
Петр Петрович думал, что давно он не исповедовался, что заразила его лишаем красным плоским, видимо, Иветта, называвшая его с загадочностью «лысиком», что девушки прельстительны своими нежными длинными мускулами, которые, когда ты их трогаешь, вдруг ускользают из твоих пальцев, как ящерицы, порой оставляя тебе лишь частичку резвого подкожного хвостика, и что Бог все-таки есть.
Зуд, как ни странно, отсутствовал. Антибиотики Петр Петрович решил принимать с завтрашнего дня, так как сегодня предчувствовал умопомрачительную, как бы прощальную вечеринку.
Петру Петровичу было приятно наблюдать родную тусовку, закадычных коллег и щедрых хозяйственников со стороны устроителей конгресса. Молодых женщин в зале не было, а были заметные личности, завсегдатаи презентаций. Петра Петровича радовала их однородная одутловатость. Жена, Светлана Ивановна, неоднократно говорила Петру Петровичу, что алкоголики, когда толстеют, толстеют, в отличие от нормальных, непьющих людей, безобразно, асимметрично, вульгарными напластованиями. Петр Петрович на это отвечал, что он толстеет красиво, равномерно, что доказывает, что он не алкоголик. Жена его убеждала, что у него развивается вторая стадия алкоголизма, когда на место нормальной, естественной радости приходит предвкушение ближайшего банкета. Она отказывалась понимать, что Петр Петрович на банкетах решал различные деловые, в том числе своекорыстные и семейные, задачи.
Петр Петрович обрадовался худосочному, беспокойному, но с круглым упругим животиком зампреду мелкого ведомства Чистилину. Тот уверял, что учился с Чубайсом, и в подпитии любил хвалить последнего как гениального менеджера, называя Толькой и тезкой, чем смущал компанию, потому что сам-то был Александром, правда, Анатольевичем. Этот Чистилин запомнился тем, что однажды попросился у Петра Петровича остаться с девушкой в тайной куракинской квартире на Литовском и оставил после себя на велюровом диване подсохшие разводы спермы. Диван Петру Петровичу пришлось незамедлительно подарить своему небрезгливому водителю.
Петр Петрович замечал, что крупные спивающиеся личности обязательно превращаются в мелких мошенников.
Здесь были лукавый Микулин с бледной напыщенностью от двухнедельной диеты, неистовый депутат Алексеев в вензельном, с орлами, галстуке, неразлучные господа Евстратьев, с модными длинными волосами, и Ягудин, с модным, неровным загаром, малопьющий немец Тойлер и пьющий еврей Шиндель, давнишний чекист-матершинник Краснов, Жомов с чутким веком, Жданов с дедовскими усиками, госпожа Кролли в озорных узорчатых очках, Айрапетов с интересами в нефтяном бизнесе, Мажоров с драчливыми глазами мажора, независимый Котошихин в подростковом свитерке от «Версаче», тревожно полнеющий Бахчеванов, застегивающий пиджак на все пуговицы Спица, помертвевший от богатства Капчиц, собирающийся в Москву Мокроусов и неисправимый пустозвон Сенотрусов.
В туалете Петр Петрович поздоровался с видным, рослым телевизионщиком Костей Ястребковым, непременно при виде Петра Петровича, к его удовольствию, сменявшим рафинированную мрачность на авантюристическую веселость. Костя был известным в Питере поджигателем. На всегородских междусобойчиках он любил, забившись куда-нибудь в угол со стаканом виски, втихомолку поджигать салфетки, скатерти, занавески, даже купюры небольшого достоинства. Петр Петрович потер руки в ожидании светопреставления. Светские мероприятия в России имеют свойство время от времени заканчиваться пожарами.
Петр Петрович с наслаждением слушал обрывки знакомых, ничего не значащих фраз:
— Фрейдистская оговорочка: вместо «кассы зоопарка» из него выскочило «касса зоосада», ха-ха-ха. Проговорился.
— Представляешь, дерево выросло на крыше Большого дома.
— Ему все по барабану: он может и монтировкой по башке смазать.
— Вот мой проект. Понимаете, необходимо для сугубо петербургского пространства, для гармонии воздуха, воды и архитектуры вырубить Александровский сад.
— Странная смерть...
— Убийство. Я не побоюсь этого слова...
— Податливых гипербореев эпоха прошла...
— Время овнов и скорпионов...
— Пусть кодируется или подшивается...
— Вы знаете, что подшивание ампулы от алкоголизма связано с Дионисом. Зевс ведь зашил недоношенного Диониса в свое бедро, а потом родил его вторично, распустив швы на своем бедре, — говорил герой дня Цвитария, интеллектуальное лицо которого было рябым, как вылущенный подсолнух.
— Неужели? — воскликнула Кролли. — А вы знаете, Володя, мне тут сказали, что в «Черном квадрате» Малевича самое главное — рамка. Без обрамления нет никакого черного квадрата...
— Это губернатора не касается...
У Петра Петровича зазвонил телефон, и радостный Петр Петрович услышал раздраженного, с тяжелой, злобной одышкой, старика Болотина:
— Ваш родственничек Гайдебуров исчез. Типографию втихаря продал. С деньгами. Мои ребята нигде не могут найти.
Петр Петрович на мгновение задумался, перекладывая телефон с одной ладони на другую, и, не изменяя своему благодушному настроению, утешил старого Болотина:
— Ничего страшного, Михаил Аркадьевич! Найдется. Город-то маленький.
10. Страхи старика Болотина
Вслед за негодованием в старике Болотине, как правило, возникало некое странное, словно не вполне человеческое, беззвучное, дальновидное злорадство. Как будто сам Бог сквозь ветхую историю начинал потирать свои белые, конопатые руки.
Вот и теперь старика Болотина раздвоило самоисчезновение Гайдебурова, этого неизбывного, какого-то кровного должника, — раздвоило так, что старик Болотин (опять же по обыкновению) сначала дал выход своему гневу, позвонил в сердцах Куракину, чем только развеселил последнего, покраснел убийственной, нездоровой краснотой, затрясся, как бесноватый в церкви, расслюнявился на глазах у невозмутимой, словно пришибленной жены и наконец обмяк в кресле-качалке от тихого, счастливого, безупречно каверзного чувства, внешне похожего на обычное снисхождение, внутренне — на обычную мстительность.
«Дурак ты, Гайдебуров! — думал качающийся старик Болотин. — Самый ты настоящий зайчик-русак. Вот все вы такие. Не умеете терпеливо допить последнюю каплю, теряете самообладание публично, на пустом месте, в тот момент, когда саморазоблачаться вреднее всего. Надо врать, врать, врать в этот момент, а вы, видите ли, начинаете праведничать, рвать на себе рубаху, сжигать мосты, на виду у всех пускаться в бега. Да и куда ты убежишь, зайчик? Завтра уже ты намучаешься от своей совести или страхов и придешь плюхнуться мне в ноги, чтобы совсем превратиться в раба. Тебе кажется, что мне будет нужен такой раб и я тебя поэтому прощу. Ошибаешься! Это будет твоим самым большим заблуждением. Я тебя не прощу. Ты полагаешь, что повинную голову не секут? Опять не угадал. Именно повинную голову и секут, если она превратилась в совершенно никчемную. Ты думаешь, зайчик, что убивают только из каких-то экономических соображений? Нет, в этом случае не убивают, а устраняют. А убивают для преодоления омерзения к жертве, для того, чтобы эта жертва окончательно заняла свой шесток, чтобы от нее осталось одно мокрое место».
Кресло-качалка между тем так сильно раскачалось вместе с грузным телом старика Болотина, что старик Болотин не мог уже справиться с опасными амплитудами, набирающими бесконтрольность, поэтому он криком позвал жену.
Курочка (так он звал жену) вбежала в его кабинет, зная, что муж опять неприлично раскачался. Кресло ходило ходуном, как суденышко на волнах. Оно уже достигло той кинетической стадии, когда вертелось на одной точке, как огромная юла, так порывисто и центростремительно, что старика Болотина внутри этого верчения уже не было видно, а воздух вокруг или, лучше сказать, воздушное измерение, превращалось в гибельную, пенящуюся воронку.
Курочка остановилась в шаге от кресла-волчка. Она правильно, с гимнастической прямизной наклонила спину вперед, вытянула руки и заранее напружинила их, чтобы с силой хватать вырывающиеся подлокотники кресла. Наконец ей удалось стреножить кресло-качалку и погасить его последние судороги. Муж замер в кресле с опущенными мятыми веками. Очков на нем не было. Они лежали у письменного стола разбитые. Их снесло крутящимся ветром. Рубашка на муже задралась, и страшное, войлочное пузо сотрясалось по инерции. Тапки мужа разметало по разным концам комнаты. Волосы мужа, седеющие, словно смазанные сажей, кучерявые и крепкие, свивались в одну сторону, как стираное белье после ручного отжима.
Курочка помогла мужу встать. Он выругался и сразу остыл. Направился в ванную, попросив Курочку принести другие очки. Курочка хитро улыбалась его безвольной, опустошенной осанке. Она знала, что он любит притворяться смешным и копотливым ради скорого и точного прыжка. Курочка отодвинула кресло-качалку на его постоянное место, к эркерному окну. В складках шторы пряталась бессловесная, испуганная собачка такса, которую для метонимии и звали Таксой. Она была меланхолична и теперь мучилась, как настоящая божья тварь.
Старик Болотин в ванной по привычке посетовал на свою несуществующую крайнюю плоть. Он совершал это ироничное подтрунивание над собой ежедневно. Шлюха, которую ему в прошлый раз подложил Куракин, шлюха с каким-то прибалтийским, незапоминающимся имечком, хвалила его нестареющий обрезанный член, приговаривая, что такому удобно делать минет, как аккуратному, ровному пальцу без заусениц. Шлюха была какая-то чахлая, длинная, болезненная, с мелкой грудью и при этом с отчетливо крутыми извивами. При ее мерзкой улыбке дыхание у нее было легким, вегетарианским. Старику Болотину было приятно ее целовать, как маленького свежего отпрыска. Ей же поцелуи старого клиента были в тягость, как один из запретов ее ремесла. Она полюбила гладить старика Болотина по кудрявой большой голове. Она говорила, что «те все лысики, а он настоящий патриарх». Она была, кажется, из худосочных, неприкаянных, беленьких жидовочек. Он спросил ее об этом прямо, а она, смутившись и опять паршиво улыбнувшись, сначала закивала, а потом замотала хлипкими, белесыми, чересчур душистыми прядями из стороны в сторону: «Нет, я русская, у меня вся родня русские». Когда она ходила перед ним голой, как модель по узкому подиуму-дощечке, он думал о том, что современная женская красота, культивируемая педерастической кутюр-эпохой, рассчитана на то, чтобы возбуждать мужчин испорченных и слабых, дохляков и маньяков, чтобы вызывать у них желание расплющить субтильное, бескровное, ангельское существо. То ли дело во времена его молодости, мужчины боготворили крепких женщин. Мужчинам нужна была крепкая телесная отдача, страстная и сильная взаимность, а не подавление или унижение.
Курочка, жена старика Болотина, как-то стремительно постарела за один год, она обезумела и засохла. Туловище ее стало как топорище. Вздохи ее были клочковатыми, спертыми, сухими и святыми. Ляжки ее были большими и плотными, но не широкими, как будто слипшимися посуху и потерявшими эластичность для размыкания. Ее лицо побелело, как пресное тесто. В ее любимой им смешинке появилась отстраненность, едва ли не забитость, и временами — испуг перед ним, как перед чужим самцом.
Курочка позвала его поехать с ней в универсам. Он ответил, что пусть она едет с водителем. Он попросил, чтобы она не забыла купить на ужин курочку (сын будет), и она улыбнулась в ответ, как монашенка сквозь темный платок.
Старик Болотин был рад своему браку, рад, в конце концов, превращению жены в какой-то неопределенный отблеск и особенно рад превращению сына в зрелого, разумного, беспощадного хозяина положения. Старик Болотин не мог исторгнуть из своего делового общения привычку по-советски кипятиться, красиво, принципиально стучать по столу переговоров кулаком. Молодой же Болотин, пропитанный новой формацией, как сиропом, отличался внешне мягкими манерами, кротостью настоящего миллионера, смирением хищного циника. Старику Болотину приятно было видеть в сыне ленивую цельность. Натура сына не знала двойственности не уверенного в своей аутентичности еврея. Если старик Болотин до сих пор называл себя русским, по крайней мере до сих пор противился думать о себе как о полноценном еврее, то молодой Болотин считал себя исключительно тем, кем он был записан в паспорте, — гражданином Российской Федерации, русским по национальности. Старика Болотина восхищала простота, с какой во главу угла своей самоидентификации молодое поколение ставило юридическую запись.
«Интересно, — размышлял старик Болотин, — каким бы я был человеком, если бы я не был евреем? Почему русские думают, что евреи их не любят или презирают? Откуда в некоторых из них это странное убеждение, что евреи не столько ненавидят даже немецкий фашизм, сколько русский коммунизм? Якобы это все оттого, что нацисты — явление безнадежное и временное, а русские неисправимо христолюбивы и поэтому якобы чужды иудеям на духовном уровне. Это грубо и глупо. Некоторые же евреи всю эту чепуху и придумывают ради катастрофической давки, потому что они в этой тесноте интересов — самый живучий материал. Нужно понять, что если еврей прекратит выпячиваться, начнет соблюдать пропорции мировой гармонии и совестить свою родовую память, то еврея-то как такового не станет сразу. Что же, вы хотите, чтобы его не стало? Еврею, чтобы быть, достаточно еврейства или еврейскости. Другим, чтобы быть, своего национального самочувствия маловато, нужно что-то другое, может статься, совершенно еврейское».
У старика Болотина для надежности и водитель был евреем — Славик, горбоносый, скорее, не по-еврейски, а по-кавказски, костистый, с раздавшейся, тяжеловесной комплекцией, которая ему помогала быть неторопливым, основательным и даже ленивым. Славик был необразованным, в своей глубине амбициозным, степенно услужливым, с некоторыми непредсказуемыми замашками. Например, он полагал, что если нельзя быть запанибрата с хозяином, то с его ближними быть насмешливым никто не мешает. Например, он любил иногда становиться русским мужиком, то есть предаваться трехдневным запоям с характерными, беспочвенными страданиями, с простодушной надеждой на то, что такие вещи, как запой и соответственно прогулы, начальник должен прощать с пониманием и сочувствием, если, конечно, начальник не последний жид. Старик Болотин не сомневался, что Славик во время кутежей изо всех сил старался казаться рубахой-парнем и даже поругивать старика Болотина привычной «мордой жидовской» — не только чтобы понравиться своим собутыльникам, но и чтобы польстить своему alter ego.
Старик Болотин к приездам сына, любителя буржуазных манер, надевал парадный костюм и повязывал галстук — повязывал так коротко, что он смешно прилипал к середине пуза. Сын уже делал отцу замечание по этому поводу, но старик Болотин в мелочах придерживался свойственных ему правил.
Старик Болотин ждал сына с первостепенным нетерпением. Вид сына, несмотря на его недетскую, зрелую слоистость, был ему мил, как ясное, точное, правдивое примирение с бессмысленно нежным горизонтом жизни. Старик Болотин любил целовать сына в ароматный затылок. Запах волос сына не изменился с младенчества.
Первыми вернулись Курочка и Славик, с пакетами, неприятно пахнущими оттаивающей упаковкой. Жена втихомолку стала разбирать продукты на кухне, а Славик топтался в прихожей, настойчиво дожидаясь взгляда старика Болотина.
— Что такое, Славик? — почувствовал дальний переполох старик Болотин.
— Стефановича убили, — сказал Славик. — Только что передали по радио. В Москве с тремя охранниками расстреляли из автоматов.
«Стефанович» было причудливое отчество Юрки Первого, как теперь выражаются, криминального авторитета регионального масштаба. Сын старика Болотина не мог не пересекаться со Стефановичем. (Сам Юрка Первый любил, чтобы ударение ставили на первый слог — «Стéфанович», так, как это в том числе делал сугубо инстинктивно и Славик.) Журналисты имена Болотина-младшего и Юрки Первого в последнее время увязывали воедино и, как всегда, увязывали лишь вершки, а не корешки.
Славик теперь выглядел не менее причудливо, чем отчество Юрки Первого, и старик Болотин, переварив известие, развеселился:
— Ну что, что ты такой взволнованный, Славик? Мало ли бандитов убивают?
Славик думал о ближнем круге убитого, а также о сыне старика Болотина и о своевременности всякого ухода, умении не затягивать эту своевременность до суровой расправы. Сообщения о заказных убийствах известных людей приводили Славика к будничному, внешне грустному ликованию, особенно если этих людей Славик видел не только по телевизору, но имел счастье лицезреть близко, бывало, даже в собственном автомобиле. Жалость у Славика они не вызывали даже мертвыми, потому что даже мертвыми не казались жалкими, а были похожи на раздавленных тараканов. Славик не раз пробовал высказаться именно вслух, во всеуслышание: «Ну, где же теперь ваши миллионы? Чего же они вас не спасли?» — и не находил достаточной желчи для окончательного вывода, только плевался себе под ноги и недоумевал.
— Не плюйся! — упреждающе сказал старик Болотин Славику. — Пригодится воды напиться. Иди в машину. Может быть, поедем.
Старик Болотин включил телевизор, но до петербургских «Вестей» оставалось еще минут пятнадцать. Старик Болотин позвонил сыну на мобильный, зная, что тот будет отключен. Он позвонил в офис. Там сообщили, что Михаила Михайловича сегодня уже не будет. Новая секретарша не узнала голоса старого Болотина, тем более что их голоса с сыном разительно расходились.
Старик Болотин начал беспокоиться, понимая, что беспокоится он напрасно. Век Стефановича завершился, век его сына набирает обороты. Сын — человек предусмотрительный, даже мнительный. Он видит изменения на дворе, во времени. Не взлетать высоко, а шагать широко. Сын бывает жестким и увлекается жесткими играми, он делает это таинственно и приглушенно, когда прислушивается к отцу.
Старик Болотин разволновался. Как же научить сына притормаживать на виражах?.. Старик Болотин опять лег в кресло-качалку. Курочка почувствовала это и явилась к нему в кабинет.
— Михаил Аркадьич! — сказала она. — Тебе надо измерить давление.
Старик Болотин веско хлопнул большими мокрыми веками.
— Только не раскачивайся, пожалуйста, Миша, как прошлый раз, — услышал он предостережение жены.
Старику Болотину приятно было размышлять о том, что количество качественной жизни не переходит в качество смерти, что в процессе этого перехода исчезает последний жизненный страх, наступает посмертное саморазоблачение, глаза становятся чужими.
Когда Курочка вошла, старик Болотин по-юношески подскочил с кресла, подошел к жене и поцеловал ее в волосы, душистые, с отзвуком масляной, сладкой гари. Жена подняла к нему лицо, улыбнулась, обхватила его большую талию легкой рукой. Оба одновременно, как сиамские близнецы, присели на диван. Их игра в молчанку за долгие годы стала веселой, наполненной воспоминаниями. В таком длительном молчании невозможно было кривить душой. Как хорошо вести чистую, семейную, рассудительную жизнь книжника и не фарисея!
— Ты знаешь, Курочка, что мне иногда приходит в голову? Только это, конечно, между нами, — говорил старик Болотин жене в самые ее глаза. — Это, конечно, смешно и совершенно кощунственно звучит. Ты прости меня. Приходит же мне такое, старому грешнику, в голову. Ты помнишь, мы были у Стены Плача?
— Помню.
— Ты там оставила свою записку, а я оставил свою. Нет, я не о том, что я там написал.
— Ты написал о нашем сыне, — сказала жена.
— Да. Ты тоже написала о нашем сыне. Мы писали как будто под диктовку. Я могу тебе озвучить дословно, что ты написала. У нас с тобой даже порядок слов один и тот же. Как сказано: «Сын мудрый радует отца, а сын глупый — огорчение для матери». Но я о другом. Ты же знаешь, что эти записки раз в две недели собирают и сжигают. Так вот... Ты уже догадалась? Да? Я хотел бы быть тем служителем, который сжигает эти обращения к Богу, эти глупые мольбы и просьбы.
— Тебе нельзя быть таким служителем.
— Почему?
— Потому что ты чрезвычайно любопытен.
— Ты думаешь, я не знаю, о чем пишут все эти люди? Знаю. Они замучили Бога своими сокровенными глупостями. Эти записки надо сжигать раньше, чем их прочтет Господь. У него уже голова пухнет от наших непристойностей.
— Ты не удержишься. Ты обязательно прочтешь записку какой-нибудь молодой и красивой Рахиль. А это — грех и позор на нашу голову.
Старик Болотин удивился силе ее неувядающей ревности.
Наконец в «Вестях» показали небольшой сюжет о том, как расстреляли машину Стефановича в Москве. Чета Болотиных внимательно следила за вторым планом. Оказывается, Юрка Первый в день своей гибели побывал в магазине с загадочным названием «Путь к себе». Странным было то, что девушка Юрки Первого, когда по автомобилю открыли стрельбу (а девушка была с ним на заднем сиденье), вдруг наклонилась, чтобы поправить застежку на туфельке, и поэтому пули ее не задели, и поэтому она спаслась и выглядела свежей и еще более соблазнительной от такого чуда.
Старик Болотин вспомнил, что у Юрки Первого были совершенно еврейские, подспудные, черные глаза и темные, ранимые подглазья. Последние годы Стефанович, по уже заведенной крупными российскими мазуриками традиции, свое поврежденное существо решил спасать в лоне Русской православной церкви, самой терпимой и самой всеядной церкви на земле. Стефановича спешно крестили, приучили к безнаказанному покаянию, лестному таинству исповеди, ностальгическому таинству причащения тела и крови Христовых, дали проницательного, твердого старца, уроки по смирению духа, надежду на мученический крест. Было умильно смотреть на Юрку Первого, все еще изысканного модника, но уже печального постника, молитвенника и молчальника. Особенно светлым он казался своему окружению после недавнего, как бы ненапрасного елепомазания. Наши бандиты и помимо церкви культивируют особую, якобы не показную сдержанность, чуть ли не религиозную затаенность, ритуальную, вызревшую, словно выстрелянную доблесть. «Ну-ну, — посмеивался старик Болотин. — Настоящие пацаны превращаются в настоящих иноков. И цепи не надо снимать, только крестики подвешивай к ним, у кого еще нет».
Удручало теперь старика Болотина то обстоятельство, что в пореформенной России среди бандитов гоношилось немало евреев, полукровок и прочих трудно различимых осьмушек. Плохо было не только то, что они были бандитами и в основном бандитами коммерческими, — плохо было то, что они лезли верховодить в преступном мире. Их жизненный практицизм смыкался с блатарским и представлял собой невыносимое зрелище. Они не понимали, так же как на другом фланге не понимали олигархи, что еврей виден как на духу, что за одного еврея сдают всю еврейскую нацию.
Старик Болотин боялся молодости своего сына, того, что молодость его совпала с периодом резкого его преуспевания.
Старик Болотин тревожно, хаотично задремал. То, что сын наконец-то приехал, он понял по искрящемуся, говорливому лаю таксы, заливистому, как птичья трель. Таксе нужно было родиться соловьем. Старик Болотин поднялся, поправил галстук, застегнул пиджак, оставив не застегнутой нижнюю пуговицу, чтобы сын меньше раздражался внешнему виду отца. «Отчего они такие щеголи? — радостно недоумевал старик Болотин — Эти чада первородные?»
На ужин была не курочка, а утка с медовым соусом. Младший Болотин был особенно умиротворен, не расчетливо и не иронично, а эдак задушевно, буквально расслаблен, разварен, по-детски вальяжен. Как в детстве, он не поцеловал, а ласково облизал материнские короткие пальчики в знак благодарности за ее неизменное кулинарное искусство и, видимо, ради счастливого воспоминания. Мама теперь излучала полное спокойствие за сына.
Старший и молодой мужчины начали курить сигары и пить терпко-нежный, как вкус южной луны, херес «Королева Виктория» из красивой бутылки, привезенной сыном. Папа расспрашивал о бизнесе, не передумал ли сын идти в депутаты, о недогадливой новой секретарше, чему сын наконец-то с однозначной таинственностью улыбнулся.
— Все хорошо, папа. Ты ведь знаешь не хуже моего.
— Я хочу, Миша, чтобы все стало окончательно и бесповоротно хорошо.
— Окончательно — это и есть бесповоротно.
— О нет, Миша. Окончательно — это еще не значит бесповоротно.
— Папа! Что ты меня предостерегаешь от неприятностей, в которые я никогда не лезу?
— Я знаю, что ты видишь теперь больше, чем я. Но поверь нам с матерью, ты, Миша, к сожалению, в силу своей молодости не можешь видеть того, что видят два стареющих человека одновременно.
— Ты заговорил, папа, как старый еврей.
— Можно подумать, Миша, я еврей молодой.
Курочка (мама и жена) вторично миловидно улыбнулась. Казалось, еще немного, и она бы залилась своим замечательным некогда, до ее превращения почти в молчунью, нелицемерным смехом.
Папа и сын одновременно и одинаково много отхлебнули хереса.
— Прочел в газете, Миша, что в Волгограде убили одного крупного областного чиновника, чуть ли не вице-губернатора, который отвечал за сельское хозяйство. До этого его обвиняли в том, что все зерно прошлого года по цене ниже рыночной скупала фирма, где на руководящей должности трудится его сын. Область, конечно, понесла убытки. Убили, разумеется, чтобы замести следы и свалить все на покойного.
— Ну и что, папа? Такие убийства у нас происходят каждый день. Ты это не хуже меня знаешь.
— Что значит «не хуже меня»? Мне представляется, все-таки хуже.
— Это я так, к слову сказал.
— Грустно, Миша, то, что убийство этого бедного чиновника было выгодно исключительно той фирме, где и по сей день работает его сын.
— Фу, папа. Ты, кажется, немного перебрал. Так же нельзя. Мы же другие люди. Ты действительно перебрал, — сказал Михаил со светлой, внушительной обидой, как в детстве, и переставил бутылку хереса на дальний край стола.
Он так прилежно при этом склонялся к столу, так толсто напрягались его ляжки в серых костюмных брюках, что старик Болотин умилился: ему показалось, что лет двадцать назад так же напряженно, молодо и мощно изгибался и он сам.
В «Вестях» опять крутили сюжет о гибели Стефановича. Молодой Болотин смотрел на отца без какой-либо другой мысли, кроме заботы о благополучии здравого рассудка отца, и мелко, по-китайски, кивал головой.
— Извини, Миша, еще один вопрос, — сказал папа и красноречиво перевел взгляд с красивых глаз сына на большой телевизор.
— Папа, — ответил сын, — не беспокойся и не волнуйся. Я в порядке. Несчастье произошло. Ты сам все прекрасно понимаешь. Ты учил меня понимать все прекрасно. Да и надоел он уже всем со своими монастырями... Завтра надо будет организовывать похороны. Всё. Я поеду. Проблем выше крыши.
— Я тебя провожу, сынок. Погуляю с Таксой. Она хочет уже.
Спускаясь по размашистым лестничным маршам за темными охранниками, старик Болотин невзначай начал говорить сыну о неком Гайдебурове, о долгах Гайдебурова, в сущности, ничтожных, и играх в кошки-мышки (вот что возмущает). Несмотря на то, что в иерархии городского бизнеса Гайдебуров по сравнению с его сыном был самой мелкой и самой несчастной сошкой, сын вспомнил-таки, что где-то слышал фамилию «Гайдебуров». Он вспомнил, что какой-то чмошник с этой смешной фамилией приходил с жалобами на отца к Юрке Первому, к Стефановичу.
— Люди мне докладывали. Но я не придал этому значения, — сказал младший Болотин. — Мало ли убогих на свете. Но если он тебя действительно как-то задел, да еще и капал на тебя Стефановичу, вечная ему память, люди мои его, разумеется, найдут. Если его уже не стерли в мелкий порошок.
— Одно «но», сынок. Он — родственник Куракина.
— Фу, папа. Он Куракину нужен, как вон Таксе пятая нога. Да и что такое — Куракин? Я этого Куракина просил пятно под застройку... — Сын сделал вид, будто ищет, куда сплюнуть.
Папа посмотрел на него с дидактическим порицанием. Сын поправил ярко-сиреневый галстук.
Такса сбегала с покатой старинной лестницы неумело. Действительно, казалось, что лапы ее мешали друг другу, а лапам мешали еще и уши.
Отцу было любо-дорого смотреть на удаляющийся в подсвеченных сумерках кортеж из больших автомобилей сына. Они ехали достойно, как одно целое, под сурдинку.
«Надо бы проучить этого Гайдебурова! — вспомнил старик Болотин. — Я ему поверил, а он меня кинул, зайчик. Еще и праведником представляется! Ходит, жалится!»
Гайдебуров в это время шел на него с той стороны и по той бесшумной дорожке, по которой только что укатил его сын. Старик Болотин различил плотную фигуру Гайдебурова, абрис его трогательных, сильных залысин.
Гайдебуров был хром и бородат. Он опирался, как опытный инвалид, на палку. Иногда палка взметалась вверх и сверху на ней в виде набалдашника была заметна большая колючая шишка. Она была устроена так, чтобы меньше всего напоминать тирс, а больше всего — булаву.
Старик Болотин почему-то подумал, что Гайдебуров видит и знает, на кого идет. Старику Болотину стало не по себе. Он стал нащупывать мобильный телефон по карманам. Но напрасно — тот остался дома. «Фу, какая беда!» — содрогнулся старик Болотин. Такса оставалась безучастной и вислоухой. «Взяли моду разводить декоративных собак!»
Старик Болотин остановился, дожидаясь Гайдебурова теперь уже с нетерпением. Он хотел было уже крикнуть: «Ну что, зайчик, попался?» — как увидел в приближающемся вовсе не Гайдебурова, а другого, опустившегося человека. Он узнал в нем бомжа, который, как вонючая тень, иногда в эту пору появляется посреди двора. Старик Болотин испытал двойственное чувство, и удовольствие и неудовольствие, — у него отлегло от сердца и между тем пропал кураж. «Надо сказать охране, чтобы прогнали этого бомжа».
Сиволапый бродяга прошел мимо старика Болотина. Пахло от него сегодня лучше, чем обычно, даже Такса не отпрянула. Лицо у бродяги крайне сморщилось и заросло. Чаяния, если и были, улетучились. Взамен спокойствия духа он достиг оцепенения.
Старик Болотин проводил его широкую, овальную спину с юмористическим омерзением. «Нечисть какая! Но как похож на Гайдебурова! Если побрить и почистить, пожалуй, не отличишь, — посмеялся старик Болотин. — Надо бы попросить охрану побрить и почистить. Плохо стал видеть. Вроде бы и очки сильные, а не вижу».
Тень проходимца, не оборачиваясь, слилась с теменью подворотни.
Старик Болотин который раз за день в мыслях засобирался уезжать. «Хватит! К брату! В Канаду! Мне мнится будущая жизнь!»
Он был уверен, что теперь его Курочка, находясь в любимом ею одиночестве, на пике ласкового трепета, читала стихи некого очень старого и уже скончавшегося поэта Семена Липкина. Вчера старик Болотин заметил, как долго, с близким, сердечным интересом она всматривалась в портрет поэта, в его довольно безжалостные с виду, изнуренные глаза, так похожие и так не похожие на глаза старшего брата старика Болотина, Семена Аркадьевича.
11. Троицкое поле
Некоторые дни ослепления и безумия Гайдебуров коротал на Троицком поле.
Это Троицкое поле или какой-нибудь Веселый поселок так и останутся безвестными и задрипанными питерскими окраинами, пока кто-либо из великих наконец-то здесь не народится и не воспоет свою малую родину хотя бы ради красного словца, как благодарный сын. Да и захочет ли он, став великим петербуржцем, все это захолустье вспоминать и воспевать, этот левый берег словно и не питерской Невы, а как будто другой, какой-то среднерусской угрюмой, чугунной реки? Великий переедет на Васильевский остров или на Мойку, а сюда и дорогу забудет, до метро «Обухово»-то. И будет великий петербуржец воспевать воспеваемое — «цветные» мосты, Строгановский дворец, Летний сад, Новую Голландию, Финляндский вокзал, мечеть, на худой конец, и если поле, то никак уж не Троицкое, несмотря на его внешне петербургскую топонимику, а Марсово, конечно.
Единственное, что здесь всегда будет напоминать о Петербурге, о его духе и напоминать самым что ни на есть единоутробным образом, так это находящееся поблизости кладбище Жертв 9-го января.
Путь в вертеп на Троицкое поле лежал через Невский проспект и прилегающие к нему улочки. Гайдебуров тяготился подолгу сидеть в одном интерьере — его тянули новые миловидные очертания и свежие уши. В каждом следующем баре он рассказывал бармену или неприкаянным посетителям одно и то же — о своей жене. Рассказы о жене становились для него насущной потребностью. Он говорил, какая у него жена неизменная в своей красоте, он говорил, что ее красота горделива и аристократична, он говорил, как она иногда мерзко, некрасиво хмыкает и как она великолепно смеется, что только хорошие люди великолепно смеются, какая у нее изящная и вместе с тем какая-то ребячливая походка, какая у нее трогательная сутуловатость при совершенно высокой, нежной, теплой шее, какие у нее смуглые, благородные руки и ломкие, подростковые пальцы, какие у нее строгие, насмешливые, не умеющие прощать глаза. Он рассказывал, как она начала болеть после родов, как стоически переносила боль, как пыталась игнорировать его пугливое участие. Он досадливо, с обязательными сантиментами вспоминал тот день, когда она упрекнула его в том, что он проявляет заботу о ее здоровье от случая к случаю лишь потому, что боится, что она умрет, а у него на руках останутся двое детей. Ему было это очень странно слышать, потому что на этот раз это было сущей неправдой. Ему становилось печально оттого, что она, оказывается, совершенно не знает его и теперь меньше всего хочет знать, что ее представление о нем статично, предосудительно и окончательно, как о мертвеце. Он думал, что его уход для нее совсем не окажется чем-то из ряда вон выходящим, напротив, его жизнь рядом с ней представляется ей бесполезной. Между тем он бравировал надеждой на ее якобы тайную и жалостливую привязанность к нему, бравировал и горланил, непонятно кем себя воображая:
«Ты хочешь знать, наверно, дорогая, Какая разница меж Колькою и мной? У Николая — пьянка бытовая, А у меня — всегородской запой».Он знал, что ей особенно была противна эта его триумфальная, показная дикость, был противен этот вплетенный ради размера несчастный родственничек Колька Ермолаев, были омерзительны эти где-то найденные и зачем-то перефразированные пушкинские строчки, — омерзительны тем, что произносились так, как будто действительно кого-то могли рассмешить.
«Смени пластинку! Это совсем не смешно», — говорила жена. Но он был настойчив в своих обидах и досадах, настойчив в своей нарождающейся, нетерпеливой, подозрительной обреченности.
...Сначала он пил вино в баре на Маяковской, и пока белокурая, постная администраторша крутила его, он крутил ей свою заигранную пластинку. Потом он в этом же баре, в другом зале, слушал дуэт балалаечника с гитаристом. Причем балалаечник играл первую скрипку. Гайдебурову нравилось, что живая музыка лилась буквально в двух шагах. Ему почему-то нравилось вводить в заблуждение уличных музыкантов. Лабухи были его лет и также незримо деградировали с полным безразличием к земной тщете. Он произносил комплименты их игре, особенно их необычному сочетанию — резкой, редкозубой, солирующей балалайке и напыщенной, ритмообразующей гитаре, этому странно визгливому русскому с флегматичным испанцем. Гайдебуров вручал им деньги, и они теперь играли исключительно для его пьяной щедрости. Они стали вести себя так нахально, что один из них — гитарист, когда заговорили вообще о музыке и дирижерах, даже обронил, что Гергиев, например, — рядовой и коммерческий дирижер. Гайдебуров почему-то поддержал горемык, попросил их не думать о том, что их жизненный путь, их никудышное поприще и гроша ломаного не стоят, что это — позорное существование. Нет, напротив, это и есть жизнь, какой жизнь только и должна быть, — скромная и пустая.
Далее Гайдебуров пребывал еще в трех или четырех измерениях: в заведении у Невского Паласа, где бармен почему-то скроил кислую физиономию его чаевым (может быть, Гайдебуров обмишулился с купюрами), в заспанном Доме журналиста, в кинотеатре «Аврора», еще в одном простецком шалмане на углу Невского и Садовой. Здесь какой-то тип, похожий на директора Дома актера, позволил себе грубость, посоветовав Гайдебурову отправляться к Египетскому мосту, в кабак, где уже много лет лежит заложенный им, Гайдебуровым, вицмундир. Уже раскалялся от звонков телефон. Антоша, мелкий сутенер из общаги с Троицкого поля, телепатически чувствовал состояние Гайдебурова и манил.
Петербургской ночью Гайдебуров плыл с кособокой улыбкой христосика. Ему было удобно двигаться вплавь мимо пышных фасадов по светящейся сырости. Было пятнисто, знобко, мокрый снег облеплял фонари.
Гайдебуров теперь находился в своей тарелке, то есть не представлял собой ничего, был никто и не выдавал себя ни за кого.
С такой кривой ангельской улыбкой, которую он не чувствовал на своих губах, но которая была заметна издалека, он размышлял обычно о том, какие женщины ему теперь нравятся. Он всматривался в проходящих женщин по возможности стеснительно и убеждался в том, что ему, как заколдованному, нравятся прежние женщины, классический тип его Веры. Он любил, чтобы женское тело встречало его всепобеждающей замкнутостью. Ему нравилось, чтобы женское тело выглядело дорогим, блаженно петляющим, вытянутым, искусительным и затаенным. Ему претили озорные, изобретательные, спортивные, шумные озорницы. Он любил размашистые сумрачные бедра, длинные тонкие предплечья, спекшийся жгучий лобок, горькую ранимую грудь, могучие прохладные икры, спелую матовую пигментацию, топкие, веселые губы. Он любил тело своей жены, но не любил теперешних ее глаз. Глаза ее теперь наполнялись отвратительной, глумливой, изможденной брезгливостью. Он тосковал по другим глазам — радостным, грешным, ясным, простодушным.
Он поймал частника, который уже откуда-то знал, что Гайдебурову нужно ехать именно на Троицкое поле. Гайдебуров отказался коверкать маршрут крюком до Египетского моста. Какой к черту Египетский мост? Нет там никакого кабака. Один пустой, обветшавший угол. Еще в гостинице «Советской» есть что-то, а там нет. Видите ли, кабак назвали «Вицмундир». Да вы меня хоть горшком назовите, только, как умру, не забудьте положить под язык хотя бы рубль, а то ведь там не пропустят к их Египетскому мосту. Не правда ли? Таксист-частник жеманно соглашался. У него на щеках возникали ямочки.
Этот подобострастный частник, с темной пахучей кожей и выпирающими, но плотными чертами южанина, вдруг напомнил Гайдебурову очень давнее и, видимо, несуществующее лицо своего школьного учителя черчения Катаева, человека застенчивого, потного и невнятного. Гайдебуров попросил разрешения у частника поспать на заднем сиденье. Частник с мокнущим лицом Катаева не возражал.
Гайдебуров спал бессвязно и тихо, с вялыми вздохами и той несмываемой улыбкой, какой смотрел на излюбленные виды. Когда Гайдебуров повернулся к водителю спиной, водитель увидел торчащую из заднего кармана брюк Гайдебурова крупную ассигнацию. Водителю пришлось резко лавировать и грубо тормозить, чтобы наконец на мнимом повороте изловчиться и выдернуть за краешек эту хрустящую бумажку из кармана пьяного пассажира. Этот маневр Гайдебуров почувствовал и повернулся к водителю-частнику снова непроницаемым, смиренно улыбчивым лицом. Частник думал, что клиент, погруженный в глубокий сон, улыбается причудливой фата-моргане. Когда Гайдебуров по приезде на Троицкое поле выходил из машины и расплачивался согласно договоренности, он спросил у частника с ямочками, не забывая жертвенно улыбаться: «Теперь-то тебе хватит?» Тот кивнул мокрой, неосвещенной головой, вдруг хлопнул дверью и с собачьим визгом ретировался подальше от криминальной оконечности...
Гайдебуров думал о себе, что он не жертвует, а уступает.
Его встретили одинаковые Антоша и Сережа, оба неопределенного, молодежного, худощавого возраста, припорошенные, испитые, один с черными мерзкими усиками, второй с невидимыми, белесыми. Их родство выдавала целеустремленность. Следом с голым, татуированным, безволосым, античным торсом появился Мансур. Из-за синего, зэковского эполета Мансура вышли Раджаб, Борис, Софья, Фрунзик, Люба и новая белокурая наездница в белом, потертом, кожаном трико и фиолетовых крагах с перфорацией. Звали ее странно — Ветка. Антоша пел, что она стреляет метко.
Антоша шепотом сообщил, что ждали его в «Вепре», всего заказали, но «Вепрь» закрылся. На Троицком поле пробило три часа пополуночи. С утра нужно будет заплатить Диме-буфетчику. Выпивку и закуску с собой подняли.
Софья, маленькая, с теплыми, обманутыми, слепыми глазами, была опять плоха. Она жаловалась, что ее побили в ментовке, что муж ее продал квартиру и уехал в Германию, ей оставил ржавый «форд», весь в дурацком тюнинге.
Софья ничего не говорила по существу, но единственная в этом обществе сквозь нетрезвую, бесшабашную вальяжность Гайдебурова видела его будущее многообещающим.
Люба родилась с большими, мужицкими, натруженными руками. Она не прятала их, будто они были ее достоинством.
Она оглядывала Гайдебурова как пропащего. Он был симпатичен ей потому, что пропадал с музыкой. То, что он силился держать ногу в стремени, забавляло только легкомысленного Фрунзика. Раджаб был обходителен и проницателен. Раджаба боялись. Раджаб был хлесткий забияка. Раджаб в какой-то момент нашел в Гайдебурове родственную душу. Эта находка удивляла Мансура. Мансур от удивления поднимал глаза к потолку.
Русский Борис, проведший сознательное детство в советском Баку, произносил слова беспорядочно и с сильным акцентом. Он хотел оставаться лучшим из азербайджанцев. Ему нужно было завтра на работу, за руль, но он все не решался оставить перспективную компанию.
Ветка видела, что нравится гостю. Она откинулась на стуле так, чтобы придать своей извилистости последнюю, ложбинчатую истому. На горле у нее тлели припудренные засосы, похожие на следы от фаланг. Гайдебуров обратил внимание на ее слюнявые, бессильные губы, совершенно ювенальный, бодрый овал, ясный, по-своему отзывчивый и предупредительный взгляд. Им она начинала опекать своего мужчину. Смеялась она одной стороной рта, как будто с другой стороны у нее недоставало зубов.
Когда Софья пододвинула свою табуретку поближе к Гайдебурову, Ветка наконец-то телеграфировала Гайдебурову воздушный поцелуй — уже беспокойный и полный упреков. Ветка еще больше развалилась на стуле и задела носком сапога штанину Гайдебурова.
Мансур оглянулся на Раджаба и спросил то ли у Антоши, то ли у Сережи:
— Скажи, кто ты по жизни? Вот я по жизни — мужик. А ты кто, проститутка, что ли?
— Начинается, — протянул Антоша.
— Мансур в своем репертуаре, — поддержал Антошу Сережа.
— Как будто ты не знаешь, Мансур, что Антоша — Шерочка, а Сережа — Машерочка, — сказала Люба.
— Я-то знаю, — говорил Мансур. — Шерочка с Машерочкой. Витальич-то не знает.
— Догадываюсь, — сказал Гайдебуров.
— Шерочка с Машерочкой, — не унимался Мансур.
— Не учите жить, помогите материально, — отзывался из смежной комнаты Антоша или Сережа. Оба застилали одну кровать, шептали непроницаемо и непримиримо.
— Иди воруй! — громко говорил Мансур.
— Ой, Мансур, прекрати! У нас гости.
— Че ты мне рот затыкаешь, Шерочка? Иди воруй! Не будь проституткой, Антоша!
— Я не Антоша, я Сережа.
— Э, какая разница? Иди воруй!
— Куда ты меня гонишь из моей квартиры?
— Э, это не твоя квартира. Шахер-махер с Иван Васильичем сделали.
— Я же и тебе помог, Мансур, жилплощадь здесь получить.
— А Иван Васильич еще не поменял профессию? — спросил Гайдебуров.
— Э, зачем? Он комендант.
— Комендант? Понизили, что ли?
— А я вот по жизни — алкоголичка, — заявила Софья.
— Ты не алкоголичка, ты пьяница, — поправил Мансур.
— Да, я по жизни пьяница, — подтвердила Софья.
— Удивительно, что среди ваших тоже бывают пьяницы, — сказала Люба.
Ветка забросила ногу на колени прямому Мансуру и уцепилась усмешкой за снисходительный взгляд Гайдебурова. Мансур с видимым презрением стряхнул ее ногу и увидел обоюдное одобрение Раджаба и Гайдебурова.
— Э, че ты мне свой мосол бросаешь?
Раджаб вполголоса разговаривал с Гайдебуровым о Чечне, о тейпах, о вендетте, шариате, о податливости России, о русских рабах, о кавказских набегах.
— Скажи, Раджаб, почему у себя на родине вы джигиты, а в России — бандиты? Почему своих женщин вы боготворите, а русских ни во что не ставите?
— Разве мы виноваты, что ваши женщины — бляди?
— Мы виноваты. Я не понимаю, чего мы боимся и почему не можем дать отпор?
— Вы слабые. Вы не держите себя в руках. Вы не защищаете своих сестер, не уважаете своих стариков.
— Русские разделены. Наша огромная территория нас разомкнула.
— Отдайте лишнее по-хорошему. Все равно не удержите.
— Жизнь тяжелая.
— Жизнь у всех тяжелая. На Кавказе всегда тесно было.
— Лет через тридцать Питер почернеет, — отозвался Антоша. — Здесь, в общаге, прикинь, Леонид Витальевич, десять лет назад жили три семьи из Дагестана, а теперь полдома — черные.
— Э, тебе что, плохо от этого, Антоша? Ты с Иван Васильичем комнаты за бабки оформлял.
— Мансур! Гм, за триста долларов? Это что, деньги?
— Такую вы с Иван Васильичем цену высокую установили.
Раджаб, Мансур, Фрунзик, даже русский Борис из Баку одинаково, памятливо захохотали.
— Потому что дураки были.
— Иди воруй, Антоша!
— Что ты ко мне пристал, Мансур? Не могу я воровать.
— Э, ты даже воровать не можешь.
— А я по жизни — русская женщина, — вспомнила давний вопрос Люба и выпила водку в одиночку. — Но не блядь, заметьте!
Мансур дернул расписным плечом, Раджаб шмыгнул носом. У него была битая носоглотка.
— Ты не женщина, ты баба! — вспыхнул Антоша.
— Не тебе судить, Шерочка! — парировала Люба и закинула свои тяжелые красные руки за голову, так, чтобы груди вздыбились и раздельно, с могуществом устремились в разные стороны.
Люба не торопилась опускать руки, чтобы Гайдебуров и прочие мозгляки успели бы восхититься ее сочной женской силой и запомнили бы ее такой монументальной надолго.
— Ух ты, моя жертвочка! — гладил Антоша Веткины редкие пряди.
Ветка перехватывала взгляды Гайдебурова и с веселым нажимом направляла их в соседнюю темную комнату, пахнущую застеленным ложем и каким-то искусственным дымком. Сережа шептал в ухо Гайдебурова нетерпеливым речитативом:
— Леонид Витальич! Леонид Витальич! Она все делает, все делает. Леонид Витальич!
Гайдебуров вдруг обнаружил, что русский Борис из Баку смотрит на него с подавленной неприязнью. Бориса, видимо, раздражало, что эта девочка Ветка достается не ему, чистому, порядочному юноше, а какому-то сорокалетнему дядьке, жирному и липкому.
— А я по жизни теперь — никто, — сказал Гайдебуров и увидел насмешливое недоверие Раджаба.
— Господин Никто, что ли? — подмигнул Мансур и повел разукрашенным плечом.
— Оказывается, очень хорошо быть по жизни никем, — подтвердил Гайдебуров.
— Ничего себе — никто! Собственный бизнес имеет, — удивился Антоша.
Ни Люба, ни Ветка не сочувствовали кокетству Гайдебурова. Выпили за господина Никто. Мансур пил, искривляясь всем телом. Антоша пил на ходу, не прерывая суетливых приготовлений к каким-то новым встречам и отталкивая то и дело с дороги хохочущего Сережу.
Когда Софья напомнила Гайдебурову, что его запои по времени совпадают с ее и что в этой равномерной, дьявольской цикличности есть некоторое предзнаменование, Ветка наконец поднялась, протяжно погладила спину русскому Борису и прошла в соседнее секретное помещение. Гайдебуров увидел, что ее удлиненные бедра выглядели какими-то скошенными, не налитыми. Он услышал, как она раздевалась в темноте, как шелестели ее спадающие штаны, как что-то легкое и металлическое покатилось по полу. Сережа и Антоша с разных точек показывали Гайдебурову, что ему нужно идти следом.
— Главное, — говорила Софья, — не забывать о Дионисе, тогда все наши тревоги по поводу кутежей покажутся беспочвенными, вернее, будут иметь глубокие корни и вспоенную почву. Ха-ха-ха!
Софья по-мужицки красиво выпила водку из стакана.
Раджаб стал беседовать с Мансуром на своем языке. Кажется, о Гайдебурове.
Кажется, оба начали распаляться, говорить друг другу дерзости.
Гайдебуров ночью безвозвратно задыхался. Он хотел было придать своему дыханию полноту, но все его попытки обрести ее проваливались в хлябь. Ему приснился какой-то фестиваль, какая-то вечеринка в неком молодежном международном лагере на берегу реки. Повсюду толпились чеченцы, айзеры, таджики, как на Кузнечном рынке. С невидимой сцены неслись лозунги и особенно часто звучали слова «мужество и честь». Мероприятие подходило к концу. Группы людей расходились и разъезжались. Гайдебуров чувствовал монотонное удовлетворение и блаженную улыбку на губах. В густых южных сумерках он возвращался в компании знакомых чеченцев. Вдруг к нему подъехал пухленький парень на велосипеде и предложил поехать с ним. Гайдебуров отказался, по-прежнему блаженно улыбаясь. Его улыбку заметил один из дружественных чеченцев и посоветовал не связываться с «этими парнями». Своим строгим взглядом он попытался погасить отвратительную улыбку Гайдебурова. Неожиданно появились другие подростки, чеченские, разгоряченные. Они стали оскорблять Гайдебурова, потому что поняли его нечаянную сладостную улыбку как реакцию на предложение того пухленького паренька. «Что? — кричали они. — Тебе это понравилось, русская свинья? Надо всех вас, русских, резать». Гайдебуров понимал, что сейчас его начнут бить и, вероятно, забьют до смерти. И когда он по-настоящему почувствовал, что ему капут, он проснулся в колючей, студеной влаге.
Брезжило чахлое раннее сияние. Ветки рядом не было. Гайдебуров ломал голову, было ли у него что-то с ней или не было, и не мог вспомнить. Кажется, не было, потому что память отзывалась абсолютной пустотой: никаких тактильных ощущений, никаких сполохов чужой наготы, никакого интимного послевкусия. Он не мог ничего сказать о ее груди, о ее коже, о ее ребрах, о ее запахе, о накале ее губ. Он помнил лишь ее смешливый голосок и странное обращение то ли к нему, то ли к кому-то другому: «Лысик мой! Ах, какой осел!»
В квартире не было ни шума, ни живой души. Зато за стеной, у соседей, музыка мешалась с голосами, гоготом и громкими, натужными стонами. Гайдебуров оказался голым. Он неуверенно оделся, стал нащупывать мобильный телефон и нигде не мог его найти. Он открыл портмоне, там лежало несколько ничтожных бумажек. Он вспомнил, что вчера давал зачем-то деньги Мансуру, а потом еще и его жене Марине, и то, что он так разбрасывался деньгами, очень не нравилось Сереже и Антоше, которые ему по этому поводу беспрестанно и энергично выговаривали. На кухоньке было накурено, и дым уже прокисал. Гайдебуров отыскал остатки водки и с радостью выпил. Он сел, не проклиная жизнь. В дверях стояли шлепанцы Софьи. Значит, она здесь или ушла к себе на последний этаж босая. Ему не было тошно, только — печально и сиротливо. Это было его любимое время — неполновесный рассвет. Свои ботинки он обнаружил в платяном шкафу. Они были вычищены и сверкали. На ботинках покоилась его кепка. «От меня остались рожки да ножки», — усмехнулся он. В зеркале он увидел свое на редкость спокойное, без блажи, без муки, импозантно заросшее лицо.
Гайдебуров вышел в коридор и заметил, что дверь в соседнюю квартиру была приоткрыта. Он вошел туда без оторопи, как в гнездилище. Сначала в молочном полумраке он встретил Шерочку с Машерочкой. Один стоял напротив другого. Оба были нагие, тщедушные и остервенелые. Антоша поднимал руку, вяло откидывал ее назад и бил по щеке Сережу. Потом такую же поверхностную пощечину он наносил визави с другой стороны. Это напоминало репетицию циркового номера. У одного из них на животе был шрам от хирургического вмешательства. Оба, как лунатики, пребывали в бессознательном состоянии и взирали мимо гостя.
В следующей комнате на диване и на полу на матрацах вповалку спали обнаженные молодые люди. Они ничем не прикрывались, только лица зарывали друг в друга. Никаких сугубо женских частей тела Гайдебуров среди них не разглядел. Отсутствовал в помещении и сугубо женский запах. Пахло каштанами. На стульях беспорядочно висели джинсы и свитера, на спинке крутящегося офисного кресла шатался от сквозняка курсантский китель с тремя нашивками на рукаве.
Гайдебуров прошел дальше, чувствуя не омерзение и не любопытство, а потребность сосчитать комнаты в этой нехорошей квартире.
Вот откуда доносились стенания! Из этой горенки. Звуки раздавались близко, плутовато, отчетливо и опять же принадлежали не женщине. Но того, кто стонал, в комнате, однако, не было видно. И не то чтобы не было видно, не было вообще. Гайдебуров открыл новую дверь и в проеме задержался. Новая комната была достаточно освещена, чтобы понять сразу, что в ней происходит, и сразу ужаснуться. В середине этой светелки на каком-то медицинском топчане сидел нагишом обрюзгший, бородатый и плешивый старый пидор с варикозными венами. На нем были узкие солнцезащитные очки, а на коленях у него примостился и ухмылялся от непонятных ласк тощий юноша в синеньких плавках с блестками на темной челке. В этом улыбчивом смуглом юноше Гайдебуров узнал своего сына. Сжимая кулаки, Гайдебуров направился на подлецов, но, пройдя всю комнату насквозь, оказался в другом, непривычном, словно замурованном пространстве. Он несколько раз возвращался назад и менял маршрут, но найти комнату со своим сыном в этом лабиринте из клетушек и келий был уже не в силах.
Он очутился в длинном коридоре, заставленном санками, лыжами, велосипедами и тазами. На лифте он спустился вниз с гурьбою чернявых детей. Посмотрел на часы и удивился: в действительности было не раннее, сочащееся утро, а был уже полдень в разгаре.
На Троицком поле ярким солнечным светом полировалась явь. Дул сумбурный ветер. Кроны высоких тополей выворачивались бледной изнанкой. Развалины двухэтажных домов сохраняли сами себя в толстой паутине и серых зарослях. Гайдебурову в бойницах мерещился немецкий снайпер. Чеченцы говорили, что эти руины им напоминают Грозный. Душевно, по-деревенски лаяли собаки из частных особняков. Мычала корова, кричал петух, блеяли овцы.
«Вепрь» был открыт. Гайдебуров отправился туда позвонить и опохмелиться. На лужайке стоял Фрунзик с каким-то сухопарым, горбоносым, крепким стариком в бушлате нараспашку. Гайдебуров догадался, что это, вероятно, и есть Иван Васильевич, который не хочет менять профессию. Они поздоровались, и Гайдебуров с места в карьер попросил Ивана Васильевича предоставить ему здесь жилье, конечно, как льготнику и не на безвозмездной, естественно, основе. Иван Васильевич поинтересовался, а кто он такой есть. Фрунзик, поднявшись на цыпочки, нашептал в пушистое седое ухо старика, кто такой есть Гайдебуров. Фрунзик почему-то испугался, что Гайдебуров опять скажет про себя, что он никто. Иван Васильевич оценил физическое состояние осанистого Гайдебурова и пообещал подумать над этим «чересчур щекотливым и коммерческим вопросом, если человек действительно приличный». Гайдебуров спросил у Фрунзика, когда тот будет в своей обувной мастерской, так как надо, мол, подметки накатать. В этот момент к Ивану Васильевичу приблизилась пожилая низкорослая вахтерша с маленьким пожухшим лицом, с импульсивными движениями, какие бывают у старых, бодрящихся через силу женщин, ничего, кроме горя, не знавших в этой жизни. Гайдебуров поспешил ретироваться, потому что увидел в этой старушке разительные черты своей покойной матери. Он чувствовал, что она смотрит ему вслед, и, может быть, она и подходила к ним ради него.
В «Вепре» знакомый бармен с учтивой иронией принес Гайдебурову бутылку холодного шампанского и телефон. Гайдебуров позвонил домой. Домашний номер отозвался презрительными долгими гудками. Он позвонил на мобильный сыну, тот был отключен. Он позвонил жене, она была вне зоны действия сети. Он позвонил дочери, дочь Татьяна занятым голосом ответила, что не знает, где теперь находиться ее брат. Наверное, Виталик на занятиях в институте, предположила она.
Шампанское легко остудило смертную душу.
Гайдебуров смотрел в окно, как по Троицкому полю фланируют обстоятельные кавказцы. Они чинно подходили к автомобилям, степенно переговаривались, покручивали брелоками с ключами, подтягивали отутюженные брюки, ставили барсетки на капоты машин, похлопывали себя по животам, поглядывали по сторонам с умеренной рисовкой. Некоторые из них присаживались на корточки и сидели так долго, беседуя и поплевывая за спину. Гайдебуров завидовал их умению сидеть на корточках длительное время и уютно себя при этом чувствовать. Некоторые смотрели на его силуэт в «Вепре», и, надо отдать им должное, если и ухмылялись, делали это крайне стыдливо.
Наконец в «Вепрь» примчался Антоша без Сережи. Антоша опасался, что уже потерял Гайдебурова, и теперь в качестве успокоительного с удовольствием осушил бокал шампанского.
— А что это за мальчик-то был со старым пидором? — спросил у Антоши Гайдебуров.
— С Пылаевым, что ли? С директором бутика?
— Со старым пидором.
— А, это новенький мальчик. На визажиста учится.
— Как его зовут?
— Лешечка, что ли. А что?
У Гайдебурова сын учился в Университете аэрокосмического приборостроения.
— Ничего. Блокаду пережили и педерастию переживем. Ты не видел мой телефон? — спросил Гайдебуров.
— А что, ты телефон посеял? Это Мансур. Как пить дать Мансур. Больше некому взять. Помнишь — он все орал: «Иди воруй, иди воруй!» Вот и украл. Он же уголовник. Леонид Витальевич, надо было мне отдать телефон, я бы спрятал, — тараторил Антоша. — А ты ему еще денег дал. Зачем?
«Действительно, зачем?» — думал Гайдебуров. Он теперь решал, куда ему путь держать: домой, к Куракину, к Кольке Ермолаеву, к старику Болотину — убивать или каяться, к Софье... Он догадался, чем его обворожила Софья: она была не только близкой и понятливой, она была еще похожа своей одутловатой бледностью в черном обрамлении на жену его дяди-самоубийцы, теперь, кажется, уже тоже неживую.
Если бы Гайдебуров в достоверности знал, что у Троицкого поля находится край света, он отправился бы сейчас именно туда, на край света.
12. Литератор Новочадов
Гайдебуров скрывался у Новочадова.
В его коммуналке на Петроградской стороне, которую Новочадов любил называть по старинке Петербургской стороной, Гайдебуров чувствовал себя как у Христа за пазухой. Пазуха была обычным, длинным питерским пеналом с закопченными снаружи и изнутри окнами и недосягаемым потолком с полуразрушенной лепниной. Соседи были призраками: молодая чета якутов, бабушка в платочке и вневозрастной алкоголик, наиболее телесный из этих призраков благодаря своей оглушительной вони.
Новочадов рассказывал Гайдебурову, что живет неподалеку от того места, где так замечательно застрелился у Достоевского Свидригайлов, где некоторое время назад еще стоял дом с каланчой. Новочадов говорил, что долго не понимал, почему Достоевский называл этого неприятного персонажа человеком с обворожительными манерами, и что именно самоубийство Свидригайлова, такое простецкое и вместе с тем искусное, болезненное и нравственное, убедило Новочадова в том, что этот гнусный белесый развратник действительно иногда имел обворожительные манеры.
Новочадов, глядя на Гайдебурова и зная теперь о его проблемах, вдруг испытал забытое, молодое, беспощадное писательское вдохновение. «Вот и герой моего будущего романа! — сказал он себе. — Ничего и выдумывать не надо. Сам явился, не запылился. Пришел не с пустыми руками, а с тем, что нужно для романа, — с убитым, респектабельным видом и непреодолимым внутренним кризисом». У писателей так: чем хуже человеку, потенциальному герою, тем лучше автору, то есть чем больше настоящего человеческого мучения в книге, тем большее эстетическое наслаждение от нее получаешь.
Между прочим, Новочадов видел, что и Гайдебуров, оказавшись рядом с писателем, вдруг начал осознавать себя эдакой ходячей натурой, фабулой, прототипом, героем нашего времени, если хотите. Причем он не боялся выглядеть жертвой чьего-то бойкого пера, податливым материалом, который используют самым бессовестным образом, над которым, может быть, посмеются впоследствии, как это всегда бывает у щелкоперов, — наоборот, ему приятно было ощущать себя неким полновесным пшеничным зерном, из которого вырастет колос красивый, радующий глаз.
В течение десяти или даже двадцати лет Новочадов всё собирался начать писать свой роман. Этот ненаписанный роман мучил его, как карточный долг, то есть долг чести, но долг бессрочный, возвращение которого можно было откладывать сколько угодно долго, хотя бы и всю жизнь. Но не до смерти ведь? Потому что отдать его было необходимо именно здесь, а не там. Хотя ни здесь, ни там роман изначально никому не был нужен, кроме самого Новочадова и его призрачного кредитора. Кажется, этим литературным кредитором был сам Новочадов, он был одновременно заемщиком и заимодавцем, ростовщиком и должником, обманщиком и обманутым. Круговорот происходил внутри него, а не вовне.
Первое время Новочадов откладывал свой роман по молодости, из-за иных, куда более насущных страстей. Затем он откладывал его по инерции и смеялся: откладываю, мол, не несущиеся яйца. У него был запас кой-какого юмора. Когда он понял, что жизнь погибает в отсрочках, он испугался и начал суетиться, лихорадочно искать идею, сюжет, зацепку, тональность, хотя бы название или начальное магическое слово, которое якобы даст импульс и от которого уже можно будет плясать дальше.
Но в его жизни тогда уже набирала обороты великая тщета. Хоть и предназначался этот роман исключительно для себя, отделаться формальной отпиской Новочадов не мог. По злой (теперь это ясно стало) иронии, имя Новочадову родители тоже дали Роман. Неизвестно, в честь кого или все-таки чего они так его назвали, потому что других Романов в их роду не было, — он проверял. Правда, Романом его, конечно, звали редко, все больше — Ромкой или Ромой, или Ромом — в школе.
Единственным неоспоримым условием для романа было то, что это должен быть роман из так называемой современной жизни, то есть не исторический, не фантастический и не постмодернистский, а именно традиционный, классический, толстовский роман, не концептуальный экспонат, не порнографическое, языкастое месиво, не обрывочные, разномастные тексты, собранные вместе и провозглашенные романом, а собственно роман в старом, добром значении этого слова. Новочадов уповал на некое связное повествование, на череду событий, на содержательный конфликт, на текущее время, на неопровержимые детали и, главное, на интерес к человеку. Говоря об истинном искусстве, подразумевают наслаждение его самобытностью, говоря о вторичном произведении, подразумевают наслаждение аллюзиями. Важно не смешивать первый план со вторым. Детектив прекрасен в кино, комедия хороша на сцене, прошлое хорошо в мемуарах и научных монографиях, а художественной литературе оставьте, пожалуйста, живого, неопознанного человека. Пусть она его опознает. Потому что лучше ее этого никто не умеет делать.
Новочадов придумывал себе как романисту и политические ограничения. Например, он пытался избежать даже самой кокетливой и самой латентной тенденциозности или, наоборот, самой что ни на есть очевидной неангажированности. Ничто не должно было стеснять движений: ни либеральные плавки, ни патриотические семейные трусы. Но и голым нельзя было выходить. Тут же закричат: а король-то гол!
Поначалу он искал душераздирающую семейную и поколенческую коллизию. Но, в связи с тем, что цельной жизни у него лично и вокруг него не получилось и не могло получиться, Новочадов отказался от замысла типичного семейного романа.
Поначалу над его пишущей душой стояла Мария. Они тогда только познакомились, и Мария старалась уважать его занятия. У каждого, по ее мнению, могло быть свое хобби. Над душой она стояла душистая, громко вздыхая. Но потом уже и Мария устала, отошла, а он все равно ничего не мог написать. Так, разрозненные строки.
И тут на горизонте сначала возник молодой Болотин (Новочадов подрядился писать тексты для его избирательной кампании), а теперь — и Гайдебуров, который между тем прятался и от старого, и от молодого Болотина.
Новочадова, как осенение, осветила показательная, страшная и курьезная, повседневная и извечная связь двух этих разных людей. Новочадов знал теперь, что его роман будет о двух Романах (так одинаково будут звать обоих героев), с одной стороны, о неком мелком предпринимателе, с другой стороны, о крупном олигархе, то есть фактически о Гайдебурове и молодом Болотине, и таким образом о ничтожном и значительном, о счастливом и несчастном, о победившем и проигравшем. Новочадов даже с пылу с жару набросал начало вожделенного романа. Оно было таким: «На рубеже веков в России жили сразу два Романа — Роман большой и Роман маленький». Почему бы и нет? Были же Володя большой с Володей маленьким. Теперь, может быть, пришло время тезок по имени Роман? Главным героем из двух автор выбрал все-таки Романа маленького. Такое предпочтение отвечало сострадательной струнке русской литературы, и, кроме того, Новочадов лучше знал жизнь маленького человека, в данном случае почти родственника Гайдебурова, нежели жизнь русского нувориша, которую Новочадов мог лишь себе воображать.
Вдруг, когда замысел романа набух и стал вырисовываться его подробный план, Новочадов почему-то возымел желание, чтобы его будущий труд стал бы необходим не только ему, но и полезен обществу. Однако он понимал, что путь к современному читателю, тому, который олицетворяет тенденцию, лежит не по прямой, от сердца к сердцу, а стелется по превратной коммерческой синусоиде. Новочадов задумался о востребованности: каким теперь нужно было быть, конечно, не поддаваясь той или иной маргинальности, а двигаясь по вечному руслу, чтобы тебя теперь же и читали?
Не исключено, что теперь стоит иначе взглянуть на соотношение судьбы и творчества, включить в эту связку стильный расчет, сдобрить новым маркетинговым поведением. По крайней мере, пора отказаться от пушкинской гармонии судьбы и слова. Весь XIX век накренялся в сторону слова, и в начале XX слово оказалось слишком перегруженным. Тут же начали педалировать судьбу и навязывать ее даже природным лирикам. Какой толк от насыщенной, косноязычной судьбы без выразительной дикции? Недавно еще было время исключительно порочного, занимательного поведения, но и оно, кажется, миновало. Пиши, как будто нет предела, — очаровательное кредо. Но оно подходит только для эротических натур. Если классики очнулись бы в наше время, очнулся бы Достоевский, очнулся бы Толстой, Гоголь в который раз очнулся бы, Чехов, в конце концов, — им, по всей видимости, осталось бы только зажмуриться опять или, наоборот, потереть ручки от писательского зуда. Странно, почему даже метафорически мыслящие читатели не в силах сегодня отличить одно от другого? Все смешалось в литературе. Никто не упоминает о таланте как о мериле творчества. Странно это как-то, странно говорить о книге и ни разу не употребить при этом слова «талант». Может ли быть такое, чтобы богемный истеблишмент боялся этого слова, как черт ладана?
Еще не написав романа, Новочадов уже опасался превратиться в непризнанного гения с неприятным лицом. Самый несчастный человек на земле не бездарь и не гений, а едва не дотянувший до гениальности.
Новочадов, предвидя заранее невостребованность, начинал обижаться на своих успешных коллег. Он соглашался, что удача может сопутствовать и талантливым людям тоже. Обида же на них заключалась в том, что эти люди, став знаменитыми и востребованными, как правило, переставали делать что-то восхитительное, а старались делать лишь то, что увеличивало их решпект и текущий банковский счет. Утрачивали, что называется, обворожительные манеры.
Размышления Новочадова о современной литературе привели его к мысли об экстралитературности, то есть о том, чтобы предпринять какие-то действия ради успеха романа вне самого романа. Попросту говоря, надо было бы прославиться в некой иной, возможно, общественно-политической сфере, чтобы затем этой славой подпереть каркас грядущего творения.
Новочадов затеял несколько сходных акций.
Во-первых, ему пришло в голову стать инициатором объединения двух писательских союзов и, стало быть, закрепить за собой официальное звание «Инициатор объединения». Собственно, в объединении большой нужды не было и малой тоже. Оно не только перезрело, но никогда и не начинало вызревать. Это были отрезанные ломти — два союза. Но отдельные люди, в основном пожилые или совсем юные, несмотря ни на что, сохраняли тягу друг к другу. Призрак благополучной государственной литературы нет-нет да и витал над их душами. Неистовые ревнители раздела общего сгоревшего хозяйства так или иначе ушли. Одни — очень симптоматично и трагически, другие — беспардонно, третьи — весело, четвертые — как попало. Мешать было некому. Конечно, Новочадов понимал, что из головешек настоящий костер не раздуть, но дым и снопы искр поднять еще можно. Главное — крикнуть осатанело, а воздух все эти брызги обязательно подхватит, преобразует и присовокупит к свежему дыханию.
Нет ничего интереснее человеческой ссоры! Но повесть о том, как помирятся Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, без сомнения, станет эталоном беллетристики, потому что мириться всегда приятнее, чем ссориться. Тем более что помирятся-то не Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, а немного другие имена и другие отчества.
Пусть будет некий спектакль! — обрадовался Новочадов.
Он вооружился справочниками одного и второго союзов и с помощью Гайдебурова, которому в бегах заняться было нечем, подготовил и отправил несколько сотен одинаковых пригласительных билетов пишущей братии Санкт-Петербурга.
«Уважаемый коллега! — писали Новочадов с Гайдебуровым. — В среду в семь часов вечера в концертном зале “Октябрьский” состоится объединительный съезд двух писательских союзов.
Беспощадное время развело нас по разным коммунальным квартирам. Полтора десятка лет мы были разобщены предрассудками, человеческой слабостью, амбициями лидеров, дурными идеями, гнилыми словами, беспричинной неприязнью. Раздор себя исчерпал. Его продуктивная стадия завершилась. Непродуктивная вредна обеим сторонам. Нет смысла жить отдельно. Выгодно вести дела сообща. Мелкое гибнет, крупное крепнет. Люди очень нужны друг другу.
Словесность русская в опасности! Своими разногласиями мы выхолащиваем ее последнюю живительную суть.
Читатель над нами смеется, над идиотами!
Коллега! Если тебе дорого твое предназначение, если не оскудел твой талант, если тебе не безразлична судьба родного Слова, если ты не подлец и не фрондер, если ты способен забыть обиды и предпочесть своекорыстию общую пользу, если ты хочешь расплакаться на плече ближнего твоего — приходи!
Оргкомитет форума.
Р. S. По окончании пленарного заседания — фуршет по творческим секциям».
Гайдебуров предложил сделать сноску, что фуршет состоится в случае полного примирения Северной и Южной Корей.
Новочадов согласился, потирая ручки, как классик.
Благодаря спонсорской поддержке Гайдебурова приглашения отпечатали на тонированной, кремовой, фактурной бумаге и вложили в дорогие конверты с водяными знаками.
Гайдебурову стало тепло, оттого что были живы еще на свете писатели, которые могли развлекаться, как школьники, разыгрывая друг друга самым что ни на есть водевильным образом.
Новочадов написал руководящие документы съезда, всякие резолюции и меморандумы, и в том числе в качестве некого совместного заявления Письмо президенту с угрожающим и вместе с тем молитвенным подзаголовком — «Кесарево». Так Новочадов выражал инстинктивное желание товарищей по цеху вернуть литературе ее державный вес.
Между прочим, это Письмо президенту было не единственным в арсенале Новочадова. До этого он писал подобные послания и первому президенту, правда, без какой-либо надежды на отклик. Собственно говоря, все эти письма были еще одним новочадовским экстралитературным проектом. Со времен Овидия литературным письмам отводилась роль голубиной почты между человеком большим и человеком маленьким. На самом деле, если кто их и читал, то исключительно маленькие люди. До больших они не доходили по той причине, что и не посылались им. Эти письма были разновидностью паники и утешения, гротеска и мании величия. Эти письма рассчитывали на превращение слова в некую практику, а в действительности оставались самыми бестелесными из всех словес. Нет, эпистолярный жанр потому и ушел безвозвратно, что был чересчур щемящим и чересчур сообщительным!
Новочадов успокаивал себя тем, что и старомодные люди имеют право на существование. Порой это старомодное существование становится таким лукавым, что ему может позавидовать какая-нибудь самая что ни на есть модная и стильная тусовка...
Занятием на стыке литературы и растительной жизни было и участие Новочадова в предвыборном штабе молодого Болотина. Именно это занятие теперь кормило и по-своему воодушевляло Новочадова.
Новочадов сочинял молодому Болотину платформу. Гайдебуров и к ней прикладывал свою руку. Ночь напролет автор и его любимый персонаж, выпивая, формулировали победоносные болотинские тезисы. Гайдебуров видел насквозь молодого Болотина и убеждал Новочадова не потворствовать тому, а, наоборот, предлагать вещи обидные, которые при этом кажутся выгодными. Выгода для молодого Болотина, разумеется, была превыше образа мыслей. Ради выгоды, то есть ради выигрыша на выборах, молодой Болотин запоет каким угодно голосом, даже барашком заблеет. При этом Гайдебуров втайне от Новочадова вкладывал в уста молодого Болотина и свое антиболотинское коварство. Гайдебуров считал, что нет большей издевки, чем присобачивание к человеку чуждых ему взглядов. Гайдебуров был уверен, что молодого Болотина не изберут, а нелепые для него высказывания прилипнут к нему намертво. Они станут ему самому так отвратительны, что он будет обуян стремлением вырвать грешный свой язык. Теперь же молодой Болотин согласится с коварными тезисами, так как они отражают спрос и подвижки в обществе.
Новочадов и Гайдебуров скандировали свои перлы поочередно, азартно, с хорошей артикуляцией:
— Национализация олигархов!
— Государственная монополия на водку!
— Безвозвратные кредиты — малому бизнесу!
— Молодым — ипотека, пенсионерам — курорты!
— Больше самолетов, меньше генералов!
— Кадровый отбор — во главу угла!
— Смерть коррупционерам!
— Рынки — русским крестьянам!
— Телевидение — без пошляков и извращенцев!
— Долой нечисть печати!
— Финансовую поддержку — отечественной литературе!
Оба утомились и стали задыхаться не столько от важности произносимого, сколько от предвкушения младоболотинского конфуза.
Новочадов положил написанное в потрепанный портфель. Они сели на дорожку, помолчали — глаза в глаза, подмигнули друг другу, как заговорщики.
— Все-таки Солженицын свою книгу написал для русских, а Кара-Мурза — для евреев, — вдруг заметил Новочадов.
— Я думаю, что наоборот, — поправил Гайдебуров.
— Правильно, наоборот, — согласился Новочадов.
Оба одинаково смешно вздохнули. Гайдебуров хлопнул себя по лбу и помчался обратно к столу за посошком. Новочадов, перекрестившись, поехал к Болотину.
Наступила уже полночь, промозглая, с липким хаотическим снегом, а Новочадов все не возвращался от Болотина. Гайдебуров начал волноваться, названивал Новочадову на мобильный. С механической вежливостью мобильный отнекивался. Гайдебуров звонил Марии, но и у Марии Новочадова не было. Потом Мария сама звонила Гайдебурову, спрашивала, не вернулся ли, и долго, не зная, что говорить, не отключалась.
— Олигархам — ипотека! — сипло, из последнего тщедушия, орал в коммунальном коридоре пьяный жилец, наслушавшись утром на похмельную голову соседей-пиарщиков.
Гайдебурова поражал нос этого забулдыги — раздвоившийся от пьянства.
Гайдебуров понимал, что от молодого Болотина можно ожидать химической реакции, если он поймет, что ему втирают очки. Понять ему прежде всего поможет отец. Старый жук тревожен и прозорлив. Сам горазд на провокации, чужих ухищрений не любит, просекает их своим игольчатым зрачком. Несдобровать Новочадову. Если же каким-то боком Болотины узнают, что Новочадов связан с Гайдебуровым, они придумают страшную месть.
«Что с тобой будет, когда твой двойник исчезнет?» — задавался нелепым вопросом Гайдебуров. Он не находил себе места. Его веселил лишь пьяный сосед с чудовищной сопаткой, тот все орал: «Долой пенсионеров!»
В этот момент телефон Гайдебурова, из предосторожности оформленный на другое имя, заиграл Бетховена и заплясал на столе.
— Все замечательно, Леня! — услышал Гайдебуров живого и пьяненького Новочадова. — Я уже еду в такси. Болотин принял все наши предложения «на ура». Кроме того, он согласен оплатить аренду «Октябрьского». Я ему объяснил, что он станет благодетелем всех писателей и таким образом наберет дополнительные голоса. Он, Леня, оказался довольно милым, интеллигентным человеком. Угостил меня японскими устрицами, такими крупными, длинными. Приеду, расскажу.
«Купил, — догадался Гайдебуров. — Болотин его купил».
Позвонила Мария.
— Купил, — сказал ей Гайдебуров.
— Что, кто купил? — испугалась Мария.
— Твой Новочадов купил японских устриц, длинных, крупных, и едет.
— Он едет туда, к себе?
— Да, к себе, сюда.
— Откуда у него такие деньги? На устриц?
— Он инициатор объединения писательских союзов.
— Да? А за это, что же, хорошо платят?
— Приедет, расскажет.
Гайдебуров напялил любимую кепку и вышел наружу. Снег оказался теплым. Гайдебуров двигался к магазину «24 часа». Он размышлял о том, что ему теперь следует предпринять как одному из двух главных героев новочадовского романа. Логично было бы вступить в открытую конфронтацию со вторым главным героем романа и убить его как своего соперника и ради кульминации. Да, убить надо не старого, а молодого Болотина.
Гайдебуров удивился: знакомый магазин «24 часа» сегодня неожиданно был переименован в магазин «Дионис». Правда, переименование не коснулось ассортимента. Новое название Гайдебурову пришлось по вкусу: «Все-таки бог». Гайдебуров вспомнил Софью иронично и ласково.
13. Письмо Новочадова президенту
Кесарево
Пишу Вам по старинке, так как слышал, что электронную почту Вы втайне недолюбливаете. Действительно, как славно бывает иногда отказаться от цивилизации западного типа, от Интернета, от русскоязычных чатов с их агрессивным грамматическим невежеством!
Я вижу, что Вы сами немного словесник — в той степени, в какой всякий крупный политик связан со стихией национального языка. Ваши послания год от года напоминают литературные манифесты, в них метафора пытается окрылиться, в них слово надеется на полноту времен. Увы, от некоторых эпох остались только блестящие литературные манифесты. Быть может, от некоторых эпох и нечего ждать большего? Только хорошую литературу. Только длящееся чаяние. Только наслаждение президентом с развитой речью, с четкой дикцией, с упором на лапидарную, стеснительную фразу. Вздорен другой президент, пренебрегающий письменностью: границы его мира сужаются до улицы, на которой он рос шпана шпаной.
Пишу чернилами, «паркером», но, кажется, через пару абзацев перейду на карандаш. Чернильная ручка предполагает вышколенную, значительную осанку, а карандаш, как правило, лежебока, фигляр и мученик в одном лице, даже если он синий, остро заточенный и торчит из яшмовой канцелярской вазочки, как стрела из колчана. Смею спросить, есть ли у Вас на столе карандаши? Старые, добрые карандаши? Или Вы их никогда не любили?
Кстати, по поводу слова «любили». Помню, как Вам неловко было отвечать в Кремле на вопрос сэра Маккартни, любили ли Вы «Битлз»? Помню, как дипломатично Вы начали говорить от имени страны, от имени поколений, чьи активисты сходили с ума от мелодичного, англосаксонского, минималистского, тенорского рока, что да, мол, свешивался железный занавес, сквозь, который, однако, пробивалась современная масскультура и находила-таки здесь обожателей, которых не могла не найти и которые (чему Вы осведомленно вдруг улыбнулись) теперь превратились кто в буржуазных джентльменов с чешущимися бородками, кто в молодящихся фалалеев со старообразными руками, кто в восторженных крохоборов, кто в затрапезных патлатых пьяниц, кто в дам, смешных во всех отношениях, кто в нормальных циничных граждан. Этим нормальным расчетливым циникам невдомек, как это может быть, что какие-то там непритязательные песенки, названные хитами, способны приносить баснословные барыши и королевские почести. Вам хочется сказать завистливым согражданам нечто сокровенное и понятное об этом мире, потрепать их по плечу с личной симпатией, утешить, как близких по духу, но Вы лишь издалека посмеиваетесь над их здоровым, праведным, ущербным недоумением. «Всему свое время», — говорит Ваш ясный, быстрый, секретный взгляд.
«Но когда же?» — восклицает в сердцах гражданин.
Известно, что Вы любитель особой решительности — дозированной, не афишируемой, политкорректной. Она, как антикварная сабля на ковре, так красива и так хороша сама по себе, что ее применение в какой-нибудь пакостной, канительной сече будет уже неуместно, будет неким, как Вы выражаетесь, моветоном.
Вы прошли восхитительный путь от разночинного службиста до державного аристократа. Народ жаждет следующего шага. «Чудес не бывает», — любите говорить Вы. Но чудо случается. Чудо — понятие совершенно реалистическое. Чудо — сочетание в одной точке и в одном мгновении пика Вашей избранной судьбы с нашими центростремительными предельными упованиями, когда и весь мир направляет в это перекрестье и в этот момент свои жизненные интересы. Решитесь на знамение!
Нет события прекраснее на свете, чем выход властелина с повинной головой и справедливыми вердиктами на лобное место перед людьми! Лицо его освещено августовским, тихим, сочащимся солнцем. В этом свете отсутствует лак, отсутствуют шаловливые искорки, засаленные блики. Щеки побриты, подбородок тверд, губы бледны, лоб прозрачен, в глазах замерла разумная радость. Он одет добротно и просто. Галстук с неразличимым геометрическим рисунком затянут туго, узел галстука не огромен и не мал, обычный, умеренный, срединный узел. Такие любите и Вы, чтобы не казаться стильным. Вам не надо модничать и комплексовать по поводу чересчур длинных рукавов у пиджака... И вот, когда природа насыщена зрелым сиянием, цезарь становится похож на дельфийского бога. Он обращается к народу с притчей:
— Соотечественники! Долгие годы над нашим краем нависала тьма египетская. Во мраке у Перунова дуба правила бал, бесчинствуя и озоруя, группа ведьм и ведунов, упырей и младооборотней, менад, заморок, волкодлаков и прочих козлов. Им все сходило с рук при Бахусе. Не было на них дикого охотника Одина. Они похитили с неба дождь и росу. Они вылущили из недр золотое ядро. Они превратили землю в лысую гору, устраивая шабаши и сеймы на святых костях. Ударяя зеленым прутиком, эти колдуны превращали простодушных людей в жаб и ужей, в лягушек и крыс. Они похищали из колыбелей младенцев, невинных эльфов, человеческие души и поедали их. Смерть окрепла, жизнь ослабла. Они отнимали у спивающихся женихов мужскую силу, присаживали им килу, а невестам, которые курвились от неразделенной любви, нивелировали половые органы.
Что мы имеем в результате? Наши двадцатилетние развратны и тщедушны, наши тридцатилетние прагматичны и беспощадны, наши сорокалетние жалки и плутоваты, наши пятидесятилетние унылы и реакционны, наши шестидесятилетние химеричны и беспомощны, наших семидесяти- и восьмидесятилетних почти нет.
Баста, соотечественники! И я грешен, и я нечист, и я ворожил и гадал по птицам. И меня не обошел рог краденого изобилия, и я замазан! Каюсь, соотечественники! Простите мне старую, языческую, подневольную связь с мироедами! Теперь, с этой минуты, я переступаю через них и объявляю их вне закона. Осиновый заостренный кол будет вбит зверю меж лопаток, в могильную насыпь с их злокачественными останками. Жребий брошен!..
Когда цезарь смолкнет, народ увидит на челе его красное солнышко, от затылка его поднимется лунный серп, частые звезды усыплют тело, золотые волосы засверкают, как лучи. Алмазные, суровые слезы вырастут в глазах.
Народ, тоже прослезившийся и восторженный за редким насмешливым исключением, заревет:
— Ура! Дождались! Прощаем! Благословляем! Переступи через гадов! Переступи через воров!
Вы торжественно, будто совершая обряд или фокус, снимите часы с правой руки и, весело отодвинув манжету, наденете часы в платиновом корпусе на левую свою руку, царапнув браслетом по косточке.
— Как славно, — скажете Вы, — иногда быть вне цивилизации западного типа!
Вы прижмете запястье с часами к губам и промокнете поцелуем маленькую кровь.
На следующий день Вас окружат единомышленники. Наконец-то это будет вавилонское столпотворение, смешенье языков. Перед Вами положат не конституцию, а новый Кодекс корпоративного управления. Его напишет команда мудрецов — столичных стариков и молодых провинциалов. Такое сочетание Вы сочтете плодотворным: с одной стороны, знание о мире, опыт замахов, провалов, московско-петербургских козней и, с другой стороны, патриотичный максимализм регионов.
Главной борьбой станет борьба за кадры. Изощренные, явные и тайные мероприятия по посвящению, росту и продвижению народных кадров превратятся в долговременную, синкретическую систему.
Кадры начнут жить словно по монастырскому уставу. В большой стране в любые, даже самые проклятые и меркантильные, времена рождается хотя бы один процент чудаков, готовых к самопожертвованию, аскезе, молитве, подвигу. Все эти примеры и эти общие законы мирового подвижничества Вы держите в своей голове. Вы сами по природе своей такой. Возможно, аскет. Возможно, страстотерпец. Во всяком случае, Вам плохо удается скрывать брезгливость по отношению к привычной теперь мамоне. Вас охватывает ленивое оцепенение, когда Вы встречаетесь с чьей-то личной, лишней, напористой роскошью. Другое дело, великолепие Константиновского дворца! Приятно такую красоту оставить не себе и не своей или чужой семье, а вообще никому, поколениям цезарей, белому свету. У нас любили потешаться над общенародной собственностью. Теперь понятно, с каким это делалось прицелом — дабы ее уничижить, обесценить и присвоить. Всякая частная собственность — это та или иная производная от общенародной.
Первым делом в Кодексе будет предложен портрет идеального цезаря. Он должен не только изобиловать добродетелями менеджера, но и родиться с мечтой о высоком кесаревом предназначении. Инерция преемственности окружит заботой благодатного кандидата с младых ногтей. Одним из первых качеств правителя должно стать кадровое наитие. Цезарь призван не только хорошо разбираться в людях, но и видеть их насквозь в развитии. В этом заключается в том числе и гуманность власти.
Надо сказать, что и сегодня, когда кадровая политика в государстве нарочито случайна, в Вашем окружении встречаются приличные работники. Есть среди них и сторонники заманчивого тезиса о военном коммунизме для госслужащих. Есть и лица, как ни странно, почти духовные, исступленные, как будто уже теперь принадлежащие к будущей касте.
Мне нравится, например, ироничный министр-педант в мешковатом костюме, с убористой речью, с Вашими, аналитическими, глазами. Мне нравится один добросовестный правовед с абсолютно положительной внешностью. Мне нравится один Ваш мажорный, компанейский сотрудник, ответственный за то, чтобы не путать божий дар с яичницей. Мне даже нравится явный игрок и баламут с принципиальным, горбоносым профилем. Этот порой срывается на безошибочное политическое грассирование. Они и теперь стараются быть относительно честными, соблюдать баланс шкурных и государственных выгод.
Этим людям нужно услышать от Вас правильные слова. Может быть, это будут слова о смене ценностей, о смене ориентиров. Вероятно, Вам кажется, что, пока не повернется колесо мира, бесполезно говорить о новых приоритетах, о новом курсе. Может быть, поэтому Вы выглядите иногда подозрительно застенчивым. Вы следите за тем, как медленно перемежаются спицы, как будто в сумерках, в вечной белой ночи. Чего-то не хватает для окончательного возвещения, до строгого пророчества.
Вы начинаете думать о том, как будете жить, когда не будете президентом. Есть у такой жизни вариант американский, есть китайский, есть архаичная русская непопулярная практика. Ваши отношения с Вашим предшественником, отдаленно напоминающие отношения Аполлона с Дионисом, позволяют говорить о новой, сугубо российской модификации ухода власти в тень. Мне кажется, Вам претит этот вариант. Есть в нем что-то дурно пахнущее, ехидное, червивое, отнюдь не божественное. Вам претит вообще порука.
Что ж, мы готовы ждать. Мы любим и государственное, и литературное терпение. Нам приятно видеть, как Вы вступаете в стадию классического, монументального одиночества — походочкой борца, но с гроссмейстерской снисходительностью. Вам идет аккуратная, толерантная, светлая печаль. Раннее одиночество созидательно. В сторонке — друзья кесаря, неподалеку — кесарев дом, под боком — вселенская тусовка.
Р. S. Извините, что это послание Вам я назвал каким-то уж совсем библейски-гинекологическим термином. Мне нравится родство, которое в нем есть, — малого с большим, великого с заурядным, кровного с кровавым, страшного с жизнестойким, родового с мировым.
14. Питерцы — не дублинцы
Питерцы — не дублинцы. Это видно невооруженным глазом не только искушенному путешественнику и не только интеллектуальному поэту, пропитанному книжными нитратами, но и поневоле невыездному, извечно старомодному литератору Новочадову. Смешно было то, что Новочадов стал старомодным, ни минуты не побывав модным. Люди рождаются старомодными и от этого выглядят либо славными, либо желчными.
Новочадов выглядел парадоксальным: он был нетерпелив и вместе с тем застенчив. Из такого сочетания не мог получиться крепкий ростбиф с кровью, а получалась всё составная каша с комками.
В условленный час Новочадов вошел в назначенную кофейню и был раздосадован намеренной неповоротливостью обслуживающего персонала, всё молодых и всё чуждых людей. Ему показалось, что беленький бариста постригся совершенно напрасно: из-под форменного, бордового кепи перестали выбиваться светлые локоны. Жестко стриженная шерстка выдавала грубую душу солдата-новобранца, юного психопата. Он долго не обращал внимания на Новочадова и наконец совсем удалился в подсобное помещение. Новочадов стал постукивать бумажником по стойке. За Новочадовым выстроились еще посетители. Если бы их не было, Новочадов развернулся бы и ушел. Теперь надо было смирять страсть раздражения. Некрасиво писателю средних лет быть истериком. Тем более в такой удивительный, возможно, поворотный день. Новочадов стоически оглядел оранжево-серую геометрию зала и успокоился. Второй бариста (видите ли, не барист, вероятно, чтобы не было похоже на «бульдозерист» и было при этом отчасти андрогенным) отдыхал таким образом: приседал за стойку, что-то быстро съедал и выпрямлялся, жующий и отрыгивающий от смущения, как будто бы этим извиняющийся. Резцы у него были крупные, линии у рта порочные, и в больших глазах вызревала женская, усталая рассеянность. «Студентики, — думал Новочадов. — Совсем не бомбисты».
За чашкой «Американо» (и много, и не крепко) Новочадов на посетителей любил смотреть с въедливой, литераторской поволокой. Он любил угадывать их профессию, семейное положение, марку автомобиля, планы на вечер, даже сексуальные пристрастия и отношение к нему — к профессиональному соглядатаю. Питерцы, по заключению Новочадова, заходящие в стильные кофейные заведения, несмотря на всю свою возрастную и какую-то околосоциальную разницу, продолжали нести свой галунный крест — обитателей культурной столицы. Новочадов сам был такой — понятливый, подсознательный и брюзгливый.
Близость к городу, к городскому потоку превращала Новочадова в тревожного полевого зверька. Все посетители, внешне млеющие, имели беспокойные глаза. Полудевушка-полуматрона, узкая в лице и крупная в ногах, особенно в лодыжках, читала новый роман Пелевина на середине. Он не сильно захватывал — она часто и улыбчиво от него отрывалась. Образ читающей дамы последнее время приобретал эротический привкус. Новочадов обратил внимание на то, что надгубье у нее поднималось высоко и темно. Два менеджера, беседуя, между тем ни разу не взглянули друг на друга, потому что беспрестанно постреливали по сторонам. Особенно им был почему-то ненавистен Новочадов. Их телефоны звенели неслышно. Юноши-посетители носили линялые, длинные, приглаженные прически и линялые джинсики на предельно низкой, видимо, развратной талии. Впрочем, и девушки, довольно улыбчивые и бодрые, в отличие от своих томительных ухажеров, были в таких же линялых одежках с накладными карманами иного оттенка, но у девушек еще имелись какие-то крошечные, карманные рюкзачки за спиной. Новочадову мешал наблюдать плешивый читатель «Коммерсанта». Правда, плешив он был смешно, колючими клочками, и читателем он был не показным, внимательным, даже кофе пролил на галстук, — так что Новочадов не таил на него обиду. Плешивый армянин (Новочадов считал себя неплохим этническим физиономистом) задержался на последней странице газеты, и поэтому первая страница была распахнута для просмотра Новочадову. На всю полосу был дан портрет президента в очень выгодном свете. Президент смотрел невероятно милостиво прямо на Новочадова. Лицо президента от черно-белого фото только выигрывало. По крайней мере, его волосы казались младенчески прозрачными, в буковках с оборотной полосы, а глаза становились заметными и стойкими на просвет.
Новочадов догадался, что президент в курсе его письма и, кажется, одобряет его пафос. Глупо было бы предполагать, ради художества, что президент подмигивает Новочадову буквально из «Коммерсанта» (это бы уже смахивало на литературщину), но Новочадов был бы не Новочадовым, если бы не увидел в растрированном президенте настоящего ожидания. Положительно, это ожидание родилось во время съемки, а не сейчас, в пушистых короткопалых руках армянина, но то, что оно было адресным, а не обобщенным, Новочадов не подвергал сомнению.
Президент ждал от Новочадова нового послания. В новом письме Новочадову предлагалось дать народную характеристику предшественнику президента и, главное, набросать в общих чертах портрет будущего, чаемого преемника президента, потому как без преемника в современных условиях было уже нельзя. В постскриптуме письма вполне можно было поднять женский или семейный вопрос с некими экивоками в сторону кесарева дома.
Новочадов не стал медлить и, пока армянин все еще держал газету нараспашку, начал говорить президенту, конечно, мысленно, чтобы не приняли за сумасшедшего, почему Ельцин доверился либералам: «Будучи сам малограмотным, он чувствовал безотчетную, слегка отеческую вину перед молодыми интеллектуалами, которых якобы угнетал рабоче-крестьянский режим. В нем очнулась психология старого, дикого, сентиментального тирана-гоя. Косный честолюбец непременно испытывает пиетет к ранним, прогрессивным профессорам. Тем отвратительнее они ему становятся со временем — из-за его былой минутной человеческой слабости. Не выбрал же он из них себе преемника! Кого выберете вы? Между прочим, мои письма вашему предшественнику остались безответными. Надеюсь, что и на этот раз все обойдется».
Между тем Новочадов готовился к сегодняшнему дню в том числе и физически. С утра у Марии он принял ванну с хвойной пеной, хотя обычно довольствовался душем. Надел новое белье. Надел клубный пиджак с металлическими зеленоватыми пуговицами и серые брюки к пиджаку, новые, купленные на болотинский гонорар. Перед самым выходом Мария замазала ему порез под ухом тонированным кремом-пудрой. «Ну, чем не жених?» — воскликнула она с гомерическим недоверием. Лицо и осанка этого сорокалетнего нищего принца датского составляли обаятельную смесь некого вертлявого дара (в движении к глубине) и неукротимой чувственности. Может быть, таким Новочадова мечтала встретить и юная почитательница его таланта? Именно ее теперь он высматривал в кофейне.
Очень уж литератору каждое утро хотелось проснуться знаменитым, а он продолжал просыпаться неутоленным.
Он подумал, что эти модные кофейни — удобное место для «розановок», заметок впопыхах. Новочадов достал из портфеля свою синюю, ручного переплета, тетрадь, плюнул на политкорректность и начал записывать на глазах у публики еще не забытые, недавно пришедшие в голову безделицы:
«Молох молол молок. Месиво месяца».
«Все мы литературные герои того или иного классика: кто Гоголя, кто Толстого, кто Достоевского. Нет только пушкинского человека. С этим проблема».
«Набоков — изощренный филистер».
«В XIX веке соседствовали Достоевский и Толстой, теперь в виде фарса — Сорокин с Пелевиным».
«Писатель Л. берет свою славу христианским смирением».
Наконец, хихикая, Новочадов сделал совсем уж непристойную запись: «Литератор П. пишет на утренний стояк. Одно дело утренний стояк, утверждает П., другое дело — вечерняя висячка».
Армянин засобирался и на прощание проникся к Новочадову почтением.
— Приходите в мою кофейню. Мы скоро открываемся, — сказал с интеллигентным акцентом армянин Новочадову и протянул ему шикарную, глянцевитую визитку.
Новочадов прочитал, что кофейня открывается на следующей неделе и будет именоваться «Кафе “Кавафис”». Силуэт этого новогреческого поэта в виде аппликации занимал весь оборот визитной карточки. Новочадов сразу узнал унылый, длинный нос, на котором, как бабочка, тревожно сидело пенсне.
— Эксклюзивное заведение для творческих личностей, — пояснил армянин.
— Видимо, дорогое? — поинтересовался Новочадов.
— Для вас мы сделаем специальную скидку.
— Так вы грек? — уточнил Новочадов.
— Можно сказать и так, — ответил грек-армянин, улыбнулся коричневой ротовой полостью и стал удаляться с минимальным кокетством: его ляжки стеснительно медлили, и спина неуютно коробилась, впитывая взгляды.
Не успел хозяин «Кавафиса» испариться, как в кофейню вошли две молодые особы. Новочадов сообразил, что одна из них была его почитательницей. Время условленной встречи отразилось на часах. Встреча была оговорена вчера, когда Новочадову внезапно позвонили. Оказалось, что у Новочадова появилась поклонница его таланта. Звонил драматург Колонистов и рассказывал поразительную историю. Якобы у одной его знакомой, неизвестной актрисы, есть дочка-студентка с хорошим литературным вкусом. Так вот, эта актрисина дочка прочитала первую и единственную, канувшую в Лету, книжечку Новочадова и была тронута ею, как выразился Колонистов, до глубины души. Случаются, мол, в жизни такие нелепые предпочтения. Новочадову, на волне грядущего успеха, телепатическая почитательница показалась неким знамением, кроме того, ему было лестно иметь теперь своего читателя и даже поклонниц, тем более, молоденьких, умненьких и, вероятно, хорошеньких. Новочадов находился тогда под градусом, поэтому попросил телефончик этой замечательной барышни, которую, кстати, звали довольно обнадеживающе — Полиной, и немедля набрал ее номер. У Полины голос оказался подростковым, плаксивым, обидчивым, а характер, по всей видимости, несносным. Однако она пугливо согласилась встретиться со своим неожиданным кумиром в месте, где часто собирается золотая молодежь. Она предложила узнать его по его же книжке, которую он в качестве пароля достанет из портфеля и положит перед собой.
Новые девушки сели за разные столики. Одна была красивая, другая — нет. Красивая всей своей вытянутой телесной сутью напоминала журнальную картинку. У нее были почти искусственные, паленые, молочные волосы. Она позволяла себе ломкие, декоративные движения, и при этом ее лицо сковывал какой-то неадекватный, оглашенный паралич. Кажется, она и кофе не пила, а лишь подносила чашку к губам и, не отхлебнув, ставила обратно механически. Ее глаза прикрывали лубочные, мрачные веки. Ее щеки вваливались так сильно, как будто во рту начисто отсутствовали и малые, и большие коренные зубы. Эти впадины на щеках заливал ровный, матовый, горячий свет. На ее высокой, ранимой шее виднелись давние, полустертые отметины. Ее слабые губы плавились одна о другую. Ее ноги в суровых джинсах казались невероятно нежными, стопы в белых перфорированных сапожках были длинными, с ревматическими, выпирающими косточками. Изможденная красавица совсем не походила на интеллектуалку. Напротив, Новочадов с удовольствием различал в ее силуэте доступную, ложно рафинированную порочность. Новочадов умел наблюдать незаметно, поэтому его алчному блудодеянию не угрожала отповедь.
Вторая девушка имела безусловную филологическую внешность, то есть была пухленькой, неприхотливо лучезарной, вдруг серьезной, вдруг озорной и медлительно курила. Она вела себя беспокойно, осматривалась и подергивала крохотной овальной ножкой. Пожалуй, это и была Полина.
Новочадов полез было лениво в портфель, но тут Полине позвонили, и она стремительно достала телефон чуть ли не из бюстгальтера, если у нее таковой водился, и стала неслышно, но молниеносно разговаривать. При этом она улыбалась и наизнанку выворачивала рот. Ее зубные ряды были настолько короткими, что больше их во рту были видны розоватые, мокрые десны. Он не мог различить ее голоса и поэтому не мог развеять остающиеся сомнения.
Новочадов сунул в портфель свой блокнот и щелкнул легким замочком. Он сказал себе, что это вряд ли Полина.
Новочадову было приятно теперь наслаждаться собственной нерешительностью. Больше претенденток на роль почитательницы его таланта не предвиделось. Книжку-пароль он не вытащит ни за что. Сватовство не состоялось. Кроме того, он предположил, что Колонистов собирался его разыграть. Колонистов был драматургом вкрадчивым, но при этом изобретательным. За ним тянулась репутация задушевного ерника. Он был мастером живого сюжета, он мыслил передрягами и коллизиями, а последнее время активно играл в Flesh mob. Правда, он не любил напрасной грязи, матерщины, порнографии, поэтому новомодные театры его не баловали, а теперь вообще задвинули до лучших, целомудренных времен. «Так оно и есть, — развеселился Новочадов. — Колонистов забавляется».
Новочадов набрал Колонистова. Тот, запыхавшись, заверил Новочадова, что Полина сидит рядом, в этом же кафе, что он только что с ней разговаривал. Новочадов опять полез в портфель и опять вынул не то, что нужно, — блокнот и гелевую ручку. Он наклонился к столу так, как будто зарывался с головой в подушку. Он писал боязливым, каллиграфическим почерком:
«Из мужских имен Петербургу близки: Петр, Павел, Андрей, Михаил, Осип. Из женских имен Петербургу близки: Анна, Татьяна, Ирина, Софья, Мария».
Он еще корпел, когда Полина деловито покидала кофейню. Следом за ней к выходу прошествовала и не Полина. Краем зрения Новочадов старался удержать ее желанную фигуру. Уже на улице обе, видимо, не сговариваясь, одновременно вскинули прозрачные руки и взглянули на часы.
Новочадов поправил у горла не существующий шейный платок. Странно, страсть была похожа на стерильное, монотонное отчаяние. Он даже распробовал вкус этой позорной, мстительной страсти — вкус жидкого, охлажденного, сахаристого металла.
Новочадов вскочил и вприпрыжку, словно прихрамывая, понесся к выходу. Он надеялся еще догнать и Полину, и не Полину. Ему представлялось почему-то важным и необходимым прокрутить пленку назад и внести редактуру в последние пять минут яви. Он увидел и Полину, и не Полину, которые шли в шаге друг от друга. Он поравнялся сначала с одной, Полиной, и, не оглядываясь, нагнал другую, не Полину, высокую и вожделенную. Он услышал ее волнующий, гаванский запах. Не оборачиваясь, он ретировался окончательно. Именно так надо удаляться — не оглядываясь. Как Орфей. Такое безоглядное удаление необходимо для неутихающего сладострастия.
Он знал, что Колонистов впоследствии будет насмехаться над его патологической мужской робостью. Он будет подозревать, что Новочадов струсил предстать пред ослепительной девушкой старым пентюхом, замухрышкой, исусиком, «папиком» — как говорит молодежь.
Новочадов не знал, что Полина надеялась, возможно, стать действующим лицом его новой книги, его, может быть, музой. То, чего избегала Мария, Полина желала. Мария опасалась, что Новочадов может изобразить некоторые ее черты в карикатурном или неблаговидном свете.
Новочадов не знал, что из автомобиля с тонированными стеклами за его жизненным фиаско ради развлечения и сострадания наблюдали Мария с Гайдебуровым. Они уже успели посмеяться, и Гайдебуров уже успел поделиться с Марией предположением, что было бы лучше ему, Гайдебурову, пойти на встречу с почитательницей новочадовского таланта, потому что именно он, Гайдебуров, как лирический герой Новочадова, призван замещать автора в щекотливых ситуациях и завлекать на страницы романа новых персонажей, в том числе очаровательных героинь. Их недостаток в новочадовских текстах был катастрофическим.
Новочадов шел по солнечной стороне Невского проспекта по направлению к Литовскому. Он тосковал по обычным вещам. Он думал, что утраченное сластолюбие выше всякой литературы, что эта чертова письменность без сластолюбия никому не нужна.
Он думал, что, наверное, был бы разудалым бабником, если был бы московским писателем. Упадок Петербурга привел горожан к разжиженному состоянию. Питерцы лишились альтруистского размаха — он перешел к Москве. Питерцы вынуждены мельчить, ревновать и памятливо тщеславиться. Даже самую кондовую провинцию отличает чистота материала. Питер (уже не столица и пока не периферия) всё еще томится, как хитрое блюдо, на медленном огне.
Чем ближе Новочадов подходил к площади Восстания, тем больше знакомых и незнакомых писательских лиц он видел повсеместно. Новочадова воодушевляло такое изобилие собратьев по перу. Он начал репетировать про себя вступительную речь и радоваться финальному единодушию на предстоящем форуме. Он начал благосклонно улыбаться, как виновник эпохального торжества, разворачивать плечи, как в молодости, поглядывать с высоты на собственную грудь, поплевывать мысленно на скептические мысли.
Ему становилось лестно оттого, что в толпе все чаще мелькали довольно популярные, телевизионные персоны: некоторые московские питерцы, некоторые столичные беллетристы, модные и немодные критики, гоги и магоги, представительницы женской прозы, отдельные доморощенные знаменитости, тем или иным боком причастные к отечественной литературе. Чувствовалось, что вектор людскому потоку задавали именно заинтересованные пешеходы, конечным пунктом которых значился зал «Октябрьский». Сочинители двигались к цели, как всегда, преодолевая препятствия в виде трактиров и других клоак; отдельные личности по дороге забредали в дорогие кабаки, многие же, отхлебывая пиво из бутылок, переговаривались попросту на остановках и на углах прославленных зданий. До Новочадова, все более важничающего и спешащего, отовсюду доносились обрывки сугубо литературных, милых сердцу разговорчиков:
— Я заканчиваю Книгу подробностей.
— Хочу продать сруб бани с участком.
— Какая симптоматичная смерть!
— Клеврет либерализма — под колесами «мерседеса».
— «Поребрик»? Пошловатое название. Дурной тон кивать на питерскую специфику.
— Кто-кто? Исихаст? Исихазматик! Ха-ха-ха!
— Америку он боялся. Боялся слова лишнего сказать про Америку. Ведь она его облагодетельствовала. Это лучшее место для обывателей. Россию он не любил в открытую, Америку — тайно, подсознательно.
— О ком это вы?
— У него душа, не развитая мучением.
— Да о ком вы?
— Тсс...
— Последнее дно вселенной...
— Нистагм.
— Толстой писал стереоскопически, он изображал предмет таким, каким тот был на самом деле...
— В текущей жизни он может быть вполне порядочным человеком, но оперативная память у него бессовестная.
— До чего договорился Рыжий: они, мол, были уже с Петром и они же двигали реформу Александра Второго.
— Банальное вранье...
— Интересно написать рассказ от лица старухи-процентщицы о последнем визите к ней Раскольникова, о том, как она догадалась, зачем он пришел с деревянным закладом...
— Как послушно умерла Елена Васильевна Мантурова!
— Знаете, всё время крайности: либо космополитизм, либо местечковость.
— Никогда человек не говорил так.
— Таблоиды.
— Ближний — лишний.
— Потенциальная святость.
— Сорокалетние христосики.
— Господь сказал: «Милости хочу, а не жертвы».
Новочадов упивался родной стихией. Он свернул на Лиговский проспект и вскоре увидел наискосок от себя через дорогу невероятное скопление писательского люда на ступенях перед БКЗ «Октябрьский». Впервые Новочадов испугался собственной миссии, похожей на мистификацию. Ему показалось, что народу было значительно больше, чем разосланных приглашений. Новочадов, дабы собрать чувства в пучок, зашел в маленькое кафе, расположенное в цокольном этаже. Здесь ему предложили съесть их фирменную свиную рульку в собственном соку, но он заказал лишь сто пятьдесят граммов водки, стакан томатного сока и бутерброд с семгой. В кафе уже расположились несколько групп смешливых писателей. Некоторым Новочадов кивнул тревожно издалека. Здесь были известные питерские авторы — К., С. и Ш., все из какого-то самопровозглашенного, крайне тусовочного течения. Раньше Новочадов думал, что их отличительной чертой была физиология, точнее, физиология глаз: то есть глаза у них были непостижимо одинаковыми по форме, цвету и устойчивому содержанию. Иногда ему казалось, что это были одни и те же, переходные, публичные глаза, одна пара на всех. Но вот он увидел всю троицу вместе, и у каждого глазницы были полны своей слюдянистой живости. Новочадов догадался теперь, что их объединяло: у каждого из них были глаза одухотворенного алкоголика. Новочадов пил свою водку у барной стойки и задумывался на острую тему: «Писатель и пьянство». Он полагал, что пьянство для писателя, конечно же, является великолепной школой, но при этом трезвость для писателя с ее долгим, укромным досугом, который позволяет задаваться вопросами нравственного совершенствования, является настоящим университетом.
Новочадов выпил дополнительных сто граммов и почувствовал наконец в себе готовность брать ситуацию в свои руки. Когда он с капризной грацией пересек проспект и начал приближаться к собравшимся, он расслышал стойкий человеческий гул и раздраженные возгласы:
— Кто собрал? Кто инициатор? Почему нас не пускают?
Новочадов очень многих знал лично и в лицо, но у него не было времени в его положении расшаркиваться с каждым, и он вдруг поймал себя на том, что путает их имена и союзную принадлежность. Безошибочно он различил лишь одного Колонистова, который улыбался ему плутовато и махал какой-то иссушенной ладошкой. У входных дверей теснились хорошо узнаваемые почтенные мастера из обеих писательских организаций вперемешку.
— Не входите! Это — провокация! — кричали с разных сторон.
— Это безобразие! Где же все-таки организаторы?
— Коллеги! — зычно, как никогда в жизни, воскликнул Новочадов; для убедительности он отодвинул билетершу и встал на ее место. — Уважаемые коллеги! Я, Новочадов Роман, представляю оргкомитет объединительного съезда. Именно я, Новочадов Роман, являюсь инициатором слияния наших многострадальных писательских союзов! Извините за небольшую заминку. Сейчас все организованно пройдем в зал и начнем наш долгожданный форум. Зал арендован до утра.
— Кто арестован? — раздался подловатый вопрос.
— А, вот это кто! — услышал Новочадов хор полнозвучных голосов.
— Шутник! Фигляр!
— Провокатор!
— Бездарность!
— Не переступайте порога! Умоляю вас! Это чудовищная провокация! — кликушествовал невидимый фальцет. — Это провокация века!
— Это — подстава, братцы! — пропел казачий баритон.
— Да нет же! — растерялся Новочадов. — Это правда! Это осознанная необходимость!
Его растерянность заметили и оценили.
— Зачем же ты так, Рома? — услышал Новочадов плотный, какой-то не писательский бас.
Новочадов обратил внимание на то, что в толпу писателей затесалось много и не писателей — рослых, в черных вязаных шапочках.
— Бейте его! Бейте! Он провокатор!
Новочадов смежил веки, потому что понял, что в следующее мгновение его свалит с ног профессиональный тумак обладателя неписательского баса. Так оно и произошло.
Новочадов падал и чувствовал, что у него сиротливо, пронзительно заболело левое ухо. Первая боль была такой сильной, что последующая его уже не интересовала. Он прикрывал зубы от ботинок, потому что знал, что на протезы у него в ближайшее время денег не найдется, а без зубов он будет выглядеть дурак дураком. Он думал: кто же его теперь мутузит — писатели или не писатели? Кажется, били и те, и другие. Удары становились все слабее и все никчемнее. Он гадал: бьет ли Колонистов или покатывается в сторонке?
— Провокация не пройдет! Провокация не пройдет! «Зенит» — чемпион! — в унисон скандировала масса людей.
— Питерцы — не дублинцы! Питерцы — не дублинцы! — преломлялось эхо о купол промозглого неба.
...Гайдебуров битого Новочадова вез домой к Марии. Несостоявшийся мессия лежал на заднем сиденье автомобиля, сложив изуродованную голову на колени гражданской жены. Сквозь мучительную дремоту Новочадов представлял, что Мария с кроткой жалостью сидит у него в ногах. Воображение длилось долго и благостно. Рядом с Марией ему мерещился узколицый, пожилой, близкий человек. Он подпирал свой загорелый морщинистый лоб аккуратной темпераментной ладонью. Он успокаивал Новочадова, как учитель ученика, справедливым утробным внушением: «Люди теперь разлюбили литературу, потому что стали противны друг другу. Читать про то, как живут и умирают другие люди, как они наслаждаются и ненавидят, какие их посещают мысли, — стало занятием бесплодным и даже презренным. Какой смысл в литературе, когда интерес к человеку исчез?!»
Новочадов неразличимо улыбался. Мария равномерно хныкала.
— Там был молодой Болотин. Я узнал его охранников, — произнес Гайдебуров в темный салон. — Верзилы в вязаных шапочках.
— Вера звонила, — сказала Мария.
Гайдебуров не отвечал, сосредоточившись на дождливой дороге.
15. В Москву! В Москву!
Накануне экстренного визита президента в Санкт-Петербург Петр Петрович Куракин полетел-таки со своей уважаемой должности в тартарары.
Это случилось в тот момент, когда власть в городе делала себе операцию по перемене пола. Преображенной власти мужланистый ерник Куракин был не к лицу. В обществе ходили разговоры о том, что мужское начало в России выродилось и что Россию спасет женский, матриархальный, прагматичный подход к делу.
Правда, отставка не очень-то расстроила самого Куракина. По крайней мере, не стала для него громом среди ясного неба. Он был в курсе всех подковерных схваток, в курсе новых, провозглашенных очистительными тенденций. Более того, он сам загодя с присущим ему остроумием подготавливал свой уход. Например, он выступил с инициативой передать часть функций своего ведомства комитету Бабушки, чем весьма польстил ей, но что впоследствии не спасло ее от обструкции. На день рождения Бабушки он преподнес ей большой букет хризантем цвета платины, чем опять обезоружил опытную чиновницу до последней, какой-то домашней степени растерянности. Он перестал публично подтрунивать над «культурным» вице-губернатором, сменил тембр голоса на сиплый и свойский. Однажды даже отправился с ним на тренировку баскетбольного клуба и всю дорогу взволнованно поддерживал энтузиазм высокопоставленного физкультурника. Для своей секретарши Люды, которая не чаяла в боссе души, Петр Петрович добился повышения по службе с одновременной прибавкой к жалованью. Приятными пустячками сеял Куракин добро на прощание.
Петр Петрович не только чувствовал, но и демонстрировал самым что ни на есть обаятельным образом, что вырос из питерских штанишек. Издалека он уже примеривал отутюженные кремлевские брюки.
Кроме того, что значит «полетел в тартарары», как об этом торжественно заявляли куракинские недоброжелатели? Знали бы они, что значили для Куракина такие падения, не ликовали бы раньше времени.
Куракин в силу особенностей своей психики любил зависать над бездной. Ему было жизненно важно, чтобы под ним кромешная пустота полыхала плотным пламенем. Именно на таком огненном основании он мог стоять твердо. Время от времени он подбрасывал под себя горящие поленья, целые куски жизни, чтобы пропасть под ним не переставала куриться. Иначе, думал он, когда хлябь выгорит до конца, когда не будет под ногами пламенеющей опоры, он действительно рухнет в безвоздушное пространство. Только по недоразумению оно зовется пеклом. Нет, пекло здесь, наверху, а там — смрад и тухлая вода по горло.
Куракин, желая казаться настоящим мучеником, сам предложил кандидатуру своего преемника. С ним охотно согласились, потому что Куракин знал кадровый расклад в городе и знал, кого принято было теперь выдвигать на ответственные посты — так называемых молодых талантливых менеджеров, прошедших серьезную школу бизнеса. На место Куракина стремительно, как будто с перепуга, назначили молодого Болотина.
Куракин одним из первых пожаловал поздравлять молодого Болотина в офис его процветающей компании на набережной Мойки. Молодой Болотин принял Куракина без промедления, но и без излишеств сердечности, которые вроде бы в этом случае полагались Куракину как некому крестному отцу или свату молодого Болотина.
Излишествами сердечности могли бы стать: осведомленные почтительные улыбки болотинского персонала, троекратное целование с самим молодым Болотиным, его благодарность, выраженная скупыми, но приятными словами, его открытый взгляд, обволакивающий благодетеля сентиментальным радушием, его услужливая, заметная суета вокруг Куракина, наконец, ужин в честь Куракина в собственном ресторане молодого Болотина, — ужин не с японскими суши, а с обильными разносолами, которые так уважал Куракин под водочку «Русский стандарт». За полтора десятка лет воистину раблезианского обуржуазивания обеих российских столиц Петр Петрович Куракин перепробовал такое количество деликатесов различных народов мира и столько модных кулинарных новоделов, что в итоге начал любить всей своей плотью и всей своей душой старую добрую русскую кухню. Его вкусовые рецепторы, напрямую связанные с генетической предрасположенностью, в последнее время сходили с ума: по борщу со свежими грибами, с фрикадельками из телячьих почек, по телятине с раками и цветной капустой, по настоящей буженине, в сенной трухе, с пивом, по старинному курнику из гречневой крупы и курицы, по заливному из рябчиков, наконец, по сибирским пельменям. Всё это прекрасно переваривалось под дорогую водочку, иногда под наливку брусничную, иногда под ликерчик.
Но Куракину пришлось утереться: болотинские нравы отличались европейской сухостью, если не сказать больше — сквалыжничеством. Началось с того, что Куракина не хотели узнавать насупленные охранники молодого Болотина. Они, как обычного посетителя, обшарили Куракина металлоискателем и заставили предъявить паспорт, проигнорировав его служебное удостоверение. Изучив паспорт, страницу за страницей, с деланной подозрительностью поглядывая на его обладателя, они сопроводили Куракина до дверей приемной с чопорностью тюремных конвоиров.
Не успел Куракин пройти в просторную пустынную приемную, как немедленно обомлел и едва не выпалил: «Ба, Иветта!» Слава богу, не выпалил. Новенькая секретарша молодого Болотина всей своей белокурой ажурной телесностью напоминала Куракину известную городскую шлюху. Куракин остолбенел, улыбаясь секретарше. «Нет, другая, не Иветта, — убедился Куракин. — Эта строгих правил».
— Присаживайтесь, — сказала секретарша. — Я доложу Михаилу Михайловичу. Вы Петр Петрович Куракин?
Куракин поклонился, но не присел.
— Присаживайтесь, — настоятельно повторила секретарша.
Петра Петровича разочаровала ее неразборчивая настойчивость. Шла она на опасных шпильках, в брючном мерцающем костюме. Этот ее ожесточенный проход словно создавал невидимую ширму между посетителем и священным пятачком у дверей шефа. Зеленоватые, узорчатые камушки ее глаз крепились к белоснежному фону черными лазерными иголочками. Взгляд был исполнен врожденного высокомерия. Нос ее был тонким, с крохотной горбинкой, ноздри были узкими и мелкими, остро очерченными были маленькие, короткие губы. Эталоном ухоженности выступали ее отчетливые, волосок к волоску, только что приготовленные брови. «Нет, далеко не Иветта. Горда матушка», — провожал ее усмешкой Петр Петрович.
Куракин пожал плечами и осмотрелся. В помещении было прохладно и слишком светло. Белые стены, белые жалюзи, белая, какая-то игрушечная мебель, скрытый белый свет в подвесном потолке, белый плазменный монитор и бежевые кожаные диваны создавали неуютное впечатление, будто бы вы находитесь на открытом воздухе, на сквозняке на каком-нибудь горном плато.
Секретарша вернулась мгновенно. Так же мгновенно к ней вернулась досада на Петра Петровича, который все-таки не послушался ее и не присел. Его позабавило, что свое раздражение она выразила сугубо по-женски, с элегантной обидчивостью: она высоко задрала нежный подбородок, откинула длинные выпрямленные пряди назад до середины спины и подбоченилась одной рукой, вторую оставила висеть безвольно.
— Михаил Михайлович ждет вас, — произнесла она поверх Куракина.
— Спасибо, — уморительно улыбнулся Петр Петрович, но не осмелился прибавить «птичка» или «драгоценная».
Попадание из приемной в кабинет молодого Болотина, видимо, должно было вызывать у визитера эффект нечаянного диссонанса, словно из огня да в полымя. Или, скорее всего, наоборот. Кабинет молодого Болотина был очень темен в силу того, что все в нем было выдержано в плотных, сумеречных, теплых тонах. Куракин догадался, что покои молодого Болотина следовали последнему писку интерьерной моды, — писку некой имперской старины. Правда, старина была частичной, с элементами технократического либерализма. Скорее, она призвана была напоминать, что это был домашний кабинет русского вельможи середины XIX века, нежели его же рабочие апартаменты где-нибудь в Министерстве внутренних дел. Стены были наполовину обиты пурпурным ориентальным шелком над бордюром из красного дерева. Стол, покрытый сукном все того же пурпурного оттенка, был неуклюжим, однотумбовым. На столе лежало несколько радиотелефонов вразброс и закрытый, красного пластика ноутбук. Для посетителей стояло два массивных кресла с резными ножками в виде львиных лап; подлокотники венчали головы грифов; бархат отливал утолщенным рубиновым светом. Фигурный, с инкрустацией, краснобокий, во всю стену книжный шкаф радовал глаз золотистыми и серебристыми корешками, как клавишами от авангардного рояля. Напротив стола висел тяжелый гобелен с минаретами, осликами и маврами в разноцветных чалмах. Окно было занавешено огнедышащими парчовыми шторами, образующими крупные, морские, вертикальные волны. Путалась в ногах еще какая-то точеная этажерка, пустая и пыльная, на нижней полке которой покоились солнцезащитные запыленные очки. Комната освещалась антикварной разлапистой люстрой, подвешенной очень высоко над головой. Эта существенная разница в высоте потолков приемной и кабинета молодого Болотина заставила Куракина знобко поежиться, как будто он очутился под моросящим небом, но рядом с горячей печкой.
Молодой Болотин поднялся из-за стола из современного кожаного крутящегося кресла.
— Приветствую вас, Михал Михалыч! У вас здесь прямо как в алтаре! — воскликнул Куракин, любивший здороваться шумно и задушевно.
Молодой Болотин молча пожал руку близко подошедшему к нему Куракину и для благоволения лишь вздохнул максимально располагающе. Он указал Куракину на широкое неудобное кресло и сам уселся в такое же. Куракин опустил разведенные для объятия руки, сообразив, что молодой Болотин принял назначение на его, Куракина, должность как должное. «Зря он так, зря, — подумал Куракин. — Торопится, зарывается».
— Однако, — начал Куракин, — в моем кабинете, вернее, теперь уже вашем, такого антуража нет.
— Слышал я, Петр Петрович, о странной пустоте у вас в кабинете.
— Почему странной? Нормальная, рабочая пустота. В смысле — незахламленность, свежий воздух, мыслям простор. Гуляют они себе свободно, не цепляются за углы и разные канцелярские безделушки. Я, Михал Михалыч, люблю непринужденность и чтобы ничто не отвлекало от исполнения функциональных обязанностей... Одним словом, поздравляю, Михал Михалыч, с высоким назначением!
— Спасибо, Петр Петрович. Кофе, коньяк?
— И то, и другое, Михал Михалыч. Когда думаете перебираться?
— Завтра. Чего тянуть? Дел-то вы мне ведь много оставили?
— Нет, ничего не оставил. Всё свое ношу с собой. С чистого листа начнете.
Куракин понял, что от молодого Болотина благодарности не дождешься и что эта его неблагодарность, скорее, — запланированная издевка, нежели дефект воспитания. «Наглец, наглец. Не в отца пошел», — сетовал Куракин.
Молодой Болотин откуда-то из-за портьеры выкатил раздвижной барный столик с выпивкой. Пока Куракин рассматривал бутылки, в кабинет вошла секретарша с подносом.
— Как они ходят на таких каблуках? Гордячка! — сказал Куракин, проводив строгие ноги секретарши. — Не тяжело вам с ней?
— Легко, — ответил молодой Болотин.
— С собой возьмете?
— Нет, у нее другой профиль.
— Правильно. Такие цыпочки не для государственной службы. Просители на слюни изойдут. Пожалейте мужиков!
Молодой Болотин морщился одними подглазьями. Петр Петрович, как бы в отместку, дорогой болотинский коньяк не хвалил, но пил, однако, огромными глотками. Молодой Болотин подлил еще. Сам он еще не пригубил, а лишь разогревал бокал в своей теплокровной ладони.
— Да! — хотел было какую-то гадость сказать скривившийся Куракин о коньяке, но сдержался. — Не позавидуешь вам, Михал Михалыч. Команда собралась разношерстная и крайне спесивая. Всяк одеяло на себя потянет. Да ладно бы с пользой для дела! Ладно бы хоть что-то умели делать! Согласитесь! Все больше выскочки да цыпочки! Тяжело вам будет, Михал Михалыч!
Молодой Болотин начал морщиться не только подглазьями, но и ободками ноздрей.
— На меня можете рассчитывать в полной мере, Михал Михалыч, — добавил Куракин. — Подскажу, посоветую. Я опытный бюрократ. И опыт, сын ошибок трудных... Вы же мой преемник, как-никак. И не без моего участия, как-никак.
Молодой Болотин наконец-то стал отхлебывать разомлевший коньяк, смежая сильные круглые веки от вразумительного удовольствия.
Только теперь Куракин заметил изменения в лице молодого Болотина. Он как будто осунулся, по крайней мере, стал иным его лицевой угол. Виной всему была бородка, которую зачем-то отпустил молодой Болотин. Бородка была молодежная, похожая на небольшую античную комедийную шерстяную маску, сползшую на рот. Бородка вызывала какое-то смешное и неприличное впечатление, словно находилась совсем не на том месте, где ей пристало бы быть и где ее пристало бы скрывать.
Куракин нестерпимо осклабился. Молодой Болотин посмотрел на него с жесткой иронией. Куракин думал о хозяйстве Юрки Первого, которое стал прибирать к рукам молодой Болотин. «Не боится ведь! — думал Куракин о молодом Болотине. — Идет напролом, зарывается птенчик. Не может остановиться вовремя. Это и погубит».
Куракин с молодым Болотиным могли бы затронуть неприятную для обоих тему некого городского общака, к которому оба имели отношение и доступ и который растворился после гибели Стефановича где-то между полюсами влияния одного и другого. Но Куракин и молодой Болотин красиво молчали об этом. Не говорили они и о том, что послужило поводом для куракинской отставки. Им обоим было приятно молчать о том, как некий человечек молодого Болотина, бывший человечек Юрки Первого, предложил Куракину сделать нехитрый выбор: с кем вы, Петр Петрович, с молодым Болотиным или со старой гвардией. Куракин, не долго думая, порвал на себе рубаху. «Куракин, — заявил он гонцу, — никогда не был и никогда не будет предателем». Рубанул сплеча, резко, исповедально. Куракин знал, что от него ждали другого ответа, по крайней мере, путаного, не нашим, не вашим. Но Куракин сообразил, какой выбор для него в итоге будет особенно выгодным — тактический или стратегический. Куракин предпочел стратегический и теперь наслаждался своим предвидением. Он понимал, что тактический выбор принесет ему сиюминутный успех и поражение в будущем. И, наоборот, выбор, который ему представлялся стратегическим, поначалу обернется проигрышем, зато в перспективе приведет к полной победе. В этот же день Куракину предложили написать заявление об уходе, что он и сделал с легким сердцем и дальним прицелом...
Между тем они говорили о сущих пустяках. Куракин, подзадоривая молодого Болотина, интересовался его идеями и политическими взглядами как представителя якобы новой поросли российских управленцев.
— Я полагаю, лет через пятнадцать-двадцать основным источником экономического процветания России, — увлекался молодой Болотин, приложив, как для отдания чести, два перста к виску, — будут не сырьевые запасы и не собственные технологии, на которые так сейчас уповают и которых у России, конечно же, не будет никогда (это все патриотические иллюзии), а фактор ее необъятной территории. Этот фактор приобретет первостепенное значение, особенно при дальнейшем (от этого никуда не деться) неуклонном сокращении населения страны и при одновременной катастрофической перенаселенности планеты в целом. Собственно граждан России будет все меньше и меньше, а ее габариты сохранятся прежними. Россияне сами уже не смогут осваивать и поддерживать свои огромные владения. Да это им и не нужно будет делать. За них это будут делать нанятые ими китайцы или индийцы. Россияне по сути дела превратятся в свободных греков или, как сейчас, кувейтцев. Им достаточно будет сдавать свои основные фонды и земли в аренду, собирать ренту и следить за общим порядком. Самым ценным не только российским, но и мировым продуктом станет гражданство Российской Федерации. Паспорт гражданина Российской Федерации по сути будет приравнен к золотой кредитной карточке.
— Браво, Михал Михалыч! — воскликнул Куракин. — Заманчивый прогноз! Однако вас не смущает то обстоятельство, что благосостояние будущих граждан России, так сказать, свободных, цивилизованных рантье, фактически будет покоиться на костях предыдущих поколений, точнее, будет достигнуто за счет нынешней естественной, как вы говорите, убыли населения?
— Это печально, Петр Петрович, но это объективный процесс. Здесь можно лишь сожалеть и правильно пользоваться его последствиями.
— Хорошо. Но ведь вы должны учитывать и тот факт, что как только российское гражданство станет, как вы говорите, суперлакомой привилегией, то оно в нашей инстинктивно коррумпированной среде моментально превратится в доходный бизнес, в товар, и гражданами России, хозяевами ее территорий, автоматически станут миллионы отнюдь не коренных ее жителей.
— Это как раз субъективный фактор, Петр Петрович. А субъективный фактор поддается регулированию. Четкое законодательство, однозначные правила игры, политическая воля, наконец, как выражались в прежние добрые времена, не оставят лазеек для злоупотреблений. Люди, принимающие решения, будут понимать, что самое главное, жизненно важное для них — это не деньги и не власть, это деление на своих и чужаков. По-моему, это легко понять.
— Да, но есть еще предатели, — сказал Куракин и широко, на манер молодого Болотина, округлил свои глаза.
— Поэтому я и говорю о политической воле.
— Жаль, что в то время чудесное ни вам и ни мне уж не жить.
— Рано хороните, Петр Петрович. Знаем, знаем, как вы плохо играете в шашки, — засмеялся зардевшийся и довольный своими словами молодой Болотин.
Лицо Куракина от прекрасного коньяка тоже налилось здоровой красной краской. Кажется, даже его темно-русая борода сначала порыжела, а к концу разговора и вовсе запунцовела и выглядела издалека эдаким элементом перформенса. Куракин искренне радовался тому, что молодой Болотин на поверку оказался не только неопытным и непроницательным человеком, но еще и плохо осведомленным и весьма неумным.
«И это новые управленцы Питера!» — чуть не подавился ликующий Куракин и поспешно сглотнул нежно обжигающую влагу.
— Вы, я смотрю, Михал Михалыч, любитель ценных пород дерева и все больше темных, красных оттенков. А у нас, как вам известно, предпочитают все больше светлые тона — дуб, карельскую березу.
— Вы же понимаете, Петр Петрович, — снисходительно развел полнеющими руками молодой Болотин. — Светлое, темное — это лишь вопрос времени.
— Не могу не спросить, Михал Михалыч, вы уж извините, в шкафу у вас настоящие книги или муляжи? Больно уж корешки подобраны один к одному.
Молодой Болотин брезгливо пожал плечами в красивом, добротном пиджаке (полосочки пиджака наползли друг на друга): мол, как вы можете сомневаться, что здесь все более чем подлинное.
Прощаясь, Куракин не мог удержаться, чтобы не заметить:
— А бородка-то вам очень к лицу, Михал Михалыч. Опять же преемственность.
Куракин дружелюбно засмеялся, и стеснительно ему в ответ улыбнулся молодой Болотин. Куракина веселило, что молодой Болотин, человек далеко не стеснительный, вдруг стеснялся замечаний о собственной внешности.
Покинув особняк молодого Болотина, Куракин столкнулся со старым Болотиным. Тот, в отличие от своего сына, заключил Куракина в радушные объятия, благодаря чему Петр Петрович мгновенно пропах серным запахом недорогого одеколона и энергичной старости.
— Рад, рад вас видеть здесь, Петр Петрович. Это вы правильно сделали, что приехали поделиться опытом с молодежью. Мишка вас очень уважает, — громко по своей привычке разговаривал патриарх Болотин. — Ему нужна ваша поддержка.
— Знаем, знаем, — смеялся Куракин, радующийся душевности старого Болотина. — Может быть, пообедаем, Михал Аркадьич?
— Да мне ведь нельзя. Я ведь опять на диете второй день. Мои за этим следят. Как-нибудь в другой раз, Петр Петрович... Да, Петр Петрович, Гайдебуров-то так ведь мне ничего и не отдал. Вы бы его пожурили по-родственному.
— Мерзавец Ленька! — праведно воскликнул Куракин. — Если бы я знал, где он прячется.
— Не в деньгах дело — в приличиях. Пожурили бы по-родственному зайчика.
Куракин развел руками, копируя это вальяжное движение с молодого Болотина. Петр Петрович подумал: «Нет, пошли на фиг. У нас двоюродный брат не отвечает за двоюродного брата».
— Слышал, вы теперь в Москву, Петр Петрович? — спросил старик Болотин, которого молодило то, что он был простоволосый, седой, без головного убора.
— Поступают различные предложения, — с уклончивой важностью ответил Куракин. — Рассматриваем.
— Ну, до скорого свидания, Петр Петрович, — прощался торопливый старик Болотин, проходя мимо двери, придерживаемой охранником.
— Вы там смотрите с Иветтой не столкнитесь, Михал Аркадьич! До свидания! Целую в зад!
Перед тем как побывать на торжестве с участием президента, Петр Петрович Куракин решил все-таки по-человечески перекусить. Он заехал в ресторан с двумя претенциозно петербургскими львами у портала и наконец заказал на полную катушку: триста граммов клюквенной водки «Финляндия», боржоми, кровяной суп из свинины, ростбиф, жаренный в печи, с разварным картофелем, с солеными огурцами, и блинчиков пшеничных с икоркой. Блюда подавали большие, для взрослого мужчины.
Куракин ел ожесточенно и думал о том, что человек его типа отличается от молодых болотиных тем, что знает наверняка, без иллюзий, что будет с Россией, какие люди и как будут жить в России в ближайшее время и кто будет руководить ими и страной. Выпивая последнюю стопку сугубо прочувственно, Петр Петрович невзначай вспомнил Гайдебурова: «Подводит меня Ленька, подлец, подводит родственничек!» Воспоминание о Гайдебурове слилось в Петре Петровиче с грандиозными, веселыми мыслями, хлещущими через край.
...Домой Куракин вернулся неожиданно рано, в полночь. От такой скоропалительной неожиданности Светлана Ивановна Куракина уронила чашку с чаем, и та разбилась у ног Петра Петровича.
— На счастье, на счастье! — пропел искрящимся тенором Петр Петрович Куракин и принялся обнимать и целовать супругу, как чужую, — в щечки и в ручки.
Та догадалась, что назначение ее мужа Петеньки в Москву можно было считать делом решенным. Она пошла набирать ему ванну и греть полотенца утюгом. Она таинственно улыбалась тому, что сегодняшняя их близость будет особенно тесной и особенно желанной. Она знала, что Петр Петрович теперь в ванной комнате сбреет свою волшебную толстую бороду и предстанет новым, неизвестным и ранимым...
Петр Петрович Куракин, разморенный, розовый, повсеместно гладкий, в махровом халате и с полотенцем на голове, наконец-то плюхнулся в родную огромную кровать, как огромный младенец. Светлана Ивановна с плотским нетерпением ожидала, что он ей теперь расскажет.
Петр Петрович отдышался и начал разговор с того, что, по его сведениям, президент, кажется, втайне недолюбливает бородатых. Светлана Ивановна в знак одобрения поласкала мужа по чистой щеке и поцеловала в новую, пустую губу.
Петр Петрович рассказывал супруге, что видел сегодня президента вблизи, «как тебя», что тот даже поздоровался с ним за руку и даже назвал по имени-отчеству, не забыл, что зовут его Петром Петровичем, а не каким-нибудь Михал Михалычем или Германом Оскаровичем. Светлана Ивановна понятливо кивала, потому что находила структурное родство между президентским именем-отчеством и мужниным.
Куракин рассказывал, как доверительно переговорил с одним из ближайших помощников президента, потолковали о государственных делах, о назревшем кадровом вопросе, о свежей крови или ключевой воде.
— Ну, ты же понимаешь, — сказал как можно менее важно Петр Петрович.
— Да, да. Скажи, Петенька, а как выглядит президент вблизи? — поинтересовалась супруга, ластясь.
— Отлично выглядит, — ответил Куракин.
Он вспомнил, как выглядит президент вблизи: абсолютно недоступным, несмотря на свою терпеливую застенчивость. В его улыбчивом лице Куракин разглядел какую-то недоговоренность строгого монаха и вместе с тем какой-то извилистый натиск иллюзиониста.
Куракин рассказал жене, что в тот момент, когда заиграл гимн России, президент вдруг обернулся на него, на Куракина, и улыбнулся ему сердечно.
— В этот миг, — расчувствовался Петр Петрович, — не поверишь, Светик, я готов был, если бы, не дай бог, что случилось, броситься и закрыть президента собственной грудью...
Светлане Ивановне так понравился рассказ супруга, что ее закипевшая ручка сама собой потянулась к его паху.
— Ого-го, Петенька! — зашептала Светлана Ивановна. — Да тут у тебя настоящий Кремль, Спасская башня!
— А ты что думала?! — зашептал ответным пламенем Петр Петрович супруге, наваливаясь на нее. — В Москву! В Москву! В Москву!
16. Колькина смерть
Колька Ермолаев вечером по телевизору увидел Куракина безбородым, а наутро решил последовать его примеру и лишиться собственной бороды. Бороды у братьев, конечно, были разные — не по сути, а по густоте и красоте, — но освобождение от них должно было получиться одинаковым — очистительным.
Распарившись под душем, Колька сбривал свою растительность без жалости к прожитым с нею годам. Он знал, что теперь никакой ностальгии не будет. Осталось сделать последний скребок, чтобы стереть себя с лица земли окончательно.
Увидев свою физиономию голой, вдруг ставшей плаксивой и несчастной, Колька засмеялся грубым баском, с першинкой в горле.
Отвесная часть его подбородка на поверку вышла маленькой, слабовольной и капризной, как у Марии. Щеки болезненно розовели от раздражения. Рядом с ухом из пореза текла темная, нестрашная кровь. Колька налил целую пригоршню еще отцовского «Тройного» одеколона и, зажмурившись от ожидания приятного ожога и давнего, молодого воспоминания, плеснул на лицо пахучей старой жидкостью и начал яростно и громко шлепать себя по щекам увесистыми ладонями. Он густо смазал пылающее лицо материнским кремом, запах которого навеял ему семейную теплоту. Кровь из ранки продолжала-таки сочиться. Колька в шкафчике над умывальником отыскал катушку лейкопластыря, оторвал от нее как попало большой кусок и приклеил его как попало чуть ли не на половину щеки. Кровь, слегка растекшись, остановилась.
Колька надел чистую, неглаженую, давнишнюю рубашку в синюю красивую полоску, надел отцовский синий галстук на резинке с крохотным, ненастоящим узлом, джинсы и свой нестираный, со стертым орнаментом свитер, из-под которого галстук так и так не был виден. Неприятно было Кольке смотреть на свою пустую, красноватую, мягкую шею.
Колька думал было прибраться в квартире, но из всего задуманного лишь вымыл посуду и вынес мусорное ведро.
Иветта опять пропадала. От материнских цветов теперь остались лишь горшки и баночки с сухой землей, про которые можно было сказать, что они не столько на подоконнике стоят, сколько лежат, как камни. Из этих камней торчали скрюченные корни мезозойского времени. Рос как ни в чем не бывало только его, Колькин, огромный прямоугольный кактус, похожий на Колькину же самодельную клюку, только, в отличие от нее, с крепкими, живыми шипами по всему стволу. Иветта часто кололась об них, визжала и приказывала Кольке выбросить этот «проклятый фаллос» в окно с двенадцатого этажа. Колька посмеивался, предлагал ей самой попробовать это сделать. Иветта отшатывалась от колючего чудовища и, пока не забывала, обходила место с кактусом стороной. Колька был доволен заступничеством своего растительного чужестранного друга.
Еще неделю назад Колька думал убить Иветту в последний свой день. Он догадывался, что всему виной, — всему, что с ним происходило несправедливого и позорного, была именно Иветта, а не старик Болотин, которого ему полагалось убить. «При чем здесь старик Болотин? — соображал Колька. — Старик Болотин гуляет с таксой, а Иветта гуляет с мужиками».
Но вчера, увидев во сне свое детство и по-детски наплакавшись, Колька подошел к фотографии матери, долго смотрел в ее оживающие глаза, которые молчали с неодобрением и любовью, забытой Колькой любовью: «Колька, сыночек, не бери грех на душу. Плюнь на нее. Я же говорила тебе, что она блядь. Послушайся хоть теперь мать, сыночек».
Вчера же Колька с Марией на ее «Оке» поехали к нотариусу. Женщина-нотариус, дородная, домашняя, вежливая, похожая бюстом и огромным тугим шиньоном на певицу Зыкину, составила дарственную, по которой Колька Ермолаев свою двухкомнатную квартиру передавал в собственность безвозмездно своей двоюродной сестре Марии как человеку самому близкому и самому ближнему теперь. Колька убедил Марию в том, что теперь ему будет прекрасно и в ее коммуналке. Он расписался и улыбнулся Марии, а Мария, не стесняясь нотариуса и ее помощниц, стала целовать Кольку так правдиво и так трогательно, что он почувствовал на своем потном лбу и на своих глазах солоноватый вкус благодарного счастья. Мария плакала, а Колька, неумело утирая слезы, размазывал ей тушь по лицу, как какой-то гример-дикарь. «Спасибо, Коленька, спасибо, родненький. Ты же знаешь, как меня кинули!» — «Да брось ты, Мария, не плачь! С моей души эта квартира, как камень, упала».
После нотариуса они поехали на кладбище на могилу к матери Кольки Ермолаева. Колька ехал и любовался Марией как родной душой. Он думал, что, если бы Мария не была ему сестрой, пусть и двоюродной, он бы хотел на такой славной женщине когда-нибудь да жениться. Колька Ермолаев уважал законные и добропорядочные отношения между мужчиной и женщиной и осуждал любые отклонения от человеческой нормы и кровосмешение тоже. Колька знал, что Мария, даже привыкнув к мысли о том, что Колькина квартира теперь принадлежит ей, не изменит доброго мнения о нем, не обратит щемящую признательность в неприязнь и презрение. Мария — не такая, Мария, слава богу, хорошая.
На кладбище очистили маленький холмик от снега, сбили наледь с креста и фотографии. Мария пообещала, что весной поставит за свой счет оградку, сказала, что надо будет посадить цветы и вкопать лавочку для приходящих родственников. Колька помянул мать водкой, Мария помянула тетю Женю ее любимой карамелькой — «Сливочные». Когда уже собирались уезжать, Колька еще раз обошел материнскую могилку со степенностью и воткнул рядом с крестом сквозь снег в землю обструганную ветку. «Чего ты, Коля?» — спросила Мария. «Это чтоб знали, с какого бока от матери меня положить надо — справа», — строго произнес Колька. «Что с тобой, Коленька?» — «Опять же, по левую руку молодая, красивая девушка лежит...»
Вчера Колька Ермолаев исполнил свой семейный долг, сегодня, помывшись, расставшись с бородой и помехами на сердце, без привычной клюки, свободно помахивая руками, как будто дирижируя ими свою внутреннюю высокую музыку, Колька направился исполнять долг гражданский.
Избирательный участок располагался в школе, в ученической столовой, где, несмотря на присутствие посторонних взрослых людей, милиционеров и сквозняков, по-детски пахло свежей выпечкой и особенно ватрушками с творогом. Колька не завтракал, но этот радостный вкусный запах бередил не нюх, а Колькино представление о будущей жизни.
Хотя Колька и приоделся, и побрился, и причесался, праздничный народ его принимал за оборванца, а секретарь за столом трижды пролистала его паспорт туда и обратно, желая за что-нибудь зацепиться. В результате она зацепилась своей низко свисающей сережкой за свою же шерстяную кофту, еле высвободилась из собственного плена, все-таки потянув нитку, и, приняв рабочее положение, наконец-то, как милость, вручила Кольке его паспорт с избирательным бюллетенем в придачу.
Поначалу Колька собирался проголосовать за молодого бизнесмена с миниатюрной, игрушечной бородкой, на уход за которой бизнесмен, вероятно, тратил не меньше часа в сутки. Это, пожалуй, даже была не бородка, а художественная комбинация из четырех бровей, симметрично изогнутых, педантично прореженных и, кажется, слегка накрахмаленных специальным косметическим крахмалом. У бизнесмена была безукоризненная биография, которая бесперебойно нанизывалась на стержень преуспевания. При этом бизнесмен так проказливо улыбался оливковыми глазками, как будто был не солидным, известным горожанином, а все тем же насмешливым Мишкой из десятого класса этой школы. В другое время Колька, без сомнения, без зазрения совести отдал бы свой голос за этого великовозрастного циника, хихикая над тем, как тот будет идти по жизни и ломать дрова направо и налево, пока не сломает себе шею, но сегодня молодой бизнесмен неожиданно стал противен Кольке Ермолаеву.
Колька Ермолаев еще раз всмотрелся в фотографии кандидатов и остановил свой выбор на худощавой женщине в тонких, но все равно для нее тяжелых очках. Женщина смотрела с жалостью, как будто просила Кольку одуматься, не делать глупости, взять себя в руки. Так смотрят жены алкоголиков на своих непутевых мужей, видимо, еще любя их сполохами прежней, юной любви и надеясь на чудо или на передышку.
Колька еле втиснул грубыми пальцами бюллетень в отверстие ящика и конфузливо улыбнулся подозрительному участковому. Милиционер почему-то дружелюбно подмигнул ему в ответ. Кольке стало совсем легко. Он понял, что сделал правильный выбор, и женщина-кандидат в свинцовой оправе его одобряет.
Вернувшись домой, Колька посмотрел последние «Новости» и фильм «Белое солнце пустыни». Этот фильм Колька знал наизусть, но любил его не меньше, чем его любят космонавты. Ему нравилось дожидаться известной шутки, произносить ее в унисон с персонажем и хохотать над услышанным, как в первый раз. Ему нравилось боготворить артиста Павла Луспекаева, сознавать, что того давно с нами нет, чтить всю положительную силу его настоящего, мужского, русского характера...
Ближе к вечеру Колька Ермолаев собрал у своего подъезда отдельных окрестных доходяг, из тех, кто к этому часу еще держался на ногах. Сырые, стылые, мышиные сумерки сковали стайку сгорбленных забулдыг в одно скульптурное целое. Так они и двинулись, не меняя пропорций, слипшиеся, без жестикуляции и даже без слов, за Колькой Ермолаевым в универсам. Казалось, они не шли, а он тащил их на ремнях по скользкой дорожке, как санки со скарбом тащит за собой флегматичный бомж.
Вчера Колька Ермолаев попросил у Марии полторы тысячи рублей «на жизнь», как он выразился, и Мария, после мгновенного и неприятного сомнения, отсчитала их Кольке. Колька поспешил заверить Марию, что берет у нее деньги в первый и последний раз, что в дальнейшем не будет клянчить, что это никак не связано с квартирой, просто у него теперь в кармане ни копейки. Мария согласно закивала, но, кажется, не поверила Кольке и выглядела такой огорченной, как будто в ней скоропалительно испортилась недавняя радостная чистота. Она предложила устроить Кольку куда-нибудь на работу, но он сказал, что скоро устроится сам. Ему стало гадко от того, что в последний момент в бочку с медом он плюхнул ложку дегтя. Он заглянул Марии в глаза и твердо повторил: «При чем здесь, Мария, поверь, я больше у тебя никогда не попрошу».
На деньги Марии в универсаме Колька купил несколько бутылок хорошей ливизовской водки, колбасы и другой закуски. Первые минуты Колькины спутники одиноко недоумевали, словно Колька затеял что-то подлое, и это подлое предназначалось каждому из них в отдельности. Самым паскудным могло бы быть то, что он использовал бы их лишь в качестве носильщиков и эскорта, и когда они справятся со своей задачей, то он отпустит их восвояси и еще по загривку настучит. Почему-то пугала новая Колькина рана — залепленная пластырем щека.
Однако Колька вышел из магазина приветливым и сказал: «Пойдем кирять, мужики!» Мужики из пришибленных древнерусских мумий превратились в лихорадочных западных игроков на фондовой бирже. Их стройная, понурая композиция распалась, руки потянулись обнимать и в сердцах похлопывать благодетеля. Они стали кричать и толкаться, как маленькие, и даже начали лучезарно трезветь от предвкушения нового пьяного счастья. Воздух наполнялся разжиженным мраком и сжимался вокруг триумфальных собутыльников с великой охотой.
Компания расположилась в большой комнате бывшей Колькиной квартиры. Отсюда вела дверь на балкон, и она была раскрыта настежь. Колька сел спиной к окну — он не любил высокое небо прямо перед глазами. Он любил чувствовать влажную, мятную свежесть затылком.
Колька пригласил на вечеринку троих, посчитав, что такого количества будет в самый раз. Он знал, что есть гопники добрые, а есть злые. Он позвал последних, злых: Витьку, который настаивал, чтобы его величали уважительно-фамильярно «Петровичем», Бобика, чье настоящее имя было Борис, но он настолько привык к своей собачьей кличке, что даже ментам отрекомендовывался ею, и Гришку Шпалу, прозванного так за несуразный, рослый и вялый вид.
Колька хоть и пьянел стремительно, но улыбался мягко. Эта его странная ласковость в сочетании с его физической силой, о которой каждый из присутствующих знал не понаслышке, не позволяла гостям распоясаться и приступить к настоящему кутежу, с взаимными, сначала театральными упреками, руганью и мордобоем. Гости, не сговариваясь, поняли, что хозяину сегодня требуется тихая, интеллигентная, задушевная пьянка и что они должны в ней играть вторую, писклявую скрипку. Водки у хозяина было много, и ради этого множества можно было и потерпеть.
Первым делом, конечно, поговорили о достоинствах напитка, который теперь употребляли. Пришли к восторженному выводу, что водка — не паленая, заводская и что такой надо много под конкретную закусь. Хозяин водку не прятал — вся она была на виду, у дверей на балкон остужалась на легком морозце.
Поговорили о бабах, но быстро устали. Петрович говорил о своей, что она его толкнула на трамвайные рельсы, и он два ребра сломал. Шпала буркнул про свою, что ее убить мало, корову. Колька о своей вздохнул и сказал, что она блядь. А Бобик вообще не говорил ни о своей, ни о чужих и потому был поднят мужиками на смех. Бобик то и дело поправлял свой чубчик и совсем не мог сидеть на одном месте долго, вскакивал, чесался, пока Шпала наконец не утихомирил его простым вопросом: «У тебя, Бобик, мандавошки, что ли, завелись?» — и показал для наглядности двумя разлапистыми кистями рук, какие именно. Петрович, смеясь, хотел было уже напомнить, что Бобик у нас женским полом вообще не интересуется, но воздержался, чтобы не заварилась раньше времени свара с психом Бобиком.
Вместо издевательского наскока на Бобика Петрович начал излагать очередной прожект пьющего человека. Он говорил, что на следующий год на все лето поедет в Швецию собирать в ее лесах чернику. Труд тяжелый и требует расторопности, но он, Петрович, не будет Петровичем, если к тому времени не сварганит какую-нибудь приспособу для, как он выразился, «автоматического сбора урожая».
— Ягода сама поползет в аппарат, только ягода, никаких листьев, на хрен, ничего, только ягоду будет щипать прибор, — говорил Петрович. — Загранпаспорт оформлю и поеду.
— Откуда в жопе алмазы? — подсмеивался Бобик ртом с недостатком зубов.
— Я тебе говорю, три тысячи зеленых в месяц, — упорствовал Петрович.
— Три тысячи зеленых ягод в месяц, — умничал Шпала.
— Поезжай, Петрович, тебе повезет, тебе должно повезти, — говорил Колька Ермолаев серьезно. — При чем здесь, женишься на шведке. Бобика возьми с собой.
— Счас. Что я себя на помойке, что ли, нашел? — огрызался Бобик.
— А где? — громко спрашивал Шпала. — Во дворце, что ли? Тоже мне, королева-мать!
— Поеду! — твердо обещал Петрович и выпивал вне очереди, словно забывшись, словно в ажитации.
Вдогонку за Петровичем поскакали и другие: Шпала пил как новичок, сквозь зубы; Бобик пил как молоко, шумными глотками, проливая; Колька пил машинально, не переставая улыбаться. Когда выпили, помрачнели. Может быть, поэтому Бобик сменил тональность на какую-то ложнотрагическую.
— Ты, наверно, не знаешь, Колька, — сказал Бобик. — Но я тебе скажу. А что тут такого? Человек должен знать правду. Понимаешь, твою ведь мать убили, Колька. Ты ведь был в командировке и не знаешь, что ее один отморозок ударил в лифте по голове и забрал всю пенсию. Она от этого и умерла через несколько дней. А я догадываюсь, кто этот отморозок, Колька.
Колька Ермолаев для такой новости был еще не достаточно пьян и поэтому с омерзением отмахнулся от Бобика, задев его чубчик средним пальцем. Затем ребром ладони Колька стал стучать по столу, как будто призывая народ к вниманию. Бобик получил по ноге от Шпалы и затрещину от Петровича, который, когда бил, закусывал нижнюю губу. Бобику стало больно, он наклонился под стол и тер щиколотку.
— Не слышали, поймали маньяка-то бородатого или нет? — перевел разговор в другое русло Петрович.
— Да нет никакого маньяка, — сказал Шпала. — Все менты придумали.
— Есть маньяк, — сказал очухавшийся Бобик. — Его многие у нас видели.
— Маньяка видели, а преступлений его не видели. Что же это за маньяк такой? — недоумевал Шпала.
— Маньяк, — подтвердил Петрович. — С бородой, с монтировкой. Неуловимый мститель. А кто в нашем дворе у двух «мерседесов» стекла разбил? Я, что ли?
— Бобик! — сквозь зубы, как пил, засмеялся Шпала.
Бобик теперь молчал. Он был опытным выпивохой-исполнителем. Он видел, что не только его, но и Петровича, и Шпалу злило то, что Колька Ермолаев сегодня был какой-то не такой, как не от мира сего, чересчур задумчивый и при этом неприступный. «Долго еще будем сидеть как на похоронах?» — терзался Бобик. Когда кончились бутылки на столе, Бобик хотел было пойти за добавкой к балкону, но был остановлен взмахом руки хозяина, как будто задремавшего, но вмиг очнувшегося.
— А ты чего, я гляжу, бороду, что ли, сбрил? — спросил Шпала у Кольки.
— Сбрил, — ответил Колька.
— А, вот в чем дело! — повеселел Бобик. — А я думаю, что ты сегодня не в себе?
Колька развернулся вместе со стулом к балконной двери, потянулся к ней двумя руками и схватил еще в каждую руку по бутылке. Эти, прохладные, пили молча, почти без перерывов. Напал жор. Пили и ели, не глядя друг на друга, уставившись в стол.
Сумерки мгновенно спрессовались в ночь. Ночь получилась какая-то безлюдная, жутковатая, с лунным дымком. От такой ночи всех, как по команде, потянуло в сон.
Неизвестно, сколько времени длилось их внезапное, гипнотическое, мертвое забытье — несколько минут, несколько часов или несколько суток, — неизвестно, кому что снилось, только когда все очнулись, опять как по команде, и подняли головы, стало видно, что их лица, всех, кроме Кольки, успели обрасти во сне неопрятной щетиной.
— Ух, как сморило! — сказал Петрович, ритмично хлопая веками, словно разминая их.
— Ага, и меня тоже, — подтвердил Шпала.
— В водку, что ли, снотворное добавляют? — крутил перед глазами пустую бутылку Бобик.
— Не в водку, в колбасу, — поправил Петрович.
— Зачем? — спросил Шпала.
— Для привыкания. Во сне быстрее к продукту привыкаешь, — объяснял Петрович. — Кодируют нас коммерсанты проклятые.
Колька Ермолаев наконец почувствовал, что слои чистого, фиолетового, ночного неба, сгрудившись за его спиной, осторожно, но внятно толкнули его в бок. Колька вздрогнул и ударил по столешнице резонной своей лапой.
— Слышь! Кончай пить! — сурово скомандовал Колька.
Троица гостей озадаченно замерла. Для публики, созерцающей капитальные запасы спиртного, такой приказ звучал оскорбительно. Кроме того, их удивил этот приказ своей несправедливостью, потому что последнее время, находясь во сне, они, конечно же, ничего пить не могли, и Колька об этом прекрасно знал. Напротив, именно теперь, спросонья, они начали испытывать настоящую жажду. Бобик посмотрел на Петровича с немым умозаключением: «Я же тебе говорил, что он с дуба рухнул».
— Сначала дело сделайте, а потом хоть ужритесь, — сказал Колька.
— Что за дело? — одним недовольным голосом спросила троица.
— Рассказываю, — сказал Колька. — Сейчас вы меня втроем аккуратно поднимите, Шпала с Петровичем за плечи, а ты, Бобик, за ноги, аккуратно вынесете на балкон и аккуратно перевалите через ограждение. Только аккуратно и только головою вперед, словно спящего, сбросите с двенадцатого этажа. И гуляйте дальше. Только попробуйте задеть меня обо что-нибудь сильно, — я вас всех переколочу, руки сломаю, водки не дам, вытурю отсюда. Понятно?
Троица не понимала.
— Ты что, Колька, шутишь? — спросил Петрович.
— Ты что, Колька, с дубу рухнул? — спросил Бобик.
— Ты что, Колька, совсем? — спросил Шпала.
— Считаю до трех, — сказал Колька. — Либо дело делаете, либо выметывайтесь отсюда подобру. Иначе я вам руки начну ломать. Раз...
Троица вскочила и перетасовалась: Шпала встал на место Бобика, Бобик на место Петровича.
— Стоп, Колька! Ты чего, Колька? Зачем, Колька? — кричали гости.
— Два, — сказал Колька.
— Колька!
— Два с половиной. Ну что, чмошники? Согласны?
— Погоди! Да, согласны, — неожиданно за всю троицу ответил Бобик. — Детский сад какой-то. А что? — засверкал Бобик белесыми глазками на недоуменных товарищей. — Человеку надо помочь. Если Колян так решил, он уже не отступится. Не мы, так другие... Колька, давай хоть на посошок выпьем, по-христиански.
— Пейте, — согласился Колька. — По-христиански...
Троица одновременно закурила. Бобик разлил целую бутылку на четверых поровну.
— Ну, давай, Колька, за тебя, не поминай лихом! — сказал Бобик.
— Ты тоже пей, Колька! — сказал Петрович, вдруг заплакав. — Давай, родной, на дальнюю дорожку. Если не выпьешь, я в этом деле не участвую. Потому что так нельзя.
Колька залпом, неотрывно глядя на прослезившегося Петровича, а не на водку, опрокинул стакан.
— Закусывать в таких случаях не обязательно, — сказал Бобик.
— Откуда ты все знаешь-то, Бобик? — зло спросил Шпала.
— Знаю, — вздохнул Бобик. — Посидим на дорожку.
Минуту молчали. Колька смотрел на гостей с нарастающей, хоть и наигранной ненавистью, отчего она становилась все опаснее и опаснее для присутствующих.
— Колька, подари мне твою железную клюку, — попросил Шпала.
— При чем здесь, тебе она ни к чему, — отозвался Колька. — Чуть не забыл. Передайте моим, сестре Марии, чтобы у меня на поминках не забыли про кутью, чтобы изюм вдавили бы в рис крестом.
— Передадим, Колька. Само собой.
Колька вздохнул выразительно, звонко, цепко и прилежно лег на потрепанный коврик головой к балкону.
— Не тяните резину, — сказал он снизу строго.
Мужики подошли к распростертому Кольке так, как он их наставлял. Шпала и Петрович схватились за туловище Кольки, Бобик за его ноги. Они думали, что им будет тяжело справиться с грузным Колькой. Именно на его предположительно неприподъемную тяжесть они возлагали последнюю надежду. Но Колька вдруг оказался как пушинка. Они оторвали его тело от пола без особого труда — и их понесло вместе с ним на балкон. Косяка они не коснулись. Они подняли Кольку над перилами горизонтально и оцепенели вместе с ним. Колькины глаза были закрыты, ноздри не раздувались, рот улыбался едва заметной, чужой улыбкой.
— Ну, давайте, мужики, с богом, — шепнул Бобик.
Он задрал свои тощие руки высоко вместе с Колькиными ногами и тут же, как будто с брезгливостью, спешно разжал свои пальцы, подтолкнув ими Кольку книзу. Колька стал падать беззвучно, не встречая в блистающем воздухе сопротивления, кроме липких снежинок.
Троица дико крестилась. Уши всем заложило, и они не расслышали Колькиной встречи с землей.
— Разбился, нет? — спросил Шпала трепетным, детским шепотом, отшатываясь от перил.
— Надо бы проверить, сходить посмотреть, — откликнулся таким же священным шепотом Петрович.
— Чего смотреть? Разбился вдребезги, — громко сказал замерзший Бобик. — Головой вниз летел... Наливай, и сматываемся!
17. Исчезновение
Гайдебуров стоял у окна и полным непоправимого отчаяния взглядом провожал славную фигурку своей дочери, удаляющейся как-то неловко и неравномерно от дома, где последнее время снимал квартиру ее отец-отшельник. Дочь двигалась в сторону метро. Миниатюрную сумку она закинула себе на плечо и придерживала ее одной рукой. При помощи свободной руки она балансировала на скользкой дороге с хрупкой, первой грациозностью. Ее путаная, добродушная походка до мелочей была унаследована от отца, что теперь обрадовало Гайдебурова и заставило его улыбнуться. Дочка двигалась так оживленно и так кротко, что ее мысли можно было прочесть на расстоянии — такими они были ясными и невинными. Гайдебуров видел, что в этот момент она думает о воробье, застрявшем в кустарнике, о жалком и несчастном отце, чье несчастье она не могла понять до конца, о встречном пареньке, отдаленно напомнившем ей выпрямленным силуэтом ее парня, о том, что ей должна позвонить обязательно мать. Вдруг дочка вспомнила, что телефон у нее выключен. Гайдебуров видел, как она растерянно остановилась, покопалась в сумочке, несколько секунд повозилась с мобильным аппаратом и поднесла его к уху, спрятав пушистые, отцовские волосы под вязаную шапочку. Она сделала еще пять-шесть шагов в поле зрения отца и опасливо повернула за угол. Последнее, что различил Гайдебуров в своей дочери, были расклешенные края ее джинсов, которыми она непринужденно подметала грязный снег.
Гайдебуров теперь смотрел на пустынный двор. Воробей, наверное, выбрался из плена. Наверное, невдалеке дочку ожидала мать. Гайдебуров открыл узкую створку окна, перегнулся через подоконник. Крыши автомобилей, черные кроны деревьев, мерзлые сугробы поднимались к самым глазам. Порывистый воздух, нагретый запахом жареной картошки, наполнялся неопрятными городскими шумами. Гайдебуров помнил, как в пионерском лагере его, подростка, притягивал к себе крутой обрыв, что иногда у кромки обрыва вдруг вспархивала красивая бабочка, похожая на танец, и манила за собой, чтобы человек шагнул за ней головою в пропасть, чтобы он почувствовал в полете приближение жара песка, мерного плеска залива, брызг, знобящих спину, губ с диким запахом шиповника и жажды их целовать. Гайдебуров вспомнил, как нелепо недавно погиб Колька Ермолаев. Гайдебуров подумал, отходя от окна, что, наверное, тихая Лета не рада, когда в нее падают без разбору. Гайдебуров вспомнил своего стареющего кота-ипохондрика, который иногда делал вид, что сейчас назло всем выпрыгнет из окна с восьмого этажа. Когда Гайдебуров подходил к этому истошно орущему, чем-то смертельно обиженному животному и старался от греха подальше схватить его, он чувствовал, что кот не столько рвется вперед, в бездну, сколько пятится назад, в руки хозяина. Гайдебурову вызывающее, страдальческое поведение кота казалось поразительно знакомым, внушенным коту извне, может быть, самим Гайдебуровым.
Гайдебуров знал, что состояние, которое он сейчас переживает и которое не может пережить, объективно зовется, кажется, предсмертным. При этом Гайдебуров прекрасно понимал, что, как бы невмоготу ему теперь ни было, решительного, страшного шага он самостоятельно не совершит ни за что, потому что еще буквально слышал в себе эластичные силы жизни. Бодрые, живучие клетки, когда ему становилось особенно тошно, внутри этой тошнотворной безысходности начинали давиться смехом, словно уличали его в том, что из мухи он делает слона. Его так называемый невроз за последние месяцы словно оторвался от психики и стал играть автономную и трагикомичную роль.
Дочка приходила за деньгами. Это были последние деньги Гайдебурова, которых, по его расчету, семье хватит еще на год. Как ни странно, отсутствие финансового запаса было встречено Гайдебуровым с облегчением. Гайдебуров порвал письмо, адресованное жене, которое он так и не решился передать с дочерью. Все эти надтреснутые послания грешили теперь такой архаикой, что ничего, кроме дополнительного презрения, не вызвали бы у его жены. Вера теперь могла бы поверить чьим угодно признаниям, самого прожженного шаромыжника, но только не позднему раскаянию своего муженька.
Две недели Гайдебуров не заглядывал в зеркало. Сегодня он там увидел щетинистого, кислого люмпена с выцветшими, голубенькими глазками. Чтобы придать своему облику некую отчетливость, Гайдебуров подбрил скулы и из заросшего вырожденца превратился в угрюмого и какого-то развратного бородача. Вдруг в зеркале произошли неоправданные изменения: стерлись отдельные сегменты лица, часть плеча, словно они пропали в самом Гайдебурове. Граница исчезновения пролегала зигзагообразно, как будто зеркало треснуло пополам и одна из его половин утратила способность отражать. Гайдебуров отпрянул назад и увидел, что теперь его изображение стерлось и с другого бока: исчезли другое ухо, глаз, новая борода, грудь. Гайдебуров на всякий случай ощупал себя и, обнаружив все невидимое на своем прежнем месте, пришел к выводу, что у него попросту испортилось зрение, причем — всесторонне, и что теперь ему придется обзаводиться очками как от дальнозоркости, так и от близорукости.
Месяц Гайдебуров не покидал своего жилища. За это время выпал снег, прошли выборы, погиб Колька Ермолаев, опротивел Новочадов со своей литературой, Куракин перебрался в Москву. Два раза приезжал сын, приносил хлеб, молоко, макароны и консервы. Домашний арест приучил Гайдебурова к молчанию, от которого поначалу болела голова, а потом прорезалась неумолчная внутренняя речь. Гайдебуров разговаривал со стариком Болотиным, с Верой, с матерью. У старика Болотина он спрашивал, каким бы он, Гайдебуров, был, если бы родился евреем. Вере он говорил, что больше не ревнует ее нисколько. Матери он обещал, что не будет путать венец тленный с венцом нетленным, что сначала поднимет детей, а потом уже будет укреплять память смертную. Старику Болотину он говорил: «Милый Михаил Аркадьевич, разве смогу я вас убить? Мне уже не к лицу и не по летам выставлять себя эдаким Раскольниковым. Да и вы далеко не старуха-процентщица, мысль об убийстве которой то и дело витает в нашем воздухе. Человек и человечество так мало живут, что не успевают стать совершенными, милый Михаил Аркадьевич». Жену Веру он уверял, что его безмолвие теперь равно обету безбрачия, что он теперь не блудит и что не может преодолеть гордыню по отношению к ней: «Не могу, не могу, не потому, что стесняюсь или боюсь унизиться, а потому, что боюсь своим раскаянием натолкнуться на еще большее твое непонимание, может быть, даже на брезгливую оторопь». Матери он пересказывал последнюю их встречу: «Ты помнишь, я к тебе наведывался на Рождество. Из твоего окна было видно, как синим жаром полыхают маковки собора. Ты своим мужским бушлатом стерла с моих ботинок морозную площадную пыль. Потом ты задремала, а когда проснулась, то перепутала меня с моим старшим покойным братом. Потом ты сообразила, что я кто-то из твоих близких родственников, но размышляла, кто именно. Наконец ты подошла ко мне в замешательстве и спросила, как меня зовут. Твоя светлая дрема не заметила невинный подлог. Ты обрадовалась мне и обхватила меня высохшими ручками по-детски крепко. Я еще не видел твои глаза такими проницательными. Во сне ты плакала, потому что его, моего старшего брата, ты узнала, а меня не узнала во мне...» Гайдебуров говорил своей жене Вере, что в начале их сближения, наверное, присутствовал сам Бог, благословивший тихо. Он продолжал: «Звезды вдруг стали двигаться вспять. Им что-то не понравилось в нашей любви. Я выбирал тебя по двум критериям — чтобы ты была красивая и святая. Я хочу, чтобы ты всегда была смуглой, с высокой шеей, с длинными сильными икрами...»
Гайдебуров вышел на свежий воздух как новичок. Жизнь в городе была все такой же неугомонной, корыстолюбивой и безразличной. Судя по всему, она старалась откупиться от настигающего ее тлена торопливыми частными жертвами. Камни пылали червонным золотом. Сквозь патину выступала выпуклая конская слеза. На фронтоне сияла масонская треугольная усмешка. Ангел важно летел на Дворцовую площадь. Счастливые случаи соединялись с несчастными. Даже самых неистовых христопродавцев ноги сами несли в геенну, как на праздник. Душа, вещая в тайном своем поднебесии, становилась пошлой после двух рюмок в миру.
В бистро у вокзала Гайдебуров позавтракал манной кашей. Он укоризненно улыбнулся буфетчице, потому что на самом деле хотел, чтобы она подала ему манны небесной. Редкий и какой-то твердый снег начал падать на его ненасытное тело кромешным подобием спасения. Снег мятно таял на щеках и вызывал из памяти ощущение детского рыдания. На электричке Гайдебуров добрался до залива. Было еще рано, веяло оттепелью, недалеко от берега кипела иордань. Как йоги, торчали рыбаки. Гайдебуров вспомнил, как он и Вера, еще молодожены, шли здесь по хрупкому льду, словно подранки. Лед урчал под ними, точно голодный живот. Гайдебуров был под хмельком, его тянула беда, его тянула прорубь. Вера отстала, он слышал ее крик, что «мы уже не дети», что «не стоит глупить». Он оглянулся и не мог различить ее в снежном терновнике. Прибрежный ветер был слабым заморышем, из тех, что только и могут свечку задуть...
Возвращаясь, Гайдебуров смотрел из электрички на несущиеся мимо автомобили. В них ехали люди, неразрывными нитями связанные с вещами, предметами, интересами и законами существования. Эти люди прекрасно владели ремеслом жизни. Гайдебуров вдруг осознал, что все его беды происходили из-за того, что он-то как раз не владел этим спасительным ремеслом. Его обволакивала и наполняла странная свобода, — свобода неведения, когда не знаешь и, кажется, не хочешь знать, что с тобой будет дальше, в следующий миг.
Еще было светло, когда Гайдебуров, отдавая дань красивой жизни, пил кофе с коньяком в кафе, кишащем в основном жизнерадостными студентами. Глядя на них, он думал о том, что больше всего боится не страданий болезни и даже не самой смерти, а взглядов живых людей, которые с любопытством и омерзением будут рассматривать его труп.
Сквозь стеклянную витрину Гайдебуров заметил какой-то переполох на улице и вышел из кафе. Оказалось, что на асфальт на проезжую часть замертво пала лошадь. Рядом с ней плакала девочка-подросток, наездница. Распластанное, пегое лошадиное тело выглядело таким огромным и таким чужеродным в центре Петербурга, что у взирающих на него людей вызывало не столько жалость, сколько недоумение и даже протест: как можно, мол, допускать такое на одной из центральных улиц, как можно таким зрелищем оскорблять чувства горожан и гостей города. Особенно неприятно было то, что мертвая лошадь продолжала смотреть на мир с животным потрясением. Видимо, она пожевала слюнявой пастью оборванный электропровод, приняв его по неопытности за ветку ивы. Видимо, она была молода и полна дурачеств. Видимо, перед смертью, прядая ушами, лошадь сделала попытку улыбнуться виновато и чистосердечно своей маленькой хозяйке, которая теперь ревела и которую теперь бил озноб. Эта несовременная жанровая сценка почему-то приободрила Гайдебурова. Он увидел в ней пусть и скорбную, но идиллию. Он и сам согласился бы теперь, как эта молодая лошадь, ступать за своим степенным ангелом след в след, беспрекословно веря и подчиняясь ему, забредая в неизвестные, не отмеченные на карте края...
Когда стемнело, Гайдебуров очутился в плохо освещенном, ампирном переулке. На весь переулок горел один-единственный фонарь. Его белый свет зализывал черные слюдяные лужицы, водянистые отпечатки, скол на поребрике. Летел снег, легкий и какой-то сухой, как прах. Было слышно, как поблизости по-пластунски ползла Нева. В старых каменных домах с толстыми стенами было по-мещански тихо.
Гайдебуров остановился напротив окон, напротив которых он уже стоял много лет назад. Незадолго до Гайдебурова рядом, в двух шагах, уже топтался какой-то ревнивый соглядатай. После него остались нервные, кособокие следы, как будто ботинки ему нестерпимо жали. У цоколя валялись длинные окурки, которые еще, казалось, пыхали досадой. Вероятно, таинственный ревнивец проклинал вот эти большие окна напротив. Потом он плюнул и ушел. В окна вставили белые стеклопакеты. Но они по-прежнему, как и много лет назад, не были зашторены. В них горела прежняя, раскидистая люстра, лицом к лицу стояли две тени, мужская и женская. Мужская потрясала кулаками, женская прижимала ладони к груди. Мужская стала чесать патлы. Гайдебуров перешел на другую сторону под большие окна и с силой пнул колесо заснеженного джипа. Завыла фальцетом автомобильная сигнализация. Гайдебуров вернулся на свое место в темноту. Плотная мужская тень выскочила из парадной на босу ногу, обежала оглашенную машину, заглянула под нее и только после этого ее утихомирила. Сардоническая змейка оживила лицо Гайдебурова.
Через несколько минут раздались чужие, сплошь нетрезвые голоса. Три человека вышли на свет и встали под фонарем. Двое были одеты в черные, с овчинными воротниками куртки, третий был в длинном бежевом пальто, с непокрытыми волосами. Первый, в вязаном «петушке» с полосками «Адидаса», то и дело поводил широкими, прямоугольными, по-блатному кокетливыми плечами. У него было примятое, отливающее рыжей щетиной лицо. Второй, в серой фетровой панаме, отворачивался от света, держал руки в карманах и постукивал ногой по свежей ледяной корочке. Человек в пальто смотрел на широкоплечего и загибал себе пальцы на одной руке при помощи другой. Вдруг широкоплечий, как ребенку, стал поглаживать голову человеку в пальто, ласково перебирал ему красивые черные волосики, словно успокаивал того и, может быть, даже жалел. Внезапно широкоплечий, нанес беспощадный тумак в середину лица человека в пальто. Тот упал в приготовленные руки второго, в фетровой панаме, который сразу поволок бесчувственный бежевый тюфяк прочь от света, за угол, к набережной. Гайдебуров подумал, что после такой атаки человеку трудно будет выжить. Широкоплечий смотрел в направлении Гайдебурова, но, кажется, сомневался, есть там кто живой или нет.
Наконец выплыла огромная луна. Сияние ее на злодейском пятачке усиливалось электрическим освещением. Рядом оставалась лишь одна темная точка — точка предстоящей встречи. Трепет перед встречей был велик. Так и хотелось Гайдебурову перекрестить смертельную тревогу, и он сделал бы это, если бы это не было так несообразно со временем и местом действия. Он посмотрел на часы и пожалел, что не отдал их сыну. Гайдебуров пошел в сторону широкоплечего, в «Адидасе». Он думал о том, что совершенно не важно, как мы отдаем Богу душу, важно, что мы при этом вспоминаем. Он вспоминал тонкое запястье сына с родимым пятном.
Гайдебуров остановился у самой темноты. Дальше царил свет от фонаря. Точка встречи выросла в столб и стала надвигаться на него. Что дальше будет, Гайдебуров не знал, но ему приятно было чувствовать свое исчезновение. Он ждал.
Посреди чистой ночи начинало клокотать небо, как чаша, полная кипящего грога.
18. Вера
По совету Марии Вера мыла голову отваром сушеных океанических водорослей.
Вера мыла голову и проникалась решимостью, настоянной на чужестранной растительной горечи и душевной усталости. «Всё, — думала она, массируя себе голову, — с меня хватит. Я не могу больше так жить! К черту этого проклятого муженька! Развод и девичья фамилия! К черту этого Гайдебурова, который испоганил мне жизнь! К черту всю эту гайдебуровщину!»
«Гайдебуровщиной» Вера стала называть такой способ существования, когда зрелый мужчина превращается в тряпку и при этом корчит из себя некого мученика, непонятого, отверженного, который сам себя с мазохистским сладострастием рубит под корень, ожидая втайне, что его все-таки в последний момент окликнут и приголубят. «Как он не может понять, что человек человеку волк? Так было и так будет всегда!» — не сомневалась Вера.
«Гайдебуровщиной» она называла противоречие между непростительной виной и не соизмеримыми с ней, легковесными, почти декоративными угрызениями совести. «Гайдебуровщина» — это, с одной стороны, безволие и тревога, верное понимание мира и нежелание противостоять его мерзостям, а с другой стороны, это какое-то малопочтенное фиглярство и самодовольство, бесчестие и вероломство. «Гайдебуров не может любить, Гайдебуров не желает быть приветливым, Гайдебуров не в силах быть стабильным и размеренным», — выносила окончательный приговор Вера. Ей опротивела не только его пожухшая и потухшая внешность, но даже его фамилия. «Что за тарабарская фамилия? — негодовала Вера. — Тоже мне «Гай де Буров»! Благородство, видите ли, кровей! Уродство, язык сломала, пока привыкла. К черту! Хочется простоты, ясности, надежности. Хочется иногда, наконец, элементарных телячьих нежностей!»
Вера высушила волосы и уже на ощупь, а затем и в зеркале обнаружила их явную пышность и небывалую густоту. С ней случилось чудо. Она оглядела массажную щетку, которой только что причесывалась, и не нашла меж ее зубьев ни одного своего выпавшего волоска.
— Фантасмагория! — воскликнула Вера, расцеловала упаковку с волшебными водорослями и не сразу от счастья набрала телефонный номер Марии.
К сожалению, телефон Марии не отвечал. Вера еще раз посмотрела на себя в зеркало и убедилась, что ее волосы выглядят, как в молодости, пушисто и отливают глубоким, многослойным, здоровым сиянием. Правда, ее огорчило то, что от волос начал исходить какой-то лекарственный, ботанический запах. Она попшикала на прическу духами и сквозь аромат «Шанели» опять различила дуновение старого гербария. Она вторично, с некоторой опаской, окропила себя любимым парфюмом, который теперь уже заглушил не только все близлежащие запахи, но и само Верино обоняние. «Ну и пусть, — стала успокаивать себя Вера, — пусть я немного буду пахнуть русалкой. Я думаю, что это пройдет. Надо будет уточнить у Марии, может быть, я неправильно промыла волосы. Зато какие они красивые! И вообще, какая я все-таки хорошенькая!» Вера еще раз позвонила Марии и еще раз удивленно прослушала длинные гудки. Вера с каким-то дополнительным чувством, как о близком человеке, стала беспокоиться по поводу внезапного отсутствия Марии.
С брезгливым содроганием Вера вспомнила вчерашний инцидент, потасовку Марии с пассией покойного Кольки Ермолаева. Вера вчера приехала к Марии, которая теперь жила в отремонтированной, бывшей квартире брата Кольки, и на лестничной площадке, выйдя из лифта, увидела двух дерущихся женщин. Обе вцепились друг другу в космы и выли одинаковым, несчастным, писклявым воем. Юная, белесая, костлявая Колькина пассия била своим сапожком по ногам Марии и плевала в ее сторону. Вера им закричала: «Прекратите!» Ее по-настоящему напугало, что женщины вот-вот выдерут друг другу волосы, как траву из земли, и что утрату волос уже потом ничем не компенсируешь. Она подбежала к драчуньям и стала лупить сумочкой и одну и другую по рукам. Она опасалась подступать к ним вплотную и разнимать, потому что, видя их неистовство и всклокоченные головы, Вера тревожилась за собственные горемычные волосы. Женщины отпустили друг друга, когда выдохлись. Колькина пассия напоследок залепила Марии оплеуху и плюнула ей в глаза. После этого она вызвала лифт и уже из кабины лифта успела крикнуть утирающейся Марии: «Тебе не жить здесь, сука! Тебе вообще не жить!» Колькина пассия со спины выглядела долговязым сутулым мальчиком в женской, с меховой аппликацией, дубленке и на каблуках. Вера обратила внимание на то, что размер обуви этой драной кошки был во всяком случае не меньше сорок второго.
В тот же вечер к Марии заканчивать работы пришел электромонтер. Ему оставалось провести свет на балкон. Вера увидела его в робе и берете. Он был с усиками, небольшого роста, стройный, с какими-то гимнастическими, хорошо фиксируемыми движениями. Если он поворачивался, то поворачивался под прямым углом, если наклонялся, то наклонялся низко, не сгибая коленей. Голову он держал ровно и высоко над плотными, какими-то уютными плечами.
Пока Мария в открытой настежь ванной приводила себя в порядок и рассказывала Вере о последних днях Кольки Ермолаева, об угрозах «этой бляди Иветты», о Новочадове, пившем вторую неделю взаперти на Петроградской, о пройдохе Куракине, украсившем собою теперь московский истеблишмент, Сергей Николаевич (так звали электрика) закончил свою работу и пришел сменить Марию в ванной комнате.
Веру заинтриговало свойское поведение Сергея Николаевича в новом жилище Марии, и, когда приятельницы оказались одни на кухне, Вера уморительными гримасами стала показывать на стенку, отделяющую кухню от ванной.
— Вовсе не то, что ты думаешь, — сказала Мария почему-то серьезно, ставя на стол угощение.
Сергей Николаевич появился на кухне в ярко-голубой рубашке с коротким рукавом, с откинутыми назад, смоченными гелем, черными, толстыми волосами. В сочетании с его тщательными усиками его прилизанная голова, светящаяся, как мокрый уголь, казалась чересчур моложавой и поэтому какой-то скабрезной. Вере стало смешно оттого, что весь Сергей Николаевич, человек безусловно средних лет, представлял собой комбинацию из разновозрастных характеристик. Фигура у него была красивой и вертлявой, как у юного самовлюбленного атлета. Жесткое, простое, немного южное лицо без преувеличения принадлежало нарочито энергичному, немолодому мужчине. Глаза были наполовину наивными, наполовину гневливыми. Общаясь с женским полом, он привык, еще будучи подростком, кривить одну сторону рта обольстительной, состарившейся улыбкой. Несмотря на то что и в мыслях его Вера видела всю ту же разномастную мешанину, впечатление у нее от Сергея Николаевича в целом складывалось довольно приятное, как от чего-то внутренне незамысловатого и внешне чистоплотного. Она поинтересовалась, не сможет ли и ей он помочь с электропроводкой в квартире.
— Отчего же? Смогу. Здесь я, кажется, все закончил. Не так ли, хозяйка? — почему-то игриво спрашивал Сергей Николаевич у Марии.
— Да, вроде бы теперь уже всё, — ответила Мария.
— А что же ваш муж?.. — как будто бы не договорил, обращаясь к Вере, Сергей Николаевич.
— Муж объелся груш, — сказала выглядевшая радостной и привлекательной Вера.
— Понятно. Тогда, конечно, поможем, — улыбнулся по-своему весело Сергей Николаевич.
Внезапно, следя за рекламой по телевизору, он начал говорить, что очень хочет посмотреть новую «Матрицу», что там такие классные съемки, такая классная игра артистов, что вот такие фильмы надо снимать, а не то, что наши снимают, всякую гадость. Вера вспомнила, что на эту новую «Матрицу» ее тянул на прошлой неделе в «Колизей» ее сын Виталик.
— Действительно хорошее кино? — почему-то уточнила Вера.
— Супер, — ответил Сергей Николаевич, евший торт непропорциональными кусками: то возьмет большой кусок, то несколько крошек.
— Надо бы сходить посмотреть, — сказала Вера.
— Так вместе и сходим, посмотрим, — засмеялся с летящими сладкими капельками Сергей Николаевич.
— Скоро на видеокассетах появится, — заметила Мария, переглянувшаяся с Верой.
— Нет, на видео не то. Не тот эффект, что на большом экране, — пояснял Сергей Николаевич.
— Давно я не была в кино, — вспомнила Вера и потянулась, откидывая локти назад.
— А что так? Не с кем? — все более жеманно интересовался Сергей Николаевич.
— Почему? Что я произвожу впечатление, что мне не с кем? — как будто в угоду Марии сказала Вера.
— Нет, я убежден, — говорил Сергей Николаевич, — хорошее американское кино надо смотреть только на больших экранах в современных кинотеатрах. Сидишь себе, наслаждаешься звуком, картинкой. Последние ряды для поцелуев. Ха-ха-ха...
Вера чувствовала себя неловко, когда в никчемный разговор начинали вкрапливаться разного рода непристойности или, быть может, совершенно безобидные глупости, которые в тот момент могли показаться ей непристойностями.
Когда Сергей Николаевич обратил внимание на то, что у мужчины, стоит ему глазами соприкоснуться с глазами прелестной женщины, резко подскакивает количество тестостерона в организме (Сергей Николаевич для наглядности показал, как это происходит, взглянув, как он думал, загадочно на Веру, и остроумно, как он думал, подпрыгнув на месте), Вера начала собираться.
— Вас не надо провожать? — спросил Сергей Николаевич, который теперь, было видно, предпочитал остаться с Марией, нежели куда-то идти.
— Не нужно, — сказала Вера и засмеялась открыто и красиво, что у нее получалось особенно очаровательно, когда смеяться ей совсем не хотелось.
Они договорились, между тем, с Сергеем Николаевичем о том, что он придет как-нибудь к ней домой чинить электричество, предварительно созвонившись.
Вере почему-то сильно не понравились руки этого Сергея Николаевича. Они были короткопалыми, хлипкими и невзрачными, как обрубки. «Как же он работает такими маленькими ручками? — недоумевала Вера. — Мария говорила, что он мастер своего дела».
Вера вспомнила руки мужа — большие, чувствительные, теплые, — единственное, что в Гайдебурове еще для Веры оставалось не безобразным.
В последнее время Вере нравились мужчины, прежде всего, степенные и нравственные. Ей нравилась в мужском теле умеренная, бодрая, цветущая дородность. Ей нравились строгие, четко прорисованные мужские лица с добрыми глазами. Ей нравилась на сильных, сухих мужских губах улыбка, которая отражала с одинаковым обаянием давнее, молодое, милое озорство и непререкаемый, разумный, житейский опыт. Вера любовалась мужчинами с неторопливой, неброской походкой, с пружинистой, слегка усталой осанкой, которая приспособлена для того, чтобы держать удары судьбы, и которая на всю жизнь становится родной.
Вере мерещился секс сумбурный, счастливый, спасительный. Она любила, чтобы мужское дыхание рядом с ее ухом было прохладным, чтобы горячим и мятным было плечо, на котором комфортно могла бы примоститься ее голова. Она любила голос, полный рассудительных, ласковых, иногда смешливых ноток. Она сходила с ума от объятий, в которые заключается и тело и душа разом.
...Вера в «Идеальной чашке» крохотными глотками допивала кофе. Сквозь широкое стекло она наблюдала за тем, как знаменитый артист Олег Меньшиков на противоположной стороне улицы ловил такси. Неподвижным, телевизионным лицом, подурневшим от мимического недовольства, он парировал памятливые взгляды прохожих. На нем была какая-то куцая, меховая, без козырька, шапочка, как у старозаветных арестантов или гусар, и длиннополое, до пят, великолепное кожаное пальто. В руке он держал огромный сверток. Вере показалось символичным, что вполне благополучный артист Меньшиков и ее неудачливый муженек Гайдебуров в некоторые минуты жизни, вне зависимости друг от друга, могут скроить абсолютно однотипное выражение лица. Со стороны может показаться, что они бывают раздражены не только текущей суетой, не только своими близкими и самими собой, но и вообще этим миром и мироустройством, и еще чем-то или кем-то существенным.
«Что-то случилось с мужчинами, — подумала Вера. — Конечно, с ними что-то произошло».
Она на всякий случай еще раз внимательно огляделась вокруг, не пропуская ни одного мужского силуэта, и вдруг догадалась, что сидит в зале для некурящих. Она поднялась и, захватив свой пуховик, направилась в смежный зал — для курящих. Ей приятно было двигаться по-женски импозантно — в приталенном, с замшевой оторочкой, черном, шерстяном жакете, в длинной, мягкой велюровой юбке, в замшевых, теплых, с серебристой шнуровкой ботинках. Ей приятно было раскачивать из стороны в сторону бедрами и новыми, длинными, темными локонами.
...Вернувшись домой, Вера в какой-то неспокойной тишине застала дочку за уроками, а сына Виталика молчаливо уставившимся в выключенный монитор.
— Что, компьютер сломался? — спросила мать.
— Нет, — ответил сын, не поворачиваясь к ней.
— А что тогда случилось?
— Есть нечего.
— Не придумывай, полный холодильник.
— Ты последнее время вообще перестала готовить, — сказал сын и наконец-то развернулся в ее сторону на крутящемся стуле.
Она увидела оскорбленные глаза. Такими они бывали в детстве, когда Виталик собирался заплакать.
— Сейчас приготовлю, — сказала Вера. — Что с тобой?
— Я звоню отцу. Он не отвечает. Третий день.
— Что здесь удивительного? Куда-нибудь пропал. Что, это первый раз?
— Не первый, — ответил сын с какой-то резкой задумчивостью.
— Объявится. Ты что, Виталик, скучаешь по нему? — спросила Вера зачем-то с иронией.
— Нет, не скучаю, — сказал сын и добавил с намеренным порицанием: — Тебе его не жалко. А мне его жалко.
Оскорбленные глаза сына стали быстро и мокро блестеть. Веру злило, что и сын ее, кажется, становится непонятливым слюнтяем.
— А меня тебе не жалко? — спросила мать.
— Мы здесь вместе. А он совсем один, — ответил сын.
Вера смотрела на сына так, как смотрела всегда, когда что-то ей было противно. Она пошла на кухню, не переодеваясь. Она слышала, как сын обувался в прихожей.
— Ты куда? — спросила мать.
— Развеяться.
— Не долго. Скоро будем ужинать.
«Развеяться» было словечко гайдебуровское, папино и предполагало его исчезновение порой и на день, и на два. Вера догадывалась, что Виталик теперь предпримет попытку инстинктивно пройти по местам «боевой» славы отца. Виталика угнетало то обстоятельство, что Новый год, который был уже на носу, семья встретит без отца. Такого отступления от правил история их семьи еще не знала. Виталик опасался, что это нарушение обрушит остатки согласия между матерью и отцом бесповоротно. Виталик любил свое детство, в течение которого новогодние праздники были одними из самых счастливых дней. Виталик любил то время, когда отец и мать любили друг друга и, любя друг друга, души не чаяли в своих детях.
Вера чувствовала, что Виталик теперь помчится искать отца на Невском проспекте. Виталик полагал, что его отец посещает самые фешенебельные бары и рестораны города. Между тем Вере было известно, что это далеко не так, ей было известно, что последнее время Гайдебуров пристрастился к гадюшникам.
Вера представляла, как Виталик пойдет от кабака к кабаку, как будет объяснять секьюрити, что ищет своего отца Гайдебурова Леонида Витальевича, который любит заглядывать в их заведение и который теперь, вероятно, отдыхает именно здесь. Администраторы будут пожимать плечами, некоторые будут пропускать вежливого юношу в залы, откуда он будет выходить ни с чем. Вера знала, что какие-то из ресторанов класса «люкс» Виталику понравятся особенным образом, его очаруют их интерьеры и атмосфера; и это его непреднамеренное появление в роскошных злачных местах, возможно, станет первым искушением красивой жизни...
В конце своих поисковых блужданий Виталик очутился в небрежном, безлюдном переулке с одним горящим фонарем. Ему показалось, что здесь он настиг запах отцовского одеколона. Виталик стоял у обледенелой водосточной трубы на грубой гравировке оттаявшего чугунного люка и вглядывался в застывшие отпечатки ног поблизости на тротуаре. В один из следов он ступил, как в матрицу. Этот след был его или его отца, потому что у отца были такие же ботинки «Ллойд», такого же, как у сына, размера. Рядом окончательно замерзла черная, фосфоресцирующая лужа. Из проема между старинными домами с арочными окнами от набережной дул мокрый, харкающий белыми хлопьями ветер. Сквозь мутные тучи сквозили пучки отдаленного света. Виталику стало ясно, что сейчас из-за угла от Невы в переулке появится фигура его отца в клетчатой, не очень теплой, осенней кепке.
В кармане у Виталика заиграл и забился мобильный телефон.
— Аллё, аллё, — отозвался Виталик.
— Ты где, Виталик? Возвращайся, пожалуйста, домой, — услышал он близкий, любимый голос. — Ужин стынет.
Повести
ОТ ХАРИТОНОВА УШЛА МАТЬ
1
От Харитонова ушла мать. Ушла, как Лев Толстой. Эмоционально, задыхаясь от всепрощающей кровной обиды.
Эту новость Харитонову сообщила по мобильному телефону в поезд неуловимо ироничная, машинально соблюдающая правила игры его жена Людмила, от которой в его отсутствие ушла совершенно безвредная его мать.
Это был не первый ее уход, не первая чистосердечная истерика. Мать уходила и раньше, многократно, как заведенная. В девичестве она уходила от своей матери, в замужестве от мужа, в старости от сына. Уходила она не в назидание и не назло, — а потому, что ей становилось вдруг невыносимо противно отстаивать свою правоту. Уходила куда глаза глядят, в густо населенную безвестность, которая тянула к себе все сильнее и сильнее, как весенняя тьма, намагниченная жаркими и смешливыми голосами.
Матери казалось, что чем больше внимания ей оказывали, тем настоятельнее от нее хотели избавиться. Она одинаково плохо переносила и милость, и благодарность. Второе даже больнее. Ее мнительность нельзя было назвать тщеславной, наоборот, — насущной и негордой. Когда ей предоставляли свободу действий, она расценивала ее как уничижение. С матерью надо было балансировать на грани заботы и напускного манкирования ее присутствием. Она любила панибратскую, свойскую опеку. Людмила, технократически учтивая и формально близкая матери мужа, которую она всю жизнь звала Александрой Ивановной, таких ухищрений отзывчивости, разумеется, не проявляла, главным образом потому, что считала все это блажью. Свекровь, вероятно, догадывалась, чем считала ее мучительные демарши сноха. Мать хотела бы ей объяснить, что это вовсе не дурь, вернее, не только дурь, но понимала, что ее объяснения никого не растрогают и ничего не объяснят. Мать понимала, что Людмилу не за что было не любить, что Людмила во всех отношениях была если и не святая, то уж положительная женщина безусловно. «Хорошая», — говорила мать о Людмиле. Это была высшая в ее устах похвала.
После каждого ухода мать конфузливо каялась, как маленькая девочка, подтрунивала над собой, оправдывалась, что это все нервы, что «жизнь, ты ведь знаешь, Люда, какая у меня была с отцом», и ждала, когда ее приголубит сын, когда она положит свою голову с молочными волосами на его грудь...
Харитонов попросил Людмилу, чтобы Леша, их сын-подросток, сбегал к метро посмотреть бабушку. Он знал, что она обычно во время своих надрывов любит бродить по рынку у метро, что ее утешают сырые растительные запахи, обилие смутно знакомых лиц, торговые ряды с пыльной картошкой, цветы, жизнерадостная базарная сутолока и обстоятельные восточные продавцы, что дальше метро она никуда не уйдет, а в метро она ездить боится.
Впереди была ночь. Поезд в Питер прибывал рано утром. Целую ночь, если что, Харитонов ничем не смог бы помочь своей матери.
Через час Людмила успокоила мужа: мать нашлась, звонила какая-то пенсионерка, с которой мать познакомилась на улице, и сказала, что Александра Ивановна находится у нее, что она накормила ее ужином и уложила спать, потому что та находилась в крайне растрепанных чувствах. Харитонов представил себе эту сердитую интеллигентную ленинградку, белолицую шагреневую театралку, перед которой мать вывалила свою душу, видя, что той было приятно проявлять сочувствие к сверстнице, на чью развороченную судьбу можно было поглядывать свысока. Харитонов знал, что утром мать поинтересуется, есть ли внуки у этой ахматовской женщины, на что та целый час будет повествовать о способностях своих внуков. Когда же мать вдруг спросит, какие у них глаза, ахматовская женщина подожмет губки и соврет, что у Леночки голубые, а у Стасика иссеро-зеленые в отца.
2
Сергей Николаевич Харитонов возвращался из командировки транзитом через Москву.
Москва стала такой сангвинической, кипящей утробой, что Харитонову захотелось вдруг в ней раствориться, как какому-нибудь хлебному мякишу в кислой среде. Раствориться и никуда не возвращаться. Харитонов замечал здесь людей, которые предпочитали инстинкту самосохранения потребность в фатализме. Харитонова молодило первобытное состояние абсолютной анонимности — ни один человек не знал его в Москве.
Все три часа, что оставались до отправления поезда, в Москве лил теплый отвесный дождь. В Питере таких перпендикулярных дождей не бывает. В Питере, смешиваясь с ветром, дождевая влага летит как попало, сразу с разных сторон и даже от самой земли. Харитонов шел в мокрых, расцвеченных сумерках по проспекту Сахарова и не знал, что это проспект Сахарова. На проспекте Мира в вестибюле одноименной станции метро он наблюдал за потоком отрешенных москвичей, пока не привлек к себе милицейский профилактический взгляд. Потом в раскисших, увеличившихся туфлях он шлепал по какому-то квашеному переулку до широкого слюдяного асфальта, до огромной каменной ели, до басурманских башенок, в универмаге на первом этаже пил кофе из пластмассового стаканчика, с удовольствием наблюдая, как быстро обсыхают штанины. Он двинулся по Краснопрудной улице прочь от вокзалов. Шел по улице Гаврикова, не зная, что она так называется. В полуподвальной кафешке смотрел футбольный матч, участниками которого были сплошь неизвестные игроки. Обессиленный, с лицом, приобретшим догадливую законченность, он побрел восвояси, издали чувствуя вонь прелых шпал. Рядом на полном ходу водяным желтым светом, как кипятком, обливались автомобили. Толпа спускалась в подземный переход. Вокзальные доходяги поворачивали свои червивые физиономии в сторону Харитонова с беспощадным интересом. Они знали, что мужчина растерян, что человек топчется на месте, что приезжего что-то удерживает здесь, что он слишком робок для Вавилона — матери блудницам и мерзостям земным.
«Надо было ехать в Москву, — думал Харитонов. — Поехал бы после школы не в Ленинград, а в Москву, и все было бы совсем по-другому, не так, как теперь, совершенно все по-другому. Ведь я и планировал ехать именно в Москву, а не в Ленинград. И мать мне говорила, чтобы я ехал поступать именно в Москву. Она говорила, что в Москве все чужие, а в Питере есть свои, и есть чужие. Меня встретило питерское насморочное марево и судорожные листики. Помню, как мне сделалось неуютно. Я упал духом — зачем я сюда прилетел? Мне стало ясно, что я ошибся. Это первое, верное ощущение ошибочности выбора не истощится никогда».
3
Харитонову выпала верхняя полка. Такую же верхнюю полку занимала красивая и строгая девушка. Ее тревожная осанка, брезгливое молчание и неприступный макияж выдавали натренированный характер. Она напомнила Харитонову Ольгу Беспалову, его школьную пассию. Вероятно, он был готов к подобной аллюзии. Он не вспоминал о Беспаловой Ольге двадцать пять лет. Однако ее облик до сих пор пылился в его памяти символом неизбывности. Этот томительный символ выбирается раз и навеки.
Обладателями нижних полок были сорокалетние приятели под хмельком с одинаковыми дипломатами. Когда Харитонов достал спортивные штаны в целлофановом пакетике и посмотрел на девушку, он понял, что думала о своих соседях по купе юная москвичка. Она думала, что ей придется ехать в малоприятной компании оторопелого провинциального коммивояжера в заношенных трениках и двух пьяно хорохорящихся мелких предпринимателей. Она думала о них как об особях мужского пола средних лет, списанных со счетов жизни. Она видела, что вместе с утратой обаяния, позитивного взгляда на вещи, элементарной опрятности они стремительно теряли остроту либидо и приобретали созерцательную тупость. Если им и нужна была еще женщина, то лишь для сексуального самообмана и социальной саморекламы.
«Коза московская! — хихикнул один из попутчиков, тот, что пониже, когда дверь в купе закрылась и в ней сердито провернулся замок (девушка попросила выйти мужчин, чтобы она смогла переодеться). — Отдрючить бы тебя хорошенько по полной программе в порядке живой очереди».
У низкого кисти рук были белые и круглые, потому что все пальцы были одной толщины и почти одной длины. Низкий зарастал несимметричной, седовато-сивой бородой. Он, по всей видимости, принадлежал к тому роду ипохондриков, которые к респектабельным незнакомцам привыкли относиться с преувеличенным доверием, а к знакомым и особенно близким людям — с истеричной подозрительностью. Его долговязый, рахитичный коллега, когда произносил слова, делал такое брюзгливое лицо, как будто вдохновенно играл на саксофоне. «Не помешало бы такую поиметь», — согласился рахитичный мрачно и отстраненно.
Когда в туалете Харитонов менял брюки на тренировочные адидасы, он почувствовал телесную гниль, идущую от его ног. Носки, высыхая, белели солью. Он снял их и, завернув в освободившийся целлофановый мешок, спрятал в карман брюк. Он ополоснул ступни в раковине. Гибкость, которую он при этом омовении проявил, вызвала боль в подбрюший. Опять дал знать о себе мочевой пузырь. Он вспомнил, что так и не забрал анализы в поликлинике. Эта невидимая урологическая боль то и дело возникала по нарастающей последние полгода. Ее рецидивы совпадали с физическим дискомфортом и слякотной погодой. Он посмотрелся в зеркало. Ольга Беспалова его теперь бы не узнала. Лицо стало тестообразным. На скулах появились какие-то оспины, которых раньше не было или они не были так примечательны. Эпителий ложился корявыми слоями. Нос покрупнел, и его кончик, как у артиста Депардье, стал лукаво раздваиваться. Волосы, все еще черные, толстые и прямые, с крошками перхоти, как бы он их ни мыл, отливали не светом, а засаленным лаком. Шея становилась вялой. Раковины ушей заросли зрелым мхом, который он все время забывал подстричь. Чужими стали глаза. Они не выцвели, но их чернота теперь накалялась не молодым бессмертием, а тоскующим сарказмом и близостью ночи. Туловище у него было плотное, поэтому на фоне толстых плеч, крупных рук и мясистой груди живот если и выпирал, то незначительно. Ходил Харитонов так, как будто ему трудно было шагать широко и весело.
В купе горел один ночник внизу. Коммерсанты сидели бок о бок на полке под Харитоновым, шептались и поочередно отхлебывали из фляжки. Девушка в наушниках лежала на спине, закинув руки за голову. Открытые ее глаза следили за воображением. Глаза у нее были ясными и карими, подведенные лиловым карандашом. Их какая-то неприязненная твердость нивелировалась серыми тенями и липкой черной тушью. У жены Харитонова, при всей ее ранимой белесости, всегда были канареечно-радостные веки. И рот жена почему-то любила увеличивать алой помадой. У этой москвички темно-красными были лишь впалые щеки, а узорчатые губы только что облизанными. Она лежала в майке без рукавов, и ее самым притягательным местом теперь были сильные, ровно тонированные подмышки. С недавнего времени отношение Харитонова к женскому полу стало возвращаться на круги своя, к юношеской недоуменной жалости, когда ему было грустно смотреть на беременных женщин, старушек в платочках и своих некрасивых одноклассниц. Теперь ему почему-то стало жалко эту волевую москвичку в гроздьях каракулевых локонов. Она лежала, по-пуритански вытянувшись и прикрывшись простыней, как опытная жертва. Ему хотелось оградить ее от потасканных спутников, отделить овец от козлищ. «Наши плоти, — размышлял Харитонов, — тлетворны, а привычки паскудны. Мы состоим из тухлой крови, желтого сала, углекислого газа, тяжелой воды, отходов разврата, напластований зависти, двоедушия, глистов самодовольства, метастазов смутного времени, потерянности, никчемности, частичек таинственной теплоты».
Харитонов знал, что оба мелких бизнесмена снизу будут храпеть. Харитонов обычно тоже выделывал рулады, но этой ночью ему не удастся уснуть крепко. Он будет тихо дышать. Всю ночь будет прибывать и убывать боль, словно море. Он готовился к сумбурной дремоте, выморочной, как у прилежного, но ослабевшего часового.
Рахитичный, очухиваясь среди ночи от похотливого похмелья, будет демонстративно будить нещадно храпящего друга, вставать к ворочающейся юной москвичке, облокачиваться о ее полку и насмешливо просить у нее прощения за беспокойство. В эти моменты Харитонов будет приподнимать свою голову, непримиримую в темноте, и смешивать карты рахитичному. Харитонов боялся, что нижние полки не ограничатся храпом и перегаром, — он боялся, что они начнут портить воздух оглушительно и основательно. Он боялся, что от их миазмов девушка заплачет. Он помнил, как после их свадьбы с Людмилой, в медовый месяц, когда они деликатно привыкали друг к другу, он, запираясь в туалете, стеснялся испражняться громко.
Внизу несколько раз кряду пили под сурдинку за чье-то царствие небесное.
«Рак».
«Да, рак. Человек сгорел за полгода».
«Сколько ему было?»
«Пятьдесят с небольшим».
«Я ведь видел его на юбилейных торжествах».
«Молодая жена осталась с ребеночком».
«Любил он это дело, жениться».
«Четвертый брак».
«Переборщил, бог троицу любит».
«Последний месяц, когда он уже умирал, я ему привозил бумаги на подпись — он же оставался все еще в должности. Я ему как-то два листка положил на одеяло, а он мне говорит: «Убери их, мне больно». Два листка бумаги — а ему больно».
«Рак».
«Да, рак. Пойдем в вагон-ресторан, помянем. Тельце высохло, а голова стала огромная, мосластая».
«У меня тоже, наверное, рак», — подумал Харитонов буднично. Он проглотил со слюной две таблетки американского аспирина, приноравливаясь к перекатам ночной мочеполовой боли.
Девушка, казалось, не спала, а медитировала. Она так растянулась, до сквозистости, как будто надеялась оторваться от полки и в телепатической прострации покинуть это грубое место.
«В сорок лет, — думал Харитонов, — молоденьких девушек надо покорять не столько телом, сколько духом. Но при этом духовные результаты должны быть впечатляющими, великими. Умеренные проявления духа не могут соперничать со столь же умеренными плотскими».
Харитонов желал ехать долго, бесконечно. Россия, слава богу, пространна и протяженна. Просыпаясь от качки, он смотрел на часы и радовался, что они еще не скоро приедут, что они еще где-то на середине пути.
4
Подростком Харитонову приходилось слышать, как его мать называли Шурочкой-дурочкой ее подруги и даже родственники, с разными интонациями, чаще — с обиходной насмешкой и небрежным сочувствием, а иногда — с уму непостижимой злобой. Виной тому была склонность народной речи к рифмованным ругательствам, к красному словцу, помноженная на удивительно наивное, патологически нерациональное, какое-то несуразно подобострастное отношение его матери к людям. Он понимал, за что ее любили, пусть и фамильярно и вскользь, но не мог понять, за что ее некоторые граждане, которым мать совсем была не чета, так ненавидели. Как будто она всей своей открытой, бедной и беспечной, как им казалось, жизнью задевала их за живое, как будто она жила как бог на душу положит.
Харитонов бывал свидетелем жалкого бешенства своей матери. У нее была лучшая подруга тетя Галя Кириллова, по зову которой его мать с ним, семилетним, чемоданом тряпья и оледенелым отчаянием сбежала из Куйбышева в Душанбе от его отца, выпивохи и колобродника. Мальчик Харитонов любил, когда эта молодцеватая, компанейская тетя Галя Кириллова приезжала к ним в 46-й микрорайон с домашним рассыпчатым печеньем или когда они с матерью навещали ее и таких ее разных близняшек, раскованную Веру и рассеянную Свету, в их собственном доме на улице Ахмади Дониш. Тетя Галя была плоскодонной лодкой, поставленной на попа. Несмотря на ее добродушную шумность, направленную на поддержание застольного веселья, глаза ее, сужаясь от переутомления, всегда оставались трезвыми и внимательными, как у японского шпиона. Недавно Харитонов обнаружил, что и его жена Людмила стала так же смотреть на привычные вещи — тугоплавким взором, полным секретной информации. Он так и не узнал, какая кошка пробежала между его матерью и тетей Галей, но как-то раз тетя Галя наведалась в гости к их соседям по лестничной площадке Тишкиным, а им с матерью даже не позвонила. Тишкины, особенно муж, Петр Сергеевич, относились к числу странных недоброжелателей матери. Странных потому, что им, устлавшим свою квартиру коврами в два слоя и загромоздившим югославскую стенку свинцовым хрусталем, завидовать пустынному быту матери-одиночки было вовсе не с руки и абсурдно. Харитонов до сих пор оставался в неведении, чем Тишкиным не угодила его мать и почему им было невыносимо терпеть ее пребывание на белом свете. Этому Петру Сергеевичу, с фарфоровой лысиной и периодической толстой отрыжкой, нравилось острить, например, по поводу плюшевого коврика с поблекшими оленями, который мать Харитонова, выстирав, вешала сушить во дворе: «Сопрут ковер-то, соседка, персидский». Мать почему-то не обижалась: «Постирала вот, Петр Сергеевич». «Ковер постирала, ха-ха-ха», — смеялся Тишкин. Однажды он присел перед маленьким Харитоновым на корточки и обнюхал его, как охотничья собака: «Шурка, а от твоего-то пацаненка сервелатом пахнет. Где достала, подскажи?» «Это докторская, Петр Сергеевич», — оправдывалась мать, которая работала тогда в одной из городских столовых кухонной рабочей... В тот вечер Тишкины и тетя Галя как-то уж очень рано и чрезмерно громко начали петь у себя за столом. Пели они плохо, эгоистично, кто в лес, кто по дрова. Особенно отвратительно выходило у жены Тишкина, кадыкастой тетеньки, у которой никогда не было губ, а была лишь прорезь для рта. Харитонов догадался, что поют они специально для его матери. В отличие от них, у матери был чувствительный, протяжный голос, которым она пользовалась осмысленно. Некоторое время мать сидела, заткнув уши руками. Вдруг она вскочила и в халате и тапках побежала к выходу. «Я ей маслица, колбаски, сахарку тащу, от своего ребенка отрываю, а она с ними, с этими... Сейчас я ей все выскажу. Как не стыдно?» — закричала мать еще здесь, еще в своей квартире. Через несколько секунд дурное пение прекратилось. Харитонов слышал крик своей матери, хохот Тишкина, писк Тишкиной, рыдания матери, раскаленные, высокие, почти фальцетные. «Шура, Шура, так же нельзя», — успокаивала мать тетя Галя. Потом все смолкло. Харитонов боялся этого молчания, как преступной тьмы, как ночного одиночества, как позора и скорого обязательного горя. Чтобы не слышать этой тишины, он, как мать, ладонями зажал свои уши. Когда он опустил руки и подошел к распахнутой настежь входной двери, он расслышал изменившиеся голоса, веселый материнский говорок: «Галя, ты меня прости, и вы, Петр Сергеевич, извините уж меня, Христа ради». Тишкин миролюбиво икал, его жену не было слышно, тетя Галя восклицала: «Шурка, Шурка, дурочка ты все-таки, дурочка моя». Еще через пять минут послышалось пение всей компании, вместе с матерью:
Вот кто-то с горочки спустился. Наверно, милый мой идет.Харитонов понимал, что мать поет осторожно, стараясь не забивать чужие неумелые звуки, стараясь слегка ретушировать их своими рельефными, цветастыми нотами. Харитонов представлял ее маленькую фигуру с покатыми, уютными плечами, ее вертикальные складки на переносице и у рта (с одной стороны — поверх губы, с другой — понизу), ее горестный слабый подбородок, свежие, крашеные кудряшки, оставшийся детским нос и смелые, радушные глаза.
Когда через год Тишкин погиб нелепо и нехорошо (он вышел вынести ведро с мусором и попал под колеса мусоровоза у помойки), мать лила добросовестные слезы и приговаривала: «Петр Сергеевич был хороший, жалко его, хороший он был, Петр Сергеевич».
5
На перроне Московского вокзала, несмотря на ранний пасмурный час, пахло так, словно только что здесь прекратился проливной, обрывистый, явно привнесенный дождь. Слюдяные лужи прилипли к асфальту, как расплющенные, черные, огромные собаки. Лишь непочтительные носильщики со своими тележками двигались сквозь лужи как ни в чем не бывало, остальной народ старался обходить мелководную сияющую живость.
Харитонов, покинув вагон последним, выпустил из виду мнимую Ольгу Беспалову и почему-то растерялся, замешкался, ударился носом о высокую и жесткую тулью фуражки очередного носильщика, который методично отдавил ему обе ноги, не удостаивая взглядом. Носильщик в профиль был похож на шаржированную куклу Муссолини некоего кавказского, горбоносого пошиба, и Харитонов, с оброненным сердцем, опять вспомнил весь сонм проклятых восковых фигур, с которыми он больше месяца гастролировал по целомудренно смешливым городкам Поволжья, и которые являлись ему во сне каждую ночь, за исключением минувшей, как сообщники, во всем своем одушевленно-синюшном безобразии.
Только в зале, у колонны с Петром, Харитонов заметил спину юной попутчицы, ее растрепанные, крупно завитые волосы, раздираемые поднятым джинсовым воротником. Москвичка оказалась миниатюрной, с сильными, трущимися ляжками, в белых сапогах без каблуков. Шла она поэтому вкрадчиво и как-то цыганисто, придерживая на плече плоскую сумочку белой кожи с металлической инкрустацией. То, что девушка была маленькой, Харитонов понял еще и по тому, что чуть впереди нее и одного роста с нею шел низкий с двумя болтающимися дипломатами, как с пустыми ведрами. Рахитичный же нес ее рыжий саквояж, чья концентрированная тяжесть так мельчила его шаги, что он то и дело задевал одним своим ботинком другой. На рахитичном был балахонистый грязновато-бежевый плащ, почему-то не прикипающий к телу, а развевающийся, словно посреди огорода на метле.
Харитонов боялся, что они уедут вместе. Они вместе лавировали среди машин на стоянке. Харитонов, переведя презрение в озадаченность, отвернулся от них, перешел Гончарную улицу и вышел на Староневский, чтобы по нему пройти пешком до конца, до Лавры, и только там спуститься в метро. Он вспомнил, что мать о вещах отвлеченных говорила с кровоточащей убежденностью. «Верность? — спрашивала она протрезвевшего отца (трезвый отец превращался в затравленного домашнего меланхолика). — Это ты мне говоришь о верности? Откуда ты знаешь, что такое верность? Твой отец знал, да, а ты — нет. Ты блудливый, и тебе нравится быть блудливым. Верность?! Я останусь верной, даже если изменю, а ты блудлив, даже если не изменяешь».
Отец Харитонова всю жизнь проходил с распахнутым воротом, с оголенной волосатой грудью. Когда мать пыталась застегнуть ему хотя бы одну пуговицу, он отшатывался в бешенстве, как будто пальцы матери касались не рубашки, а какой-то его уязвленной, постыдной, врожденной травмы. «Уже весь седой, а еще хорохорится, — говорила мать. — Шпаной был, шпаной и умрешь». Отец был странным хулиганом — тоскливым, спонтанным и бескорыстным. У него была гниющая, ввалившаяся щека. Гной проступал наружу. Лицо умирающего отца истончалось и светлело, как будто из его сознания одну за другой вынимали закопченные пластины — бесчинства, болезни, неприятности, кошмары, конечную житейскую досаду. Перед самым днем смерти он стал прозрачным, виноватым и дружелюбным. Он совсем не злился, что умирает, а все остаются. Его глаза, доверчиво потемневшие и взиравшие словно не изнутри, а извне, хотели предостеречь беспокойного сына от страха и растерянности перед собственной судьбой. Отец умер неслышно, без последнего вздоха, как будто незаметно вышел на цыпочках. Харитонов помнил, что в отношениях между отцом и матерью, несмотря на диковатые раздоры, всегда пульсировала какая-то юношеская, фривольная тайнопись.
Харитонов зашел в просторную, минималистскую кофейню, где пахло не кофе, а сырым ковролином, чтобы сквозь дымок двойного эспрессо понаблюдать за совершенно другими людьми, с которыми у него нет и не будет общего существования и общего финала. Харитонов заглянул в потрепанный бумажник (прошлым вечером он вызвал ухмылку у юной москвички) и посчитал, что в его теперешнем положении любые траты становятся необоснованными. Он ступил опять на тротуар. Староневский на всем своем протяжении, как ни странно, был сух. Пешеходов было мало. Люди ехали на автомобилях. Автомобили с каждым годом становились все чудеснее и чудеснее.
6
К его природно белокурой жене Людмиле вряд ли можно было придраться хоть как-то, если бы не ее привычка смеяться дома громко и пренебрежительно. Хотя и при посторонних людях эта ее интонация гомерического недоумения в общем-то сохранялась, смех все-таки становился неслышным, подавленным, что мешало кому бы то ни было уличить ее в душевной одиозности.
Харитонов сидел на кухне, а Людмила хохотала в ванной. Только плеск воды отчасти нивелировал ее усталое, мучительное ликование.
«Я устала от вас всех», — сказала Людмила, выходя в прихожую в тюрбане из полосатого полотенца. Она непроизвольно подбоченилась, но быстро опустила руки. Ее пальцы были размокшими и бескровными.
«Люда, я тебя ни в чем не виню», — сказал Харитонов, боявшийся ее ненакрашенного, белого лица.
«Еще не хватало, чтобы ты меня в чем-то винил. Это я тебя виню».
Он промолчал, гадая, за что же она теперь его будет винить — за мать или за безденежье.
«Ты знаешь, что нам скоро нечего будет есть, элементарно нечего будет жрать, что у меня кончились деньги совсем?» — спросила Людмила.
«Знаю, — обрадовался этому обвинению Харитонов. — Я сейчас поеду в эту чертову контору. Они должны мне сегодня выплатить зарплату, по крайней мере — командировочные. Хоть сколько-то».
«Ты знаешь, что ей вчера не понравилось? — спросила Людмила, любительница беззвучных переходов. — Вчера приезжала моя мать».
«А, все понятно».
«Что понятно? Ты хочешь сказать, что моей матери нельзя у нас бывать, пока у нас живет твоя мать?»
«Мне казалось, у них нормальные отношения».
«Александра Ивановна ревнует мою мать к детям».
«Это возможно, — согласился Харитонов. — Поэтому...»
«Что поэтому? Поэтому моей матери нельзя к нам приезжать? Она, кстати, их больше воспитывала. Детей, кстати, не было дома. Моя мама привезла пироги, сама напекла, вот, кстати, ешь, грибы маринованные. Пригласили Александру Ивановну к столу. Дальше, ты догадываешься, что было».
Харитонов многократно закивал головой, не желая, чтобы жена увидела его лицо вмиг покрасневшим. Состояние мужа могло передаться Людмиле, и ее кожа тогда, лишенная макияжа, не замедлила бы покрыться такой переливчато-пунцовой краской, от которой даже самое честное и красивое лицо делается лживым и несчастным.
«Она попросила, чтобы ты ей купил билет, что она хочет уехать домой», — сказала жена, в развязавшемся тюрбане, не заметив стыда Харитонова.
«Надо позвонить той женщине», — поднялся Харитонов.
«Рано еще».
«Нет, я позвоню».
Женщина, приютившая его мать, сообщила, полная жеманно неодобрительных пауз, что Александра Ивановна уже покинула ее квартиру, но направилась она, однако, не к ним домой, а в церковь.
«В какую церковь? — спросил Харитонов. — Она же совсем не знает города».
«Этого я не ведаю. Так она выразилась — «в церковь». Не в собор, не в храм, а в церковь. Я знаю лишь то, что вам, видимо, с нею приходится очень непросто. Особенно я не могу позавидовать вашей милой супруге».
«Да, мы вам очень благодарны».
«С таким характером, как у вашей матери, невозможно жить в Петербурге долго. Поверьте мне».
Людмила просушила волосы феном и стала улыбчивой и степенной.
«Где же ее теперь искать?» — спросил Харитонов.
«Вернется. Деньги у нее с собой есть, — сказала Людмила, обувая туфли на острых каблуках. — Не маленькая».
«Ты не знаешь, до какой степени она может себя распалить».
«Представь себе, знаю. Это ее любимое занятие — бередить душу».
«Она мучает себя».
«Знаю, Сергей».
«Дети?»
«Ушли уже. Я побежала. Пока. Закрой за мной дверь, пожалуйста».
Он слышал, как она нетерпеливо дожидалась лифта, постукивая колечком по стене и шпильками по керамическому полу, будучи уверенной, что муж не отошел от закрытой двери. Ее раздражало, если в лифт, кроме нее, вдруг заходил кто-нибудь еще. Именно на столько людей, сколько садится с нами в лифт, стесняя замурованную свободу, мы иногда бываем готовы сократить человеческую популяцию.
«Она неверна», — заключил Харитонов механически, как будто наблюдал обиду, а не ощущал ее.
Он встал под душ и обнаружил огромный синяк внизу живота справа, появившийся словно не от внешнего воздействия, которого Харитонов не помнил, а от внутреннего жжения. Он подумал, что совсем не испугается, если вдруг анализы подтвердят наличие у него серьезного, может статься, неизлечимого заболевания. Может быть, он даже обрадуется этому, потому как обретет на остаток дней вразумительный смысл существования — целенаправленно и тягуче умирать. Вся жизнь будет подчинена этому неизбежному, организованному угасанию, борьбе с физической болью рядом с ясно глохнущими материальными диссонансами.
Ему было странно, что он теперь не испытывал никакой ревности или отвращения к Людмиле. Он спокойно вспоминал, как случайно увидел прошлым летом на даче свою Людмилу, целующуюся взасос с его однокурсником Зеленецким впотьмах. Харитонов не потревожил их тогда, посчитав, что все девственно пьяны. Смешно и глупо, думал он, негодовать теперь, когда привязанность непривлекательных тел номинальна, а привязанность душевная инертна.
7
День разгорался памятливый, сквозистый, осенне-весенний. Сполохи молодых, ностальгических припоминаний теребили ноздри. Солнце разогревало давно прошедшие запахи. Они курились в воздухе, перемежались горелой пылью, выхлопными куцыми газами, иссушенной ландшафтной взвесью, пахучим грохотом трамвая, резиновым дымком, русифицированной шаурмой, слежавшимися газетами, взмахами уличного неопрятного ветра, развинченными человеческими голосами. Всё разное время столпилось рядом, вместе, вперемешку. Плоские дома тлели серыми, перепончатыми окнами. Стволы деревьев были набухшими и черными от сырости. Веток на них было мало. Не всякая крона походила на разметавшийся взрыв с комьями земли. На рынке у метро под ногами булькала вечная растительная жижа.
Харитонов вооружился несколькими фотографиями матери. На каждой из них она была совершенно другой. Ее невозможно было узнать по чертам или приметам — ее можно было узнать лишь по тому или иному выражению ее лица. Он хорошо знал, с каким лицом она вчера уходила (к сожалению, такого снимка в семейном альбоме не существовало), но он не мог сказать безошибочно, с каким теперь она жила лицом.
На первой фотографии мать была пышноволосой и сорокалетней. Было видно, что она улучила момент сфотографироваться сиюминутно счастливой. Она смотрела точно в объектив на хорошо знакомого, игривого фотографа. Она привалилась к подруге, тете Гале. Та сняла свои очки с невероятно толстыми стеклами и с внешней беспомощностью повернула голову к сильному, лучистому среднеазиатскому свету, не жмурясь. За их спинами висел тяжелый ковер с геометрическим орнаментом. На тете Гале был надет домашний халат, на матери — таджикское шелковое платье без рукавов и с вырезом. На полном материнском плече темнел вдавленный, укрупнившийся кругляшок от прививки. Эту фотографию Харитонов взял только потому, что никогда не видел мать именно такой — вальяжно веселой, благополучной, цветущей, желанной, — такой, что ей в ту секунду завидовала даже тетя Галя.
На второй, недавней, достаточно многолюдной фотографии мать Харитонова была близка к строгим слезам. Линялые ее волосы были убраны за уши, и морщины среди теней, особенно на шее, вытянутой по-балетному доверчиво и независимо, были похожи на редкие, ломкие, старческие волосы. Здесь у нее было решительное и неподкупное лицо. Ее глаза сомневались в бескорыстии и доброжелательности большинства людей. Ее окружение на фото составляли теща Харитонова и тещины подруги, молодящиеся, снисходительные женщины, и в сторонке — сын, невестка и внуки-подростки. Мать среди них была контрастным, яростным, приземистым центром.
Следующий снимок был сделан в тех же декорациях, что и предыдущий, спустя минуту, на фоне свежевыкрашенного дачного забора. Только теперь мать и Харитонов остались вдвоем. Харитонов обнимал маленькую мать за плечи. Мать наклонила голову в другую сторону, к сыну, к его груди в яркой белой футболке, так что ее лицо попало в полосу двойного света. Она сузила темные, влажные щели глаз и немного улыбнулась. Ее обидчивая горделивость сменилась материнским доброжелательным тщеславием: весь ее нежный вид говорил о том, что она довольна, каким человеком стал ее сын, что он правильно смотрит на жизнь и различает добро и зло не меньше, чем она.
На других фотографиях мать Харитонова была молодой и старой, ласково растерянной и озорной, поющей и пристыженно молчащей, мучительно твердой и покорной, в косынке и в толстой шали, в самодельных кудряшках и обреченно прилизанная.
Наконец, на одном из снимков, черно-белом, двадцатилетней давности, с надломленным уголком, с желтым пятном запустения, мать Харитонова опознал продавец дынь, таджик с просмоленными, рябыми щеками и наполовину белеющим лбом, с приветливой золотой коронкой в полупустой полости рта. То, что он был таджик, а не азербайджанец или узбек, подтверждало его персидское лицо с аккуратными скулами и овальными, песочными подглазьями. Мать на фотографии была в дырявом фартуке и поварском колпаке. Она стояла у длинной восточной террасы под низкими цветущими ветвями. В зазор между ними виднелся каменистый склон горы. От нестерпимого желания прыснуть мать едва успела закусить губу.
«Э, эту женщину, брат, я знаю. Это тетя Шура, — сказал таджик. — Мы с ней утром разговаривали. Она жила в Душанбе раньше. Вот здесь на фотке — Варзобское ущелье. Ты ее сын? Э, она очень хороший женщина. Я ей дыню подарил вот эту. Она не брала. Бери ты, брат. Покушайте».
Таджика звали Рахмон. Он видел, как мать Харитонова вошла в метро. Рахмон сказал Харитонову, что если бы все русские были такие, как его мать, Советский Союз никогда бы не распался, и все бы жили отлично.
Харитонов знал, что если бы вечером всей семьей, вместе с матерью, они сели бы есть эту немного перезрелую дыню, хлебосольно выглядящая мать обязательно убеждала бы Людмилу в том, что таджики хорошие, что они простые люди.
8
«Я вернусь в Душанбе, — вероятно, вымолвит мать Харитонова и своим провинившимся, ребячливым видом станет требовательно умолять сына последовать за ней. — Ты не бойся, там еще много русских живет: Лидка, Фая, Макеевы. Церковь у кладбища не закрыли. Батюшка, отец Александр, помнишь, с седенькой косичкой, говорят, все еще служит».
Харитонов помнил стерильную, сухую, затяжную душанбинскую жару. Ее остывшая печать до сих пор лежала на ключицах и плечах Харитонова. Мальчиком на городской реке Душанбинке, от которой летом оставалось лишь сыроватое русло в гладких белых булыжниках, он так однажды обгорел под июньским дымчатым солнцем, что попал в больницу с лихорадкой и ожогами второй степени. Бурые отметины того вероломного загара со временем на коже Харитонова превратились в родимые пятна.
Харитонов не забыл и Варзобское ущелье, живописное и душистое. Им пугали русскую молодежь. Не советовали отлучаться далеко от обустроенного Варзобского озера, от трассы, подниматься в горы, к ледяным ручьям, к лисьим хвостам, к пещерам, ночевать в горах. Опасались кишлачных таджиков, их набегов гурьбой, их остервенелого зверства. Таджиков тогда русские душанбинцы между собой так и называли — зверями, зверушками, зверьем. Теперь Харитонову вспоминать это было неприятно. Ни унижения тех лет, ни детские тревоги, ни правота прошлой неприязни не могли обесточить это чувство неловкости за себя... В Варзобское ущелье Харитонов отправился-таки с несколькими своими одноклассниками. Это был их прощальный и поэтому какой-то неотвратимый поход перед окончанием школы. Дувалы кишлака, через который они шли, как по разрушенному лабиринту, источали спекшуюся кислинку архаичного, враждебного быта и предостерегающее безмолвие. Даже местные, не соображающие по-русски собаки не лаяли. Пахло пресными, черными лепешками, горелым кизяком, глиной, настоянной на водяных брызгах и древней тени, тухлым арыком, тощей коровой, липкой паутиной и расплавленным рубероидом. Не было ни одной чужой души... Налетели таджики ночью, кишащей звездами. Харитонова били палками сквозь палатку, в которой он спал как убитый, вволю набегавшись, накупавшись, нахохотавшись за день. Ему снилось, что он в Афганистане и что его берут теперь в плен, чтобы отсечь голову. Он закрывал ее руками от ударов. Это был его первый смертельный страх. Доносились тонкие возгласы и охающие крики. Их заглушала намеренно безжалостная таджикская речь. Таджики ушли, никого не зарезав. В отдалении, на огромном, светлом, горячем камне, у всех на виду сидела Беспалова Ольга с зарытым в колени лицом. Кто-то из мальчиков шепнул Харитонову: «Это она спасла нас — Беспалова. Таджики там, за камнем, ее изнасиловали, звери».
Две ночи после этого Харитонов стучал на пишущей машинке мстительные националистические прокламации. Ничего не придумав лучше, он подписывал их по старинке — «Союз русского народа». Разбрасывая крамольные листовки по городу, он испытывал одновременно и неистовство, и омерзение. Случайно один экземпляр оказался в его тетради по литературе, которую он сдал для проверки вместе с сочинением на свободную тему. Через день домой к Харитоновым пришел капитан КГБ по фамилии Абдуллаев. Он был худощавый, стеснительный, вежливый таджик в белой трикотажной рубашке. В комнате юноши, где они сели разговаривать, на столе стояла старенькая «Украина». Капитан Абдуллаев задавал вопросы без акцента. Харитонов отвечал путанно, что нашел листовку то ли в автобусе, то ли на скамейке у кинотеатра «Джами». Капитан Абдуллаев переводил ироничный взгляд с машинки на мальчика и обратно. Харитонов видел, что капитан Абдуллаев хочет его спасти, но не догадывался, почему. Может быть, потому, что в это время на кухне возникла громкая и безобразная перепалка между матерью Харитонова и его пьяным отцом. Мать вдруг пискляво, несчастно, теряя дыхание, зарыдала. Капитан Абдуллаев встал, постучал темным узловатым пальцем по столу рядом с пишущей машинкой и пошел на выход. Его улыбка в дверях харитоновской квартиры наполнилась проницательным сочувствием к русскому горю.
9
В метро Харитонов присматривался теперь к двум категориям людей — к пожилым копотливым женщинам, надеясь в ком-нибудь из них вдруг обнаружить мать, и к своим невыразительным одногодкам — ради дополнительной самоидентификации. Среди первых некоторые потерянные низкорослые старушки поразительно напоминали его мать. Среди вторых доминировала все та же щетинистая преждевременная тщета.
Харитонова обнадеживала мысль, что захудалым человек становится постепенно и поэтапно, что быть несовременным скорее радостно, нежели тошно. Жаль, что этого практически невозможно объяснить. Жаль, что современные люди не перестают изматывать себя вопросом — удалась их жизнь или не удалась. Жизнь никогда не удается, если человек не бессмертен. Вот он некрасивый и сорокадвухлетний. От него ушла мать, у него нет работы, ему изменяет жена, он безразличен собственным детям, он, вероятно, неизлечимо болен, он одинок и обязан быть несчастным. Он ощущает это несчастье в душе, но не ощущает душой.
Харитонов вспомнил, как передернуло менеджера по персоналу, кажется, зябкую и при этом старающуюся быть динамичной, умело ухоженную женщину, когда в беседе с ней он, соискатель вакансии, вдруг произнес вместо «слышал» «слыхал». Если бы он объяснил ей затем, что сделал это намеренно, что очень любит эти толстовские сердечные «слыхал» и «видал», которые, впрочем, до сих пор остаются языковой нормой, а избегают их сегодня как раз в силу их задушевного звучания, что вообще он предпочитает, например, говорить не «Бог с ним», а «Христос с ним», кто знает, возможно, теплолюбивый менеджер и предложила бы ему должность. Менеджер по долгу службы приветствовала неожиданные, креативные формулировки. Однако Харитонов почему-то не посчитал нужным что-либо растолковывать и был в очередной раз забракован. Его кандидатуру нетрудно было отвергать: мало того что его возраст считался уже критическим, недостаточно трудоспособным, в его осанке и всей традиционной телесности не чувствовалось коммерческого отношения к текущей жизни, хваткого обаяния, стихийной всеядности.
Харитонов замечал, что особо, как-то метафизически он не нравился молодым работодателям. Тем казалось, что в его положении незадачливого и невостребованного аутсайдера пора уже научиться помалкивать в тряпочку, а не напускать на себя важность и тем более не позволять себе взгляда, полного не только снисхождения, но и провидческого соболезнования. Молодым гегемонам было не по нутру, что какой-то там доходяга смотрел на них так, словно они были не настоящими начальниками, а временно исполняющими чужие обязанности.
Харитонову было странно, что люди с хлипкими глазами невольных захватчиков, которым приходилось камуфлировать легкость добычи и отсутствие усилий многочасовыми совещаниями и деловыми обедами, так нервозно ненавидели его. Какую угрозу он для них представлял? Он не был для них даже помехой — лишь неприятным мимолетным впечатлением, меньше жирного пятнышка на галстуке. Он полагал, что, по-видимому, вся подоплека состояла в их обострившемся, рафинированном чувстве гигиены, чувстве цивилизации.
Его, Харитонова, молодость получилась восторженно близорукой и оскорбительной. Теперь, в отместку, он схлопотал чужую молодость, вполне корректную.
Блудному сыну было стыдно падать в ноги своего отца. Было стыдно самого такого никчемного отца.
Мать Харитонова работала в столовой и таскала сумки домой, чтобы прокормить способного отрока. Встречаясь с матерью на улице, он старался побыстрее увильнуть от нее, а лучше — вообще не заметить ее, не расслышать, не различить. Ему делалось особенно неловко, когда кто-нибудь из его приятелей говорил ему, что его зовет мать: «Тебя вон та женщина зовет. Это ведь твоя мать?» «Сынок», — окликала его издалека мать, любившая гордиться им, — низенькая, простодушная, конфузливая тетенька, одетая кое-как, старше своих лет, с тяжелыми продуктовыми пахучими авоськами. В одиночестве ему становилось совестно за то, что он так позорно, так неуклюже стыдился своей матери, что он вообще ее стыдился.
Уезжая учиться, юный перспективный Харитонов со знанием дела утешал свою мать: «Россия всегда прирастала рассеянием своих семей». «Вот и рассеяли, и растеряли самих себя, сыночек», — вздохнула мать.
10
Контора называлась «Мир воска». Текущее время с его саморазоблачающимся новоязом потомки назовут эпохой перлов.
Харитонов знал, чем все это кончится. Бойтесь интуиции — она замещает судьбу. Его полуторамесячная трудовая эпопея с восковыми фигурами завершилась элементарным надувательством. От восковых фигур, по определению, нельзя было ожидать другого — подлинности, хотя бы вороватого смущения.
От подозрительного офиса и теперь пахло свежей химической реакцией помимо того, чем искони пахнет в петербургском колодце — мокрой, толстой пылью, как будто ее прибило дождем очень давно, и она с того времени успела несколько раз окислиться.
Директриса Инесса Андреевна встретила Харитонова пятью тысячами рублей. «Это все», — сказала она, не дожидаясь его вопросов и наступательно глядя на его лицо. Ей помогало то обстоятельство, что у Харитонова всегда были глаза, понимающие все наперед. Он знал, что этим оптическим превалированием он обезоруживал себя. Добрые люди пользовались этим его свойством в его же интересах, злые — в своих. «Это только командировочные?» — все же решил уточнить ради проформы, став улыбчивым, Харитонов. «Нет, это полный расчет», — недовольно ответила директриса. У нее была прилизанная макушка старухи-процентщицы. Ноги, даже в длинной черной юбке, заметно кривились, как у киргиз-кайсацкой наездницы, колесом. Она казалась подслеповатой даже в сильнодействующих очках. Этой подслеповатостью она напоминала тетю Галю, чем при первой встрече и прельстился Харитонов, понимая, что ошибается, но решительно начиная жертвовать собою, как это делал всякий раз в заведомо проигрышных ситуациях. Подслеповатость тети Гали, правда, в отличие от директрисиной, была какая-то выхолощенная, асексуальная, эта же была по-нимфомански непроницаема.
Харитонов вспомнил, что при его трудоустройстве в тот момент громкая и бесхитростно предприимчивая Инесса Андреевна попросила Харитонова, помимо заявления о приеме на работу, написать и заявление об увольнении, без даты, мотивируя это очень смешным и поэтому подкупающим доводом: мол, вы ведь, мужики, все одинаковые — в командировках заводите себе баб и не возвращаетесь обратно, и числитесь тут мертвым грузом по отделу кадров. Контракт был составлен в одном экземпляре и остался в конторе, ксерокс тогда почему-то в офисе не работал, а заполнять документ от руки у директрисы уже катастрофически не было времени. Она куда-то спешила, кроме того, поезд с Харитоновым в Нижний Новгород, где его ждали восковые фигуры и помощница Валя, отправлялся через пару часов. Директриса попросила его тогда билет купить за свой счет, а, по приезде в Нижний, Валя, мол, с ним рассчитается...
Теперь Харитонов поинтересовался контрактом. «Согласно контракту, — произнес Харитонов сомнамбулически, — вы должны мне, помимо этих пяти тысяч, еще тридцать тысяч рублей». «Не было никакого контракта, — отчеканила Инесса Андреевна, вставая с выпяченной мохеровой грудью. — Имейте совесть. Вы там фактически ничего не делали, мне Валентина сигнализировала. Кроме того, вы тырили у нее деньги из кассы, пока она уходила по нужде и оставляла вас вместо себя. Поэтому я вас оттуда и отозвала. Пять тысяч вам за глаза и за уши».
Харитонов понимал, что смотреть на нее длительно было бессмысленно: она ничего не видела и суетливо реагировала лишь на блики в цокольном окне.
«У вас красивая макушка, Инесса Андреевна», — произнес вдруг Харитонов.
«Спасибо, — непроизвольно отозвалась директриса и быстро поправилась: — Как вы смеете? Я сейчас же позову охрану. Уходите отсюда подобру-поздорову».
Харитонов хотел было закатить скандал совсем не по поводу денег, а по поводу куда более серьезного преступления, но догадался, что эта его истерическая утопия будет нестерпимо смахивать на литературные постмодернистские штучки последнего времени, поэтому он только погладил Инессу Андреевну по скользкой голове, протяжно, с наставительным давлением, всей своей разлапистой пятерней, так, что директриса одеревенела.
Харитонов шел по коридору мимо бомжеватого Иосифа Сталина с настоящей трубкой, мимо Чаплина, который в другом костюме и без котелка представлял Гитлера, мимо мужеподобной Екатерины Второй в заплатанном платье на обруче, мимо Горбачева, у которого роковое пятно оказалось на другой стороне лба, мимо ехидного, краснобородого Ленина, мимо Мерилин Монро с пьяными губами, мимо охранников в форме МЧС, которые в этом офисе тоже были восковыми. У входной двери стояла какая-то синюшная, поруганная мать Тереза с носом Гоголя. На матери Терезе был поразительно знакомый синенький плащ матери Харитонова с надорванным боковым карманом, и куталась мать Тереза не в свой, известный всему миру монашеский хитон, а в ситцевый, в черный горошек, платок матери Харитонова. Вот о каком преступлении хотел было возопить Харитонов! Он хотел крикнуть директрисе-мошеннице: «Что вы сделали с моей матерью? Куда вы ее дели? Где моя мать?» В следующую секунду он сообразил, что вещи матери на кукле святой Терезы — всего лишь мистическое совпадение, случающееся порой в восковом, псевдочеловеческом мире. Харитонов принюхался к одеяниям суррогатной матери Терезы и убедился, что эти вещи его матерью отнюдь не пахнут, что они отдают секонд-хэндом и еще — невыветриваемым, болезнетворным потом Валентины, его бывшей сослуживицы, что весь этот безжизненный воск пахнет стеарином.
Было время, в молодости, когда Харитонов красоту физическую ценил за черты, за абрис, когда глубине ощущений предпочитал тесноту осязаний, теплоте кожи — гармонию стати. Он любил на расстоянии то, что к нему теперь придвинулось вплотную, до тошноты.
Он любил и свою мать, и мать Терезу. Он знал, что христиане отличаются от нехристиан тем, что любят ближнего своего, а нехристиане любят близких своих. Его продолжало тревожить, что правый карман на плащике матери Терезы и правый карман на плащике его матери были надорваны совершенно одинаково, одной рукой, что даже нитки на месте обрыва были одни и те же.
11
Вторая треть восковых фигур осталась с Валентиной в Бугуруслане: Петр Первый, как кощей бессмертный, с голым шемякинским черепом и свидетельской лентой через костлявое плечико, плохо различимые Карл Маркс с Фридрихом Энгельсом в обнимку, в галстуках на резинке, Анна Ахматова, которую местная публика принимала за Надежду Крупскую, мэр Собчак с самым живым от внезапной багровой горестности лицом. Недостающего Ельцина иногда изображал Валькин хахаль Колька безголосый, подобранный в Арзамасе. Он вдруг рычал на посетителей, как заводной медведь, и слух о выставке начинал распространяться по городку. Колькина добрая немота была благоприобретенной и, кажется, помогала ему сильнее перегара справляться с мясистой, безобидной вонью, то и дело идущей от Валькиного кожного покрова. Все-таки однажды Харитонов услышал из-за перегородки, как сначала тонко и тоскливо мычал Колька безголосый, а потом сквозь рев оправдывалась Валька: «Коль, это я уже после Ташкента стала пахнуть. Мы же беженки с сестрой. У нас в Ташкенте свой огромный дом был. Сестра-близняшка, та не пахнет ничем, а я, как в Россию перебралась, так пахнуть стала. Как будто за двоих».
Бугуруслан был родиной отца Харитонова. Здесь жили и умерли в семейной святости, не проронив ни единого сердитого слова, а разговаривая только уважительно и даже медоточиво, богомольные бабушка Саня и дедушка Ваня. Здесь застрелился еще до рождения Харитонова старший брат его отца Иван. Его пейзажики, монохромные, угольные, маленький Харитонов рассматривал на стенах жилища бабушки и дедушки с не меньшим любопытством, чем темно-красные, словно углубленные, иконы, за которые страшно было заглянуть.
С семи лет Харитонов не был в Бугуруслане. Он пытался от вокзала по истомленным топографическим веяниям отыскать дом бабушки и дедушки, проданный давным-давно. Он помнил, что рядом с их домом был соседний сад с вишневыми деревьями и пасекой, что как-то раз его, сбивающего яблоко с кургузой яблони, ужалила пчела. И он видел ее мертвое тельце в складках собственной майки. Дом с бабушкиным палисадником он не нашел, так же, как и могилы своих родных на кладбище. В безлистной черной графике веток серебристо пестрели кресты. Обычно провинциальные кладбища тихи. Здесь же кресты теснились так отчаянно, так плотно друг к другу, словно всклокоченные горожане на оголтелом, самостийном митинге.
В связи с тем, что Харитонов последнее время спал исключительно среди разобранных, каких-то измученных восковых фигур, остаточная, третья часть их коллекции обосновалась в его сплошь судных снах. Там редко встречались двойники известных людей, там первую скрипку играли незнакомые уродцы. Они третировали не столько его лично, сколько близких ему людей, живых и умерших, — отца, мать, даже Людмилу. В заключительном сне, перед Москвой, он пытался отбиться от своры малолетних вымогателей топором и при этом почему-то боялся их изувечить. Он мечтал, чтобы наконец-то ему приснилась совершенно безлюдная рань у холодной реки, чтобы перистый горизонт, ждущий огненного восхода солнца, был как можно ближе к глазам, чтобы дыхание билось в его край и проваливалось сквозь него вовнутрь или вовне.
12
Во Владимирской церкви бабушки-служки внизу, в тамбуре парадного подъезда, и в престоле второго этажа не могли вспомнить мать Харитонова, как кропотливо он ни описывал особенности ее речи и походки, как ни показывал на свету ее разнохарактерные фотографии. Его настойчивость отвлекала их от дел, поэтому Харитонов, понимая, что повиновение Богу должно доминировать над любым другим, кровным и некровным послушанием, прекратил дальнейшие расспросы.
Харитонов помолился перед Нерукотворным Спасом и святым Серафимом Саровским и почему-то отошел в сторонку, вправо от резного иконостаса, к окну, к одинокой иконе Тихвинской Божьей Матери. Ему нравилось, что Спаситель, сидящий на левой руке Богоматери, оголил свою детскую пяточку. В окне виднелась светлая и круглая звонница Кваренги. Харитонов зажег свечу, отступил на несколько шагов назад и почувствовал пощипывающий аромат свежего пчелиного воска. Он вспомнил, как дисциплинированно стоял, держась за подол бабушки Сани, в первых рядах в церкви Бугуруслана, и как приятно ему тогда дышалось нагретым пасхальным воздухом.
Харитонову теперь было незатруднительно разговаривать с самим собой.
«Боже, помоги мне, и я...»
«Опять обманешь...»
«Нет, Боже... Спасибо тебе, Боже».
«Да ладно уж».
«Посечи во мне похоть разную. Дай в эти дни крепости духа и тела. Посечи во мне похоти».
Однажды после приблизительно таких же заклинаний за окном квартиры внезапно прекратился дождь, ливший сутки.
«Порочный круг не отпускает меня. Ему нужна моя материальная энергия и мое раболепие, чтобы ими упрочивать силу порока на земле. Я антихристов прихвостень».
«Хочешь каяться — кайся, но не ерничай».
Харитонов решил было исповедоваться и встал уже для этого в общую очередь, но его и раз, и два оттерли в сторону нетерпеливые грешники — длинная девица с равнодушно заплаканными глазами, покрытая узким черным шарфиком, словно лентой от погребального венка, какой-то покачивающийся, как на шарнирах, в мокрых кроссовках юный наркоман-убивец, крепко сложенный пенсионер, бритый наголо, с белым, шаровидным и все же не русским лицом.
Харитонов боялся притворяться, ничего не чувствуя, не чувствуя веры. Вдруг он услышал: «Зачем тебе еще кто-то? Твое одиночество со временем наполнится важным и сообщительным содержанием». Он обернулся, но говорящего не было. «Ты безволен, труслив, нетверд, потому что чересчур зависим от людей, от того, что они о тебе могут подумать. Не обращай внимания на людей, — прозвучал тот же голос издалека, от киоска с религиозной литературой. — По мере того как культ мамоны приобретает все большее значение, редкое проявление доброжелательности и бескорыстия обходится без скрытых меркантильных мотивов».
Выйдя из храма на залитый громогласным, ветреным, распластанным солнцем Владимирский проспект, Харитонов наткнулся на белесый, деятельный взгляд. Взгляд этот принадлежал недавно покаявшемуся лысому старику. Теперь он был защищен клетчатой кепкой.
«Вы меня простите, вы ведь человек верующий?» — спросил белый старик.
Харитонов, сообразив, что обращаются к нему, знобко пожал плечами.
«Вы знаете, — продолжал старик, сильно беря Харитонова за локоть. — Я ведь совершил подвиг на Великой Отечественной войне. Может быть, вы слышали о знаменитой Висло-Одерской операции. Тогда наш 11-й гвардейский танковый корпус захватил плацдарм. Моя машина была в числе первых. А это, сами знаете, что такое на войне».
Старик был в зеленом мягком плаще с замшевым воротником. Рот старика был плотным от здоровых зубов и привычки после каждой реплики сжимать губы с фиксированным ожесточением. Для героической внешности нос на лице ветерана, возможно, был непомерно вздернутым, будто его вывернули наполовину одним махом. Ноздри, как два дополнительных, близко посаженных глаза, смотрели вперед, а не вниз. Волосы в ноздрях были уничтожены, выстрижены, впрочем, как и в ушах. Почему-то Харитонова неприятно удивило, что под плащом у старика оказался переливчатый белый бодлон с надписью «Мустанг» на ревматически набрякшей груди. От старика тревожно пахло одеколоном с тропической составляющей.
Ветеран отвел Харитонова к металлической ограде на каменном цоколе и рассказал, как в течение шестидесяти лет добивается от различных государственных инстанций звания Героя Советского Союза или хотя бы России. «Понимаете, меня уже все это вымотало. Я всю свою жизнь посвятил тому, чтобы меня признали Героем. Мне кажется, что я и умереть не смогу, если не добьюсь правды. Я не могу лечь в гроб без Звезды Героя. Я вам по секрету скажу, звезду-то эту чертову я уже давно на рынке прикупил, чтобы меня в ней, так сказать, похоронили. Я полное моральное право имею на нее, но у меня нет официального документа. А самозванцем я умирать не хочу. Моему водителю-механику Сереге Зимину посмертно присвоили Героя за мой подвиг. Понимаете? Он погиб там же. Он не может рассказать, как все было на самом деле. Он погиб — и решили ему дать. Знаете, как у нас погибших любят. А зачем эта звезда ему, мертвому? Он и знать о ней ничего не знает. Она мне нужна была всю жизнь».
У старика в глазах выросли огромные, как эластичные пузыри, слезы, и Харитонов испугался, что такие же водяные прочные шары вот-вот народятся и в пустых стариковских ноздрях.
«Я и в церковь приходил сегодня за этим же — просить у Бога свою Золотую медаль Героя. Я ему всю свою подноготную поведал через батюшку. Но что-то мне батюшка не понравился. Недоверчивый он какой-то. Отвлекался, когда я ему подробности приводил. Как вы думаете, Бог поможет? Мне, кроме него, некуда больше обращаться. Я и патриарху нашему писал, и Папе Римскому. Отовсюду ответ: это прерогатива президента страны. А президент наш, я вам скажу, такой же недоверчивый, как этот поп. Одно лицо у них, и ухмылка, я вам скажу, похожая».
Старик вдруг, как от внутреннего толчка, содрогнулся и обмер, спустя секунду в замешательстве похлопал Харитонова по лацкану пиджака и стремительно, даже как-то дерзко потрусил к пешеходному переходу, торопясь Колокольную улицу перейти на зеленый свет.
Харитонову стало досадно, что он, в свою очередь, не успел рассказать этому сумасбродному старому танкисту, этому неудавшемуся Герою Советского Союза, о своем личном чувстве несправедливости, так похожем на чувство вины.
13
Окна гостиницы «Санкт-Петербург» слепли от синего пыльного жара и отсветов близкой серой невской воды. В киноконцертном зале голос служителя миссии тщился разрядить духоту, словно ею теперь наполнялось не только пространственное, но и акустическое измерение. Это был тот самый молодой проповедник, которого мать Харитонова, однажды увидев по телевизору, назвала, по своему обыкновению, хорошим и при этом улыбнулась как-то по-девичьи обескураженно. У него было действительно редкое для их брата сектанта неизломанное, чуть ли не благообразное лицо — без косины, без тика, без путаницы между скосами и впадинами, без разноцветья глаз и разнородности ушных раковин, без кочек и бородавок, без волчьей пасти и заячьей губы. Красивое лицо анфас смотрелось интеллигентным и даже аристократичным.
Теперь Харитонов содрогнулся, потому что это же самое лицо он увидел не анфас по телевизору, а живьем и сбоку, — он разглядел из входных дверей профиль, в котором и скрывалось уродство проповедника. Нос его, такой аккуратный на экране, вдруг оказался двугорбым, плоским и черным, как аппликация. Лоб давил на глазную орбиту до такой степени, что щеке приходилось болтаться теперь ниже подбородка, похожего на недавно подбитый каблук. Матери в зале не было, она не могла испытать разочарования. Во всяком случае, у нее оставался в запасе еще один романтический телевизионный кумир — гладкий адвокат-ведущий из «Часа суда».
Цветастый занавес нависал над рампой путаной радугой. На сцене стояли шаткие микрофоны, перламутровые электрогитары, прислоненные к колонкам, ударная установка. Белокурый пастырь в липнущем к спине и ляжкам пастельном костюме, с эбонитовым блеском в крупных, внезапно образующихся складках, расхаживал по красному круглому ковру то мелкими, то широкими шагами, точно камуфлировал в развинченной походке свое неуверенное двуличие. Слова он произносил тщательно прожеванные и хорошо перемешанные, как будто его язык, его орган речи состоял не только из сознания, но и из кишечника. Харитонов услышал, что дьявол действует по шаблону, что ослабела сила у носильщиков, а мусора еще много, много мусора от навозных ворот. «Имейте в виду, — убеждал проповедник, — что середина — это еще не весь путь. Не останавливайтесь, потому что человек с Богом — это большинство. Когда мы ходим по этой планете, мы касаемся не только земли, но и Господних рук, потому что Господь держит землю в своих руках. Все в этой стране получат новое сердце. То есть Господь здесь говорит: дети Сиона, возрадуйтесь. Огромную страну отдавали под молоток. Доколе же он не сделает Иерусалима славою на земле, Санкт-Петербурга славою на земле, не умолкайте, жители Петербурга, говорите слово Господне».
На сцене появились опрятные музыканты и вегетарианскими голосами заглушили переполох встающей с кресел публики. Руки подняли менеджеры с записными книжками, ожидая превращения в начальников отделов; ладони вознесли бухгалтеры, продавцы, агенты по недвижимости, делая ставку на чудо просперити; пальцы воздели пенсионеры и охранники, напоминая кивками друг другу о переселении душ. Дистиллированная радость булькала в сообщающихся сосудах, в москвичке Ольге Беспаловой, в рахитичном и коренастом предпринимателях.
Наконец проповедник оповестил, о чем следует молиться на будущей неделе: в понедельник — о президенте и его помощниках, во вторник — о российском бизнесе, в среду — о правоохранительных органах, в четверг — о медицине и образовании, в пятницу — об экологии страны и города.
Вдруг в передних рядах громко рассмеялся курчавый мальчик. Этот смех, показавшийся Харитонову знакомым своим баритонистым, слюнявым тембром, обратил на себя внимание и плавно качающейся паствы. Люди привыкли к гоготу, истошному и утробному, к хихиканью, удовлетворенному и умильному, — и вдруг этот резвый смех ребенка, который увидел перед собой что-то нестерпимо комичное и которого как будто вдобавок во время представления мимоходом пощекотал рыжий шапитовский клоун. Харитонов догадался о причине веселья мальчика. Ребенок смеялся над тем, что его бабушка заснула и теперь свистела носом в своем кресле. Ее растолкали, а мальчику для успокоения провели намагниченной дланью по мягкому затылку. Харитонов усмехнулся тому, что все бабушки засыпают одинаково сварливо, а просыпаются одинаково простодушно. Проповедник не преминул посулить, что старцам Господь обязательно изольет блаженные сны, потому что у старцев часто бывает бессонница. Зачем-то пригнувшись, он прошел за кулисы.
Харитонов видел, что этот тридцатилетний томительный проповедник настоящее религиозное чувство держит при себе, втайне от других, а эти нелепые мистерии устраивает, безусловно, ради денег, ради бизнеса и ради доступной веры нетерпеливых людей. Некоторые из них свою богоизбранность принимали теперь за чистую монету и несли ее к выходу с энергичной непогрешимостью.
«Хорошо, — думал Харитонов, — что Людмила чересчур эгоистична и разумна, чтобы не быть атеисткой».
14
Харитонов выбрал кофейню с долговязым табуретом, лицом к сплошному окну, чтобы видеть всех людей, выходящих на Невский проспект. Он любил Невский проспект за то, за что его любили всегда, — за его неизменяемость, несмотря ни на что, и, главное, за его репрезентативность. Харитонов взял большую чашку «американо», чтобы пить долго и не багровея.
На Невском проспекте особенно заметной становилась одежда. Дышал Невский проспект бензиновым ветром с Фонтанки и смесью французского парфюма с нижегородским.
Кофе по-американски был жиденьким, номинальным — специально для соглядатаев поневоле, соглядатаев-дилетантов. Их теперь накопилась тьма-тьмущая.
Некий старик зевнул чернотой, подсвеченной парой сталактитовых зубов, и поправил свой, казалось, твидовый ворот.
Дочка и мать с непримиримыми разновидностями одного и того же лица вперились друг в друга до взаимопроникновения. Дочку миловидно облегало приталенное легкое розовое пальтецо, удлинявшее сильную фигурку. Мать сжимала свою голову — для вящей сдержанности — белой вязаной шапочкой с грязноватым отворотом.
Лицо юного субчика в полосатых, расклешенных брюках было тонким и при этом грубым. У человека, пытливо олицетворявшего собой богему, плешь деликатно просвечивала сквозь прямые каштановые пряди, а борода была хорошо промытой и необычайно растянутой.
Как ни странно, в мире среди старомодных людей оставалось еще достаточное количество молодых. Их особенность состояла в том, что они игнорировали себе подобных.
Харитонов заметил, что в последнее время некоторые явные предприниматели, вышедшие из бандитов, начали приобретать терпеливо вдумчивое выражение лица. Сидя в автомобилях, они уже не с насмешливым, а с ангельским гражданским долготерпением, чуть ли не с европейским удовольствием стали пропускать пешеходов на перекрестках.
«Я был уже на станции, — говорил в ладонь самозабвенно ухоженный, высокий, дородный джентльмен. — Я сейчас Наташку на волосы отвезу и приеду. Буду на Лиговке через двадцать минут». Ему очень шло это пренебрежительное педалирование предлога «на», столь любимого приблатненной русской речью предыдущего десятилетия. Белокурая, душистая Наташка была крайне широка в бедрах, что, видимо, очень льстило бизнесмену. Наташка сверкала какой-то изысканно драной тужуркой с шиншилловой опушкой на немыслимом месте — на волнообразной груди. На самом бизнесмене был переливчатый костюм, с некоторым истомленным опозданием повторявший телодвижения господина. Под костюмом был свитер без горла. Джентльмен сел на диванчик и провалился в мягкость. Переместился на стул и Наташке приказал: «Садись сюда, Наташка, на стул. Неудобно ведь».
Харитонов вспомнил о своем давнем, бывшем, душанбинском костюме, пошитом в Доме быта на площади Айни к выпуску из школы. Это была светло-серая, узкая, отутюженная тройка; пиджак был с широкими, артистическими лацканами, с накладными закругленными карманами. Костюм пострадал сразу же — теплым, темным выпускным вечером. Тогда по группе нарядных, претенциозных старшеклассников кишлачная шпана открыла стрельбу мокрыми комьями глины. Мать Харитонова очистила костюм, и тот служил ее сыну еще несколько лет как парадный, выстраданный вицмундир.
Подъехало «пежо», новое и емкое, как мавзолей, цвета охристого, морковного огня. Харитонов полагал, что из такой яркой машины выйдет ломкая, рыжая девица с лаковыми лодыжками, а вылез рыжеватый сухой мужчина. Он был одет и обут в тон машины — в велюровый изжелта-коричневатый костюм, вальяжно мнущийся, бежевую сорочку с высоким воротником, едва зажатым пухлым бурым галстуком и то и дело вспыхивавшими на солнце запонками. Остроносые замшевые туфли, пятнистые, словно два леопарда, в движении обнажали красноватые, языкастые подошвы. В одной загорелой руке владелец «пежо» нес рыжий портфель, в другой чего-то недоставало. Мужчина остановился и развернулся с невероятно растерянным видом. Он возвратился к автомобилю, покопался в салоне и наконец выпрямился. Теперь и вторая его рука была занята: в ней он держал миниатюрную модель своего «пежо» аналогичного, огнедышащего цвета. Теперь человек опять мог выглядеть уравновешенным и цельным.
Внезапно Харитонову стало страшно за этого стильного человека, как будто с ним сейчас должна была произойти трагедия, как будто человек этот, еще один шаг, — и развалится на части. «Дамоклов меч стильности, — почему-то так определил действительную угрозу Харитонов. — Этот человек может погибнуть от саморазрушения собственной стильности. Ее формы, не достигая зрелости, пожирают друг друга. Стильность фрагментарна, и поэтому ненасытна, и поэтому экстенсивна. Ей уже не хватает внешнего пространства. Этот человек пребывает в тревоге, он боится упустить последнее соответствие своему имиджу. За него надо бояться. Его может спасти лишь интенсивная сосредоточенность. Но его внутренний взгляд обращен не в душу, а в подсознание».
Оттого что Харитонов неожиданно для себя вдруг стал размышлять абстрактно, лишь усилило его беспокойство за человека, вышедшего из «пежо». «Он, как и я, — подумал Харитонов. — Я тоже отодвигаю момент получения анализов из поликлиники».
15
Харитонов наблюдал в своем однокашнике Михаиле Зеленецком, за его внешней и даже внутренней соразмерностью, до смешного знакомую остановку души. Зеленецкий выпивал один, Харитонов отказался от угощения с такой немотивированной обыденностью, с какой никогда не отказываются от случайной выпивки ни человек занятой, ни закодированный алкоголик, ни брезгливый моралист. Харитонов сказал, что почему-то не хочет пить и не знает причины этого нежелания. Он вспомнил своего умирающего отца, которому мать, желая подсластить пилюлю, наливала вина, его любимый дешевый портвейн, а отец отводил ее руку с кровавым стаканом спокойно и деликатно, стараясь не обидеть в последний раз жену. Мать тогда для всех говорила, что отпился, мол, отец, а про себя думала о его новом, долгом взгляде, полном, помимо благодарности за ее строгую заботу, еще и какой-то восторженной, ласковой ясности. «Вот, — вздыхала она, — был бы он всю жизнь таким трезвым и умным, а не только теперь, при смерти».
Зеленецкий хмелел и воодушевлялся прошлой дружбой. Харитонову было лестно видеть однокурсника благополучным.
«Стоит поменять лица на экране, и весь образ мира предстанет совершенно другим. Ты меня понимаешь?» — спрашивал Зеленецкий.
«Понимаю», — отвечал Харитонов.
«Пойдешь ко мне работать?»
«Пойду. Только кем я у тебя буду работать?»
«Это неважно. Зло всегда объединяется — все эти шарлатаны. Нормальные люди тоже должны собираться в кулак. А мы засели по своим углам и уповаем на второе пришествие. Льем воду на их мельницу. Так дело не делается. Им только и надо, чтобы мы были разобщены и бездеятельны, чтобы быстренько назвать нас неприспособленными и под сурдинку списать со всех счетов. Ты думаешь, им бывает нас жалко? Это мы жалеем их, дураки. А они беспощадны. Ты даже не можешь представить себе, насколько они беспощадны».
«Они — это те, кто не ведает, что творит?»
«О, нет! Они — это те, кто ведает, что творит. Это мы не ведаем».
«Они тоже не ведают, Миша».
«Может быть. Ты прав. Они тоже не ведают по большому счету».
Харитонов догадывался, что боевитость у Михаила была оборотной стороной медали, врученной самому себе за многолетние личные колебания, что такой же медалью следует удостоить и его, Харитонова, что завтра Зеленецкий попросит Харитонова немного подождать с трудоустройством в силу еще непреодолимых обстоятельств. Когда Зеленецкий увидел, что Харитонов понимает его как самого себя и нисколько не брезгует таким пониманием, он вдруг решил не конфузиться, а, напротив, стать еще более открытым и задушевным.
«Ты что, не веришь, что я возьму тебя к себе на работу? Напрасно. Я возьму тебя не из упрямства, а потому, что именно теперь я вижу в тебе то, к чему ты абсолютно готов. Если честно, ты, как и я, уже готов ко всему и на всё. Я знаю, тебе тошно жить без элементарной человеческой справедливости. Тебе не хватает ее единственного мановения. Тебе не хватает, как и всем нам, чуда. Поверь мне, справедливости в том виде, в каком мы ее знали, не будет больше никогда. Мы не по замкнутому кругу ходим. Мы вступили на линейный путь. Отсутствие справедливости необходимо замещать борьбой. Ты можешь быть жестоким?.. Вот и я не могу».
«Так у тебя издательство-то осталось?» — спросил Харитонов.
«Я не могу больше издавать мерзость. Но только мерзость приносит деньги... Вот скажи мне, какая, к примеру, книга тебе нужна сейчас, если вообще она тебе нужна?»
«Мне? Лев Толстой, — ответил Харитонов и захотел ликующе выпить. — Я люблю Льва Толстого».
«Увы, мы идем не по кругу, мы идем по линии, по пунктиру. Современные писатели боятся изображать мир таким, каков он есть, и предпочитают выдумывать историйки про него в меру своей испорченности. Потому что, как только они начнут изображать мир таким, каков он есть, на поверку выйдет, если они талантливы, что таким мир изображать нельзя, а если они бездарны, то их беспомощность будет видна невооруженным глазом. Вот они и дергаются, и занимаются алхимией... Я находил очень одаренных авторов, но все они оказывались трусами. А если автор смелый и честный, то, к сожалению, таланта у него с гулькин нос».
«Странно. Я думал, все наоборот».
«Нет».
«Странно».
«Да... А на экране нужно поменять лица, чтобы картина преобразилась. Истинно красивые лица сами по себе созидательны. Всегда».
«А от меня ушла мать. Не могу нигде найти».
«Да, я знаю. Мне Людмила рассказала. Я вам звонил... Ты думаешь, ты один такой?»
«Какой?»
«От которого уходит мать?»
«От тебя тоже, Миша?»
«Ладно, позвони мне завтра, Харитонов. Мне надо ехать».
У Зеленецкого был мягкий черный портфель на ремне. Зеленецкий закинул портфель на плечо с той мешкотной легкостью, с какой закидывают на плечо лишь пустой портфель, и вернулся к Харитонову. Кажется, Зеленецкому становилось приятно быть до конца откровенным с Харитоновым.
«Харитонов, — сказал Зеленецкий с убежденностью, — поверь, ничего с твоей Людмилой у меня не было».
«Я знаю», — сказал Харитонов.
«Ну и хорошо, — сказал Зеленецкий. — Я поехал. Звони».
16
Сын Алексей старался быть с отцом прямым и замкнутым. Реагировал сын Харитонова лишь на то, на что в его возрасте у него не хватало сил не реагировать, и реакция эта выходила недвусмысленной и минимальной. Отцу нравилось, что душа сына по большей части оставалась закрытой и недоступной не только для окружающего мира, для отца с матерью, но и для самой себя. Отец, правда, не мог с полной уверенностью сказать, та же самая сторона сыновней души для всех представала невидимой или же для отца невидимой была одна половина сына, а для матери — другая.
«Папа, не говори ерунду», — произнес Алексей, не отрываясь от компьютера ни на йоту, когда Харитонов поинтересовался, не скрывают ли они от него настоящую причину исчезновения бабушки. «Она только что, перед твоим приходом, звонила, — сердито уточнил сын. — Сказала, что находится у каких-то хороших людей и что скоро, часа через два, вернется домой». У сына на мониторе то и дело происходили мгновенные и капитальные метаморфозы, картинки выклевывались друг из друга с геометрической, ландшафтной достоверностью, их спонтанное рождение и умирание сопровождалось звуковыми итоговыми кляксами.
Харитонов сидел за спиной сына на диване и считал хлюпающие сигналы. На втором десятке звуков сын начал теребить затылок, на который смотрел отец. Затылок у сына был белобрысым, ранимым и, в мать, степенным. Сын пил молоко. Харитонов в его годы тоже любил молоко. Теперь этот консервированный продукт мало чем напоминал то душанбинское молоко в пирамидальных пакетах, на что Харитонов, ради заветной связи времен, жаловался сыну и натыкался на его: «Не говори ерунду, папа!»
Харитонов покинул комнату сына человеком, с удовольствием прибедняющимся и готовым к терпеливому исполнению эпизодических ролей. Он вспомнил, что, когда он стал юношей, он боялся порой броситься на своего отца с кулаками, заступаясь за мать. По всей видимости, Алексею, своему сыну, Харитонов такого повода уже не предоставит. Вероятно, все они разные — отец Харитонова, сам Харитонов и его сын Алексей. Из одного петляющего, каучукового корня произрастали разные близкие люди. Отец был бесшабашным и временами угодливым, Харитонов — непредусмотрительным и временами вероломным, Алексей, даст Бог, будет толковым и, кажется, справедливым в главном. Каждый из них любил сокрушительное внутреннее раскаяние, потому как, по природе своей, каждый из них умел презирать себя сильнее, чем другого.
Харитонов предположил, что Алексей различил новую, какую-то прощальную тягу отца к своей матери, к его, Алексея, бабушке и, может быть, протестуя, потянулся к собственной матери, к жене Харитонова, с демонстративным предпочтением, по его мнению, к самому обездоленному в тот момент родному человеку. Бабушка, конечно же, заметила это и почувствовала обездоленной себя. Харитонов сожалел теперь о том, что так надолго уехал из дома с этими чертовыми куклами, что оставил мать среди неравной любви. К каким еще хорошим людям она теперь прибилась?
По телефону барышня с вечно слезливым голосом спросила Алексея. Харитонов передал трубку сыну. Тот пластично развалился на диване для продолжительного, заинтересованного и радостного разговора. Харитонов, видя сына красивым и зрелым, с усмешкой подумал о внезапной досаде, о пресловутой ревности родителей к избранникам своих повзрослевших детей: «Странно, но поклонники дочери меня почему-то раздражают меньше, чем эта плаксиво медоточивая девушка Алексея».
17
Матери так и не было, когда мокрые сгустки тьмы стали уже затвердевать и шум машин от сырости дробился и разлетался брызгами.
Харитонов решил поточнее разузнать у дочери Марины, в чем ушла бабушка. «Я не знаю, папа. Кажется, в своей зеленой вязаной кофте и плаще», — ответила дочь, как всегда от робости и неожиданной помехи превращаясь в маленькую, испуганную девочку, которой негде спрятаться, кроме как в своих ладонях и длинных темных волосах. «Ну как же, Марина, ты не знаешь? Вы же находитесь в одной комнате». — «Не знаю я, папа. Вот именно что в одной комнате». — «Ты ее ничем не обидела? Ничего не говорила?» — «Папа, чем я могу ее обидеть? Я прихожу, она ложится спать. Я вынуждена на кухне готовиться к занятиям». — «Марина, она же тебе бабушка. Она же тебе не чужая». — «Папа, я знаю, что она мне не чужая, я знаю, что она мне бабушка». Харитонов увидел, что дочь собирается заплакать, и вышел из ее комнаты, где на собранном кресле-кровати лежала большая подушка, а к этой взбитой подушке был прислонен допотопный, потертый ридикюль матери с тугой, неприступной застежкой. В коридоре дочь обогнала отца и закрылась в ванной.
Дочь и мать Харитонова, независимо друг от друга, в сопротивлении упрекам становились одинаково беззащитными. Его губы, скулы, сутуловатые плечи — такими, какими они у него были в молодости, передались в девичьем варианте дочери, а сам он теперь пользовался как будто новоиспеченными, набрякшими, усиленными чертами. Если и можно было теперь узнать дочь по отцу, то лишь благодаря их общей походке, хотя и с поправкой на то, что дочь передвигалась легко и незаметно, а отец — с заметной, благоприобретенной угловатостью.
Иногда Харитонову казалось, что дочь до сих пор не забыла, как он испугал ее, когда вернулся из армии. Дочери не исполнилось тогда и трех лет, и она не могла узнать в дяденьке, вдруг поднявшем ее высоко над землей, так высоко, как еще никто и никогда ее не поднимал, своего отца. Она задрожала в его руках, и он опустил ее на землю, и она отбежала к другой бабушке, к теще Харитонова, и упала, рыдая, в ее нагретый, пестрый, цыганский подол. Теща сказала тогда, что это, наверно, чужой дяденька, что папу мы бы узнали сразу. А Харитонов насупился и пробурчал: «Ну что же, чужой так чужой». Девочка, кажется, расслышала эти слова и запомнила их на всю жизнь.
Харитонов понимал, что в теперешнем его положении для всех будет благом, если он уйдет из дома, что именно к такому решению его побуждала и мать своим уходом, что ему следует уйти хотя бы ради того, чтобы вызревающие судьбы Марины и Алексея меньше бы цеплялись за шестеренки его незадачливой судьбы. На расстоянии, вероятно, общая родовая травма действует не так заразительно, как вблизи.
«Довел ребенка до слез, — сказала Людмила, когда Харитонов протягивал ей деньги за восковые фигуры. — Это всё?»
«Пока да», — ответил Харитонов.
«Как же мы будем жить, милый?» — громко хохотнула Людмила.
«Меня Зеленецкий приглашает к себе на работу. Кстати, он тебе передавал привет».
«Спасибо. Тебе он тоже передавал. Зря уповаешь на Зеленецкого. Он наобещает с три короба — и в кусты».
«Я знаю. Просил завтра позвонить».
«Звони. Я одна вас всех прокормить не смогу».
«Я знаю».
«Ты получил результаты анализов?»
«Пока нет».
«Чего тянешь? Не дай Бог, еще в больницу придется лечь».
«Я вроде бы неплохо себя чувствую».
«Иди успокой ребенка. Что ты там ей наговорил про свою мать? Думать ведь надо», — сказала жена и положила купюры на холодильник.
«Пойду», — согласился Харитонов, замечая, как быстро в человеческий голос проникают иждивенческие нотки.
Когда он вошел к дочери, та виновато улыбнулась. Она сидела калачиком на бабушкином спальном месте, втиснувшись между подлокотником и пухлой подушкой.
«Марина, ты меня прости и не плачь, маленькая!» — сказал отец и вдруг впервые в жизни поцеловал взрослые руки дочери.
«Я не плачу, папа», — заплакала еще интенсивнее и невиннее дочь и закрылась ладонями.
Харитонов поцеловал ее темные, насыщенные глаза через заплаканные пальцы и отвел руки от лица. Слезы помогали ее слабым губам размягчаться и цвести. Ее рот начинал кривиться по-харитоновски, как у отца и бабушки, с дальним, живучим, скоморошьим прицелом.
18
В отделении милиции зафиксировали, что от гражданина Харитонова ушла мать, и утешили, что, по статистике, в большом городе ежедневно пропадают и отыскиваются десятки бабушек и дедушек, престарелых матерей и отцов. А если к неприкаянным старикам приплюсовать еще и беспризорных детей, то вместе они составят самое многочисленное из всех беспокойных сословий России.
К ночи домочадцы Харитонова разбрелись по своим комнатам (их в квартире было три), сам же Харитонов включил телевизор на кухне, где слышнее звучал дверной звонок, который в последнее время Харитонов стал различать плохо то ли из-за специфики тембра звонка, то ли из-за собственной наступающей глухоты. Харитонов прилег на узкий кухонный диванчик на поролоне и укрылся давнишним, куцым шотландским пледом. По разу заходили на кухню непроницаемый сын за молоком с песочным печеньем, дочь с сообщительной улыбкой за дольками дыни и жена, всегда уменьшающаяся в домашнем халате, за яблоком.
Харитонов смотрел на телевизионные лица, которые хотел сместить с экрана Зеленецкий, и не мог угадать, как будут выглядеть новые. Будут ли они такими, как, например, у Людмилы или Марины с Лешей, или как у самого Зеленецкого, или как у Ольги Беспаловой, или же они будут совершенно другого склада и другого пошиба, совершенно не виданными доселе.
По трем каналам шли похожие сериалы с одними и теми же артистами и даже с одними и теми же репликами. Матери Харитонова эти, как она выражалась, нежизненные наши сериалы были не по нутру, она до сих пор предпочитала сериалы первые, прежние, бразильские, по-настоящему нежизненные.
На канале «Культура» Харитонов задержался. Проказливого ведущего обаятельным делала детская, стеснительная косолапость вкупе со слипающимися во время ходьбы, мучными ляжками. Он произносил деликатные, злободневно скроенные фразы с видимой задержкой, в непреодолимо опасливом раздумье. Ему доставляло удовольствие, что в его интерпретации самые противоречивые мнения становились равнозначными. Главное, чтобы они были удобоваримыми на тот момент и чтобы его любимую мысль могли бы постичь лишь посвященные. Харитонов вспомнил, как однажды на экране телевизора поссорились министр по чрезвычайным ситуациям с министром культуры. Первому, в связи с тем, что он был старожилом в правительстве, не понравилась во втором, недавно назначенном на свою должность, чересчур заумная для новичка лексика и, в особенности, произнесенное в осудительном тоне словечко «постмодернизм». Тогда за спинами этих, каждого по-своему симпатичных министров замаячили знакомые телевизионные уши, и уши эти принадлежали озорному ведущему.
Теперь ведущий предоставлял возможность высказаться молодым писателям. Харитонов увидел незнакомые, но привычные юные лица. Писателя-девушку ведущий хвалил больше, нежели писателя-юношу. Писатель-юноша это заметил и, считая себя писателем, куда более талантливым, чем эта хорошо раскрученная писатель-девушка, накинулся с гладкой филиппикой на так называемую коммерческую, чернушную, компрадорскую, феминизированную литературу. Было видно, как писатель-юноша от непризнанности превращался из писателя-либерала в писателя-патриота. Он с такой плотской ненавистью поглядывал в сторону писателя-девушки, как будто бы подумывал затащить ее в постель и там доказать ей свое превосходство самым беспощадным и самым изощренным образом. Кажется, девушка-писатель прочитала желания парня-писателя и в свою очередь решила согласиться, паче чаяния, как-нибудь действительно разделить ложе с этим горе-писателем-юношей, чтобы в самый ответственный момент расхохотаться и заявить ему, что разочарована всеми его зримыми и незримыми мужскими достоинствами.
Харитонов переключился с «Культуры» на другой канал. Здесь тоже действовали девушки и парни. Документальные кадры гнались друг за другом. Парни были с автоматами, в беретах и кургузых маскхалатах. Они нависали над девушкой, черное платье которой сливалось с черными волосами. Наконец, смертельно раненная шахидка приподнялась и произнесла с маниакальной четкостью: «Я проклинаю, проклинаю, проклинаю!» Харитонов подумал, имеют ли ее слова хоть какую-нибудь силу? Он нажал новую кнопку на пульте. Перед глазами справа налево с разной скоростью побежали две параллельные строки. На обеих были мировые индексы, цифры, проценты, акции, главные новости с грамматическими ошибками...
19
Во сне от физической боли Харитонова осталась лишь сама болезнь в неприютной больнице с ледяным кафелем, скользким линолеумом и перекрестными сквозняками, где хлопотливые врачи и, особенно, медсестры с высокими прическами не только между собой, но и с пациентами говорили на каком-то малопонятном для Харитонова, древнем индоевропейском наречии.
Мать Харитонова беседовала с консилиумом врачей как коллега, на равных. «Понимаете, — обращалась она к докторам, — мой сын делает свое дело профессионально. Он хороший специалист, ответственный. Но эта его ответственность не группируется и не сосредоточивается в пучок усилий на каком-либо одном участке ради самосохранения, а, наоборот, распыляется над миром, как крупнолистый прах, как потухшая магма цветущих яблонь. К сожалению, у него нет храбрости. Вот у его отца храбрость была. А у него ее нет. Ему кажется, что храбрость может быть вполне заменена предчувствием и умением распространять это предчувствие на других людей».
Консилиум, состоявший из светил, молчал в тряпочку, интеллигентно, ритуально, заговорщически, как стена. Главным среди ареопага был дебелый обидчивый профессор с одинаково накрахмаленными щеками и колпаком. Остальные медики, в чепчиках, рады были казаться подневольными и утешительными. Они уже выбрали на место Харитонова другого человека, своего. Пусть он не был таким замечательным, как Харитонов, зато он был своим. Мать догадалась, что на ее сыне поставили крест, и бессильно заплакала. Края ее рта опустились полого, как склоны холма. Наконец мать поднялась и произнесла для проформы в одно сплошное глинобитное лицо консилиума: «Представляю, как вам будет становиться не по себе, когда по необходимости вам все-таки придется произносить имя моего сына». Консилиум нашел в себе воспитание, чтобы не захохотать. Мать куда-то направилась в прежнем беззвучии, и Харитонов бросился за ней.
Он очутился в рекреациях своей душанбинской школы. Она представляла собой теперь некое общежитие, какой-то муравейник, где, между тем, движения не было, где за смутным гулом население лишь угадывалось.
Харитонов проник в какую-то кладовку с глобусами и рулонами карт и затаился. Здесь пахло сильнее всего клеенкой и мелом. Он слышал, как по коридору топали напористые тела, ища беглецов. Харитонов понял, что матери он больше не увидит, что она, судя по всему, умерла, когда встала и покинула консилиум. Она умерла в пути, растворилась в коридоре меж двух стен.
«Вот где меня настигло одиночество, — подумал Харитонов. — Не среди дурацких кукол, а среди географических карт. Без матери никого не будет». Он знал, что вслед за одиночеством человеческие внутренности охватывает самый омерзительный, беспричинный страх. В кладовке не было окон. Свету, даже ночному, воображаемому, неоткуда было взяться. Однако он появился.
Харитонов догадался, что сверху вниз на него смотрел сам дьявол. Взгляд его был вытянутым, длинным и на всем своем протяжении материальным, затверделым, постукивавшим по плечу. Если бы играла музыка, то этот взгляд служил бы дирижерской палочкой. Вся ненависть, какую только знал Харитонов к этому дню, теперь оглядывала его с полным на то основанием с ног до головы. Казалось, эта циклопическая ярость все еще решала, что сделать с Харитоновым — растерзать или припечатать к полу. От ужаса еще во сне Харитонов успел взмолиться: «Господи! Почему мне приснился дьявол, а не Ты?»
20
Харитонов знал, что во сне он кого-то обманул; и оттого что он обманул человека очень хорошего, если не сказать — прекрасного, Харитонов и проснулся.
Какое-то слово, плотное и округлое, тонуло, словно колода, за гранью яви, а без этого слова-пароля он не мог вспомнить ни хорошего человека, обманутого им, ни уже принятого решения.
За окном молодежь горланила, как резаная. Усердствовала фальцетом некая Светка, которую заводил некий Артем: «Ну, Артемка! Хи-хи-хи! Отстань от меня, пусти, пожалуйста! Хе-хе-хе! Колготки порвал. Покупать будешь. Ну, Артемка!». Артемкин басок был новым, недавно сотканным из диагональных нитей, поэтому раздавался слитно, неразличимо, как саржевая подкладка для Светкиного люрекса.
Харитонов пошел на веселые крики.
У подъезда в жидкой ночной акварели юноши и девушки плавали румяными и маслянистыми. Красиво пересекались отблески с прядями, пряди с ветвями. Иногда одно лицо густело на другом.
«О, Депардье! Прикинь!» — воскликнул юный шатен с чернильными веснушками.
«Не, это сосед с пятого этажа! — уточнил его приятель с банкой пива. — Мать ищет».
«А вы ее не видели, ребятки?» — оглянулся Харитонов.
«Вчера видели. Сегодня нет», — ответил тот же соседский голос.
Светка, целовавшаяся с Артемкой, оторвалась от него и произнесла, как артистка, с откинутой веской головой: «Пусть этот иудин поцелуй будет последним!» «Чего это?» — удивился Артемка...
Дворами Харитонов вышел к вымершей, предутренней трассе. На ее обочине он погладил неподвижную серебристую кошку. Ее рот осклабился мелкими беззащитными зубками. Кошка была мертвой.
Небо подрагивало в стратосфере. Ниже, среди комканых сиреневых туч, телесные подпалины образовывались неощутимо.
Тихий, мокрый, блистающий асфальт резонировал с вязкими шагами Харитонова.
Безмолвие, заполнившее легкие Харитонова, не давало дышать душе.
ПОВЕСТЬ О МИХАИЛЕ ПЕТРОВИЧЕ
1. Ненависть к Леониду
Михаил Петрович, став с годами неповоротливым и, по возможности, честным, то есть избирательно и упрямо честным, сносил насмешки над собой с почти незаметной презрительностью. Он знал наперечет всех, кто считал его дураком, и перестал с ними робеть, подрыгивать широкой ступней в сползающем носке, жмуриться ради воображаемого реванша и хехекать. В точке продолжительного кипения обида заскорузла, как мозоль от кирзача на розовой пятке новобранца.
С утра Михаила Петровича подмывало позвонить Леониду и назвать того подлецом, или лучше — подленьким человеком. Хотя если и говорить о Леониде так, вообще как о человеке, то следовало бы все-таки говорить не «подленький», а «подлый» — на всю катушку.
Михаил Петрович понимал, что Леонид воспротивится отдавать ему пресловутые триста долларов и, наоборот, праведно закричит в телефонную трубку, застигнутый врасплох. И тут-то Михаил Петрович и объявит Леониду, что он, Леонид, негодяй по жизни, подленький человечишко, и бросит эту трубку с неслыханным доселе чувством превосходства, вернее, нажмет на крохотную клавишу на аппарате расплющенной желтой фалангой... И все-таки бросит эту трубку об диван так, что она хрюкнет, будто пластмассовая свинья. После чего просияет Михаил Петрович наконец-то по-настоящему, нравственно, как теперь уже редко кто может просиять.
Так оно и вышло в субботу, ближе к обеду. Как только Михаил Петрович попросил Леонида компенсировать ему старый должок в размере трехсот долларов, Леонид начал преступно заикаться и называть Михаила Петровича по-разному: и Сергеевичем, и Андреевичем, а потом вообще — дриопитеком, после чего Михаил Петрович сказал Леониду все, что он о нем думал последние десять лет, а именно то, что Леонид хочет на чужом горбу в рай въехать. Только вместо «горбу» Михаил Петрович употребил другое слово, и все это вместе получилось смешно и метко.
Михаил Петрович ради такой победы захохотал рыхлым, неприятным самому себе смехом, выпил полстакана перцовки и закусил полоской венгерского шпика, к которой прилепил для полноты картины мокрый корнишон. Михаил Петрович любил возводить бутерброды и вообще любил всякие наслоения и напластования.
По телевизору демонстрировали таких же умников среднего звена, каким был и Леонид, в полосатых костюмах и взбитых галстуках, — коммерсантов, пахнущих даже сквозь экран дорогим тошнотворным парфюмом. «Все они на чужом ... хотят в рай въехать», — поразился своей юмористической точности Михаил Петрович, вспомнив, кстати, что Леонида за глаза нет-нет да и называли педерастом некоторые женщины, в особенности бывшая жена Михаила Петровича Надежда, которой, к сожалению, верить было нельзя ни на йоту.
Михаил Петрович переключил на канал, где показывали животных, и очень обрадовался степенному зрелищу, тем более что этими животными были не насекомые и не млекопитающие, а смертельно ядовитые, плоские и при этом совершенно не агрессивные океанические рыбы, чудовища с гадливыми и памятливыми глазами.
Михаил Петрович думал, что и сам он, наверное, если бы родился рыбой, был бы рыбой неплохой, эдаким сомом, довольно покладистым под своей корягой, когда бы его не терроризировали шустрые золотистые менеджеры подводного мира.
Он задремал, но видел, как всегда, не сон, а явь. Жизнь к нему стала возвращаться громадными прямоугольными волнами. Все цунами последнего времени Михаил Петрович одобрял как карательный знак свыше и как утешение простому, неиспорченному русскому мужику, каковым привык считать себя чуть ли не с младых ногтей.
Михаил Петрович видел сполохи Италии. Леонид во время поездки по Италии так сорил деньгами, словно это он, Леонид, был главным в их тандеме, а не наоборот. Туристической группе и в голову не могло прийти, что Леонид в то время был всего лишь заместителем у Михаила Петровича, потому что эта нарочито неразборчивая и неутомимая туристическая свора всю дорогу наливалась вином, за которое небрежно платил Леонид.
Снились Михаилу Петровичу не столько отдельные виды Италии: аристократично заплесневелые углы гостиничных номеров, тесные, опасные балкончики, исконно теплые, щербатые парапеты, старинная стерильная пыль, измельченная до марева, яркие приземистые кроны на твердом солнечном горизонте, съедобно пахнущие узкие дверные проемы, чернявый Неаполь, желтый Римини, синий Бари, дырявый Колизей, спирали коридоров Ватикана, — снилась сама праздность, сама нега, сама услужливая заграничность. Вдруг все пространство сна за мгновение подернулось какой-то осязаемой несправедливостью, словно эта несправедливость была не ощущением и не состоянием, а изъяном ландшафта, и образовывалась не она в человеке, а человек в ней.
Мелкими пакостями Михаил Петрович хотел обезоружить хлебосольное хамство Леонида: снимал на видеокамеру безобразно пьяного Леонида сомнамбулически сидящим на унитазе, с воем ползающим по комнате в спущенных брюках, испускающим пузырчатые красные слюни на белую наволочку, жующим сквозь отвратительную дрему угол своего распахнутого рыжего лоснистого бумажника. Он фотографировал растрепанного, дезориентированного Леонида перед статуей Давида на фоне грозового неба, захватывая передним планом кучу свежего конского навоза рядом с туфлями Леонида. Наконец последней итальянской ночью Михаил Петрович напрямик сказал Леониду, что по приезде домой он уволит его, что ему надоел заместитель, который ведет себя как подпольный миллионер или любовница-воровка. «Ты у меня тыришь, Леонид, что ли? Тыришь? Что ли?» — трубил напыщенным басом Михаил Петрович. Ему не мешало бы в тот момент избить Леонида, но ему никак не удавалось зацепиться в Леониде для деятельного бешенства за какую-либо особенно ненавистную или гадкую деталь. В тот вечер Леонид был болезненно трезв, а Михаил Петрович, напротив, перебрал, и Леонид ему казался и напуганным и поверженным. У Леонида лицо было без щетины, подростковое, но изможденное. Леонид умел выглядеть неприступно, благородно жалким.
После поклонения в Бари мощам святого Николая (хоть и общего с русским Угодником, но все-таки какого-то чужого) туристы-паломники в один голос заговорили о преображении Леонида (не о том, что его перекосило или что у него кровинки в лице нет, а именно о преображении, что было неприятно слышать Михаилу Петровичу). В этот день Леонид прекратил глушить вино и позеленел. Именно эту прозелень обезвоженных скул Леонида его спутники ради скоморошьего пиетета стали выдавать за симптом чуда: мол, во как, пил человек, корректно куролесил, а тут вдруг ударился лбом о раку и, нате вам, преобразился, по крайней мере осунулся и затосковал. По общему мнению, элементарное алкогольное отравление если и могло исказить облик признанного весельчака, то все-таки сделало бы это не так филигранно, не так проникновенно. Ну что ж, вероятно, осенило — выборочно и точечно. «До чего народ обнаглел! — возмущался Михаил Петрович. — Из начинающего пьянчуги божьего человека лепят!»
Однако даже Михаил Петрович не ожидал от сугубо похмельной внешности Леонида дополнительных, необъяснимых гримас. Эти комбинации из складок у губ, на переносице если и отливали светом, то свет этот казался Михаилу Петровичу каким-то темным, плотным, словно многократно отраженным. Михаил Петрович знал, что существуют люди, на которых годами и десятилетиями, может быть с самого их рождения, лежит отчетливая печать смерти. Они могут жить хорошо и долго и при этом выглядеть живыми трупами. Видя их, понимаешь, что они не жильцы на белом свете, что их дни сочтены. Таким мертвенно поблескивающим представало и лицо Леонида ветреным вечером у берега серого Адриатического моря.
Тогда, так и не поколотив Леонида, Михаил Петрович положил свои крупные, нахальные руки на стол рядом с его мальчишескими, тревожными руками. Положил, чтобы было видно, что одна порода людей всегда будет теснить другую без сантиментов. Михаил Петрович видел, что Леонид терпел стороннюю экспансию с дальним прицелом. По глазам Леонида Михаил Петрович не мог понять, была ли цель Леонида мстительной, злопамятной или, наоборот, смиренной, раболепной. В любом случае Михаилу Петровичу было ясно, что он для Леонида не помехой был на жизненном пути, а лишь попутным недоразумением. Михаил Петрович, не решившись на большее, начал активно дымить в комнате. Леонид никогда не был курильщиком и не выносил табачного дыма, да и Михаил Петрович обычно старался не курить при нем в помещении. На этот раз Леонид тактично молчал: он понимал, что соседу по комнате нужно было теперь хоть как-нибудь, хоть призрачно главенствовать...
...Михаил Петрович открыл глаза до того, как проснуться. От резкой итальянской досады не осталось и следа. Наоборот, он сознавал, что в целом признателен Леониду. Это была признательность запоздалая и поэтому объективная, с настороженностью. Уже после Италии, после банкротства предприятия, после личной драмы Михаила Петровича Леонид вел себя так, словно положение бывшего шефа было отнюдь не унизительным, а в порядке вещей, при котором нет категорий низкого и высокого, счастливого и несчастного, а есть категории пережитого и не пережитого.
Одно время Михаилу Петровичу казалось сомнительным, что Леонид отверг похотливые притязания его жены Надежды, тогда как некоторые другие подчиненные Михаила Петровича таким подарком не побрезговали. Их подлость или растерянность он понимал, непроницаемая деликатность Леонида оставалась для него загадкой, и загадкой невыносимой. Как можно отказываться от тела жены поверженного начальника, который тебе еще совсем недавно причинял столько неприятностей?! Причем и тело-то было не завалящее, холеное, моложавое, разнузданное.
Михаил Петрович вспоминал, как на одной из вечеринок застал Леонида и Надежду в ванной комнате. Леонид стоял у раковины лицом к двери, взяв руки назад, а Надежда в скомканной юбке сидела на кожаном пуфе у ног Леонида, и пряди ее наполовину мелированных волос, с металлической изморосью, касались застегнутой ширинки Леонида. Надежда сквозь слипшиеся, пьяные, чернильные веки, задрав светлый девчоночий подбородок, смотрела на Леонида, а Леонид, не меняя мимики и выражения глаз, с прежней, тугоплавкой мягкостью смотрел на осклабившегося Михаила Петровича.
...Теперь Михаил Петрович сквозь рябь мнемонической дремоты не столько разглядел, сколько почувствовал нависшую над собою мать. Ее шаги он слышал еще перед пробуждением: они подменили его собственные шаги, когда он двигался в носках по скользкому полу от проклятой ванной на сырую лоджию. На полдороге память обуглилась.
Мать пришла из большой комнаты болезненно дородная. Он вдыхал хлебный запах ее сурового нрава. Мать недовольно, нетерпеливо дышала, саркастически ждала, когда он окончательно продерет глаза. Михаил Петрович хрипло вздохнул и потянулся. Кажется, это его движение еще больше разозлило мать, а именно то, что он потянулся, как невинный ребенок, а выглядел при этом раздутым и тяжелым дядькой. Он знал, что особенно ее раздражали теперь его обвислые, сивые, с красноватыми подпалинами, кажущиеся совершенно ненужными усы.
— Что, уже полбутылки выжрал? — сняла мать бутылку со стола и сунула в карман своего фартука.
— Я стопку только, — поднял туловище Михаил Петрович.
— Обеда ему не дождаться. Что это такое, в самом деле? Глаза от водки уже заплыли, как у китайца.
— Сморило что-то.
— Вот что тебя сморило. Пьет и спит все выходные.
— Поеду на дачу съезжу.
— Поезжай, забей окна к зиме.
— Забью, если гвоздей хватит.
— У соседей, Никулиных, попроси. От меня проси: что баба Оля просит.
Вдруг мать небольно и нехлестко, но с донесшейся желчью хлопнула сына по толстому плечу. Михаил Петрович не вздрогнул, а замотал головой и не поднял голову к матери, а, наоборот, опустил к своему намокшему, закипевшему животу. Пот во время сна образовывался другой, нежели наяву, какой-то кисло-молочный, омерзительный даже для самого Михаила Петровича.
— Чего ты, мама?
— Как тебе, Мишка, не стыдно? Что ты наплел Леониду? Какие триста долларов он тебе должен? Ничего он тебе никогда не был должен. Это ты ему еще должен. Что ты все фантазируешь? Не успокоишься никак.
— Не фантазирую. Должен. Он на моем горбу...
— Слышала. Не ври. Что ты все путаешь с пьяных глаз? Это у тебя Алексеев позавчера просил триста долларов. А ты не дал. Сказал ему, что у тебя триста долларов на похороны отложены. На какие похороны? Ты кого хоронить собираешься? Меня, что ли?.. Потом Алексеев твоей Надьке звонил, рассказывал про тебя, смеялся над дураком. Я, говорит, Мишке триста долларов в гроб положу.
— Пусть положит. Я возражать не буду, — хохотнул Михаил Петрович блеющим, противным для матери смешком.
— Так бы вот и дала тебе по усам! — замахнулась мать на сына, и он сомкнул и без того набрякшие, красные, клейкие, как губы, щели глаз. — Звони Леониду, проси прощения!
— Еще чего! Может, мне ему еще в ноги упасть?
— Тогда я позвоню.
— Мама, не позорься!
— Леонид мне руки целовал. Ты, паразит, чуть к поезду не опоздал, когда я в Краснодар уезжала, пьянствовал где-то. А он приехал проводить, чужой человек.
— Но ведь не опоздал же я. А ты меня при всех по щекам отхлестала, и носу досталось. Кровь пошла.
— Мало тебе, дураку. Иди хоть ополосни морду-то, гной из глаз выковырни. И усы свои как-нибудь разгреби. Висят, как чулки на прищепках.
Михаил Петрович поднялся, и мать, Ольга Федоровна, близко увидела спину сына, слоистую, дрожжевую, угрюмую, пугливую, как у его отца, ее умершего мужа, капитана I ранга, начальника политотдела. Добрый был человек Петр Михайлович, муж ее, но доброта его происходила не от натуры, а от ситуации, от предусмотрительности, от прогрессирующей рассеянности.
Ткнула мать сына в эту общую с отцом спину, и побрел Михаил Петрович в ненавистную ванную. Громко, неаккуратно плескался Михаил Петрович в ванной. Мать знала, что опять нальет воды на пол и зубную пасту наляпает на кран. Наследит в коридоре разлапистыми ступнями.
Ольга Федоровна все время, пока сын мылся, стояла у окна и, отдернув штору, смотрела вниз на улицу. Во дворе рабочие опять вырыли траншею, набросали возле нее ржавых труб и ушли до следующей недели. В яме дрожала бурая глиняная вода. Длинная береза совсем оголилась. Ее окружало черное, словно горелое, травяное пятно. Другие деревца еще натужно багровели, а низкие, сильные кусты еще удерживали мелкую, рваную зелень. Не было ни души, и уже смеркалось в середине дня. Ольгу Федоровну, от этого смешения неряшливых красок и влаги, вдруг посетила догадка, какая-то бродячая, чужая, что вот и началась ее, Ольги Федоровны, последняя осень. Мысль была точная, верная и ясная, как будто кто-то приобнял Ольгу Федоровну на мгновение за поясницу и отпустил. Ольга Федоровна даже конфузливо обернулась назад, в комнату, где надо было уже зажечь свет, но снова прильнула к окну. Припаркованные машины были чистыми после ночного дождя. Осень эта последняя будет отчетливо долгой, думала Ольга Федоровна, как три или четыре обычных осени, а зима пролетит стремительно, как белый голубь перед глазами. И ранней весной, еще при старой, прежней листве, при вечной растительной гнили, что набьется в ноздри, при неожиданно мелодичной капели Ольга Федоровна потихоньку умрет, воображая тепло, что наступит без нее, по аналогии. Зябкая слабость плавно до краев наполнит сознание.
— Пойдем обедать, — сказала она сыну, когда увидела его с потемневшими, непросохшими усами. Сын надел синюю шерстяную, в катышках, жилетку, которая еще несколько лет назад шла к его глазам и черному пиджаку.
Сын перчил пельмени поверх сметаны и смотрел на перчинки так пристально, как будто пытался их сосчитать. Мать ела пельмени с маслом и запивала сладким горячим чаем.
Заметив, что мать удовлетворена его посвежевшим обликом, Михаил Петрович налил рюмку и опрокинул ее с задумчивой непререкаемостью.
— Миша, забыла, отец умер с усами или без усов? — спросила мать.
— Нет, мама, перед смертью отец усы сбрил. Не сам, конечно, меня попросил. Я ему сбрил. Порезал немного. А он говорит: ничего, прижги одеколоном моим любимым.
— Прижег?
— Прижег. Его уже не было, прижег своим. Чего ты смеешься? Вспомнила про отца что-то?
— Миш, это правда, что ты пукнул в поезде, когда к вам таможенники в купе зашли на финской границе?
— Мама, не было этого! Как я мог, извините меня, такое сделать? Это Леонид тебе рассказал?
— Если пукнул, Миша, так и скажи, что пукнул. Кто не обделается со страха? Ты и в детстве любил иной раз прилюдно... Сколько вы тогда денег везли с собой?
— По пять тысяч каждый. Всё благодаря мне.
— Как это ты, Миша, доллары в бутерброды смог запихнуть, не могу представить. Сколько же у тебя, Миша, бутербродов вышло? — мать смеялась мучнистыми, сетчатыми щеками.
— Не бутерброды, гамбургеры я сделал. На газете разложил. А что? Подкрепиться, может, собрались. Кто догадается?
— Догадались, наверное, Миша.
— А Леонид, между прочим, свои деньги в трусы затолкал. Что, это лучше, по-твоему?
Тело матери колыхалось с видимой болью. Недомогание усиливало степенность матери. Вулканической лавой наливались ее бока. И центр тяжести словно размывался по всему корпусу. Выходила мать из кухни, держась за углы, как впотьмах.
Михаил Петрович любил разглядывать уходящую мать. Он понимал, что на самом деле матери Леонид совсем не симпатичен.
2. Человековедение
Михаил Петрович не любил пиво. Не любил он его даже не из-за вкусового отторжения и не из классовой или поколенческой неприязни (мол, пивом балуются лишь подростки да люмпены или, наоборот, всякие там иностранцы-немцы), не любил он его из каких-то гигиенических и даже мироустроительных соображений.
Михаилу Петровичу не нравилось, как выглядит и особенно как пахнет пиво, тем более пиво пролитое, липко и склизко засохшее в неприличных разводах на столешнице и грязно размазанное на полу.
Вместе с тем именно пивом последнее время стал пахнуть город Санкт-Петербург, в котором, однако, родился и жил Михаил Петрович. Пивом пахли скверы и набережные, подворотни и подъезды (так называемые парадные), рынки и школы, поликлиники и отделения милиции, реки и каналы, Веселый поселок и Невский проспект, станции метро и абсолютно весь наземный общественный транспорт. Сама знаменитая, болотная питерская сырость теперь была настояна на пивных урологических парах, словно несколько раз на дню город обдавали этой дохлой жидкостью из огромного пульверизатора или прямо из поливальных машин. Михаил Петрович не любил пьяненькие будни. Он некомфортно чувствовал себя праздным в будни, поэтому предпочитал крепкие напитки в выходные дни, и, в связи с тем, что казался себе немного хохлом, напитки эти предпочитал с перчиком, с обжигающим стерильным пламенем.
...Михаил Петрович заметил, что этот нарочито подслеповатый христосик опять влез в маршрутку с банкой пива. Сейчас он начнет вертеть своей плохо прикрученной башкой, как будто не веря, что свободным осталось лишь одно место сзади, между опасно дремлющим бугаем в вязаной тесной шапочке и респектабельной коровой в желтых крупнокалиберных кудрях. Маршрутка была «Мерседесом», поэтому в ней можно было и стоять худо-бедно. Но огорченному христосику ехать стоя казалось куда менее достойным, нежели все-таки сидеть, пусть и на одной мозглявой ягодице. В маршрутке в табели о рангах стоящие люди занимали последнюю строчку.
Михаил Петрович знал, что сейчас послышится характерный щелчок (христосик откроет металлическую банку, правда, с настороженной виноватостью), и Михаил Петрович для вящего терпения крайне медленно смежит веки, которые, если бы могли красноречиво вздыхать, вздохнули бы.
Михаил Петрович садился в маршрутку «на кольце» и поэтому мог выбирать для себя самое комфортное в этой ситуации место — во втором ряду слева у окна: никто не задевает боками, не беспокоит с передачей платы за проезд и не нависает тушей над душой. Неудобство возникает лишь при выходе, когда самому приходится толкаться, но выходить, как известно, всегда и отовсюду проще, чем входить, безответственнее, что ли: хочешь, хлопай дверью, а хочешь — прикрывай ее бережно, с издевательской интеллигентностью.
Кстати, единственным интеллигентом в маршрутке изо дня в день был все тот же человек в футляре, живущий по соседству с Михаилом Петровичем, в кирпичной высотке у гастронома. Он был чуть моложе Михаила Петровича, в очках, с красивым кожаным мягким портфелем, который, кажется, периодически подкрашивал аэрозолем. Носил он выспренную, переливчатую, словно акварельную, бородку куцым клинышком и выглядел непредосудительно хмурым и зимой, и летом. Он садился обычно на переднее сиденье, и футляром для него служил вечно поднятый воротник — будь то воротник пальто или дубленки, или пиджака, или даже рубашки-поло. Михаил Петрович располагался за интеллигентом и поэтому хорошо изучил изнанку его воротников. Одежда у интеллигента была добротная, но не новая. Было видно, что он донашивает прежний гардероб с аристократическим скупердяйством, тщательно перемежая вещички. Особенно Михаилу Петровичу нравилась его бежевая потертая замшевая куртка с толстым трикотажным воротником. Интеллигент сидел неподвижно и чувствительно. Выходил он позже Михаила Петровича, и поэтому Михаил Петрович ни разу не слышал его голоса. Интеллигент напоминал Михаилу Петровичу его школьного учителя литературы Евгения Валентиновича, тоже бородача, худого и обаятельно сутулого, однако веселого, даже игривого, в отличие от этого, любимца учеников и любителя кофе, эклеров, слоеных пирожков и наливающихся бюстов осанистых десятиклассниц. Таких жизнерадостных и вальяжных интеллигентов на земле уже нет, думал Михаил Петрович. Остатки интеллигентов теперь были исключительно мрачны и отрешенны. И, вероятно, они представляли бы собой совершенно безнадежное зрелище, если бы эта их мрачность не была бы столь ровной и длительной, словно хорошо продуманной и бескомпромиссной.
Михаил Петрович в молодости, в советскую эпоху, и сам поначалу предполагал заделаться эдаким среднестатистическим интеллигентом: окончил институт, вступил в партию, выписывал «Правду» и «Литературку». Михаилу Петровичу и теперь казалось, что, если бы он защитил тогда диссертацию и стал со временем доцентом, а то и профессором, то был бы интеллигентом неплохим — деятельным, не совсем, может быть, настоящим, но и не праздношатающимся ерником. У Михаила Петровича на даче до сих пор валялся томик Чехова, который ему дал почитать Евгений Валентинович и который ученик так никогда и не вернул учителю. Зато Михаил Петрович сделал вывод, что настоящим интеллигентом, помимо прочего, может считаться только тот, кто умеет жертвовать своим кровным бесстрастно, без сожалений и предельно застенчиво.
Михаил Петрович любил в маршрутке предаваться человековедению. Это полновесное словечко он услышал тоже от Евгения Валентиновича (мол, так литературу называл Максим Горький). Михаил же Петрович этим словом определял свои отнюдь не литературные, а жизненные наблюдения. Это было любимое его занятие, инстинктивное и немаловажное. Несмотря на то что с каждым годом появлялись новые люди, Михаил Петрович отмечал сокращение людских типов, как естественное, так и умозрительное, может статься, и потому, что он теперь меньше детализировал, больше обобщал. В конце концов наступит время, полагал Михаил Петрович, когда из всех категорий людей останется только две, а потом и вовсе одна. Михаил Петрович подумал, что Евгений Валентинович, наверное, уже умер теперь в силу возраста или в силу патовых обстоятельств, потому что многие люди теперь были чересчур уязвимы и чересчур смертны. Сам Михаил Петрович ставил перед собой задачу прожить как минимум до 2025 года. Эта задача заменяла ему кратковременную веру.
Маршрутку качнуло, и интеллигент как-то дополнительно скукожился. Все интеллигенты сутулые, рассуждал Михаил Петрович, как будто именно в их сутулости отдельным пластом и заложена их интеллигентность, которую они оберегают и подчеркивают поднятыми воротниками, шарфами, свитерами с горлом. Другое дело — народ: он либо прям, либо полностью согбен. Где вы видели, чтобы простой мужик обматывался длинным шарфом, кутался в воротник? Народ в футляр не лезет, он привык к этому миру. А интеллигент не хочет привыкать — всё сутулится и сутулится. Даже забулдыги гнутся не так половинчато и хворают иначе. Они перегибаются не в плечах, а в пояснице, а чаще всего — голову задирают кверху, а внизу подволакивают обездвиженную конечность или семенят обеими лапами так поверхностно, точно сухопарые мотыльки по водной глади. Если же у народа и возникает горб, то горб этот плоть от плоти. Сутулость же у интеллигента всё больше не смертельная, легко поправимая. Интеллигенты переживут народ, заключил Михаил Петрович, — по крайней мере наш народ. Правда, интеллигентами они уже не зовутся, а зовутся все сплошь менеджерами, да маркетологами, да копирайтерами.
...Беззвучными, но пахучими глотками христосик разбудил бугая. Михаил Петрович узнал его шарообразный вздох, полный грядущих проблем и путей их преодоления. Такие бугаи по-прежнему рождаются добрыми малыми, а становятся ситуативными душегубами. От бугая пришла в движение его соседка, у которой кудри были такими же мясистыми, как и туловище. Опамятовавшись, она стала кашлять. Кашель ее был недужным, но аппетитным, с причмокиваниями, с кислой слюной, с желудочным соком. Как будто она и не кашляла вовсе, а надсадно завтракала, путая гастрономическое удовольствие с эротическим.
Ее заразительный кашель разворошил улей человеческих шумов. За спиной у Михаила Петровича стал шмыгать с полным на то основанием грубый, сквозной, не отрегулированный нос. Казалось, одной ноздрей он втягивал водянистые сопли, а другой тут же разбрызгивал их. Перхать начала плотная джинсовая девушка с голым, никогда не замерзающим пупком. Перхала она в обветренные, красноватые пальцы. Спереди и сзади зазвонило по мобильному телефону. Михаил Петрович ненавидел мелодии Nokia и Siemens. Все они были с издевательскими, назойливыми, коверканными нотками. У собственного мобильника Михаил Петрович звук отключил, полагаясь только на вибрацию. Сзади говорили неразборчивым, смешливым шепотом, зато спереди справа какой-то кладовщик с двумя луковыми макушками обстоятельно извещал какого-то Петьку и весь салон, сколько и каких радиаторов ему сегодня поступит на нижний склад. Скуластая, щуплая, тревожная пассажирка, у которой глаза почему-то были накрашены по-разному (один — темнее, другой — светлее), вдруг стала дохать грассирующим лаем мужчины-курильщика. Рядом белокожая, рыжая студентка сделала двумя утолщенными складками такое отравленное лицо, что оно из круглого превратилось в маняще продолговатое. У этой девушки, подумал Михаил Петрович, если бы она родилась парнем и у нее бы росла борода, борода была бы пунцовой, как марганцовка, и клочковатой. На гомон откликнулась мшистая любознательная шея, ехавшая рядом с водителем. Она развернулась в салон по-женски осудительно, и то ли она, то ли маршрутка на перекрестке издала длинный, с присвистом скрежет. Михаил Петрович поймал педагогический взгляд, глубокий и беспощадный, как из пещеры. Наконец, старик в дырявом капюшоне, всю дорогу жевавший голыми деснами собственный язык, отпустил с колен грязную дерматиновую сумку на чужие ботинки, в сумке брякнула посуда, и во все стороны разнесся запах скисшего картофельного пюре. Подросток, сидевший рядом с Михаилом Петровичем, наивно прыснул. Михаила Петровича тоже подмывало что-либо присовокупить к общему грохотанию, но он вдруг вспомнил мать, которая провожала его сегодня в белом пуховом платке, и затаился не меньше, чем передний интеллигент. От подростка шел жар, уголки его рта были обсыпаны герпесом.
В восемь утра с возращением тишины христосик медоточиво залепетал в телефон, чтобы кто-то где-то просыпался. «Вот еще муж-будильник!» — подумал о христосике Михаил Петрович.
Бугай, когда ему нужно было, тоже становился вкрадчивым. Он всякий раз на середине Сортировочного моста сиплым фальцетом упрашивал водителя притормозить. Здесь по лестнице ему было удобно спускаться к железнодорожной платформе, экономя напрасное время и ленивые, вороватые силы.
Михаилу Петровичу стало жалко народ. «Больные люди, — заключил Михаил Петрович, уже ни на кого не озираясь. — Все как один. Разве здоровые так кашляют? Так смеются? Так разговаривают?»
За стеклом маршрутки утренняя городская тьма расцвечивалась потекшими световыми кляксами. Вдоль всего пути сквозь изморось полыхали одни и те же вывески: «Игровые залы», «24 часа», «Аптека», всякие «Полушки», «Копейки», «Пятерочки», «Десятки». Несмотря на ранний час внутри будничной толкотни сонливых работяг и усталых женщин неожиданно встречались люди с врожденной и какой-то нездешней беззаботностью. «Больные, а гуляют как здоровые», — мерзко стало Михаилу Петровичу.
Вдруг он увидел в остановившемся на перекрестке автомобиле, кажется, «тойоте», силуэт Леонида с прежней, «итальянской» лжепросветленностью. Михаилу Петровичу и раньше приходилось встречать Леонида на этом перекрестке в разных автомобилях. «Куда это ни свет ни заря барин ездит?» Михаил Петрович отвернулся от окна, сузив до боли орбиты глаз, и на пике пульсирующей брезгливости почувствовал Леонидов одеколон справа от себя. Химический цитрусовый запах шел от армянина, как будто только что подстриженного и поэтому щеголеватого, без шапки, с выскобленными до карандашной ретуши щеками.
Михаил Петрович, как ему казалось, за последнее время научился безошибочно распознавать не только самих инородцев, но и их национальную принадлежность. Хотя, как правило, его доморощенная сравнительная антропология давала приблизительные результаты, Михаилу Петровичу почему-то была важна сама попытка этнической идентификации чужаков. Его расстраивало, что большинство коренного населения гребет всех выходцев с Кавказа и из Средней Азии под одну гребенку, мол, черные они и есть черные, с некоторыми уточнениями — айзеры, хачики, чурбаны. Смешение рас в отдельной русской бесшабашной голове Михаилу Петровичу представлялось неправильным. «Черные-то они черные, но черные по-разному, — полагал Михаил Петрович. — Таким их обезличиванием мы помогаем им сплачиваться в одну не любящую нас черную партию. Их надо различать, черных, и, различая, кого-то привечать, а кому-то на порог указывать. Пускай за нашу милость между собой сражаются — азербайджанец с грузином, таджик с узбеком. Еще свои есть всякие чернявые россияне, камнем на шее висят, на русском горбу в рай хотят въехать».
Мозг Михаила Петровича мнительно фиксировал, что приезжие в Питере становились все заметнее и заметнее. И эти приезжие были сплошь черные, даже если они были при этом голубоглазыми шатенами или альбиносами с малиновыми пигментными пятнами, или белой костью с чалыми челками. Михаил Петрович даже начинал мрачно шутить, что умирать ему придется в 2025 году в совершенно черном Петербурге, как в каком-нибудь Стамбуле.
...У армянина глаза вылезали наружу, как барельефы. «Иди отседова, болезнь базедова», — вспомнил Михаил Петрович материнскую прибаутку и улыбнулся усами. Армянин сердечно улыбнулся в ответ. «Армяне, конечно, себе на уме, — думал Михаил Петрович, — но они если и хитрят, то хитрят воспитанно, интеллигентно. А какой хороший был артист Фрунзик Мкртчян, с русским страдающим характером! Грузины хуже, шиковать любят, и воров среди них развелось чересчур много. Но грузинам можно все простить за одного лишь Сталина. Тоже ведь характерец был у Сталина-то русский».
Спозаранку инородцев в маршрутке ездило единицы. Зато когда Михаил Петрович в семь вечера возвращался домой, черные в маршрутке попеременно даже преобладали. Часто и водитель был черный, гастарбайтер. Рано же утром черным особенно некуда спешить. Их брат в Петербурге все больше торгаш, а торговые ряды осенью в будни раскачиваются медленно. Тот же, кто не торгаш, а, например, строитель-таджик, спит там, где и штукатурит.
«В маршрутках ездят, потому что в метро у них менты документы проверяют», — догадался Михаил Петрович и обрадовался этой догадке, как лазейке.
Вечерами они колесили целыми артелями и долдонили на своих языках, и мобильные телефоны у них дребезжали слащавыми горскими трелями. Молодые азиаты, часто с рябыми скулами, любили светлые брюки и красные пуховики. Кавказцы предпочитали просторные, однотипные кожаные куртки. Почему-то они избегали иметь при себе сумки, тем более портфели. Их ноша состояла из разовых пакетов, иногда — барсеток.
Михаил Петрович приглядывался к ним и понимал, что в конце концов таджики могли бы сойти за южных славян, некоторые грузины, преимущественно с рыжеватыми, потными проплешинами, напоминали евреев, армяне, прежде всего сухопарые, с ровными баритонами, были французами, узбеки потихоньку превращались в чувашей, азербайджанцы, когда седели их усы, походили на нынешнего спикера российского парламента, что же касается чеченцев, то они в маршрутках замечены не были.
«Труднее, — думал Михаил Петрович, — будет с их женщинами». Он вспомнил дородную осетинку с ежевичными ресницами, которая порой садилась в маршрутку на Ивановской улице и останавливала созерцание Михаила Петровича. При осетинке Михаил Петрович начинал волноваться. «Их женщины презирают нашу податливость», — отворачивался от осетинки Михаил Петрович.
Михаил Петрович покинул маршрутку копотливо. Он еще толком не ступил на землю, а мимо него уже протиснулся в салон нетерпеливый молодой человек с неравномерно оплывшим, но знакомым лицом. Это был должник Михаила Петровича Виталий. Года три назад он работал дизайнером в той же фирме, что и Михаил Петрович, и перед самым своим увольнением взял взаймы у Михаила Петровича пятьдесят долларов. Деньги он не отдал, а сам исчез. Отец Виталия, прикованный к постели инвалид, которому поначалу Михаил Петрович звонил беспрестанно в поисках его сына, наконец-то признался Михаилу Петровичу, что Виталий наркоман со стажем, — признался, вероятно, чтобы настойчивый кредитор отвязался от несчастного семейства с пониманием самых обыденных вещей, без сатисфакции.
Михаил Петрович успел бы вернуться в маршрутку вслед за своим должником, и первая его реакция была именно такой, решительной и даже экзальтированной, но какая-то внезапная щепетильная лень попридержала Михаила Петровича на низком поребрике, и маршрутка под сурдинку укатила с должником, армянином и интеллигентом. Несимметрично изуродованная физиономия Виталия тянула больше чем на пятьдесят долларов. Виталий, по всей видимости, заметил Михаила Петровича, и красные глаза Виталия на миг стали не циничными, а по-детски, смертельно напуганными. Михаил Петрович самодовольно пошел.
Теперь Михаил Петрович окончательно понимал редких праведников, которые испытывают удовольствие, прощая обиды направо и налево. «Вот и я теперь свое кровное прощаю, как говорится, жертвую», — Михаил Петрович дышал влажным, мглистым воздухом с помпезной одышкой.
3. Женщины
Михаил Петрович наведывался к Люське на Большую Пушкарскую без графика, как бог на душу положит. Опыт ему подсказывал, что женскую природу устраивает ритмичность. Поэтому Михаилу Петровичу льстило, что Люська смирилась с его нерегулярной похотью.
Люська жила одна в вылизанной квартирке с высокими потолками, стиснутыми узкими стенами. Она дважды выходила замуж, дважды оставалась бездетной, помнила только второго мужа, Льва Абрамовича, который еще в советские времена бесследно эмигрировал в Израиль, подбросив Люське на орехи мелкие драгоценности и норковую шубу старорежимного балахонистого кроя. Камушки Люська потихоньку закладывала, шубу носила нараспашку, дома — на голое тело.
Тело у Люськи было твердое, узкобедрое, низкое, гимнастическое, без талии, с овальными припухлостями вместо грудей. Михаилу Петровичу нравились ее контрастирующие с фигурой длинные, какие-то протяжно повисающие руки и прозрачные плечи с обглоданными косточками. Ляжки у Люськи были такими ровными и такими тесными, что Михаила Петровича всякий раз эта гладкая теснота озадачивала: а есть ли между ними еще что-нибудь, или на этот раз между ними ничего уже нет, и ничего уже Михаилу Петровичу между ними, как говорится, не светит.
Несмотря на такое странно стыдливое, зябкое, эпизодически девственное тело, Люськино выбеленное лицо, напротив, пугало искушенной дородностью. Люська обязательно слегка закусывала губу и смотрела строго в зрачки, как окулист, словно человеческие глаза ее не интересовали, словно у всех людей они изначально были плоскими и непроникновенными.
Особенностью Люськи было то, что она совершенно ничем не пахла. У Михаила Петровича сложилось мнение, что женщины чуть моложе его, хотя бы на год, пахнут всегда хорошо, как настоящие молодые купальщицы, а его ровесницы или те, что были постарше, как бы в действительности приятно они ни благоухали, все-таки, казалось, пахнут отвратительно. Михаил Петрович подозревал, что Люська была старше его и старше намного, однако уличить ее в этом, исходя из своей обонятельной практики, он не мог. Даже когда Люськина испарина на вкус напоминала сладковатый хлебный квас, соответствующий душок от нее не исходил. Он понимал, что Люська пережила климакс и теперь долгие годы находится на распутье, новые пресные запахи лишь замышлялись в ее организме. Михаил Петрович помнил, что дыхание его бывшей жены Надьки превратилось в тропическое только тогда, когда Надька стала изменять ему без зазрения совести, с публично провозглашаемой правотой. «Вот, — думал Михаил Петрович, — вранье лезет через поры и воняет».
С Люськой Михаил Петрович познакомился в кафе на Невском проспекте. Было тогда такое кафе «Чародейка» в середине Невского. Михаил Петрович порой с Леонидом выпивали там клюквенную водку. Люська через столик стала кричать Леониду, что он похож на ее первого мужа, которого она только что, благодаря Леониду, особенно его профилю, ярко вспомнила, до истомы, до осязания. Люська с пьяным, но белым лицом пересела за их столик, и Михаил Петрович начал гладить ее руку поверх норки от плеча до запястья с просторным гранатовым браслетом в серебре. Люська быстро тогда перешла от первого мужа ко второму, о котором она повествовала с ироническим пиететом. Она уточняла, что перед самым своим отъездом Лев Абрамович подростковой поседевшей головой стал походить на состарившегося писателя Бабеля, когда бы тому довелось состариться. При этом она обращалась к Леониду, веря, что Михаил Петрович ни о каком Бабеле ничего знать не может. На что Михаил Петрович, уморительно тыча себе пальцем в усы, говорил, что там, где хохол прошел, еврею делать нечего, и с хриплой деланностью хехекал. «Наоборот, наоборот», — впервые за весь вечер фривольно засмеялась Люська вдруг понравившемуся ей Михаилу Петровичу.
...Михаил Петрович, как всегда у Люськи, проснулся посреди прохладной безлюдной чистоты. Одеяло было куцым, потому что лежало поперек кровати, и из-под него торчали ступни Михаила Петровича, отливающие суровой перламутровой желтизной. Прошла добрая половина жизни, и теперь от детского содрогания Михаила Петровича — содрогания, связанного с его ногами, не осталось и следа. Маленькому Мише его ноги представлялись уродливо громоздкими, не соразмерными с его остальной мосластой худобой. Особенно беспощадно шутил по этому поводу дядя Коля, старший брат отца Михаила Петровича. «У тебя лапы, Миша, на три сантиметра длиннее, чем нужно, — оглядывал он серьезно племянника. — Сегодня же надо их укоротить, пока не поздно. Ночью, когда будешь спать, я тебе пальцы отрежу. Так лучше будет». Ночью, однако, дядя Коля отчужденно храпел, даже когда ворочался, но маленького Мишу это не успокаивало, от страха и несправедливости он не смыкал глаз.
Все двери у Люськи в квартире были распахнуты. Этим она подчеркивала внутреннюю свободу своего одиночества. Она шаталась по квартире, разговаривая вслух. Она ворчала, что Михаил Петрович своими чоботами перегородил весь коридор, как баржей протоку, что его вонючие носки она накрыла тазом, что она просила его приходить к ней в свежем белье, что пусть он не надеется, что она будет стирать ему его потники, что она не самоубийца, что носки и трусы мужчина должен стирать себе сам, как это всегда делал незабвенный Лев Абрамович.
Михаил Петрович вошел на кухню, когда Люська умолкла. Она с расчетливой жадностью глотала шампанское.
— Подожди, я допью, — оторвалась она от высокого бокала, — потом пойдешь гадить.
Дорога в открытый настежь совмещенный санузел пролегала через кухню. Люська с полным ртом распахнула форточку и уткнулась в прямоугольный проем, как в книгу.
Михаил Петрович привык вести себя в туалете шумно. Он знал, что Люську тревожили не звуки, а запахи. А звуки ее только распаляли. Она говорила в хорошем настроении, что настоящий мужчина должен пахнуть материнским молоком, а не козлятиной, а испражняться должен громко, особенно громко писать, потому что по напору струи можно судить о его мужских достоинствах, видимых и невидимых, о габаритах и качествах.
Михаил Петрович причесал усы, на которые инеем упали пары лимонного освежителя воздуха. Люська все еще тянула шампанское. Укор на ее лице был напрасным, просроченным. Михаил Петрович чувствовал себя самодовольно — здоровым и нужным.
— Ты долго еще в этих трусах будешь ходить? — спросила сосредоточенная Люська.
— Сейчас оденусь.
— Нет, вообще у тебя есть другие трусы, кроме этих?
— Что ты ерунду говоришь? Конечно, есть.
— Почему же ты не носишь другие трусы, а только эти?
— Как не ношу? Ношу.
— Я тебя не видела в других трусах, Миша. Ко мне ты приезжаешь только в этих.
— А чем они тебе, Люся, не нравятся?
— Они дурацкие, Миша. Допотопные. Сколько им лет?
— Мне в них удобно.
— А мне?
— Ты разве любишь в мужских трусах ходить? Не знал, что ты трансвеститка, Люся.
— Он еще шутит! Не в мужских, а в дурацких. Еще раз в них припрешься, я их выброшу в окно.
— А я их не буду снимать.
— Ты можешь и брюки не снимать. Очень надо. И вообще сюда не приезжать.
— Ты что, не с той ноги встала?
— У меня любая нога та.
Люська сползла с подоконника, по инерции распахивая халат. Затекшие, бескровные Люськины ноги коснулись пола одновременно. Было видно, что они закоченели. Зато лобок пылал золотой виноградной гроздью. Таким устойчиво крашенным Михаил Петрович Люськин лобок еще не видел.
Люська стала рыться в холодильнике, а Михаил Петрович встал на ее место у форточки, чтобы перекурить. Люська продолжала разглагольствовать о его неряшливости, о том, что у него пузырятся штаны на коленках, что воротник рубашки истрепался и покрылся серыми катышками, что он носит вязаные варежки, как ребенок, что не чистит обувь и плохо чистит зубы, что Лев Абрамович, между прочим, не выходил на улицу без двух носовых платков, а носки надевал всегда под цвет туфель или брюк, что зубы он чистил даже на работе после обеда и не только щеткой, но и специальной нитью, что он не позволял себе, чтобы у него из ноздрей торчали волоски.
— Не похоже на еврея, — отозвался Михаил Петрович, заканчивая перекур.
— Похоже. Вы мало знаете евреев. Это миф, что евреи не думают о своем внешнем виде, и миф, что они за копейку удавятся. Если они кого любят, на того они не скупятся.
— На себя они не скупятся. Это правда.
— Миша, к сожалению, тебе очень многого не дано понять.
— Что же он от тебя уехал?
— А он не от меня уехал, он от вас уехал, от таких, как ты.
— Да я его знать не знал, твоего Льва Абрамыча!
— Вот скажи, Миша, что ты мне за все это время подарил? Коробку конфет на Новый год, из которых половину сожрал?
— Не ври. Я не ем сладкое.
— Вот и плохо. Настоящий мужчина должен любить сладкое. Леонид, спасибо ему, втихаря от тебя подбрасывал мне деньжат, когда у меня гроша за душой не было, жить было не на что.
— Леонид — подлец. Он у меня же тырил и тебе давал.
— Да пусть хоть так. А что же ты ему позволял тырить?
— Доверял. Дурак был.
— Вот именно, дурак. Ты только числился директором, а все дела он делал. Профукали предприятие.
— Между прочим, твой Леонид деньги из Финляндии в трусах перевозил. Хе-хе-хе, — пытался смеяться Михаил Петрович натурально.
— Да хоть — в заднице. Деньги, Мишенька, не пахнут.
— Голубой он, твой Леонид. И ты об этом, Люся, знаешь.
— Ну и что? Сейчас каждый второй — голубой. Ничего я не знаю.
«А ты лесбиянка», — хотел было добавить Михаил Петрович, но набрал вместо этого полный рот теплого шампанского и долго боялся прыснуть.
Люська разложила яичницу с беконом по чересчур просторным фарфоровым тарелкам. Люська раздражалась неподвижно, и кусочки, которые она цепляла на вилку, становились все мельче и мельче. Михаилу Петровичу казалось, что она не ела, а мусолила остатки жевательной резинки. Холостая бодрость ее рта подкреплялась бодростью ее касательного взгляда.
Михаил Петрович решил, что больше не будет встречаться с Люськой, даже если его потянет к ней по пьяни. Высокомерное терпение благороднее всеядной покорности, полагал Михаил Петрович. «Она считает меня дураком, ей не нравятся мои трусы, пусть покупает себе молодых жеребцов для здоровья, наркоманов и спидоносцев, если денег хватит, на последнее золотишко Льва Абрамыча. Они еще под конец ее грабанут и утопят в ванной. Или пусть забавляется со своей подружкой Ленкой, такой же плоскодонной, как и она, потому как они обе рыжие лесбиянки».
Он вспомнил, что Люськина ранимая замкнутость, в том числе замкнутость ее тела, объяснялась тем, что она никогда не рожала, что у нее никогда не находилась внутри, под сердцем, другая телесная жизнь. Она жила без самоотдачи, одним повседневным комфортом. Она утверждала, что теперь ей нравилось не резкое, не страстное, а уютное мужское тело. Такое тело немного беспечно, забывчиво и необидчиво...
Михаил Петрович шел к «Петроградской» по серой, трухлявой жиже. Зимний город был неорганически грязен. Чтобы рту не было противно от шампанского, Михаил Петрович выпил стакан водки в забегаловке, бывшем парадном подъезде, где сохранилась ажурная притолока от тамбура.
«Большинство людей не любит, — оглядывался по сторонам Михаил Петрович. — Я тоже такой, из нелюбящих. Всегда хотел любить, потому что соображал, что это самое главное для человека. Но не мог, потому что не было дано. Специально так устроено на свете, чтобы кому-то было дано любить, а кому-то не было».
По Надьке, теперь бывшей жене, Михаил Петрович в начале семейной жизни тосковал честно. У Надьки, в отличие от Люськи, грудь была нежная и волнистая. Эта грудь, ее выразительный тип, как нарисованная на морозном стекле эмблема, до сих пор томила Михаила Петровича.
Года два Михаил Петрович жил с Надькой в разных комнатах в одной квартире. Был, так сказать, муж-сосед. Пока мать не забрала Михаила Петровича к себе. «Не позорься, сынок, живи у матери. Бог не выдаст, свинья не съест». Он и сам знал, что из всех женщин родными бывают только матери и дочери.
Памятуя, что жить он собирался до 2025 года, Михаил Петрович определился с заменой любви. На пустующее место он воздвиг покой, достоинство, удовольствие. Именно — так, по ранжиру, чтобы последнее не преобладало над вторым и тем более не доминировало над первым.
Он вспомнил, что здесь же, на Петроградской стороне, жила женщина-стоматолог, Ирина Евгеньевна, которая в мгновение ока удалила ему зуб, болевший приступами несколько лет кряду. Благодарный, он проводил ее тогда на улицу Вишневского до ее дома и впоследствии поздравлял с праздниками по телефону. Даже на морозе от нее пахло теплой смесью слюны и крови. Стоматолог была миниатюрная, темная, с подвижными, продолговатыми икрами. У нее были глаза, за которые он боялся, так близко они были посажены, и казалось, могли тереться друг о друга. В тот же вечер Михаил Петрович узнал, что она была одинока. И когда он с близкого расстояния взглянул на ее полное, веселое лицо, оно пошло толстой оборонительной судорогой. Он успел схватить ее взгляд, понимающий, но измученный.
Михаил Петрович полагал, что с Ириной Евгеньевной ему могло бы быть покойно.
В подземном переходе у метро Михаил Петрович задумался, не купить ли цветы. Он подошел к металлическим вазам с букетами и, по своему обыкновению, с приятной для себя рассудительностью стал рассматривать сначала каждую розочку, затем — каждый тюльпан, затем — каждую гвоздику.
— Вы извините, я тороплюсь, — услышал Михаил Петрович от человека, который возник между ним и продавщицей.
Человек был невысокий, с седеньким затылком, с давнишней лысиной, с дужками от очков, одетый с иголочки, но налегке, в переливчатый костюм с эластаном и лаковые туфли.
— Бабель вернулся, — произнес осененный Михаил Петрович и ретировался от цветов.
Михаилу Петровичу стало нестерпимо ясно, что из всех женщин ему теперь нужна была молодая, двадцатилетняя, извилистая, с нервными бедрами и мелкозернистой кожей. Михаил Петрович остановил свой выбор на Алле, до недавнего времени девушке своего должника Виталия. Часто у Аллы были плохо вымыты волосы, и улыбалась она неуклюже, щербинкой. Зато ее шея, и ее бока, и ее груди были молодыми и зрелыми.
На белой пластиковой стене рядом с некогда рабочим местом Виталия сохранились жирноватые следы обеих Аллиных ладошек. Они будоражили Михаила Петровича.
В телефонной книжке Михаила Петровича Аллин номер соседствовал с номером Виталия. Но Виталий теперь стал пропащей душой, избегающей Михаила Петровича.
4. Дочь
Дочь Михаила Петровича Оксана была в отца. Многие подозревали, что подобное сходство не могло его радовать, но они ошибались.
Дочь к восемнадцати годам была полна отнюдь не юной полнотой. Физически она выглядела крупной и краснощекой. Психически, живя в худосочное время, она страдала. Вот почему еще Михаил Петрович терпеть не мог современную психологию, — потому что эта лженаука оперировала не абсолютными величинами, а относительными, она объясняла не то, что происходит в человеке, а то, что должно происходить с персонажами глянцевых журналов. Вот почему для Михаила Петровича современная психология и человековедение были две вещи несовместные.
Он говорил дочери, чтобы она плевала на этот мир, что она-то настоящая кровь с молоком, а пигалиц, которых теперь любят, любят совсем не от силы, а от слабости.
Очертания ее грудей были заимствованы у матери, у жены Михаила Петровича, но были удвоены — словно его любовным отцовским замахом. Ноги и руки у Оксаны, большие, но аккуратные, были безволосыми и равномерно смуглыми, как у отца. Зато ложбинка меж грудей не поддавалась никакому загару (солнце туда не проникало) и фосфоресцировала сквозь ткань. Жаль, что Оксана сутулилась. Понятно, что сутулилась она от смущения, из скромности, предполагая, что если она выпрямится и развернется во всю свою рослую ширь, то сразу станет чересчур заметной, и ее естественная многообещающая экстравагантность вызовет не только редкое восхищение, но и частые идиотские смешки. Публика повсюду теперь была слишком мальчишеской, ломкой, дурашливой.
Однако даже этот вертлявый, слабоалкогольный род людской по-прежнему не оспаривал некоторые вечные ценности, например, красоту густых каштановых волос. А волосы у Оксаны были действительно красивые и каштановые, и, главное, она не цеплялась за них, как за семейную реликвию, не завивала в косы до пят, а стригла и укладывала объемными прядями, дорого, как теперь было принято.
— Выросла девочка, — воскликнул Михаил Петрович на все грузинское кафе, куда они зашли с Оксаной отметить ее день рождения.
Михаилу Петровичу было лестно, что его дочь, оказавшись в центре внимания, от благодарности перестала стыдиться отца. Он заказал «Киндзмараули», коньяк, боржоми, зелень, лобио и шашлык из свинины. Он помнил, что девочка больше всего на свете любила мясо. Он знал, что в приличных заведениях дорожат усатыми клиентами и их дородными юными спутницами. Это вам не «Макдоналдс» какой-то и не какая-то там блинная, где если чем и дорожат, то лишь очень быстрым питанием. «Если кому-нибудь хочется, пусть думает, что это вовсе и не дочь моя, — хитро щурился Михаил Петрович. — Тем более что это и Оксане нравится». Михаилу Петровичу казалось, что и Оксана начинает понимать, что ее смазливые сверстники ей ни к чему, что хватит по ним изнывать, что они ей не пара по определению, что если кто и будет у нее, то сразу — взрослый мужчина.
— Папа, он на меня пялится. С длинной шеей. Давай поменяемся местами, — шепнула дочь, которая вообще шептала громко, как артистка Доронина.
Михаил Петрович обернулся и увидел двух кавказцев за соседним столиком, на вид удрученных и не нахальных.
— Это моя дочь, хе-хе, — сказал он тому, с длинной шеей и кадыком, что, не мигая, смотрел на Оксану.
— Э, отец, поздравляю, — сказал кавказец и взметнул брови на середину лба.
Эти внезапно взлетевшие брови рассмешили Оксану. Кавказцы тоже посмеялись, но скоро ушли. Они разговаривали друг с другом как будто бы на разных тюркских языках, но в унисон жестикулировали.
— Циркачи, наверное, — сказала дочь, все еще давясь мясом от смеха.
— Да, щипачи, — сказал отец, жалея, что налил дочери второй бокал вина.
Когда дочь направилась в туалет, Михаил Петрович со спины еще больше разглядел в ней родную душу. Их теперь было трое, составляющих род, — его мать, он сам и его дочь. Эту кровную связь между ними Михаилу Петровичу теперь было очень важно сознавать. У всех была не то чтобы одна и та же походка, но — общие ее составляющие. По единой траектории перемещалась тяжесть по телам. У всех в движении слоистой смотрелась спина. Как ни странно, такая же спина была и у покойного отца Михаила Петровича, словно эту спину, как в матрице, в одинаковой позе отлежали на всю жизнь. У всех похоже болтались широкие кисти рук, слегка отбрасываемые назад, и ноги, инстинктивно не любившие каблуков, церемонно выворачивались наружу. Разница сказывалась только в темпе и интенсивности ходьбы. Мать двигалась с хронической опаской, сын — с внутренней убежденностью, дочь, вопреки своему сложению, почти семенила, по-детски задыхаясь.
Оксане шли черные брюки-шаровары из какого-то шелестящего материала. Она вернулась из туалета с расстегнутым карманом на джинсовой куртке. «Проверяла, сколько я денег ей положил в конверт, — догадался Михаил Петрович. — Тактичная девочка. Сразу не стала смотреть».
— Мама эти штаны подарила, — сказала дочь.
— Хорошие. Только шумно трутся, — сказал отец.
— Ты ничего не понимаешь, папа. Сейчас так модно.
— Широкие, хохляцкие.
— Чего ты все «хохляцкие» говоришь?
— А кто мы? Мы наполовину хохлы. Дедушка-то твой — из Полтавы. Помнишь, я тебе «Сорочинскую ярмарку» читал?
— Никакие мы не хохлы, папа. Мы в Петербурге живем.
— Кто здесь только не живет... Мать как? Этот ходит, с шишкой?
— Дядя Жора? Ходит, — высоко вздохнула дочь. — Шишку ему вырезали. Он тихо приходит, я даже не слышу.
— Он всегда тихо гадил. Больше никто не ходит? Алексеев? Леонид?
— Никто, папа. Алексеев звонил. А Леониду у нас делать нечего, — дочь взглянула на отца его прежними, ожесточенно намокающими глазами. — Надо ему подлянку устроить.
Грудь дочери от волнения детонировала дробно. У ее матери амплитуда бывала куда более размашистой, трудно замедляемой. Михаил Петрович забросил ногу на ногу, чего давно уже не делал, и методично затряс ботинком в воздухе.
— Не надо, доча. Мы должны быть выше. Мы с тобой и с бабушкой.
— Надо. Он тебе ведь делал подлянку? Ты же сам говорил.
— Чего я говорил?
— Что он тебе денег должен, что он на чужом горбу... — дочь прыснула вином в бокал.
Михаил Петрович тоже засмеялся хрипло сквозь струи дыма. Тарелка у дочери опустела. Михаил Петрович положил со своей тарелки на ее жирно остывшие кусочки шашлыка.
— Кушай, доча.
Оксана улыбнулась и стала жевать, разговаривая.
— Давай я позвоню на его работу и скажу его директору, что Леонид всегда на чужом горбу ездит, пусть люди знают, — гулким шепотом говорила дочь. — И вообще, что он гадкий человек.
— Кто тебе сказал, что он гадкий? — щурился Михаил Петрович от приятного времяпрепровождения.
— Ты говорил, еще тогда, и мама.
— Маме твоей больше всех надо. Никак не успокоится. Мороженое будешь?
Оксана противоречиво закивала челкой.
— Выросла девочка, — Михаил Петрович допил коньяк и откинулся на хрустящую спинку стула с внимательной важностью.
— Лучше кофе в «Идеальной чашке» попьем с пирожными, — сказал он, вставая.
— Мама недавно ему звонила и ревела.
— Ну не дура, доча?.. А потом Шишка пришел, и она успокоилась. Да, доча?
— Да. Еще звонила твоя Люська пьяная.
— А этой чего нужно было?
— Я не поняла. Сказала ей, что ты у нас уже не живешь. Она, вдрабадан, про какие-то трусы мне лапшу вешала.
— Ты ее не слушай, доча. Она совсем спилась. Бабы быстро спиваются... Вы правильно с матерью сделали, что дубленку длинную купили, — одевал дочь Михаил Петрович, разглаживая ворсистую складку на ее спине.
«Хорошо, — думал Михаил Петрович, глядя на фигуру дочери, — что дубленка тонкая и развевается внизу, как подол, женственно. Только цвет выбрали неправильный, изумрудный, ни к селу ни к городу. Надька. Любит все ненатуральное. Дубленка для молодой девушки должна быть бежевой, светло-коричневой».
На выходе из кафе отца с дочерью флегматично рассматривали те же разноязыкие кавказцы, теперь в вязаных шапочках. У одного из них крутился, как заведенный, брелок с ключами на пальце.
— Э, отец, отпусти дочку, покатаемся, пожалуйста, — сказал кадыкастый, у которого мохнатые брови запрыгнули теперь на отворот шапочки.
Оксана опять наивно засмеялась, но голову не склонила к воротнику, а, напротив, откинула с волосами назад.
— Пойдем, пойдем, Оксана. Не останавливайся. Совсем черножопые обнаглели. Ты смотри с ними не заигрывай. Они любят... таких».
Михаил Петрович под ручку с дочерью широко и степенно ступали по мокрому тротуару в разлитых разноцветных отблесках. Они обсуждали витрины, подсветку фасадов, автомобили. Оксана то и дело провожала глазами красивых юношей и девушек и периодически хихикала над тем, что своей неторопливостью она и отец раздражали некоторых динамичных прохожих, которые оборачивались на них с досадой и которым отец вдогонку твердил: «Бегите, бегите, только шею себе не сверните».
Они вспоминали, как вместе писали сочинение по «Мертвым душам», за которое получили «тройку», и обиженный отец ходил разбираться с учительницей, но та оказалась несговорчивой, и отец сказал ей, что она сама вылитая Коробочка.
Они посмеялись над тем, как Оксана однажды нашла на антресолях целую коробку полуфабрикатной лапши и за месяц, оставаясь дома одна, всухомятку всю ее сгрызла.
Михаил Петрович понимал, что очень скоро Оксана изменится, и в ее новом состоянии, вероятнее всего, отец будет казаться ей нехорошим, гадким. Во всяком случае, теперь люди, и ближайшие родственники тому не исключение, стали в чем-то непроизвольно противны друг другу. Он никогда не любил скрытных людей, но теперь поэтапно сам с удовольствием превращался в бирюка. Люди теперь разобщаются с большим наслаждением, нежели чем сближаются. Одиночество уютно и экономно в наши дни. Тем более что скуку, которую производишь сам, не замечаешь. Минимально достойным продолжением личной жизни, думал Михаил Петрович, была бы теперь консервация ее текущего момента.
Они вышли из метро сонливые и миновали дом, в котором обитал с семьей Леонид. Окна его квартиры толкали их в спину. Оксана с матерью жила в двух остановках отсюда. Отец и дочь решили пройтись пешком. Двигались они дворами, трезвея и уставая друг от друга. Последний перекресток был в потекших потемках. Дальше тьма становилась низкой, с хромовыми, наэлектризованными бликами.
Они приближались к компании горластых юнцов. Те фальшиво хохотали и еще фальшивее громко икали, матерились на весь квартал восторженно и от этого особенно паскудно.
— Чего они так орут? — спросил, от внезапного мучения зажмурившись, Михаил Петрович.
— Обкурились. Не обращай внимания, папа, — ответила Оксана.
— Чего вы так орете? — вдруг с усилием закричал Михаил Петрович и, оторвав свой локоть от дочери, веско пошел на подростков. — Вы люди или свиньи?
Половина юнцов продолжала резвиться, падая друг на друга с гоготом. Они были в плоских и просторных джинсах с провисшими ширинками и в тесных светлых капюшонах, словно в младенческих чепчиках.
— Сам ты свинья с усами, и баба твоя — хрюшка, — раздался трезвый, обыкновенный голос.
— Она не баба, она дочь моя, мерзавцы! — крикнул Михаил Петрович и зачем-то топнул ногой по луже.
— Ха-ха-ха! Где ты такую дочурку снял, папик? Ее трахать не перетрахать.
Михаил Петрович пошел широко, как с неводом, ища оскорбителя.
Оксана видела, что основная часть шатии-братии не обращала внимания на свирепость ее отца, а он двигался на высокого паренька, который махал перед невидимым лицом намокшей, брызжущей грязью газетой.
Она увидела, что отец нелепо подпрыгнул и ударил кулаком парнишку в голову, словно в маленький, аккуратный колокол. Пацан качнулся и присел на корточки. От удара капюшон упал с его головы. Ладонями он упирался в землю, как легкоатлет перед стартом. Отец стоял около него усталый, как будто вытряхнул дух из себя.
Пока в воздухе накалялась тишина, Михаил Петрович начал ступать незаметно, еле отрывая ноги от земли, зная в деталях то, что произойдет через три секунды. Его затылок и ключицы предусмотрительно немели. Он снял ондатровую шапку, которую ему теперь стало жалко. Из всего своего гардероба всю свою жизнь Михаил Петрович более всего ухаживал за шапками, которых у него и было-то раз-два и обчелся. Он знал, что сейчас его свалят с ног и будут стараться попадать башмаками в лицо. Он был уверен, что ему обязательно выбьют передние зубы, потому что для этой молодежи выбить зубы значило причинить не только физическую боль, но и экономический ущерб.
Он услышал характерный, маневренный, настигающий топот. Но этот топот вдруг был заглушен невероятным по громкости и уродству жестяным воем. Это кричала Оксана незнакомым, сплошным, длительным криком, как будто не в открытом пространстве, а в тоннеле. Топот за спиной не только обмяк, но и прекратился.
Отец быстро приблизился к дочери, и та замолчала. Они забежали за угол дома, обнимая друг друга. Мимо проехал автомобиль с музыкой. Шли прохожие, трезвые и основательные. Фыркала большая собака, которую наконец-то вывели погулять. Михаил Петрович опять надел шапку. На свету он разглядел, что Оксана хлюпает носом.
— Чего ты плачешь, доча?.. А как ты закричала-то хорошо! Молодец!
— Я думала, они тебя убьют, — заплакала дочь смешливым шепотом.
— Пойдем, Оксана, пойдем скорее, — говорил отец, чувствуя, как внизу дрожит и звенит его рука. — Я ему крепко дал.
— Ты другого ударил. Это не он обзывался, — всхлипывала дочь.
— Ничего, ничего, доча.
— Фу, — сказала дочь и засмеялась жизнерадостно.
— Теперь хохочет. Чего ты? — спросил Михаил Петрович.
— Ты пукнул, папа.
— Это не я, это собака, наверное. Хе-хе-хе.
Михаил Петрович овладел собою совсем, когда услышал издалека, сквозь толщи атмосферы и стен, знакомые, дурашливые вопли про свинью с усами.
5. Светлый мальчик
Михаил Петрович принял ванну в каком-то небывалом доселе, молодежном томлении. Он вытягивался в воде, сдобренной ароматизированной, а-ля клубничной, пеной, как теплокровный тюлень; опираясь локтями о края ванны, мечтательно покоился на мыльной поверхности, пока вполне определенная, эротическая лимфа совершала большой круг внутри его тела — от мятного темени до распаренных пальцев ног. Ему нравилась его матовая, полированная монголоидная кожа и нравились его увесистые мужские причиндалы, на которые он теперь смотрел свежим, комплиментарным взглядом, особенно после того как в какой-то, в общем, паршивой газетенке прочел, что размер фаллоса, по экологическим причинам, за последнее время значительно уменьшился, и у современных юношей он уже отнюдь не тот, что был лет тридцать назад, то есть тогда, когда половозрелым молодым человеком уже стал Михаил Петрович.
Накануне Михаил Петрович почему-то без малейшего стеснения, наоборот, с безапелляционностью позвонил Алле и предложил ей, не оттягивая, встретиться. Как ни странно, Алла совсем не удивилась его звонку и откровенному натиску. «Давайте встретимся», — согласилась она и добавила, что лучше — на нейтральной территории, тем самым, собственно, сама забежала на несколько шагов вперед и раскрепостила Михаила Петровича окончательно. «Какая душка!» — чуть не выпалил Михаил Петрович. Они договорились встретиться в семь вечера на выходе из метро «Гостиный двор» и чересчур прозрачно, перекрестно захихикали и захехекали в трубки...
Михаил Петрович кардинально изменил свои усы. Из опрокинутой навзничь скобки они превратились в неутихающее тире из азбуки Морзе. В зеркале его лицо теперь выглядело намеренно и как бы временно энергичным. Он не мог укусить теперь свои усы и лишь догадывался о нынешнем их вкусе. Надлежащий вкус усов — немаловажный атрибут любовника. Прежние его усы, по крайней мере их обвислые кончики, отдавали никотином, зубной пастой «Жемчуг» и спекшейся телесной кислинкой. Михаилу Петровичу нравились теперь и его глаза, хорошо промытые, но все равно неправильно, не миндалевидно, отечно продолговатые. Крылья носа, слегка избавившись от усов, теперь волновались свободно. Михаил Петрович постриг ногти на руках, постриг, кряхтя, их на ногах и, наконец, выпрямился с ощущением законченной чистоты. Он впервые потратил дезодорант не только на подмышки, но и на пах. Мокрый чубчик, откинутый направо и назад, на сломе отливал полоской металлического света. Покидая ванную, Михаил Петрович нетерпеливо приходил к заключению, что женское молодое тело — это с некоторых пор снова счастье для одинокого мужчины.
В комнате, освещенной ярко, всеми лампочками в люстре, мать Михаила Петровича сидела на краешке дивана зареванная.
— Мама, что случилось? У тебя что-то болит опять? — спросил Михаил Петрович.
— Горе-то какое, сынок! — шумно, с остатками рыданья, вздохнула мать и внимательно посмотрела на сына.
«Неужели что-то с Оксаной?» — чиркнули спичкой в мозгу Михаила Петровича.
— Миша, что ты сделал с лицом? Усы, что ли, обкорнал? — спросила мать, вставая.
«Нет, не с Оксаной», — успокоился Михаил Петрович.
— Разве что-то не так, мама? — спросил он, поддерживая мать за поясницу.
— Не так, Миша. Совсем не так. Как придурок.
— Мама!
— Миша! Горе у Леонида! Сына у него убили.
— Как, мама, убили?
— Ну что, как? Не знаешь, как сейчас убивают? Надька твоя звонила, пока ты в ванной себе марафет наводил. Сказала, что убили сына у Леонида. Ой, что-то мне вступило, что-то нехорошо, — мать опять присела на диван. — Шестнадцать лет парню. Ребенок совсем, — мать заплакала невидимо, за низко опущенными веками. — Принеси мне, Миша, мое лекарство от давления. На кухне, на холодильнике.
Когда через несколько минут мать пересказала в подробностях свой разговор с Надькой (что сына Леонида, кажется, его звали Ванечка, ударили на улице по голове, что он сам все же добрался до дома, а дома ему стало плохо, что вызвали «скорую помощь», но в больнице он умер), Михаил Петрович стремительно и ясно понял, что это он убил сына Леонида, что это он сильно ударил мальчика на улице по голове, вернее, в голову.
— Поезжай, Миша, к Леониду. Может быть, чем-то помочь надо. И от меня соболезнования передавай. Скажи, мол, Ольга Федоровна не может в это поверить, — мать говорила с настоящим, прерывистым страданием, полным беспомощности и облегчения. — Теперь-то не пей, Миша.
— Я стопку, мама. Сейчас поеду. Только на работу позвоню.
То ли от того, что, пока он пил первую, а следом вторую стопки, он не выдыхал воздух, в груди у Михаила Петровича что-то разбухло, наверное сердце, и дышать было дальше страшно, невозможно, как под водой.
В памяти Михаила Петровича сын Леонида, Ваня, которого он видел однажды лет десять назад, мерцал абстрактным детским силуэтом. Михаил Петрович помнил, что мальчик при знакомстве с чужим благодушным дядей на контакт не пошел. Он деликатно тогда с куском торта удалился в свою комнату, откуда доносились писклявые сигналы компьютерной игры.
Михаил Петрович не мог вспомнить, был ли Ваня светленьким или темненьким, щуплым или рослым мальчиком. По большому счету, Михаилу Петровичу не с кем было сравнивать того паренька, которого он изо всей силы от избытка общечеловеческого негодования ударил своим огромным кулаком в голову, в издевательский капюшон. Именно этот дурацкий капюшон, этот клоунский колпак переполнил чашу терпения Михаила Петровича. Он не успел разглядеть лицо подростка. Только какая-то знакомая горькая гримаска, мелькнувшая в полутьме перед глазами Михаила Петровича, как будто подхлестнула тогда его бешенство. Теперь Михаил Петрович догадался, что точно такая же врожденно плаксивая горечь порой возникала на лице Леонида, — возникала тогда, когда Леонид затевал какую-либо особенно остроумную каверзу, когда пытался сохранить хорошую мину при плохой игре.
«Мне труба. Посадят теперь, — думал Михаил Петрович. — В тюрьме пропаду быстро». Он понимал, что у Леонида его опознают Ванины дружки, которые безобразно тогда галдели во дворе. «Печально, что Ваня-то был ни при чем. Оксана сказала, что не он кричал, что обзывался другой. Оксана все знает. Оксана теперь — свидетель. Мать ей, наверно, все уже рассказала, и Оксана теперь разрывается между отцом и невинным мальчиком. Может быть, она уже призналась матери, что это он, отец, убил сына Леонида нечаянно».
В метро и на улице сегодня Михаилу Петровичу попадались толпы подростков. Несмотря на то что мир, из своекорыстных соображений, продолжал подыгрывать тинейджерам, делал все, чтобы молодые люди чувствовали себя хозяевами жизни, захватчиками, а старшие поколения на их фоне представали бы сплошь старомодными дураками и святошами, несмотря на всю эту наружную ликующую младократию, юноши и девушки в этот день казались Михаилу Петровичу какими-то растерянными и затравленными. Однако эта внезапная подавленность не только не портила юных горожан, но, напротив, она их некоторым образом облагораживала.
...У дома Леонида, сияющего на солнце слюдяными стеклами, никаких подростков не было, — было много грязных голубей, воробьев и несколько молчаливо фланирующих ворон. У разбитой скамейки лежала дюжина одинаково длинных окурков. Подъезд Леонида, с неработающим домофоном и дверью нараспашку, встретил Михаила Петровича безлюдным запустением — изуродованным лифтом, закупоренным, протухшим сквозняком и ехидно настороженной крысой у мусоропровода. В доме Леонида Михаил Петрович ожидал увидеть куда менее разоренное парадное. Эта его неприглядность почему-то приободрила Михаила Петровича. Он дышал хлипкими порциями через нос, боясь увеличить до непоправимости спертую грузность внутри себя.
У Леонида была та же входная дверь, что и несколько лет назад, без опознавательного номера, с пожухшим лаком на ясеневой обшивке, с заляпанным застарелой краской соском звонка. Дверь была приоткрыта. Михаил Петрович замер перед нею и, несмотря на то что ему было холодно, снял шапку и знобко перекрестился. Из квартиры доносилась негромкая фоновая многослойная вязь голосов. Михаил Петрович услышал, что вдруг ни с того ни с сего заработал лифт, и быстро вошел в квартиру Леонида. В прихожей было пусто. Михаил Петрович торопливо огляделся и не увидел на вешалках среди сгрудившейся разномастной одежды молодежных курток с капюшонами. У порога обуви не было, и Михаил Петрович, тоже не разуваясь, пошел дальше смелее.
Квартира казалась большой, но не просторной. Михаил Петрович помнил, что она была четырехкомнатной. Даже в коридоре стояли светлые, дубовые шкафы, набитые книгами. То, что Леонид за прошедшие годы так и не сподобился сделать евроремонт, едва не вызвало у Михаила Петровича мещанскую усмешку, однако он вовремя опомнился и привел лицо в порядок. Прежними в квартире были внутренние двери, полы, светильники, только мебель местами виднелась новая, вероятно, дорогая. В передней над шкафом так и висела с новоселья виолончель. На ней до замужества играла жена Леонида Вера, которую в своих воспоминаниях о Леониде Михаил Петрович сопровождал жалостливой теплотой, не всегда искренней. Веру Михаилу Петровичу нравилось представлять жертвой беспутства Леонида.
Люди в квартире Михаилу Петровичу начали попадаться всё незнакомые, больше — женщины в темных, но элегантных платках. Мужчины в хороших костюмах здоровались кивком головы издалека. Никакой молодежи не было вообще. Ею даже здесь и не пахло. На долю секунды Михаил Петрович засомневался, туда ли он попал, несмотря на виолончель, треск горящих свечей и старушечий распев псалмов, доносившийся сквозь тихую сутолоку из дальней комнаты, — комнаты сына. Михаил Петрович решил вдруг идти на этот приятный речитатив с религиозной обреченностью. В гостиной люди в основном стояли и перешептывались. Зеркало, антикварное, которое Михаил Петрович хорошо помнил на этом месте в гостиной, почему-то было закрыто не простыней, а чересчур шикарной жаккардовой скатертью с золотистыми кистями. Михаил Петрович даже чуть не выпалил, что так, мол, нельзя, господа, надо по-простому — простыней. В проеме комнаты сына толпился одинаково траурный народ. Этот общий траур показался Михаилу Петровичу каким-то напрасно пытливым, безрассудно подозрительным. «Никто и ничего не может знать, — думал Михаил Петрович. — Никто и никогда». Сквозь мягкие спины из комнаты бил свет.
— Какой светлый мальчик был! — сказала исключительно Михаилу Петровичу миниатюрная женщина в тесно повязанной косынке, из-под которой вылезали рыжие локоны поверх неразличимых глаз. — Какой светлый!
— Можно я пройду? — попросил у нее дорогу Михаил Петрович.
— Пройдите, конечно, — ответила миниатюрная женщина, радушно посторонившись.
В комнате сына гроб мореного дерева стоял невысоко, кажется, на какой-то садовой широкой скамейке, живописно, со складками, покрытой до пола переливчатой черной саржей.
В угол комнаты сдвинули всю технику: телевизор и дисплей, повернутые экранами к стене, акустические колонки в несколько этажей и музыкальный центр, на который, вероятно, чтобы не забыть, поставили видеокамеру, приготовленную для скорых съемок. Стены в комнате были желтыми, набухавшими от электричества и слезливых язычков целого сонмища тонких свечей. Между ними, как в горящем сосновом бору, теснились три иконки. Михаил Петрович различил среди них только Николая Угодника, видимо, того, итальянского. На одной из стен красовался глянцевый плакат с футболистом, каким-то саблезубым, крашеным мулатом. Михаил Петрович понимал, что этот чертов плакат необходимо было теперь снять немедленно.
Нигде не было Леонида. Михаил Петрович был уверен, что Леонида не было дома вообще, что он ушел, испугавшись горя, что он где-то заливал горе водкой, и это его отсутствие выглядело теперь из ряда вон выходящим, невероятно безобразным. «Эх, Леонид, Леонид. Ты думал, что так и будет тебе все с рук сходить. На чужом-то горбу... Нет, так не бывает, дружок. За все надо платить...» — Михаил Петрович вдруг испугался своего нравоучения, торопливо вздохнул, но воздух наружу из него не вышел.
Он стал прилежно слушать, как читала понятно непонятные слова, уткнувшись будто не в псалтырь, а в разлитое на столе пламя, скуластая бабушка в толстой шали, на неподвижных, словно вросших в паркет ногах. Михаил Петрович давно не видел таких старух, не похожих на его мать. «Остави, ослаби и прости вся вольная его и невольная согрешения, — вторил Михаил Петрович за чтицей. — Остави, ослаби и прости».
Михаил Петрович разглядел у гроба среди беспокойно хныкавших женщин Веру. Он разглядел ее потому, что она одна была смертельно измотанной и поэтому не плакала. Вероятно, подняв глаза, она узнала Михаила Петровича и даже попыталась посмотреть на него, как на всякого нового человека, с последним, бессмысленным ожиданием, но отвернулась медлительно, с усилием.
Вера ни разу в жизни не волновала Михаила Петровича как женщина, потому что была худа, высока и насмешлива. Но теперь дикая мысль поразила вдруг Михаила Петровича. «Вот какая мне теперь нужна женщина! — сообразил Михаил Петрович. — Как Вера. А не как Алла. Как Вера».
Последняя догадка и последняя проверка слились у него в движении. Михаила Петровича потянуло к гробу, он пошел к нему почему-то на цыпочках и боком.
Тяжесть из груди поднялась к глазам Михаила Петровича. В гробу лежал светленький и все еще пухленький мальчик. Михаил Петрович увидел, что он был разительно не тот, которого он ударил. Детские руки были сложены в нервную сцепку и отливали расплавленным, побелевшим воском. Они были один в один руками Леонида. «Это не тот, не тот мальчик, — неслышно стал твердить Михаил Петрович, озираясь по сторонам. — Тот был темненький, понимаете, а этот светленький и веснушчатый. Это не я его убил. Это кто-то другой его убил».
Михаил Петрович начал всхлипывать звучно, неудержимо. Люди смотрели на крупного сентиментального мужчину благодарно.
Челка мальчика теребилась не ветром, а зарницей. Михаил Петрович сквозь рыдания отдышался. Сердце у него опять стало маленьким, свободным, словно сдутое.
Рассказы
КАПИТАН КАРПОВ
Капитан Карпов днем перед дежурством спал. Смерть маленькой доченьки Лялечки опрокинула железную иерархию его снов, и теперь сквозь всякую сомнамбулическую рябь проступало одно и то же мазутное родимое пятно, фактически не сновидение, а первое припоминание жизни.
Снился овраг, прорытый пленными немцами через весь приволжский поселок, в котором родился Алексей, то есть капитан Карпов. Возможно, это была обычная траншея для прокладки трубопровода, не пригодившаяся, обветренная, зализанная дождями и поросшая степными растениями, но трехлетнему Леше она представлялась настоящей лощиной. Он сидел на краю пропасти в мутных летних сумерках и заглядывал вниз, ужасаясь дымной близкой бездне. Он хотел увидеть дно, каким бы страшным оно ни было, но не мог этого сделать из-за высоты своего положения и повсеместной, какой-то фотографической мглы. Жизнь капитана Карпова началась с оторопи. Он чуть-чуть сполз по склону оврага, подняв запахи полынных отростков и пересушенной земли. Стало еще темнее, так, как никогда еще не было, — темно и пространно. Это был не паутинный сумрак в углу сарая или под кроватью у родителей, это была невиданная темень, безграничная и безгранная, — темень вечного безлюдья.
Капитан Карпов проснулся от детского страха одиночества. В реальности он любил одиночество, из которого невозможно было выкарабкаться. Эластичная робость терпеливее любого упрямства, безумнее любой гордыни. У ног капитана Карпова испуганно пробудился вслед за хозяином теплый кот-подросток Евсей. Он спрыгнул с дивана и понесся на кухню, стараясь настигнуть собственный кувыркающийся шум. Он лоснился черным вытянутым благородством. Он тосковал по жене капитана Карпова, старшей дочери Марине и младшей дочери Лялечке. Наедине с капитаном Карповым ему становилось скучно. Капитан Карпов, когда никого не было, включал музыку, как теперь — Венгерские рапсодии Листа, и гладил шерсть кота механически. Правда, и кормил тоже невнимательно щедро, откликаясь на любое мяуканье.
Последние дни капитан Карпов иногда ложился на прохладный линолеум в коридоре и лежал долго без вздрагиваний и стонов, пока кот из сочувствия не подходил крадучись к голове хозяина. Тогда капитан Карпов начинал слышать внутри себя, как слоняется, посвистывая и шепелявя, его душа или сквозят остатки его дыхания. Он думал, что лежит на высокой горе, куда люди обычно приходят переживать свое горе. Он чувствовал, что камни этой горы сквозь пол врезаются в его тело. Еще немного — и они пронзят его насквозь...
Жена была разумная, белотелая, спонтанно смешливая и по-прежнему молодая женщина. Она радостно смирилась с их общим воинским укладом. Отсутствие ее обостряло ненависть к себе капитана Карпова, а присутствие, состоящее из семейного столпотворения, уличало его в несправедливой холодности. Она уехала с единственной теперь дочерью, тихой, как отец, к своей матери в Харьков до начала учебного года. Ее трауром стала молчаливая усталость. С непонятным, чужим сочувствием ее укрупнившиеся глаза смотрели на мужа, на его спину, на его офицерскую выправку, из которой теперь вытащили пружину. Он знал, что жена вернется, что она слеплена из теста, которое не способно на эксцентричное вздутие, но порой он воображал, что случившееся, как ничто другое, должно привести их к разводу, а его — к увольнению из армии.
Капитан Карпов брезгливо посмотрел на свое отражение в зеркале. Заостренное, как у тревожного зверька, лицо с китайским, юношеским овалом и вместе с тем какое-то стареющее и старомодное, в мелких линиях, с вялой, немужественной щетиной, с седоватыми, непокорными вихрами, за которые он получал замечания на строевых смотрах, теперь уже невозможно будет обновить ни строгостью, ни душевностью, ни презрением. Окружающие теперь будут находить в нем чудаковатую растерянность и запустение. Бреясь, капитан Карпов порезался. Он увидел, что из небольшой ранки под ухом потекла обильная и отвратительная кровь. Вкус у нее был не солоноватый, а сладкий. Зрелище этой темной, словно гнилостной струйки обрадовало капитана Карпова. Он продолжил беспощадно сбривать сивые бачки, за которыми в период служебного роста скрупулезно ухаживал. Он предположил, что оголившееся лицо, как свежий анекдот, наконец-то избавит его однополчан от сострадательной выразительности.
До выхода из дома, как всегда, оставалось десять минут. Музыка отзвучала разумно, прекрасно, непоправимо, как всякое искусство, согласное с небрежной бренностью. Капитан Карпов улыбнулся, вспомнив, как однажды, находясь по службе в Душанбе, он услышал из радиоприемника, вероятно, шутку местного диктора, который, объявляя музыкальный номер, перевел буквально фамилию Листа на таджикский язык: получилось — «Ференц Девор».
Он распахнул один из томов «Мифов народов мира» и немедленно захлопнул — рой мелко гоношащихся строчек хлынул в глаза, как мошка. Из коробки «В. Н. Лазарев. Русская иконопись» он достал самую тонкую, шершавую брошюру — «Псковская школа», — пролистнул несколько репродукций, подумал, как много темного и красного в этом «Сошествии во ад».
Библиотека состояла в основном из верениц советских подписных изданий, цепляющихся друг за друга, как старые, беспомощные родственники. Библиотека досталась капитану Карпову от его матери, всю жизнь в мнительной сосредоточенности проведшей за прилавком районного книжного магазина. Из своего ничтожного жалованья капитан Карпов выкраивал на покупку раз в месяц одной книги и одного лазерного диска. Заведенный порядок, кажется, становился разорительным и нелепым, но нарушение традиции могло привести к невыносимым изменениям. «Папа, зачем нам так много книг? Ведь мы все равно их никогда не прочитаем», — с недоумением и все-таки удовлетворением от приобретения в дом новой вещи восклицала маленькая Лялечка. «Мы не прочитаем, прочитают наши потомки, уже твои дети и внуки», — с головокружительным самодовольством родоначальника вразумлял отец. Напротив, пополнение домашней фонотеки маленькая Лялечка одобряла без оговорок. Музыкальное произведение, считала она, можно прослушать за час, а книгу, которая по своему значению, вероятно, нисколько не больше музыки, нужно читать целый месяц. Капитан Карпов, наслаждаясь святой наивностью родного рассудительного человечка, ставил диск, укладывался на диван и следил за отрезком бесконечного благозвучия, как за собственными мыслями. Рядом на его руку степенно ложилась ароматная головка Лялечки.
Слезы делают лицо тридцатилетнего мужчины безобразным, притворным, дурацким. Простительны пьяные слезы, но капитану Карпову выпить было нельзя. Если заметит командир пьяненького капитана Карпова, не отчитает (мол, есть у капитана Карпова уважительная причина), но с радостью поставит жирный плюс своим планам внутри своего вынужденного бездушия.
Капитан Карпов, нахлобучив фуражку, сквозь входную дверь услышал разговор и затаился.
— Тише, тише, Саша.
— Почему? — спрашивает соседский мальчик и после паузы шепотом добавляет: — Правда, это командир части сбил их Лялю?
Капитан Карпов слышал, как мальчик стал спускать велосипед по ступенькам; колеса подпрыгивали, хрипло позвякивал клаксон.
— Папа, наверно, не угонится за тобой? — поинтересовался грузный голос прапорщицы Мезенцевой.
— Да нет же, я буду ехать тихо, а он будет идти быстро.
— Мама не вернулась? — продолжала приветливый допрос прапорщица Мезенцева.
— Да нет же. Она приедет вчера. С Людой.
— Ха-ха-ха... — (Боже, какой дошедший до истины смех!) — Не вчера, а завтра.
Молчание. Резонное, характерное молчание, которое капитан Карпов любил и в своих детях больше верещаний, больше любезностей, этих «здрасьте», «спасибо», «спокойной ночи». Лицо капитана Карпова изменилось, он поднес палец ко рту, что непроизвольно делал, когда улыбался, представил крадущийся берет соседского ребенка, его запрокинутую мордашку.
— Давай я тебе помогу вынести велосипед.
— Давай, — вздохнул Саша, сочувствуя себе.
В подъезде стало тихо, но плазменное напряжение сохранилось. Капитан Карпов знал, что прапорщица Мезенцева стоит теперь, как истукан, напротив его двери и смотрит сквозь дверь на него, на его деликатную отчужденность. Утопая в своих многочисленных подбородках, она смотрит на дерматиновую обивку остро и враждебно, она видит его насквозь, она презирает смирение и смятение современных мужиков.
В прошлом году, когда Лялечка тяжело болела и от этого становилась особенно благоразумной, когда родители смирились, почему-то безропотно и отдельно друг от друга, с тем, что она умирает, Лялечка попросила отнести ее на горку. Капитан Карпов, понимая эти ее слова как последнюю волю, исполнил ее просьбу с легкой, даже спешащей обреченностью. Если бы Лялечка умерла в ту пору, закутанная в синее с черными полосками казарменное одеяло, горе было бы последовательно и вразумительно... Лялечка тогда, посмотрев вниз искрящимися глазками, сказала: «Как красиво замерзает речка!» Лялечке, вероятно, было приятно тогда считать себя самой умной в семье. Они стояли на высочайшем месте военного городка, называемого горкой, и река под ними текуче складывалась из черных и белых лекал. Причем черные сияли, а белые их сжимали своими краями. Той зимой Лялечка поправилась и к нынешнему лету окрепла совсем.
Капитан Карпов шел вдоль дороги, на обочине которой играющую Лялечку задавил неизвестный автомобиль. Лялечка предпочитала играть одна, без друзей. Она обходилась сама с собой, как будто с целым сонмом гномов и фей.
Никто не видел самого наезда. Только спустя несколько минут тревожная прапорщица Мезенцева со своего балкона заметила лежащую, как кукла, Лялечку. Видимо, девочка решила перейти дорогу, чтобы сорвать пару пухлых одуванчиков, так и оставшихся расти на той стороне дороги у бетонного ограждения воинской части. Капитану Карпову эти свидетели гибели его дочери были особенно отвратительны — своей пыльной обвислостью, своей пустотелой эфемерностью. Ему были противны и четырехэтажные дома офицеров, и этот длинный, серый, канонический, увязнувший в земле забор, и эта единственная в городке дорога, падающая к отдаленному магистральному шоссе кубарем.
После среднеазиатского, еще советского, ретивого и обнадеживающего лейтенантства, после службы на Кавказе с его кичливым национализмом, с ненавистью к простодушным, продажным, пьющим, нищим русским военным, с подобострастным вероломством местных жителей, направление в эту подмосковную часть и предоставление сразу отдельной двухкомнатной квартиры капитан Карпов расценил как счастливый случай. Так удачно карты ложатся только в честной и долгой игре.
Капитан Карпов иногда вспоминал, что хотел бы стать дирижером, но стал офицером из-за любви к видимой, доступной гармонии. Командиром он был дотошным. Его рота занимала первые места на учениях и смотрах. Особенно ему доставляли удовольствие занятия по тактической подготовке в поле на тему «Рота в наступлении». На плацу же три его взвода, как гоночные машины, выписывали самые сложные фигуры из Строевого устава, все эти повороты и развороты, мгновенные перестроения, размыкания и смыкания — всё с красотою симметричных, пересекающихся нотных знаков, — с красотою, от которой захватывало дух, с пылкими взмахами в воздухе штыков и прикладов, с ровным, молодцеватым, единодушным дыханием.
Капитан Карпов думал, что, несмотря на большую вероятность общего загробного мира, Лялечки теперь там нет. Скорее всего, она пребывает одна в ее любимом, созданном только для нее вселенском затворничестве. В гробу она лежала кроткой, даже плаксивой, какой никогда не бывала в жизни. Было очевидно, что непохожестью на себя эта обстоятельная и принципиальная девочка после собственной смерти помогала маме и папе пережить их скорбь. Ему было стыдно, что он не умер от горя, что горе напоминало о себе лишь отсутствием некоторого компонента жизни, спорадической удушливостью и нестерпимыми приступами жалости к умершему ребенку.
У КПП на солнцепеке, настоянном на запахах пыльной листвы, мазута, разогретого пота, тлеющего никотина, полукругом стояли солдаты-дембеля из роты обеспечения, среди которых был и водитель командира полка сержант Устюшкин, с врожденно презрительным лицом. Солдаты наслаждались пустотой времени.
Бойцы наблюдали за капитаном Карповым, как дикари. Их простые физиономии выражали почтительный ужас и при этом какую-то подростковую, стихийную насмешку. Их удивил изменившийся, горестно заспанный вид капитана Карпова и, в особенности, нелепо прикипевший к порезу на щеке клочок газетной бумаги. Только Славик (так по-свойски звали командирского фаворита Устюшкина) старался быть пренебрежительным.
Капитан Карпов взглянул на Славика, в котором брезгливость теперь не могла справиться с растерянностью и который по своей привычке шмыгал носом, но не как обычно, непроизвольно, а как-то по-новому, задирая голову вверх, как будто у него из носа потихоньку текла кровь.
Капитан Карпов изумился: «Неужели все-таки... Славик?! Но как? Зачем? Месть? Неужели чувство мести в этом мальчике может дойти до такого?!»
Примерно год назад служивший тогда еще под началом капитана Карпова Славик безапелляционным тоном попросился домой в Петербург на один день к умирающей бабушке. Капитан Карпов, которого Славик застал над картой предстоящих войсковых учений, ответил, что Устюшкин должен пройти полигонные маневры. Вот после учений вместе, мол, отправимся в Петербург за новобранцами. Он не стал добавлять, что, согласно положению, бабушка не является ближайшей родственницей и в связи с этим отпуск по случаю ее болезни не предусмотрен. Как у всякого гордеца, у Славика в глазах выросли благородные, злые слезы. «Она мне как мать», — сказал Славик и, развернувшись, вышел из канцелярии. Устюшкин тогда добился-таки своего: он попал на прием к командиру полка, и тот разрешил ему краткосрочную отлучку. По возвращении (оказалось, что он застал последний вздох бабушки) Устюшкина перевели в роту обеспечения водителем по настоянию уязвленного капитана Карпова.
«Неужели месть?» Капитан Карпов припоминал, какими при их встречах жесткими становились движения Славика; Славик как будто показывал, что не может понять предназначения таких жалких людей, каким, по его мнению, был капитан Карпов, этот убогий служака.
Однажды Славик вез капитана Карпова в Москву на командирской «Волге». Капитан Карпов что-то рассказывал, пил пепси-колу из банки. От угощения Славик высокомерно отказался, сославшись на то, что все это заграничное пойло вредит организму. Когда же капитан Карпов выбросил пустую банку в окно, в сторону леса, Славик остановился, вышел из машины, подобрал банку и бросил себе под ноги к педалям. «Там чисто, где не сорят», — изрек Славик и надавил на газ. Потом, убрав ногу с педали, раздавил банку.
«Неужели месть? Но при чем здесь Лялечка?»
Неужели, она, с ее манерой копировать самые внушительные черты взрослых, с ее потешной начальственностью, могла бесить спесивого баловня? Лялечка выговаривала Славику: «Зачем ты так носишься, Славик? Здесь же собачки и птички». «Я не Славик, я младший сержант Устюшкин», — обижался Славик на маленькую девочку.
В части говорили, что это Славик задавил Лялечку.
Тогда, в машине, капитан Карпов попросил Славика приглушить невыносимо визгливую электронную музыку.
Славик выключил магнитолу вовсе.
Заступающие в наряд и караул военнослужащие меньше всего желали видеть в этот день дежурным по части капитана Карпова. Он считался формалистом. Когда он говорил солдатам, что все уставы и особенно Устав караульной и внутренней службы написаны напрасной человеческой кровью, в его облике вспыхивали сполохи несчастных случаев, смертоубийств, вопиющих преступлений, которые можно было бы предотвратить, если бы должностное лицо не пренебрегло прописными истинами. Капитан Карпов собирался даже сочинить нечто вроде статьи в военный журнал о великом вреде разгильдяйства для армии. Он понимал важность самой постановки вопроса, вывода его из бытовой сферы на официальный уровень. Фиглярский либерализм своих сослуживцев капитан Карпов связывал либо с глупостью, либо с инстинктивным своекорыстием.
Но теперь собранные для развода на сумеречном плацу люди заметили в капитане Карпове некоторую отрешенность и обрадовались. Ведь многие, зная характер капитана Карпова и подразумевая щекотливые нюансы гибели Лялечки, ждали от него бесшумного ожесточения и куда более неистового подвижничества.
Капитан Карпов, обходя строй, загадочно смотрел на известных в роте нарушителей дисциплины, и они понимали, что поблажки теперь целиком зависят от глубины его горя.
Он не отправил устранять замеченный недостаток плохо выбритого дневального, а лишь печально показал пальцем дежурному по роте на его небрежно подшитый подворотничок, улыбнулся ответу солдата из старослужащих, который путано перечислял обязанности часового и который ненавидел себя в тот момент за свое никому не понятное смущение.
Над рядами солдат плыли кучевые, взрывообразные и, кажется, разумные облака. Вспомогательные зеркала за спинами военнослужащих у кромки строевого плаца почернели. Холодным, странническим воздухом наполнились их прямоугольные окоемы. Капитан Карпов скомандовал: «Равняйсь! Смирно!» — и на мгновение забылся, потому что его память перемешалась с порывистым шорохом крон исчерна-зеленых, ажурных деревьев. Среди человеческих наслаждений существует и наслаждение от долгого замирания в строю, равного целой эпохе приготовлений и предчувствий.
В роте, куда капитан Карпов заглянул по дороге в штаб, из офицеров присутствовал лишь его заместитель, капитан Архангелогородский. Заместитель по воспитательной работе, этот безнадежно штатский человек, сидел в канцелярии и, как всегда, играл в компьютерные игры. До появления компьютера в армии у офицера Архангелогородского, не осанистого, с природно пухлыми боками и копотливой смешной походкой, было по-настоящему полезное хобби: он переплетал книги, сшивал воедино журнальные публикации, брошюровал блокноты. Солдаты не чаяли бы в нем души, если бы его демократизм и словоохотливость не чередовались бы с визгливой обидчивостью и необъективностью. Кажется, понимание того, что он находится не в своей тарелке, мешало ему двигаться по середине пути. При этом в нем не чувствовалось именно трагической неуместности, что было капитану Карпову симпатично. Казалось, Архангелогородскому было бы так же неуютно не только в армейской, но и в любой другой людской среде, и абсолютно хорошо ему было бы в том месте, о котором он кое-что подсознательно знал и которое в итоге, возможно, обернулось бы для него все той же чуждой казармой.
Теперь капитана Карпова не задевало, что его заместитель в разговоре называл его по-граждански — Алексеем, даже без отчества, нивелирующего вечную застенчивость субординации. Странно, в капитане Архангелогородском капитан Карпов отмечал иное, нежели у других сослуживцев, сочувствие своему горю, не соотнесенное с обязательностью смерти, а адресованное напрямую пострадавшей душе капитана Карпова. Он увидел в капитане Архангелогородском родственную человечность, то есть человечность, которую не сразу и распознаешь сквозь разного рода церемонии. Черные завитушки на голове Архангелогородского, с которыми тот безуспешно боролся, дабы они не усиливали и без того антивоенную его внешность, теперь показались капитану Карпову очень знакомыми, будто взятыми из собственного детства или из семейного фотоальбома. Он даже испугался этого дуновения близкого родства с капитаном Архангелогородским.
Капитаны беседовали о перспективах армейской службы. Карпов выглядел покладистым, Архангелогородский — настойчивым.
— Прочитал сейчас в «Известиях», — сообщал Архангелогородский, — что в следующем году планируется сокращение офицерского состава на триста пятьдесят тысяч. Это на треть или больше? Если взять нашу роту, то кто-то из нас должен тю-тю отсюда?
— Да, это непременное условие реформы, — подтвердил капитан Карпов.
— То есть либо я, либо Николаев, либо Лагута?
— Еще есть лейтенант Кирпичников, есть я.
— Нет, я абстрактно раскладываю, что каждый третий офицер.
— Или четвертый, или первый.
— Вот именно — первый, — согласился с Карповым Архангелогородский. — У нас всегда первый. А первый как раз должен оставаться до последнего. Алексей, я считаю, что такие, как ты, рождены быть военными, что если бы в результате этих реформ в армии остались бы такие офицеры, как ты, а такие, как я, ушли с богом, это была бы полезная реформа, и именно такая реформа армии и нужна. Но ты ведь понимаешь, что у нас все происходит наоборот. Останутся вечные середняки, горсточка лучших и при этом разбросанных по всем частям, чтобы не собирались больше одного, и хренова туча никчемных дуроломов, которым все равно где баклуши бить — в армии или в каком-нибудь офисе. Куда вы сократите этого бильярдиста майора Никифорова? Да он сам будет в комиссии по сокращению. И Холов там будет, и Голиков — усы надувать. Потому что они могут лизать вышестоящую задницу без омерзения. Все мы лижем понемногу, но стараемся при этом хоть нос зажимать и глаза зажмуривать, и думать о приятном, а эти, они же ведь с удовольствием лижут, с чувством, с толком, с расстановкой. В общем, я надумал подать рапорт по собственному желанию. Контракт у меня подходит к концу, и я не хочу его продлевать. Черт с ней, с пенсией. Невыносимо, в конце концов, служить только ради пенсии. Лучше было бы, конечно, чтобы меня сократили в связи с этой реформой. Льготы все-таки будут. Как ты думаешь? Не будешь возражать?
— Не буду, — сказал капитан Карпов, намереваясь идти в штаб, в дежурку. — Но действовать надо по команде, а не в свободное плавание пускаться.
— Зайди к командиру, он звонил, — вспомнил о просьбе командира полка капитан Архангелогородский с появившейся в глазах обидой.
В военном городке считали, что чувство уязвленности, не сходившее последнее время с лица капитана Архангелогородского, было вызвано изменами его жены. Капитан Карпов был уверен, что из Архангелогородского получился плохой ревнивец, классический, прибедняющийся, с горьким подобострастием к вероятным своим соперникам, будь они его начальниками или подчиненными. «Не ревнует ли он и меня?» — подумал капитан Карпов и дружелюбно положил руку на плечо заместителя.
— Товарищ полковник, разрешите войти? Капитан Карпов по вашему приказанию прибыл.
Полковник Комов принадлежал к когорте негромких военачальников, исповедующих тактику перманентного напряжения. Есть командиры другого сорта, так называемые батяни, делающие упор на своевременном расслаблении вверенного им контингента, будто бы в средоточии умеренного попустительства содержится фермент воинского братства — этого якобы первейшего залога побед. По мнению полковника Комова, эти горе-командиры, эти певцы привала были всего лишь неисправимыми лентяями и мелкотравчатыми честолюбцами, чье развитие остановилось на уровне их прежней должности. Электричество в отношениях, тревоги и проверки, культ функциональных обязанностей, уважение к мелочам, практика придирок в педантском значении этого слова, а также постоянная накаленность и драматизм — вот что полковник Комов приветствовал всем своим сердцем в военной жизни. Будучи человеком сухощавым, мрачным, стройным, малопьющим, с походкой спокойного хозяина, он не любил результат, и презирал победу как цель, — для него было важно стоять во главе слаженного и боеспособного коллектива. Личная жизнь полковника Комова протекала в изолированном смущении. Он никогда не появлялся во дворе гуляющим в спортивном костюме. Его жена была под стать ему — отстраненной, худощавой, даже красивой. Капитан Карпов понимал замкнутость и неприступность командира, кажется, вышедшего из той же длиннополой, глухой шинели, из какой вышел и сам капитан Карпов.
После того как полковник Комов выслушал доклад капитана Карпова и монотонно напомнил ему о том, на что сегодня надо обратить внимание во время дежурства, он заглянул в глаза капитана Карпова. Обычно он смотрел на подчиненных нехотя, заставляя себя быть толерантным и прямодушным, будто верил в то, что честные, мужественные мужчины должны непременно смотреть друг другу в глаза. Он увидел, что капитан Карпов смотрит на него утомленно и разочарованно. И еще он видел на лице капитана Карпова порез, шизофренически залепленный обрывком бумаги. Про себя он отметил, что капитан выполнил-таки его давнее внеслужебное пожелание сбрить эти несколько претенциозные бакенбарды. Нельзя сказать, чтобы лицо капитана Карпова от пустоты опростилось, но то, что в нем вдруг появилось больше чего-то типического и одновременно сугубо карповского, было приятным фактом.
Наконец, полковник Комов, дернув плечом так, будто с него сползал ремень автомата, спросил капитана Карпова:
— Вы, наверное, знаете, зачем я вас вызвал?
— Так точно, — ответил капитан Карпов.
— Вам когда к следователю?
— Послезавтра.
— Алексей! Мне неприятно об этом говорить, но я должен. Поймите, эти слухи в городке не имеют ничего общего с действительностью.
Полковник Комов не курил, поэтому вынужден был беседовать с подчиненными о личном быстро, можно сказать, наспех. Чтобы нивелировать волнение, он двигал только глазами и ноздрями.
— Поверьте мне, — с максимальной сердечностью говорил полковник. — Я понимаю ваши чувства, соболезную, но, к сожалению, ее не вернешь. Надо жить дальше, служить. А все эти разговоры — бабья трепотня. Офицерским женам делать нечего, работать негде, вот они и перемывают косточки, деморализуют обстановку. Как вы думаете?
— Я тоже думаю, что это только слухи, — сказал капитан Карпов.
Полковник Комов вздохнул, его ноздри задрожали.
— Ваша супруга уехала? — спросил он.
— Так точно. К матери.
— Может быть, целесообразно и вам в отпуск?
— Никак нет. Я уже отгулял.
— Товарищ капитан! Я вызвал вас вот для чего. Собирайте потихоньку документы для поступления в академию, в Москву. Кому, как не вам. Соответствующее указание я уже дал. Майор Никифоров поможет все оформить.
— Да.
В темнеющий штабной коридор капитан Карпов вышел неслышно, с омерзительной догадкой. Он открыл то общее, что было между полковником Комовым и его водителем Славиком. Их связывало не только то, что они ездили в одном автомобиле, и не вероятная причастность к смерти Лялечки, а какое-то кровное сходство их мимических выражений — это чопорное оцепенение губ в сочетании с опасливыми взглядами, это холостое шмыганье носом, этот досадливый поворот головы, это их какое-то утробное поеживание.
«Неужели такими и бывают убийцы?» — думал капитан Карпов.
Последнее, с чем ознакомил полковник Комов капитана Карпова, было известие о гибели в Чечне прапорщика Мезенцева. Командир милостиво освободил дежурного офицера Карпова от его обязанности довести плохую новость до свежеиспеченной вдовы. Этот крест полковник Комов решил нести сам.
Прапорщик Мезенцев как-то рассказывал капитану Карпову, что больше всего в Чечне ценится солдатский сухой паек № 5, в просторечии — «зеленка»: продукты сытные, стерильно упакованные в зеленую обертку, никакого шашлыка из чеченских собак не надо. И капитан Карпов подумал, что прапорщица Мезенцева, узнав об утрате, будет выть по-коровьи тревожно и трудно три дня и три ночи.
Во время дежурства в положенные часы капитан Карпов любил отдыхать, когда бушует ночная, полновесная листва. Караул проверен, вводная задача по отражению нападения на караульное помещение выполнена без сучка без задоринки, на первом посту у знамени обреченно окаменел добросовестный боец — ничто не мешает капитану Карпову вытянуться на кушетке, как будто параллельно своему забытью. «Почему Бог не карает, если он милостив?» — засыпал капитан Карпов.
Он увидел себя курсантом в сопровождении гибкой и смешливой девушки, которая оказалась его молодой женой. Они вбежали в филармонию, опаздывая на концерт. Их веселая растерянность усиливалась тем, что они никак не могли найти вход в зал. Всякий раз они натыкались на псевдодвери, восторженно потешаясь. Наконец они замерли у очередного мнимого портала и услышали неизвестное и необыкновенно красивое музыкальное произведение, смешение хора, духовых и струнных. В какой-то момент, завороженный, он стал озираться и понял, что девушки нигде нет...
Уже проснувшись, капитан Карпов продолжал различать эту музыку еще несколько мгновений, пока последний удар подсознания не превратил душещипательные звуки в некий сквозящий, вселенский скрежет. Капитан Карпов, любивший раннее утро, содрогнулся от озноба. Во рту, носоглотке, даже мозгу он ощущал какую-то отвратительную суспензию, как будто шлюзы в организме теперь были разрушены — и остатки вчерашнего воинского ужина натекли за время сна из желудка в голову. Он подумал, что заболел, по крайней мере мембрана между здоровьем и смертью отсутствовала. Он вспомнил, что исчезновение в хвосте мелодии приснившейся жены сопровождалось саркастическим вакуумом. Никогда еще укоризна жены по отношению к нему не была такой беспощадной, такой безмолвной. Иногда жена жалела жалких людей, но презирала человека так — впервые...
Дребезжал допотопный телефон в дежурном помещении. С КПП сообщили, что к воротам части приближается командир полка — по-хозяйски, не спеша, давая возможность заметить себя и устранить какую-нибудь мелкую, как он выражался, порнографию.
Капитан Карпов искренне удивился тому, что сегодня, может быть, в последний раз выбежав встречать полковника Комова, он, за три метра до него переходя на строевой шаг и останавливаясь перед самыми полковничьими глазами, в остолбенении будет докладывать командиру о том, что никаких происшествий за время его, капитана Карпова, дежурства в полку не произошло, что личный состав занимается согласно распорядку дня, что иногда в одном населенном пункте, в одном роковом месте некоторым двум людям находиться больше нельзя. Нет для такого соседства никакой возможности, никакого оправдания, никаких человеческих сил. Никак нет.
ПОЦЕЛУЙ ЛЮДМИЛЫ ПАВЛОВНЫ
Людмила Павловна, теща молчаливо истеричного отставного подполковника Волгина (в быту — Сержа), торопилась домой с таким несуразным нетерпением, с каким периферийная, залежалая принцесса торопится занять некий вдруг освобождающийся трон.
Людмила Павловна пренебрегла метро, где ей было бы теперь трудно дышать и тяжело бороться с волнением, и на углу Каменноостровского и Карповки пыталась дождаться своей маршрутки с каким-нибудь отвязным водителем, которого бы она в другое время упрекнула в лихачестве, а теперь была бы благодарна его рывкам и сугубо меркантильной быстроте. Бесшабашная езда отвлекла бы теперь ее от обиды. Она подумала, не поймать ли такси, и, вдруг запылав жаром тороватой удали, мол, гулять так гулять, она даже ступила на проезжую часть и высоко, по-простецки подняла руку, но догадалась в тот же миг, во сколько ей обойдется эта поездка, и отпрянула назад. Собственно, спешить-то было незачем. Только лишь ради того, чтобы не перегореть. С другой стороны, было бы лучше теперь перегореть, остыть. Правда, ажитация, которая ее охватила, эта вопиющая ярость, ей нравилась. Она чувствовала себя вдруг помолодевшей, стихийной.
Теплоту дня регулярно окатывали порывы ветра. Людмиле Павловне льстило, как ветер задирал ее двухслойную, плиссерованную, по-цыгански цветастую юбку с подкладкой — фактически две юбки. Людмила Павловна одергивала ткань машинально, с инстинктивным кокетством, с вызовом. Она понимала теперь театральную панику Мерилин Монро, когда вихрь по-мужицки вывернул подол ее платья. Людмила Павловна ценила в себе каркас былой красоты. Она знала, что ноги ее местами одрябли и посинели, но впадины на внутренних сторонах ляжек оставались такими же нежными и такими же стыдливыми, как в годы диковатого девичества.
Озираясь, Людмила Павловна думала, что, к сожалению, весь мужеский род теперь стал совершенно другим, испортился и обмельчал. В мужиках не осталось страстного интереса к женщине, они меньше облизываются, глядя на красоток, они не охочи, они не желают ухаживать, как будто к этому их ничто уже не подталкивает, как будто в них семя не накапливается, вымывается вместе с мочой и кровь не прибывает к детородному органу. Бесчувственные, своекорыстные, деградирующие. Либидо, что ли, пропили?
Водитель в маршрутке, как назло, оказался медлительным, вислоусым лапотником. Налег на руль и грезит, как какой-нибудь рыбак на льду. Еще что-то мычит неразличимое. Пристроился за троллейбусом и ни вправо, ни влево. В салоне сидели одни бабы и два угрюмых подростка.
— Не могли бы вы прибавить газа, молодой человек? — наконец не выдержала собственного смятения и синего пыльного зада троллейбуса Людмила Павловна.
— Нет, — отрезал вислоусый и еще ниже накренил покатые потные плечи.
— Правильно, наш Никитич не везет, не тычет, — в тишине произнесла Людмила Павловна.
Ей очень хотелось двинуть этого тихохода в мокрую спину.
Насупившиеся пассажиры были недовольны ее поведением.
Им нравилась дорожная канитель, а тут эта нервная тетка не может найти себе места. И они озирали ее одинаковым взглядом, полным психиатрического осуждения.
— Я не Никитич, я Леонидыч, — отозвался водитель на удивление задумчивым басом.
— Неужели? Все равно не тычет. — Людмила Павловна поискала поддержки и, не найдя, вздохнула иронично.
Вдруг она поперхнулась то ли от толчка в бок, то ли от непонятного комка, перегородившего горло. Она наклонилась вперед и мгновенно прошелестела губами самую маленькую молитву на свете. Когда ее губы в последний раз прошептали «Господи», плотный воздушный шарик провалился вовнутрь, и дыхание стало свободным. От происшествия остались лишь крупные капли на ресницах и ярко-красные пятна на шее.
Водитель оглянулся на нее и поднял усы с иносказательной игривостью. Их изнанка у корней была темная, не выгоревшая, а округлая поверхность — свалявшаяся, ржавая.
Серж пожаловался своей жене Надежде, а Надежда со смущением поспешила передать матери слова мужа, что почувствовал он себя на этот раз плохо тотчас после того, как Людмила Павловна троекратно поцеловала его при встрече на Московском вокзале. Только она отстранилась от него и только он успел промокнуть платком ее слюни на щеках и частично на носу, как у него стало останавливаться сердце.
В панике добравшись до дома, он лег высоко на подушки и всю ночь, боясь умереть, разговаривал, однако не позволяя Надежде вызвать «неотложку». Он говорил жене, что опасается не собственно смерти, а неосуществленной жизни. Полнота и законченность личной судьбы — вот то условие, которое надо непременно исполнить, если хочешь без обиняков перебраться в мир иной и занять там достойное положение. Он говорил о самом великом и трагическом недоразумении, которым Бог поразил своих одиноких агнцев. Оно состоит в том, что при реальном существовании этого и загробного миров обитатели того и иного ничего не ведают друг о друге. Память при переходе из одного мира в другой очищается моментально, сознание и подсознание меняются местами. Он говорил испуганной, завороженной Надежде, что именно теперь ему нельзя давать дуба, именно теперь, когда он получил долгожданное приглашение в Москву.
К утру он угомонился и даже начал похрапывать негромко, что делал, когда был абсолютно здоров, даже сквозь сон остерегаясь перевалиться на бок, собирая в кулак крупицы спящей воли, переплетая свои жесткие, иссушенные пальцы с тревожными пальцами жены.
Не выспавшись, Надежда попеняла матери. Людмила Павловна испытала чувство комичной неловкости.
— Он совсем с ума спятил! — воскликнула она.
— Нет, — возразила Надежда. — Он назначен заместителем председателя Госкомитета.
— Я от всей души хотела его поздравить.
— Не надо было его целовать, мама.
— Он тебя все равно бросит, — выпалила Людмила Павловна.
— Что ты каркаешь, мама?
— Я каркаю? Ты слепая, дочка.
Людмила Павловна не успела договорить главного — дочь положила трубку.
«Отравился моим поцелуем! Как такое в голову может прийти? — негодовала Людмила Павловна. — Тоже мне, офицер КГБ. Недреманное око. Ипохондрик проклятый, неврастеник, мучитель. Вот из-за таких горе-защитничков и развалился Советский Союз, из-за слизняков, бездельников, скрытных выпивох. Не успел получить майора, как раздался в теле, даже веки набрякли, китель перестал сходиться, что-то с пуговицами мудрили».
Выйдя на пенсию, подполковник Волгин стремительно полысел, словно от каких-то внутренних ядов, от афронта, от язвительной тщеты. Год сидел дома с газетами, мылся по три раза на дню, культивировал болезненную брезгливость, ждал команды влиться в новый кадровый поток соратников, хлынувших в столицу. Последнее время беспрестанно разглагольствовал о Москве, называл ее Царьградом, паузы делал лишь для того, чтобы заглянуть собеседнику в глаза и зарегистрировать его верхоглядство.
Людмила Павловна догадалась, почему он на нее ополчился — не только из-за двух десятилетий безотчетной неприязни, но и из-за ничтожной веселости, какого-то междометия, какого-то ситуативного ее смешка. Серж попросил Надежду впредь покупать копченую колбасу: мол, надо привыкать к бутербродам с копченой колбасой, так как в Кремле теперь объявилось много ее почитателей, в том числе самых что ни на есть высокопоставленных. Людмила Павловна не думала, что Серж говорит всерьез, напротив, ей показалось, что он шутит, и она как-то нелепо, во всеуслышание хмыкнула, всего лишь произнесла нечленораздельный звук. Она тут же осеклась, увидев бешенство Сержа, его покрасневшее разводами лицо с намертво закрытыми глазами, прикушенный кончик языка, пульсирующий козелок на ухе. Чтобы сгладить конфуз, Людмила Павловна, вопреки благоразумию, ни с того ни с сего понесла совсем уж крамольную чушь. Ее прорвало, клапан сломался, и она говорила, что паломничество в Москву добром не кончится, что москвичи будут сопротивляться переходу питерского количества в питерское качество, не бог весть какое, что едут не лучшие силы, что между самими московскими питерцами скоро возникнут противоречия, кто-то скурвится, кто-то переметнется, кто-то оплошает, и неизвестно, чей жезл расцветет, что спустя некоторое время питерцы вынуждены будут возвращаться назад, и вряд ли это возвращение будет триумфальным, вряд ли оно будет единичным, а не столь же массовым, как и теперешняя огульная экспансия.
Людмила Павловна вспомнила, с какой беспощадной иронией тогда смотрел на нее зятек, с каким трудом сжимал и разжимал небольшие кулачки, с какой тяжестью оборачивался на Надежду — бедную женщину, безупречный громоотвод.
В своем квартале спешащая Людмила Павловна замедлила шаг. Из ее подъезда ей навстречу вышел бывший сосед по лестничной площадке пьяница Леня. Оба стекла его очков были разбиты, подбородок залеплен грязным пластырем, нестриженые волосы глиняными ручейками стекали под оправу на глаза. Леня выглядел опешившим. Вдруг он посмотрел в сторону от Людмилы Павловны и вскрикнул сквозь распухшую ладонь, поднесенную ко рту:
— Девочка упала!
Людмила Павловна оглянулась и увидела у соседней парадной лежащую навзничь девочку. Людмила Павловна бросилась к ней через кустарник, понимая на ходу, что ничего страшного, слава Богу, не произошло, потому что девочка уже поднимала голову и начинала рыдать.
— Ну что с тобой? Как же ты так? Ушиблась? — спрашивала девочку Людмила Павловна. — Болит колено, маленькая?
Девочка была вовсе не маленькая, годков двенадцать, худосочная, вытянутая, смуглая, с красивыми несчастными губками. Людмила Павловна подумала, что такими страдальческими, сладкими и слабыми ее губки останутся навсегда, сколько бы лет ей ни исполнилось — двадцать, тридцать, сорок.
Девочка почему-то не поднималась, а, хныча, сидя на земле, стыдливо поправляла свой сарафанчик, задранный при падении.
— Ничего, только ссадина на ноге, — утешала плаксу Людмила Павловна.
Она видела, что эта девочка, к сожалению, родилась под горемычным знаком.
Девочка встала при помощи Людмилы Павловны и все продолжала одергивать и приглаживать ткань на своем узком тельце.
— Какая скромница! Ступай домой. Ты из этого подъезда? Помой ножку и помажь зеленкой. Ты меня поняла, красавица?
Девочка кивала головой и сквозь челку доверчиво смотрела на строгую, добрую женщину.
— Одежда не пострадала, не переживай. Только ножка немножко. А ножка до свадьбы заживет.
Девочка заулыбалась и, кокетливо прихрамывая, направилась к дому. Одной рукой она взмахивала для балансировки, а вторую не отрывала от своего тощего, нежного бедра.
Людмила Павловна подумала о собственных родных душах — о дочери и внучке. Людмила Павловна полагала, что теперь они могли бы быть счастливы, живя втроем, три разновозрастные близкие женщины. Только в них одних течет общая кровь. Глубину человеческой гармонии питают однородные переживания. Настоящая щемящая симпатия по своей сути единоутробна. Мужики здесь чужаки. Они в наше время натуры приходящие и уходящие. Они избегают всепоглощающего семейного самопожертвования. Они временные и недобросовестные носители семени, лишь исполняющие не свои обязанности.
Леня ждал Людмилу Павловну у покореженных дверей.
— Где ты теперь, Леня, обитаешь? — спросила Людмила Павловна.
— У матери на Суворовском.
— Что, в одной комнате в коммуналке?
— А много ли бедным людям надо?
— Ты пропил, что ли, эту квартиру?
— Кинули меня, Людмила Павловна. Подсыпали какой-то отравы. Хорошо, не убили.
— Эх ты, Леня, Леня. Лучше бы убили.
— Ну, ты в своем репертуаре, Людмила Павловна.
— Лучше бы убили, Леня.
— Я своей смертью хочу умереть, персональной.
Людмила Павловна, не стесняясь брезгливости, оглядела Леню со всех сторон, как маленького. От Лени на версту несло испортившимся, никудышным телом, спекшейся смесью всех известных мужских нечистот.
Людмила Павловна вошла в подъезд с усталым огорчением, вызвала лифт, вспоминая Ленину жалкую мать. В кабинке лифта пахло свежей мочой, на полу дрожала желтая лужа. Людмила Павловна отшатнулась и стала подниматься на свой этаж пешком. Сообразила: «Это Леня. Нарочно приезжает сюда гадить».
«Наша порода живучая, — думала Людмила Павловна. — Мама умерла в восемьдесят пять. Если бы не упала и не сломала бы шейку бедра, жила бы со своим здоровым сердцем и сейчас. Мама тоже недолюбливала своего беспечного зятька и, оказалось, была недалеко от истины. Я теперь опустошена, больна, взвинчена и так одинока, что мне кажется, что меня не существует даже наедине с собой. Однако я знаю, что все переживу и окажусь на поверку счастливой. И это моя главная тайна».
По телевизору шла передача «Окна». Людмилу Павловну не могло обмануть правдоподобное поведение действующих лиц. Она понимала, что все эти коллизии и душераздирающие кульминации срежиссированы молодыми бессовестными крохоборами. Потешаются над населением. Она понимала, что они родились лишь для того, чтобы исказить картину мира, остудить теплоту существования. Она не сомневалась, что в домашней обстановке эти расхристанные циники превращаются в вежливых маменькиных сынков. Сложнее с бесноватыми дочерьми. Те если суки, то суки везде. Она смотрела на ведущего и видела сквозь его животные манеры, его самовлюбленные жесты пологую, бабью презрительность. Она верила, что бывают мужчины с сугубо женским образом мыслей. Из этого пружинистого, внешне брутального актера, по мнению Людмилы Павловны, могла бы получиться при ином раскладе горделивая, привлекательная пуританка.
Людмила Павловна сняла с головы все заколки и резинки, и ее опаленные, рыженькие волосы упали до середины лица. Если пряди еще сохраняли последнюю краску, то макушка была совершенно белой. Людмила Павловна вздохнула: волосы погибали уморительно. Зато не выцветали глаза. Они продолжали быть карими, чистыми, смелыми. «Почему говорят, что глаза зеркало души?» — недоумевала Людмила Павловна. Ей казалось, что теперь это высказывание звучит по меньшей мере неестественно. У нее порой возникало ощущение, что ее глаза с течением времени перестали принадлежать ей, что они — чужие, не ее, другого существа. Когда глаза закрываются, человек как будто разворачивается и уходит от себя прочь в противоположную сторону.
Людмила Павловна перед сумеречным зеркалом вырядилась в пух и прах: надела малиновое тесное платье из бархата, коралловые бусы и серьги, толстые кольца червонного золота. Потом она опустилась в кресло с альбомом, полным семейных фотографий. До этого вечера он лежал среди документов в кофре, обитом перфорированной бурой кожей.
Людмила Павловна перекрестилась, прочитала самодельную крохотную молитву и стала переворачивать один за другим рыхлые напластованные листы. Вот покойный муженек в санатории, почему-то с гитарой, с пьяным прикусом, с провалившейся, гниющей щекой, с легкомысленным взглядом, невыносимый и уже неизлечимо больной. Папа, почти неизвестный, в гробу, другой фотографии не осталось. Мама смотрит изможденно, с упрямством. Некая опустошенность обнаруживается в выбившихся из-под платка черных, глянцевых локонах. Вот она сама, Людмила Павловна, летняя, юная, в шестидесятых, в белом в красный крупный горошек платье, которое до сих пор цело и хранится в чемодане на антресолях, улыбающаяся с дерзким прищуром будущему счастью. Вот зрелая дочка, у моря в дымчатых очках, с высокой ломкой шеей, красивая, извилистая, с нежным овалом, излучающим негу. Рядом с ней внучка Людмилы Павловны, смешливый плоский подросток, в отца беловолосая и светлоглазая, с отливающими светом длинными лодыжками. Пляж, на котором они расположились, так зализан волнами, так отполирован солнечным огнем, что напоминает в сепии молодое крепкое человеческое тело — с этими буграми бедер, барханами грудей, впадинами подмышек, ложбиной живота.
Вот, наконец, и зятек! Здравствуй, Серж! Здравствуй, горе луковое! Не ожидал такой телепатической встречи? Что-то ты здесь скучный в командировке на Северном Кавказе, с затененными глазницами, с облупленным ромбовидным носиком, в кургузой, спутанной, красноватой бородке. Не идет она тебе. Это тот случай, когда борода не увеличивает, а, напротив, уменьшает размягченную мужественность. Голубовато-серое небо, волнистые холмы на втором плане, как будто покрытые мелкой, как у овцы, зеленой шерстью, под ногами горячая калька, а ты такой расстроенный, затаившийся! Камуфляжный головной убор скрывает перламутровую плешь, о которой не сразу догадаешься, глядя на вьющиеся виски. В пятнистых штанах и армейских ботинках стоишь ты как-то по-балетному неудобно. Куртка распахнута на груди, под ней воинственно виднеется тельняшка в катышках и крестик, вылезший наружу. Ремень перетягивает середину живота не сильно, щадяще.
«Так ты утверждаешь, что заразился сердечным недугом от моего поцелуя? — Людмила Павловна все это время разговаривала вслух. — Ты веришь тому, что инфаркт, как какая-нибудь обычная инфекция, передается микробами? Если это даже и так, ты должен спать спокойно, дорогой затек. Знай наконец, что в нашем роду никогда не было и не будет хилых, пустых, сломленных сердец. Нам нечем тебя заразить. Не клевещи и не позорься!»
Она поднесла фотоальбом ближе к своим плачущим глазам. «Так ты говоришь, что заразился от моего поцелуя? Так вот же тебе, зятек, получай! Я зацелую тебя до смерти!» — произнесла Людмила Павловна и звучно стала целовать на фотографии маленькое, застывшее лицо Сержа, перекрывая мокрыми губами всю его голову и аляповатое военное кепи.
СЕМЕНОВЫ
— Мерзавцы! — со всей горечью биологического чувства воскликнул старик Семенов, но от телевизора, как это с ним бывало при вспышках неприязни, не отошел.
Напротив, ему хотелось остановить картинку, как на видеомагнитофоне, чтобы плюнуть этим «мерзавцам» в их невыносимые, безобразные физиономии.
Старик Семенов причислял себя к отработанному, предсмертному поколению, совершенно списанному жизнью. В силу этого в политике из двух зол он выбирал старое — консерваторов, как бы они ни назывались.
В данном случае они так прямо и назывались, на чьей стороне он теперь был, — тори. Его очередное бешенство было реакцией на сюжет в «Новостях». Ведущий, сам по себе уже мерзкий, почему-то без пиджака, гнусавым, якобы стильным голосом сообщил, что власти Великобритании приняли окончательное решение не выдавать бывшего чилийского диктатора Августа Пиночета испанскому правосудию и разрешить ему вылет в Чили, где он является пожизненным, неприкосновенным сенатором. Решение англичан, в котором первую скрипку играли именно консерваторы, было вызвано крайне тяжелым состоянием здоровья восьмидесятилетнего Пиночета.
«Мерзавцы» же старика Семенова относились к либералам и всяким лейбористам, которые были, видите ли, возмущены решением английского правительства и галдели на площадях перед камерами, как ошпаренные.
Вот почему он жаждал нажать на «паузу», чтобы успеть вглядеться в самую сердцевину косящих глаз этих сукиных детей. Он с изучающей ненавистью смотрел на их лица и недоумевал, как же из таких обычных телесных сочетаний получаются сущие дегенераты, пропитанные ложью, как формалином.
«Э-хе-хе, — горевал старик Семенов, — люди даже на плотском уровне делятся на консерваторов и либералов. Вот, полюбуйтесь, какое неистовое бесстыдство! Эта щуплая дамочка с мужским кадыком, эти мохнатые гомики — все в поту, дрыгают ляжками, как будто им мошки мошонки облепили».
Старику Семенову было приятно сознавать, что Англия и в историческом контексте дала пощечину Испании, хотя Испанию старик Семенов во всем остальном любил больше, чем Англию.
Вряд ли бы старик Семенов в прямом смысле стал плеваться в телевизор, потому что относился к живому ящику столь же бережливо, как его дед-крестьянин к единственной лошади. Он общался с телевизором. В целую феерию превращалось кормление телевизора. Когда старик Семенов пил чай или обедал или пропускал стопку, а делал он все это перед телевизором, за круглым столом, устланным багровой бархатной скатертью с кистями, он обязательно угощал тех, кто в этот момент высвечивался на экране, буквально подносил рюмку к кинескопу, вилку с сосиской, бутерброд с килькой. При этом он разговаривал с гостем из Зазеркалья как с соседом или родственником, иногда даже пытался поправить какому-нибудь министру галстук или щелкнуть ложкой по лысине депутата-дурака или погладить ручку Кларе Лучко, старой своей привязанности. Особенно старик Семенов любил беседовать с сильными мира сего, которым он обязательно предлагал выпить, и в первую очередь Горбачеву и Ельцину. Путин в этом ряду был неприкасаемым. Рука к нему не тянулась, рот замолкал и даже невидимые мысли становились путаными и угрюмыми. Он чувствовал, что Путин ему нравится, что ведет он себя нравственно, что выглядит он как молодой жрец, но родным человеком назвать Путина старик Семенов не осмеливался. Непутевого Ельцина мог, маразматика Брежнева мог, пустомелю Горбачева мог, а Путина нет. Путин казался правильным и чужим. Как только не ругал старик Семенов своего малограмотного, пьющего ровесника Ельцина и к тому же двойного тезку, но когда тот объявил перед Новым годом о своем уходе, старик Семенов заплакал. Горестный уход Ельцина ему почему-то напомнил уход Льва Толстого, и старику Семенову самому захотелось также хлопнуть дверью и уйти куда глаза глядят, потеряться напоследок между жизнью и смертью. Но старик Семенов, конечно, этого не сделал, потому что никогда не желал быть смешным. Ну что это за пьяный клоун — Борис Николаевич! Старик Семенов даже крикнул ему изо всех сил в телевизор: «Борис Николаевич, вернись, не позорься!» — когда тот, от волнения, что ли, после очередного выступления, покидая трибуну, прихватил с собой тарелку со стаканом, какой обычно приносят ораторам промачивать горло, и понес, и понес с величием ливрейного лакея. Путин ничего с трибун не носит, да и не злоупотребляет он, — чего ему предлагать? Саня, гражданская жена старика Семенова, по фамилии тоже Семенова, но не благодаря, понятно, старику Семенову, а благодаря распространенности этой фамилии на земле и стечению обстоятельств, начала обижаться на старика Семенова, когда появился этот Путин, потому что старик Семенов стал молчать, не делился с нею больше политическими впечатлениями. Саня про молчащего стала думать плохое, не заболел ли он неизлечимо, не надоела ли она ему вовсе, не затеял ли он какую-нибудь стариковскую пакость.
Саня старику Семенову нравилась, потому что была бойкая, стыдливая, хрупкая, как девственница, имела свою жилплощадь, куда, правда, не хотела пускать его приемного сына Алексея жить, а предлагала им, старикам, там уединиться, а молодым оставить его двухкомнатную квартиру, но старик Семенов, как будто чувствуя какой-то внутрисемейный сговор, терпеть не мог ее мелкой, вылизанной хрущевки, где он не знал, где ему сидеть, чтобы это было душевно.
Старик Семенов говорил самому себе: «Мне хочется быть теперь подчиненным, но подчиненным не человеку, а чему-то настоящему, Богу, может быть, разумному замедлению хода вещей. Мой консерватизм — это ведь не косность и не одеревенелость, как они думают. Мой консерватизм состоит в том, что я просто не допускаю, что что-то может быть высосано из пальца, а не существовать на самом деле».
Старик Семенов любил сидеть и слушать, склонив голову. В такой позе лучше думается, лучше сочетается возраст с окружающей средой. Ему теперь стали нравиться стулья с прямыми спинками, а в сорок-пятьдесят лет нравились мягкие кресла, куда бы туловище могло проваливаться. Нужно подводить итоги, итоги нужно подводить жестко, в собственном доме, одному, без посторонних, тем более без чужих, на жестком стуле.
Иногда он смотрелся в зеркало и думал, что по большому счету не изменился за эту жизнь. Ни одна черта кардинально не изменилась. Только какое-то физиологическое чудо произошло с носом. Гоголь прав, нос — самостоятельная часть тела. Нос старика Семенова вырос в два, может быть, в три раза по сравнению с первозданным. Это уже был какой-то благоприобретенный нос, и выглядел он как накладной, как в театре у Сирано де Бержерака. Но нос не казался старику Семенову и другим людям страшным. Было в нем, конечно, что-то болезненное, но и было трогательное, мудрое. Старик Семенов шутил, что весь сок его в нос пошел. Во всей остальной внешности старик Семенов казался себе двадцатилетним, ну тридцатилетним, по крайней мере, пребывал в той же, молодой весовой категории. На рубеже четвертого и пятого десятков старик Семенов, как ему помнилось, приобрел упитанность, животик, второй подбородок, сытые глаза, а к шестидесяти все это опять спустил. Впрочем, нового в этом ничего не было, подобным образом изменяется большинство мужчин — от простого к сложному, слоистому и опять к простому, простейшему. Волосы остались теми же, сивыми. Волосы для человека вообще ерунда. Свои он уже не причесывает лет десять, только приглаживает, и они его слушаются беспрекословно. Глаза вот слезятся, но они так слезятся уже давно, без боли, без стеснения, ну и пусть себе слезятся, если так им хочется, видят-то ведь они хорошо, насквозь. Зубы совсем не горят, потому что вставные и некачественные. А из болезней только и есть, что ревматизм, депрессия и вечная вялость. На лбу, сухом, перламутровом и, наверно, надменном, ни облачка, ни морщинки, как в самом начале. Только нос, только нос загадал загадку.
Теперь уже никто не помнит, почему невестка старика Семенова назвала его «козлом», но на следующий день после оскорбления, когда молодая семья была в сборе и у себя в комнате смотрела свой телевизор, старик Семенов вошел к ним со своей протопопской клюкой и произнес ясно и трезво:
— Всё, доживаете до годовщины смерти матери и уходите!
Приемный сын Алексей накануне разбил машину, на которой занимался извозом, и до сих пор задыхался и заикался от страха перед судьбой.
Сын всегда был чужим, пасынком, сыном прежней жены старика Семенова, а теперь и вовсе казался посторонним человеком, ничем не напоминающим свою мать, какой-то весь чернявый, плотный, конопатый, нелюбезный и недуховный, с такой же темнолицей гордой женушкой. Женщина, которая произносит ругательства и даже обычные слова как ругательства, грязно, всем исподним души, с плотоядным зловонием, не может быть нежной, волнующей, думал старик Семенов. «Козел» было бы совсем не оскорбительным для старика Семенова, если бы он не услышал в этом звуке черную магию, пожелание сдохнуть, испариться в связи с квартирным вопросом, в связи с вселенской теснотой. «Вам платит пенсию государство, — кричала невестка, — пусть небольшую, но платит. А нам как жить, если только на лечение ребенка уходит все, что Лешка на своем драндулете зарабатывает? Крутиться? Так негде уже крутиться, всё занято, все волчки и юлы...»
Она должна знать, хищная невестка, размышлял старик Семенов, что на чужом горбу в рай не въедешь, что он не виноват, что жив и тем самым усугубляет вавилонское столпотворение, а наложить на себя руки — грех. Пусть тогда церковь пересмотрит свои каноны, пусть самоубийство перестанет считаться грехом, хотя бы в отдельных, исключительных случаях, связанных с бессмысленностью и даже вредностью чьего-либо существования. Пусть мне докажут, что от моего исчезновения наступит польза и станет чище, светлее, справедливее... Знала бы она, что «козел» — это не обидно, это у молодых и шпаны обидно. Козел — это тот, кто в одиночестве покоряет горную вершину, оставив стадо в долине. Козел один на пике, цель достигнута, перед ним открывается лишь пройденное, а вокруг него — свобода. Плохо лишь, что невестка назвала его не просто «козлом», а «старым козлом».
Старик Семенов хотел было сказать, что нашими отношениями теперь правит вражда, но пусть она правит в политике, а у нас, у людей, другое дело, но он стал говорить о том, что и вы, молодые, уйдете, причем быстрее, чем полагаете, что эта эпоха, по всей видимости, последняя из привычных, а последнее мгновенно портит, мгновенно видоизменяет. Вы и оглянуться не успеете, как перестанете быть нужными не кому-то в отдельности, а собственно новому состоянию мира.
Несчастной невестке на это стоило бы воскликнуть — «Оракул», а она употребила «старый козел», в гнусном смысле этого слова.
Приемный сын Алексей вернулся спустя час из аптеки ни с чем, признавшись сквозь голосовые спазмы, что забыл, как называется лекарство для ребенка. У Алексея были черные, с прозеленью, непоправимые глаза.
Невестка зарыдала от них, от Семеновых, хотя тоже была Семеновой и любила эту фамилию, прикипевшую к ее чувствам намертво. Старик Семенов попросил ее написать трудное название лекарства на клочке бумаги, сказал, что сам купит, потому что все равно сейчас пойдет в универсам к метро мимо аптеки. Он слышал, одеваясь, топчась у входной двери, как невестка сначала красиво пела горячим, старинным голосом, а потом шептала осипшему мужу, что переезжать к ее маме им совсем нельзя, что там хозяйничает ее брат, мелкий бизнесмен, и что это обстоятельство будет похуже старика Семенова.
Когда старик Семенов двигался по улицам и видел вокруг тщетных мужчин, он думал о том, что в некоторые периоды времени мужчинам, чтобы ощущать вкус к жизни, необходима война.
Странно, но русского беспощадного бунта не было. Не хотел он возникать сам по себе, без многолетней подготовки Герценом. Переместился в другие края. В какую-нибудь теплокровную, пассионарную Мексику.
Раньше старик Семенов любил субботу, базарный день. Он ехал на Кузнечный рынок, артистично торговался, покупал килограмма два свиного окорока для буженины, зелени, чернослив и больших, красных, пахучих, крепких яблок. Иногда вместо мяса он покупал осетрину и банку черной икры у знакомого азербайджанца. Теперь на выродившуюся традицию ложились желчные утопичные походы в ближайший универсам за хвостом селедки, чтобы в выходной день посолиться, за растительным маслом, за дорогим красным китайским луком, заменителем деликатесов, и поллитровкой заводской водки.
Старик Семенов замечал, что, если день был солнечным, в универсаме с самораздвижными дверями, с камерами слежения, с нелепым изобилием, с высокими ценами, хамов становилось больше, нежели в непогоду, и больше было завистливых ротозеев, особенно зевак престарелого женского пола. Те являлись за свеклой и проводили в супермаркете полдня, иногда что-нибудь воровали и съедали на месте. Несколько раз их прощали, а потом начинали выводить мирно, терпимо, даже стыдливо.
Богатые покупатели катили перед собой тележки, привыкнув к собственному транспорту, бедные шли с корзинками. Тележки ехали, как по дорогам, даже с некоторыми правилами движения, толкая нерасторопных пешеходов, которым, к сожалению, невозможно было посигналить.
Сегодня старика Семенова разозлила типичная мелкобуржуазная парочка, в куртках нараспашку, без шапок, в чистой обуви, с заспанными, преющими глазами. Дамочка, вся в мокрых высветленных прядях, говорила звонче своего равномерно полнеющего и лысеющего спутника. У стоек с морепродуктами дамочка громогласно объявила, что в этом магазине креветки брать нельзя, они, мол, чересчур переморожены. Она взяла селедку, но, увидев, что такую же берет старик Семенов, с видимым презрением отбросила назад, на пальцы старика Семенова. Старик Семенов хотел было в отместку как-нибудь ненароком зацепить дамочку своей селедкой, ее скользкую юбочку, ее розовый чулок, но зачем-то поднял голову, замешкался и, обратив внимание на то, что и эта брезгливая мымрочка и ее плешивый хахаль как-то прямолинейно, принужденно озираются на весь универсам, передумал мстить. Чего они так осматриваются? Что-то сравнивают, боятся положить в свою тележку что-то не то, что-то подлое, не такое дорогое, как у проехавшего мимо них благоухающего барина. Эх вы, несчастные вы людишки, сами вы как лупоглазые селедки, рыбы дохлые, рабы неизбывные. Старик Семенов, пока кокетливая пара была рядом, бросил к себе в корзину большую упаковку с креветками, покачал головой и доброжелательно произнес: «Надо же, какие крупные, настоящие, и цена доступная!» Он рассчитывал совершить несколько кругов по магазину, после чего вернуть на прежнее место креветки, которые никогда не любил за их невнятное дорогостоящее уродство, — только бы уязвленная парочка не успела заметить его маневра.
Эти — дураки, думал старик Семенов, но есть и негодяи, Милюковы, межеумочный слой. Троцкий, видите ли, заявлял, что русский человек до 30 лет радикал, а потом каналья. Так слава Богу, что только до 30, что потом эта болезнь юности проходит, если не переходит в рак. Вот кто канальи: раз мне и моему окружению хорошо, раз нас никто не обижает, никто не мучает, значит, всё хорошо, значит, и время прекрасное. Мерзавцы! Из поколения в поколение перетекают ради хищничества, властолюбия, самомнения. Но карающий консерватизм, пусть не в их жизни и не в жизни их детей, все равно их настигнет, как родовое проклятие, как настигает старость, как настигает круговорот. Эти проходимцы выдают себя за тех, кем не являются и кем в глубине души, в тайне от самих себя, не хотят являться, кого готовы растерзать в лунатическом брожении, но вынуждены кривляться...
«Господи! Встречал ли ты пожилого модника? Цепляется за пиджаки в клеточку, как за соломинку бессмертия». Старик Семенов вспомнил своего соседа, сверстника, с крашеными, затхлыми волосиками, которому сынок-богач, наверно, чтобы посмеяться, покупает тошнотворные вещи, рубашечки с петухами, узконосые туфли, джинсы и бежевые береты, и старый идиот надевает весь этот реквизит и ходит дефилировать на Невский, даже ночные клубы посещает, где не может задремать без мучения, без тревоги. Лоб его выглядит безобразно, исписанный морщинами вдоль и поперек, как обрывок какофонической партитуры.
Старик Семенов плюнул.
Во время ходьбы у него начинало шалить сердце, сжималось до окостенения, отвердевало и болело от этого сверхсжатия.
Саня вернулась от близкой подруги Валерьевны в слезах. Несколько лет назад на пике пустоты и безденежья Саня как бы временно, на что по крайней мере она надеялась, продала за бесценок Валерьевне фамильные серьги с отчетливыми бриллиантами в червонном золоте, отдала, конечно, чуть не даром, фактически заложила до лучших времен, потому что начинала недоедать. Теперь она скопила нужную сумму денег, даже чуть больше, с учетом благодарности и беспокойства, и отправилась выкупать с бутылкой вина, коробкой конфет и букетом тюльпанов память о матери. Валерьевна была женщиной непрошибаемой, внешне милой, умеющей общаться без истерик, не обижая, не выходя из себя, не ссорясь. Ее даже не заинтересовало, сколько денег привезла подруга. Валерьевна навязала встрече сквозь мякину слов ложную цель Саниного визита — нестерпимую разлуку. В результате они проговорили три часа, и только однажды Валерьевна между делом, мимоходом и даже как будто не к месту сообщила Сане, что у той никогда не будет столько денег, чтобы выкупить эти безделушки, которые, впрочем, ничего и не стоят, и она, Валерьевна, кажется, их уже кому-то подарила, Люсе, что ли, вечной потаскухе, разлучнице, которая была противна Сане всю жизнь...
Старик Семенов сказал Сане, что всегда подозревал в Валерьевне двойное дно, что только бессовестные натуры могут выглядеть такими радушными и приятными. Пока Саня готовила ужин, он продолжал говорить о белых одеждах, о белом виссоне, который, как снег, покрывает багряные грехи. Он был скорее довольным, чем раздосадованным, потому что у бедной, наивной Сани наконец-то открылись глаза, наконец-то она назвала Валерьевну ее настоящим именем — «бесстыжей сукой».
Старик Семенов принял горячую ванну, чтобы распариться и отмякнуть, иначе душа начнет затекать и давить на сердце и язык выпадет изо рта.
Они поужинали и выпили с Саней в потемках. У Сани все еще лились слезы. Она вспоминала мать, которая, по ее словам, когда-то спасла маленькую Валерьевну от голодной смерти, а теперь Валерьевна, креста на ней нет, так цинично поступила. Старик Семенов включил телевизор, но слушал Саню. Она говорила, что мать умерла легко, в одночасье, после ссоры с соседкой, замертво осела к ногам школьницы Сани, у которой теперь от матери ничего не осталось.
Старик Семенов любил гладить Санины коленки, потому что они были аккуратными и нежными, как у девушки. Саня захрапела по-мужицки тяжело, сердобольно, с кроткими доводами, и старик Семенов улыбнулся. Она проснется, и он ей продекламирует, как заправский поэт: «Какое каверзное зверство — храп любимой!»
Старик Семенов засыпал, когда по телевизору шел футбольный матч. Сознание зарастало зеленой ряской, цветущим шиповником, пыльными дебрями в паутине. Он просыпался, когда очки скатывались с его огромного носа, и ловил их на лету, удивляясь безошибочной эквилибристике яви и сна. Он вскрикивал для самооправдания: «Давай, давай, Блохин, лупи по воротам!» — поправлял очки и укладывал свою голову на Санино бедро.
В начале дремы старик Семенов думал, что в Прощеное воскресенье простит Алексея с невесткой и позволит им жить дальше у себя.
Он слышал, как невестка гладко и виновато пела колыбельную про люлечку деревянную, про перину соломенную своему большому, но больному ребенку. Старика Семенова наполняли ощущения, что эту страшную, скорбную песню пели ему, престарелому, насыщенному жизнью человеку. Плач был каким-то давнишним, несовременным, о том, что дети умирают, старцы лишены сострадания, лжепророки клевещут на праведников, Бога не видно.
Старик Семенов думал, что похороны его будут жалкими, тягостными.
ПОХОРОНЫ БЕЖЕНЦА
Старший брат Андрея Константин, беженец из Таджикистана, прожил в нелюдимом, враждебном оренбургском захолустье пять лет и в середине жизни умер в полном соответствии с непреодолимыми обстоятельствами.
Смерть старшего брата принесла не только понятное горе, но и совершенно непонятное чувство незаслуженной вины и какого-то вероломного хаоса. Как будто исказился порядок вещей, словно время потекло для одних людей в одну сторону, а для других — в противоположную.
Константин всегда казался Андрею человеком несуетным и объективным. Он, конечно, мог что-то мухлевать по ходу повседневного существования, но хороших людей, даже глупых и неуклюжих, старался не обижать. Был саркастичен, расчетлив и жалостлив. В советские времена в Душанбе он долго работал водителем-дальнобойщиком, а потом, почувствовав необходимость придать своей природной степенности как бы законный статус, одеть ее в приличествующий ей костюм и галстук, стал главным механиком автобазы. Его друзья — рыжий Миша, Ренат, Василий, Оскар — иногда выражали недовольство его насмешками, бунтовали несколько дней и приходили мириться как к старшему среди них — не по возрасту, а по отношению к жизни. С годами неравноправной дружбы они привыкли не придавать значения некоторой стремительной обидчивости Константина, стоило ему понять, что успехи его друзей превосходят его собственные и происхождение их случайно и нелогично. Его раздражало, если друзья начинали любоваться вспышками этой его сиюминутной человеческой слабости. В такие моменты он мог потерять равновесие, и дело пару раз заканчивалось мордобоем. Так он сломал челюсть Мише рыжему, который шумно проставлялся по случаю выигрыша в «Спортлото». Потом он навещал Мишу рыжего в больнице с раскаянием, теряющимся в шутливом тоне. Добродушный Миша рыжий, конечно же, простил Константинову жестокость, но в дальнейшем боялся его дружеских похлопываний.
Константин к сорока годам не утратил атлетической стройности. Его лицо выглядело молодым и правильным, и глаза были молодыми и строгими.
Иногда Андрей был свидетелем того, как в этих синих глазах, может быть, чересчур неприятно светлых, возникала капризная тоскливость. Константин садился у окна и продолжительно курил. Непременно у окна, чтобы его никто не видел, только домашние — его красивый профиль, а он видел тенистый двор под навесом виноградника, с мозаикой из солнечных и темных пятен. Теперь Андрей понимал замирания старшего брата. Он понимал, что и его собственная душа соткана из такой же, жалобно колышащейся ткани. Он чувствовал и в себе нарастание беспредметного, проклятого отвращения. Он понимал, что умрет спокойно, когда это отвращение станет для него единственной жизненной ценностью и последней радостью. Размышления о смерти получались гармоничными, художественными, полными силы жизни. Смерть Константина прозвучала пронзительно и назидательно, ее очистительное дыхание будто сдуло пыль с судьбы младшего брата. Андрей увидел, что его путь теперь слился с непройденным путем брата, и теперь Андрей должен идти не столько к своей звезде, сколько к звезде Константина. Как будто живая душа Константина не желала оставаться бесхозной.
Из Петербурга Андрей самолетом добрался до Самары. До медвежьего угла Константина, станции с татарским, не запоминающимся названием, поезд, набитый как в войну, шел четыре часа. Андрей вспомнил строчку из песни: «А до смерти четыре шага».
Половину дороги Андрей, притулившись с краю жесткой полки и закрыв глаза, томился простодушным, туземным любопытством соседей-пассажиров. Пахло детскими запахами: ранеткой, кумысом, слежавшейся, обрызганной дождичком евразийской пылью, вареными яйцами, клейкими березовыми листьями, близким туалетом, благостными телами тревожных старушек. Наконец Андрей догадался узнать у проводницы, есть ли в поезде вагон-ресторан. Та ответила, что есть, и указала направление с явным осуждением, кивком головы в буклях. Уходя отсюда совсем, закрывая неуправляемую дверь вагона, шагая в качке навстречу грохоту и скрежету, Андрей услышал реплику, относящуюся безусловно к нему, контрастирующему с этим допотопным бытом: «На похороны, видать. Не здешний. Москвич, что ли?»
Кажется, это был голос женщины, в съехавшем набок парике, которая смотрела на него полдороги бессмысленно, как в точку на стене, решая про себя то ли жизненную, то ли математическую задачу. Вероятно, она была сельской учительницей, о чем свидетельствовали ее почерневшие у десен зубные коронки и этот размышляющий, педагогический, нравственный взгляд. Андрей почувствовал себя претенциозным в черном, стильно длинном пиджаке, из нагрудного кармана которого едва торчал мобильный телефон.
Остаток пути он провел у окна в осклизлом вагоне-ресторане. Он всё рассказал о своем брате и о его кончине буфетчице, ухоженной и внимательной девушке, на редкость в этих краях услужливой, с умеренным макияжем, с белесыми бровями, с улыбкой, понимающей людей из больших городов, с приятным средневолжским говорком. Может быть, только поначалу ей не понравился Андрей, когда, забыв название своей станции, достал из кармана бумажку и не сразу прочел, куда он едет.
Молодая буфетчица начинала скучать. Она словно по делу подходила к полкам с бутылками или заглядывала в холодильник и наливала отрешенно очередной бокал пива назойливому посетителю, о котором уже знала главное, что он несчастный, но хранимый Богом человек. Андрей понимал ее усталость и отворачивался к окну, вглядываясь в растворяющуюся сквозь столбы природу. Пейзаж, совершенно чуждый и немилостивый, темнел на глазах. Сумерки заливали фиолетовой бесприютностью полустепь-полулес с утлыми строениями, неподвижными овечками и собаками, пылящим в красное небо грузовиком, слюдяной стоячей рекой, исковерканной электроподстанцией. «Боже, — думал Андрей, — как бы я здесь жил? Здесь тягостно, здесь всё другое, даже люди и свет заходящего солнца. Вот где вкус небытия реален, как вкус чужой крови. Мне надо жить в большом городе. Константин, напротив, любил маленькие поселки».
Когда Андрей спустился с подножки поезда на низкий, кочкообразный перрон Константинова полустанка, вокруг была ночь. Небо было полно звезд, как бывает полон огней ночной мегаполис, как бывает полна сияющих звуков окрыленная душа.
Андрея никто не встречал. Или тот, кто встречал, не мог его опознать. Людей вообще не было, пока Андрей не разглядел в потемках сидящего на бревне пьяного старика. Странно, но тот не знал улицы Чехова. Странно, что в этом угрюмом населенном пункте вообще была улица Чехова. Местный забулдыга не знал, и в каком доме мог быть покойник. Он тряс невероятно морщинистым лицом и продолжал шепотом напевать диковатые куплеты. Андрей пошел наобум, туда, где ему померещились хлопотные шорохи. Пахло штабелями шпал, мазутом, остывающими рельсами, прелыми заборами, высокой травой.
Андрей прошел несколько метров, когда его окликнул девчоночий голосок. Он подумал, что это, вероятно, племянница Натуля, но рядом оказалась другая девочка, подросток лет двенадцати. Натуле же было теперь лет восемнадцать. Девочка представилась Галей и сказала, что он, наверно, дядя Андрей и приехал на похороны дяди Кости. Да, сказал он, я дядя Андрей и приехал на похороны Константина, и вздохнул так же церемониально горестно, как и девочка Галя.
Когда путники, теплые по отношению друг к другу, повернули наконец на улицу Чехова, на которой было странным образом светлее, чем на других, девочка, торопясь, рассказала Андрею, как умирал его старший брат. Он весь распух, сказала девочка, особенно ноги, потому что они у него гнили. Он смотрел в потолок и стонал, он ждал вашего приезда, хотя ничего не говорил, он совсем не был похож на прежнего дядю Костю. Его привезли уже из больницы такого, безнадежного, вздохнула девочка. «Вот мы уже почти пришли, — сказала она. — Вон тот дом, где люди. Ведь это вы ему купили?» «Да», — ответил Андрей. «А вот мы всё так у людей и снимаем. А я вас помню. Вы, когда в Душанбе приезжали, приходили с дядей Костей к нам домой. У нас тогда был собственный большой дом, у бабушки». Андрей посмотрел на обстоятельную девочку внимательно: она была необычайно веснушчатой. «Я Миши рыжего дочка, дяди Костиного друга. Вспомнили?» — «А, точно... А какой это здесь травой так сильно пахнет?» — «Да клевером. А в Петербурге клевера, наверно, нет?» — «Нет».
Дом Константина стоял посреди обширного огорода, за частоколом с высокими, новыми железными воротами, выкрашенными синей краской, какой было принято красить в Душанбе. Ворота теперь были распахнуты настежь. В освещенном проеме замерла горстка людей. Свет шел от трех фасадных окон дома, в которых двигались тени.
Родственники ждали только вздоха Андрея, чтобы освободиться от сдержанности, расплакаться и даже загомонить.
Лида, жена Константина, любившая мужа боязливо, первой любовью, — его неспешное подтрунивание, его нетерпимость, его юношескую красоту и домовитость, — выглядела теперь настоящей вдовой — с худым лицом, с впалыми, старушечьими щеками, с невидимыми глазами, с черно-седыми прядями, вылезшими из-под черного скользкого платка.
Красивая племянница Натуля походила на отца особенной прямизной и строгостью мимики. Она была любимицей Константина. Младшенький Костин Леша, в солдатской форме, с обветренным лицом, с мамиными круглыми скулами, заплакал, обнимаясь с дядей Андреем.
Друзья Кости (Мишу рыжего и Рената Андрей узнал) поздоровались с ним откуда-то издалека, из глубины уважительности протягивая руки.
Ближе всех к Андрею была мать, низенькая и усохшая, как больная девочка, но не заплаканная, нескрываемо радующаяся ему.
Ее радость на самом деле была надеждой. Он ждал ее справедливого вопроса: «Где брат твой Константин?» И она действительно, обнимая спину сына, тихо спросила: «Где же Костенька наш, яблочко мое наливное?» Что мог ответить Андрей? Он понимал, что настоящее горе для матери наступит только через несколько дней, когда мать останется одна, когда Андрей уедет, тогда она будет оседать на пол, плакать и вспоминать.
Лида показала дом Андрею. В трех комнатах хлопотали Лидины родственники, люди, с которыми Андрей никогда не был хорошо знаком. Какую-то мебель Андрей узнал; узнал ковер из душанбинской квартиры, который лежал там на полу в гостиной, в зале, как там говорили, а здесь был прибит к стене. Скрипели дощатые полы. Трюмо и телевизор были накрыты простынями. На круглом столике горели свечи, отражаясь в маленьких иконках, в том числе в любимой Костиной — Николая Угодника. Гроб, огромный и кособокий, с какими-то хлипкими, как показалось Андрею, боковинами, стоял на двух длинных лавках.
Громадным и простодушным лежал в гробу Константин. Его лицо, непривычно распухшее, продолжало сохранять знакомую иронию. К ней примешивались предсмертное мучение и прощение. Кто-то сказал: «Не дождался братишку. Так ждал. Никого не хотел признавать. Только брата ждал глазами». Лида добавила: «Только вчера в девять вечера скончался. Уже ничего не говорил, ни с кем не попрощался». — «А чего прощаться? Подумал, наверно, на том свете свидимся. Чего лишние слова говорить?» — «Да не мог уже совсем говорить», — уточнила Лида. «Разбросало родню в разные стороны. Вон как братья далеко друг от друга живут».
В доме нестерпимо пахло совсем не смертью брата, а простым разложением.
Андрею стало легче, не так муторно, когда он дал денег на похоронные расходы Лиде, кажется, уже ожидавшей от Андрея этой помощи с некоторым нетерпением (надо было заплатить за продукты и водку на поминки) и, кажется, рассчитывавшей на большую сумму. Андрей вышел с матерью из комнаты во двор, сливающийся с невнятной степью, дышащей в звездное широкое небо.
Под навесом с мутной лампочкой Андрей выпил с друзьями брата, испытывая вместе с ними уважение к хорошему и веселому человеку.
Ренат рассказал, что Константин болел недолго, по крайней мере на виду у других. Смерть не хотел признавать, улыбался лукаво ей, как будто водил ее за нос. Он ведь был таким стойким, терпеливым, гордым. В больнице диагноз написали: «Отек легкого». Забирайте, говорят. Да разве они там лечат, в этой своей избушке на курьих ножках? Поверил, что умирает, когда увидел свои распухшие ноги, даже прослезился чуть-чуть. Смотрел с такой обидой и пощадой: вот вы остаетесь, а я умираю. Потом все равно улыбнулся, как будто что-то про нас смешное вспомнил, и так с этой последней шуткой и умер. Что он про нас такое смешное унес, только догадываться остается, но что-то очень смешное, просто уморительное, а смысл, мол, на том свете узнаете.
Ренат стал человеком рассудительным, и теперь, кажется, к нему перейдет Константиново первенство, но это уже будет лидерство иного рода — подражательное, сноровистое, с новыми, осоловелыми хохмами.
Рыжий Миша, стеснительный мученик, вышедший недавно на волю с абсолютно голым черепом, примостился, как всегда, на корточках в сторонке. Он пытался разглядеть в Андрее черты Константина. Но, может быть, только в голосе Андрея, не в тембре, а в манере говорить слаженно и точно, угадывалась частичка живого Константина, все остальное в Андрее было неизвестным, особенно его задумчивость, не говоря уже о хорошей одежде и очках.
Младший брат Рената, Фарид, зябнувший и потиравший пальцем свои странно щеголеватые усики, поправил брата, когда тот сообщил Андрею, что Оскар, самый бескорыстный и доверенный друг Константина, на похороны приехать не смог, потому что теперь живет в Германии, в Гамбурге. «В Висбадене», — уточнил Фарид. «Да, Оскар теперь такой буржуй стал, посмотришь потом у Лиды фотографии. Отъелся, не пьет, получает солидную пенсию за отца-эсэсовца. Константин спас Оскара от психушки. Присылает посылки. Дубленку прислал. Звал Константина приехать. Куда из этой дыры? Тут половина наших без российского гражданства, на скотских правах. Многие уже обратно в Душанбе пакуются: там хоть квартиры остались, топчаны родные во дворах, дувалы, самбусса. А здесь? Ни работы, ни хаты, и местные злые, как собаки. Да у нас даже собаки добрее, чем вот эти братья Катасоновы. Тоже мне, русские». Ренат повернул голову к соседнему дому и длительно посмотрел в темень, утяжеленную огромной стеной, черным светящимся скатом крыши и каким-то плотным, спекшимся строем косматых, коренастых деревьев.
Андрей вспомнил эту русскую фамилию. Он слышал ее от Константина, который два года назад приезжал к Андрею в Петербург. Константин называл братьев Катасоновых живоглотами. Один брат служил начальником станции, другой был директором мелькомбината. «Через них не протиснуться, — сетовал Константин. — Стоят плечо к плечу. Чужаков не пускают. Умных боятся, как бы не оттерли их в сторону. Я водителем у старшего работал. Уволил, когда заметил, что вокруг меня мужики стали собираться не водку пить, а обсудить перспективу. Движения не любят. Зачем вы сюда приехали, беженцы проклятые? Нам и без вас невмоготу в степи. По их наводке даже били меня оренбургские бандиты. Двум людям машины починил — нельзя. Кредит на дом хотел взять — половину им отдай. С таджиками душевнее, чем с этими русскими Катасоновыми. У старшего сын в Питере бандит. Приезжал на «мерседесе», уши в загривок вросли, в шортиках, жарко ему всегда, потом обливался...»
Фарид, длинный и костистый, пивший весь вечер неумело, с судорогами лица, когда друзья Константина разошлись, проводил Андрея до дверей уже умолкнувшего дома. Смиренным шепотом он сообщил Андрею, что не успел у Константина попросить руки Натули, что они уже живут вместе и что Натуля беременна от него. «Ты не против будешь, если мы поженимся с твоей племянницей?» — спросил Фарид. «Я же не решаю такие вопросы», — ответил Андрей, которому Фарид, его ровесник, с этими подростковыми усиками показался похожим на мелкого мошенника, из тех, что цепляются к прохожим на Невском проспекте.
Андрей лег в прохладных сенях, на памятной раскладушке. Здесь запах умершего брата сквозь щели над притолокой двери поднимался к потолочным балкам, увешанным сухими вениками. Оттуда путь лежал в открытое пространство.
Андрей помнил, как показывал Константину Петербург. Константин, сидя сзади в автомобиле, восторженности не проявлял, как будто видел города и крупнее, и величественнее, и знаменитей. Правда, когда выходил из машины, старался ступать по тротуару осмотрительно, словно боялся продавить плитку, словно шел не по живому городу, а по городу, только что найденному в древнем кургане и едва обдутому от пыли. «А вот Медный всадник!» — похвастался Андрей. «Дурной конь, — отозвался Константин. — И морда, как у пьяного мужика. Народу подавит, если сорвется».
Константин сокрушался, что здания были непоправимо обшарпаны и объедены. Он отворачивался к набережным, к Неве и мостам. На них он смотрел с припоминающим прищуром. Белые ночи не давали Константину уснуть. Он выходил курить к вытяжке на кухню. После очередной бессонной ночи Константин засобирался домой, не понимая любви младшего брата к давке большого города. В последний вечер Константин в подпитии покаялся, что в какой-то момент упустил Андрея из виду, тогда как надо было притянуть его к себе после смерти отца. «Нет, брат, я другой», — возразил Андрей. «Нет, братишка, ты такой же, — твердил Константин. — Только много прочитал и мало видел». Черты лица Константина были насыщены какой-то укоризненной гордостью. Константин уезжал счастливым, потому что предательство младшего брата на поверку вышло мнимым, потому что Андрей оказался не чужим ему вовсе.
...Константина похоронили стремительно, почти молниеносно. Небо было синим и равномерно солнечным. В этом преувеличенно ясном свете поселок умершего брата понравился Андрею. Листья на фруктовых деревьях были чистыми и сочными. Огород с красной ровной землей и побегами уходил далеко от дома к реке, которая теперь текла отчетливо, и неторопливая сила ее течения говорила о полноводности. Дальше, за рекой, до горизонта виднелся шелестящий бор, и только за ним, невидимая, чувствовалась степь, по которой вчера неохотно шел поезд с Андреем. Улица Чехова была покрыта новым, черным, нагретым асфальтом. Людей было немного — только хоронившие, уже известные Андрею. Деревенское впечатление дополняли кудахчущие куры, мучительно мычащая корова, дежурный собачий лай и запахи мокрого рубероида, смородины, резиновых калош, шелушащейся краски. Утром пронесся небольшой дождь, и несколько его капель остались на лице Константина.
За грузовиком с гробом шли одни беженцы. Племянник Леша показал Андрею на мрачного толстяка в спортивном костюме у соседнего дома. «Старший брат Катасонов, — пояснил племянник. — Живоглот». Живоглот, вероятно, страдал гипертонией, поэтому смотрел на скорбную процессию, как на болезненную рябь. Его потное, обвислое, рдяное лицо почудилось Андрею знакомым. Зачем он вышел на улицу с таким смертным предчувствием, с таким страхом жизни? Катасонов, в свою очередь, всматривался в Андрея. Затем повернулся к своей калитке. Может быть, в этот момент он вспомнил слова Константина, битого по его указке, что отмстится, мол, всемеро вашему брату, что не долго вашему времени быть. «Дурак, сам виноват», — думал старший Катасонов. Взгляд младшего брата покойника, этого столичного жителя в длинном черном пиджаке, показался ему обидным и опасным.
Место для могилы выбрали так, как бы его выбрал для себя сам Константин, чтобы было не тесно и не низко. Андрею было приятно, что крест, который поставили на могиле, был большим, размашистым и старательно отшлифованным. Положили на свежий легкий холмик полевые цветочки, положили обвитый черным ситцем с белыми литерами сосновый венок, от которого пахло природной скорбью. Вокруг могилы притоптали сырой песок и, кажется, почуяли горестное облегчение внутри себя. Посмотрели на одинокую Лиду, на растерянную мать, на красивых воспитанных детей и строгого, неприступного брата.
От кладбища Андрей шел с матерью, рыжим Мишей и его дочкой Галей. Она рассказывала о младшеньком Леше. Его фигура была изящной копией Константина. Оказывается, дочь старшего Катасонова была влюблена в нашего Лешу и совсем потеряла голову, потому что не только посылала ему в армию письма, но однажды сорвалась к нему без спросу, а Леша, конечно, даже и не подумал выйти к ней на КПП. «Это хорошо», — отозвался Андрей. «Интересно, что теперь будет?» — забежала вперед и посмотрела на Андрея с симпатией конопатая Галя.
Рыжий Миша сообщил, что Василий месяц назад умер от пьянки. Андрей не мог вспомнить этого умершего Василия. Солнце нестерпимо накалило черное сукно пиджака. Мать хотела рассказать Андрею что-то секретное, но опускала голову и дивилась на свои ноги. Андрею вдруг захотелось уехать отсюда немедленно, сесть в поезд, лечь на полку и закрыть глаза. Ему хотелось долго вспоминать брата, день и ночь, в подробностях. Сознание было напоено картинами лица, голоса, жестов, походки Константина. Андрей, чтобы видеть и слышать брата, мечтал о затворничестве, когда дольнее горе превращается в горнюю радость...
Андрей был недоволен тем, что за поминальным столом рядом с хранящей отцовскую статную осанку красивой Натулей многозначительно уселся Фарид. Константин, конечно же, смирился бы с их идиотским браком, но нечаянного зятя держал бы на положении ничтожного фраерка. Исчезновение Константина было на руку Фариду. Андрей подумал о том, что через год в этой семье возобладает истеричная деспотия Фарида. Дом окончательно рухнет. Младшенький Леша уедет отсюда от греха подальше и от катасоновской дочки, Лида растворится в сестрах и невестках, а несчастная Натуля будет уповать только на сильную наследственность своего ребенка.
Когда Андрей с наступлением вечера засобирался в дорогу, Лида стала смотреть на него с заискивающим ожиданием. Андрей демонстрировал раздражение почти Константиново — утомленное и вальяжное. Он тяготился многолюдством, свойским присутствием Фарида, роковой бледностью Натули, неприкаянностью матери.
Андрей объяснил Лиде, что, к сожалению, у него теперь с собой нет денег, только на обратную дорогу, но по приезде домой он немедленно вышлет некоторую сумму и будет помогать по мере сил и дальше. Лида с покорностью опустила веки и так стояла долго, как будто видела сквозь кожу правоту Андрея. Она привыкла верить им — Константину и Андрею. Она думала, что обида Андрея была вызвана тем, что она не уберегла его брата.
Только мать провожала Андрея к поезду в быстро ложащихся сумерках. Мать твердо повторила, что теперь они остались вдвоем, одни. Вдруг она рассказала сон, который видела в минувшую ночь, когда рядом в гробу лежал Константин. Ей приснилось, что отцом Константина был другой мужчина, совершенно не известный ей. Она не запомнила из сна ни его лица, ни его тела, ни его голоса, ни его имени. Отцом же Андрея в этом ее странном сне выступал настоящий отец Андрея и Константина, ее умерший муж. Этот химеричный отец Константина упрекал мать за то, что она не оградила от беды его сына. Этот Константинов отец был каким-то важным человеком, поэтому настоящий отец ее сыновей робел и не вступался за нее, а мать каялась и не могла вспомнить до последнего мгновения сна, какое же несчастье случилось с Константином...
Андрей успокоил мать, даже рассказал ей что-то из теории Юнга. Но, почувствовав в темноте ее трепещущие плечи, догадался, что этот катастрофический сон теперь будет преследовать мать каждую ночь. Единственное, о чем Андрей молил Бога, было то, чтобы этот сон перешел от матери к нему, к Андрею: Андрей жаждал избавить мать от повторяющегося кошмара и жаждал сам воочию увидеть этого требовательного, неумолимого отца его старшего брата.
Андрей уезжал на поезде, пахнущем собирательным запахом нескольких областей России.
Мать осталась на темном пустынном перроне. Мимо нее неслись вагоны, полные чужих людей, дорожного озноба, приготовлений к встрече. Андрей подумал, что ей, вероятно, теперь стало страшно и неприютно, как будто она очутилась не в конце, а в начале бытия.
Прощаясь, Андрей пообещал матери, что возьмет ее к себе. Мать закивала, как маленькая, потерявшаяся девочка.
Она стояла под гроздьями звезд долго, пока не перестала слышать измельченный перестук колес.
САША ЗАЯЦ
1
Больше деградации, больше потерь, больше тяжелых, каких-то спертых снов, похожих на один нескончаемый самосуд, больше праведных заклинаний Саша Заяц ненавидел в своем алкоголизме его материальные следы: эту тахикардию, эту артериальную гипертензию, эту липкую влажность, этот тремор, эту неповоротливость глаз и, особенно, этот обложенный, словно намазанный собачьим дерьмом, поганый, несчастный язык. Оглядывая свое благоприобретенное уродство, Саша Заяц пытался радоваться тому, что его пока еще не мучила тупая боль в правом верхнем квадранте живота, что распирания в этом участке не наступило, что ладони были не «печеночные», что на коже не было сосудистых звездочек, как, например, у Ростислава. «У тебя печень здоровая, Ростислав?» — «Да, вот такая! Ха-ха-ха».
Саша Заяц спешил выпить рюмку водки или коньяка, или стакан вина перед тем, как направиться в туалет. Он был научен позорной смертью своих дружков, Виталика и Юрика, которые как-то одинаково, хотя и по отдельности, скончались на унитазе от напряжения человеческих сосудов, от кровоизлияния в мозг, от того, что начали тужиться на трезвую, не похмеленную голову. Саша Заяц не собирался умирать от утренних потуг. Он думал о смерти чистой, опрятной, на голодный желудок, на высокой волне, после отчаяния, слегка подшофе, от разрыва сердца или от попадания в него. Верхушка сердца полыхала, прожигала сосок насквозь, — казалось, вот-вот и из него повалит дым.
Саша Заяц любил понятие «кризис среднего возраста», как любят таинственный образ веры или парадоксальную истину. Будучи мальчиком, он никак не мог уразуметь, как это люди спиваются, как это не может выйти из запоя его отец, ползает на коленках перед матерью, клянчит рубль, получив, торжествующе уходит, с нарастающей злостью в лице и нездешней, праздничной усмешкой, лихорадочно пахнет хвойным одеколоном, прокуренными волосами и гниющим кишечником. Какая-то вегетарианская кислинка оставалась после отца в коридоре. Тогда Саша Заяц не видел смерти — предметной, напирающей со всех сторон. Вот он врезался на велосипеде в «Запорожец» — и ничего, только колесо сложилось в полукруг...
Дверь в ванную была открыта настежь. Саша Заяц, из смущения перед пустотой квартиры, стоя под душем, изогнулся и потянул дверь на себя за висящий на ней халат жены и прищемил себе большой палец, половину фаланги. Боль была такая светящаяся, рассыпчатая, как будто возникла по другой причине, по причине того, что его палец сильно и быстро укусила жена.
Саша Заяц подставил раненую руку под струю холодной воды и почувствовал, что плачет, как ребенок, — от несправедливости, от перегоревших рецепторов боли. Бегло, нехотя он побрился, как попало намазал щеки и горло кремом жены, почистил зубы, десны и язык трехцветной зубной пастой, провел дезодорантом под мышками и в паху, как будто чужом, неизвестном и ненужном. Глаза были набухшими, вороватыми, крем не смягчал, а душил мокнущие, разваренные поры, на поверхность языка опять проступал белесоватый, видимо, смрадный налет. Ноготь стал наполовину пурпурным. Зернистая испарина покрывала лоб, как подтаявшая короста, которую трудно и страшно было смахнуть.
Саша Заяц не теперь, еще в юности, мечтал о том, чтобы его любимая женщина, например жена, не стыдилась бы целовать ему руки, бугорки ладоней, запястье, узловатые сгибы и, особенно, жилы. Ему казалось, что эти простые поцелуи могут быть самыми сокровенными и самыми нежными ласками. Ему казалось, что только одного этого прикосновения было бы достаточно для того, чтобы овладеть его душой полностью, чтобы превратить Сашу Зайца в безупречно любящего раба.
Сашу Зайца вдруг притиснуло к стене абсолютное одиночество. Он сообразил, что нет теперь на земле ни одного человека, кто бы его знал или помнил о нем в эту минуту. «Вот, оказывается, какой у меня жалкий, невразумительный жизненный путь!» — думал Саша Заяц. Саша Заяц допил остатки водки «Флагман» и поплелся к телефону звонить кому-нибудь. Ему было бы теперь удобнее ползти, а не ступать.
2
В баре гостиницы «Русь» (странное для Петербурга название), где Саша Заяц по традиции обмывал покупку очередного своего мобильного телефона взамен утраченного накануне, был полумрак тупика, тамбура, за невидимой (где-то за холодильным шкафом) створкой которого простиралась темно-синяя, какая-то памятная степь, тяготеющая к железной дороге, как кусок далекого космоса к ребрам звезды. Холодильный шкаф принадлежал транснациональной «Кока-коле».
В гостинице «Русь» располагался оператор сотовой связи и соответствующий магазинчик с глазастой девушкой в вечернем брючном костюме, которой Саша Заяц, как заведенный, всегда посылал чашку кофе из бара. Ему кивали примелькавшиеся охранники, вежливые от жадности, практикующие незаконный обмен валюты. Холл гостиницы был отделан под старомодное дерево, со смешанным запахом сырого линолеума и постельного белья периода Московской Олимпиады.
Бар, без окон, плохо освещенный, сырой, действительно напоминал купе в поезде, давно пустившем корни в ничейной степи. Предчувствие дорожного тупика усиливалось двумя случайными посетителями, вероятно приезжими менеджерами, трезвыми, как черти, кряжистыми, при дорогих часах, с быстрым и беспощадным пониманием вальяжного пьянства Саши Зайца. Саша Заяц гадал, позволяли ли себе эти двое аналогичные загулы, были ли они ему близки не только по социальному статусу, но и по некоторому мучению, по предрасположенности к срыву. Один был точно не способен на глупость — с короткими волевыми залысинами, с куцыми руками, с претенциозно толстым обручальным кольцом. И все-таки он был подчиненным у седого, бордового ежика. Что-то роднило их разные взгляды, почти презрительный у одного и вполне радушный у другого, — наследственная готовность стереть с лица земли Сашу Зайца, бесхарактерного соперника, самца, давшего слабину. Саше Зайцу было неприятно выглядеть лопушком, поэтому он пил поначалу неравномерными глотками, с безысходными паузами, глупо. Но вдруг он заметил, что волосы на переносице у лысого явно были выщипаны, а в ноздрях было искусственно голо, а у седого нет-нет да и начинало дергаться веко и губы были мокрыми от боязливых облизываний. Эти наблюдения не только успокоили, но и рассмешили Сашу Зайца, словно он дождался своего часа. Кажется, коммивояжерам надоела Сашина задиристая пытливость, они встали и, оказавшись одного небольшого роста, неразличимо, как слои воздуха, покинули заведение. «Так-то лучше, — подумал Саша Заяц вдогонку. — А то видите ли, какие мы хозяева положения».
Саша Заяц опасно восседал на высоком табурете. Изменение мизансцены служило поводом выпивать. Перед ним был бармен. Бармены были некими заместителями духовников, которым Саше Зайцу приятно было исповедоваться, если те выбирали правильную, понятливую, а не снисходительную или подобострастную ноту. Этот, Игорь, был примерно того же возраста, что и Саша, и вел себя как профи: наливал машинально, помнил в деталях прошлые визиты клиента, интересовался не кошельком его, а самочувствием. Возможно, бармен догадывался, что такой человек, как Саша Заяц, никогда бы не выбрал для себя работу бармена — не из брезгливости, а из любви к одиночеству. Поэтому бармен Игорь был особенно задушевен с Сашей Зайцем.
Саша Заяц спросил:
— Как мой двойник поживает? Заходит?
— Брокер, что ли? Николай? Так он погиб месяц назад, разбился на машине.
— Вот как? — изумился Саша Заяц.
Он вспомнил, что бармен Игорь любит говорить о катастрофических вещах без тени пафоса.
Благодаря Игорю-бармену, склонному к наведению мостов, Саша Заяц и ныне покойный Николай заочно знали друг друга и начинали испытывать одновременно сходное чувство нелепой раздвоенности и еще более нелепой идентичности.
У Саши Зайца и того Николая, по свидетельству бармена, была одна и та же манера держаться — высоко и шатко, как люди свершившиеся. Даже их голоса якобы в чем-то совпадали, в непреднамеренном миролюбии, и усаживались оба, как ни странно, всегда на это место, на длинный табурет, что побуждало бармена рассказывать одному о другом с близкого расстояния с явным преувеличением. Неизвестно, надеялся ли Николай, а Саша Заяц надеялся рано или поздно познакомиться напрямую со своим, конечно, надуманным двойником, и именно сегодня он рассчитывал на такую встречу, включая в ее сценарий весьма серьезную, душещипательную подоплеку.
— Как он хоть выглядел? — поинтересовался Саша Заяц.
— Он был очень похож на вас.
— И все-таки как, Игорь?
— Он довольно много и часто пил, вечно терял мобильники. По его словам, он пропивал половину того, что зарабатывал, а зарабатывал много, сам не ведал — сколько. Пить любил исключительно в компании с кем-нибудь незнакомым, с родственной душой. Не умел в одиночку. Конечно, всех поил напропалую. Собутыльники думали, что он куражится, сорит деньгами, ерничает, а на самом деле ему не хватало общения, и поэтому он готов был доставить радость первому встречному.
— Это понятно. А как он выглядел?
— Долговязый. Очень длинное, такое прямоугольное лицо, примятый нос, губы вечно разомкнуты, волосы взъерошены, брови черные, а голова светлая, под глазами появлялись темные полосы, словно намазанные углем для маскировки. Немного заикался, от порции к порции — все меньше и меньше.
— Игорь, но он ведь совсем не похож на меня?
— Что вы? Очень похож, одно лицо. Только вы бываете немного одутловатым. Но выражение лица — аналогичное, предельно доверчивое.
— Я надеялся на большее сходство.
— Куда же больше?
Игорь освежил рюмку Саше Зайцу, чуточку плеснул себе, и они помянули с редкой задумчивостью Николая.
Саша Заяц всмотрелся в бармена Игоря и догадался, почему тот путал его с покойным, несмотря на вопиющую, как оказалось, разницу между ними. Бармен Игорь выглядел долговязым даже за своей массивной стойкой, его лицо было нестерпимо вытянутым, пряди волос прыгали от малейшего дуновения, рот был красным и из него по-заячьи торчали два передних зуба.
— Что самое необходимое утром, так это хороший увлажняющий крем, — говорил бармен Игорь с мелкими паузами между слогами, а не между словами. — Даже если не удается побриться, без крема просто никуда.
Саша Заяц понял, что это не он, а бармен Игорь внешне был похож на Николая, похож разительно.
Бармен Игорь с его крупной бабочкой напоминал издалека, из зеркального полумрака, голый, не увитый ничем, лютеранский крест.
— А что жена Николая? — спросил Саша Заяц.
Он вспомнил эту хмурую женщину, которая в тот день, когда Саша Заяц вот так же сидел и выпивал в этом баре, наведалась сюда в поисках своего загулявшего супруга. Тогда бармен Игорь поведал о том, что она всегда его ищет здесь на третий день его запоя. «Какая благоверная жена!» — порадовался тогда Саша Заяц и удивился ее укоризненному обаянию, такому знакомому и даже близкому. У жены Саши Зайца были похожие удлиненные черты, похожая, стремительная, но с дородством походка.
— Николай-то появлялся здесь на четвертый, а то и на пятый день. И не один, а с проституткой. Всегда с какой-нибудь плохонькой. Любил цеплять завалящих. Та — в номер, а он сюда — пить и болтать, узнавать, какой сегодня день недели. Представляешь, говорит, вторник и среду, если сегодня четверг, вообще не помню. Не было их. Полжизни не помню. Себя, говорит, порой называю то Сашей, то вообще — собачьей кличкой.
— Знакомое дело. Пойми, Игорь, это провалы не алкоголические, это провалы специальные. Сознание специально формирует некие схроны, убежища, чуланы, куда ты будешь заходить потом, как в келью, на отдохновение, в другой жизни. Они, эти помещения, одной стороной направлены из дольнего в горний мир. Например, побывал я тут в Италии. И что же ты думаешь? Рим, Неаполь, Бари (там мощи Николая Угодника покоятся) помню прекрасно, улочки, лица, переходы Ватикана помню, запахи сугубо итальянские, а Флоренцию, то, что больше всего и хотел посмотреть, не помню начисто, катастрофически. А я был там, провел два дня, в галерее Уффици в том числе. Есть фотографии, что я там, на видеокамеру я снят, хожу нормальный, даже грустный. Но личного воспоминания о Флоренции нет никакого. Брезжит лишь какой-то сквозистый, вечерний, говорливый флорентийский воздух, пахнет виноградом, но ни домов, ни арок, ни мостов, ни ландшафта в памяти не сохранилось. Как будто я на тот срок, пока мы с группой посещали Флоренцию, потерял зрение и ходил по Флоренции вслепую, наугад.
— Значит, воскреснуть вам выпадет именно во Флоренции, — пошутил чуткий бармен. — Не дай бог, конечно.
— Не иначе. У стен церкви Кармине.
Саше Зайцу позвонили — субчик Пчельников, человек с неунывающими жестами и остро заточенным кадыком, который выглядел особенно тягостно в сочетании с галстуком на придушенном горле. Пчельников обладал счастливым чутьем звонить именно тогда, когда Саша Заяц пускался в пьяное плавание. В этом случае субчик Пчельников разговаривал запанибрата и навязывал Саше Зайцу, будучи его заказчиком, свою, издевательскую цену, и Саша Заяц по трезвости уже не мог отвертеться, не желая казаться попавшим впросак, манкирующим купеческим разорительным словом, быть заподозренным в беспечности и обреченности. И опять, чтобы отделаться от неприятного тембра субчика Пчельникова, Саша Заяц согласился, не торгуясь, с его раскладами, даже не вникая в цифры, понимая, что ниже Сашиной себестоимости тот не посмеет опускаться, зная, что в середине любого запоя случаются беспощадные, роковые просветы. Эти просветы в том числе может вызывать человеческая наглость.
Саше Зайцу было теперь не до заказчика. В бар вошла выпрямленная, темная, как мгла, и грозная, как молния, невыносимо знакомая дама, вдова Николая. Она, кажется, поздоровалась и села за самый дальний столик внутри темноты. Саше Зайцу бармен Игорь показался сугубо суетливым. В его глазах, как в коктейле, смешались страх и странная, какая-то неуважительная радость. Он торопливо начал готовить кофе, что-то бубня. Трижды шипела кофеварка. Саша Заяц со своего места облик пришедшей женщины совсем не различал. Он только чувствовал некий сгусток атмосферы, слышал легкую дробь пальцев, вдыхал трудный, латиноамериканский аромат.
— Игорь! — обратился он тихо к Игорю-бармену. — Посмотри, пожалуйста, у меня язык не белый, не засаленный?
Саша Заяц выпустил свой язык на волю.
Игорь разглядывал Сашу Зайца и улыбался:
— Нет, теперь уже нормальный. Розовеет понемногу.
— Не воняет?
— Нет, от вас всегда фешенебельно пахнет.
Саша Заяц сообразил, что теперь, без Николая, он особенно нужен бармену Игорю. Саша Заяц не стал разочаровывать бармена Игоря, не стал говорить ему, что его рубеж Саша Заяц уже миновал. Ведь путь Саше Зайцу выпал исключительно односторонний.
Саша Заяц опустился на ноги со своего высокого стула с намерением нешуточным, которому, однако, никогда не превратиться в серьезное, фатальное.
3
В Петербурге летом не вечереет. Саша Заяц сидел на Малой Садовой и пил красное вино в любимом одиночестве. Сомов на встречу не явился. Его мобильный не отвечал. На Саше Зайце был льняной костюм, предполагающий негу и тревогу, волосы с незаметной сединой не шевелились, на лице проступало мгновенное, бледное протрезвление. Солнца как такового поблизости не было, свет источали сами вещи. Это и называлось белыми ночами.
Саше Зайцу показалось, что он услышал звуки церковного, но какого-то торопливого пения.
Саша Заяц предвзято оглядел себя с ног до головы. Он подумал, что его фигура какому-нибудь чувствительному прохожему может показаться трагикомичной. Быть может, этот чувствительный прохожий задумается о тщете незнакомого исусика, и Саше Зайцу станет на мгновение весело, он, может быть, даже подмигнет чувствительному прохожему и этим самым еще больше напугает того.
Саша Заяц знал, что Сомов не придет, потому что готовится стать депутатом. Дружок Саша Заяц, спивающийся, деградирующий, протестный, способен скомпрометировать его публичное лицо. Саша Заяц ведь любит говорить шумно о том, что всякий человек космичен, что требуется искупление, а затем прорыв до уровня Христа, а вся ваша буржуазия, особенно социалистическая, новая буржуазия — крайне антихристологична, что цель жизни — подвижничество в томлении размытого, универсального гения. «Сомов! — будет кричать он Сомову. — Ведь ты же сам из философов, ведь ты же сам еще недавно был мучителен и духовен, ведь именно ты говорил, что плохой философ хуже самого никудышного физика, но зато настоящий философ несравненно выше самого талантливого, самого великого физика. Что стряслось? Ты не прошел испытание судьбой? Ты же был стоиком, Сомов. Ты справедливо и сдержанно побеждал разврат и воспевал отчаяние. Что же случилось? На кого я должен теперь равняться? Ты предлагаешь мне пойти в чиновники пилить бюджет?» — «Иди в монахи, — скажет Сомов. — Ты человек без терпения и воздержания, Заяц. Ты несчастен потому, что нетерпелив и распущен. Иди в монахи, постись, спасайся. Твои грехи переросли тебя. Они стали опасны для окружающей среды...»
Саша Заяц поднялся резко, раздраженно, грохоча металлическим столиком, обижаясь на не явившегося собутыльника, брызгая в его отсутствующую физиономию остатками вина из бокала. «Всякое лицо троично», — бросил Саша Заяц закадычному бестелесному другу, уходя.
Он присоединился к клерикальной процессии на углу Невского и канала Грибоедова. Люди старались казаться просветленными, умело поющими, помнящими молитвы. Он стал креститься, как и они, многократно, глубоко, уместно. Трудно было совершать низкие поклоны в движении. Он силился выглядеть трезвым, лишь возбужденным, истовым и душевно огорченным. Его за такого в веренице и принимали, некоторые — с простительной улыбкой. Конечно, он выделялся среди них не в лучшую сторону в своем мятом, дорогом, светлом костюме.
Крестный ход с пьяным боголюбцем дошел до Спаса на Крови, возле которого люди запели громче, призывнее и выше подняли передовой крест и какие-то невиданные, глянцевые иконы. Саша Заяц стоял на новой брусчатке у ограды. «Что я делаю? — думал он сквозь растущее омерзение. — Я кощунствую, я пропадаю. Я пропадаю вместе с ними. Но они-то почему пропадают? Ведь они по их виду почти святые, правильные, смиренные? Полюбуйтесь, какие кроткие, какие добродетельные!»
Он шел с этой гурьбой на ходу молящегося народа далеко, к Крюкову каналу, останавливаясь, как на привал, на стоячее богослужение у реставрируемых часовен и выносных светильников. «Неужели они решили совершить на воздухе при хорошей погоде весь круг суточных служб?» — думал Саша Заяц. Вот эта девушка с длинными огнистыми волосами, стянутыми вязаной шапочкой с пришитыми к ней цветочками, с четырьмя глазами, два из которых, верхние, были навсегда прикрыты пухлыми веками под самыми бровями? Вот эта измученная фурия, с мелкой, строгой челкой и складками у рта, когда-то порочными, как будто подпирающими снизу темные ноздри? Вот этот полковник запаса, гладкий, выбеленный, с заросшими пухом ушами? Вот этот дворянин в клетчатой рубашке и модных солнцезащитных очках, с детскими ножками и неровным, точно мозолистым носом? Эта его алебастровая спутница с истеричным, зашитым ртом? Эта предприимчивая карга с механическим сопрано? Эта задумчивая поэтичная красавица, сомнамбулически преданная убиенному человеку? Этот юный клирик со смешливым взглядом, с ровной светлой прядью, с невинно дрожащим овалом?
Вино, как назло, подступило к самому горлу Саши Зайца, уже начинало плескаться в гортани. Саша Заяц мужественно проглатывал его обратно. И вдруг сильно вздохнув и широко перекрестившись, ради пространного физического движения, он наконец-то подавил рвотные позывы. Он подумал о том, что, быть может, у этих скромно одетых, согласно приличествующему случаю, богомольных людей дома хранятся дорогие белые одежды, куда более дорогие, чем его льняной костюм от «Труссарди».
«Сейчас нет святости, а если и есть, то она раздроблена на частицы», — думал Саша Заяц. Саше Зайцу вдруг очень захотелось стать старцем, прозябающим на отшибе мира, сопревшим в своей власянице, но душистым, как новорожденный. Пот монахов, сколько бы им ни было лет, свеж и юн. Истинный старец весел, даже игрив, прост, ясен, находчив. Его ясновидение идет от добродушного самоуничижения. Он чист перед самим собой. Саше Зайцу теперь очень бы не помешало быть нравственным, легким человеком, но соблазнительнее быть тем, кем ты создан.
Саша Заяц подумал, что для завершения картины мира самое время теперь подойти к этому молодому священнослужителю во вретище цвета маренго и, сложив соответственно ладони, попросить у него благословения. Отрок смутится и вместе с тем поймет и простит выходку несчастного кутилы.
Во всяком случае, молодому батюшке станет смешно от несвоевременного к нему внимания. Он красиво зардеется, он почувствует свою ценность, свою целомудренную привлекательность — то ли юноши, то ли девы, то ли ангела. «Кризис в мужчине начинается тогда, — размышлял Саша Заяц, — когда он пытается внутри себя перейти от женственности к мужеству, от природного к божественному, от безысходности к полноте бытия».
Саша Заяц вспомнил, что спрашивал у вдовы Николая:
— Вам не хватает Николая?
— Хватило мне Николая.
Саша Заяц не ожидал такого ответа. Вблизи вдова все меньше напоминала его собственную жену. У вдовы были впалые, бурые, как у лошади, щеки, жесткий голос, перемешанный с мучным дыханием, красная веснушчатая шея.
«Надо не забыть, — думал Саша Заяц, — по церковному обряду приложиться к руке пастыря-мальчика, наверное, будущего мученика. Руки у батюшек хорошие, пресные, пахнущие свежеиспеченным хлебом, теплые, зацелованные».
4
— Где красота безотчетная, бескорыстная, исполненная духовной телесности? — спрашивал Саша Заяц компанию художника Подгорнова. — Почему вы не любите душу, как плоть, а плоть, как душу? У тебя, Подгорнов, мастерство нацелено на то, чтобы из дырявого, растленного Колизея приготавливать некий вечно гниющий сыр, огромный кусок модной, умирающей еды. И потом, почему всё в черно-белых тонах? Ты экономишь на палитре?
Подгорнов хохотал. Он хохотал всегда, когда слушал Сашу Зайца. Нёбо Подгорнова клокотало, как кратер вулкана. Рядом с мокрым кратером торчали неодинаковые резцы. Подгорнов не верил, что простодушный пропойца Саша Заяц имеет право быть эстетом. Саша Заяц может быть неплохим товарищем, шутом гороховым, спонсором в конце концов, но ценителем прекрасного — извините. Для этого есть другие персонажи, есть, извините, богема. Зачем Саша Заяц лезет не в свои ворота? Кто его туда зовет?
Рядом с Подгорновым, по-прежнему узковатым, вечным юношей, слегка морщинистым и начинающим пахнуть чердачной прелью, хихикали две женщины. Почему-то рядом с Подгорновым обычно обитают именно две женщины, не больше и не меньше. Мария и Магдалина. Подгорнов любил, чтобы одна была старше и при этом выглядела невиннее другой, чтобы одна смотрелась плотоядной пигалицей, а вторая — скукоженной матроной.
Пигалица смотрела на Сашу Зайца двоящимся зрением: то магнетически, то со скукой. Она вступила в пору, когда в ломких мужских натурах видела больше решительности, нежели в каком-нибудь мачо. С горестной матроной всё было наоборот: матрона была под пятой у Подгорнова и поэтому потешалась над Сашей Зайцем демонстративно: не слушала его, прикуривала за соседним столиком и грубо зевала, не благодарила его за комплименты и забывала его имя через равные промежутки времени. Саша Заяц видел, что она была легкомысленной сорокалетней дурехой, с упавшей грудью, с подслеповатым взглядом. Пигалица же была черненькой, с белыми бликами на тугих скулах, под бровями, на подбородке и обоих плечах. Двойной разрез ее глаз формально совпадал с пустым вырезом ее рта, внутри которого, казалось, того и гляди засветится еще один, третий глаз.
Они сидели в новом ночном клубе, на подвальных стенах которого висели библейские работы художника Подгорнова. Клубная перманентная музыка трамбовала алкоголь порцию за порцией. Алкоголь сгущался, как свинцовые сливки, засыхал и крошился. Ритм был настойчивым, дискретным, колченогим, как будто созданным для одной стороны тела, толкущемся на одном месте. Какой-то дробный стук всю ночь в закрытую металлическую дверь. Ритм носился по заведению, как шизофреник, переодетый в костюм дракона. Из-под него летели красные и синие, длинные искры. Свет в клубе располагался урывками, островками, над неоновыми терпеливыми макушками, над прозрачными столиками.
Художник Подгорнов на голое подростковое туловище надел черный фрак, на голову почему-то был воздвигнут черный бутафорский котелок. «Лысеет, что ли, парень?» — предположил Саша Заяц. Котелок лоснился. Казалось, испарина выступала на его тулью. Из-под котелка, конечно же, выбивались молодцеватые, давние вихры.
Саша Заяц услышал, что матрона смешанным со слюной голосом произнесла:
— Да-да, какая плерома!
Саша Заяц подхватил, потому что эта женщина все-таки ему была симпатична:
— Вы правы, сударыня. Раньше сие называли — лепота!
Матрона наполнила маленькие губы презрительным недоумением, а затем — обыденной досадой. Она нравилась Саше Зайцу, когда неслышно и быстро выпивала, когда вставала, прихорашивалась, верхнюю свою половину как будто продавливала ладонями вниз.
— Я тоже пойду отолью, — сказал Саша Заяц, бесцеремонно даже для самого себя.
Весь клуб состоял из коридоров и крохотных арен. Оранжевые стены украшали аскетичные холсты Подгорнова: Савл, пожелавший стать Павлом и от этого улыбчивый, грубая Рахиль, пленительная Лия, несколько щетинистых архангелов с голубями и скипетрами, с прекрасно выписанными лилиями. По бокам одного из баров, миновать который Саша Заяц был не в силах, висело три однотипных блудных сына в окружении извилистых, осовремененных проституток и парафиновых свиней, с плутоватым отцом. Лицо блудного сына, затекшее, расплавленное, как воск, напоминало Саше Зайцу его собственное испорченное лицо. Бармен оказался знакомым. Он даже знал, что нужно было теперь наливать Саше Зайцу по сезону — ром с колой. Он сказал Саше Зайцу, что прошлый раз они виделись поздней, в ноябре, и Саша Заяц соответственно заказывал коньяк. Саша Заяц обратил его внимание на то, что на стенах клуба среди картин не хватает какого-нибудь святого Бенедикта, причащающегося перед открытой могилой, или Себастьяна.
— Зато есть Прометей, там дальше, у туалета, — сказал бармен и блеснул исцарапанным перстнем.
— Прикованный? — поинтересовался Саша Заяц.
— Да. А что вы сегодня такой унылый? — поинтересовался бармен. — Вам плохо?
— Уныние — острие гордыни, — зачем-то отозвался Саша Заяц.
— Не понимаю, — признался бармен. — Так что, ром с колой?
— Нет, сегодня вино. Красное, самое красное, какое только у вас есть. И погуще.
Прометей на зеленой стене у туалета был субтильным, с загорелыми мускулами, с видимыми ребрами, с кляксой на месте пупка. Странно, он не излучал никакого мучения, даже декоративного.
Публика яростно озарялась.
Саша Заяц улыбнулся природной блондинке с огромной, непропорциональной переносицей. Блондинка закусывала шампанское целым огурцом.
Три джентльмена одновременно сунули в рот по сигаре и изменились в лице, побледнели, как убийцы после убийства.
На молодых подругах в черном телесно сияли квадраты. Девушки умудрялись разговаривать по серебристым мобильным телефонам.
— Все-таки брюнетки насыщеннее блондинок, — восклицал Саша Заяц.
Дым выбивался из кучерявой бородки, как из печной трубы.
Было много, чересчур много бритых черепов. Припухшие подглазья были похожи на губы. Молодое горло с кадыком было того же рода, что и оголенный локоть. Старичок в малиновом кожаном костюме с чередой черных пуговиц восседал на голых коленях у восковой фигуры. Когда эта девушка ожила, трезвая, и поднялась, она успела подхватить на весу своего старого падающего спутника. Юноша, выпивший абсент, вытер мокрые губы, похожие на распоротую рыбу, надел темные очки, по которым забегали солнечные зайчики. Красивые люди складывали из пальцев таинственные знаки. Красивая одежда сплошь и рядом предполагала ту или иную несуразность. Отец и сын испускали один и тот же ровный глянец, который у старшего был вишневым, а у младшего молочным. Что-то симптоматичное, связанное только с текущим временем, сквозило в многочисленных, низко падающих челках, прикрывающих и женские и мужские глаза. Клиенты в обширных татуировках пили водку при помощи трубочек. Подруги сидели так, чтобы анфас первой и профиль второй соответствовали одной и той же фотографии. Саша Заяц попытался было танцевать именно так, как некто в слившихся с ляжками штанах, — ладони распушить внизу, голову склонить набок, узконосыми туфлями на мгновение предварять новый такт. Нет, лучше отойти в сторону и всё, сложить руки на груди и ничего не видеть. Лучше пить красное-прекрасное вино из воронкообразных фужеров — как будто не ты его цедишь, а оно затягивает тебя. Хорошо было бы надеть сегодня рубашку в красно-желтую клетку и застегнуться наглухо, чтобы вены на шее гибельно набухали. Долго набухали, полные вина и крови.
— Я однажды предложил Саше Зайцу позировать мне, — хохотал живописец Подгорнов. — Как он струхнул: только не голым, завопил.
— Очень мило, застенчивый человек, — пояснила пигалица.
— Я и не мечтал, чтобы он мне позировал обнаженным. Боже упаси! Брр! Только лицо. В остальном, извини, Саша Заяц, ты урод.
— Ну и что? — отозвался Саша Заяц без обиды. — Очень правильно быть в наше время пропащим. Рекомендую.
— Я не могу. У меня нет времени, — шутил острозубый Подгорнов, поглаживая одновременно руки обеих дам — у той и другой у запястья.
— Почему я пропащий? Потому что я не просто грешен, я гадок себе, — говорил Саша Заяц. — Моя гадость заключается в том, что втайне я думаю о себе как о мученике, хотя знаю ведь, что не являюсь таковым.
— Что-то ты совсем, Саша Заяц, потек. Пора тебе домой. Такси вызвать?
— Без вас доберусь куда надо. Радость жизни есть покорность смерти. А ты, Подгорнов, не смей остатки моей жизни сгребать в кучу и делать из этого дерьма очередной свой перформенс! Это дерьмо не для тебя.
Подгорнов посмеивался, и посмеивались его женщины. Старшая в сигаретном чаду стала приобретать наконец естественную осанку, расплывалась. Саша Заяц начал ей нравиться. Она воображала, что Саша Заяц по своей сути принадлежит к хорошим людям, а жизнь ведет непутевую, распутную. Так же, впрочем, как и она. Поэтому боженька и устал спасать их с Сашей Зайцем.
— Я думаю, что период моих кутежей закончится тогда, когда у моего сына начнется аналогичный период, — торжественно, специально для компании подвел итоги Саша Заяц.
Он рассматривал клочковато обросшего художника-эфеба и думал, что в душе Подгорнова все-таки тлеет настоящее страдание, которое в его творчестве, между тем, почему-то совершенно не заметно. Настоящее пропадает.
— Представляете! — оживился Саша Заяц. — У меня жена кусается. Вот полюбуйтесь: весь ноготь синий. Сегодня утром укусила, потому что я ей смертельно надоел. Видите? Смертельно надоел.
Компания кивала, улыбалась, чокалась. Прекрасная ромбовидная спинка носа то светилась издалека, то покрывалось тьмой.
Саша Заяц почувствовал, что к нему вплотную подобрался ход вещей с людьми, двигающими эти вещи. Он смотрел на них с позиции человека, стираемого с лица земли.
МОИ ПОХОРОНЫ
Не приведи Господь, чтобы вас хоронили так, как хоронили меня.
В тот день, 18 января, в насморочном мареве падали вялые хлопья снега. Огромное белое руно машинально щипала огромная теплая рука.
Морг был новый, только что отстроенный. В нем еще пахло шпатлевкой, краской, металлической горячей стружкой, современными стеклопакетами и совсем не пахло венками, формалином, креозотом, гарью свечей, шелковым крепом, слоистым дыханием траура.
Гроб со мной стоял в необжитом, высоком, каком-то известняковом зале. Каждой процессии график, приколотый к дверям ритуальной конторы, отводил не более получаса. Я значился первым. В зале было сыро, не натоплено, не надышано и не намолено. По-свойски прогуливался лишь сквозняк. Иногда, как навозная муха, он заползал на мое лицо, на которое забыли или не посчитали нужным водрузить очки, мою новую оправу с поликарбонатовыми линзами. Я еще не успел в полной мере насладиться их веселенькой незаметностью, их свойством испускать насмешливые, технократические блики — и вот вам, пожалуйста... Я всю жизнь носил очки, поэтому те, кто собирал меня, могли бы догадаться, что чего-то почти врожденного и неотъемлемого теперь на мне и мне не хватает.
Мои похороны отличала крайняя неорганизованность. Я так и не узнал, кто же на них распоряжался. Кажется, никто. Пустили мое мертвое тело, что называется, на самотек, плыви, мол, по инерции, дорогой скучающий товарищ. Любил, мол, и сам покойник некоторую хаотичность, дичился церемониалов, собраний, демократий, с упоением загонял себя в угол. В общем, как жил, так и похоронили.
Моих сослуживцев и родню, таких разных и в большинстве своем ответственных людей, вдруг парализовала одинаковая, подлая апатия. Как будто они приняли что-то обезболивающее и обезволивающее и теперь, имитируя растерянность, на самом деле пребывали в сладчайшем трансе.
Нет, какие-то приличия все же были соблюдены, те, без которых похороны вообще невозможно считать обрядом. То есть я лежал в более или менее среднестатистическом, проморенном пенале, был одет и обут с крайним пренебрежением к моим вкусам, у моих родных на руках было свидетельство о моей кончине в связи с кровоизлиянием в мозг, в принципе, явилось достаточно народа с цветами, дожидалась могила на Большеохтинском кладбище, поминальная кутья, пара автобусов. Но то, без чего можно было бы вроде и обойтись, как раз и отсутствовало. И в первую очередь, не было решительно никаких речей, никаких некрологов, не было Шопена, не было, как говорится, прощания и прощения.
Поразительное, единодушное, утробное молчание сопровождало мои останки к воронкообразному пути.
Многие в толпе в отдалении втихомолку общались друг с другом. У гроба же, увидев меня, замолкали все. Подходили, смотрели и полный рот студеной слюны набирали. Вздыхали, хмурились, переминались с ноги на ногу, знобко поеживались, переглядывались, как сообщники, и деревенели. Сросшиеся губы, резиновые желваки, мерзлые брови, уши, полные мха, робкие, зрелые глаза — вот чем отгораживалось от меня прожитое время. Истуканы испускали дикость и вечность. Идолы орали внутрь себя. Тростник набряк водой, посинел, как водоросли. Горизонт предстал скошенным и влажным, словно полоса залива.
Сплоченное молчание приводило меня в ярость. Но что я мог поделать — меня не было здесь. Ни один человек не может похоронить себя сам, лично. Какое несчастье — абсолютная доступность для мира твоего зловонного трупа, в котором ты ничего не можешь поправить — ни галстук, ни позу!
Моя мать, сидевшая у гроба в обычной для таких случаев горестной и важной задумчивости, вдруг догадалась о чем-то неладном, поднялась и схватилась за боковину гроба теперь уже по-настоящему помертвевшими руками. Ее напугал мой вид, как будто изменившийся за пару минут. Что-то во мне ей показалось неслыханно живым, умоляющим. С досадливым красноречием она стала озираться по сторонам. Но люди ее не понимали. Немая сцена продолжала набухать, как гроза. О, как любил я грозу в начале мая!
На матери было пальтишко из синенького потертого кримплена сорокалетней давности с искусственным, но освеженным, черненьким воротничком. Покрыта она была, как полагается, темным толстым платком, завязанным почему-то не спереди, а сзади, на затылке, что придавало ей вид странницы и даже некой отчаянной наездницы.
— Что же вы? Скажите хоть что-нибудь! — не выдержала мать. — Люди добрые!
Она останавливала свой детский взгляд на тех, кто, по ее мнению, непременно должен был хоть что-то сказать теперь. Делала она это с крайней просительностью, словно добивалась какой-то справки в Пенсионном фонде. Она взглянула на моего нынешнего и бывшего начальников, на двух коллег, которых знала, на приятеля Димку, даже на мою жену украдкой. Только Димка никудышно засопел. Начальники молчали с конгениальной уклончивостью. Жена была как бы и не обязана говорить в такой ситуации вовсе.
— Ну что же вы? — заплакала мать в ладошку и села на свой табурет.
Те, кого она только что безуспешно умоляла, теперь поспешили проявить заботу о ней, обложив ее маленькие плечи и спину своими большими лапами в кожаных перчатках.
Я не видел ее лица, но я прекрасно знал, каким оно теперь было: сначала окислившимся от боли и собравшимся в одну точку, в центре рта, а затем, через мгновение, ставшим ровным и гордым. И мое лицо при жизни обладало подобной, материнской мимикой. Когда меня обижали, я непростительно куксился и клялся наказать обидчиков своим благородством по отношению к ним когда-нибудь в будущем, когда они будут локти кусать, что не понимали меня. Праведный гнев — самый слабый гнев. В своих эмоциях мы с матерью — непревзойденные романтики. Таких в наше время оттирают в сторону без обиняков. Раньше нас было больше. Мы могли ходить друг к другу в гости. Теперь раз-два и обчелся. Никого...
Моя жена была тем человеком, которого я погубил и из-за которого я погибал. Ее красивое лицо всегда оставалось святым. Таким было оно и теперь — святым и изможденным до неслыханной нежности. Свою черную косынку она повязала не как моя мать (та с внутренней жертвенностью перетянула себе горло), а по-старушечьи, дряблым узлом вперед. Ее лицо говорило, что моя смерть принесла ей последнюю усталость и приятную пустоту в обозримом будущем. Нашего двенадцатилетнего сына она оставила дома, потому что он превращался в истеричного правдоискателя. Она как раз не чувствовала неловкости от наступившей немоты. Ей нечего было стесняться или стыдиться. Она давно сообразила, что я не тот человек, которого стоит любить. Вскорости она без сантиментов проветрит свое тело от меня, отнесет мои рубашки нуждающимся, а дорогую дубленку в ломбард. Она забыла снять обручальное кольцо с моего пальца, и теперь левая моя ладонь вынуждена была прикрывать правую. Но здесь это все такие мелочи! Впрочем, и в этом не было ее вины. Дело в том, что за пятнадцать лет нашего брака мое обручальное колечко вросло в меня намертво. Даже в морге санитары не могли его провернуть. Она выглядела такой спокойной и такой безразличной ко всему происходящему, ее осанка была такой безыскусной, что я поневоле даже отсюда начал испытывать к своей жене почти плотскую, почти сострадательную благодарность. Я видел, что она была единственной живой душой, которая теперь молчала по праву.
Последнее время мы жили нехорошо, тошнотворно. Эпоха на дворе стояла соблазнительная, гулящая, глумливая. Я приворовывал на службе и приобщался к кутежам. Поначалу жена встречала мое свинство с ангельским терпением. Затем ее стоицизм перерос в брезгливость. Ее научили относиться ко мне правильно, потребительски, с паршивой овцы хоть шерсти клок. Я не видел ее души, я видел ее практицизм, что меня бесило. Впрочем, и она за моими пороками не замечала моего раскаяния. Так, глаза в глаза, встречались распущенность с очерствелостью. Я купил квартиру в сталинском доме, дважды покрыл паркетные полы лаком, вмонтировал кондиционер в стену, на прозрачную стойку из сверхпрочного стекла поставил 50-дюймовый плазменный телевизор и поэтому надеялся на понятливую и необременительную взаимность. Да чего теперь говорить!.. У меня оказались чересчур тонкими сосуды головного мозга, а сердце — чересчур окаянным...
Брр. Некомфортно, скажу я вам, лежать в потрепанном костюме, в котором я ездил обычно на работу. Не догадалась или пожалела женушка облачить меня в мой любимый клубный пиджак с изумрудными пуговицами в золоченом обрамлении и с каким-то тирольским гербом посредине. И где она отыскала этот жалкий тряпичный галстук в тусклую клетку? Был же у меня среди других, дорогих и парчовых, и черный итальянский галстук набивного шелка. Узел у него получается пухлым, респектабельным. В таком не грех подняться из гроба и на свадьбу улизнуть. Парфюмом, конечно, не побрызгали, чтобы чертей не приманивать... Шутки шутками, а полное одиночество, действительно, хорошо обретать в простых одеждах, среди аромата древесных корневищ, перегноя, мутных грунтовых вод, прошлых дольних весенних миражей, страшных горних далей. По своему новому автомобилю, поверьте, я здесь совсем не скучаю. Правда, вам все это мало интересно. Вас интересует конкретное, детальное описание загробной жизни. Но про это молчок. На это я не имею абсолютно никакого права. Умрете, всё сами увидите. Согласитесь, с некоторой завистью мы смотрим на покойников, потому как они теперь знают несравнимо больше, чем мы.
Перед самым выносом моего тела, когда я уже смирился окончательно с глухой обструкцией и даже стал благодарен скованной публике за тишину, я почувствовал вдруг мятеж среди собравшихся.
Я понял, кто был этим возмущенным существом, не смирившимся с похоронным диссонансом. Это был один из моих поставщиков, вернее, была она — Любовь Николаевна, которую в силу ее томительной молодости всегда хотелось назвать Любонькой. Любовь Николаевна поставляла нашему ведомству компьютерную технику и никогда не тянула с так называемым «откатом». Я был для нее нужным человеком: я готовил документы на тендерную комиссию. Помимо оговоренных выплат, Любонька не забывала побаловать меня бутылочкой Jack Daniel’s в день моего рождения, а также 23 февраля и на Новый год. Любонька была свежа и крепко сложена. Ничего лишнего не было в ее бедрах, но и не было того, чего бы в них недоставало. При этом она обладала ухоженным, умным и быстрым лицом светской львицы. Иногда она сердечно, как-то по-деревенски, вздыхала.
Я понимал, что Любоньку, которая привыкла любое дело ткать из нитей установленного порядка, возмутило странное пригробовое молчание. Она сделала плечиками в шубке нетерпеливое движение вперед, столь же гадливое, сколь и волнующее, она негодующе оглядела ареопаг, она открыла было рот для своего торжественного возгласа, чтобы спасти положение, чтобы спасти похороны, но через секунду лишь еле слышно выдохнула воздух из своей поднявшейся груди натурально, участливо, как умела только она. Поверьте, мне было приятно, что она переживала потерю не только заказчика, но и человека.
Я знал, что теперь Любонька деликатно выберется из мертвой толпы и под ручку со своим рослым кавалером пойдет к машине, всхлипывая милым баском в его плечо.
Знала бы она, как я ей был благодарен за этот сострадательный порыв! С ним я ушел в могилу счастливым и прощеным.
...В землю меня закопали скрытно и торопливо, словно украденную вещь.
И только мерзлые комья земли не боялись падать на крышку гроба громко и отчетливо, будто крупные капли дождя. С какой настоятельной радостью стучали они по моей новой кровле — знали бы вы! Как симфоническая поэма для ста метрономов! Рассыпчато, дружно, крещендо!
АНТИСЕМИТЫ
1
На похоронах Ручкина всласть наговорились о засилье евреев.
Как будто до отвала наелись чего-то скоромненького: супа кровяного с гренками с фаршем и пармезаном, пирожков слоеных в виде рога изобилия с мозгами, поросенка жареного, фаршированного ливером, головы старого вепря, да все это пропитали горючей прозрачной слезой под селедочку с крохотными рыжиками. Сытость наступила угрюмая, метафизическая. Некоторые испытывали переедание и пресыщение.
На самом деле за поминальным столом Слава Сомов, Николай Сергеич, Неелов, Овсянников, Верочка, Пахомов, Карасев угощались без смака ломтиками полукопченой кисловатой колбасы, адыгейским обветренным сыром, отварной картошкой и тусклой водкой, купленной неумелой рукой.
Покойный Ручкин принадлежал к типу антисемитов-борцов, то есть к людям громогласным, цельным, упрямым, прямодушным, и поэтому его проводы поневоле носили отпечаток его жизни. В гробу он распростерся свирепый, белый, осунувшийся, с усами, которые топорщились с какой-то новой, невиданной силой. Усы как будто закостенели и напоминали вторые, наружные зубы. Смежившиеся веки у покойного оказались истрепавшимися, сквозистыми, как батист, и сквозь них были видны в желтой радужной оболочке черные кляксы зрачков. Пузо у Ручкина опало, на маленьком возвышении лежали женские, жалобные его кулачки, носы туфель были нестерпимо узкими.
Сами похороны провели шумно, с оркестром, с салютом, с ревом полусотни машин. Еле-еле подняли и поставили над свежей землей тяжелый, как любил покойник, крест. Крест усыпали, как будто подперли со всех сторон, величавыми, как гербы, венками. Стучали шашками казаки, батюшка отпевал басистой скороговоркой, как лунатик, словно не видел никого вокруг себя, поэтому наступал на ноги близко стоящим к гробу. Самое трогательное прощальное слово произнес Гена Пахомов, затмивший представителя администрации собранной в точку скорбью, закончивший эпитафией: «Отечества ревнителю, народа защитителю».
На похоронах любовница Ручкина старалась держаться у самой головы покойного, а законная жена сбивалась к середине гроба, даже отступала в толпу, за спины детей, сына-суворовца и дочери-манекенщицы. Женщины покойного Ручкина были разными, как флаги двух недружественных государств. Жена была ровненькая, черненькая, высокая, с татарскими, кроткими скулами. Любовница была молочная, сбитая, с гулкой грудью, покрытой темным гипюром, сквозь который пробивались созвездья пигментных пятен, в парике, в душистой испарине, в солнцезащитных очках.
Любовница не поехала на поминки в чужой дом на Марата, потом — в кафе. Пахомов сказал, что она поехала пить до девятого дня горькую.
Неелов от жары стал дремать за столом, и Николай Сергеич ему попенял. Неелов умылся в туалете, где незнакомый молодой человек с некрасивым лицом брызгал воду на пол и тер, стоя в луже, ботинок о ботинок, стараясь освободиться от кладбищенской грязи. У очухавшегося Неелова болела голова, и он думал, что такая же боль преследовала уехавшую любовницу Ручкина. Неелов сочувствовал ее пунцовым щекам, и розовой шее, и белым голеням, похожим на балясины с балкона дворянского гнезда. Он вспомнил признание еще живого, пьяного Ручкина в каком-то шалмане, признание прямо-таки непристойное и недостойное большого человека, какое-то подростковое, инфантильное, что у него, у Ручкина, к сожалению, небольшой член, попросту маленький, и он с этим ничтожным обстоятельством никак не может смириться. Неелову показалась странной такая откровенность, но, будучи человеком сострадательным, он утешил Ручкина тем, что и сам не ахти какой гигант в известном плане и что интерес к размеру утрачивается цивилизацией. Теперь Неелов улыбался с тем же сдержанным самодовольством, какое до недавнего времени было памятно почившему Ручкину.
Ручкина в своем кругу при жизни называли «Ручкиндом» и того это, кажется, не коробило, по крайней мере, Ручкин не заводился по пустякам. Ручкин видел тайный, вернее, секретный смысл в подземных водах русского словообразования. Ручкин настаивал на том, что русский язык последние два века испытывает дурное влияние еврейского литераторского синтаксиса, местечкового говорка, одесского пошлого юмора. Русский язык вдруг стал дичиться оттеночных суффиксов, ему навязали короткую фразу и презрение к эпитетам, снисходительность к периодам, самоуничижение. Из друзей-писателей Ручкин ценил Пахомова за новую, смелую велеречивость и подозревал в Сомове, любителе назывных и безличных предложений, жидовствующего модника, гиблую душу. Однако и Сомов, бывало, мрачнел и загорался бурым румянцем, как всадник, и становился симпатичным Ручкину, когда заявлял, что Христос никогда не был иудеем, потому что быть иудеем и семитом не одно и то же, а две большие разницы. Покойный любил симптоматичные преображения, моменты истины, равные обмолвкам, разоблачения и мгновения чистого стыда. Ему приятно было прощать раскаявшихся и прозревших, и в этом попустительстве он видел угрозу своей идейной крепости. Так и вышло — червоточина нашла тонкое место. Ручкин умер, кто-то уже успел заметить, от превращения слабости в силу. От кровоизлияния в мозг.
Неелов был уверен, что покойный хорошо к нему относился. Но относился бы он к нему так же трогательно, если бы вдруг узнал или предположил, что Неелов, может быть, вовсе не тот, за кого он себя выдает?
2
Говорили о великой пустыне, о песочном пространстве Хазарии, о красных бородах, красных глазах, о терпеливой и сумасбродной крови, о недостатке мужества и витальности, о сочетании, из которого произошла то ли совесть, то ли мудрость справедливо побежденных.
— Жить надо кропотливо и кровопролитно.
— Надо беречь крайнюю плоть, как зеницу ока. На физиологическом уровне обрезание — это, может быть, утрата последней связи с Богом, как бы это не смешно звучало.
— Не смешно, а кощунственно.
— Все, что смешно, кощунственно.
— Напротив, Он (с заглавной буквы) был абсолютно обрезан, напрочь, полный скопец. Поэтому евреи и клюнули на подобный завет, на приобщение к духовному через физическое.
— Обрезание — это превратный символ спасения. Обрезал грязную плоть — свободен от грехов? Евреи недооценивают невидимое, не признают важности духовного подвига, духовной виртуозности...
— Слава богу, со времен апостола Павла христово обрезание совершается не ножом, а в сердце.
— Простите, для иудеев обрезание никогда и не было совлечением плоти, освобождением от плоти. Обрезание было, напротив, обнажением плоти, чем оно в очевидности и является, утверждением плоти. А символ обетования — это отвлекающий маневр, издевка, от лукавого.
— Мужики! Может, вы не будете все-таки так уж откровенно. Все-таки с вами дама, — сказала Верочка.
— Напротив. Тебя это в первую очередь и касается. Скажи, Верочка, что тебе больше нравится — обрезанный или необрезанный?
— Разумеется, необрезанный.
— Вот видите, устами русской женщины глаголет истина.
— Разумеется, необрезанный загадочнее при первом взгляде.
Карасев, безусловно, полукровка, с то и дело падающим веком, показывая книжечку «Анекдоты о евреях» Неелову, испытывал кокетливое смущение. То же самое испытывал и Неелов, когда речь заходила о том, что Россия погибает. Карасев ерзал на неудобном для него стуле, сбивался на край, стучал коленками, то есть вел себя как обескураженный злопыхатель, лишенный причины негодовать. Он смотрел на Неелова с мужественной мольбой и приводил Неелова в явный дискомфорт. Их связывала обоюдоострая неловкость. Неелов неслышно произнес:
— История с еврейским засильем напоминает мне сказку Салтыкова-Щедрина «Дикий помещик».
— Напрашивается продолжение «Дикого помещика», — принял пас Карасев.
— Продолжение уже состоялось, — сказал хитрый Николай Сергеич. — Для меня не существует еврейского вопроса, для меня существует только русский вопрос.
— По поводу русско-еврейских отношений даже Солженицына прорвало, эту валаамову ослицу распятой России.
— Чего же вы хотите, страх Страшного суда не дает покоя старику.
— Его книга и вашим и нашим.
— Простите, я русский по-розановски. Во мне гоношатся вопросы пола, России, литературной утлости, еврейства, вины перед семьей, несчастного детства, вины перед даром рождения.
— Врешь ты все, Слава. Розанов — прохвост и прощелыга. А у тебя, прежде всего, должна быть вина перед женой.
— Я знаю одного неистового антисемита, он, между прочим, еврей. Но, однако, попробуйте при нем быть антисемитом! Он это право узурпировал по заданию кагала.
— Святее папы.
— Есть люди, которым приятно быть чужими среди своих и своими среди чужих.
— Дегенераты.
— Не только.
— Один мой хороший знакомый, старый еврей, испытывающий нормальную неловкость за свою нацию, а не только гордость, чистейший человек, как Гершензон, порой всматривается в меня, как будто в поисках еврейской крови. Готовясь к встрече с ним, я как бы нарочно надеваю круглые очки, чтобы округлялись мои глаза, очки с толстыми дужками, чтобы уши больше оттопыривались. Кажется, он находит во мне нечто генетически близкое и задается вопросом: из какого же я колена израилева?
— Из тринадцатого, из протеза.
— Ха-ха.
— Я был не лишним ртом, но лишним языком.
— Это еще что?
— Это — Бродский.
— Бродский — самозванец.
— Но у него расстояние до Отца (с заглавной буквы) ближе, чем, например, у Есенина. Бродский разговаривает с Отцом, как с родной душой, как с родственником. Вспомните его рождественские стихи.
— Вот и плохо, что как с родственником. Он не понимает, что Бог — это не дядя Хаим.
— Бродский? Приятно почитать на русском языке совершенно иностранного поэта.
— Нет, Бродский — это Пастернак, шагнувший в мир Запада во всей силе и красе русской лексики. Он продолжатель линии Пастернака в русской поэзии.
— Какая чушь! Это не линия, это ретушь. Как можно сравнивать органичного Есенина и высосанного из пальца Бродского?
— Бродский — русофоб.
— Я бы не сказал. Он индифферентен. Как мог Бродский любить лишь Россию, если он видел весь мир? Как мог Бродский, например, вернуться, чего от него так ждали, в демократический, задрипанный, опустившийся Петербург? Этот город он пережил в молодости. Таким же бессмысленным, полным скуки было бы возвращение, в свое время, например, Набокова в Россию. Думаю, что, если бы и Чехову довелось покинуть Россию, ему тошно было бы в нее возвращаться. Другое дело Бунин, тот бы с удовольствием уезжал и возвращался.
— Это как раз к вопросу об истинно русских писателях и дегенератах.
— Перед смертью Бродский был мучителен, как настоящий поэт.
— Совесть проснулась.
— Из их брата русским поэтом, пожалуй, можно считать лишь Мандельштама. В Осипе Эмильиче есть надрыв никчемного, то есть русского человека. Мандельштам — поэтический двойник Достоевского, некий капитан Лебядкин.
— Слушайте, прекратите в конце концов эти разговоры. Как вы не понимаете, что они навязывают нам себя? Мы не можем уже без них. Забудьте про них. Нет их. Исчезли.
— Как мужики в «Диком помещике».
— Нет на нас Ручкина. Вот был мыслящий тростник.
Все выпили за душу Ручкина. Верочка с обожанием смотрела то на Пахомова, то на Неелова. Она вспомнила своего мужа, но сказала совершенно о другом:
— Тут услышала по радио, что у какого-то знаменитого рок-музыканта жена, видите ли, обнаружила в себе русские корни...
— Да не русские...
— Белорусские, Могилевские.
— Разумеется. И поэтому этот лабух, видите ли, хочет написать песню об Иване Грозном, для чего приезжает в Москву. Цирк.
Неелов видел, что Верочка для него неисправимо стара. Как водится, он раздевал ее глазами, но дальше блузки дело не хотело продвигаться. Тушь на ее ресницах сбилась в сгустки. Тусклые крупные серьги оттягивали вялые мочки. На шее то и дело появлялась дополнительная складка, какая-то детская и сальная. Пальцы были толстыми и ленивыми. Такие не поцелуешь страстно.
3
Уходящего Пахомова провожали улюлюканьем. Но это не мешало ему идти, наполненным влагой многозначительности, булькая на каждом шагу. Он был странно подстрижен, скорее всего, собственной женой: у него был соструган затылок, зато поверх ушей висели седоватые стружки. Плечи он опустил, широкие бока напоминали бруствер, ноги слипались, голова склонялась к левому плечу, что, предположительно, настраивало на раздумья. Верочке его фигура состарившегося ангела казалась притягательной, беззащитной, смешной. Позвонками Пахомов чувствовал, что над ним потешались, но обиды никак не выражал, не дергал досадливо спиной. Кто они и кто я? — думал он. — Кому они нужны и кто их знает?
Пахомов олицетворял тип антисемита с репутацией антисемита, таковым было его социальное амплуа. Евреи относились к нему адаптированно, по-свойски, приглашали в свои компании, беседовали на острые темы. Между тем сам Пахомов недоумевал, когда его называли антисемитом, потому что он вообще не разбирался в национальностях, он не то что еврея от русского, он корейца от немца не мог отличить. Вот такая ксеноолигофрения. Как родилась его репутация? Одному богу известно. На каком-то совершенно голом месте.
— Пахомова пригласили на заседание жюри по юбилейным премиям. Без права голоса, конечно. Как вольнослушателя.
— Не обрезался ли он уже?
— Все может быть.
— Там платят.
— Им с ним забавно, как кошке с мышкой.
— Патриотам тоже платят.
— Ни в какие ворота. Другой порядок цен.
— А главное — кузница славы.
— Какие же вы все-таки недобрые! — сказала Верочка.
— Верочка! Председатель этого жюри, известный тебе господин П. во всеуслышание заявил, что номинантам с темами «Шинели» или «Преступления и наказания» ловить нечего, их не допустят к участию в конкурсе. Обычный междусобойчик.
— Да, просмотрели они в свое время Гоголя с Достоевским. С базара принесли. Прошляпили подрывную литературу. Теперь-то они научены, теперь-то они начеку. Для наглядности Гена Пахомов есть. Никто патриотов не замыливает. Вот, пожалуйста, Гена Пахомов, не только патриот, но юдофоб записной.
Верочка от усталости поднялась и стала выходить из кафе. Смущенный Карасев, естественно, вызвался провожать. Пока Карасев придерживал дверь, Верочка с долгой, неуклюжей ненавистью смотрела на Неелова. Верочкино лицо в последний момент так вытянулось и побелело, что напомнило своей озлобленной горечью гримасу артиста, играющего арлекина.
— Грамотный уход, — сказал Сомов. — Обиженным не обязательно платить.
— Халявщики! — согласился Николай Сергеич.
В кафе музицировали услужливые гитаристы. Официантка, накрывая столы, наклонялась так, чтобы были видны ее черные трусики. Николай Сергеич стал показывать зубы похоти. Овсянников пил церемонно, закусывая. Сомов ждал настоящего стриптиза, поглядывая на сцену с шестом. Неелов думал о своей фамилии, которую произносили двояко — и через «е» и через «ё». Мама убеждала, что надо через «ё» — «Неёловы мы». А сыну больше нравилось через «е» — Неелов, Неурожайка тож.
Рядом оказались немолодой, каштановый франт с проституткой. Спустя некоторое мутное время франт, выпив с Нееловым, сообщил, что он служит в банке, и преподнес Неелову визитку с золотым тиснением. Неелов не запомнил фамилию, что-то греческое, на «иди». Спутнице банкира, державшейся собранно и даже затравленно, Николай Сергеич старался понравиться велюровой растительностью, пылкой ученой старостью и княжескими комплиментами. Проститутка была болезненно худа, ее ножки в черных чулках ложились друг на дружку колко, неуютно, механически. Когда Николай Сергеич вдруг облобызал ей руку, она отдернула ее как нечто чужое и стала выглядеть обреченной. Банковский служащий шепнул Неелову, что проституткам ручки не целуют. Неелов передал то же самое Николаю Сергеичу.
— Кот! — крикнул Николай Сергеич, указывая старым, желтым, жезловатым пальцем на банковского служащего.
Банковский служащий, налившись бесцветным презрением, моментально увел свою напуганную знакомую к пустому столику в отдалении, вальяжно вернулся и произнес, обращаясь к Неелову:
— Купи своему старому другу носки.
— Кот! — повторно крикнул Николай Сергеич, как будто сильно икнул.
Сомов хихикал в свою молодежную бородку. Овсянников предусмотрительно мрачнел.
Неелов опустил глаза ближе к полу и увидел на горестных ногах Николая Сергеича стоптанные туфли и красные, махровые, спустившиеся до пергаментных щиколоток носки. Николай Сергеич продолжал держать перст высоко в воздухе до тех пор, пока мелкий банковский служащий не уселся к Николаю Сергеичу спиной.
— Вот так лучше, — громко сказал Николай Сергеич. — Котов нам еще тут не хватало. Брысь под лавку, нечистая сила!
4
За полночь в сопровождении Неелова Овсянников добрался до дома на улице Маяковского. По дороге полусонно грустили о Ручкине, которого теперь, правда, уже не было жаль, а было жаль его худосочную вдову, так же, как ее было жаль при жизни Ручкина. Казалось, что она выплакала свое тело, поэтому выглядела такой пустой. Казалось, что суворовец-сын ее по-взрослому презирает — за ее безумную тихость, за чуждую ему и его отцу натуру, за то, что она не любит их с сестрой, как любил отец. Дочка была отстраненной, по современным меркам красивой, долговязой, с мальчишеским, крученым овалом, с длинными хрупкими ступнями.
Шутили над Николаем Сергеичем, у которого первая жена была еврейкой, актрисой. Николай Сергеич в конце застолья, когда собирались платить, сказался несостоятельным и от этого стал дерзить Сомову и Неелову, не трогал только Овсянникова, от которого в пьяном виде веяло суровым хлыстовством. Сомов уходящему Николаю Сергеичу бросил подготовленную фразу:
— Мелочность — ахиллесова пята русопята.
Николай Сергеич, далеко оттопырив палец, парировал:
— Бездари.
Уходил он, как коммунальный хулиган, поигрывая мозглявыми ляжками.
Овсянников был обладателем большого петербургского подъезда, приятных для шага лестничных просторных маршей, двустворчатой двери в квартиру. Жена Овсянникова Лида, торопливо вежливая и неприбранная, сообщила мужу и Неелову (Сомов отстал на Невском проспекте безвозвратно), что их ждет дружок Пахомов. В прихожей пахло смешанным животным составом, свалявшейся шерстью овчарки и кошачьей свежей мочой. Лида сказала, что не пугайтесь, собака в деревне, а кошка спит. На кухне, обшитой мореной вагонкой без зазоров, сидел понурый Пахомов с початой бутылкой водки.
— Мне домой не добраться — мосты развели. Я у вас заночую.
— Лида! Постели еврейскому подкулачнику прямо на кухне, где сидит, — крикнул Овсянников. — А водку, что, с еврейского стола стянул?
— Зачем? У них стянешь. Купил в ларьке. Хорошая, не паленая.
— У меня есть приятель с беспокойной фамилией — «Наливай».
Захватывающую концепцию Пахомова о том, что Петербург был основан на месте древнего становища викингов, и более того — на месте рождения киевского князя Олега, со всеми вытекающими отсюда аналогиями и великими пророчествами, на заседании юбилейного жюри отвергли с насмешливым скепсисом. Даже новый друг Пахомова профессор Ф., человек деликатный, доброжелательный, пьющий, упрекнул коллегу Пахомова за чрезмерную эксцентричность мышления, банальный неисторизм и допотопную абсолютизацию норманнского следа на теле Руси. Он посоветовал коллеге Пахомову не сбиваться на обочину собственного таланта. «Геннадий! Пишите ваши замечательные эссе. Зачем вам эти научные разработки, этот неблагодарный труд исследователя?»
— Видите, — горевал Пахомов, — не пускают нас на пушечный выстрел в большую науку. Занимайтесь, мол, беллетристикой. А в науке — их схемы. Тронешь — все пойдет по-другому. Я только попытался замахнуться — и какая паника! Куда, мол? Здесь у нас все сфабриковано, а вы со своей истиной лезете.
Пахомов перебирал на кухне свои несчастные бумаги, листал книгу профессора Ф., запивал изжогу крепким напитком, шумно дышал и усмехался.
Овсянников увел Неелова в свой кабинет играть в шахматы. Неелову было не очень удобно сидеть перед высокой стеной с иконостасом, кроваво-золотым коллажем, перед десятком укоризненных очей, перед плывущей радугой, перед сумеречной, естественной иллюминацией, как в надушенной ладаном деревенской церкви. Совсем не хотелось превращаться в иконоборца. Овсянников был известным шахматным игроком, который не желал проигрывать первому встречному, особенно у себя дома. Это должен был учитывать визави. Неелов играл инстинктивно, бегло, рассчитывая на ничью. Дуракам везет, сказал Овсянников, когда Неелов действительно свел первую партию к ничьей. Вторую Неелов выиграл, а третью проиграл к четырем часам утра. Овсянников, протрезвевший, похмельный, изнуренный, приказал Неелову ложиться спать здесь, в кабинете на диване. Неелов слышал, как Лида всплескивала руками, бессмысленно дефилировала по коридору, включала и тушила свет, писклявым шепотом причитала. У Овсянникова была октава. «Хватит», — сказал ей Овсянников.
Неелов передумал раздеваться, вспомнил о пахомовской водке и поспешил на кухню. На кухне горело электричество, сияло темное дерево, бутылка отсутствовала, Пахомова не было. На кухонном мягком уголке лежал свернутый матрац.
— А где Пахомов? — спросил Неелов у появившегося Овсянникова.
В трусах тот выглядел поджарым, опрятным, неистовым, как Бжезинский. На впалой, хулиганской груди запутался в волосах крестик.
— Ушел, пока мы сражались. К путане своей поднялся, к Соньке Золотой ручке. Он всегда, когда у меня бывает, к ней поднимается.
— Этажом выше?
— Да, прямо над нами.
— А зачем тогда матрас?
— Это маневр. Он же хитрый, все-таки бывший стукач, и похотливый. Веселиться предпочитает разнузданно.
— И водку унес.
— А ты сходи, забери, если осталось.
Неелов пошел наверх. Подъезд был гулкий, парадный, готический, с лифтом за железной сеткой, с медными перилами, с вытянутыми, стрельчатыми окнами, местами битыми, залатанными фанерой. Желтый бордюр с черными полосками от ударов обуви аккуратно, под прямым углом, описывал ступени. Между этажами Неелов посидел на подоконнике и стремглав поднялся к металлической двери с сосочком звонка. Позвонил. За дверью спросили сразу «Кто?», как будто стояли и ждали.
— Мне нужен Пахомов, — сказал Неелов. — Соня, это вы? Откройте, пожалуйста.
— Откуда вы знаете, как меня зовут? — говорил женский, протяжный голос, кажется, принадлежащий одинокому безобидному человеку.
В глазок Соня, вероятно, видела, что и Неелов совсем безвредное существо, думающее о себе, что оно пропащее.
— Нет здесь никакого Пахомова, и я не знаю никакого Пахомова.
Вдруг ее осенило, и она спросила:
— А кто вам сказал, что здесь может быть Пахомов?
— Ваш сосед снизу, под вами, — сказал Неелов. — Овсянников.
Неелов с удовольствием слушал паузу, дребезжанье стекол, вертикальную сырую пустоту.
— Молодой человек, идите вниз к Овсянникову и скажите ему, что он неисправимый антисемит.
— Да, хорошо. Но скажите, где Геннадий Пахомов? Он не у вас?
— Молодой человек, я же вам объяснила: Овсянников — неисправимый антисемит.
Неелова изумило то обстоятельство, что в этом доме, где консьержкой и не пахло, сохранились в наше время медные прутья.
На улице, сизой, безлюдной, выморочной, ступая по новому, красноватому, мощеному тротуару с не утихающей игривостью, он стал воображать себе Сонину внешность. Он полагал, что Соня была не старой женщиной, носила продолговатые очки, ее губы были алыми и волнистыми, как сердечко на открытке, у нее срастались черные брови, и на большом, теплом лице располагался маленький, почти не выпирающий нос, и шея наполовину утопала в мягких тканях спины, и прическа была куцая, черная, с длинными височками, и глаза выражали невзыскательность. Так и хотелось подуть на ее словно выпачканный сажей пушок над губой.
Неелов думал, что хорошо было бы жениться на женщине с любящими руками, которые умеют от природы красиво ложиться одна на другую.
Он был убежден, что Сониной крупной голове и короткой стрижке очень пошла бы миниатюрная шляпка в виде белого атласного цилиндрика, — так, на всякий случай, для карнавала, для маскарада.
КРАСАВЕЦ
Эти дома с незавершенными крышами, с прерывистыми рядами перепончатых окон, напоминающих ячейки то ли в колумбарии, то ли в банковском хранилище, так и будут казаться вечным недостроем, пока не обрушатся окончательно вместе с жильцами или без таковых лет через тридцать в одночасье либо поэтапно, особенно зловеще, этаж за этажом.
Директор по телефону отправил Павлика срочно найти Андреича в окрестных забегаловках.
Павлик уик-энд провел на Заливе, в буквально таинственной порочной роскоши, поэтому еще брезговал дном окраин, этими отвесными панельными стенами, в кляксах и потеках, латаным, иссера-выцветшим асфальтом, пыльными, конопатыми кустами, трамвайными рельсами, собачьими фекалиями, дергаными «жигулями», всем этим Веселым поселком. Что касается воды, то здесь еле текла Оккервиль цвета суррогатного какао. В ней плескались хилые селезни, гипотетические разносчики «птичьего гриппа». На секунду Павлику стало по-детски зябко: он вспомнил о своей экзальтированной беспечности, позолоченной вином и виски, об отсутствии презервативов в течение всех выходных и об угрозе теперь, может быть, даже СПИДа.
Павлик повернул за угол школы, где уже не было номинальной речки с водоплавающей дичью, и дурные предчувствия шаг за шагом отпали сами собой.
Впереди виднелась лужайка, невероятно зеленая для этого места, издали чистая и солнечная. Посередине стояла красная детская коляска, и молодая пшеничная мама, вскинув руки на макушку, загорала крепкими подмышками и матовыми впадинами щек, которые, казалось, все равно никогда не прогреются полностью. Павлик вспомнил про Юлю, она все еще оставалась его девушкой, и улыбнулся и плотски, и секретно.
Павлик считался красавцем, и все в роду у него, видимо, тоже считались красавцами, поэтому и фамилию он носил Миловидов.
Ему нравилось то и дело чувствовать свою смешливо-вальяжную осанку, благодаря которой он ходил, как бы подтрунивая над ротозеями, но подтрунивая с ранним, стеснительным великодушием. Несмотря на то что его голова, туловище, руки и ноги были заведены на разное количество оборотов и двигались соответственно с разной скоростью, в целом Павлик выглядел собранным молодым человеком и даже нарочно разрешал своему телу некую томительную, гуттаперчевую развинченность.
Павлик был высоким, но не долговязым, его шея была длинной, но не тонкой, плечи были прямыми, но не костистыми. Он приобрел привычку будто вкруговую озирать свою фигуру от груди до пят. При этом его натянутое лицо с теннисными мячами скул искажалось такой атавистической гримасой, которой трудно было подобрать подходящее переживание. Носовые пазухи вдруг вместе с верхней губой оказывались в одной плоскости, а подбородок, еще как следует не очерченный, упирался в хорошо очерченный, тенистый кадык. Единственным, что Павлик до недавнего времени в себе не любил и даже готов был исправить путем хирургического вмешательства, был его нос, какой-то шалопайский, дерзкий, то есть совсем не точеный, без изящной спинки, вообще без спинки, потому как приплюснутый. Вместе с надломленным передним зубом эта его боксерская сопатка помогала Павлику тщательно и приятно конфузиться, смеяться в кулак до того странного момента, пока один невероятно откровенный человек не сделал вдруг комплимент носу Павлика: мол, нос твой, в отличие от разных там аппликационных, манерно-горьких аристократов, красив по-настоящему, своим мужественным складом. После же того, как эта раскрепощенная персона вдруг поцеловала Павлика именно в нос и медленно, с интимной правдивостью буквально облизала его безволосые сырые ноздри, Павлик поверил в собственную неотразимость с оторопью, но без оглядки.
«Как клёво, что я еще молод и буду еще молод долго! И завтра, и послезавтра, и через пять лет. Как минимум пять лет я смело могу быть молодым», — наслаждался Павлик и, как всегда в такие минуты, для позевывания задирал голову к самым облакам.
Павлик не сомневался, что двадцатилетняя молочная мама с коляской теперь смотрит в его сторону, и ее внимание приковано к его подтянутой, убористой заднице. Последние годы все глянцевые журналы твердили об одном и том же: женщины любят в мужчинах больше всего на свете задницу. Не глаза, не мозги, не член даже, а, видите ли, задницу. Борьба за равные с мужчинами права привела к тому, веселился Павлик, что обнаружила в современных женщинах самые что ни на есть педерастические наклонности. Специально для молодой мамы Павлик шел показательно, с дополнительным напряжением в стопах, переливчато перетекающим в ягодицы. Он отбрасывал свои отросшие, прямые, черные пряди набок, так, чтобы те летели прочь ото лба и никогда бы не лежали на голове бестрепетно. Ему казалось, что внутри его внешнего тела-скорлупы, научившегося с телами любых других людей соприкасаться без омерзения, находится еще одно тело, а уже внутри этого второго, сокровенного, брезгливого тела помещается собственно душа, без очертаний. И эта его душа представлялась ему веселой, но не злой, чувствительной, но не легковерной, честной, но не идиоткой. Ему нравилась его душа, нагретая сама собой, как деревенская печка, долго стынущая. Он думал, что его душа теперь была похожа на его умершую бабушку Таню. И поэтому он знал, что тоже нравится своей душе, потому что бабушка Таня любила внука.
Павлика осенило, что у него, между прочим, никогда не было секса с молодыми мамами. С кем только у него не было секса — со всеми был. А вот с молодыми мамами, их еще для большего вожделения называют кормящими, кажется, не было. Отчасти его девушка Юля могла бы сойти за такую молодую мамашу благодаря своей неусыпной, летучей любвеобильности, с какой торопятся сначала к мужу, а затем от мужа — к ребенку и обратно. В ней не знала покоя невозможность надышаться и насмотреться, нащупаться и нацеловаться. Когда Павлик был рядом, даже если они в этот момент находились в людном месте, в магазине или метро, Юле непременно надо было тискать и гладить Павлика, причем ей недоставало лишь его локтя или коленки, она, как слепая и несчастная, старалась охватить Павлика всего и сразу, как будто боялась что-то в нем упустить, не попробовать, не присвоить, не пометить собой. Однако одно в ней было непонятно Павлику: она могла ожидать встречи с ним сколько угодно долго, не звоня, не подавая голоса. Он старался решить, что для него будет лучше: воспользоваться этой ее горделивостью и порвать с Юлей раз и навсегда или, напротив, начать ее тиранически, с коммунальным бешенством ревновать ко всякому столбу, до чего, возможно, Павлик и дорастет вскоре в тесноте своего инстинкта. Он предполагал, что Юле, такой, какой он ее знал, его одного, как ни крути, не должно было хватать, в то время как для него Юля телесно и нетелесно была устроена самым подходящим образом, с ее размашистыми и вдруг под ладонями уменьшающимися контурами, с повсеместно розовеющей кожей, под которой, лишь к ней прикоснись, возникает волнистая, наэлектризованная, текуче ноющая ряска. Павлику нравилась ее восторженная ненасытность, с какой она спешила по утрам оседлать его спящего. Он улыбался ей сквозь сон, крайне платонический для такой плотоядной яви, и воздерживался пробуждаться официально. Она брала его безвольные, натренированные, протяжные руки и прижимала к своим грудям, чтобы он аккуратно бил в них, как в маленькие колокола. Ему казалось, что и спать на спине он привык только для того, чтобы теперь Юлиным фантазиям было комфортно воплощаться. Ему нравилось, что, когда бы он на нее ни посмотрел, ее лицо было преданным и вообще принадлежало к тем лицам, которые, когда целуешь, замирают от беспокойного и недоверчивого изнеможения.
Павлику казалось, что такое же лихорадочно-святое выражение лица было и у жены пропавшего и пропащего Андреича, этого брюзгливого и все еще мечтательного пьяницы.
Жена Андреича (Павлик так и не знал, как ее зовут; вероятно, что-нибудь простое в имени и трудное в отчестве — Наталья Альбертовна или Елена Всеволодовна) по телефону отчеканила, как автоответчик, с преодоленной тщетой: «Николая Андреича дома нет. Он где-то пьет». Павлик, как неискушенный собеседник, даже прыснул в трубку от красоты ее фразы. «А вы не скажете, где? Мне надо его срочно найти». — «Если я сказала, что он где-то пьет, значит, я не знаю, где именно. Ищите, если вам надо. Мне не надо». — «Извините». — «Пожалуйста». — «До свидания». — «Всего хорошего».
Павлик подумал, что ему не мешало бы научиться разговаривать по телефону так же логично, как эта женщина, с внутренней готовностью к самому страшному. «Это прикольно, — полагал Павлик. — Быть измученной и не подавать виду. Прикольная семейка».
Голос у жены Андреича был слегка низким и сплошным. «Интересно, каким ее голос становится, когда она бывает ласковой, когда ее трахают? Таким же умным или наоборот? Звучит он у нее при этом еще ниже или выше? Лучше, если ниже, ниже всегда лучше. Хотя, кто ее трахает? Не Андреич же? Андреич, он и есть Андреич. Хотя кто-нибудь да трахает, какой-нибудь коллега по работе, лысый и пузатый, экономный и самодовольный. Все они, сорокалетние, — плохие мужья и жадные любовники». Павлик представил своего отца рядом с женой Андреича. «Нет, мой таскается по молоденьким. Для моего даже Юлька — старуха и толстушка. Педофил-радикулитчик».
Павлик вспомнил, что жена Андреича, которую он видел лишь однажды, полгода назад, когда доставлял пьяного Андреича домой, показалась ему какой-то чересчур смуглой, с мрачным, честным румянцем почему-то только на одной щеке. Она впустила Андреича, а перед юным весельчаком, перед его некрасивым тогда носом сдержанно закрыла дверь. Павлик услышал, как она сказала мужу этим своим насыщенным тембром: «Что, на мальчиков потянуло? Пьянь подзаборная!» Павлика ее реплика рассмешила и почему-то взволновала. Он хотел было позвонить в дверь опять и теперь уже, как парень по вызову, улыбнуться с лукавой растерянностью и расчетливой галантностью, что в сумме должно было смотреться мускулисто-нежно и опрятно. Однако в следующий момент он улыбнулся в закрытую дверь совсем по-другому — с виноватой симпатией — и нажал кнопку не звонка, а лифта. Ему стало жаль ее, потому что она выглядела слишком молодой и была слишком красивой для Андреича. Ее телосложение оставалось девическим, выверенным; даже глаза, вопреки опыту, казались смеющимися; она тяжелела неявно, без видимых уплотнений, только низ ее укромно матерел, особенно икры, особенно лодыжки. Ее голые руки тогда были обреченно-длинными и покрыты в сумерках ровной кожей, точь-в-точь такой же, как и у самого Павлика. Персона (так фамильярно Павлик начал называть странного человека, перевернувшего представление юноши о красивых и некрасивых носах) хвалила в том числе и кожу Павлика: дескать, такая кожа создана для загара, для солнца, которому иногда тоже хочется кого-нибудь любить, что она такая прохладная и жаркая в один и тот же миг и такая мелкозернистая. Очень это слово стало уморительным для Павлика, гастрономическим — «мелкозернистая».
Павлику нравилось, что летом даже в городской черте ветер разглагольствовал по-человечески доходчиво, и Веселый поселок соответствовал своему названию.
Каркала ворона так равномерно, как будто как раз и летела при помощи этого собственного ритмичного карканья.
Кучи мусора, лежавшие под скамейкой на остановке, вдруг поднялись и превратились в изъязвленных и нервозных доходяг; они кричали друг другу про какую-то Светку Угрюмову, которая собирается турнуть их отсюда.
У домофона закрытого подъезда нерешительно топтался невыспавшийся наркоман. Иглы его зрачков затупились, а усмешка высохла до шелудивости в уголках рта. Павлик знал, что алкоголики в основном мокры и слюнявы, а наркоманы — обезвожены и черствы. На черную, приваренную к виску челку наркомана по-хозяйски села тяжелая оса с огромным бабьим огузком.
Залетный модник в лазоревом пиджаке на голое парное туловище указательным пальцем брезгливо ловил такси, отворачиваясь от раскаленных «Пятерочек». Дорогостоящий запах от его мокро-надушенной, какой-то неприличной бородки доносился на другую сторону дороги. У гламурного верзилы были сильные женские глаза. Не сел он и в дребезжащий, приметно перекрашенный «опелек», который визгнул в ответ и вильнул задом с классовым выхлопом. В тот же миг из «опелька» на всю улицу забубнил приторно хмурый шансон. Павлика смешил этот тип водителей-мужиков, настроенных на радио «Петроград». Они любили мотивчики, давно настоянные на запекшихся рифмах, с невыносимой моральной правотой, с чужими уголовными статьями, и, несмотря на это, озирались эти ковбои как-то кургузо и торговались за каждый километр воровато. Они любили оправдываться тем, что карта не так легла и что история нас рассудит.
Ноздри Павлика с удовольствием почуяли постный стариковский пот. Рядом прошла уютная, как карапуз, старушка, которая, как показалось Павлику, пахла не столько собой, сколько своим умершим мужем-стариком. «Одно дело, — думал Павлик, — конопушки на молодой коже и совсем другое — на старой. На старой коже, как у бабушки Тани, они какие-то душевные и даже священные».
Перед Павликом по щербатому тротуару на белых выщипанных балясинах в черных рюмках-каблуках шествовала с затянутым переливчатым тазом возрастная блондинка со слоистой спиной. Азербайджанцы, сидевшие на корточках, провожая ее, притворно цокали языком и переминались вприсядку с ноги на ногу. Блондинка громко судачила по мобильному телефону с какой-то «дурой Анжелой» и басовито смеялась настоящим дворянским смехом. Павлика забавлял пробор на голове блондинки — исконно темный, неподдельный, ранимый, — как будто это он, пробор, был крашеным, а не все остальное. Блондинка теснотой одежды и проникновенностью артикулированной походки напоминала Ольгу Юрьевну, жену директора, последнее время пристававшую к бедному Павлику с заключительным ожесточением, с болезненными щипками и неумелыми подножками.
Наконец терпение Павлика лопнуло: он начал восторженно хохотать, когда догадался, почему тощий таджик так долго, шаг за шагом, шел под окнами первого этажа длинного дома, сгибаясь в три погибели, как на хлопковом поле. Сначала Павлик думал, что у таджика что-то случилось со спиной или он что-то ищет в замусоренной траве. Оказалось же, что исхудалый таджик все это время, не сбавляя хода, обстоятельно и неслышно сморкался по сторонам и плевался. Таджик выпрямился, только услышав гогот Павлика, и, видимо, в ответ осклабился от удивления и деликатности. Лошадиные зубы у таджика были цвета слоновой кости, а язык — зеленым. До таджика Павлик полагал, что слоновой костью зубы становятся в период благородной старости. Однако таджик был внешне молод, что не мешало ему выглядеть аристократичным, несмотря на пару блатарских золотых коронок.
Забегаловки в этих краях натыканы, как топографические знаки. Казалось, одни и те же обитатели, словно по воздуху, опережали Павлика и встречали его в следующем заведении теми же штемпелеванными физиономиями, покрытыми плотным загаром, точно опалиной.
Публичные эти места с утра были шумливы и свежи особой похмельной свежестью. За прилавками дежурили непроницаемые чернавки с минимально достаточным запасом русских торговых реплик. Нет-нет да и фланировали для присмотра невдалеке джигиты, прихлебывая кофе из пластмассовых стаканчиков; неопытные из них еще были презрительны, опытные — флегматичны.
На юмористическую гадливость Павлика алкаши, как посвященные, морщились друг другу философскими глубокими морщинами, видя в добром молодце лишь временную незавершенность общего положения дел.
Андреича Павлик нашел на углу Товарищеского и Подвойского. Столики по случаю лета размещались на открытом воздухе, у дверей распивочной торгового комплекса «Славянский рынок», с тем чтобы контингент чувствовал себя теперь вполне по-курортному, как люди, под маркизами и зонтиками, столь истрепавшимися, что их корпоративная принадлежность той или иной пивоваренной компании еле угадывалась.
Андреич сидел с пенсионером, трудно жующим бутерброд, и каким-то новичком-забулдыгой, без майки, в бейсболке, косых очках, с подростковыми руками и торсом, загоревшими фрагментарно, как по трафарету.
Вопреки тому, что Андреич совсем не выглядел пьяным и даже был надушен одеколоном, Павлик не сомневался в его сильном подпитии. Эту обворожительную мнимую трезвость Павлик хорошо знал по собственному отцу, когда тот в третий день запоя еще бывал на коне, у него не кончились еще все деньги и они жгли ляжку последним всепобеждающим пламенем.
Андреич на удивление кротко согласился немедленно отправиться на работу, как только сейчас за ними приедет директорская «тойота» с обстоятельным водителем Серегой. Андреич сообщил Павлику, что сегодня действительно очень ответственный день и что именно сегодня директор без него, без Андреича, может остаться как без рук, а директор, мол, у нас хоть и не идеальный, но и не самый главный жулик страны, да и вообще оставлять кого бы то ни было без рук на этом свете не очень хорошо.
Андреич из щели буфета принес две кружки пива и пригласил Павлика за свободный столик, оставив в мелкой обиде очкарика, не до конца излившего душу, взъерошенного даже в бейсболке, и дружелюбного старика с простыми, иждивенческими глазами.
«Завтра директор меня уволит, — изрек трезвым, даже симметричным ртом Андреич. — И правильно сделает».
«Не уволит, Андреич. Что, первый раз?» — успокаивал Павлик.
«Уволит. Именно потому, что сегодня я ему очень нужен, а завтра буду совсем не нужен, даже вреден, — опять наслюнявил и исковеркал губы Андреич. — Дело в том, что сегодня наше предприятие должен посетить один весьма солидный человек, важная городская персона... — Здесь Павлик непроизвольно улыбнулся. — Не смейся, Павлик, действительно важная. А для меня этот человек до сих пор (без доли фамильярности) — просто Петя — однокашник и друг юности. Наш директор в нем крайне заинтересован, особенно теперь, можно сказать, жизненно заинтересован. Ты не можешь себе представить, насколько — жизненно. Моя задача, как сейчас говорят, и состоит в том, чтобы их свести, директора и Петю, Петра Петровича».
«Тем более никто тебя не уволит, Андреич».
«Не скажи, Павлик. Директор наш большой мастер представить любое дело в таком свете, что третий, даже если он и близкий, и ближний, моментально становится лишним».
«А друг твой?»
«Кто в юности друг, в зрелые годы — обуза».
Павлик сквозь пиво изучал состояние Андреича. Лицо у Андреича и сегодня, вопреки колкой, болезненной сивости, по-прежнему оставалось почтенным. Почтенным оно выглядело потому, что было мягким, но внимательным, ироничным, но терпеливым. Сегодня оно к тому же казалось вытянутым, между тем как трезвый Андреич иногда одутловато, округло мрачнел. Его бежевая и чистая рубашка с короткими рукавами сегодня была расстегнута на лишнюю пуговицу, и на груди Андреича заметно дымился крестик в темных и белых волосах вперемешку.
Павлику и раньше нравилось пить пиво с Андреичем, потому что тот умел говорить как-то очень красиво, но при этом понятно. Больше никто из знакомых Павлика так красиво и вразумительно почему-то не мог говорить. Особенно ровесники Павлика гнушались выражать мысли связно: подразумевалось, что речь как нечто последовательное и протяжное — это уж совсем «голимо» и «западло». Павлику было любопытно, кто кого так хорошо научил говорить в семье Андреича — Андреич жену или жена Андреича. Павлик хотел было уже спросить у Андреича, как зовут его жену, но решил, что лучше узнает потом у кого-нибудь другого.
Какое-то потрескавшееся, но подобострастное лицо наклонилось к столику и спросило у Андреича: «Петрович, не выручишь?» — «Завтра, Аполлинарий Львович, — правдоподобно ответил Андреич и уже для Павлика уточнил: — Ты себе представить не можешь, как быстро человек из Николая Андреича превращается просто в Петровича».
Запахло многослойным ссаньем: рядом остановилась, в рыжем косматом шиньоне, из-под которого не выбивалось ни одного живого волоса, пьяная тетка, с хаотичными напластованиями на спине и ногах.
«Ой, какой красавец! — неожиданно бодро сказала она Павлику и поправилась: — Пардон, красавéц. Как тебя зовут? Не хочешь говорить, не говори. У меня к тебе есть коммерческое предложение на сто долларов. Ко мне один красавчик ходит, типа тебя, раз в месяц, я ему за услугу, сам понимаешь какую, всю свою пенсию по инвалидности отдаю. Всю. Хочешь, тебе буду отдавать? отдаваться? Ха-ха-ха! Хочешь? Вся. Я щедрая! Я, между прочим, была директором этого комплекса — теперь Славянским, мать вашу, базаром назвали».
«Валька, уймись», — с похотливой энергичностью рассмеялся старик за соседним столиком.
«Я не Валька, я Валентина Михайловна. Прошу любить и жаловать».
«Почему не Валентина Ивановна?» — подошел толстеющий, как кувшин на гончарном круге, джигит.
«Михайловна я. Не надо мне, Рашид, чужие заслуги клеить».
«Э, вали отсюда!» — толкнул Рашид Вальку раздраженно, уже не шутя.
Видимо, Рашиду не понравилось не то, что Валька сильно воняла, а то, что она сделала ему замечание, как ему показалось.
«Раскольников наших дней не будет убивать старуху-процентщицу — он пойдет к ней на содержание и разорит до нитки, — сказал Андреич. — Эх, Павлик! Павлик Миловидов! Не обижайся, но почему-то мне кажется, что в вашем поколении, к сожалению, ничего, кроме молодости, нет. А молодость тратится быстрее денег».
«Ерунда! — пошел в атаку очкарик и хлопнул наконец бейсболкой о стол. — Все мы русские! И они тоже».
«Кто — они?» — внешне агрессивно переспросил Павлик.
«Теперь всякий пьяный мужик называет себя русским», — сказал Андреич.
«Андреич, ты всегда так прикольно говоришь!» — хмелея, порадовался за Андреича Павлик.
«Русский человек, уж коли о нем некстати зашла речь, порой словно робеет перед величием родного языка. Произнесет какое-нибудь слово и вдруг засмущается того, что это он это слово произнес», — сказал Андреич.
«Фигня все это!» — продолжал обращать на себя внимание растрепанный очкарик.
«Заткнись, пожалуйста!» — сказал Павлик и наконец начал хохотать над очкариком, как над нелепой птицей.
«В последнее время, — тоже засмеялся Андреич, — появился странный тип очкариков — очкарики-неинтеллигенты, очкарики-жлобы (раньше такого не было), с такими грубыми повадками, что им могли бы позавидовать даже обычные жлобы, не очкарики».
Очкарик снова облачился в бейсболку, но снял очки; глаза у него оказались совсем белесыми.
«Другое дело, — утешил Андреич очкарика. — Без очков у вас лицо будущего мученика».
Очкарик опять пошел на рокировку: сорвал головной убор и надел очки, временно растерявшись.
Павлику позвонил директор, беспокоясь, когда они появятся на работе. Павлик перезвонил Сереге; у того, как оказалось, возникли проблемы с колесом, и он заехал «в ближайший шиномонтаж», обещал, что скоро будет. Андреич предположил, что Серега не преминул лишний раз подхалтурить, кого-нибудь в Купчино или на Гражданку «по пути» подбросить. Павлик согласился, что Серега еще тот хапуга.
«Знаешь, Павлик, я Серегу ждать не буду, — сказал вдруг ровно осоловевший Андреич. — И никуда с Серегой не поеду».
«Чего это ты, Андреич?»
«Серега твой считает меня человеком никудышным, даже не пропащим (это как раз не страшно), а именно никудышным, зря коптящим белый свет, ненужным», — с усмешкой резюмировал Андреич.
«Ну и что! Да Серега — тупой! Тупой по жизни», — настаивал Павлик.
«Нет, по жизни, как ты говоришь, он как раз не тупой, а так, — разумеется, тупой. Поэтому я с ним и не поеду. Зачем? Какой резон? Я, пожалуй, вот что сделаю: я поеду к Пете, к Петру Петровичу, и вернусь на его машине вместе с ним к обеду. Пусть директор нас ждет».
«Не приедешь ведь, Андреич?» — засомневался Павлик.
«Пусть директор ждет, — чересчур твердо поднялся Андреич. — Представляешь, один алкоголик завязал и начал борьбу с мировым злом. Жалкое зрелище, я тебе скажу!»
«Андреич, ты больше не пей, — попросил Павлик по-родственному. — У тебя очень хорошая жена. Я ей сегодня звонил».
«У моей жены такие глаза, о которые можно порезаться. А с ее лица хочется не только воду пить, но и что-нибудь есть».
«Всегда можно начать жизнь с чистого листа», — испугался Павлик сорвавшейся с собственного языка фразы.
Андреич улыбнулся, больше — ноздрями: «На днях хотел начать всё с чистого листа. Но ни одного чистого листа под рукой не нашлось — одни исписанные беспорядочным почерком, причем — и с лица и с оборота...»
Ольга Юрьевна успела обвить шею Павлика, когда он поднимался в офис по безлюдной служебной лестнице. Ольга Юрьевна была в тесном, пятнистом, милитаристском трико и джинсовой кацавейке с разноцветными стразами и мехом где попало; окутана она была новым приятным запахом, который от ее активных действий превращался в неприятный. Жена директора, надо отдать ей должное, если и распускала руки, то — не очень низко, даже по заднице не похлопывала, а ширинки касалась лишь жаром своего оголенного, слегка вислого живота. Грудь у нее была странная, небольшая, но начиналась от горла и какая-то слипшаяся, без ложбинки. То ли дело груди у Юли — как опрокинутые купола.
«Мне нравится, когда ты возбуждаешься. Когда ты возбуждаешься, ты становишься добрее, — шептала Ольга Юрьевна. — Ты обещал, Павлик, что сегодня мы встретимся».
«Завтра, Аполлинария Львовна», — правдоподобно сказал Павлик, милостиво улыбаясь.
Ольга Юрьевна выронила из пальцев телефон, он небольно упал на ногу Павлику. Ольга Юрьевна несколько секунд смотрела в глаза молодого человека, затем, кокетливо кряхтя, полезла за телефоном, напрягая синеватую талию. Жена директора была не кровь с молоком, а черника со сливками.
«Рыцарь, тоже мне!» — выпрямилась Ольга Юрьевна зардевшаяся.
«Рыцарство в наши дни — всего лишь одна из форм мошенничества», — выпалил Павлик, как Андреич.
«Да? Не обманывай меня, Павлик. Я этого не заслужила», — сказала она, зачем-то чуть не разрыдавшись на последнем слове, как маленькая и справедливая девочка.
«Она хорошая, — думал Павлик о жене директора. — Не сексуальная, не современная, не веселая, но хорошая».
К концу рабочего дня Павлик решил уволиться. Андреич, что было не удивительно, на работу так и не пожаловал ни к обеду, ни позже, ни один, ни с пресловутым Петром Петровичем. Телефон Андреича продолжал молчать, напрямую звонить важной персоне директор не осмеливался: видимо, Андреич ничуть не преувеличивал теперешнее положение друга юности.
Директор на Павлика накричал, что тот не выполнил его задания, не привез «живым или мертвым» Андреича и что зря, по сути, получает зарплату.
В течение месяца директор соблюдал некую диету, и сегодня было очевидно, что он действительно сбросил вес, но стал выглядеть при этом почему-то не помолодевшим, а резко состарившимся. Лысина директора смотрелась пересушенной в духовке, и лицо было хоть и натянутым и умащенным, с подстриженными бровями, но все равно каким-то нездоровым, как «у будущего мученика», вспомнил Павлик; и торчало это раздосадованное, детско-стариковское лицо из мешковатого, обвалившегося воротника. Голос у похудевшего директора стал куда более хлестким, нежели чем был у толстого.
«Что ты сидишь тупо?» — почти свистел директор в сторону Павлика.
«Хорошо, я буду стоять тупо или ходить тупо, или лежать тупо. Что вам больше нравится?» — Нравилось Павлику казаться невозмутимым с директором.
«Не умничай — ты не Андреич», — с трудом сдержался директор.
Павлик улыбнулся, потому что знал, что на самом деле директор хотел сказать другое: «Дрочи тупо!»
Почему-то Павлику было неприятно сознавать, что он может в любой момент наставить рога директору.
Серега от директора вышел сухим из воды и поэтому буркнул с максимальной самостоятельностью, что, дескать, ему делать больше нечего, как только алкашей возить на «тойоте».
«Ну ты и тупой!» — сообщил Сереге Павлик, брезгливо озирая якобы не самого Серегу, а его породу. Особенно противны были Павлику Серегины глаза. Их неряшливые прорези с утолщенными веками напоминали дырки на камвольных, сползающих носках.
Серега хотел было рассвирепеть, взбелениться и назвать Павлика тем, кем считал, — альфонсом, но вспомнил, что видел однажды Павлика дерущимся — и тот был эффективен и победоносен.
Павлик смотрел на дисплей телефона и все еще надеялся, что Юля позвонит. Тогда он ей скажет, что хочет уволиться отсюда к черту, поступить на вечернее куда-нибудь учиться, а главное, он хочет предложить ей руку и сердце, то есть хочет жениться и жить планомерно и правильно, по нарастающей, а не как придется. Он знал, что Юля нисколько не опешит, потому как нисколько не поверит.
Телефон зазвонил, пришло сообщение от Персоны: «Жду на Невском, целую в нос».
Павлик для наглядности зажмурился, но все равно не смог предметно представить ни лица, ни фигуры, ни золотого халата Персоны. Внутри, в темноте, прямо по опущенным векам, как по монитору, бесконечно бежала справа налево светящаяся старинная строка: «Таинственная порочная роскошь, таинственная порочная роскошь», — кажется, без орфографических ошибок.
Павлик рассмеялся: «Персона-процентщица!»
Под открытым окном прошла стайка подростков; один захлебывался от восторга перед невиданностью и неслыханностью жизни: «Прикинь, все повелись. Было очень ржачно!»
Павлик переждал сухую грозу с потолочными трещинами по всему небу, шквалами пыли, без единой капли воды, и, когда опять стало по-летнему ясно, решил идти и по дороге проведать Андреича, если тот, конечно, вернулся, если вернется сегодня вообще.
ОККЕРВИЛЬСКАЯ ДУША
До последнего момента Андреич считал, что относится к людям, которые могут с легкостью обходиться без других людей и которым бывает интереснее с самими собой, нежели с кем бы то ни было, — к ценителям подлинного одиночества, долгого, неумолчного, созидательного.
Жена, с которой Андреич пребывал в размолвке незаживающей и, по всей видимости, уже неразрешимой, самопроизвольной, инерционной, ни от кого и ни от чего давно не зависящей, а зависящей от густоты обстоятельств и оборотов времени, с детьми вторую неделю проводила отпуск на даче. Он не звонил ей, она не звонила ему; молчали пришибленно или деликатно сын с дочерью.
Может быть, оттого что утро получилось слишком поздним и чересчур погожим (солнце грело спящее лицо, как кошка), даже знойным и безветренным, Андреич чуть ли не впервые в жизни испытал наконец-то приступ одиночества, то есть оно было на равных с Андреичем и даже преобладало в нем, пузырилось и булькало на каждом шагу. Тишина в квартире вдруг стала перенасыщенной, невыносимой, чужой, пропитанной снующей враждебностью, тем более что в открытые окна бесцеремонно поступали самые ничтожные городские звуки: дискретное шипение дороги, бытовые возгласы, лай, хлопанье дверцы автомобиля, редкий скрежет трамвая и даже неслышная, но от этого не менее явственная вибрация атмосферы.
Невозможно было набраться мужества, а скорее всего — дикости и как ни в чем не бывало поехать на дачу; из этого передвижения вышел бы даже не внутрисемейный, а общественный конфуз: жена встретила бы немым «вон», а дети — краткой радостью, на глазах прокисающей, как молоко в грозу, и оборачивающейся неловкостью, никогда не забываемой впоследствии.
Одним словом, то, что Андреич различал, а различал он тоску и скуку, теперь стало неразличимым. Ранее он думал, не без удовлетворения, что скука — это телесная тоска; сегодня тоска и скука встали в один синонимичный ряд однозначно и материально, в полной солидарности друг с другом.
Даже любимые книжные шкафы были скучны. Даже самые одинокие творцы не могли вернуть равновесие. Андреич держался за корешки, но книги с полки не снимал, вспомнил с юношеской ласковостью: «Как с полки, жизнь мою достала и пыль обдула». Все они были нежными людьми, думал Андреич. Почему публика не любит Толстого так, как она любит Чехова? За что Гоголю эта его недовоплощенность, если она, конечно, не мнимая? Фамилия коменданта Петропавловской крепости в то время, когда в ней сидел Достоевский, была Набоков. Неужели и этого совпадения Владимир Владимирович не мог простить Федору Михайловичу, двадцатый век не мог простить девятнадцатому? А главное, что перед лицом немедленного тлена Кант или Павел Флоренский, эти глыбы? Как нелепо, наверное, быть Кантом перед лицом смерти.
Андреич стремительно собрался (бежевая рубашка с короткими рукавами, которые он подкатал дополнительно для внешнего оптимизма, широкие тонкие джинсы, шелковисто соприкасающиеся с ногами, неснашиваемые мокасины, в которых он всегда боялся подвернуть стопу, но ни разу не подвернул, солнцезащитные очки, скрывающие возраст глаз и поэтому молодящие лицо) и вышел из квартиры, где во всех пяти зеркалах было неясно, неверно и неточно.
Невский проспект в этот полдень изнемогал от какого-то технического перегрева, спертой духоты витрин, пышущего сияния капотов, косноязычного топота каблуков, чуждых друг другу прохожих, безадресных смешков, деланной давки, единичной утлости, исчезновения реминисценций. Люди утопали в толпе комфортно, с головой.
Андреич еле успел сойти с Аничкова моста на хрупкую набережную Фонтанки — и схватился за парапет, как за сердце: у Андреича было физическое ощущение того, что Невский проспект, сделай он по нему еще пару шагов, стер бы его в порошок; и этого порошка, зловонного, комковатого, мигом отсыревшего, набралась бы всего одна горсть.
«Черт-те что! — заключил Андреич. — Чирей на ровном месте. Брр. Респектабельный несчастный мертвец; огромная улица-мумия, набитая нами, как опилками, умащенная и расцвеченная».
Хорошо стало Андреичу только на Моховой, в кафешке-створе. К спиртному он пока не притрагивался, наслаждался простецким кофе, трезвостью, ее претерпеванием и первым в своей жизни, только что приключившимся с ним психическим расстройством.
По стенам были развешаны афиши неизвестных кумиров, линолеум был окроплен и заляпан, некрасивая, мозглявая молодежь шутила и хохотала конфиденциально, с оглядкой, почему-то не эротично, не парадоксально, не литературно. Рыжая девица с острыми скулами, исследуя Андреича, стала глумливо подворачивать рукав рубашки своему дружку, веснушчатому, словно щетинистому, который чурался ее движений привычно, на грани аффекта, не первый день.
«Очевидно, новая сексуальность, — подметил Андреич, — отличается от классической отсутствием влажности, слюнок страсти, секреции».
Было странно, что для центра города в обиходе так и не прижилось обозначение «Старый Петербург». Пестрядевое пространство было раскалено до невероятности.
Книжный магазин на площади Восстания с чересчур подстрочным названием, может быть, в силу госпитальных потолков и музейного микроклимата, несмотря на тесноту печатной продукции, представал пустынным и голым. Андреич выпил эспрессо, посмотрел старый фильм с бледным, дневным видеорядом и великолепно грассирующим переводом; к новым книгам Андреич не притрагивался, опасаясь всякий раз, что это опять не книги, а роботы, закамуфлированные под переплеты.
Он вспомнил, что на Староневском часто встречал старых знакомцев, синхронно искажавшихся в памяти и действительности. Здесь где-то жил Матвеев; его безмолвное безденежье сменялось абсурдной экспрессией. Никогда не узнавал Андреича Лернер, даже спотыкаясь рядом, а Андреич патологически стыдился узнавать Лернера с его, красного дерева, отшлифованным лбом. По-настоящему не замечали Андреича только Татьяна и Евгений: первая была подслеповатой, но очки не носила, второй мог со временем стать сумасшедшим, а с веками — святым. Однажды, благодаря празднику, Андреич и Евгений, спустя годы, радостно узнали друг друга на углу с Исполкомской. Андреич сказал: «Христос воскрес!» — а Евгений, благодарно опешив, подтвердил: «Воистину воскрес!»
Андреич возвращался домой на метро. Под землей обязательно встречается человек, напоминающий тебя самого брюзгливым или окаянным взглядом, или женщина, напоминающая твою жену в безупречном девичестве. Нас таких много, а мытарств — два десятка.
Андреичу было больно представлять скуку жены. Она ничего не делала понарошку; всерьез тяжело болела, всерьез чувствовала себя счастливой, всерьез надеялась на детей. Ему было бы сейчас покойно, если бы он был уверен, что жена теперь не знает ни тоски, ни самоуничижения, а знает только ненависть к нему.
«Дома останется лечь и ждать, — думал Андреич. — Не будешь ты ждать — вскочишь как миленький. Неизвестно, сколько еще времени тебе быть одному. Что, если до самого конца, до предела, до окоема впереди?»
Он доехал до конечной станции, до «Дыбенко». Он любил ходить через парк, который теперь наполовину застраивался. Забавно было наблюдать, как разошлись, почти касаясь друг друга, два силуэта в черных одеждах. Один и второй были длинноволосыми — священник и юноша-металлист. Невероятно, но юноша в заклепках, лицо которого было не менее сосредоточенным, чем у молодого батюшки, двигаясь, старался не раскачивать дланями, а слегка прижимал их к бокам почтительно, по-монашески.
Через парк в заросшем рве, словно в среднеазиатском арыке, ползла по-пластунски, как арестант или новобранец, худосочная местная речушка Оккервиль — дальняя родственница Невы и ближняя Охты. И цветом воды, и кроем берегов, и общей изношенностью и живучестью она походила на видавшую виды солдатскую шинель. Никакую другую питерскую речку Андреичу не было так жалко, как эту. За другие реки и каналы было кому заступаться, потому как за них было почетно заступаться — и за Мойку, и за Обводный, и за Пряжку, и даже за Смоленку с Карповкой. Какой смысл было вставать на защиту этой в общем-то отнюдь не петербургской, а какой-то заштатной простолюдинки, у которой если что и оставалось ценного, то только ее звучное, на счастье, иностранное имечко!
У Оккервили Андреич уселся на узкое поваленное деревцо. Рядом было небрежное подростковое кострище с мятыми пивными банками, пакетиками от чипсов и фисташковой скорлупой. Река была вонюча, непроницаема, но в ней барахтались как ни в чем не бывало, с благопристойным видом несколько уток-доходяг, а по глади плыли листья, сучья и свежие ветки, некоторые — с мелкими, зелеными, неизвестными плодами.
«Течет и даже на карте значится, — начал Андреич думать натурфилософски. — Вот и я такой же, с мутной, тухлой, запущенной душой. Живу и где-то значусь... Реально ли очистить реку? Конечно. Всем миром навалиться, всем окрестным людом — и очистить. И больше не гадить в нее! А вслед за рекой очистится и душа, или вместе с ней. И не гадить больше в душу и душой не гадить! К сожалению, самое трудное в наше время — вдохновить народ на добрые дела. Вон всюду дома, полные людей, жаждущих чистоты. Но чистоты всё больше для себя, для своей семьи. Неужели не понимают, что, как бы ты ни старался не наследить у себя и в себе, если нет всеобщей чистоты, если кругом грязь, все равно какую-нибудь мерзость в дом занесешь на подошвах? Остается надеяться на чудо? Завтра встану, подойду к Оккервили — ба! А вода-то в ней, в Оккервили, — новая, прозрачная, ключевая, такая, что в ней крестить младенцев можно и самим исцеляться».
Андреич знал, как бы сейчас отреагировал на его мысли Евгений, как бы он сурово взмолился: «Чудо?! Разве можно ждать чуда от дьявола?!»
Саднящее садящееся солнце усыпляло — комариный скрежещущий писк будил.
«Отец! — услышал Андреич сверху. — Ты здесь наших не видел?»
Рядом возвышался парень в майке-тельняшке и голубом берете-ореоле далеко на затылке. Парень не выглядел бугаем, но был прямой и тщательно мускулистый по всему телу.
«Нет, — сказал Андреич, догадавшись, что сегодня был День ВДВ. — Ваших было бы слышно».
У десантника было пропорциональное лицо с безошибочно завершенным овалом, несмотря на то что чернявые усики были как будто от другого человека. И еще казалось, что его глаза с годами будут становиться все глубже и глубже, словно сама жизнь их будет вбивать в череп, как сваи.
«Ладно, тогда я отолью. Ты не возражаешь?» — спросил десантник и, подойдя к самой воде, стал громко и толсто лить в Оккервиль.
«Не надо бы в воду», — сказал Андреич в спокойную треугольную спину.
«Это разве вода? — продолжал напористо звучать десантник. — Не бойся, ничего нового я туда не добавлю. Наоборот. У меня моча хорошая».
Руки у десантника опустились, и он повернулся к Андреичу застегнутый.
«А ты напиши, отец, губернатору, — советовал десантник, — пока он у нас — женщина: пусть речку в порядок приведут».
Десантник смотрел на Андреича не агрессивно, не презрительно, не безучастно.
«Ты здесь совсем скиснешь, отец, у этой сточной канавы, — предупреждал десантник. — Тебе надо сейчас подраться. Поехали с нами в центр. С ментами подеремся. Ты когда последний раз дрался, отец?»
Десантник услышал своих, яркий свист и плотный рев, улыбкой поднял «чужие» усики к носу и в три прыжка исчез.
«Когда я дрался последний раз? — переспросил Андреич. — Евгений в этом случае говорит, что надо трудиться и молиться, трудиться и молиться, без зазоров, без лакун».
До сумерек Андреичу не хотелось возвращаться в безлюдную квартиру. Но еще коптили белые ночи, и сумерки приходили умозрительными. Зато на законном основании в комнатах можно было зажечь свет, приготовить холостяцкий ужин, включить телевизор с глобальными несчастьями, уснуть в кресле, услышать отдаленный, вероятно, у соседей, с натужной искренностью, разговор о том, что еще, кажется, в девяносто восьмом году в России произошел настоящий бунт: в Вышнем Волочке некий предприниматель вместе с учителем химии решили захватить оружие в местном РУВД, освободить из тюрьмы уголовников, собрать сочувствующих и двинуться на Москву свергать Ельцина и восстанавливать монархию, и вообще, пока не умрешь — ничему не поверят.
ЖЕНА ИЩЕТ МУЖА
И снова она прошляпила срок, когда в ее муже, впрочем, теперь довольно номинальном, в очередной раз начал оживать дьявол. Это происходило, как правило, трижды в год через приблизительно равные промежутки времени. К сожалению, не абсолютная точность этих перерывов укачивала, как тряская езда в автобусе; вечной же бдительности, пожалуй, не существует.
Муж Нины Алексеевны Николай ни в чем другом не был таким постоянным и непреклонным, как в своих срывах, иначе говоря, запоях, загулах, «уходах в плавание», обычно длившихся неделю. Далее была неделя покаянного страдания, ради которого, как догадывалась Нина Алексеевна, Николай и сходил с рельсов, как будто, думала она возмущенно, в мире и на земле уже совсем не осталось другого, трезвого, страдания и горя. Затем, оклемавшись, Николай не совсем удачно шутил: мол, у тебя же бывают критические дни, вот и у меня бывают свои критические дни.
Предзапойное настроение мужа Нина Алексеевна уже научилась распознавать невооруженным глазом. С одной стороны, Николай постепенно становился чересчур крикливым с детьми (с ней, наоборот, был особенно, приглушенно толерантен), его нетерпеливость и какая-то излишняя, выморочная дисциплинированность росли как на дрожжах; с другой стороны, он делался чрезвычайно, патологически опрятным, дольше находился в душе, нервозно выбирал, что надеть, и невероятно скрупулезно, сомнамбулически начищал туфли, до такой степени блеска и, кажется, стерильности, что в них можно было ложиться в постель без зазрения совести — то есть, судя по всему, исподволь готовился к празднику и полному крушению всякой ответственности.
И на сей раз Нине Алексеевне трудно было не увидеть в муже нарастание этих проклятых примет, почти уже, как стигматы, физиологических. Однако сам стартовый день Нина Алексеевна проморгала. Во-первых, Николай отличался наитием и любил иногда путать карты: в это утро он обулся в старенькие мокасины на босу ногу и небрежно, не заправляя в брюки, надел излюбленную бежевую рубашку с коротким рукавом. Во-вторых, это утро у самой Нины Алексеевны вышло не вполне обычным — смутным и каким-то молодым. Впервые за долгое время ей вдруг приснился настоящий эротический сон, который тем не менее напоминал давнюю пылкую явь. В сумерках она шла с юным спутником над обрывом у Залива меж сосен, по их жилистым толстым корням, за которые иногда больно цеплялась. Спутником был тот самый красавчик, коллега Николая по работе, который однажды приводил его пьяного домой, а потом приходил еще зачем-то с какой-то разломленной надвое улыбкой. Звали его то ли Павлик, то ли Славик, кажется, все-таки Павлик. Во сне, когда бледно, по-августовски смеркалось, Нина Алексеевна неожиданно покатилась в обнимку с Павликом по песчаному склону обрыва. Песок был сырым и теплым. Кожа у Павлика была, как песок, горячей, потной и слегка, нежно шершавой, едва абразивной. А ее кожа от его рук почему-то покрылась крупными, стыдливыми мурашками. Любовники катились долго и дурашливо, пока Нина Алексеевна не закричала низким, севшим голосом от полнокровного удовольствия.
Проснувшись, она даже стала стряхивать с простыни несуществующие песчинки и хвойные иголки. Она вспомнила, остановив приятное головокружение, что руки у Павлика были руками Николая, потому что единственное, что оставалось в Николае по-юношески привлекательным, были его руки, которые в дни запоя надувались, а потом опять принимали благовидную форму. Руки у него были какими-то думающими, поэтому он любил ими тереть свои виски. Справедливости ради Нина Алексеевна признавала, что и лицо у Николая временами бывало совершенно одиноким и духовным, благодаря чему, каламбурила она, из Николая при ином раскладе получилось бы неплохое духовное лицо.
Скорее всего, Николай догадался, какой именно сон увидела его жена. Он не улыбался никак — ни гадливо, ни снисходительно. Он вообще в это утро старался не смотреть в ее сторону. Съел яичницу, пялясь заинтересованно в телевизор, — и ходу. Она заметила, наблюдая за ним в окно, что осанка у него стала намеренно чинной, а походка — ликующей. Ей все было ясно; она даже собралась крикнуть ему вслед, но этаж был высоким.
На третий день муж отзвонился и сказал, что она еще пожалеет и о нем и его и что сегодня у него последний день, и, что было совсем не похоже на него, даже грубо, баритоном заплакал, а потом отключился, кажется, разбив телефон с размаху, потому что и сам никогда не мог выносить театральщины. Она была уверена, что и на этот раз ничего страшного с ним не произойдет. Он порой оправдывался тем, что он, видите ли, феникс, правда, все более и более чахлый феникс.
Нина Алексеевна возвращалась с работы, отчетливо чувствуя в себе заскорузлый покой несмотря на то что директриса-истеричка опять трепала ей нервы, издалека, через других, несмотря на то что Нина Алексеевна не могла понять, что происходит с сыном. Нине Алексеевне почему-то приятно было думать теперь метафорически, а именно, что подлость из директрисы сыплется, как картошка из рваной авоськи, и что эту предметную подлость можно за директрисой буквально собирать в ведро.
Она видела женщин за рулем красивых, покатых автомобилей, своих ровесниц, но уже не завидовала им. В церковь она не могла зайти, потому что ей было неловко понимать, что обычная молитва может изменить ее судьбу. Она знала, что вера — это тоже дар и что она, Нина Алексеевна, к несчастью, бездарна и в этом. Ее удачливая подруга Светка говорила, что жить надо так наполненно, так предельно, чтобы некогда было думать, думать о плохом, о смерти. На работе уборщица Ольга Ивановна, которой было семьдесят лет, рдела, как девственница. Нина Алексеевна вспомнила Павлика из сна. Ей казалось, что этот славный Павлик в жизни совсем не ласковый, уютный и сильный, потрескивающий мускулистой страстью, может быть, даже внимательный, но не ласковый, вернее, не иронично ласковый. Нынешним молодым людям, размышляла Нина Алексеевна, нужна опора в женщине, может быть, мир опять одичал, опять нуждается в матриархате. На этом слове Нина Алексеевна одернула себя: ей неудобно было обобщать, мол, всё и вся гибнет, пусть об этом судачат пьяные мужики. Вышла бы замуж, улыбалась Нина Алексеевна, за Сашку Сухотина или за Леву Цейтлина, и все было бы по-другому; евреи, по крайней мере, не пьют. «Ты еще не знаешь, как евреи пьют!» — вспомнила Нина Алексеевна восклицание мужа.
У него был приятель, еврей и кандидат исторических наук, который пропил имущество и повесился в пустой комнате в коммуналке; и муж теперь иначе как благоговейно о нем не отзывался. Нине Алексеевне было странно, как он мог, не этот несчастный самоубийца, царство ему небесное, а Николай, ее муж, разбазарить то, что так восхитительно связывало их первые годы, ее и его, эту невыносимую тоску друг по другу, эту очаровательную веселость касаний и объятий. Странным было и то, что память в ней, в Нине Алексеевне, зачервивела и теперь больше угнетала, нежели тешила. Давным-давно ей было лестно, когда он шутливо называл ее нежноногой, горбоносой, косматой и далее в рифму — вылитой Ахматовой. Теперь Нина Алексеевна случайно прочла где-то, что отец или отчим у Ахматовой был безбожным кутилой, может быть, таким же, как Николай. Внезапно Нина Алексеевна сообразила, что, по сути, до сих пор не знает в точности, какие женщины на самом деле нравились и, возможно, еще нравятся Николаю, не знала даже — толстые или худые, блондинки или брюнетки. Достоверно она знала только то про Николая, что он совершенно не разбирался в людях. Он, разумеется, хорохорился, утверждал, что разбирается в хороших людях и совсем не разбирается в плохих, разбирается в умных, а не в дураках.
В итоге сам в дураках ходит пол жизни или уже всю жизнь.
Ее уже не беспокоил беспорядок дома. Последнее время она довольная проходила мимо книжных шкафов, которые в их квартире стояли повсюду. Благодаря Николаю у них скопилось много хороших, настоящих книг. Ей становилось не по себе, когда, будучи в гостях в современных благополучных семьях, она обращала внимание на то, что даже если в доме и были книги, то книги эти были какими-то глянцевыми уродцами, все равно что если бы в дорогостоящем холодильнике лежал не сервелат, а вареная колбаса сомнительного происхождения.
Сын Алеша без эмоций сообщил, что звонили с работы отца и предупредили, что, если Николай Андреевич завтра не выйдет, его уволят за прогулы. Кроме того, бубнил сын, только что приходила соседка и сказала, что видела отца, избитого, в крови, в парке на берегу Оккервили в компании бомжей.
«Пойдем, Алеша, поможешь мне его привезти», — попросила Нина Алексеевна сына.
«Я не могу. Я уже тороплюсь», — ответил сын.
Нина Алексеевна хотела было всплеснуть руками от негодования, завизжать, наконец, безумно, залепить сыну оплеуху, но все силы ее отняло само намерение действовать яростно. Она ровно произнесла, не глядя на сына: «Вы очень быстро списываете людей со счетов».
Она сложила в сумку брюки и рубашку мужа — там, на месте, его переодеть. Алеша сидел в наушниках перед компьютером и монотонно кивал головой. Дочь до сих пор находилась в университете. Нина Алексеевна вспомнила недавнюю страшную историю, как одну женщину, учительницу, убил собственный сын, чтобы продать квартиру и на эти деньги отправиться на Ибицу развлекаться в клубах. Нина Алексеевна хотела сию минуту пересказать этот случай Алеше, но ей противно было теперь кричать, чтобы достучаться до него. Она представила в деталях свою болезнь, боли, с содроганием — больницу, которой ей, безусловно, вскоре будет не избежать. Сумка не была тяжелой, но Нина Алексеевна подумала, тем не менее, что женщина становится пожилой, как только начинает ходить в магазин за покупками с тележкой.
До парка с тухлой речкой было рукой подать. Нину Алексеевну за пятьдесят рублей довез до мостика азербайджанец средних лет, но ждать возвращения пассажирки с ее покалеченным супругом отказался. Она не стала его упрашивать, потому что разглядела в его лице внезапно появившийся, но уже ничем не пробиваемый, неосознанно чванливый затор.
Небо оставалось светлым, дневным и местами даже ярким, но внизу уже почернело, как будто темень происходила не сама собой, не от природы, а плавными потоками стекала с крыш девятиэтажек.
Нина Алексеевна пошла на пьяные голоса. Под ногами у нее началась мягкая, лесная тропинка. Вода в Оккервили кое-как сквозь кусты отражала закат. У взмыленного берега едва сквозили лежащие и сидящие силуэты. Нина Алексеевна замерла и прислушалась. Мата не было.
«И вот он от обиды на весь мир, а вернее, от гордыни, нашей хамской русской гордыни, залез в пещеру и лег там умирать, потому что внутри он давно умер и ждал только внешней смерти. Больше всего на свете он теперь жаждал назло всем воскреснуть».
Нина Алексеевна догадалась, что так разглагольствовать мог только ее муж.
Кто-то другой встрял с шепелявой, важной осторожностью: «Им помогает черт, нас ждет Бог».
И опять — обстоятельный голос мужа: «Косвенным доказательством другой, вечной жизни является то, что умные, порядочные, святые люди в этом мире, как правило, — изгои, зачастую добровольные изгои, как будто они знают наверняка, что им воздастся, и воздастся им только в жизни другой, а если и в этой, то только уже после них».
По дороге проехала большая машина, и свет ее фар достиг русла речки. Нина Алексеевна узнала джинсовую куртку мужа и над курткой его примятую макушку. Лицо мужа было опухшим, в кровоподтеках и серой щетине; глаза совсем не блестели.
«Пойдем домой, — сказала она мужу и дернула его за поднятый воротник куртки. — Идти сам можешь?» — «Могу», — ответил он и поднялся с легкостью. Крови на нем не было, только пахло от него скверно.
Нина Алексеевна поймала «жигуленка» с не очень, слава богу, брезгливым пенсионером, сунула мужа на заднее сиденье, откуда он успел за короткий путь спеть свою любимую «Круглолица, бела...»; но спел, почему-то ломаясь, деланно грассируя, без обычной проникновенности.
Муж долго и громко плескался в ванной. Нина Алексеевна думала, что теперь дня два в квартире будет вонять гремучей смесью перегара и одеколона мужа, которым он будет беспрестанно прыскаться в надежде перебить тяжелый дух похмелья.
Когда муж вышел из ванной, сын воскликнул: «Мама! Ты кого привела? Посмотри».
Вместо мужа в прихожей в мужниных штанах и футболке стоял распаренный незнакомец, почему-то парень лет двадцати пяти. С Николаем его роднили только рослая сутулость и цвет волос, поднявшихся после шампуня и засверкавших. Лицо его, даже промытое и молодое, оставалось оплывшим, и поэтому глаза его казались удаленными, неразличимыми, взиравшими на Нину Алексеевну, как из чулана, преданно, но на всякий пожарный — с готовой агрессией.
Нина Алексеевна всплеснула-таки в этот вечер руками, которые упали затем сами по себе к бедрам.
«Боже! — с трудом засмеялась она и направилась к выходу. — Ошиблась. Не того привела».
«Мама, а с этим что делать?» — закричал сын.
«Я с вами пойду, — опередил Нину Алексеевну этот. — Я знаю, где ваш муж. Я помогу».
Нина Алексеевна вызвала лифт, который поднимался к ним с тяжестью, словно не пустой, с опасным сюрпризом.
«Не найдете вы его, — бросил сын с порога. — Опять притащишь кого-нибудь не того».
Из лифта никто не появился, и они вошли в затхлую кабинку друг за другом — измученная Нина Алексеевна с остатками смеха, как с остатками духа, и преображенный бродяга, в мгновение ока ставший болтливым и оборотистым. Сын слышал, как бомж, картавя, рассказывал матери про отца: «Муж у вас приколист. Говорит, завещаю тебе всё, чего у меня нет».
ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТУ
Предуведомление:
В связи с тем, что все эти Послания были написаны в конце прошлого столетия, они, безусловно, адресовались Первому президенту, в чем вы легко, собственно, убедитесь. Тем более что на самом деле они и ему, Первому, тоже не адресовались, по крайней мере, не отсылались, а писались в стол, ради поддержания эпистолярного жанра в наше довольно несообщительное время.
1. Новогоднее
В Вашем новогоднем поздравлении порвались-таки две-три суровые нитки. Знаменитая на весь мир, выстраданная Вами непримиримость, долженствующая быть в голосе виновато убывающего вместе со своей страной правителя, напугала мои руки так, что они насилу успели к бою курантов откупорить бутылку шампанского. Я едва не опростоволосился перед собравшимися, чего, по правде сказать, они от меня всякий раз и ждут, когда инициатива переходит ко мне.
Но в тот момент сильнее услышанного было увиденное. Я был поражен Вашим галстуком необыкновенно насыщенной, роскошной, византийской красоты. Мне кажется, я испытал его на ощупь — так магнетически он смешался с моим сознанием. Он был, конечно, как и подобает случаю, шит из куска теплой полновесной парчи — набивной шелк телесно-охристого цвета с бронзово-зелеными глубокими отсветами был заткан толстыми пластинами сусального золота. Я воображал его пурпурную, порфирную изнанку, хотя для галстука, насколько я понимаю в этикете, такой диссонанс между лицом и подкладкой, как правило, не приветствуется.
Признаюсь, я не успел запомнить узор на Вашем великолепном галстуке — что-то венчально-венценосное, вензельное, гербовое. Но не примитивный двуглавый орел, во что любит выпялиться какой-нибудь безвкусный депутат, а нечто геометрически-томительное, восточная фата-моргана. Я еще подумал тогда, что если этот главный мужской аксессуар сделан нашей кутюр-эпохой с такой любовью, значит, вся его пышность достойна все же оправдания, как никакая другая пышность во время чумы. Я представил себе чешуйчатый полет жар-птицы, и золотошвейное сияние патриаршего благословения, и пламенно-рыжий блеск отреставрированных кремлевских палат.
После этого я обратил внимание на то, что все трое мужчин за нашим столом сидят тоже в галстуках: и я, и поклонник моей тещи, и мой малолетний сын. На мне был галстук, исподволь радующий глаз, синего шелкового отлива в желтую, поперечную, модную теперь полоску. На своего восьмилетнего сына я повязал узкий галстук именно потому, что он был узкий, красный в черный горошек, хранившийся в шкафу со свадебной поры. И только на тещином поклоннике, добром морщинистом молчуне, в котором за его кротостью и худощавостью виднелись пройденные им пути и пожарища, был галстук, чем-то напомнивший Ваш. Вероятно, трудно узнаваемым орнаментом явно огненнопоклоннического свойства. Однако разница таки была вопиющей между Вашим «уже не-Версаче» и его — любителя понятных шуток — «еще не-Версаче». В одном соседствовала лучезарность с добротностью, в другом — тусклость с тряпичностью. Но то, что принципиального различия между первым и вторым не существовало, привело меня к гуманной мысли о всеобщем подобии всего.
Я думал о том, что Ваше стремление и Ваше намерение облачиться в такой ко многому обязывающий, скипетрообразный галстук, а также некоторые другие Ваши масштабные предприятия, в конечном итоге, сродни моему разорительному порыву закатить лукуллов пир в праздничную ночь, чего у нас в семье не случалось последние лет пять или вообще никогда...
Мы некоторое время говорили о Вас и даже забыли переключить на НТВ, на «Куклы».
Я сказал, что хоть и не голосовал за Вас, потому что для меня это было не совсем органично, тем не менее не могу, мол, не восхититься обновленческой мощью Вашего организма, которую Вы собрали всю в свой неполный кулак и преодолели недуг, пошли на смертельно опасную операцию и стремительно после хирургического вмешательства в Вас оклемались, если, конечно, опять не врет телевидение.
Здесь недоверчиво улыбнулась мне теща, как будто я ее задел за живое. Теща, кстати, тогда проголосовала за Вас, и не столько сердцем (им она никогда не ошибается), сколько рассудком. Ее расчет состоял в том, что пусть, мол, Ваши птенцы ненасытные и склевали все ее сбережения, однако не остается никого, кроме Вас, птицы-отца, кто бы еще мог и приструнить воришек и хоть что-то еще вырвать из их клювиков — в погашение обездоленным. Если же победят другие, не Вы, может быть, и не плохие люди, то скажут ей: кто тебя, глупая баба, разорил, с того иди и спрашивай, с Вас то есть; а мы у тебя пока ломаного гроша не взяли. А что же Вы сможете отдать, если Вас победят? Да ничего! А так, может быть, что-нибудь когда-нибудь и отдадите, расчувствовавшись. Так полагала теща всей своей логикой народной стабильности.
Теща выразила сомнение, что Вы вообще ту нашумевшую операцию перенесли, потому что, как она сказала с горечью: «Мне-то не надо втюхивать, что на третий день после такой серьезной операции, когда сердце и легкие вываливают на стол, можно указы подписывать, лежала под скальпелем, знаю, нельзя не только указы подписывать, но и радоваться, что выжил, нельзя, чтобы не сглазить. А ты говоришь, уже и попивать опять начал?» — «Успехи медицины», — парировал я, наливая.
Я болтнул о Вас без обиняков, может быть, на подсознательном уровне надеясь отряхнуться от внезапного обольщения Вашим великодержавным галстуком, испортить от него впечатление, а на сознательном уровне поразить куда более утилитарную цель: приравнять мое увлечение праздниками к Вашему аналогичному увлечению в глазах моей тещи и в таких же глазах моей жены. Иначе эти две алкоголефобки что-нибудь бы да смели, бутылки две «Синопской», с накрытого стола. А так, в них проснулась гражданская совесть.
Если же Вы теперь меня с пристрастием спросите, откуда это я, неизвестно кто, понимаешь, взял, что Вам опять пришлось начать попивать, я целомудренно пожму плечами.
В разгар застолья теща, видя, что ни я, ни ее поклонник с ума от водки особенно не сходим, а беседуем и даже размышляем о будущем, за разговорами, за играми-плясками с детьми оттаяла и к Вам. Она, разумеется, не приветствовала тост за Вас, мол, чтобы Вы окрепли, чтобы прозрели безвозвратно и одумались вполне, чтобы друзей России от плевел научились отделять. Но все-таки душою потеплела к Вам, немного раскраснелась, распушилась, помолодела от душевности. Наверно, страшно, говорит, Вам очень было, знаю по себе. Совсем дедом стали, хоть и упрямый старый хрыч, и что лицо у Вас хотя и плотное, но желтое и, кажется, засохшее насквозь, как у мумии, за что и жалко Вас. Еще и тот Ваш огнедышащий галстук как будто тень бросал с позолотой, соломенного цвета, на жесткое лицо, на синие глаза...
Вы не сердитесь на мою тещу. Ей ведь обидно: Вы с ней ровесники, а живете кардинально по-разному. Представляю, как бы Вы обижались на нее, будь она на Вашем месте.
Мое же отношение к Вашей тяжелой болезни несколько иное; оно роднит меня с Вами... Я нисколько теперь не сомневаюсь, что Вы заразились от самой нашей страны, вдохнув в свои легкие из лучших побуждений миазмы ее иллюзий, таинство ее распада, ее приверженность к упадку, ее упование на Вас. Ваш организм, столь природно одаренный, вдруг стал разваливаться в унисон с оскудением державы и в одночасье сам превратился в неистощимый вирусоноситель. Порочный круг два гнойника соединил в один. Ваше мокротное дыхание раздувало очаг страны. Чертыхающаяся страна, плохо приученная кашлять в носовой платок или, по крайней мере, в кулак, разбрызгивала свои жизнеспособные бациллы во все стороны, доплевывала и до Вас. Так и текло: Вы не давали выздороветь стране, страна не давала выздороветь Вам. Боролись два больных богатыря. В характере того и другого — вера в победу до гробовой доски.
Думая о Вас с мучительностью подданного, я почему-то убеждаюсь в том, что у нас одно не вечно разрушается за счет другого, но до поры до времени, до переломного момента, до перемены мест. У нас все подобно и все отражается друг в друге с убийственной телепатичностью и незабываемой взаимностью.
...В ту ночь, вернее, в позднее утро 1 января я уснул, будучи не то чтобы сильно пьяным, но все-таки пьяненьким, разомлевшим и, главное, воодушевленным. Засыпая, я даже попытался от счастья пристать к жене, но она почему-то отстранилась и отмахнулась от меня с каким-то даже страхом, как будто таким ласково ликующим не видела меня никогда или как будто увидела во мне насильника впервые. Засыпая окончательно, отринутым и отрешенным, я подумал о том, что Вы уже, вероятно, вторично не наденете этот свой геральдический галстук, который всколыхнул мою душу, потому что пришелся ко двору, за что спасибо Вашим имиджмейкерам.
Р. S. В заключение я хочу рассказать Вам, как родному, о том странно симптоматичном сне, который в первый день нового года приснился моей отшатнувшейся от меня жене. Понимаете, ей приснилось, что она... негр (именно мужского рода, а не негритянка), но при этом как бы остается без зазрения совести матерью наших белых детей и женою мне, вполне белому мужчине.
«К чему бы это?» — спросила жена, но содрогания в ее голосе я не почувствовал.
У нас дома, как и во всяком сейчас доме, имеются разнообразные сонники, но я даже не стал туда заглядывать: толкование лежало на поверхности. Оно пришло ко мне сразу, как наитие.
«Вероятно, — сказал я, — ты приснилась себе в виде негра по той причине, что Организацию Объединенных Наций, то есть ООН, наконец-то впервые в ее истории возглавил африканец, по-другому — негр, кстати, с характерным имечком — Кофи. А жена у него белая. Вся мировая общественность так долго шла к этому событию, так ждала торжества прав человека, что наконец-то получила заветное — даже на уровне сна отдельного индивидуума, тем более такого, как русская женщина, как моя жена, вроде бы совершенно далекая и от политики, и от ООН, и от собственного мужа», — уколол я ее.
Я не стал детализировать весь путь ее превращения из белой простой женщины в высокопоставленного негра, я обратил внимание лишь на очевидный знак предупреждения, таящийся в этом аллегорическом сне: мол, то, что ты, моя жена, любишь поспать, ни к чему хорошему не приведет.
Мои объяснения она, разумеется, забраковала, назвала их чуть ли не белой горячкой (слава богу, не черной), по крайней мере, извращенной фантазией глубоко пьющего человека. Как будто бы не она, а я себе приснился негром...
Спросите как-нибудь при встрече у Евгения Максимыча, не находит ли он глобалистской подоплеку сна моей жены, действительно чуткой к колебаниям мирового атмосферного давления.
2. Зеркальное
Вероятно, от Ваших помощников Вам стало известно, что в России всякий матерый человечище, особенно такой выразительный, как Вы, есть зеркало.
Я представляю живую картину. На одной из ваших подмосковных дач, в доме, скорее всего не краснокирпичной кладки, с пуленепробиваемыми витражами, а в круглой усадьбе помещичье-сталинского покроя, в неком эркерном зале, пропитанном с трех сторон вечно осенним, ржавым солнцем, стоит огромное, во весь простенок, трюмо, перед которым Вы задерживаетесь, чтобы поправить непослушный галстук и скорректировать выражение лица, добиваясь вальяжной проницательности. Исполненный статики, Вы повторяетесь в зеркале, как на уличном фотоплакате, — в лакированных длинных туфлях, мимолетно грузный, как крупная пушинка, зацепившаяся за ворсистый плед, быстро и респектабельно постаревший, как стареют только от покоренной сцены и необузданной власти.
Думаю, что именно в эти минуты разговора по душам с собственной фигурой, периодически удаляющейся в водянистый пролом, сквозь анфиладу ландшафтов, сквозь сад, помните, тормошащийся в зале в гипнотической этой отчизне, Вы и принимаете свои окончательные, сильные, сентиментальные решения. Они роднят Ваш характер с характером народа. Вы говорите: «Баста!» и можете пустить слезу, которая мгновенно высыхает. Ваша тень-странница возвращается из Зазеркалья, иногда в отрепьях, как бомж, с полезными наблюдениями. Чего она нахваталась, насмотрелась и наслушалась, например, на Невском проспекте?..
Я, конечно, радуюсь с дальним прицелом Вашему поэтапному превращению в зеркало русской самоочистительной беды рубежа веков. При этом меня удивляет не то, с каким аппетитом, до последней частички, Вы впитываете в себя громоздкие тенденции и процессы, с какой самоотдачей в ответ порождаете закономерные колебания земной коры. Это как бы все понятно, это то, что называется нашей всемирной отзывчивостью и бумерангом нашей Судьбы. Скажите лучше, как Вам удается перенимать какую-нибудь безделицу, какую-нибудь ужимку совершенно частного лица, не телезвезды, а конкретного жителя некого населенного пункта, например Петербурга, например меня.
Вот Вам неопровержимое доказательство. Последнее время я стал замечать, что Вы копируете одну из моих (кстати, не очень хороших) привычек самым что ни на есть, не скажу бессовестным, но, наоборот, добросовестнейшим образом. А именно: Вы начали делать такое движение губами, какое, извините, делаю и я чуть ли не с самого своего рождения и от чего еще в детстве меня пыталась отучить моя дорогая мама, буквально била по губам. Но сие, видимо, есть непроизвольное свойство моей физиологии, кстати, безвредное, как у некоторых — заикание или высовывание кончика языка от увлеченности, или спорадический тик. Так и я. Так и Вы теперь. Говорите-говорите с кем-нибудь или с самим собой и вдруг, умолкнув, заполняете паузу не округлением глаз, не сплошными желваками, не страшным зиянием ноздрей или побелевшей прохладой лба или чем-то в этом сдержанном роде, а именно тем, что нижней своей губой захватываете верхнюю так, что ее, по сути, становится не видно. И держитесь в таком положении неопределенно долго. Как будто то, что с такой наивностью всегда была рада выразить моя-Ваша красиво вырезанная верхняя губа (чистый гнев, чистое удовольствие, чистое искусство чувств), нижняя старалась моментально нивелировать, спутать карты, чтобы выражение лица не повторило бы печать души, чтобы лицо не показалось бы простоватым, а душа — светлой. То есть в итоге, конечно же, получается не бессмысленное кривляние, а полезная защитная реакция, — если бы при этом еще нижняя губа была бы столь же миловидной, полной, узорчатой, растроганной, как и ее легкомысленная сестричка!
По правде сказать, несмотря на критическое отношение к своей безобразной нижней губе, куда меньше нравится мне Ваша. Моя нижняя еще бывает нежна, молода, розовата, чего в Вашей уже не найдешь. Сказывается разница в числе перенесенных драк и драм. Безусловно, в сорок тысяч раз чаще Вы закусывали свою от обиды. По крайней мере, крови в ней не осталось, и напоминает она некое бесцветное желе под упрямой кожицей, искривленное тело улитки. Однако я не могу сказать: «Бр-р-р». Никакого омерзения она у меня не вызывает, напротив, — только подтверждение хода жизни. Я грущу о своей: моя все больше сдвигается в сторону, нарушая симметрию рта.
Теперь о главном. Описанная гримаса возникает на наших лицах, кажется, всегда от одного и того же.
Я разговариваю с кем-нибудь из подчиненных (их у меня также есть некоторое количество) и замечаю, что он не столько проникает в суть поднятого им же мелкого производственного вопроса, сколько приглядывается ко мне, и прислушивается, и принюхивается со всей своей деловитой вкрадчивостью. Зачем-то ему нужно удостовериться, что я действительно хорошо или плохо выгляжу, что я уже немного принял на грудь сегодня или это меня ведет от вчерашнего, что у меня действительно грипп или похмельный синдром, что у меня начались неприятности или не начались. Иногда я вижу, что его занимают совсем уж мещанские частности: а что я позволил себе за обедом — коньячок или виски, а сколько же может стоить мой новый галстук, на изнанке которого блеснул ARMANI, и кто же была эта посетительница — клиентка? Тогда почему у меня так зарделось лицо?
В сущности, все его повышенное внимание к моей персоне я уже раскусил. Его интересует не то, сколько я имею или не имею, сколько у меня пиджаков и нужных людей (это он уже давно посчитал на своем калькуляторе), а то, как мне все это сходит с рук? Если его спросить в лоб: а что все-то — он ведь ничего справедливого или, напротив, несправедливого не найдет, промямлит что-нибудь про то, что дуракам везет, про разгульную жизнь и шахер-махер. На самом деле его беспокоит не то, каким образом я умудряюсь выходить сухим из воды. (Хотя каким там, к черту, сухим — я живу промокшим насквозь, не подумайте, что не просыхая, насквозь от слез, поверьте.) Он боится другого. Он боится признать, что меня, ничтожного, в сущности, человека, охраняют какие-то небесные силы, что хожу я под божьей крышенькой, и, значит, во мне есть нечто прекрасное и бесценное. Последнее он принять как раз и не может.
Мне становится печально. Я-то вижу в нем то, в чем отказывает он мне.
Неужели, испытывая радость такого ясновидения, я буду адекватно реагировать? Раздражаться? Нет, мне остается лишь по своей привычке придавить нижней губой верхнюю и побыть в таком ребячливом виде несколько секунд. Я сожалею лишь о том, что мой правдолюбивый визави, покидая меня успокоенным, все-таки остается при своем мнении.
Кажется, так и у Вас — с помощниками и подданными.
Я почти никогда Вас не видел другим, таким, чтобы, наоборот, Ваша верхняя губа нависла бы над нижней. Может быть, только в тот унизительный период Вашего падения, когда Вы действительно выглядели замарашкой. Ваши губы тогда то и дело составляли трогательный рисунок, и доминировала в нем наслюнявленная и накусанная верхняя простушка. Чтобы люди видели без вины виноватость.
Потом, довольно длительный период, я с наслаждением наблюдал совершенно иное зрелище, когда Ваши губы с силой прижимались друг к другу, как два кулака, а затем выпускали сквозь себя, в слипшийся зазор, чудовищно тесную, какую-то немецкую аффрикату, в которой сливалась как ни в чем не бывало целая русская фраза: «Ну, я вам сейчас задам!» Я рукоплескал этой великой живописи Вашего лица.
И вот наконец теперь Вы где-то выхватили из массы мою рожицу или она докатилась до Вас, как симптом, и я этому очень рад.
Я увидел себя со стороны. И увидел, ни больше ни меньше, в собственном президенте. Не говорю уже о том, что мое выражение лица пришлось Вам к лицу, простите за каламбур. Если меня эта прилипчивая гримаска все-таки портит, Вас она на данном этапе бесспорно красит. Вы так умиротворенно мило прячете свою верхнюю губу за нижнею, как будто подаете сигнал новому мышлению, иногда даже через головы Ваших ближайших помощников. Те, кому этот знак предназначается, могут теперь перевести дыхание. На их улице приготовляется великолепный, фактически всенародный праздник, может быть, и на Невском проспекте.
Я полагаюсь на Вашу последовательность. У зеркала есть свойство (быть может, самое утешительное), отобразив панораму, сфокусировав детали, вобрав полноту мира, вдруг выбросить из себя пучок огня голой истины, осветить комнату, явить надежду. Или вдруг треснуть неизвестно от чего — от воздуха, от старости, от перенасыщения Зазеркальем...
Вот, пожалуй, и все, что я Вам хотел написать в этот раз.
Меня смущает, правда, некоторая быстрота, с какой Ваши помощники, подхватив идею о Вас как о Зеркале, принялись распространять ее среди электората. Спешат познакомить и Вас с ее неполовозрелым вариантом. Вероятно, рассчитывают на то, что некоторые старики обладают, в принципе, приятной склонностью безоглядно доверять молодым да ранним. Боюсь, чтобы не оконфузили благую весть на корню. Вы-то им кто? Чужой человек, непосредственный начальник. А есть ли что опаснее непосредственного начальника?! Помимо прочего, у меня возникло подозрение, что Ваши помощники испытывают к отдельным качествам зеркала, таким как нелицеприятность и глубинность, нечто близкое к водобоязни. Шарахаются как черт от ладана. Смотрите, кабы не разбили Вас, заигравшись.
Р. S. Я, как Вы догадались, человек восторженный. Как что-нибудь замечу, тороплюсь с кем-нибудь поделиться, например, с супругой, женщиной доброй, но во всех отношениях насмешливой.
Только я ей открыл великую тайну о поразительном и, возможно, многообещающем сходстве наших с Вами лиц, а точнее, губ, как она прыснула чаем обратно в чашку и залилась каким-то неопрятным смехом, стала вытирать тушь под глазами, стряхивать мокрые крошки с руки.
«Оба вы, — говорит, — алкаши. Поэтому и губы надуваете одинаково, по-алкашески, осоловело».
То есть взяла и все опошлила.
Я ей говорю: «Ты меня не поняла. Я тебе не про надувание губ говорю, а про то, как нижняя прикрывает верхнюю, и про, может быть, всеобщую заразительность этого процесса».
Она еще заразительнее покатывается. Она полагает, что я ее нарочно веселю. Делать мне больше нечего.
«Ну, с тобой, — говорит она, — давно уже все ясно. Нужна косметическая операция, чтобы губу чересчур не раскатывал. А тот, — это она о Вас, — говоришь, нижней верхнюю покрывает? Это для того, чтобы лишний раз на публике не матюгнуться».
Я только пожал плечами, не называть же ее глупой бабой.
«Между прочим, — расходилась она, — я тут слышала стишок: «России нужен президент — и патриот, и абстинент».
Ну что я тут мог поделать, как сдержаться? Простите, я тихонько, буквально по-родственному приструнил ее: «Не лезь в большую политику, глупая баба! Без тебя там тесно».
3. Ненобелевское
Зачем пишу?
Некто пишет для вечности, для гоношащихся пятен впереди, другой — для так называемого «ненасытного общества», третий — для более узкой, щемящей страты, четвертый (и я сочувствую его танталовым мукам) говорит, что пишет для себя, я же последнее время истово пишу для Вас, точнее, Вам, свирепому страстотерпцу власти.
Мои товарищи и жена, не понимая органичность наших с Вами пересечений, поспешили заподозрить во мне комплекс альтернативного властелина.
Я спокойно отбояриваюсь, насколько вообще возможно отбояриваться от усмешливой предвзятости. Я стараюсь объяснить им, что некорректно отождествлять успешного политика с неудавшимся литератором, что дело-то совсем в другом, а в этом — только лишь отчасти. Мои объяснения, которые друзья, естественно, принимают за оправдания, еще более разжижают их веселенькие натуры. Мне кажется, Вам тоже известно, как удушающе черство могут выглядеть преданные, но непроницательные люди.
Пытка состоит в том, что везде и всюду у нас, во всех измерениях и плоскостях, — абсолютные неточности, всюду — подмены, и все и вся подлейшим образом обитает не на своих местах. Я не преувеличиваю, я мучаюсь этим и вижу, что тем же самым мучаетесь и Вы, только — в политическом смысле.
Ваши помощники-метафористы, вынужденные всякий раз драпировать какую-нибудь вскрывающуюся для всеобщего удивления несоразмерность, с досадой отсылают нас к законам эволюции. Они говорят, дайте, мол, срок, и из этой старой жесткой курицы вырастет молодой, пышнохвостый, энергичный павлин. Или — наоборот. Они всегда у Вас говорят наоборот, палиндромами. Пристанут с вопросом: «Скажите, ведь легче дышится? Признайтесь, ечгел?» Легче, ечгел!
Дышится легко, но с таким глухим неудобством, как будто левое легкое пересадили на место правого и — наоборот. Кажется, ничего несчастного не произошло: оба органа — физиологически здоровы, оба мои, оба действуют, но дышится ими откуда-то не оттуда, дышится какими-то окольными путями, не напрямую.
Я знаю, некоторые оригиналы доставляют себе удовольствие тем, что надевают ботинки не на ту ногу. Небольшая косолапость уравновешивает наш чересчур балетный мир. Я попробовал так походить в праздник спьяну — набил кровавые мозоли. Не мое.
Понимаете, если бы поменялись местами мои уши, или, в силу детских народных угроз, руки бы оказались там, откуда ноги растут, причем левая бы рука опять-таки выворачивалась бы вправо, а правая — влево, или, извините, мой нос сполз бы ниже пупка, а то, что находится ниже пупка, взгромоздилось бы на мою физиономию, что иногда случается в страшных снах человечества, — то есть если бы произошло очевидное, вопиющее безобразие, я бы и секунду не терзался. Я бы умер мгновенно от уродства, не совместимого с жизнью, или, наоборот, встряхнулся бы всем своим перекрученным телом, так гомерически расхохотался бы, что вернул бы себе прежние, довольно сносные формы и ясность во взоре.
Нет, гложет не очевидное. Гложут тайные диссонансы, неразличимые несоответствия. Например, когда левый глаз перетек в правую глазницу, а правый — в левую. Ну и что? Кто-нибудь заметил эту рокировку? Зрение в целом не ухудшилось, наоборот, загорелись дерзкие узоры.
Кто-нибудь обратил внимание на то, что, например, пальцы моих рук слегка перетасованы: безымянный выступает в роли среднего? Никто не обратил. Не мизинец же перепутан с большим.
Между прочим, пристально глядя и на Ваши руки в свете вышесказанного, я проникаюсь самым задушевным уважением к той беспощадности, которую Вы направляете на самого себя, на свои маленькие недостатки в стремлении к совершенству. Вы умеете резать по живому. На это способен только человек с искупительной, чарующей судьбой.
...Не беда, что Вы не прочитали ни одного из моих Посланий Вам. Вы совсем ничего не читаете, работаете с документами, наблюдаете за помощниками, смотрите кино. Все правители любят смотреть кино. Для их повелительно-созерцательного миропонимания самым важным из искусств все еще остается искусство кино. Умные люди советуют мне, дабы достучаться до Вас, начать вместо Посланий писать сценарии боевиков с некой подоплекой, с кодированным видеорядом. Однако мне не нужны прямые попадания. Я привязываю Послания к эфиру, а эфир, исполняя какие-то свои планы, несет их в общем потоке куда хочет, губит или лелеет какое-то время. Собственно, мои и множество других посланий и составляют его эфемерную, интуитивную плоть. Свидетельств тому, что мои Послания долетали-таки до Вас, как говорят, накопилось уже целое дело. Вы обходитесь с ними так, как и подобает с ними обходиться: сдуваете с пиджака, а если хотите посмеяться, то прокалываете воздушный шарик маленького внука своим быстро растущим ногтем. Я вижу, где это происходит. Это происходит в загородном парке, деревья которого еле сдерживают хаос. Вы прокалываете этот шарик и, пока рыдает внук, судорожно удивляетесь близкой солнечной вспышке, возникшей в тот момент, когда шарик лопнул.
Ваши глаза наполняются слезливыми и яростными догадками, потом — беспорядочной категоричностью, потом — густой горечью, потом — диковатым бессилием и путаным смехом властелина, который сам себя напугал не на шутку...
Может быть, и хорошо, что Вы ничего не читаете и общаетесь с нами только вышеописанным способом, через эфир, посредством горнего.
В этом же веке самый великий вождь отнюдь не рассматривал чтение как напрасную трату сил. Читал ненасытно, запоем, религиозно. Кстати, его огромный читательский опыт подтверждает окончательно, что литература не очищает сердце, а лишь открывает глаза. Но одно дело, когда благодаря донесению помощника глаза открываются избирательно, как у вурдалака в полночь, на какую-нибудь опасность или подвох, и другое дело, когда они вдруг распахиваются на окоем, и зрение становится соколиным, круговым и длительным. Наслаждение от этого гармонического всевидения вряд ли можно сравнить даже с царской охотой. Литературный вкус, какой бы частной характеристикой он ни являлся, человеку с полномочиями властелина, как ни странно, придает стихийную непобедимость. В облике то и дело сочетаются нега, пронзительность, хитрость, хандра и жестокость. Мир видится как мироздание, со всех сторон, глубина нанизывается на высь. Вероятно, вождь, как и многие умные читатели, был тишайшим плагиатором. Литература под его рукой была сдабривающим, пряным средством среди других строительных материалов. К сожалению, плагиатор-вождь, имеющий целью не красоту человека, а красоту замысла, менее жестоко жить не может. Вождь — не человек, ему простительны убийства. Вы не вождь, слава богу. Вы — властелин. Правда, неизвестно, что терпимее, что горестнее. Вы и разговариваете с народом не как вождь — заколдованным шепотком, а как властелин, срываясь на обманчиво плачущий фальцет. Ваши слова настырно и сомнамбулически сталкиваются друг с другом, как бильярдные шары. Покатаете-покатаете такое понравившееся Вам слово в свое удовольствие и загоните в переполненную лузу. Русское слово русских правителей всегда неприкаянно. Не понимает слово-бедолага, его ли это значение в данный момент, или какого-то другого слова. Ваши помощники с ним не церемонятся. Они изъясняются так гладко и бесчувственно, как будто бы это делают на хорошо выученном иностранном языке. Норма у них замешана на условном рефлексе. Другие, напротив, не в силах усвоить норму, подчеркивают пренебрежение к ней. Еще чего, говорят они, зачем это я буду выражаться правильно на родном языке, и так поймут, главное — дело, а речь — для говорунов, потом, речь, она — родная, не мачеха, простит.
Хочу попросить Вас, может быть, о самом важном. Мне никогда не удастся написать свое «Жить не по лжи». Хочу попросить Вас сделать это за меня. Вас услышат миллионы. Миллионам Вы освежите глаза. Представляете, какая макрохирургия глаза!
Вы выйдете к элегантной белой стойке с белым микрофоном. Приветствуя Вас, поднимется почтительная цивилизация. Их улыбки будут напоены вековым спокойствием и расчетливой надеждой. Каким-то чудом они узнают, что Вы пришли произнести вещи, совершенно необходимые для них. Вы будете говорить понятно, четко и доверительно. Возможно даже, что для этого случая Вы прибегнете к английскому. Кажется, Вы ни разу не произнесете ни слова «Россия», ни слова «русский», но все поймут, что Вы говорите именно об этом. Я не знаю, какими именно фразами Вы наполните существо. Может быть, Вы скажете и о нестерпимой расстроенности клавесина жизни. Не знаю. Но Вы будете выглядеть совершенно другим. И то, что Вы стали совершенно другим, увидит весь мир. Для них это будет фантастикой, как полет Гагарина в космос.
Р. S. В заключение, если позволите, о курьезном. Есть такое русское слово (простите, оно не совсем литературное; я бы и не написал его никогда своею рукой, тем более в сегодняшнем серьезном Послании, так как его употребление в текстах всегда связывал с постмодернистскими штучками, но в данном случае, чтобы продолжить, я не могу без него обойтись) — «жопа».
Из-за этого ничтожного слова, не поверите, меня не приняли в Союз писателей.
Поначалу все складывалось куда более чем благополучно. Меня хвалили, одобрительно оглядывали на всех промежуточных этапах. Когда же дело дошло до Федеральной приемной комиссии, какой-то ее член или два выразили категорический протест против моего приема в связи с тем, что в моей книге, оказывается, они обнаружили это проклятое слово (не буду больше его называть). Их возмущение показалось праведным, и мою кандидатуру задвинули. Меня удивило даже не то, что на дворе не чистоплюйские времена, а полная свобода и разврат, — меня удивило и заинтересовало, где же, в каком из моих рассказов члены комиссии умудрились вычитать это поганое слово.
Я стал искать, перечитал свою книгу, нашел в ней действительно много слабых мест, но этого — нет.
Тогда я попросил помощи у своей жены. Я знал, что она поведет поиски с особенным, жгучим, фрейдистским интересом. Но и она ничего не откопала. Нет, откопала, конечно, некоторые вещи — и «лобок, фиолетовый от смешения двух тонов», и «вздыбленные плавки», и даже «очко», но вот этого злосчастного слова — нет.
Я собрался с духом и пошел в Союз писателей. Я сказал им: «Ведь нет этого слова, ребята. Откуда вы его взяли?»
Они молчали, как египетские пирамиды. В небольшом зале в унисон люминесцентным лампам гудело запустение бывшей государственной литературы.
Я почувствовал, как стремительно старею. В то же время перед собой я увидел таких же стремительно состарившихся на моих глазах людей: и действительно бывших к тому моменту пожилыми, и семнадцатилетнего романиста с двойной фамилией, и двух моих ровесников, чьи совершенно сморщенные лица не скрывали крайней обескураженности. Я подумал, что в России теперь все писатели дряхлые.
4. Последнее
Все, это уже — последнее.
Пишу второпях — боюсь опоздать к шапочному разбору. А разбор этот будет скорым, поистине шапкозакидательным, судным, справедливым и бессовестным.
Обиженные Вами Ваши помощники отдалились от Вас на расстояние стервятников, вздрагивают, помалкивают, смежают ресницы, двигаются скачками, как тени капуцинов. Любители клубнички под названием «агония властелина». Иногда в шутку пугают друг друга:
— Имейте в виду, русские властелины в агонии — беспощадны. Ха-ха-ха.
— У русских властелинов агония может длиться вечно.
— Не беспокойтесь, вечно не живут.
Потом утихомирятся:
— Перестаньте. А агония ли это?
— Нет, конечно. Нет никаких типичных признаков типичной агонии. Типичная простуда.
— К тому же, имейте в виду, возможности современной медицины... На наш век хватит...
Одним словом, суть этого разговора сводится к тому, что Вы не просто властелин, Вы — бессмертный властелин, физически бессмертный.
Может быть, поэтому мне и не стоит спешить с «Последним». И потом, утешаю я себя, не успеют мои письма к Вам — другому пригодятся. Чужие письма поучительно читать всегда, особенно, если они сильно обветшают.
Во всей этой истории, воистину патологически затянувшейся, теперь меня мучают прежде всего Ваши страдания. Не участь Ваших помощников, не судьба населения, не мировая теснота, не моя ночная лихорадка, не третье тысячелетие, а Ваши человеческие страдания.
Они напоены такой бессильной досадой, такой смешливой горечью, таким внимательным терпением, — потому что посвящены простому и смертному, — что невольно мутнеют глаза от сантиментов, хочется плакать о Вас, о тщете вообще, о земном увядании. Я говорю о тех причудливых страданиях, которые Вам доставляет Ваше долгое прощание с властью, как с жизнью. И Ваши болезни, конечно же, коренятся в том, что Вы представляете себя уже не властелином.
Само слово «властелин» созвучно Вам, как море кораблю. По крайней мере, Вашему телосложению, Вашему замаху, Вашему созиданию трепета и одновременно какому-то конфузливому чадолюбию. Другое дело, что не все происходит по Вашей воле. Всякий властелин в итоге надрывается и умирает именно от надрыва. Не удержать, к сожалению, не то что полмира — не удержать даже частички бытия.
Вы вросли в слово «властелин», как ноготь в мясо. И если Вас из него теперь выдернуть, даже самым демократическим способом, что же с Вами станет вне его, вне слова? Вы скукожитесь и, наверное, мгновенно засохнете, как какое-нибудь крепкое насекомое. Правда, не огорчайтесь, и слово без Вас тоже на время потеряет масштабность, сдуется наполовину или совсем зачахнет.
Вероятно, такая метаморфоза рисуется Вам с обратной стороны.
Я знаю, Вам часто снится прохладный, осенний сон. Будто Вы дерево и всегда были большим, кронистым деревом. Вы стояли на высоком взгорке одиноко, и перед Вами всегда расстилалась певучая прекрасная равнина. И вот Вам мнится последний сон. Словно в сыром, туманном безветрии, когда не видно равнины, с Вас начинают рушиться ветки, бесшумные, полные зелени и пыли, сначала — нижние, затем — верхние, самопроизвольно. Во сне боли нет, но утрата есть. Вы зрите себя совершенно нагим. Голый темный ствол, громадный, но легкий, как соломинка. С равнины же, вероятно, видится телеграфный столб, без проводов, без признаков практического применения, брошенный преть.
Между прочим, присниться себе голым, раздетым не так уж и плохо. Образ этот символизирует незащищенность, точнее, младенческое смущение перед правдой Всевышнего.
Ваши помощники, конечно, акцентируют внимание не на том, что Вы увидели себя во сне обнаженным, а на том, что с Вас падали ветки, радостно толкуя это видение таким образом, что упавшие ветки — это Ваши недуги и проблемы, которые теперь, мол, покинут Вас. Что ж, со своей стороны помощники правы.
Они подбрасывают Вам мысль о Вашем бессмертии, в их понимании — дэнсяопиновском долголетии. Эта путаница между вечной жизнью и почти вечным долголетием приносит Вам новые разочарования и новые страхи.
В Вашей ситуации лучший выход — научиться не бояться смерти. Но как это сделать? Мы страшимся первых мгновений перехода. Дальнейшее нас не пугает. Может быть, Вас пугает именно дальнейшее?
...Вчера мне позвонила моя мама из Самары. Двадцать лет она жалуется на свое здоровье. Я, прости господи, привык. А вчера она сказала как-то совсем не жалобно, а нежно: «Плохо мне, сынок. Но ты не думай, умирать-то я не боюсь». Поблагодарила за присланные деньги, сказала, что даже в церковь нет сил сходить. Я вот пишу Вам, а сам думаю, что надо немедленно лететь в Самару.
Посмотрите, какая сумбурная сгущенность бытия! Умереть тесно.
В большом городе на шоссе сталкиваются два автомобиля лоб в лоб на огромной скорости — дорогая иномарка, выскочившая из-за автобуса нетерпеливо, и «копейка», не уступившая ей дорогу из последней гордости. Все трупы. Когда стали разбираться, оказалось, что погибшие водители были хорошими знакомыми. Более того, водитель «копейки» в свое время помог водителю дорогой иномарки стать совладельцем прибыльного заводика, но, как случается, скоро был вышвырнут на улицу неблагодарным компаньоном.
Или другая история. В крематории встречаются две похоронные процессии, два гроба. В одном — поэт Р. В другом — его недруг писатель А. Всю жизнь терпеть друг друга не могли. Р., будучи редактором, якобы не пропустил когда-то книгу А. и якобы не по причине ее бездарности, а потому, что у А. была интрижка с женой Р. После перестройки А. и Р. разбежались по разным писательским союзам, клеймили оттуда друг друга. Если не могли разминуться на каком-либо фуршете, обязательно показывали друг другу языки. Теперь в гробах лежали рядом. А. побелел, как молоко, а Р. был синий, как молния.
...Дядя мелкого бизнесмена С. — квартирный мошенник. Отсидел год, вышел. Опять продал квартиру сразу семерым клиентам. По дешевке продавал. Клиенты столкнулись в дверях — семь одинаковых ключей.
...На углу Невского и Думской пьяненькая полноватая женщина, держась за бока: «В милиции почки отбили». Говорит шепотом, себе. Вероятно, действительно отбили.
...Ехал на «частнике» из аэропорта (возвращался с похорон брата). Водитель, пожилой, словоохотливый еврей, спрашивает, нет ли во мне еврейской крови. Я говорю: «Есть немного». И зарделся, потому что солгал. Он понял, быстро улыбнулся, не наружу, а глубоко-глубоко в себя; заговорил о своем сыне, уехавшем в Канаду.
...Спрашиваю своего сына-школьника: «Ты кто по национальности?» — «Русский», — отвечает он машинально. «Точно?» — переспрашиваю я. «Или нет?» — сомневается он.
«...Жили ли вы когда-нибудь несчастной жизнью?» — «Да мы только и делаем, что живем несчастной жизнью».
...Теща: «Странно, все неприятные люди собираются на показах высокой моды».
...Высокий, пьяный, отглаженный подполковник с ухоженными усами повернулся к дверям в вагоне метро. Стоял затихший, как ребенок, поставленный в угол, пока на полу под ним не образовались языки вонючей лужи. Форменные брюки тоже намокли, потемнели. Слабый мочевой пузырь.
...Сюжет. Муж Антонины подрабатывал на ночной автостоянке. Сильно простыл, умер в больнице: денег на дорогие лекарства не было. Саму Антонину с «родного» завода сократили. К полудню женщина искупала дочь, оделась в единственное не проданное «выходное» платье, вышла на балкон, держа ребенка на руках. 8-й этаж, внизу асфальт. Все.
...Мой приятель Е., которому я рассказал о последнем письме Вам, шутит: «Только бы наш властелин свое “последнее” не превратил в наше “окончательное”».
Я пытаюсь убедить Е., что в диалоге властелина с Историей муки народа в расчет не берутся. Приятель отмахивается и уходит...
Что ж, прощайте и Вы, ставший за это время родным.
Р. S. Простите за грустное письмо. Быть может, Вас немного развеселит безобидная семейная сценка.
Дело в том, что на Новый год моя жена подарила мне пару замечательных, извините, трусов. То есть пару не в смысле двое, а одни, но настоящие, фирменные, с ободком по талии, с незаметными швами и крохотными пуговичками. Обновить презент в праздники мне было все как-то недосуг. Положил в шкаф и забыл.
Вчера же вечером, уже фактически ночью, после того, как я закончил писать Вам это Послание, я решил принять душ и вспомнил про интимный подарок жены.
Трусы оказались действительно приятные, добротные. Я вышел в одних трусах в прихожую, где у нас высокое зеркало. Было поздно, домашние все спали. Я стал смотреть, как же теперь я выгляжу в этих новых дорогих трусах. Но не успел даже толком встать в профиль, как почувствовал ироничное молчание за спиной. Повернулся: так и есть, жена улыбается во все лицо. «Примеряешь?» — спрашивает. «Нет, просто после душа», — почему-то засмущался я.
Я тогда подумал, что и с Вами, вероятно, происходят такие же мелкие бытовые курьезы. Допустим, одолевает Вас бессонница. Вы встаете среди ночи — и старческой опрометью к гардеробу. Что-то ищете впотьмах, почти на ощупь. Потом подходите к трюмо в простенке между окнами. Раздвигаете портьеры, чтобы сильный лунный свет беспрепятственно проникал в зал. В Ваших руках — галстук, тот самый, венценосный, золото с пурпуром. Сочное тепло луны углубляет его фактуру. Он как будто намокает и еще больше тяжелеет от небесного сияния. Вы прикладываете галстук к груди, прямо к пижаме, — и из Ваших глаз текут крупные слезы... Вероятно, кто-нибудь наблюдает за Вами в это время.
СМЕШНО, РУСАКОВ
1
Русаков мог выглядеть человеком крайне занятым, хотя в действительности все эти поступки — человеческие, благородные, мужские — были ему смешны, как и деятельные люди, не могущие и дня провести, чтобы чего-нибудь да ни совершить; казалось, что таким образом они цепляются за жизнь, полагая, что чем больше своих колючек в нее воткнут, тем дольше на ней удержатся. Конечно, сидеть сложа руки в позе лотоса и улыбаться с натужной просветленностью — тоже нехорошо. Но и целый день изображать вечный двигатель, живчика, трудоголика, а потом на самом интересном месте вдруг захрапеть — это уж совсем глупо. Лев Николаевич Толстой как-то сокрушался: могу, говорит, понять всех, даже самого последнего изверга, но вот дурака, хоть убейте, понять не могу. Забыл, умел понять и дурака.
Телевизор напомнил Русакову, что в Петербурге в этот рождественский вечер объявлено штормовое предупреждение. У ведущего в «Вестях» губы были скользкими, как две лески, и когда он говорил, они перекручивались. Его брезгливое замечание об аномально теплой зиме этого года вдруг сменилось шалопайским кликушеством о грядущем наводнении, шквалистом ветре, обрыве электропроводов, затоплении подвалов в центральной части города, выходе из строя канализации, аварийном закрытии некоторых станций метро, обрушении рекламных щитов, сносе кровель, промозглом ливне в мареве землистого мрака, возможных человеческих жертвах.
Стекла сами собой набрякли дрожью, по квартире засновали короткопалые сквозняки. Кот стал требовательно голосить из прихожей: один из дозорных шторма придерживал ему дверь в туалет.
Русаков до урагана стремительно принял душ, высушил волосы феном, надел белую сорочку с запонками, повязал галстук с переливчатыми, венозными прожилками под удлиненный кардиган, достоинством которого были крупные металлические пуговицы и то, что его полы не мялись ни при каких обстоятельствах, подушился на щеки и подбородок и принялся перед экраном телевизора драить ботинки чуть ли не до сквозного блеска, напирая на каблуки.
Кот безостановочно и бесшумно лакал воду из миски. Это у него было нервное.
Смотреться в зеркало Русакову было бесполезно: он знал, что увидит там пропорциональное лицо с деликатной улыбкой, почтенную осанку и благоприобретенное чувство ровной, устоявшейся безвозвратности.
Русаков набросил куртку из верблюжьей шерсти с полосатой подкладкой, поднял воротник, через одежду нащупал на груди сначала телефон в кармане, затем крестик и, погрозив коту пальцем в перчатке, покинул квартиру. Он услышал, как тяжело, полновесно затопал кот за дверью. Кот был преклонных лет, но из ума не выжил, напротив, умел вести себя как дипломатичный приживальщик. Он мог смотреть на хозяина с примитивной преданностью, а мог, как сейчас, возмутиться началу очередного человеческого аффекта, совпавшего, по дурному вкусу, с ненастьем на улице.
У дома Русаков повстречал безымянного соседа-выпивоху, который после инсульта подволакивал ногу с аристократизмом и смотрел сквозь прокисшую челку абсолютно забывчивыми глазами. На седьмой день Нового года он нес елку домой. Если купил пропащий человек елку, значит, еще хочет жить, как люди. Елка выглядела покалеченной и пахла мазутом. Своими упавшими прядями сосед напомнил Русакову хохлушку из недавней телепередачи: та на митинге в Киеве сердечно протестовала против писателя Булгакова, который, по ее словам, оказывается, не любил Украину. Русаков так и прыснул тогда от несуразицы: как это мог писатель Булгаков не любить Украину, когда Украина была и остается такою смешной?
Жить изо дня в день машинально без друзей, без родных, без детей, без жены, без планов, без развлечений, без денег и даже без сантиментов не было уже для Русакова ни мерзостью, ни трагедией. Люди совсем не умеют пользоваться затасканными словами, — сетовал Русаков. — И чем больше они этого не умеют, тем больше пользуются.
Лет двадцать назад в сочельник пэтэушники в шапочках-петушках отметелили его ногами в синих кроссовках и надорвали ему ухо на улице Бабушкина. Он был тощий, выпивши, громко икал от холода и от того, что только что проблевался за остановкой, и при этом, как им показалось, вероятно, был из тех, кто в скором будущем станет их начальником. Они пинали его истошно, но вдруг подняли, отряхнули и усадили на скамейку, после чего внезапно и дружно переругались между собой. С тех пор Русаков 6-го января оставался весь день начеку, не пил, и если выходил на прогулку ближе к вечеру, то исключительно на Невский проспект от греха подальше.
В Рождество он наведывался в церковь. Ему было видно, что очень многие люди в последнее время стали по-настоящему верующими. Он замечал, что некоторые из этих по-настоящему верующих людей знали о нем, о Русакове, нечто большее, чем он о себе, но даже бровью не вели. Он думал, что, как всегда, они не находили точных слов.
Ему нравилась эта церковь за черные купола и телесные стены. По обычной коммунальной лестнице нужно было подняться на второй этаж. Выстояв быструю очередь, Русаков купил три свечки. Сутолока внутри была яркой и предупредительной. Только в русских церквах свобода и хаотичность не умаляют торжественности службы. Певчие пели отчетливо и настойчиво. Взгляды батюшек были проницательными и мирскими. Всё больше людей приходило праздничных, и озирались они приветливо. Русаков крестился просторно, что было для него делом неожиданным, а для других — заразительным. Он зажег третью свечку и услышал запах паленого ворса, провел ладонью снизу по шерстяному своему рукаву, по искрам. Прислонился лбом к тяжелому стеклянному кивоту и поцеловал его в рамку, у края, как все.
На подсохшем за день, с краснотцой, тротуаре некоторые туфли сияли особенно сочно, как позволительно сиять, наверное, теперь только туфлям московских адвокатов.
В такие смутные дни Русакову, как заведенному, приходила мысль постричься в каком-нибудь из салонов красоты в центре Петербурга: мол, если человек еще стрижется, значит, хочет быть, как все, как сосед с елкой.
Соответствующая вывеска с добротным, выпуклым шрифтом бросилась в глаза на Кирочной улице, куда он попал с Литейного, а на Литейный — прямиком с Владимирского.
Машины фыркали кристаллической грязью. Грязь, вспомнил Русаков, это всего лишь то, что не на месте.
В салон красоты вела массивная дверь, под которой как-то неуверенно, как дворняга, примостилось кургузое крыльцо на одну персону. Казалось, его можно было взять подмышку и унести с собой. Внутри помещения были высокие потолки с волнистыми плафонами, глянцевые мозаичные полы с древними римлянами, декоративно щербатые стены выдавливали из себя вереницу каннелюрованных пилонов. Посередине рабочего зала свиристел фонтан в окружении кожаных диванов с россыпью подушек. Ароматизированная прохлада, имперский интерьер, предумышленная неторопливость персонала нагнетали заведению дороговизну, зато здесь всегда под рукой был свободный мастер. Администратор в гардеробе стыдливо запоминала, в чем пришел клиент. Зеркала в простенках были одного роста с окнами. Только первые светились в глубину, а вторые были наглухо затонированы. Свободного мастера, женщину лет тридцати, полнили оранжевые джинсы на низкой талии и мальчишеский просвечивающий бобрик. С оголенного пласта ее поясницы не сходили мурашки, а твердые пальцы сочились заусеницами. Она знала, как надо было постричь Русакова, чтобы лицо его вытянулось и пересеченная местность лба, прижатые уши, сивые от седины виски стали бы не просто беззащитными, а, что называется, стильными. Рядом шелестели ножницами и особенно внутренними поверхностями бедер еще пара мастеров-блондинок. У одной в кресле сидела дама, слипшаяся от рыжей краски, у другой — парень с неряшливой словоохотливостью менеджера по продажам. Иногда он озирался на Русакова, чтобы понять, кто тот есть, чтобы быть здесь.
Мастер Русакова, кажется, не дружила с коллегами-блондинками. Она трижды намылила и ополоснула волосы Русакову, как будто двух раз ему, по ее убеждению, закоренелому холостяку, было мало. Профессионализм у нее был сомнамбулический, поэтому воротник сорочки Русакова остался сухим, а его лицо стало беспощадно меняться. На Русакова из зеркала стал смотреть вполне приемлемый европеец, немец или, на худой конец, поляк. Он подумал, что так, наверное, добираясь до подлинника, с двухслойной картины скребок за скребком снимают камуфляж, а потом оказывается, что скорлупа сама по себе выглядела куда как достойнее, чем скрывавшийся под нею якобы шедевр.
Парень у блондинки сыпал Египтом, дайвингом, неудобным загубником, отстойной турфирмой, тупым директором, новинкой сезона, каким-то чип-ключом. Он был черняв не жгучестью, а каштаново-грязноватым обертоном — на скулах, в зрачках, прическе, веснушках.
Свежесть после стрижки не проникла внутрь Русакова, ее можно было сдернуть с себя, как прозрачный дождевик.
За это время в городе поднялся ветер. Он сворачивался в воронку и падал в пике. Ступени у порога намокли. Носки ботинок покрылись кляксами. Капля угодила в глазное яблоко Русакову. Он вспомнил, что оставил в салоне на диване свой кардиган. Он вернулся и увидел, что кардиган увлеченно примеряет парень-клиент под одобрительные кивки блондинок. В первое мгновение, посчитав себя не замеченным, Русаков почему-то решил ретироваться ни с чем, плюнув на кардиган, но когда встретился с дымком от кофе и выжидательным взглядом своего мастера из дальнего угла, старательно произнес: «Вам не идет, молодой человек, моя вещь». — «Большевата кольчужка», — отреагировал парень, не оборачиваясь на Русакова, которого ему было достаточно видеть в зеркале. С необходимой брезгливостью он бросил кардиган на спинку кресла. На парне осталась сиреневая рубашка-поло с аллигатором на груди.
Под моросящим дождем на Кирочной Русаков продолжал недоумевать, почему так настойчиво в последнее время меняется сам характер разыгрываемых людьми мизансцен. Все больше в них становилось какого-то учащенного примитивизма. Глубина с поверхностью мира расходились на пушечный выстрел.
Русаков с удовольствием наткнулся на незнакомую дешевую кафешку, где за стойкой-подоконником в сизой полутьме, в простодушном гвалте, можно было выпить двести граммов водки в несколько протяжных приемов.
Он начал думать о Лере и ждать звонка — ее или кого-нибудь другого, без разницы.
Лера была поразительно хороша уже тем, что поначалу втюрилась в Русакова честно и даже ухлестывала за ним открыто, не понимая его пренебрежительности, но вскоре, раскусив, как ей казалось, Русакова и вследствие этого охладев к нему, поставила дело таким образом, что мучиться теперь начал уже он.
Лера пахла так, как всегда любил Русаков, — молодым, дистиллированным потом. Этот запах ему нравилось слизывать с ее высокой, смешливой шеи, ломких плеч, умещающихся в его одной ладони, и между смугло розовеющими грудями-недотрогами. Ниже она не потела, а только сухо горела, а пятки у нее, напротив, были прохладными и отшлифованными до ранимой сквозистости.
Вытянутая и затянутая в джинсы и майку, Лера была нестерпимо извилистой, бесшумной, воспитанной, не знающей цену своей топленой истоме, которая была равномерно разлита в ее словно задыхающихся глазах, доверчивых руках и наивно развратных ягодицах. Он тосковал по этой спокойной, смазливой гордости, которая для него могла весело распластаться в любую минуту. Но кто-то открыл Лере ее истинную цену, и Лера стала шаг за шагом тяжелеть слюнявой репликой, избитым телевизионным жестом, смазанными ресницами, попыхивающими ноздрями. Дошло до того, что она стала отпускать довольно тривиальные угрозы в адрес Русакова. Наконец он сказал ей, что, узнав свою цену, она обесценилась. Лере стали противны эти депрессивные каламбуры старпера. Она теперь умела с удовольствием, как сыр в масле, плавать внутри своего поколения. На Лере появилось дорогое и нелепое нижнее белье, с которым Русаков не очень справлялся, что не столько ее забавляло, сколько бесило.
«Чего ты хотел? Вспомни, где ты ее подцепил. Вспомни, как легко она с тобой поехала к черту на кулички. Однако не подлила в спиртное клофелина, не ограбила. Понятно, что она желала большего от тебя. Она хотела от тебя красивой жизни, надеясь на такую, видя, как ты шикуешь. А ты полагал, что привлек ее своей великодушной страстью? Старый осел! Вспомни, тебя и другие твои шлюшки рано или поздно начинали звать дураком, каких свет не видывал».
Лера была детдомовка, не сирота, а именно детдомовка. Иногда она, захлебываясь, несла несуразное о своей матери, которую стыдилась сквозь жалость, и об отчиме, который ее, Леру, изнасиловал. Об отчиме в точности она говорила только то, что тот противен ей душком, как из размороженного холодильника, и тем, что напяливает длинные, до колен, носки.
Русаков надеялся на то, что детдомовское прошлое отзовется в Лере не только изощренностью, чему он совсем не противился, что его слепило, но и неким мучением, инстинктивным, мизантропическим, но при этом все-таки сердечным, какое обязательно сидит в любом подранке путаных кровей. Может быть, думал он, Лера станет ему невыносимо дорога, и они поселятся вместе, и он наконец-то будет приветливым, покорным, беззаветным самым естественным образом.
Однако именно он, Русаков, при последнем их разговоре приказал Лере больше ему не звонить, удалить его номер из мобильника, не думать о нем ни хорошо, ни плохо. Он подозревал, что она знает его теперь как облупленного и, прежде всего, то, что он нищ и скучен. Он знал, что Лера кончит плохо — на панели, в рабстве. Но он рассчитывал, что с ним бы она кончила плохо много позже, чем без него.
У клуба, в котором теперь должна была развлекаться Лера, Нева раздулась и стала щербатой, как брусчатка поблизости на набережной. Вода под ногами Русакова дробилась. Он даже нагнулся и зачерпнул воду горстью не как воду, а как нечто рассыпчатое, как гравий. Стало понятно, что штормовое предупреждение не стоило и выеденного яйца. Отдельные всплески щекотали гранит. Небо было зарубцевавшимся. В Медном всаднике неподалеку ничто не напоминало прежнего кумира, скачущего над Россией с простертою рукой. Знакомый скульптурный истукан посреди скверика. Низкое ограждение, красная крошка под ногами туристов и молодоженов.
В поле зрения Русакова вдоль парапета, с обвислыми цепями, долго фланировали две доходяги — мать и дочь, с полуазиатскими, закопченными и пыльными лицами. У каждой в руках были пакеты с перемещаемым скарбом. Мать от дочери отличалась белой вязаной шапочкой с заляпанным отворотом. Дочь была простоволосой, маслянистой. Вместо скул у нее были теннисные мячики, вместо глаз — вареные креветки.
2
«Перестань, Русаков! Не понимаю, как тебе всё это сходит с рук».
«Что это?»
«Вот это всё. Вся твоя жизнь. Весь твой секретный, опустошительный образ жизни. С одной стороны, ты разумен, ответственен; с другой — отщепенец, развратник и поразительный трус. Я не удивлюсь, если ты к тому же и убийца».
«Все мы немного Свидригайловы. Однако когда я умру...»
«Перестань, Русаков. Вот это “когда я умру” в тебе особенно невыносимо, отвратительно, смешно».
«Да, смешно. Теперь. Но когда я умру, извини, изменится система координат, и я окажусь человеком крайне обворожительным».
«Это будет зависеть и от того, как ты умрешь. С твоим поведением ты можешь кончить очень паскудно. В сточной канаве».
«И вот ему было мучительно видеть, что какому-то, в общем, босяку женщины мажут ноги дорогим маслом».
«Русаков!»
«Как тяжело умирают эти лжецы! Опять один умер от рака позвоночника. Они даже умирать едут в Лондон».
«Праведники тоже умирают от рака».
«Да, к сожалению, тоже. Но...»
«Никакого “но”. Мы всё узнаем в достоверности. Ведь ты, Русаков, больше всего на свете любишь эту достоверность. Только она у тебя всегда какая-то недоговоренная, на полутонах».
«Трусость, а не страх».
«Вот именно... Ты всё один, Русаков?»
«Один».
«Одному тяжело?»
«Да нет. Патовая ситуация — это ведь не стена. Это огромный лес. По нему трудно идти, зато не надо думать о направлении. В какую бы сторону ты ни пошел, всюду будет одно и то же — лес, глубокий, тревожный, непроходимый...»
«Понятно. Земную жизнь пройдя до середины... Смешно. Она, говорит, не меня бросила, а мой социальный статус бросила, и теперь не ко мне вернулась, а к моему благополучию вернулась. Один мой знакомый, когда от него ушла жена, целый год еще жил с тещей в одной квартире. Боясь, что та его отравит, завязал пить, разбогател, и, как следствие, жена вернулась. Теперь они объединились с женой и тещу отправили в дом престарелых».
«Загладить вину перед близкими и жить в самодисциплине и укладе, изо дня в день, сквозь болезни и заботы, до логического конца?»
«Современные точки опоры: комфорт, секс, долгожительство. Ты не философ, ты не Витгенштейн».
«Наоборот, отсутствие любви, может быть, асексуальность, иногда проститутки и тогда — ярость и сожаление, что всё это очень накладно».
«А как же вдруг — великолепная улыбка и невозможность ее осилить ни физически, ни обожанием?»
«Красота телесная должна быть порочной, иначе она — лживая тварь. Есть мерзкие, а есть богомерзкие, те вполне приличные с виду».
«Что Лера?»
«А вы видели, что Рубикон, который называют Лерой, был перейден?»
«Что?»
«Вот то-то».
«Смешно, Русаков. Нам никто не нужен, мы пойдем дальше одни. Так?»
«В отрочестве я придумал теорию, которая теперь мне мстит. Суть этой теории заключалась в том, чтобы вызвать искусственным образом ненависть ко мне у самых близких мне людей — матери, брата, тетки. Однажды, среди ночи, в озарении, я понял, как сильно они меня любят. Мне было это приятно, но я испугался, что, если со мной что-то произойдет, они этого не переживут, особенно мать. А я этого не мог допустить. Тогда мне пришла спасительная мысль (как оказалось, очень банальная, так поступают многие) стать настолько плохим человеком по отношению к моим близким, чтобы они в конце концов меня разлюбили, чтобы разрыв со мной не стал бы для них горем, чтобы они были безразличны ко всему, что бы со мной ни случилось, даже самое постыдное и самое страшное. Вот такая опрокинутая, вывернутая наизнанку была у меня любовь. Надо сказать, что я играл в эту ненависть вполне правдоподобно. А может быть, и не играл, может быть, действительно ненавидел, презирал их и специально придумал эту идейку с двойным, а то и с тройным дном. Мне кажется, по-настоящему я боялся другого — я боялся, что они вдруг поймут, что любят меня по ошибке, что на самом деле меня любить нельзя».
«Ну и что родственники?»
«Ничего. Они умерли чересчур рано для моей теории, как будто не хотели, чтобы она осуществилась, — и тетя, и брат, и мать. Отец же, который умер еще раньше, к нашему ближнему кругу не принадлежал. Он один видел меня насквозь, но помалкивал и, конечно же, никогда меня не любил, за что я ему, исходя из этой дурацкой теории, по сути, должен быть благодарен».
«Любишь ты на себя наговаривать, Русаков. А перед отцом, действительно, в этом мире если и возникает некая вина, то теперь только эдакого культурологического плана. Блудный сын, для порядка, должен успеть упасть с раскаянием в ноги отца. В противном случае возникает еще один диссонанс. Хотя, впрочем, одним диссонансом больше, одним меньше. Вот такие похоти отца вашего».
«Отец боится сына. Не за сына, а сына... Мы уже давно не патриархальны».
«Кто это — мы?»
«Например, русские. Помнишь, разбился самолет с российскими детьми в Швейцарии. Осетин, у которого погибли тогда жена, сын и дочь, через некоторое время зарезал диспетчера, виновного в этой авиакатастрофе. Но тогда в такой же ситуации был и некий русский мужик, у него тоже погибли сын, дочь, жена, тот же семейный состав. Так вот русский не пошевелил и пальцем в отместку, только что-то мычал в телевизор нетрезвое. А осетин решился».
«Я не думаю, что в русском было меньше горя, чем в осетине. Однако осетином, помимо горя, двигала еще и смертельная обида, чувство несправедливости, раненое родовое и связанное с ним мужское тщеславие. Наш не столько трусливо нерешителен, сколько обреченно нерешителен».
«Смотря что считать трагической судьбой. Привыкли таковой считать судьбу России с ее невероятными потерями. Их масштаб стал таким огромным и насыщенным, что само горе стало коллективным, извечным и в то же самое время сиюминутным. И это общее горе рано или поздно догоняет каждого из нас».
«Есть такой бог — коллективный и протяженный во времени».
«Тогда одно-два-три поколения можно смело класть на алтарь многовекового проекта...Чему ты смеешься?»
«Услышал любимое слово «проект». Я, говорит, весь тот год, что жил с тещей, знал, что любовный роман жены закончится, потому что он был не столько любовным романом и даже не столько любовным приключением, сколько любовным проектом, а эта вещь по определению скоропортящаяся».
«Для реализации проектов должны быть организации. В России теперь таковых две — евреи и чекисты, чекисты и евреи».
«Смешно. Помню, Путин в самом начале, как все русские неофиты, прибеднялся и конфузился перед либеральными телекамерами. Ничего, пообтерся, освоился».
«Он мог бы вызвать всех губернаторов и приказать: теперь принимаем из республик СНГ только русских беженцев. Но он питерец. А питерцы и москвичи — одно лишь название, что русские. Настоящий русский человек теперь — русский беженец, хлебнувший лиха где-нибудь в Узбекистане или Эстонии только лишь потому, что он русский. Было бы очень полезно сейчас, чтобы президентом России стал бы именно такой русский беженец, а не питерский москвич или московский питерец».
«Иногда думаю, что Запад мог бы и значительно раньше расправиться с СССР, если бы захотел. Но выжидал как будто до того момента, пока русская диаспора в америках и во франциях совсем ни саморастворится. Иначе, если бы разгром Союза произошел, например, в пятидесятые годы, русские эмигранты вернулись бы в Россию на коне и, конечно, играли бы в ней решающую роль, что Западу было не с руки. Ему нужна в России другая элита — гремучая смесь быдла и чужака».
«Для всего теперь хватает мертвых русских классиков. Живые больше не потребуются».
«Слава богу, многие русские классики родились евреями. Родись они русскими, кто бы о них знал?»
«Я за последние пятнадцать лет сильно разочаровался в евреях. Но еще сильнее я разочаровался в русских».
«Одних после войны лживо жалели, других лживо боялись».
«Обрати внимание, бомж отогрелся и начал хамить. Изучает с ненавистью».
«Смешно. Даже бомжа можно превратить в некого современного человека. Каким-нибудь пустячком: например, вдеть ему в ухо серьгу. И вот уже не отбросы общества, а, извините, маргинал».
«Есть люди, не совершающие дурных поступков, но выглядят они все равно не добрыми».
«В том, что этим людям и этому времени ты абсолютно не нужен, никакой обиды быть не должно. Но презрение к этим людям ты вправе выражать в открытую».
«Зачем? Мне грех жаловаться. Есть своя глубина, свое раздолье. Никакой изматывающей экстенсивности, только интенсивность».
«Вот, видишь, женщина-менеджер. Когда она за рулем, у нее недовольный вид: неужели, мол, не понятно, что мне надо уступать дорогу всегда. Ее жизнь — офис, мелкое производственное жульничество, муж-слуга, приевшийся любовник, периодически — мальчик-стриптизер по вызову. Она с полным правом относит себя к «золотому миллиарду».
«Я не понимаю женщин, которые позволяют себе читать всякую дрянь, какую нормальный человек даже в руки побрезгует взять».
«У этой тонколицей брюнетки с оборонительным взглядом — болезнь, боль, больницы с ловкачеством врачей».
«Как радостно опешила!»
«Скулы как груди».
«Вкрадчивая язвительность цивилизации».
«Всё же люблю нежные и сильные формы. Комфорт, секс, долгожительство».
«Секс добропорядочных стариков уродлив. Правда, секс у хулиганистых стариков ничего. Хулиганство — заместитель молодости».
«Смешно, Русаков. Подают сперва хорошее вино, а когда напьются, — худшее».
«Мы были на разных стадиях, поэтому плохо понимали друг друга. Один из нас ушел вперед и забыл, какого оправдания может заслуживать другой».
«Не говори, Русаков».
«Эти — другая порода людей и на другом витке жизни: либо завидуют либо презирают».
«Как они ни пыжатся, лживые идеи не проходят, вот они и злятся».
«Душа устроена справедливо. Справедливость чуда...»
«Если ты понял, кто ты есть, иди дальше, не оборачивайся».
«Посмотри — известный в городе кидала. Скрывается, готов убить кредиторов. Дома у него отец-инвалид, прикованный к постели, и желанная женщина Алла».
«Почему Алла?»
«Я его знаю и ее знаю».
«Ты помнишь свою жену, Русаков?»
«Как же? Помню. У нее был низкий, хрипловатый голос интеллигента-курильщика. Ахматовский грассирующий кашель и большая ленинская голова. Она всегда просила меня сыграть ей на трубе. А я даже не знаю, куда нужно в трубу дуть — в узкую или в широкую горловину».
«Ба! А вот и главный редактор педофильского издательства пожаловал».
«С этим, с телевизионным патриотом. Уморительная морда. Вдруг разразится долгой, слюнявой, метафорической тирадой, потом замолкнет непроницаемо, как будто капроновый чулок на голову напялит. Глаза в чулке сплющатся, и от патриотизма останется только какая-то негритянская маска».
«Недобрый ты, Русаков!»
«Наша главная фамильная черта — деликатность. Отец был человеком необразованным, по сути, бывшим крестьянином, но деликатность в нем была врожденная, и в деде, замешанная на природном смущении, крепостном чинопочитании и поразительной наблюдательности. Вглядывался в каждого человека так глубоко, как будто хотел разглядеть в нем сам дух, увидеть дух в человеке чуть ли не на физическом уровне».
«Да куда там вглядываться? Сплошной обмен веществ».
«Постой, а ты, оказывается, левша. Это подозрительно. Как же ты крестишься?»
«Перестань, Русаков. Тебе хорошо известно, что я не крещусь... Ладно, мне пора. А то мы с тобой заболтались. Как персонажам Достоевского, чтобы жить, надо бесконечно разговаривать».
«Иди и бойся тех, кто не любит пунктуацию».
«Смешно. Здесь недавно по телевизору один современный деятель искусств очень правильно вещал о мученической природе творчества, приводил в пример Пушкина, Гоголя — и вдруг минуту спустя великими поэтами называет каких-то прощелыг, как раз из тех, кто обходится без запятых. То ли этот деятель по привычке врет, то ли у них у всех теперь каша в голове».
«Врет. Если кто-то вам теперь скажет, что он писатель, не верьте ему. Сейчас настоящему писателю должно быть стыдно называться писателем».
«Ладно, пока, Русаков. Насмешил ты меня».
3
Теперь, спустя время, тех, кто ненароком вспоминал о Русакове, осталось не больше, чем пальцев на руке.
Например, вспоминала племянница, которую он лишил жилья в Оренбурге. Год назад Русаков неожиданно нагрянул на малую родину — какой-то выморочный, ласковый, притворно захудалый, не похожий на себя — и с ни разу не скрипнувшей твердостью заявил, что намерен продать квартиру матери, где на птичьих правах проживала тогда его бедная молодая родственница. Он объяснил ей свое решение общим крахом, главным образом финансовым, и необходимостью срочно опять иметь хоть какие-то деньги за душой, чтобы при их помощи постараться заткнуть-таки, как он выразился, свои озоновые дыры. Вся его речь в целом тогда выглядела пристойной, без истерических оправданий, шитых белыми обывательскими нитками, без этих просьб понять его правильно. Он даже посулил племяннице часть денег, что надеялся выручить за квартиру, дабы племянница вдруг от вероломного удара не наделала бы каких-либо глупостей, не бросилась бы с ножом на родного дядю или, того хуже, не бросилась бы с пятого этажа, потому что знал ее всегда как девочку почтительную, домовитую и справедливую.
Как он ни старался, но два ляпа он тогда допустил в разговоре с племянницей, когда они сидели на кухне друг против друга и он совсем не пил, а племянница отхлебывала из рюмки водку трудными глотками. С языка Русакова тогда сорвалось, может быть, застарелое и спесивое, что, в конце концов, брату в последние годы он помогал предостаточно: и дом купил в области и лечил от неизлечимой болезни в Военно-медицинской академии в Питере. Племянница парировала даже без смешка, только глаза потупила с какими-то невероятно длинными и словно продолжающими расти ресницами: «Отец тебе тоже много помогал, когда ты учился в Ленинграде». Это — она о своем отце, о его старшем брате, покойном.
Вторая осечка Русакова случилась в конце вечера, когда он уже ностальгически нагулялся по квартире в прежних своих тапках, которые нашел в прихожей, насмотрелся на родную мебель и утварь, натрогался стен вдоволь, надышался на балконе воздухом, куда более мускусным и сообщительным, нежели чем в Петербурге. Трезвый, но гипертонически красный, вдруг по-свойски вглядевшись в насупленную племянницу, Русаков произнес, что сейчас вот он вспомнил, как носил ее маленькую на руках, новорожденную, потому что нянчить было больше некому, все работали, а она была требовательная рева и особенно терпеть не могла, когда он ее купал в ванночке. В памяти сохранилось ее маленькое плотное тельце с забавной складчатой щелочкой. Он улыбнулся, увидев, что племянница теперь думала о том же самом, о том, что он когда-то видел ее голой...
Он вынужден был, пока оформлял продажу квартиры, опасаться племянницы. Его заставил осторожничать и паниковать ее хахаль, который, объявившись, даже не поздоровался с Русаковым как следует. Впрочем, то, что он не поздоровался, как раз не смутило Русакова. А вот то, что этот костистый, с прямым позвоночником хлопец для Оренбурга выглядел чересчур изящным, в очечках на матовом носике с горбинкой и с нормированными речевыми оборотами, чем, например, племянница похвастаться не могла, было тревожным сигналом. Похоже, юноша принадлежал к тем передовым представителям поколения двадцатилетних, которых отличала эдакая юридическая толерантность. Они допускали, что, в том случае, когда это позволял закон, человека можно было стереть в порошок без зазрения совести, а когда не позволял, следовало создавать такие правовые условия, которые не препятствовали бы изживанию лишних ртов. Правда, эти ребята иногда от нетерпения могли пускаться во все тяжкие, включая оголтелый криминал, и вот этого их жестокого желторотого художества Русаков как раз и остерегался, всерьез запоминая мшистую эспаньолку местного метросексуала. Противно стало Русакову и тогда, когда он заметил развернутый и высохший презерватив под диваном. Впрочем, это зрелище лишь усилило в Русакове мысль, что материнская квартира стала чужой, плохой, нечистой и от нее надо срочно избавляться.
Дни, когда совершалась купчая, составлялись необходимые документы и передавалась плата, Русаков от греха подальше предпочел провести в гостинице. Основную сумму он положил на счет в банке, а то, что обещал племяннице, передал ей в кафе в центре города, куда попросил ее явиться одну без одиозного сопровождения. Племянница, получив конверт с долларами, вдруг расплакалась, сказала, что не верила, что он даст ей эти деньги, после чего даже облобызала дядю и попросила у него прощения. В ответ Русаков попросил простить его тоже, зная, что больше они никогда не увидятся. Он запомнил на будущее только ее слегка продавленную макушку, из которой тянулись плохо высветленные, слабые, какие-то окончательно несчастные волосы. Через два часа он покинул Оренбург, бежал, как тать. Именно так он себя чувствовал — невольным воришкой, отщепенцем, блудным сыном, трусом, так и не побывавшим в тот приезд на кладбище, на могиле матери...
В бывшей жене Русакова чувствительность всегда соседствовала с практичностью. И то, и другое составляло ее суть и создавало приятное впечатление о ней как женщине ровной, немного измученной и абсолютно надежной, с девичьей, открытой улыбкой, но с быстро стареющим, умным хихиканьем. Когда она пребывала в хорошем расположении духа, не болела, не видела дурных снов и при этом вдруг удосуживалась вспомнить о Русакове, то вспоминала о нем без раздражения, без оценок, даже с сочувствием. В эти спокойные минуты Русаков собой, своей допотопной фигурой замещал в ее памяти некий равноудаленный фон прошлого, где все края уже обтрепались, углы округлились, а песчаные крепости осыпались. Ничего конкретно хорошего или веселого из этого общего гула пустыни ей совсем не хотелось извлекать. Само же по себе, без ее сознательных усилий, никакое отдельное воспоминание не могло вдруг стать доминирующим. Да, дескать, был в ее жизни такой человек по фамилии Русаков, в общем-то жалкий, был долго, но, слава богу, не дольше самой жизни, был да сплыл. Кстати, она до сих пор тоже оставалась Русаковой, что фонетически ей подходило и прежде, и теперь.
Совсем иначе вспоминала она пресловутого Русакова, когда настроение у нее портилось, обычно — с утра и на весь день с ночью. Нет, она не списывала тогда всю свою судьбу на бывшего муженька — много для него чести, но считала, что без Русакова жизнь ее при любом ином раскладе сложилась бы лучше, а не хуже. Со временем наиболее охотно она обдувала от пыли, как это ни странно, самое тягостное воспоминание, связанное с Русаковым, — тот вечер на съемной даче в Белоострове, когда в гости к Русаковым приехал некто Плигин на новой иномарке. Она приготовила для них шашлык, потому что ни один, ни другой не могли этого делать как следует, и в полночь ушла от них спать, потому что пьяные разговоры мужчин, какими бы интеллектуалами те ни были, как слушательницу клонили ее в сон, причем сон всегда не свой, заимствованный, вынужденный, где отсутствовала картинка, а несся только звук с какого-то неизвестного спутникового канала. Она проснулась среди ночи от механического шума в голове, словно действительно забыла выключить телевизор, в котором теперь монотонно шипела рябь. На веранде не было ни мужа, ни Плигина. Не было их и во всем доме. Она вышла на улицу, буквально залитую сырым полнолунием. Машина Плигина от калитки тоже исчезла. Женщина поняла, что дружкам не хватило спиртного, и они укатили на станцию к круглосуточным ларькам. Она уже была осведомлена, что Плигин нередко садился за руль подшофе, но сегодня в его машине был ее муж, в отношениях с которым именно в то лето у нее открылось второе дыхание, супруги опять улыбались друг другу уважительно, осведомленно и в полной мере плотоядно. В беспокойстве она опустилась на скамейку у забора и услышала, как у соседнего дома притормозил автомобиль с неряшливым шансоном.
Это был приземистый плигинский «мерседес», во тьме отливавший сальным, ежевичным лаком. Она разобрала, как через переднее сиденье Русаков закинул руку назад в салон, где сидели одинаковые, смирные шлюхи с дурацкими челками и загорелыми скулами. Жена Русакова подошла к машине незаметно и, просунув в открытую дверцу максимально насмешливое лицо, спросила: «Может, и мне заплатишь?» При этом она выдернула из пальцев мужа деньги, сунула их себе в карман халата и удалились — высокая, с высокой шеей, с молодыми, сильными икрами, обладательница низкого, благоразумного голоса. Русаков затем клялся, что лично у него с теми проститутками не было абсолютно ничего. Возможно, его заверения могли оказаться правдой и с теми проститутками у него действительно ничего не было, но само стечение гнусных обстоятельств, дурной сексуальный опыт мужа, его выразительная горемычная тоскливость, сменявшаяся кутежами, его неумение ценить синицу в руках, уверенность в том, что всё перемелется, его порочная жертвенность и, с другой стороны, ее жажда обыденной верности стали непреодолимым препятствием для дальнейшей супружеской жизни, от которой бывшая жена Русакова теперь уже знала что ждать — ясности, проникновенности, длительного комфорта, чистоплотных привычек...
О Русакове теперь могла еще помнить Лера. Лера не уставала твердить, что он ее первый мужчина, не считая насильника-отчима. Благодаря Русакову она якобы стала любить именно такой тип мужчин — сорокалетних, с большими руками, с внимательными глазами, хорошо пахнущих, с задницей вишенкой, не верящих женщинам. Правда, она то и дело путала его имя, называла то Сашей, то Андреем, то каким-то Рустамом. Простую его фамилию не могла выучить толком.
Она любила, когда Русаков запивал, особенно старты и финиши этих безумных периодов. В первые два дня запоя Русаков перевоплощался в подпольного миллионера, решившего обнаружить себя. Он был в костюме со съехавшим набок галстуком, завязанным двойным Виндзором, подстрижен, с филантропическим лицом, обмелевшим животиком, ироничен, но отнюдь не бесцеремонен, напротив, вкрадчиво уступчив и самоубийственно щедр. Они с Лерой проезжали пятьдесят метров на такси, Русаков просил водителя их подождать, пока они быстренько посетят бар, оставлял крупную купюру в залог и чистосердечно удивлялся, когда таксист, стоило им выйти из машины, моментально срывался с места. Лере нравилось, как начинал в эти дни пахнуть Русаков — дорогим парфюмом и дорогим виски. Причем эти два запаха не смешивались поначалу, не объединялись в один общий, что с ними неминуемо происходило чуть позже и оборачивалось к концу недельного беспробудного пьянства обычным тошнотворно ароматизированным перегаром.
На исходе запоя Русаков для Леры хорош был иным. Он звонил ей и умолял приехать, потому что он гибнет, потому что это его последний день жизни, потому что он ляжет сейчас у тухлой речки и скатится в воду и сольется с ней, нечистое с нечистым. Приезжай, просил он Леру и называл точный адрес какой-нибудь забегаловки где-нибудь в Купчино или Веселом поселке. Лера приезжала, восторгаясь настоящей человеческой комедией. Последний раз она нашла Русакова в занюханном павильоне на Народной улице. Он сидел в дубленке и в желтых вельветовых брюках, несильно побитый, с физиономией, наполненной до отказа ужасом. Он сумел обрадоваться ей натурально и простонародно, представил гоп-компании как своего ангела-хранителя. Оказывается, он пил этот день в долг, и Лера этот долг погасила, сущие копейки, помада больше стоит. Она пошла с Русаковым в его очередную съемную квартиру через дорогу, где он незамедлительно уснул и сквозь сон стал слушать, как Лера отдавалась чернявому, коренастому молокососу, который грозился забить Русакова ради потехи до смерти, если она не отдастся. Чернявый любил вот так вот, коварно, получать в свое полное расположение какую-нибудь красивую, длинноногую, гламурную телку.
Теперь Лера не искала Русакова. Она сама начала входить в то низменно-мечтательное состояние, когда ей ничего не оставалось, как только выдавать желаемое за действительное, падшего за великого. О Русакове она пела одну и ту же песню, что это был роскошный мужчина, но дурак, каких свет не видывал...
Надо сказать, что еще у Русакова была взрослая дочь. Представление об отце-полупризраке почти полностью было сформировано матерью — и не столько вербальными средствами, сколько самим фактом ее жизненной неустроенности, которую, по мнению дочери, мать не могла сотворить собственными руками, ибо натура у нее была для этого слишком гармоничной, а не дегенеративной. Мать часто рыдала в ванной, и это очень мучило дочь.
В отце дочь помнила два вида улыбки. Первый как раз не сходил с его лица во время этих изнурительных для всех членов семьи размолвок с матерью — сочетание тотальной вины, которую уже невозможно было ничем искупить, и безоглядной, лукавой лихости, пожалуй, сквозной черты отцовской породы. О втором виде своей улыбки отец поведал дочери сам. «Так хорошо улыбаюсь я только тебе, доча, — говорил он хоть и пьяненький, но собранный в кулак. — Только тебе. Другим так хорошо я улыбаться не могу, даже матери твоей и своей я так никогда не улыбался». «Так хорошо» включало в себя, помимо для дочери непонятного, какую-то обреченную и вместе с тем перспективную доброту, имевшую всегда глубокую, узорчатую подсветку, без рывков. Тогда же дочь осмелилась и спросила отца: «Почему ты так себя ведешь? Так жить, как ты живешь, очень трудно. И не нужно так жить. Надо жить правильно, позитивно, сдержанно». Отец в ответ, не меняя лучшей своей улыбки, все-таки обидел дочь: «Какого-то ты себе странного парня выбрала. Какой-то он чересчур темненький и ростом не вышел для тебя». Глаза у дочери мгновенно намокли, и лоб подернулся алыми пятнами. «Извини, — спохватился отец. — Я не прав. Он, действительно, хороший». Отец погладил дочери спелые, полные округлых локонов, волосы. Надо отдать должное отцу: когда впоследствии на Невском он встретил дочь с этим ее парнем, то пожал ему руку на диво дружелюбно и на вырост заветно.
В то свидание Русаков сообщил дочери, что кот, ушедший жить с ним, с отцом, умер, вернее, его усыпили в ветеринарной клинике, чтобы животное не мучилось от дохлой старости. «Как это ни смешно, — признался тогда отец, — кота нет, а запах от кота держится до сих пор».
РАЗЛУКА
Как хорошо начинали классики! В первой же фразе вырастал день, полный неба, ландшафта, человеческих отношений. Появлялась слитная картина: Бог целостен и безмерен, поэтому неразличим.
Молодой человек, Саша Воропанов, прямой, ценящий свою походку, с красивым прозрачным лицом, ближе к вечеру вышел погулять с ребенком.
Осень старалась понравиться редкими и резкими вспышками солнечного света. Дочка Леля была самостоятельной, даже сосредоточенной на себе и с виду нестерпимо беззащитной, поэтому играла всегда где-то в двух шагах от папы, сама с собой, с разлапистыми желтыми листьями, с любимым, истертым плюшевым зайчиком, с маленькой сумочкой, в которой хранилась миниатюрная посуда на тот случай, если подвернется песочница. Девочка подпрыгивала, приседала, замирала, над чем-то наклонялась, вскакивала, догоняла молчаливого и тревожного отца.
Жена на сутки уехала к матери в Ленобласть за шерстью и уже задерживалась. Ленобласть находилась поблизости, у Саши Воропанова висел на ремне мобильный телефон, но жена не звонила, не предупреждала, что задерживается, и он сам не думал звонить в Ленобласть, потому что опоздание жены длилось еще только пару часов. Он лишь позвонил домой, в квартиру, удостовериться, что жена вернулась, но оттуда ему ответила только череда длинных, отчетливых, невозмутимых гудков. Сашино беспокойство вылезало наружу раздраженной немотой. Если бы его лицо не было молодым и свежим, неподвижная мрачность могла бы превратить его в безобразную, напряженную глыбу. Пока же будущее уродство ограничивалось тремя вертикальными пунктирами, оснащенными тенью, которые неровно делили Сашино лицо пополам — складкой меж бровей, впадиной под носом, продолговатой мягкой расщелиной на подбородке. Все это пока не отвращало от него, напротив, создавало впечатление первой, юношеской строгости. Было понятно, что красота и уродство лепятся из одного и того же материала, что уродство — это испортившаяся или испорченная красота.
Иногда Леля, боясь собак, подбегала совсем близко к отцу, обнимала его за ногу, запрокидывала голову в косынке и видела, как диковато он смотрит на шумных людей, на пышность жизни, как быстро и грустно радуются его глаза, когда они замечают ее, дочку, и его длинные пальцы полностью покрывают ее макушку. Она понимала, что ему печально оттого, что собаки себя так плохо ведут, а хозяева собак никак не реагирует на их плохое поведение и ведут себя нисколько не лучше своих питомцев — хохочут на всю улицу, размахивают руками и озираются с неприязнью. И Леля вздыхала погромче, чтобы он слышал и чувствовал, как при вздохе она растет и поднимается к нему.
Наконец, они перешли дорогу и оказались в парке, где росли громадные добродушные деревья, в кронах которых, как в волосах, то и дело путалось маленькое, как заколка, солнце. Здесь находились уголки укромного одиночества, душистые полянки, сопревшие пеньки, мутные болотца с рыжими ожогами, зеленый, как на блюде, мох.
Леля рассказала, что мама здесь с ней боится гулять, потому что сюда может забрести разная неприятная нечисть. Но с папой гулять неопасно, даже весело. Саша соглашался, что здесь можно с ним гулять, а с мамой лучше гулять вон там, на той дорожке, где гуляет народ. Саша вспомнил, что в этом парке, вдали от основной аллеи, жена несколько лет назад удосужилась повстречать эксгибициониста. Саша тогда успокоил ее тем, что эксгибиционисты люди тихие и сами всего боятся, на что она лукаво поинтересовалась, а ему-то, мол, откуда известно, что они такие тихие и пугливые. «Нет, бывают, наверное, и отважные, — согласился он, — есть же теперь в клубах мужской стриптиз». «Ну, там красавцы, — возразила жена, — а мне не повезло: в глаза бросилось что-то непримечательное».
Саша Воропанов думал о себе как о начинающем и начинающемся писателе, а сформулировать, что такое любовь, не мог. Не потому, что боялся повторений, а потому, что выходило всегда длинно, вязко и все равно как-то неточно, не законченно. В этом случае память всегда открывала ему тот день, когда его жена, тогда еще не жена и даже не невеста, приезжала навестить его в армию. Ему помнилась не ночь, которую они провели в сплетении в избе у старухи, сдающей комнаты, а следующий день, когда они долго шли на станцию вдоль синего зимнего поля, иногда смешно утопая в сугробах, но боясь посмеяться над этим, падая рядом друг с другом в полном молчании, с виноватостью, с досадой, что не удержались на ногах. Он помнил, как она гладила его щеку и ворот шинели одним касанием, как нечто слитное, и ее несчастная сдержанность была так близко, совсем рядом, как будто в нем самом, внутри. Они пришли на станцию за некоторое время до отправления ее поезда, но она попросила его не ждать, когда поезд тронется, и возвращаться в казарму. Самыми несносными в его жизни оказались те минуты, когда он шел обратно, зная, что поезд с ней еще стоит у платформы и, может быть, еще будет недвижим невыносимо долго, когда ничего не будет слышно — ни сиротливых гудков, ни вьюги, ни хруста под ногами. Он думал, что разлука превратится в вечную, разделенную на две части — прижизненную и посмертную...
Девочка взяла его за руку так, как брала жена, — веско погладила от кончиков пальцев к запястью и потянула к небольшой толпе у оврага, где она уже успела побывать в поисках нужных камушков.
— Что это, папа? — спросила девочка. — Пьяный?
Саша Воропанов увидел в кювете половину лежащего человека, толстоватые ноги в красивых ботинках и задранных брюках, и белую маленькую кисть руки с мертвыми, сдувшимися жилами. Вторая половина человека была закрыта с головой картоном. Рыжеусый милиционер, с болезненной испариной под козырьком фуражки, кивал головой и предотвращал приближение к трупу ленивой жестикуляцией.
Саша Воропанов увел Лелю в сторону. Ее недоумение граничило с раскрытием тайны и последующими рыданиями. Саша взял Лелю на руки, чтобы таким образом быстрее удалиться от страшного места. Он говорил ей, что уже солнышко начало закатываться, что листочки зашептали холодно, что мама, наверно, уже вернулась и пора ужинать.
— Если бы мама вернулась, она бы позвонила, — сообразила девочка, которой было приятно ехать на папе.
— Я отключил телефон.
— Я так и знала, — сказала девочка, но о чем-то своем.
Вечер был искрометным, только эти искры были темными.
Саша Воропанов любил темную сторону суток, иное полушарие, невидимое отсюда. Сашу почему-то осенило, что белая рука у трупа с виртуозно оттопыренным мизинцем, видимо, принадлежала Селицкому. Не Алексею, а Николаю. Оба Селицких были писателями. Но Николай был модным, интеллектуальным, обидчивым мистификатором, а Алексей вообще куда-то пропал.
В споре славянофилов и западников победили последние, жалобно назвавшиеся постмодернистами. Победили и вдруг стали умирать. Один за другим, как этот Селицкий Н. Они смотрели на своих горе-собратьев, сохранивших допотопное миропонимание, как колонизаторы на туземцев, с терпеливым пренебрежением. И вдруг что-что с ними произошло, непредвиденное и непреодолимое.
Саша Воропанов видел Селицкого Н. на днях в Доме книги. Узнав друг друга, они как-то уж чересчур символично замешкались на входе, пытаясь уступить один другому дорогу. Селицкий Н., обычно бледный и рыхлый, был непривычно румян, подшофе, надушен, купил охапку своих книг. Он спросил Сашу, когда встретимся. Воропанов ответил, что встретились ведь уже, и, кажется, обидел Селицкого Н., потому что тот захихикал тоньше, чем обычно. Селицкий Н. думал о Воропанове, что вот приятный молодой человек, а куксится. Однако, что мог ответить Селицкому Н. Воропанов, если они действительно встретились?
Саша Воропанов думал о превратностях текущего века. Поразительно, всё оставалось по-прежнему вечным: и человеческая красота, и природа, и смерть, и ребенок как апофеоз классической чистоты, а представление об этом вечном исказилось до противного. Ты должен быть богатым, чтобы путешествовать с женой и дочкой по белому свету. Для этого ты должен быть известным, востребованным, мерзким. Либо ждать, полжизни провести в подполье. И всё пожизненные сроки, и всё посмертные срока. Ждать, когда это всё закончится. Тем временем закончишься ты. Жена была права, когда пресекла его мечту об отдельном кабинете старым, как семья, заверением: «Как только у писателя появляется кабинет с письменным столом из карельской березы, с вольтеровским креслом, писатель заканчивается». Вместо кабинета сделали детскую. Ребенку нужнее личное пространство.
Ужинали с Лелей вдвоем. У нее был плохой аппетит, и она стала уже беспокоиться, правда, достойно, понимая, что паниковать нельзя.
Жены не было. Жена... Она была красивая, смеющаяся, ловкая, что вместе составляло впечатление игривости, врожденного кокетства. Что могло случиться, если через чертов парк она не ходит и должна была приехать с вокзала на такси.
Он уложил Лелю спать с ее зайчиком. Как волны, как наводнение, хлестали порывы ветра в окно. Когда ребенок спит, его бесценность удесятеряется. Саша взялся за Музиля, которому требовалась сосредоточенность и замирание. Но чтение Музиля было таким нескончаемым, мучительным, что казалось, он не столько читает, сколько пишет этот великолепный, мнительный текст за Музиля.
Писать Саше было особенно приятно поздно ночью, когда бушует неподалеку ночная живая листва, когда веки начинают слипаться. Пока водит рука, сознание уходит, звонко возвращается, как сквозняк. Странно, думал Саша, с женщинами эти выспренние постмодернисты, тот же Селицкий Н., в жизни обращаются довольно грубо, как древние люди, как дикари, как варвары...
Возвращение жены Саша Воропанов почувствовал благодаря ее характерному прикосновению. Только она так длительно, бесконечно, с молчащим ликованием могла проводить по его лицу одним, не пресекающимся движением — от ямочки подбородка, через нос, через лоб, по всей голове к плечам. В этот раз ее рука почему-то дрожала, как будто набухшая мелким, пульсирующим нарывом.
— Почему так долго? — спросил Саша сквозь гулкую и утлую бесприютность. — Ты знаешь, как я замотался с ребенком?
— Ты просто не можешь без меня, — услышал он голос жены в ласковой темноте.


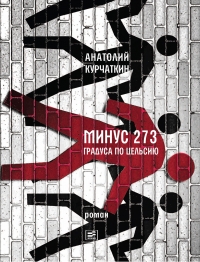

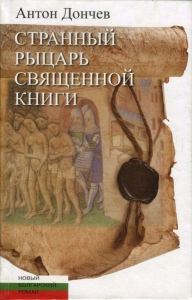

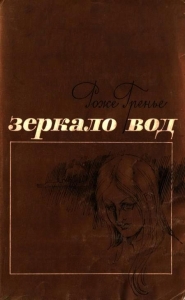

Комментарии к книге «Антипитерская проза», Анатолий Бузулукский
Всего 0 комментариев