Горы слагаются из песчинок
УРОК ШАРОЛТЫ РАФФАИ
Страна, где происходит действие этой повести, — Венгрия. Небольшой провинциальный городок.
Но есть еще одна страна, не географическое, не историческое понятие. В ее удивительных пределах каждый из нас проводит, может быть, лучшие годы своей жизни, чтобы потом расстаться с ней навсегда. Это страна нашей юности, время первооткрытий, самой высокой любви, самой яростной ненависти, высочайшей бескомпромиссности — и вместе с тем вязкой неуверенности в своих силах, отваги и страха; именно здесь завязывается, складывается, мужает или, наоборот, ломается характер, здесь происходит то, что принято называть становлением личности. Но нередко становление вроде бы идет, а личность так и не получается, так и не возникает.
Страну эту покидают навсегда, но в течение всей жизни не раз возвращаются к ней вновь и вновь, вспоминая, осмысливая, осознавая себя, свои духовные истоки. Она — замечательный и вечный материал для литературы. И вот что удивительно: опыт человеческой жизни всегда перекликается с тысячами других, есть нечто общее, повторяющееся, бесконечно знакомое, однако истинный художник пишет свою единственную, неповторимую, ни на что и ни на кого не похожую юность.
Таков опыт русской и мировой классики, таков опыт наиболее серьезных произведений о поре человеческого взросления писателей современности.
Шаролта Раффаи написала юность трудную, может даже жестокую, — и все-таки прекрасную, полную надежд, тянущуюся, как молодое деревцо, к высоте, к правде, к любви…
Но скажем несколько слов об авторе этой повести.
Я неоднократно бывал в Венгрии, встречался с молодыми венгерскими читателями. И в дискуссиях, в обсуждениях, в разговорах среди многих других литературных имен запомнилось это имя — Шаролта Раффаи.
Она сравнительно поздно дебютировала в литературе, начинала как поэт; отчетливая метафоричность, поэтическое видение даже в самых непоэтических сценах свойственны ее прозе.
А прозу она начала писать в конце 60-х годов. После нескольких повестей в 1983 г. вышел первый крупный роман Раффаи «Поле, человек, река». Он о судьбах сельских тружеников. Деревенский этот материал освоен автором не кратковременными командировками в село — в течение почти двух десятилетий она преподавала в деревенских школах.
Пристальный и заинтересованный взгляд настоящего учителя, видящего не тридцать или сорок фамилий в классном журнале, а тридцать или сорок душ, лиц, судеб, ощутим и в этой повести.
Повесть «Горы слагаются из песчинок» не о деревне — о маленьком городе, в котором нетрудно узнать ее родной Калоча, насчитывающий двадцать тысяч человек, а может быть, и больше, не в том, собственно, дело, какой город… Маленький город. Но маленький город — это большой мир человеческих страстей, поисков, надежд и разочарований. Жизнь долговязого, нескладного паренька, принятого на производственную практику и одновременно отверженного его сверстниками, не обещает больших радостей.
Скажу прямо, что конфликт повести достаточно литературно освоен, некоторые ситуации выглядят примелькавшимися, почти банальными. Приход парня в новый коллектив, столкновение с ровесниками, разбитными юнцами, щеголяющими жаргонными словечками и понимающими только одну ценность — с и л ы, — все это мы уже где-то читали, видели в кино, театре, да и выпрямление героя, побеждающего обидчиков, и обязательное замужество овдовевшей матери — все это может стать, в сущности, штампом, одной из вариаций на бесконечную тему об осиротевших подростках, боязливых, неуверенных, встречающих противоборство наглого Ши́шака (у него может быть и любое другое имя), но в конце концов морально и физически побеждающих его, — могло бы стать штампом, если бы не одно обстоятельство.
Автор, по счастью, обладает свойством, делающим эту повесть не сочиненной историей, а литературой. Я бы назвал это свойство д о с т о в е р н о с т ь ю ч у в с т в.
Да, обстоятельства и сюжетные ходы нам уже заведомо знакомы, но психология героя, движение души, его реакция на то, что происходит с ним (да и не только с ним), на справедливость и несправедливость написаны с полной естественностью, точностью, подсказанной, скорее, даже не литературным искусом, а подлинной любовью к юному человеку, болью за него, верой в его нравственные возможности, в те духовные резервы, что делают слабого — сильным, робкого — уверенным, несчастного — счастливым.
Долговязый юноша, увиденный писательницей, потерял отца, не всегда понимает свою мать (да и она его), встречается с разными людьми — добрыми и злыми. Зыбка, как бы начинена динамитом среда его сверстников. Писательница берет не паинек-гимназистов, а трудных подростков, именно к ним с такой силой сегодня обращено общественное внимание, педагогический интерес. Было бы преступным равнодушием не замечать их, не говорить о них. В советской литературе эта традиция очень сильна: от Макаренко до Медынского. Суть ее в том, что ни одна душа, даже ожесточившаяся, не должна быть потеряна для общества.
Но, кроме среды подростков, есть и мир взрослых, и он не всегда близок нашему герою, не всегда уютен и доброжелателен. Кстати, тема взрослой несправедливости и высшей справедливости ребенка — это тема настоящих художников. Ее очень остро чувствовал Андрей Платонов, вспомните его рассказ «Семен».
«Перед тем, как лечь спать, отец обыкновенно лазал по полу на коленях между спящими детьми, укрывал их получше гунями, гладил каждого по голове и не мог выразить, что он их любит, что ему жалко их, он как бы просил у них прощения за бедную жизнь; потом отец ложился около матери, которая спала в один ряд с детьми тоже на полу, клал свои холодные занемевшие ноги на ее теплые и засыпал».
У другого русского писателя, Александра Грина, есть рассказ отнюдь не романтический, называется он «Гнев отца». Там отец Тома Беринга просит у сына прощения. За что? За жестокость взрослых, за их непонимание, за их недоверие. Он просит прощения не только за частную несправедливость, но и за весь «гнев» взрослого мира, за весь механизм, может быть, даже и не осознанной, взрослой жестокости.
Именно обида ребенка особенно горестна, и несправедливость к ребенку особенно несправедлива. Она и воспринята мучительно, как собственная бель, художниками, чуткими к н е с п р а в е д л и в о с т и в о о б щ е.
Шаролта Раффаи писательским, педагогическим, наконец женским, то есть материнским, чутьем угадывает не частную, но социальную опасность такой несправедливости. Эта несправедливость особенно контрастирует с тем общественным, гражданским, педагогическим поиском; который идет в сегодняшней социалистической Венгрии, стране, где особенно заинтересованно и внимательно относятся к маленькому человеку, школьнику, к тому, кто делает первые шаги в жизни. Да и юный герой писательницы вовсе не живет бедной, убогой жизнью, как герой рассказа Платонова. Семья этого долговязого мальчика, как принято говорить, «трудовая». Отец, который любовно воспитывал его, — юрист, мать, при всей своей материнской нежности и даже некоторой экзальтации характера, — деловой человек. Девушка, с которой встречается мальчик — Эстер, — современная, контактная, немножко молодежно-стереотипная, но в общем привлекательная. Мужчина, который после смерти отца приходит в их дом и которого автор, на манер майн-ридовских героев, называет Легкой Стопой, мягок и приветлив с ним. Так что, хотя мы и сказали о «Гневе отца», то есть о пресловутой суровости взрослых, здесь, в повести, ее, в сущности, нет. Скорее, обыкновенный, но всегда изумляющий нас драматизм жизни, отнимающий близких, ломающий привычный ход существования.
Все же тема взрослой несправедливости существует в повести, и она персонифицирована в образе Шефа.
Шеф — несколько ироническая, чуть-чуть поднадоевшая кличка, взятая напрокат у героев американских боевиков, впрочем, Шеф, а точнее, руководитель производственной практики в повести Шаролты Раффаи, действительно неприятен. Он так ни разу и не повернулся к нам человеческим лицом, а ведь человеческое лицо или хотя бы человеческое выражение лица бывает и у злодеев. Однако чрезмерно было бы назвать нашего Шефа злодеем, просто он ерник, любит издеваться над меньшими, над слабыми, издеваться со смаком, с удовольствием, со сдержанным садистическим вдохновением. Я встречал среди людей, занимавшихся воспитанием, особенно в пору моей собственной юности, таких, что подавляли, унижали других и получали от этого удовольствие. Да, я знаю таких людей — их нельзя подпускать к детям, к подросткам… Но они все-таки стараются притвориться. Наш же Шеф открыт в своем мелочном измывательстве. У подростков, особенно неблагополучных, а мне приходилось не раз встречаться с ними, писать о них, наблюдать их нелегкие судьбы, есть термин «беспредельщина», то есть безобразие, а говоря языком цивильным, полная потеря чувства меры. Так вот Шеф во власти «беспредельщины».
Думаю, что тут писательница сознательно пошла на обострение, на некоторую фельетонность. Ей хотелось дать открытый, ясный с первого взгляда, несколько гротесковый характер антивоспитателя. Сейчас, когда в Венгрии и у нас так много думают о социальной педагогике, о новых методах работы с подростками, писательнице с ее педагогическим и общественным опытом представлялось важным показать опасность, исходящую от таких людей.
Конечно, в книге Шеф будет побежден, против него восстает весь рабочий коллектив, но урон душам человеческим он нанес, и такой урон очень трудно восполнить.
Истинная литература — это всегда педагогика. В педагогике же содержится и художественный поиск. И там и здесь лепятся, созидаются, с большим трудом, с потерями, часто интуитивно, часто с опорой на опыт других, живые человеческие характеры.
В своей книге Шаролта Раффаи дает свой урок добра и зла и напоминает о том, что душа юного человека одновременно хрупка и очень сильна. Герой, взрослея, проходит сквозь испытания, видит людей, себя уже другими глазами.
Его взгляд, вобравший и обиды и печаль, остается все же светлым и по-юношески нежным. Перед ним маленький город на Дунае — и весь распахнутый, необъятный, полный противоречий и светлый мир, в котором несправедливость пытается найти себе место, точку опоры, плацдарм, но в конце концов не закрепляется, отступает.
Владимир Амлинский
ГОРЫ СЛАГАЮТСЯ ИЗ ПЕСЧИНОК
Опять эти трое шушукаются.
И конечно, о нем, а то о ком же.
Его бойкотируют откровенно и вызывающе.
Каждое утро — да и днем, если только случается свободная минутка, — вся троица собирается за смотровой ямой у дальней стены мастерской.
Недурно они там устроились. На смотровой яме, напоминая замученного жука, беспомощно замерла легковушка. Ее окна глядят на них пусто и равнодушно, ничего не отражая, — дальняя стена сплошная и ровная, без единого светового проема. Для шушуканья лучшего места не придумаешь.
Сегодня из-за безжизненной, отсвечивающей мертвенным блеском жучьей спины не долетает ни слова, даже невнятного, которое, засев в голове, будоражило бы воображение, требовало бы разгадки. Даже отдельные звуки, обрывки слов могли бы весь день блуждать по закоулкам сознания в поисках чего-то знакомого, как обычно терзая его и нагнетая безотчетный страх… Все же это было бы больше чем ничего… Но вынести одиночество в этой мрачной, глухой тишине нечеловечески тяжело.
Мать, вернувшись из авторемонтной мастерской, куда его взяли учеником, с едкой горечью в голосе заметила:
— Да, не сидеть тебе в кабинете за обитой дверью, как отец твой сидел.
После смерти Отца она не упускала случая поставить его в пример сыну. Особенно в первое время. Неизвестно, может, знай она меру, все сложилось бы по-иному. А может, и нет. Ну да лучше об этом не думать.
Что касается двери, массивной, обитой мягкой кожей, то она, как и все, что с ней связано, никогда прежде Подростка не волновала. Но с недавних пор эта дверь все же так и притягивает его воображение. Обхватить ее руками, ощутив надежную толщину, завладеть ручкой, одним нажатием на которую можно по собственному усмотрению избавиться от одиночества или, напротив, уединиться, — это же здорово!
Но Мать, конечно, имела в виду другое: власть, положение, почет… Мужчина, вошедший следом за нею, примиряюще дотронулся до ее плеча. Подросток даже взглядом не выразил ему благодарности. Потупившись, он смотрел на замысловато извитые и, казалось, пульсирующие стебли орнамента на ковре. Приминая цветы, по ковру прошагали ноги. Женские и мужские.
У Матери на ногах были черные лаковые лодочки — модные, с высоким язычком, на уродливом сплюснутом каблуке. Он до сих пор их терпеть не может: Материны ноги делаются в них короткими и толстыми, хотя на самом деле они совсем не такие. У нее красивый высокий подъем и тонкие щиколотки — словом, ноги что надо.
Мужские туфли, ступая широко и мягко, размытыми тенями проследовали за женскими. Взрослые скрылись в комнате Отца, и, хотя дверь почти не приглушала их голосов, Подросток к ним не прислушивался. Его ждал Том Джонс. Нажав на клавишу магнитофона, он выпустил из кассеты музыку, окутавшую его с головы до пят мягкой и непроницаемой магической пеленой.
* * *
Здесь, в мастерской, он как на ладони, у всех на виду. Даже старые колымаги с широко раскинутыми крыльями капота и высоченными кабинами не отбрасывают в его сторону тени. С той стороны, где он стоит, в стене мастерской множество окон, и, как бы ни налипала на стекла жирная копоть, солнечные лучи освещают Подростка — вот он, весь на виду.
Свет неоновых ламп раздражает гораздо меньше: он слепит, заставляя щуриться не только его, но и тех, за смотровой ямой. Правда, там за предметами влажно и маслянисто синеют сгустки теней. Идеальное место для шушуканья. Во всяком случае, ранним утром, пока не явился Шеф. Особого облегчения его приход не сулит, напротив, жизнь с его появлением в конечном счете становится еще тяжелей, но тяжко не так, как теперь. Солоно уже одинаково всем, без исключений.
Большая стрелка часов замирает на цифре 12 и, оттолкнувшись, пускается вниз по ступенькам минутных делений. Он вздыхает и поворачивается к утреннему солнцу, подставляя лицо теплым лучам: вот он, подросток-ремесленник Петер Амбруш, на месте минута в минуту, третий месяц без опозданий и — без надежд. Принятый и все же отверженный, долговязо-нескладный (целых сто семьдесят пять сантиметров), темно-русый, с застывшим лицом. Ощущая спиной три пары буравящих глаз и стараясь не выдавать внутренней дрожи, он готовится к трудному дню, который, как и все последующие, уж как-нибудь проживет, протянет, просуществует. А большего и не надо.
По ту сторону смотровой ямы чавкают в ведре с водой огромные губки: троица принимается драить дверцы машины. Подросток поспешно хватает грязную тряпку и яростно трет ею крышу.
В дверях замер Шеф. Как всегда по утрам, он втягивает носом воздух мастерской и улыбается. Родные, привычные запахи, наполняя легкие, придают ему бодрости. Покачиваясь, как бакен на волнах, он приближается к ученикам. Грудь колесом, голова на короткой бычьей шее втянута в крутые плечи, на лоб надвинут берет, из-под которого пучками топорщатся черные брови. На смуглой физиономии Шефа — неизменно мрачная кривая улыбочка.
По ту сторону машины — кто на корточках, кто припав на колено — выказывают рвение члены триумвирата, по эту, едва касаясь носками ботинок цементного пола, вытягивается на цыпочках Подросток. По ногам, проникая сквозь подошвы, взбирается неприятный холодок.
— Доброе утро, товарищ завпрактикой! — раздается из-за машины заискивающий голос.
— Добр… — сквозь зубы бросает Шеф.
— Здрасте! — Подросток еще пуще вытягивается, делаясь невероятно тонким. Вот, показывает он всем своим видом, осваиваем воинскую выправку, допризывнику это не помешает. Плечи расправлены, живот подтянут, пятки вместе, носки врозь. Руки по швам, и все тело напряжено, готовое к броску по первому сигналу.
Шеф несколько обескураженно окидывает Подростка взглядом, сквозь желтизну на мрачном лице медленно проступает краска. Привычная ухмылка приобретает едва уловимый оттенок фамильярности.
— Мой юный друг нынче прекрасно выглядит! Как подобает любимцу девиц, папы-мамы и школьных наставников! Баловню судьбы, имеющему бесплатный билет для проезда от гимназии до учебной мастерской и обратно — от мастерской до легкомысленно покинутой альма-матер. Нынче здесь, завтра там. Везде его ждут с распростертыми объятиями.
В висках у Подростка вдруг начинают стучать молоточки. А из-за машины раздается довольное хихиканье дружной троицы.
— Или, может… я в чем-то ошибаюсь… гражданин Амбруш?
Не сводя цепкого взгляда с Подростка, Шеф благодушно прищуривает один глаз.
— Так точно, — стоя навытяжку, отвечает тот.
— Браво, браво, — кивает Шеф. — Твердость характера… это похвально… Н-да… — Тут голос его скисает. — Вольно, — заканчивает он и, сам тоже переменив позу, обращает свой взор к остальным.
— Есть, — выдыхает Подросток и принимается оттирать налипшие на кузов мелкие капельки грязи. Над машиной образуется целое облако пыли, в котором почти исчезает его бледное лицо. Он старается изо всех сил.
Шеф, расставив ноги, с блаженным видом покачивается взад-вперед.
— Это что тут за лужа, ребятки? — раздается его вопрос. — Наводнение в мастерской? Хм. Странно, странно, — качает он массивной головой. — Синоптики во вчерашней сводке почему-то забыли его предсказать. Ну и ну!
Все трое хихикают, громче всех заливается Гном, ученик-первогодок. Этот толстяк готов смеяться по любому поводу. Шеф окидывает их дружелюбным взглядом.
— Стра-а-нно, стра-а-анно, — нараспев повторяет он. — Как хотите, друзья, а я в этом факте усматриваю разительное упущение средств массовой информации. Да-да, упущение. Все согласны?
Шеф умолкает. Ученики, уже все вместе, непринужденно смеются.
И вдруг он легко и изящно выбрасывает ногу, ведро, подпрыгнув, извергает содержимое на присевшую у машины троицу и с оглушительным звоном отлетает к стене.
Те медленно поднимаются. У здоровенного третьегодка, которого все зовут по фамилии — Шишаком, лицо пылает, толстяк Гном в полной растерянности, он ничего не понимает, а долговязый Тихоня, отирая забрызганное грязью лицо, натянуто ухмыляется. Шишак поворачивается и идет к выходу.
Рука Шефа совершает стремительное движение — так пригревшаяся на кочке полусонная лягушка выбрасывает длинный язычок при виде добычи — и хватает его за ворот.
— Вы далеко, господин Шишак? — дружелюбно интересуется он.
— Умываться, — выдавливает из себя Шишак. В глазах его тлеют зеленые искорки ненависти.
— Ах, умываться?! — Шеф могучей рукой разворачивает Шишака на сто восемьдесят градусов. Тот, теряя равновесие, падает на капот машины и обнимает его руками. — Ну… поцелуй-ка барышню «шкоду», любезный.
Остального Подросток не слышит, не желает ни слышать, ни видеть происходящего. Он, зажмурившись, яростно трясет тряпку, поднимая вокруг клубы пыли.
Вскоре Гном с невероятным для толстого коротышки проворством уже несется с пустым ведром за водой. Тихоня, молча пятясь на журавлиных ногах, ветхой мешковиной вытирает цементный пол.
— На мытье кузова пять минут, — как ни в чем не бывало распоряжается Шеф, прежде чем удалиться в свою конуру, напоминающую нечто среднее между складом и кабинетом.
Подросток вновь холодеет от безотчетного страха. Он смотрит на удаляющегося враскачку Шефа, пытаясь удержать глазами этого человека, который противен ему и которого надо бы даже ненавидеть, как эти трое, бессильной и яростной ненавистью. И все же он ждет от него защиты. Шеф — единственный, кто одним лишь своим присутствием способен его защитить.
Но вот он скрылся за обитой железом запретной дверью. Грязная тряпка в руке Подростка наливается тяжестью и падает на пол. Он машинально пинает ее под скамью. Медленно переставляя ноги, как робот, двигаясь строго по прямой, Подросток пересекает воображаемую демаркационную линию и доходит до противоположной стены.
Ничего не случилось.
Долговязый Тихоня все еще возит по полу тряпкой, усердно размазывая грязную жижу. Шишак замер и молча наблюдает за Подростком.
Тот что-то ищет на слесарном верстаке. От разложенных по ячейкам верстака пружин, заклепок, болтов и гаек несет утренним холодком. Наконец среди новеньких металлических ящиков с инструментами он находит свой — допотопный, из дерева. От ящика веет теплом, ременная ручка удобно укладывается в ладонь. Подросток, стараясь не привлекать к себе внимания, приближается к смотровой яме.
Бетон под ногами влажно блестит, испещрен выбоинами — недолго и поскользнуться. Откуда-то сбоку вдруг выныривает чей-то башмак, Подросток останавливается, собираясь перешагнуть препятствие, но башмак, следуя за движениями его ноги, поднимается, опускается и опять поднимается.
Он стоит, беспомощно глядя на неизвестно кому принадлежащий башмак.
Потом поднимает голову и, резко повернувшись, едва не врезается носом в бандитскую физиономию Шишака. Тот уставился на Подростка неподвижно-холодным цепким взглядом.
Тихоня, затаив дыхание, приседает на корточки — он весь внимание, на мокром лице светится лихорадочное любопытство. Шишак чувствует это немое жгучее возбуждение, не оборачиваясь, и самодовольно, развязно ухмыляется. Подросток изо всех сил отталкивается от земли, как на уроке физкультуры, когда рейка обманчиво кажется совершенно неодолимой, и опрометью бросается в смотровую яму. Наверху какое-то время стоит тишина, потом раздаются глухие шлепки и ломающийся, неестественно сиплый хохот. Это, хлопая себя по коленям, веселится Шишак или делает вид, что ему так весело. Оживший Тихоня боязливо хихикает. По бетону, стуча каблуками, рысцой проносится Гном. А в отдалении с шумом распахивается железная дверь.
— Опять, Шишак? — глухо, вполголоса, спрашивает Шеф. — Что, соскучился по беседе, дружочек? — Он довольно оглядывается и широко разводит руки. — За чем же дело стало? Давай заходи. Побеседуем с глазу на глаз, никто нам не помешает. Ну, смелее.
Подросток затаился на дне смотровой ямы, перед ним ящик с инструментами. Тихонько, стараясь не скрипнуть, он открывает его и заглядывает внутрь. Но внимание его обращено наверх, откуда доносится шепот.
— Опять он его зацапал, — шепчет Гном. — Этот чокнутый Шишак… Хоть бы раз ему сошло с рук… Везет как утопленнику.
— Молчи ты! — испуганно шипит Тихоня.
— И ведь каждое утро, — не унимается Гном, — каждое божье утро ему влетает.
— Да заткнись! Заткнись, говорю!
— Или позже. Шефу это без разницы. Но чтоб день пропустить — ни за что. Во лютует! Шишак ему прямо как кость в горле.
— А вдруг он за нас возьмется? — с дрожью спрашивает Тихоня. Он уже булькает губкой в ведре.
Вздох Гнома легко отличить: он скорее пыхтит, чем вздыхает.
— А ты уж в штаны наложил? — шепчет он. — Ну, старик, таких трусов, как ты, поискать…
— Скажешь тоже. — Тихоня возмущен. — А чего их искать? Загляни-ка ты в яму, дружочек, — с непривычным ехидством говорит он и хлопает губкой по кузову машины.
Подросток встает в своем «карцере» во весь рост и пытается сосредоточить все внимание на шасси. Отыскав нужный инструмент, он, насвистывая, берется за дело. Тормозной барабан поддается легко. Он как раз по руке, свободно ложится в подставленную ладонь.
Подросток с облегчением переводит дыхание, посторонние звуки его уже не волнуют, хотя шум наверху нарастает. Один за другим в мастерской появляются рабочие. Счастливые взрослые.
А он улыбается. Все готово: карданный вал освобожден от крепления. Сложив инструменты, Подросток решительно берется за перекладину ведущей наверх лестницы. Над головой у него вдруг раздается размеренный стук. Шишак кованым башмаком колотит о кузов машины.
Это сигнал ему, ему одному, Подросток знает наверняка. Ну и пусть!
То, чего они требуют, чего добиваются от него, — полнейший абсурд. Они и сами об этом знают.
А может, они рассчитывают запугать его, ждут, пока он сломается и запросит пощады, начнет пресмыкаться, как эти двое лакеев, перед Шишаком. Но он ведь и так был готов поступиться чем только мог. Чуть ли не унижался перед ними. Он приноравливался, никто не может сказать, что он не пытался к ним приноровиться. Но этот дурацкий приговор… зачем он был нужен? В самом деле, не испытание ли все это? Если выдержит — примут в свою компанию. Но выдерживать дольше невмоготу, это факт… Да нет, шутка это, ничто иное. И все-таки страх в нем растет. Жуткий, порою почти невыносимый.
Как только голова его показывается из смотровой ямы, стук стихает. Башмак Шишака оказывается у него перед носом. Очень хочется отпихнуть его легким движением, но он себя сдерживает. В общем-то, Подросток, хотя он и первогодок, Шишака не боится, во всяком случае не боится его физической силы. Они ровесники.
Поставив ноги на край ямы и ощутив под собой твердый бетон, он с дружелюбной ухмылкой поворачивается к Шишаку. Тот смотрит на него мрачно, в упор. Стоит как вкопанный и смотрит. Выражение веселости, стоившее Подростку неимоверных усилий, не покидает его лица, оно по-прежнему панибратски ухмыляется, но улыбочка эта уже неестественна и натянута. Одной рукой — чего он еще никогда не пытался сделать — Подросток слегка отталкивает от себя верзилу, точно какой-то предмет, мешающий ему пройти. Шишак послушно отступает. Подросток вздыхает и делает шаг вперед, но в следующее же мгновение во весь рост растягивается на бетоне. Шишак, еще раз подняв ногу, презрительно тычет в него носком башмака, будто перед ним туша поверженного животного, и, сунув руки в карманы, вразвалочку направляется в глубь мастерской.
Вокруг раздаются смешки — все уже на местах, приступили к работе. Кости ноют, из разбитого носа капает кровь, но ему не до этого. Его трясет, как под током.
Шишак, остановившись, с ехидной улыбочкой оглядывается через плечо.
— Я тебя самого прикончу! — слышит Подросток свой собственный хриплый и жаркий шепот. — Тебя! Тебя!
Шишак все с той же ухмылкой вскидывает бровь и, смерив Подростка презрительным взглядом, брезгливо отворачивается. Не вынимая рук из карманов, комично вихляя бедрами, он идет дальше.
Шеф стоит на пороге своей конуры. Всем своим видом он показывает, что ничего не заметил. Он долго и тщательно, точно сметая невидимую паутину, оглядывает потолок, стены и наконец останавливает взгляд на Подростке.
— Славно вы извозюкались, Амбрушка. Можно сказать, образцово. — Все оборачиваются, общее оживление, смех. — Да-да, образцово. Во всякой профессии, должен сказать вам, есть свои маленькие секреты. Если взять, к примеру, наше дело, то один из них: как выбраться из смотровой ямы в более или менее чистом виде. Ну, не щеголем, разумеется, не при параде во фраке с бабочкой, нет, нет, нет. Но более или менее чистым. Мы понимаем друг друга? В мало-мальски приличном виде, мой друг.
Снова смех, правда не такой громкий и непринужденный, как только что, но все-таки смех. Подростка он уже не задевает. Взрослые смеются беззлобно, их дружелюбие отогревает его — и горечи как не бывало.
Шеф, однако, на этом не успокаивается. На губах его по-прежнему играет улыбка, но один из глазеющих на него учеников вдруг отводит взгляд.
— И вот что, — с металлом в голосе, размеренно продолжает Шеф, — если кому из вас перепало что от меня, то самое умное — держать это при себе и не передавать другому. Понятно, друг Шишак? Гораздо умнее, скажу больше — мудрее, не передавать другому. Впрочем, мудрости вас научить я не могу. Мудрость, как известно, каждый постигает сам. На практике. Вот ее, эту самую практику, я своим ученикам гарантирую, но не более. Нравится вам или нет, а придется довольствоваться этим, уважаемый Шишак. — Он открывает железную дверь и уже с порога распоряжается: — Амбруш, мой дорогой, вы нынче потрудитесь под началом Мастера. Займетесь спортивным автомобилем. Работа тонкая, интеллигентная и, главное, чистая. Так что пойдите сперва умойтесь.
С этим он снова исчезает.
Пошел уже третий месяц, а Подросток все еще не различает, когда Шеф говорит серьезно, когда глумится. Похоже, он только и делает, что глумится. Его насмешки как острые, разящие на лету кинжалы. Шеф бросает их всегда неожиданно, будто фокусник. Минуту-другую они держат учеников в паническом страхе, и вот уже повисают в воздухе как безобидные, аляповатые бумажные цветки, но случается, что один из кинжалов — иной раз спустя дни — попадает вдруг прямо в цель. Угадать направление их полета, хотя бы приблизительно, просто невозможно, в воздух то и дело взмывают новые снопы клинков, сверкающих непонятно на каком расстоянии, недосягаемых и подвластных только старику, ему одному. Да, Шеф силен, ничего не скажешь…
Спортивный автомобиль почти новенький, на спидометре всего две тысячи километров. Нужно проверить его, залить масло — занятие в самом деле приятное. Да и Мастер из всех ремонтников самый хороший. Единственный в мастерской, у кого нет прозвища. Он Мастер — иначе его не называют.
Тем троим работа досталась грязная. Даже для Шишака, который в учениках третий год, не было сделано исключения.
В дела Шефа взрослые не вмешиваются. Правда, иногда они красноречиво переглядываются, но помалкивают. Мастерская готовит хороших специалистов, ребята дисциплинированные, не то что в других местах, и на экзаменах по специальности завалов еще не случалось — к чему тут придраться?
Спортивный автомобиль сверкает красной эмалью, на кузове ни царапинки. Все узлы хорошо просматриваются, и Мастер только кивает, показывая, что делать. Вообще он человек молчаливый, теплый взгляд его карих глаз внушает уверенность. Склонившись над капотом, Мастер глубоко запускает руки в масляное нутро мотора.
— Послушай, Амбруш, — вполголоса говорит он.
— Ну?
— Что… старик с тобой всегда на «вы»?
— Со мной-то? — удивляется Подросток.
— Ну да, с тобой?
— Постойте, постойте… — задумывается он. — Вроде бы поначалу… да, поначалу он мне «ты» говорил.
— Хм. — Мастер качает головой и откашливается, собираясь что-то сказать, но так и не решается.
Ворот трикотажной рубашки вдруг делается Подростку тесным, у него замирает дыхание, он явно сконфужен.
— Да и теперь иногда… — нерешительно говорит он. — Когда как. То «ты», то «вы»… я и внимания-то не обращаю…
Мастер, не поднимая головы, ковыряется в моторе. Подросток разглядывает в профиль его склоненное лицо, резкие черты которого вроде бы чуть разгладились, смягчились. Но взгляд прищуренных глаз застыл. Мастер работает на ощупь, не смотря под руки.
— М-да, — бормочет он наконец и, не разгибаясь, вытирает замасленные руки о штаны.
— А что, это плохо? — испуганно спрашивает Подросток. — Скажите, пожалуйста… это плохо?
Мастер, хмыкая про себя, еще раз оглядывает мотор. Дефектов в нем он не обнаружил.
— Да не то чтобы плохо…
— Так что же? — Подросток теряет терпение.
Мастер поднимает на него глаза. Видно, что он не сердится, скорее обеспокоен.
— Другим-то он «тыкает», — пожимая плечами, говорит Мастер. — Даже Шишаку. Если мне слух не изменяет.
Лицо Подростка заливает краска, щеки горят.
— Да ведь я… я вовсе…
— Знаю, знаю, сынок, — сочувственно говорит Мастер. — Ты тут ни при чем, можешь не объяснять.
— А как же…
— Что как же?
Подросток молчит.
— Может, сказать ему? — немного погодя спрашивает он. — Если его попросить, то, может… — и снова умолкает.
Мастер в задумчивости сдвигает кепку на затылок.
— Зря я затеял с тобой разговор этот, зря. В общем… не лезь к нему с этим, его дело. Ты только не вздумай рыпаться. — И он, теперь уже по-настоящему, берется за работу. Правда, чуть позже еще добавляет: — Я думал, может, такой уговор. Из-за отца твоего….
Подросток машинально подхватывает детали, ощупывает их, скользя отсутствующим взглядом по кулачкам, пазам и изгибам. Протирает обтянутые искусственной кожей сиденья, обивку салона, хромированные части, стекло. Он весь покрывается холодной испариной, которая превращается в липкий пот. Не замечая встревоженных взглядов Мастера, он то решительно вздергивает подбородок, собираясь заговорить, то растерянно опускает голову, не находя нужных слов, чтобы выразить все, что творится на душе.
* * *
Перед глазами, всплывая из небытия, встает фигура Отца, его уверенная осанка, энергичные жесты; лишь незадолго до смерти, когда тело Отца совсем истаяло, движения его стали скованными и нерешительными. Отцовские руки Подросток видит как живые, точно перед ним прокручивают цветную кинопленку: они совсем близко, и хочется за них ухватиться. Никогда ни у кого из взрослых не видел он этого необычного жеста раздвинутых и чуть вывернутых ладоней, которым Отец как бы говорил, извиняясь: что поделаешь, старина, выше головы не прыгнешь — или: тут я бессилен, сие от меня не зависит — вот примерно что означал этот жест, всегда успокаивающий и трогательный. Отец не считал себя всемогущим и признавался в этом легко и просто, точно так же он признавал и свои слабости. За другими Подросток ничего подобного не замечал. Никогда. Впрочем, недостатков у Отца было мало — может, потому он и признавал их с такой легкостью.
Да, он сидел за обитой кожей дверью, где покой его охраняли отсвечивающая матовым блеском резная мебель с рельефным узором из завитушек, цветов и листьев, кремового цвета камин и мягкие вышитые салфетки и где тусклый естественный свет, проходя сквозь хрустальные стаканы и пепельницы, разбрызгивался мириадами радужных искр.
Отец проник в этот мир.
Дверь, как огромная, пухлая, решительно поднятая ладонь, преграждала путь рвущимся в кабинет звукам. Снаружи стучала пишущая машинка, звонил телефон, слышались слезливые жалобы, которыми тут, казалось, пропитаны были даже стены, в крашенных масляной краской коридорах нервно барабанили пальцы возмущенных истцов, в темных закоулках прятали свой испуг свидетели, шаркали ноги осужденных, с трудом отрываемые от пола, который точно магнит притягивал и удерживал их, не желая отпускать.
Но Отец, несмотря на протестующе поднятую ладонь обитой двери, был с головой погружен в это странное море звуков. Ведь в зале заседаний все и вся обнажается, тайны темных закоулков становятся явью и взвешиваются на весах правосудия. В своем кабинете Отец обычно сидел за столом, полуобернувшись к двери. И только в последнее время стал плотно прикрывать звуконепроницаемые створки, чтобы лицо его, искаженное болью, могли видеть лишь белые папки, помеченные черными номерами. Два года он жил будто приговоренный к смертной казни, не зная, какой из дней окажется для него последним, и все два года — молчал.
В последние недели поговорить с ним Подростку не удалось: Мать не пускала его в больницу, где в душной, пропитанной страхом атмосфере человек с первого шага испытывает ощущение, будто из легких загадочным образом выветрилось вдруг все, что хоть чуточку напоминает о внешнем мире. Со всех сторон его атакуют тяжелые запахи пота, страданий и боли вперемежку с дурманом операционных и перевязочных.
Нет, с Отцом он не говорил, но видел его.
Помог ему — неожиданно быстро и просто, за серию марок — его одноклассник Ферике, тщедушный и робкий малый, пользующийся всеобщим покровительством. Его мать — она работает в больнице уборщицей — провела Подростка через приемный покой в подвал хирургического отделения, где тот, дожидаясь подходящего момента, укрылся в каморке уборщиц.
Огромный подвал, целое подземное царство, походил на лабиринт. Таинственный и безмолвный, с извилистыми проходами, настоящими комнатами и открытыми трехстенными нишами.
В комнате, где он спрятался, стоял едкий запах карболки. Неподвижно свесив ребристые хоботы, холодно блестели сигарообразными и прямоугольными корпусами пылесосы. Мертвые складки синих халатов, ощетинившиеся ежовыми иглами швабры и окаменелые груды тряпок — все здесь нагоняло на Подростка неимоверный страх. Он стоял в неподвижном немом ожидании, не в силах даже переступить ногами, приросшими к каменному полу, как к постаменту.
Наконец появилась уборщица — запыхавшаяся, с мокрыми пятнами на подоле халата. Ее распухшие ноги были затянуты в потрепанные парусиновые ботинки с высокой шнуровкой. А из-под плотно повязанной косынки упрямо выбивались золотистые прядки волос.
— Можно идти, обход закончился, — прошептала она, тронув Подростка за плечо.
Тот весь съежился и зажмурил глаза.
— Отец… в двенадцатой, — неуверенно пробормотал он.
— Знаю, знаю, — закивала тетка. — Я ж тебе говорила, что каждый день его вижу. — И вдруг, помрачнев, добавила: — Только вот разговаривать с ним нельзя.
— Понятно, — вздохнул Подросток.
— Ему теперь полегчало после укола — хоть не чувствует ничего, — холодным чужим голосом сказала она.
Подросток, будто его подтолкнули в спину, вывернулся из-под руки женщины и побежал.
— Да постой ты! Ступай за мной, потихоньку.
Тот покорно остановился. Уборщица подхватила швабру и тряпки и повела его наверх. По лестнице навстречу им спускались люди в белых халатах, но Подросток, не отрывавший глаз от шагающих впереди парусиновых туфель, их даже не заметил, они проплыли мимо расплывчатыми молочно-белыми пятнами. В нос ударил тяжелый воздух. Звякнуло, опускаясь на каменный пол, ведро. Уборщица выудила из него тряпку и, ловко отжав ее, показала рукой вперед:
— Вон те две — двухместные… Он в ближней отсюда. — Толкая перед собой обмотанную тряпкой швабру, она не спеша двинулась к палате.
Подросток — за нею.
Цифра 12 бросилась в глаза неожиданно. Дверная ручка была вмонтирована в металлический прямоугольник, точно дверь вела не в палату, а в сейф. Уборщица была уже перед самой палатой. Бесшумно нажав на ручку, она приоткрыла дверь и, наклонившись к порогу, стала протирать каменный пол.
Комната сверкала холодной, отталкивающей белизной. В ней было тихо.
Одна койка — со взбитой подушкой на свежей простыне и плотно скрученным пледом в изножье — пустовала.
На другой, укрытый до середины груди одеялом, лежал незнакомый мужчина в серебристой пижаме с лиловыми прожилками. Лицо его — точно бело-желтая бабочка-капустница, не лицо, а маска с двумя темными впадинами вместо глаз и узкой полоской черных волос, напоминающей траурное обрамление крыльев капустницы.
Сложенные поверх одеяла желтые и безжизненные руки тоже ничем не напоминали Отца.
— Спит, — тихо сказала уборщица. — Намаялся, бедняга.
Подросток стряхнул с себя оцепенение и, озираясь по сторонам, попятился.
Коридор здесь расширялся, образуя небольшой холл. В углу, рядом с палатами, в огромном ящике росла пальма с густыми, иссеченными на концах листьями. Подросток бросился туда и спрятался за ящиком.
Через минуту, скользя по гладким плиткам пола, к его укрытию приблизилась мокрая швабра, и под листья заглянула уборщица.
— Ну, я же тебе обещала, что ты его увидишь, — зашептала она, — а теперь давай-ка домой.
Подросток не отвечал. Он глядел на выбившиеся из-под косынки волосы — их золотистый блеск почему-то внушал теперь неприязнь.
— Ты что, не слышишь? Иди домой, говорю, домой, — нервно повторяла женщина. — Еще найдут тебя здесь… отвечай потом.
— Не найдут, — буркнул Подросток.
— Ох, беда с вами, неженками. — Лицо ее скривилось и тут же разгладилось. — Сынок, — прошептала она умоляюще, — ну иди, я прошу тебя, иди с богом.
Подросток с упрямым видом сидел на корточках.
— Вы не бойтесь, — ответил он, — я не выдам вас.
— Да ты что же задумал? — ужаснулась она.
— Этот человек — не Отец.
Растерянное лицо уборщицы напряглось. Она беспомощно склонилась к Подростку.
— Нет, нет, это он, сынок, — убеждала она. — Он самый. Ну, пошли.
Тот протестующе затряс головой.
Уборщица окинула сжавшегося в комочек Подростка долгим взглядом и медленно распрямилась.
— Ты только не выдавай меня, — бросила она напоследок и, опустив плечи, нехотя двинулась по коридору. Листья пальмы сомкнулись.
Обхватив руками колени, Подросток сидел в немом ожидании. Вскоре тяжелый воздух душной волной всколыхнулся от незнакомых шагов, еще ниже пригнув его к полу. Откуда-то долетел чистый звон раскладываемых инструментов. Он испуганно прислушался. Мимо снова прошла уборщица со своими орудиями — ступала она медленно и тяжело, и складки на синем халате казались живыми. Женщина направлялась к запирающей больничный мир стеклянной двустворчатой двери. Не замедляя шага перед густыми, иссеченными на концах листьями пальмы, она чутко прислушивалась: что он там делает в своем укрытии? Вот она окончательно скрылась из виду.
Гнетущую тишину ожидания нарушил вдруг топот, шарканье ног. Послышались иронические смешки. Женский голос говорил что-то о новом платье с высокой талией, на что мужской изъявил желание лично взглянуть на обновку. Разговор оборвал решительный окрик, и голоса умолкли. Группа прошла мимо Подростка, разглядевшего лишь подолы белых халатов и белые крахмальные брючины под ними вперемежку с женскими ногами, затянутыми в чулки телесного и орехового цвета.
Сонм белых халатов скрылся в двенадцатой, но вскоре все вышли и направились к соседней двери.
Подросток затаил дыхание и весь обратился в слух, но так и не уловил ни одного слова. А врачи уже повернули назад.
И снова воцарилась тишина, глубокая и невозмутимая.
Подросток, крадучись, выбрался из убежища и замер посередине холла: коридор, который отсюда просматривался до самого конца, казался пустынным и необитаемым. Набравшись храбрости, он снова заглянул в палату.
Там ничего не изменилось, только между койками теперь стояла белая матерчатая ширма. Преграждая путь свету, она отбрасывала тень на неподвижное тело больного. Одеяло на его груди едва заметно поднималось и опускалось, ссохшееся, с закрытыми глазами лицо было такое же незнакомое, как и прежде.
Он виновато попятился и прикрыл дверь. Постояв, подкрался к соседней палате, которая оказалась такой же маленькой, на две койки. На подушке в расплывчатом обрамлении седых волос покоилось бескровное женское лицо с белым налетом на синюшных губах. Подросток в страхе отпрянул.
Пробежав на цыпочках по остекленному холлу, он отдышался и, сделав еще несколько робких шагов, остановился у входа в душный коридор.
На мертвенно-белой стене темнели прямоугольники дверей. Приоткрыв наугад одну из них, он заглянул в большую и многолюдную палату. Больные оживились, но интерес в их глазах тут же угас, и они отвернулись от нерешительно замершего на пороге Подростка.
— Простите, — задыхаясь от волнения, забормотал он, — простите, Отца моего… Кароя Амбруша… нет здесь?
Никто не пошевелился.
— Амбруша? — приподнялся на локте молодой парень. — Таких нет среди нас.
Подросток почувствовал себя увереннее.
— А вы случайно не знаете, в какой он палате? Где мне его найти?
— Ты у сестер спроси. Они скажут.
Подросток шагнул вперед и, закрыв дверь, прижался к ней спиной.
— Понимаете, — начал он, — моя Мать… она не знает, что я здесь. Она не хочет… В общем, меня к нему не пускают.
— Тогда не ищи, — устало прикрыл глаза парень. — Вот полегчает ему, и тебя пустят.
— Да мне только взглянуть! — с отчаянием в голосе воскликнул Подросток и уже тише добавил: — Мне больше ничего не надо. Пусть он об этом не знает, не важно. Мне только взглянуть.
К нему повернулся мужчина постарше:
— Так ты попроси сестер, они покажут… Амбруш… Амбруш… — неуверенно повторил он. — Нет, я о нем не слыхал. У нас в отделении такого нет.
— А мне сказали, что он в двенадцатой… Один человек сказал… он знает, — твердил Подросток свое.
Тут все уставились на него, глаза как-то странно оживились. Парень твердо сжал губы.
— Уж… не судья ли?
— Ну да. Он, — поспешно ответил Подросток.
Больные растерянно переглянулись. Воцарилась тяжелая, вязкая тишина.
Первым ее нарушил парень:
— Ты уже был там? В двенадцатой?
— Да. Я сперва туда… но там не он. Это не Отец.
И снова тишина — неподвижная, тупая, жуткая.
Парень сел на койке.
— Подожди, — устало сказал он, — я сейчас встану.
— Ты чего, — всполошился пожилой, — уж не хочешь ли пацана…
— Ничего не хочу. Уж доверьте это мне.
Он надел халат.
— Пошли, не бойся, — сказал он и оперся на плечо Подростка.
В коридоре по-прежнему было пусто. Стараясь ступать с больным в ногу, Подросток бережно поддерживал навалившееся на него тело и ждал, когда парень заговорит. Но тот только тяжело дышал. Наконец, так и не проронив ни слова, он остановился и показал на одну из дверей:
— Сюда.
Подросток, забыв о больном, рванулся вперед. Парень, будто подгнивший телеграфный столб, резко качнулся и беспомощно привалился к стене.
В тесной комнатенке никого не было. На кушетке лежал пушистый клетчатый плед, на столе — беспорядочно разбросанные бумаги. В шкафу за стеклом виднелись инструменты, коробки, склянки.
Подросток растерялся и бросился было бежать, но парень преградил ему дорогу.
— Да не бойся ты, — сказал он, закрывая дверь, — это комната медсестер. Подождем здесь Эржи, сестру, — она точно поможет.
— Да ведь мне…
— Знаю, ты говорил, — перебил его парень. — Ну-ка, подсоби, — попросил он, ища рукой плечо Подростка.
Они сели на кушетку. «Обманули, — мелькнула мысль, — заманили в ловушку… Может, бежать, пока не поздно. Но как же тогда…»
Парень сжал его локоть и тихо заговорил, запинаясь и прерывая фразы странными придыханиями.
Они с медсестрой соседи. Почитай, даже родня. Не здесь, конечно, а дома, в деревне. Эржи добрая, жалостливая. А в таком месте, как больница, родня — дело большое, это уж точно. Она сейчас придет, нечего волноваться. И придумает что-нибудь. Обязательно.
После бесконечного, как показалось Подростку, ожидания в комнате появилась молоденькая сестричка. Больной с трудом встал и, позвав ее в коридор, о чем-то с ней зашептался.
Усталый и обессиленный, Подросток сидел как в дурмане, и, хотя говорили они недолго, он весь будто одеревенел.
Наконец заглянула сестра и махнула ему рукой. Он покорно последовал за ней. А парень, придерживаясь рукой за стену, поплелся к своей палате.
Медсестра крепко взяла Подростка за руку и повела в противоположную от холла сторону — значит, Отца там уже нет, значит, он все-таки не в двенадцатой. В самом деле, откуда уборщице знать, да и больным тоже — они даже фамилии Отца не слышали.
Мимо мелькали двери, на них — номера, таблички.
Но вот сестра остановилась и постучала. В ответ что-то пробормотали. Она обхватила лицо Подростка руками и, ласково улыбаясь, сказала:
— Побудь здесь. Если кто спросит, скажешь, что ждешь сестру Эржи. Договорились?
Подросток кивнул, и она исчезла.
Коридор тем временем оживился, мимо проходили врачи, прогуливались больные, но к Подростку никто не подходил. Заметив его, они бросали короткие взгляды на дверь и шли дальше. Только тут обратил он внимание, что на блестящей эмалевой табличке вместо номера стояла фамилия. Его опять одолел страх.
Сестра вернулась, знаком велела ему зайти, сама же, шурша крахмальным халатом, исчезла.
Помещение, куда он вошел, было такое же маленькое, как и комната медсестер, только еще более загроможденное.
В огромном кресле сидел пожилой врач.
— Садись, — качнувшись вперед, показал он на кресло поменьше.
Подросток замер, он словно окаменел… Страшился он не возможного наказания, не того, что о походе в больницу (и прогулянных уроках) станет известно Матери, — то был страх, какого он прежде никогда не испытывал, страх, доходивший до смутного леденящего ужаса. Отца в этой комнате он не искал, ни единого взгляда не бросил по сторонам. Он стоял немо и беззащитно.
Мужчина поднялся и силком подвел его к круглому столику.
— Вот так, — довольным голосом сказал он, усадив Подростка в кресло. И сел сам. — Мы знакомы? — спросил он, беря сигарету.
Подросток покачал головой.
— Ну да, не знакомы, — сказал врач, — но я все же знаю, кто ты, — доверительно улыбнулся он. — А кто я, ты, наверно, догадываешься… — Мужчина выжидающе посмотрел на Подростка и замолчал. Быстро чиркнув спичкой, он прикурил и, затянувшись, долго разглядывал пепел на кончике сигареты.
Подросток, уныло опустив плечи, подавленно следил за врачом, за ничего не выражающим взглядом его привычно отведенных глаз и чувствовал, как в груди зарождался и стремительно нарастал странный и незнакомый холод. Он вперился взглядом в полированный столик, поверхность которого казалась застывшим озерцом. Все другие предметы качались и плыли у него перед глазами.
Врач, видя, как побледнел Подросток, с неожиданным для своих габаритов проворством плеснул в стакан воды и, перегнувшись через столик, дал ему выпить.
Тот медленно пришел в себя и открыл глаза.
— Это был он?
— Да, он, — ответил врач.
Подросток ухватился за подлокотники кресла. Хотя голова уже перестала кружиться, он ничего перед собою не видел. Голос мужчины, терпеливый и ровный, точно окутывал его нежной и мягкой, успокаивающей тканью, которая так плотно спеленала его дрожащее тело, что трудно было дышать. Слова постепенно складывались во фразы — умные, твердые, исполненные достоинства.
Разве возможно, что Отец — лишь муравьишка в большом муравейнике? Если это так, тогда возможно все что угодно.
— Да, он таскал былинки чуть покрупнее, чем таскали другие, был чуть быстрее на ногу и чаще оборачивался со своей ношей. Только и всего. Но природа не любит, когда нарушают ее порядки, и мстит, это закономерно, — мужчина старался говорить как можно мягче, приглушая шипящие, — да, сердце совсем изношено… в таком молодом возрасте… а размножение эпителиальных клеток — это не шутка… нет, нет.
Врач первым вышел из кабинета и жестом разогнал любопытных по палатам. Они вместе направились в двенадцатую. Подросток, несмотря на подавленность, шагал неожиданно твердо, а мужчина, могучий и телом, и духом, с трудом переставлял ноги.
* * *
В конуре Шефа даже воздух совсем не такой, как в мастерской, или в гараже, или на задворках у душевых, — к запахам мастерской здесь добавляется какой-то еще терпкий, застоявшийся, непонятный запах, и все перемешивается, так что, входя, человек нерешительно останавливается на пороге.
Ученики здесь не то что вздохнуть — и дышать не смеют. Они стоят как вкопанные плечом к плечу, по линеечке, в эти минуты — но только в эти — все четверо вместе, единой группой.
Вдох-выдох, вдох-выдох — их легкие дышат в унисон с широкой грудью Шефа, невольно придерживаясь заданного ритма. У них и сердцебиение учащается совершенно синхронно, и поджилки трясутся одинаково. Кожа на костяшках пальцев побелела, на лицах пылает краска лихорадочного, неодолимого возбуждения.
Шеф, покачиваясь взад-вперед, сосредоточенно молчит.
У него на столе аккуратной стопкой лежат тетради, раскрытые на выполненном к сегодняшнему дню задании. Все тетради обернуты в одинаковые фиолетовые обложки без единой кляксы или жирного пятна.
Шеф все еще покачивается на каблуках.
Железная дверь — не то что обитая: сквозь нее хоть и глухо, но проникает холодный звон инструментов, визг листового железа и человеческие голоса.
Подросток поверх плеча Шефа смотрит в окно. Неяркие лучи ноябрьского солнца косо падают на обнаженные кроны. Тени лишены глубины, так же как свет — тепла. Неосвещенной стороной жидкие деревца сливаются с серым небом, пугая — пусть мнимой и временной — своей искалеченностью.
— Тэ-эк. Тэк, тэк-с, — вялым, бесцветным голосом произносит Шеф, похоже, о чем-то задумавшись. — Тэк, тэк-с.
Он медленно поворачивается к мутному окну, и Подростка вдруг разбирает любопытство: заметит ли он искалеченные светом деревья? Вообще, замечает ли Шеф хоть что-нибудь вокруг, кроме тех жалких жизней, которыми вершит в своей конуре? Волнует ли его что-нибудь, помимо учебных часов и тридцатиминуток, пропитанных запахом пота и страха?
Подросток не отрывает глаз от широкой спины, что покачивается в прямоугольнике окна.
Слева, чувствует он, что-то происходит. Трое учеников чуть слышно шевелятся, тихонько толкаются локтями. Снова неймется Шишаку? Так и есть: он насмешливо пялится на возвышающуюся перед ним спину, корчит мины — большего сейчас он позволить себе не может. Эти трое обмениваются знаками везде и всюду, в любых обстоятельствах.
Шеф поворачивается неожиданно, волчком.
Лица учеников едва успевают принять безразличное выражение.
— Ну что же, — говорит он спокойным, по-отечески нежным голосом. — Все верно, все верно.
Взгляд его, не задерживаясь на Подростке, скользит по лицам троих учеников.
— Тэк-с, — с наслаждением произносит он, и теперь уже всем ясно, что за этим последует. Время ожидания истекло.
— Ну-с, мои дорогие ученички, — благодушно продолжает Шеф, — человек, как вы знаете, проходит в своем развитии разные стадии. Верно я говорю?
Ученики, затаив дыхание, напряженно внимают его словам.
— Или, может, вам это не известно? Я к вам обращаюсь, к вам, уважаемый триумвират.
В ответ — гробовое молчание.
— Если добрая память не изменяет мне, я поставил вас тут не стадом, а стройной и ровной, вполне подобающей людям шеренгой. Именно, именно. Шеренгой. Ра-авняйсь! — раздается четкая команда, но и тут Шеф не повышает голоса. Он вытягивается и приподнимается на цыпочках.
Подросток отскакивает вправо, чтобы дать место остальным.
— Ну вот. Думаю, потихоньку мы это освоим. Было бы только терпение да желание. Конечно, одного желания мало, но если желания совокупляются с поступками, то… совсем другой коленкор, не так ли?
При слове «совокупляются» огромный кадык Шишака задергался. Глаза Шефа цепко впиваются в дородного ученика.
— Мы ведь знаем друг друга, сынок? — говорит он, адресуясь к Шишаку. — Точно, знаем. Однако… сдается мне, недостаточно хорошо. Пока что не досконально. Я выражаюсь понятно? Одним словом… — он усталым жестом показывает на тетради, — одним словом, эти самые стадии развития вызывают серьезное беспокойство. А если выразиться точнее, то не устраивает меня темп развития. С темпом плохо. То есть нету его. Не-ту. — Он резко вытягивает губы и, причмокнув, заканчивает: — Возражения?
Возражений нет. Шеф довольно кивает.
— Тэк, тэк-с. Ну понятно. Какие тут могут быть возражения. Возражений нет за отсутствием права на существование таковых. Стало быть, ничего не попишешь. Придется пробке пока посидеть в бутылке. Но ничего, на соответствующей стадии мы возьмем штопор, я лично представлю его в ваше распоряжение. С величайшей готовностью, даже с радостью. Вот-вот, с радостью.
Подросток его не слушает. Слова Шефа потоком проливаются мимо и падают в никуда. За окном хаотическое сплетение веток уже обрело изначальные очертания. Солнце, скользнув в сторону, исчезло, и по полу конуры, заполняя углы и щели, разлилась серая клочковатая полумгла. Ботинки Шефа, который покачивается, переваливаясь с пятки на носок, постукивают холоднее, отрывистее.
Его слова, цепляясь друг за друга, тянутся, как вагоны неимоверно длинного поезда, — резко дергаются, подпрыгивают на стыках, но все же не обрываются:
— Взгляните на эти тетради, друзья мои. Снаружи чистенькие и опрятные, как первоклассники. Однако заслуживают ли они похвалы? Увы, не заслуживают. Нет. Вы спросите: почему? Что ж, вопрос справедливый, и я на него отвечу, дружочки. Отвечу… Да потому, что внешность, как это известно, обманчива. Будто вуаль, под которой, ежели взять наш конкретный случай, скрывается не что иное, как жалкая и безграмотная мазня. Впрочем, заглядывать под вуаль, между нами говоря…
Лицо у Подростка зеленеет. Шеф неторопливо подходит к нему и, чтобы тот, чего доброго, не упал, поддерживает его за плечо.
— Речь не о вас, дорогой Амбруш. Не о вашей тетрадке. Мы понимаем друг друга? Ваша… хм… для первого года сойдет. И вообще, чтобы не было между нами недомолвок, скажу: на текущий момент я вашей работой доволен, как буду доволен и впредь. Во всяком случае, в главных чертах. Мы друг друга понимаем?
— Так точно.
— Вот-вот. Ибо самое важное — это взаимопонимание. О чем я, собственно, и толкую. О чем который уж год… ну да ладно, оставим эмоции. Человеку, тем более в нашем социалистическом обществе, пристало быть хладнокровным и рассудительным. Качества, в высшей степени необходимые. Равно как добросовестность и аккуратность в работе. Аккуратность! Вот что призвана обеспечить моя весьма скромная, но облеченная всеми нужными полномочиями персона.
Следует пауза. Шеф, заложив руки за спину, с минуту зачарованно разглядывает изукрашенную грязными пятнами стену. В голосе появляются умиленные нотки, слышится радость, безудержная, неподдельная, почти мальчишеская:
— Как того требует честь профессии, представленной здесь в моем лице, я с полной ответственностью заявляю вам, молодые люди, и прошу вас как следует зарубить это на носу: черчение — не портретная живопись и даже не сестренка ей. Увы, нет. Вот в чем все дело, друзья.
Тихоня, забывшись, громко вздыхает.
Шеф останавливает взгляд на бунтовщике.
— Верно, — по-прежнему добродушно говорит он, — это печально. Я искренне разделяю ваши сожаления. Но… смиряюсь, ибо не вижу иного выхода. Да, не портретная живопись, не сестренка и даже не пейзаж с грозовыми тучами, а нечто более солидное, более основательное и ценное, нечто более близкое к наукам и матушке-материи и, если рассуждать диалектически, еще ко многому другому. Но только не к сестренкам. А посему дам вам дельный совет, друзья мои: как бы ни было жаль, забудьте о самодеятельности и не путайте чистую науку, геометрические фигуры и прочая и прочая, с художественной мазней.
Шеф расцепляет спрятанные за спину руки и правой, не меняя при этом позы, сгребает со стола тетради. Глаза его смотрят чисто и невозмутимо.
— Так-то вот. О выполнении задания, таким образом, я, как вы и сами, наверное, понимаете… доложить не могу. Ни в училище[1], ни тем более нашему уважаемому и горячо любимому начальнику, всемогущему властелину авторемонтной мастерской, с которым меня, как это общеизвестно, связывают тесные дружеские узы. Но это, то есть мои личные с ним отношения, дела, как вы понимаете, не меняет.
Ученики, не смея пошевелиться, все так же внимают словам Шефа. Тот наконец принимает решение и, взвешивая каждую тетрадь на кончиках растопыренных пальцев, раздает их владельцам.
— Ну, ну, ну. Тэк, тэк-с, — довольно приговаривает Шеф и вдруг окидывает всех четверых сверкающим взглядом: — Возражения?
Те молчат. Напряженно, выжидающе.
— Что ж, прекрасно. Последнее задание — вы меня понимаете? — прошу повторить в тех же размерах и проекциях к послезавтрашнему дню. Это помимо того, что было задано сегодня. Почему только к послезавтрашнему? Потому что завтра глубокоуважаемые молодые люди идут в училище, а не в мастерскую. Ну, вот и все.
У тех отлегает от сердца. Значит, только последний чертеж. Всего один. То есть… с сегодняшним — два. Но и это не много. Прижимая тетради к бедру, они все еще стоят навытяжку.
Шеф, теперь уже не спеша и придирчиво, с довольным видом, оглядывает их с головы до ног, каждого в отдельности.
Все четверо смотрят на него не мигая.
— Отлично, — говорит Шеф. — Отлично. — И, выдержав короткую паузу, с глубоким вздохом командует, насмешливо выпячивая губы: — Разой-дись!
Подростки заученно поворачиваются на девяносто градусов и рысцой выбегают в цех, окунаясь в привычные запахи. Шум голосов и звон инструментов на минуту стихают, на лица учеников устремляются изучающие и как будто смущенные взгляды, но вот уже все идет обычным чередом — только чуточку тише в цехе.
Мастер по-прежнему занят спортивным автомобилем. Стоя на одном колене, он склонился над колесом и не поднимает головы, хотя по его напряженной позе заметно, что он прислушивается.
Подросток опускается рядом на корточки и рассеянно водит пальцем по выступам протектора.
— Долго он вас мурыжил, — говорит Мастер.
Подросток молча пожимает плечами.
— Полтора часа вас сегодня не было, минута в минуту.
— Может быть. Я на часы не глядел, — отвечает Подросток.
Рука Мастера застывает на весу.
— И как? — спрашивает он.
— Как обычно. — Подросток колеблется, ему хочется обо всем рассказать. — А, ерунда, — небрежно отмахивается он наконец. — Ничего интересного.
— Я тебя за язык не тяну, — обиженно говорит Мастер. — Если получил нагоняй, так это твоя беда.
Подросток вглядывается в замкнутое и все же благожелательное лицо, пытаясь прочесть на нем знак одобрения, почерпнуть уверенности; смуглое лицо Мастера одновременно притягивает и пугает — оно очень напоминает лицо Отца.
— Да ничего я не получил, — придвигается он ближе к Мастеру. — Ко мне он не очень-то пристает. Так что ничего страшного.
— Ну-ну, — кивает Мастер. — Значит, ничего страшного.
— Ничего особенного. Просто он… говорил.
— Целых полтора часа? — улыбается Мастер.
В голосе его Подросток улавливает нотки ободрения. И что-то еще. Ожидание? Готовность помочь? Сказать трудно.
— Помолчит малость и опять разглагольствует, — доверительно говорит он и оглядывается по сторонам, не слышит ли кто их разговор.
В глазах Мастера загораются веселые искорки.
— А о чем разглагольствует-то? Можешь ты рассказать? — спрашивает он Подростка.
— Куда мне! — с облегчением смеется тот.
— Это верно, разглагольствовать он умеет. Прямо оратор. Да и руководить научился. Не работой, конечно… а так, вообще.
Подростку слова Мастера придают храбрости.
— Велел нам чертеж переделать, — шепчет он.
— Всего один?
— Угу.
— Значит, сегодня он в добром настроении. Считай, что вам повезло.
— Не знаю, — вздыхает Подросток. — Я тут еще не освоился.
— Ну что ты, друг Амбруш, — улыбается Мастер, — ты отлично справляешься. Я даже не думал, что ты такой.
На душе у Подростка делается тепло.
— Мерси, — бормочет он, потом поправляется: — Спасибо.
— Ты молодец, — кивает Мастер. — Ведешь себя тихо, стараешься…
Подростку кажется, что за похвалой скрывается легкая ирония.
— Ну уж не знаю, — смущенно оправдывается он. — Я пытаюсь поладить с ним, — он показывает глазами на железную дверь, — да и с другими тоже. А что еще остается делать?
— Ладно, ладно, не горячись. Понятно, что тут ничего не поделаешь. Что ты можешь поделать? Он-то… привык командовать. Не на таком уровне распоряжался — повыше… к тому же совсем недавно.
Во рту у Подростка пересыхает.
— А я и не знал, — выдавливает он наконец.
— Об этом тут все знают. Да-да. Жизнь странная штука: нынче ты в генералах, а завтра в капралах. Только он и в капралах живет припеваючи.
Декабрь в этом году выдался необычно туманный. Пасмурные дни незаметно переходят в вечера, пропитанные холодной густой неотвязчивой сыростью.
Прежде он и внимания не обращал на погоду. Когда он возвращался из школы, уже темнело. Он сидел над раскрытыми учебниками и, если было желание, читал. Мир казался ему неустойчивым и зыбким, но все-таки в жизни было хоть что-то надежное: дом, сегодняшний день и день завтрашний. Мать, наконец. Она была рядом, она осталась, и он за нее держался. Школа тоже казалась надежным убежищем, хотя после первого прогула — он и сейчас не помнит, куда бросился, выскочив из больницы, и когда вернулся домой, — учеба его больше не интересовала. Подготовка к урокам стала пустой и бессмысленной церемонией. И все же он ежедневно упрямо садился за стол и в строгом порядке раскладывал перед собой все необходимое для занятий. Учебники и тетради лежали, подобранные по формату и цвету, в точности как советовал им когда-то классный руководитель. Ведь через такие мелочи прививаются и делаются внутренней потребностью аккуратность, любовь к порядку и чистоте. Вот они и привились.
Такой же внутренней потребностью было и каждодневное посещение школы и подчинение установленным свыше порядкам, к которым человеку достаточно лишь приспособиться, а остальное уж не его забота. Прозвенел звонок — выходи из класса, по другому сигналу шагай на линейку. Неизменный ритм утренних школьных часов казался вечным и незыблемым.
О грозящих ему неприятностях он даже не подозревал.
С ним происходило что-то странное. Он сидел за партой, в которую почти врос, и не мог ни на чем сосредоточиться. Перед учителями, классным руководителем и директором стоял навытяжку, с виду собранный, но слов их не слышал. Путь до школы и обратно проделывал почти машинально. Тело привычно служило ему: он жил, двигался, ел и спал, ни в чем не отдавая себе отчета.
Почти все, кроме него самого, догадывались, чем это может кончиться.
Эстер же — знала наверняка.
В перемены, вцепившись Подростку в локоть, она надоедливо повторяла ему устные задания. Они сидели за одной партой, так что во время урока Эстер умудрялась набросать в его тетради и письменные упражнения. И молчала, в отчаянии сжимая губы.
Как-то она поцеловала его. Но это случилось лишь однажды и больше не повторялось.
* * *
Мать по обыкновению оставила ему длинный список хозяйственных поручений, и он полдня проходил по магазинам.
С Эстер они встретились в гастрономическом отделе у полки с консервными банками. Девчонка обрадованно присоединилась к нему, помогла выбрать продукты. Они больше молчали — разговаривать о делах Подростка в то время было уже бесполезно. Присутствие Эстер было таким же привычным, как дом, как невозмутимое течение школьной жизни, как порядок на письменном столе.
По дороге домой они остановились в переулке. В потухшем взгляде Подростка блеснули вдруг прежние огоньки.
— Спасибо тебе, — сказал он, заглядывая в живые и умные глаза Эстер. — Ты мировая девчонка!
Та выпустила из рук авоську и обняла его за шею.
— Петер, — забормотала она, судорожно притягивая к себе его лицо, — я не могу на это смотреть, я не позволю, не допущу! — И жаркие губы коснулись щеки Подростка.
Он же словно окаменел. Он стоял в бессильном молчании, будто чья-то жестокая рука внезапно захлопнула доверчиво приоткрывшуюся его душу.
Эстер отпрянула.
— Не сердись, — сухо сказала она. — Я вела себя глупо. Пожалуйста, не сердись, — повторила и попыталась изобразить на лице улыбку.
— Извини, — взволнованно пролепетал он, — я прошу тебя…
— Все в порядке, ну что ты, — проговорила Эстер, нерешительно наклоняясь за авоськой. — Все в порядке.
Подросток уставился на ее сгорбленную фигурку и даже не сообразил предложить свою помощь. Он топтался на месте, глядя, как девчонка удаляется по переулку в тусклом свете фонарей. Наконец она растворилась в темноте, и Подросток отправился домой, в свое надежное убежище. Выбитый из привычной жизненной колеи, он едва не бежал, спасаясь от преследующего его незнакомого чувства.
* * *
Мать вернулась с работы поздно, была усталая и раздраженная. В черной траурной одежде она выглядела бледнее обычного, под глазами на тонкой матовой коже синели незнакомые тени.
— Сверхурочно работала, — сказала она. — Иначе не проживем.
Опытную станцию Подросток знал так же хорошо, как и здание суда. Мать работала в химической лаборатории — давно уже, с незапамятных времен — в окружении белых, чуть грязноватых всегда халатов, до блеска вымытых пробирок и курящихся ядовитыми парами реторт.
— Ты и там в трауре? — неожиданно вскинул он голову.
Мать как раз меняла черные туфли на такие же черные тапочки.
— Ты что это? Как тебе в голову пришло? — поразилась она, балансируя на одной ноге.
— Не знаю… я сам не знаю… Но это ужасно — видеть тебя постоянно в черном. Ужасно, Мама.
Мать, не отвечая, подхватила перекрашенный в черный цвет халат и прошла с ним по комнате. Подросток знал, что она направляется в кухню, на скорую руку приготовить что-нибудь на ближайшие дни. Он склонился над учебниками.
Но Мать задержалась в дверях.
— Я думала, ты любил своего Отца, — срывающимся голосом проговорила она.
Подросток нервно вздрогнул, из горла чуть было не вырвался тихий скулящий стон. Он повернул искаженное лицо к Матери, чтобы что-то сказать, но дверь за нею захлопнулась.
Немного спустя он все же робко заглянул в кухню и, увидев распухшее от слез багровое лицо Матери, разразился словами:
— Да ведь я о другом… я не это имел в виду. Ты подозреваешь… ты думаешь, только тебе тяжело? Только ты о нем убиваешься? А другие и не страдают вовсе?
Мать посмотрела на него ледяным взглядом.
— Оставь меня, — сказала она.
— Ну конечно, — он решительно взялся за ручку двери, — оставь тебя, оставим друг друга, знаю. Не будем друг другу надоедать. Ты хочешь быть воплощением траура, ходячим воспоминанием, а я… мне лучше помалкивать, мне уж теперь и рта нельзя открыть.
Мать с досадой зажмурилась.
— Иди к себе, — устало сказала она. — Ну, ступай.
Подросток пристыженно опустил голову.
— Ты даже не представляешь… не представляешь… — забормотал он.
Но Мать резко отвернулась и стала расставлять по местам баночки со специями. Он раздраженно следил за проворными движениями ее рук и острых, подвижных плеч.
— Ты хотела устроить, чтобы я не увидел его, чтобы не смог попрощаться, — хрипло, со злостью сказал он. — Думаешь, я забуду его? Никогда.
Мать даже не обернулась.
— Выйди вон, только быстро, — проговорила она ровным, бесстрастным голосом, глядя прямо перед собой в открытый кухонный шкаф. — Вон отсюда. — И, не слыша скрипа кухонной двери, добавила, уже крича: — Ты что, не понял? Убирайся! Марш в комнату!
И снова он окунулся в привычное течение часов и дней, которое понесло его в своем русле, внушая обманчивую уверенность.
* * *
Теперь, пробираясь домой переулками, застроенными вкривь и вкось неказистыми домишками, далеко обходя центральные улицы городка, чтобы не встретить знакомых, бывших своих одноклассников, теперь-то Подросток знает, как он обманывался. Рамки, в которых живет человек, в один прекрасный момент могут раздвинуться, и мир, его маленький, отмеренный от сих до сих, мирок, развалится на куски, если под рукой — ничего, чем хоть как-то можно было бы склеить его, скрепить.
У последнего поворота из-за голых кустов на тротуар вдруг выныривают трое учеников и преграждают Подростку дорогу.
Он резко останавливается. Расстояние между ними — шагов пять, а может, и меньше.
И так каждый вечер.
Они подкарауливают его по дороге домой, притаившись за деревом или в подворотне, и появляются всякий раз неожиданно, всякий раз в новом месте.
Шишак, каланчой возвышающийся над остальными, грузно покачивается, подражая Шефу. Только наигранные движения Шишака чуть энергичней, в них больше живости и одновременно — угрозы. Его небрежная развязность лишь видимость, в этом Подросток не сомневается.
Тихоня присоединился к Шишаку из стадного страха, а Гном, вероятно, в надежде на развлечение.
Незаметно выдвинув ногу, Шишак подается вперед. Подросток усилием воли удерживает себя на месте и вглядывается в размытые очертания обращенного к нему лица. Что Шишак готовится к прыжку, он не видит, но чувствует это по нарастающему напряжению и инстинктивно отдергивает голову. Шишак тычет кулаком в пустоту. Двое других, улюлюкая, топают ногами. Подросток, рванувшись сквозь кусты, скатывается в канаву и выбирается на дорогу. Троица снова выстраивается в ряд, лицом к мостовой. Подросток, очертя голову, огромными прыжками пускается наутек. Дом уже совсем близко, и сегодня они ему больше не встретятся. «Больше не встретятся, — задыхаясь, успокаивает он себя, — больше не встретятся, больше не встретятся».
В прихожей он переводит дух, чувствуя себя в безопасности, но безопасность эта непрочная и ненадежная — еще не известно, что ждет его в глубине квартиры.
В комнатах света не видно, похоже, он дома один. Подросток щеткой и мокрой губкой очищает пальто от предательских пятен и наконец успокаивается. Мать еще не пришла с работы, опять сверхурочные? А может, и нет. С недавних пор он ни в чем не уверен.
* * *
Легкая Стопа, как окрестил он мужчину, в первый раз зашел к ним на несколько минут, чтобы выразить соболезнование — так же, как многие другие. В те дни, после смерти Отца, лицо Матери было искажено до неузнаваемости и напоминало раздавленную головку мясистого цветка. Одурманенная снотворным, она тупо бродила по квартире.
Вскоре Легкая Стопа объявился снова. Матери дали отпуск и путевку в санаторий, и он с готовностью взялся присмотреть за Подростком — дескать, парень большой уж, хлопот с ним особых не будет. Общались они больше по телефону, но однажды вечером Легкая Стопа пришел к нему в гости, и они вместе жарили яичницу и пили чай.
Мужчина вскользь упомянул о своей жене, которую потерял вместе с новорожденной дочкой несколько лет назад — говорил он об этом спокойно, без вздохов и чувствительных пауз, как раз когда готовили яичницу. Так что он, мол, Подростку рад, есть хоть о ком позаботиться… К тому же Мать и слышать не хотела, чтобы кто-нибудь из женщин, ее коллег, опекал сына. Все замужние, сами матери — и без того хватает забот. Или девчонки незрелые.
Оба чувствовали себя весело и раскованно, но вечер все же не удался.
Легкая Стопа оказался каким-то уж слишком домашним, слишком мягким по сравнению с Отцом. Да с ним никто и не может сравниться. И если бы Легкая Стопа хоть чем-нибудь напоминал Отца, пожалуй, его присутствие было бы в тягость, поэтому хорошо, что так получилось. Людей вокруг себя Подросток в ту пору переносил с трудом.
О том, как идут дела в школе, они почти не говорили. На вопрос гостя он ответил коротко:
— Какие теперь могут быть дела?
— Ну понятно, понятно, — поспешил отступить тот, и воцарилось молчание.
Вот если бы Подросток интересовался химией, наверное, все было бы гораздо проще, но химия привлекала его меньше всего на свете. Непонятно почему, он испытывал к взрослому какое-то странное чувство благодарности, благожелательной, почти снисходительной признательности, чего до сих пор стыдится. Легкая Стопа после этого долго не появлялся в их доме — дожидался, пока истечет положенный и строго соблюдаемый в городке год траура. Да и потом если и приходил, то больше из-за Подростка.
Поводом для визитов были школьные неурядицы.
* * *
До сих пор с дрожью вспоминает он, как, цепенея, беспомощно стоял перед испуганно притихшим классом. Эстер, стараясь не шевелить губами, подсказывала, но это не помогало, а только сбивало с толку, и товарищи глядели на его кислую физиономию с жалостью и недоумением.
Некоторые учителя отходили при этом к окну и с деланной рассеянностью смотрели на переулок, самый тихий и пустынный в городке, где звуки шагов на холодной, всегда сырой брусчатке замирают и глохнут в дремотной тишине тысячелетнего прошлого. Где смотреть вовсе не на что — машины деловито снуют по другим, более широким улицам и в этот район, а тем более в окрестности гимназии никогда не заезжают. Правда, внизу ютятся несколько преподавательских автомобилей — маленьких, скромных, неброского цвета.
Другие, менее находчивые, сосредоточенно изучали классный журнал или справочное пособие со знакомыми до скуки иллюстрациями или, великодушно отводя глаза, ощупывали карманы в поисках платка.
Он же стоял, ничего не замечая вокруг.
Шепот Эстер, упорный и все более громкий, приводил его в замешательство, раздражал, а необычная доброжелательность учителей действовала парализующе. Каждый муравей несет посильную ношу — один крошку побольше, другой — маленькую песчинку. Вокруг него, надрываясь, все тащили большие, непомерно огромные крошки милосердия.
В конце учебного года Мать, истерически рыдая, требовала, чтобы он готовился к переэкзаменовке.
Подросток догадывался, что наверстать пройденное за год по математике не удастся, ему и прежде-то отличные отметки по этому злосчастному предмету «натягивали», чтобы в табеле были круглые пятерки. Так было и до гимназии — во всех классах начальной школы.
Первая попытка закончилась полным провалом. Ничего он не помнил. Знакомый преподаватель от репетиторства отказался — решил отдохнуть на каникулах. Недели две с ним промучился молодой и тщеславный учитель, только что назначенный в соседнюю школу, но и он потерпел фиаско.
Мать была вне себя от негодования.
Велела Подростку явиться на опытную станцию, но он туда не пошел.
Когда она звонила домой, он тупо глядел на огромного, разрывающегося от звона черного жука и даже не думал снимать трубку.
Вечерами приходил Легкая Стопа — заниматься с ним математикой.
Бесшумно следуя за Матерью, он входил в комнату явно растроганный, с заискивающим блеском в глазах — воплощение благожелательности и преданности.
Мать еще больше похудела, ее скорбная фигура, казалось, вибрировала от напряжения, будто сверхчуткая мембрана отзываясь на каждый шорох. На ночь она принимала теперь двойную дозу снотворного.
Мужчина с Подростком садились за письменный стол, а Мать, удалившись в кухню, наскоро готовила ужин. Она торопливо хлопотала, время от времени замирая, точно наткнувшись на невидимую стену, и снова нервно суетилась, похожая на капризный испорченный механизм, который, несмотря на поломку, продолжает упорно действовать.
Подростку казалось, что Легкая Стопа должен прислушиваться к тому, что происходило на кухне. Но тот сидел строгий и сосредоточенный, привычно склонив над столом освещенную холодным неоновым светом голову с редеющими, чуть волнистыми темно-каштановыми волосами, в которых уже поблескивали ниточки седины. Осунувшееся, со следами усталости лицо сорокалетнего мужчины виделось Подростку все более симпатичным. Держа в изъеденных реактивами пальцах карандаш, Легкая Стопа играючи набрасывал на бумаге цифры и формулы.
Он старательно объяснял сложные правила, которые сам помнил наизусть, но в жалких познаниях Подростка зияли такие провалы, что заполнить их не было никакой надежды.
После трех недель бесплодных усилий Легкая Стопа решился на откровенный разговор.
Письменный стол был завален исчерканными листами бумаги. Мать накрыла на круглом столике. Едва они сели, как Подросток от волнения опрокинул солонку. Извинившись, он сбегал за тряпкой, но, удаляя следы неловкости, перевернул еще и стакан. Мужчина мягко взял его за руку и усадил на место.
— Ну-ну, не дрейфь, — спокойно сказал он и покосился на Мать.
По ее бескровному лицу пробежала тень, ненакрашенные веки чуть заметно задрожали.
Легкая Стопа все еще сжимал теплой рукой запястье Подростка, а Мать, совсем побледнев, глядела на них с напряженным ожиданием.
— Ну что вы так пугаетесь, Эдит? — заговорил мужчина. — Умоляю вас, успокойтесь. Ведь, что бы ни случилось, вы не останетесь в беде одна.
Мать, скользнув взглядом по лицу Подростка, твердо сжала губы.
— Беда… что еще за беда? — дрожащим от напряжения голосом спросила она.
Легкая Стопа выдержал ее долгий взгляд. И даже улыбнулся.
— Беды нет. Скорее… небольшая неприятность. Временная неприятность. Словом… эта переэкзаменовка… дело безнадежное.
— Боже мой! Нет, нет, нет… этого не может быть!
— Поверьте, это не трагедия, — пытался успокоить ее мужчина. — Просто из жизни Петера выпал год. Да и не удивительно… Будем считать, что он был болен, переутомился, пережил слишком сильное потрясение…
— Уж позвольте мне в этом самой разобраться, — резко оборвала его Мать и закрыла лицо руками. — Позвольте.
— Мама… — начал было Подросток, но, почувствовав, как пальцы взрослого сжали его руку, умолк.
— Поймите же, Петеру нужно отдохнуть, прийти в себя. Дайте ему год, год отсрочки, Эдит, всего лишь год.
Мать сидела-не шевелясь.
— И что же он будет делать?
— Как что, — улыбнулся мужчина, — гулять, читать, развлекаться… да что угодно.
Мать коротко рассмеялась.
— Ему уже пятнадцать! И если теперь не пересдаст экзамен, то вернется в школу в шестнадцать. Заново в первый класс гимназии. Так вы это себе представляете?
— Все верно, — спокойно ответил Легкая Стопа.
— А ты? — повернулась она к Подростку. — Ты тоже так думаешь?
Он чувствовал, что обстановка накалилась до предела.
— Не знаю. Вообще-то… — начал Подросток. Мужская рука снова сжала его запястье. — Вообще-то, мне кажется, дядя Дюрка хочет как лучше, — сбивчиво забормотал он, даже не заметив, что впервые назвал мужчину по имени.
— Пропадет. Свяжется с хулиганами. — Мать нервно сцепила пальцы. — Он и сам-то не знает, чего ему надо.
— Всего год, — терпеливо и мягко настаивал мужчина. — Не нужно решать сгоряча… время терпит, обдумайте все спокойно.
— Время?! — Мать скрестила на груди руки, жесткие, исхудалые. — Время! — горько повторила она. — Не вы ли тормошили меня… заставляли работать… даже на сверхурочные уговаривали, если мне память не изменяет! И правильно делали. Правильно. — Она вызывающе повернулась к сыну: — Вот я и справилась со своим горем, разве не так?
Подросток испуганно закивал.
— А ведь горе мое ничуть не меньше, — еще резче сказала она. — Или я не права?
Легкая Стопа посмотрел на нее долгим взглядом.
— Я прошу вас лишь об одном: обдумайте все не спеша.
Мать взяла чайник и наполнила чашки. Пар медленно, спиральными струйками поднимаясь над столом, растворялся в вязком от напряжения воздухе.
— Остынет, — сухо обронила Мать. — Чай нужно пить горячим — или вообще не пить. — И, поймав настойчивый, ждущий взгляд мужчины, добавила уже мягче: — Я понимаю, вы нам помочь хотите. Хорошо, хорошо, я подумаю.
Но Подросток знал, что Мать думать не будет, а если даже и подумает, то ничего хорошего из этого не выйдет. Возможно, горе Матери больше, чем его, или по крайней мере такое же. Но разве может она понять то, в чем он и сам еще не разобрался. И действительно, предложение Легкой Стопы казалось Подростку бессмысленным, так же, впрочем, как и весь мир, не вызывавший в нем ничего, кроме равнодушия. Конечно же, быть дармоедом стыдно, но и надрываться, как муравьи над песчинками, желания не было. Во всяком случае, тогда это просто не укладывалось у Подростка в голове. Вот если бы на какое-то время его оставили в покое, то, как знать…
Потеря года — точнее, двух, если не пересдаст экзамен, — его все же пугала, и потому на следующий вечер, когда Мать вернулась от классного руководителя успокоенная, с прежним блеском в тепло-зеленых глазах, Подросток сдался без уговоров.
Через каждые два часа подкрепляясь крепчайшим кофе, он лихорадочно зазубривал экзаменационные задачи. В голове роились формулы. Он машинально, даже не вникая в смысл, по многу раз переписывал их в тетрадь.
Подросток работал до изнурения. Мужчина только покачивал головой, но сомнений уже не высказывал, хотя по упрямому выражению, которое всегда появлялось на лице Матери при звуке его легких шагов, можно было догадаться, что жаркие споры между ними не прекратились. Мужчина приходил теперь реже и наблюдал за Подростком со стороны. Но тот и на расстоянии чувствовал мягкое участие взрослого, чем-то напоминавшее отцовскую ласку. Но оба они были одинаково далеки от Подростка: один безвозвратно ушел в прошлое, другой был где-то в будущем, лишь возможном, смутном и нереальном.
* * *
С тех пор ничего и не изменилось. Почти ничего. Снизу, от наружных ворот, доносится приглушенный туманом звук поворачиваемого ключа. Подросток пулей выскакивает из тесной, уютно обставленной прихожей.
Он суетится. Зажигает в своем углу свет, плюхает на стол чертежную доску, рядом — раскрытую тетрадь и, склонившись над ними, напряженно замирает, будто сжатая до отказа пружина.
Еще никого не видя и даже не слыша шагов, он каким-то шестым чувством улавливает: приближаются двое. Одна за другой, уже свыкшиеся, почти неразлучные, шагают две пары ног. Мать по новой своей привычке ступает, решительно пристукивая каблуками — точно сметая невидимые препятствия или защищаясь от чего-то. Ходит она всегда быстро, как человек, которому и на полслова некогда остановиться. Ее спутник, легко касаясь земли широкими стопами, идет за ней спокойно и уверенно.
Подросток встречает их улыбкой. Мужчину он зовет дядей Дюркой уже не только вслух, но нередко и мысленно. Он стал ему ближе, недоверия к нему Подросток больше не испытывает. Он уже все рассудил, а еще раньше принял дядю Дюрку душой, что, наверное, самое главное.
Глаза Матери смотрят ясно, и голос у нее совсем не такой раздраженный, как прежде, даже когда она вспоминает о его работе.
— Привет, трудовые резервы, — говорит Мать так радостно, будто вернулась из кругосветного путешествия.
Подросток здоровается взмахом руки и снова склоняется над тетрадью. Сзади к нему подходит Легкая Стопа.
— Можно взглянуть? — спрашивает он.
Подростку приятно ощущать на своем плече теплую тяжелую руку. Он оборачивается. Мягкое выражение лица дяди Дюрки никогда не меняется — удивительное постоянство. И все же Подросток ему не отвечает.
— Отлично. Первоклассный чертеж, Петер.
Похвала радует, но он, не подавая виду, равнодушно пожимает плечами:
— Заставили переделать.
— Этот?
— Ну да. Этот самый.
Мужчина, бегло листая тетрадь, прищурившись, улыбается Подростку. Тот тоже щурит глаза и, сам удивленный быстротой своей ответной реакции, мысленно снова, теперь уже окончательно и бесповоротно, примиряется с присутствием дяди Дюрки в их доме.
Он пытается вспомнить Отца, не восковую куклу в шелковой пижаме, а того, настоящего, кто всего два года назад жил среди них, героическим самообладанием превозмогая усталость и нечеловеческую боль, зная, что отпущено ему совсем немного — быть может, несколько недель.
Но сегодня Отец от него отдаляется, черты лица его никак не складываются воедино, и даже тень отцовской фигуры, обычно незримо присутствующей рядом, куда-то исчезла с белой чертежной доски. Характерные жесты его рук стерлись в памяти. Сегодня Отец впервые покинул дом — навсегда ли? Бросил ли он Подростка или по-доброму отпустил?
А живое тепло и спокойствие дяди Дюрки ощущаются совсем рядом. От их слитного дыхания чуть колышется воздушно-легкая занавеска. Они приглядываются и примериваются друг к другу, все больше сближаются, с радостью отмечая про себя каждый новый нюанс растущей взаимной приязни.
* * *
Обуреваемый противоречивыми чувствами, Подросток пытается разобраться во всем, что произошло. Не предал ли он Отца? Но вины за предательство Подросток не ощущает.
Просто он примирился с обстоятельствами. Ведь иначе не выжить. Каждый день ему приходится идти на примирение. С Матерью, с этим внушающим ему уверенность мужчиной. Мнимую, может быть, уверенность? Это не так уж важно. Он примиряется с Шефом, с самим собой — со всеми. И с дурацким своим положением. Выходит, он трус, если домой крадется глухими переулками и спасается бегством от преследований этой троицы, хотя знает, что руку на него не поднимут — нет, Шишак вовсе не так глуп и неосмотрителен, чтобы ввязываться в драку, он просто пугает. Шишак, непонятно почему, терпеть его не может, вот и преследует. Если бы Отец был жив… Но ведь его уже нет. Отцу он мог бы рассказать обо всем, и тот, возможно, не осудил бы его, не назвал трусостью его постоянное бегство… Все в мире, наверное, повторяется, только всякий раз иначе, потому что причины разные… А суть, выходит, одна? Прежде все было заполнено этой жуткой смертью, а теперь… ожиданием смерти. Торопить чью-то смерть? Настаивать, требовать, подгонять — что за безумие! Нет, это всего лишь повод… Не могут они серьезно хотеть этого. Это розыгрыш. Испытание.
* * *
Он и не заметил, что Мать вышла. Слышно, как она напевает на кухне. Впервые с тех пор! Подросток крепко зажмуривается, но даже с закрытыми глазами не может представить себе Отца. Он не видит его, не видит, не видит.
Мужская рука соскальзывает с плеча Подростка — как долго она его грела?
— Тебе плохо? — слышит он ровный и сдержанный, совсем уже не чужой голос.
— Нет, нет. Все в порядке, — вздрагивает Подросток, потирая пальцами виски.
Мужчина внимательно смотрит на него, отходит к креслу, садится.
— Нужно больше бывать на воздухе, — говорит он.
Подросток, спиной чувствуя озабоченный взгляд дяди Дюрки, оборачивается.
— Чертежей много задают, некогда… — беспомощно пожимает он плечами. — И еще заниматься надо, — последние слова Подросток говорит почти шепотом, поглядывая в сторону кухни. Вслух, при Матери, он бы этого не сказал, Мать сразу вспомнила бы о потерянных годах, о гимназии, об упущенных возможностях.
Дядя Дюрка об этом не вспоминает.
— Я слышал, в училище тобою довольны. Ты неплохо взялся за дело, — говорит он после долгого молчания.
Подросток улыбается, не отвечает.
— Ну а как… в мастерской?
Вопрос неожиданный.
— Все нормально, спасибо.
— Работать не тяжело с непривычки?
— Нет, что вы! Ничуть, — поспешно отвечает Подросток. — Работать мне нравится. И потом, я ведь сам виноват, что так вышло. Сам и расхлебываю. — И добавляет уже другим тоном: — Вообще-то я не жалею, что буду рабочим… а не кем-то еще. Не судьей или инженером, к примеру.
Пальцы мужчины — короткие, совсем не похожие на узловатые нервные пальцы Отца — бесшумно скользят по столу, ощупывая орнамент салфетки.
— Если будет желание, позднее сможешь закончить гимназию, а может, даже и не гимназию. Мать, ты же знаешь, была бы этому только рада.
— Да, я знаю.
Дядя Дюрка неожиданно вскидывает голову и — впервые с такой прямотой — изучающе вглядывается в замкнутое лицо Подростка.
— Петер, — спрашивает он решительно, — что с тобой происходит?
— Со мной? — в замешательстве переспрашивает Подросток. — Ничего особенного.
Мужчина глядит на него упрямо, почти назойливо.
— Конечно, я не имею права… ни малейшего права тебя расспрашивать. Это верно, — говорит он, не сводя глаз с Подростка.
— Дело вовсе не в этом, — поспешно бормочет тот. — То есть… ну, это неважно, — заканчивает он с невольной горечью.
— Тем лучше, — вздыхает мужчина. — Так что же? Тебя невзлюбил кто-нибудь из взрослых?
— Да нет, я даже с Шефом сумел поладить, — с излишней горячностью возражает Подросток.
— С Мачаи?
Подросток ошеломлен. Так дядя Дюрка знает его?
— Ну да! — подтверждает он с гордостью. — С ним.
— Говорят, он гроза мастерской? Наслышан я о его делишках.
— Да где там, — натянуто ухмыляется Подросток. — В дела мастерской он особенно не суется. Рабочим плевать на него.
— Рабочим. А вам?
— Ну… — Он нехотя пожимает плечами. — Нам дает иногда прикурить. В зависимости от настроения.
— Так это он не дает вам житья?
— Допустим. — Подросток неожиданно для себя с облегчением вздыхает: — Но ко мне он не очень-то придирается, не то что к другим.
— Только задания приходится переделывать.
— Это не страшно. Всем приходится переделывать, не мне одному… всем одинаково, без исключений. Так что это еще не самое худшее.
— Понятно… Может, с другими взрослыми не поладил?
— Ну что вы! — решительно протестует Подросток. — Они очень хорошие. Не такие, конечно, как Отец или вы, дядя Дюрка… или другой кто из старых знакомых. Я имею в виду — не тот стиль. Но разговоры и взгляды такие же. Говорят о семье, о работе, ну, естественно, о политике. О чем еще людям говорить, — по-взрослому разводит он руками.
Но дядя Дюрка не отступает. От глаз его никуда не скрыться, так и сверлит ими Подростка. Что-то он заподозрил. Не нравится ему что-то. Наверное, разговаривал с кем-то из мастерской. С кем, интересно?
— Может… подшучивают над тобой, измываются? — осторожно интересуется он.
Так вот оно что. Подросток насупился.
— Над кем поначалу не издеваются? — говорит он тихо. — Но это недолго. Не успеет человек привыкнуть, как о нем уже забывают. За другого берутся… придумывают что-нибудь новенькое.
Мужчина снова разглядывает рисунок салфетки, только голос выдает его напряженную сосредоточенность.
— Странно, что у тебя нет друзей. Или… не хочешь приводить их сюда?
— Нет у меня друзей, — еле слышно бормочет Подросток. Собственные слова напоминают ему жужжание испуганного насекомого.
Мужчина, сцепив руки замком, тщательно изучает их. И медленно, чуть заметно покачивает головой.
— Ты сам не хочешь ни с кем дружить? — спрашивает он совсем тихо.
— Не знаю, — отвечает Подросток. — Не знаю.
Дядя Дюрка окидывает его молчаливым взглядом и переводит глаза на салфетку.
— Ничего, образуется, — утешительно говорит он. — Как-нибудь образуется. Главное — не поддаваться панике. Конечно, ты им кажешься посторонним, не их поля ягодой. Ничего, привыкнут. У нас… что бы ни говорили… хватает еще предрассудков… Думаешь, мать из возвышенных побуждений так беспокоилась за тебя?.. Нет, она просто знает по опыту, и от этого никуда не денешься, что человек все еще ценится главным образом по занимаемому положению, а положение нынче зависит от диплома. Как в старину от дворянской грамоты, даже более того. По диплому дают тебе должность, а по должности — письменный стол, и, уж как бы ты плохо ни работал, его у тебя никто не отнимет. В худшем случае — получишь другой. Да, пока это так. Твоя мать, да и все наше поколение на этом выросли, это видели в жизни. И если теперь что-то меняется, то очень медленно. Невероятно медленно, Петер. Вот они и чураются тебя. Из-за отца, из-за матери, их положения. Конечно, не потому, что ты более обеспечен, чем они. Твои товарищи, может, живут не хуже. Вовсе не потому, ты понял меня?
— Понял, но… — Он осекся.
— Что такое? Подростка что-то смущает.
— Дело не только в этом. Все гораздо… В общем, дело в другом. Совсем в другом.
— В чем же?
— Эти трое… — Подросток опять умолкает.
— Их трое?
— Да, трое. Они какие-то… чужие. Или кто их знает! — вдруг злобно выкрикивает он.
— Что, не водятся с тобой?
Он молчит, стиснув зубы.
— Так о чем я и говорю! Ты понимаешь, люди, бедные духом, стремятся хотя бы к видимости богатства и исключительности. И видимость эта, если ее добились, своего рода власть. Не настоящая, не реальная, как думают те, кто ее не имеют… но все-таки. Она помогает выделиться из массы. И многим этого вполне достаточно. Большего им не нужно, да они и не способны на большее. Свою профессию они выбирают вовсе не потому, что любое другое занятие сделало бы их несчастными на всю жизнь… Разве шеф ваш — увлеченный педагог или автомеханик? Скорее уж прирожденный надсмотрщик. Одно у него увлечение — разыгрывать из себя важную птицу. Персону… Ты только не подумай, что я хочу настроить тебя против него, зря я все это говорю… ну да мало ли таких тебе встретится в жизни! — Мужчина растерянно умолкает.
— Они хотят, чтобы я убил его!
Подросток срывается на крик. Будто чья-то рука выхватила у него из горла эту трепещущую фразу. В этот миг ему кажется, что те трое все же не шутят. Они так решили всерьез.
— Кто — хотят? — всем телом подается вперед дядя Дюрка.
— Мальчишки. Ну, остальные!
Мужчина на мгновение замирает, превращаясь в собственное изваяние, потом оживает, на лице у него неописуемое изумление, и вот уже, откинувшись в кресле, чуть не падая, он сотрясается в гомерическом хохоте.
Подросток смотрит на него обиженно, оскорбленно, но не может удержаться от смеха, постепенно холодный смех его оттаивает, и ужасы, испытываемые который месяц, представляются вдруг совершенно беспочвенными и нелепыми: эти трое, конечно же, шутят.
Мужчина кое-как успокаивается и, достав из кармана платок, вытирает мокрое от слез лицо.
Из груди Подростка вырывается вздох облегчения. Ему хочется крепко обнять дядю Дюрку — такого спокойного, мудрого, простого и славного человека, рядом с которым он чувствует себя в безопасности.
* * *
Тело его невесомо колышется, будто связка воздушных шаров. Голова у Подростка ясная — бессонница не мучит его, не изматывает, она благодатно подхватывает его и, раскачивая, поднимает на своих крыльях над реальностью, чтобы, взглянув на нее с высоты, он мог убедиться в своих заблуждениях и наивности былых страхов.
* * *
О его страхах Легкая Стопа не обмолвился Матери ни словом. Не выдал Подростка. Когда Мать вошла в комнату, он, чтобы разрядить обстановку, поспешно рассказал какой-то пошлый анекдот — лучшего, видно, в тот момент ему в голову не пришло. Та, укоризненно улыбаясь, подсела к ним. Худенькая, изящная, Мать уже отказалась от глубокого траура.
Снять траур совсем она никак не решится. И Легкая Стопа, запасшись терпением, ждет.
Покой Матери, и без того непрочный, нельзя нарушать, что бы ни случилось. Они оба это хорошо знают. Поэтому дядя Дюрка не стал ей ничего рассказывать. И позднее, если замечал, что Подросток чем-то опять угнетен, пытался рассеять его страхи тайными знаками и забавными гримасами. Мать же радовалась, что они так сошлись. Прежде она опасалась, что Подросток встретит мужчину в штыки, боялась мальчишеского упрямства, а больше всего — его безмерной преданности Отцу. Обстановка — еще до того, как дядя Дюрка впервые рискнул появиться в доме, — была постоянно накалена.
Теперь же они понимают друг друга без слов, да особые объяснения и не нужны: Мать на глазах помолодела. В тот вечер Подросток не отрываясь следил за ее руками — обычно такие нервные, импульсивные, они сейчас спокойно, лежали на складках черной юбки. Некрашеные ногти снова слегка порозовели. Только лицо оставалось бледным, почти таким же бескровным и бледным, как в самые первые дни. Но в уголках губ все же играла улыбка. Мать оглядывалась в его комнате, останавливаясь взглядом на книжных полках, на матовых дверцах платяного шкафа с таким удивлением, будто предметы эти после загадочного отсутствия только что вернулись в квартиру и с подобающей мебели покорностью вновь заняли свои места.
* * *
Встав тихонько с постели, Подросток нащупывает ногами тапочки и, бесшумно огибая препятствия, на цыпочках крадется к окну.
Плотные шторы податливо раздвигаются, пропуская его к стеклу. Но за окном не видать ни зги. Наверно, на улице густой туман, который после рассвета осядет на ветках деревьев, на крышах и на растущем у дома вечнозеленом кустарнике слезами кристально чистой холодной изморози.
Хорошо бы сейчас распахнуть окно и, поеживаясь, подставить грудь под струю зябкой свежести. Но это невозможно, потому что тут же всполошится Мать и, вслушиваясь в темноту, будет испуганным клокочущим шепотом пытаться, как прежде, будить Отца.
Как прежде… когда она уже догадывалась, что их ждет впереди.
Когда сквозь однообразную пелену безмятежного сна прорывались вдруг жуткие звуки. Мать всхлипывала с жалобным стоном, напоминающим стоны изношенного, не натертого канифолью смычка.
«Что ты, милая, что ты», — дрожащим голосом увещевал ее Отец.
Состояние Отца ухудшилось резко и неожиданно, и с тех пор Подросток тоже спал беспокойно, вздрагивая при каждом шорохе. Сон и явь сливались в сплошной кошмар, отупляющий сознание, но он все же чувствовал: надвигается что-то страшное.
Жуткое, ни с чем не сравнимое ощущение вновь пронзает Подростка — оно не забылось, не стерлось в памяти.
Черты отцовского лица оживают и снова складываются воедино, глаза светятся тепло, как в лучшие дни. Жесты Отца — как когда-то стремительные и энергичные, — кажется, приводят воздух в движение.
Подросток отчетливо видит даже светло-серые крапинки, образующие полоски на темном, мышином фоне его костюма… После строгих однотонных костюмов, долго державшихся в моде, этот новый выглядел необыкновенным. Мать вся сияла от радости. «Какой ты в нем стройный!» — гладила она Отца по спине, проверяя, хорошо ли сидит пиджак. На следующий день он должен был идти на судебное заседание в новом костюме — спорить с Матерью было бесполезно. И Отец, как всегда, уступил ей, причем уступил с явным удовольствием, широко раздвинутыми и чуть вывернутыми наружу ладонями как бы говоря: хорошо, хорошо, сдаюсь. Вот оно, это движение, совсем рядом, он видит его за окном, в тумане. Видит даже с закрытыми глазами — оно навсегда останется с ним, такое же неотъемлемое, как собственная кожа. Отец какой-то своей частью врос в его нескладное полудетское тело, в болезненно чувствительные нервные клетки. В эту минуту он ощущает это совершенно отчетливо. Но почему же Отец не передал ему хотя бы часть своей силы и решительности. Если бы он подумал об этом раньше, хотя бы за несколько месяцев… Эти трое из мастерской, прячущиеся по темным закоулкам, и даже Шеф с его раздутым, как бочка, телом кажутся теперь игрушечными человечками, они уже не страшны, они его не волнуют, как будто их вовсе и не было.
Он отходит от окна, оставив в шторах совсем небольшую щелочку.
Через нее в комнату просачивается предутренний свет, такой слабый, что очертания предметов лишь угадываются в темноте. Предметы все вырастают и округляются, вбирая в себя выступы и острые углы. Стол посредине комнаты добродушно выгибает спину…
Его притягивает к себе тахта.
И откуда-то из глубины многослойной, но все же легкопроницаемой темноты доносится вдруг шушуканье. Это они, те трое, вечно они шушукаются.
Их шепот вспыхивает, искрясь, как электрический разряд, и тут же гаснет. И снова вспыхивает.
В любом положении — на корточках, на коленях и даже стоя — они кажутся одним клубком, головы их всегда сдвинуты, руки совершают какие-то непонятные и загадочные движения.
Они поджидают его в темных переулках, терпеливо стоя в грязи. Бить его уже не пытаются — пугают, не отрывая примерзших к телу рук. Выстраиваются сплошной стеной и молчаливо ждут. Шаги их никогда не раздаются у него за спиной, каким-то образом троице всегда удается опередить его.
А он, завидя их сомкнутый строй, панически бежит. Пытается улизнуть в подворотню или, перемахнув через кювет, улепетывает по противоположной стороне улицы. Они уже разведали все его лазейки и обходные пути, и, как бы он ни старался скрыться, троица снова и снова вырастает перед ним. В коротком проулке перед самым домом можно наконец перейти на шаг, отдышаться немного — подсказывает ему разум, однако ноги не слушаются подсказки и продолжают бежать огромными скачками, под ботинками чавкает грязь, они то и дело попадают в выбоины мостовой…
Дурацкий розыгрыш. Испытание. Нужно выстоять. Или, может, пойти на сближение: «Ладно, парни, замнем. Я на вас не в обиде. Что я, шуток не понимаю?» — как-нибудь так. Уверенности в себе — вот чего ему не хватает.
Нужно что-то придумать. И скорее. Как можно скорее. Обрести уверенность и оптимизм. Какой-то внутренний свет, который излучался бы и на окружающих. И надежно его защищал.
Мать вот уже четвертый день возвращается домой одна.
Строгая, бледная, в черно-белом полутрауре, с которым почему-то упрямо не хочет расстаться. Походка ее сделалась еще тяжелей и решительней.
В последнее время Мать заметно изменилась и меняется изо дня в день. Похоже, она успокоилась.
Она больше не просыпается по ночам и не стонет во сне, пугая Подростка.
Сегодня Мать снова одна. Он слышит, как она порывистыми шагами ходит по тесной прихожей, и мысленно представляет все ее движения. От двери Мать направляется к вешалке, оттуда — к зеркалу и, замыкая воображенный Подростком треугольник, возвращается снова к двери. Слышно, как в замке поворачивается ключ.
Стало быть, нынче вечером Мать никого не ждет. Опять она никого не ждет.
Но вот тяжелые шаги Матери удаляются в сторону ванной. Наверное, только там ее по-военному четкие движения округляются: сложив ладони мягкой лодочкой и склонившись над краном, она замирает, как прежде, в томительном ожидании.
Подросток сжимает горящие веки, чувствуя, как в душе разливается беспокойная, жадная, ноющая тоска — по прежней, почти уже забытой и вот на глазах оживающей, женственной, слабой, нуждающейся в поддержке Матери.
Январь в этом году выдался ослепительно яркий. Закат с трудом прорывается сквозь хрустальную стылую белизну, выстилая землю мягкими голубыми тенями, а небо — красноватой мглой.
Предательские туманы рассеялись, и ему, как, впрочем, и тем троим, больше не спрятаться за их пеленой. Опасность может подстерегать Подростка только в промерзших подворотнях да за углами домов. Но он осмотрителен: резкие выступы и изломы застроенных вкось и вкривь переулков обходит по мостовой.
День уже подрастает, вытягивается, упираясь руками в утро, ногами — в вечер, и пытается пошире раздвинуть их. Семь-восемь дневных часов кажутся стеклянным мостиком — чистым и незапятнанным. В колючем, бодрящем морозном воздухе он плавной дугой переброшен от рассветного одиночества к теплому, уютному вечеру.
Мать сбросила строгие уличные туфли и бесшумно ступает теперь в мягких войлочных тапочках.
Подросток поспешно поправляет на столе невзрачную книжицу — подтверждение его первой за долгое время победы. Он задумывается и передвигает книжицу на край стола: так она будет заметней, сразу бросится в глаза вошедшему. Но снова передумывает и кладет ее на середину: пусть она здесь не обращает на себя внимания, зато — в центре, на почетном месте.
Он замирает в возбужденном ожидании.
Ручка двери медленно опускается, и в комнату нерешительно входит Мать.
На удивленном лице Подростка вспыхивает улыбка.
Он видит на Матери кремовый халатик, легкий, как у девчонок, расширяющийся книзу, с веселыми оборками на вороте и рукавах. Но в тусклом взгляде зеленоватых глаз все же кроется грустная неуверенность, а румянец, оставленный на щеках холодной водой и жестким полотенцем, кажется почему-то ненастоящим, намалеванным небрежной кистью. Подросток перешагивает через поблекший вдруг орнамент ковра и наклоняется к еще мокрому лицу Матери. Та стыдливо утыкается в плечо сына, точно желая убедить его, что он не грезит, что это действительно она.
Смущенно отступив, Подросток берет со стола книжицу и молча протягивает Матери.
В немигающем взгляде зеленоватых глаз загорается изумленное невинное детское любопытство. Мать углубляется в книжицу: это официальный документ, рубрики которого заполнены названиями предметов, оценками, подписями.
— О-о, — протяжно восклицает она. И потом, после долгой паузы, говорит виноватым дрожащим голосом: — А я-то забыла, что ты сегодня… что у вас теперь… Вернее, я помнила, только выскочило из головы. Память худая стала.
Боже мой. Выскочило. Из этой сегодня такой изящной, задумчиво склоненной набок, такой милой и симпатичной головки выскочило. Память у нее худая.
Подросток застыл на месте, серьезный, с обиженно вздернутым подбородком.
— Работы сегодня было невпроворот… Но тем более приятен этот сюрприз… — робко поднимает она глаза на сына.
— Конечно, — смиренно кивает он.
— В лаборатории… столько всего, голова идет кругом…
— Да уж догадываюсь.
Мать ищет еще какие-то слова, борется с ними, непокорными и предательскими. Он не вмешивается.
Только смотрит на кающееся, испуганное лицо Матери с высоты своих ста семидесяти пяти сантиметров.
— Сынок… Петер… — жалко бормочет она.
— Да, Мама, — говорит он чуть свысока, но ласково.
Если свысока, то можно и ласково. Даже нужно. Рекомендуется.
— Я так расстроена.
— Пустяки. Нашла из-за чего расстраиваться, — отмахивается он великодушно.
— А результаты отличные… просто великолепные… — все еще пытается задобрить его Мать.
Ну да. Отличные.
Подросток небрежно пожимает плечами, так, будто он их бесплатно получил, эти и в самом деле отличные и заслуженные оценки. Или выиграл по лотерейному билету, который случайно купил за гроши и на время забыл о его существовании.
— Поздравляю, сынок. От души. Я так рада за тебя.
Он с тем же великодушием кивает, благосклонно улыбается и быстрым движением даже касается волос Матери, которые уложены сплошной темной волной, протянувшейся от правого виска через затылок к заколке над левым ухом. Качающейся походкой он подходит к письменному столу, чтобы выбрать ручку. Останавливается и с важным видом — точь-в-точь как Шеф — демонстративно задумывается. Наконец, так же раскачивая жердеобразное, почти двухметровое тело, Подросток неторопливо подходит к Матери и, склонившись в почтительной позе хорошо выученного лакея, протягивает ей необходимую для росписи ручку.
Поначалу эта игра ее забавляет, она уже готова рассмеяться, но Подросток замер, будто окаменевший. Улыбка на его губах — пронзительная, ледяная.
Мать покорно склоняется над табелем, чтобы поставить свое имя. Буквы — обычно четкие, как рисованные — получаются заостренными и выпрыгивают из строки. Раскаяние и замешательство размягчают Мать, такую жесткую и решительную в последние месяцы. Движения ее делаются неуверенными — выходит, достаточно мелкого испуга, только и всего-то.
Она еще долго держит табель в руках, явно не зная, что с ним делать, пока наконец Подросток, сжалившись, не отнимает у нее книжицу.
Пальцы ее, выпустив табель, безвольно сжимаются, и сын с удивлением замечает, что они не только беспомощны, но и странно обнажены: гладкое золотое кольцо, которое Мать носит не снимая, снова осиротело. Перстенек куда-то исчез.
Подростку слышатся одинокие гулкие шаги возвращающейся с работы Матери — и он вдруг оттаивает. Он о чем-то догадывается.
* * *
Горестно обнаженные пальцы Матери изрисовали всю скатерть загадочными причудливыми знаками.
— Ты заслуживаешь праздничного ужина, — говорит она после долгого молчания. — И надо же, как раз сегодня я к нему не готова. Впервые с незапамятных времен не зашла после работы в магазин…
— Ну что ты, Мама, — горячо прерывает ее Подросток. В голосе его мальчишеские слезы борются с таким же мальчишеским самолюбием. — Ничего страшного. Подумаешь, важность какая.
Но Мать встает, теребя пуговицы халатика.
— Накину что-нибудь, — говорит она с деланной непринужденностью. — На углу магазин самообслуживания еще открыт.
— Еще чего! — кричит Подросток. — Не выдумывай. Я и так рад, что наконец… вижу тебя в цвете… что у нас как будто бы все налаживается, понимаешь? Не ходи никуда, я прошу тебя.
— Ну хоть чего-нибудь, — смущенно улыбается Мать, — хоть чего-нибудь вкусненького…
— Знаешь что! — задорно восклицает он. — Сварим картошку в мундире, и с маслом!
Мать нерешительно оглядывается в сторону кухни, но Подросток не дает ей двинуться с места.
— Я сам. Это мой праздник… позволь мне самому приготовить.
На испуганное, грустное, поникшее лицо Матери как бы украдкой возвращается бледный румянец.
— Ладно, сынок, пусть будет по-твоему, — с детским весельем хитро прищуривается она, совсем как в былые времена, которые кажутся такими далекими, будто прошла уже тысяча лет.
* * *
Под рождество хлопьями взбитой пены землю покрыл снег. Фонари струили на него медовый свет. Полюбоваться белым покрывалом и вдохнуть его свежий запах хотели даже старики, выглядывая из окон.
Дядя Дюрка пришел намного позже Матери.
Подросток догадывался, что те трое прогуливаются где-то внизу, самоуверенно посмеиваясь и пряча в рукав сигареты. Один из них наверняка не спускает глаз с подворотни, потом они меняются, и уже другой взгляд невидимым поводком приковывает троицу к его дому. Их неусыпное внимание никогда не ослабевает.
Собственно, в тот день, накануне рождества, он и уверился окончательно, что те трое все же не шутят. Они действительно чего-то ждут. Ждут который уж месяц, и, похоже, терпения у них хватит надолго.
В комнате, что выходит окнами на улицу, они вдвоем с Матерью наряжали елку. Мать, думая о чем-то своем, невольно улыбалась своей прежней тихой улыбкой. И даже напевала.
Подросток время от времени отодвигал занавеску то с одной, то с другой стороны окна и приникал к стеклу, чтобы получше разглядеть противоположную сторону улицы, где должна была появиться троица — ведь к самому дому они подойти не посмеют, к тому же противоположная сторона удобней со стратегической точки зрения: оттуда хорошо просматривается подворотня. И он не ошибся в своих расчетах. Они были там. Иногда они исчезали, потом возвращались и выстраивались вдоль бровки тротуара в немом ожидании.
Мать, занятая собой, наконец обратила внимание, что он беспрерывно бегает к окну. Но не рассердилась. Напротив — она с трудом сдерживалась, чтобы не рассмеяться.
— Еще рано, Петер, — качая головой, сказала Мать. — Еще только три.
Подросток вспыхнул.
— Ну да. Я знаю, — растерянно забормотал он, еще больше забавляя ее своим поведением.
— Он будет после четырех, а ты уже все глаза проглядел, — сказала Мать и рассыпала в воздухе мелкие бусинки довольного смеха.
— После четырех? Ты о ком? — Рука Подростка застыла над веткой, и конфета, которую он собирался подвесить, показалась каменно тяжелой.
Мать стояла на цыпочках и, прищурившись, смотрела, куда бы пристроить стеклянную звездочку.
— Я прошу тебя, не шути так. Тем более сегодня!
— Да ведь я…
— Что — ты?.. — Она посерьезнела.
— Ничего, — обиженно пожал плечами Подросток.
Она осторожно положила под елку сверкающую звездочку, которая тут же потускнела, превратившись в обычный предмет, такой же безжизненный, как и все остальные.
— Наверное, нужно было сначала посоветоваться с тобой, — со вздохом сказала Мать. — Но я думала… я была уверена, что и ты его полюбил.
— Дядю Дюрку? — испуганно воскликнул Подросток.
Мать неуверенно развела руками:
— Но если я ошиблась и ты все же…
— Ну что ты! Нисколечко не ошиблась! Он мне нравится. Я его полюбил, если хочешь. И вообще…
Тут она подняла глаза.
— Но, понимаешь… может случиться, что мы поженимся. — (Подросток замер.) — Когда умерли его жена и малышка, я работала уже на опытной станции. Мы все так жалели его. Об этом и не расскажешь… слов таких нет. Просто нет. Мы думали, он этого не переживет, думали… Страшно было.
— Мам, не нужно об этом…
— Нужно, ты должен знать. Словом… он сам это все перенес… и понимает, каково нам теперь. Что нам не легче. Конечно, Отец вел себя героически, но… он так выращивал в себе этот ужас, втайне, боясь потревожить нас, испугать. Ну, сам знаешь. А ведь я могла бы разделить с ним страдания или хоть как-то облегчить их. Могла бы, но он этого не хотел, не позволил — вот отчего еще мне так горько. Впрочем, тебе этого не понять… пока что.
— Почему же!
— А дядя Дюрка понимает. Его жизнь, как и наша, разбилась в одну минуту — он нам сочувствует. Дядя Дюрка хороший человек, хороший друг. Он тоже знает, что как прежде уже не будет, он и не рассчитывает, что в этом браке все будет, как в первом. Так что я не считаю это изменой. Разумеется, если ты не возражаешь.
— Не возражаю, Мама, — сказал Подросток. — И не могу возражать.
— Как это не можешь?
Голос Матери тихий, сухой. «Уж слишком бесстрастный, — подумал Подросток. — Слишком».
— Ведь ты безумно любил Отца, ты просто боготворил его. Одно дело — радоваться человеку и ждать его, когда он гость, и совсем другое — принять как члена семьи. Ведь он займет место Отца. — Мать неуверенно обвела глазами гостиную, мебель которой напоминала, что это была комната Отца.
Видя, как затуманился ее обращенный в прошлое взгляд, Подросток понял, что Мать сейчас заплачет.
Он шагнул к ней и обнял за хрупкие плечи.
— Не думай о том, что прошло, прошу тебя. Не нужно сегодня об этом думать. — Он почувствовал, как тело Матери вдруг как-то огрузло в его руках.
— Нельзя было говорить об этом здесь… в его комнате, — сказала она.
Подросток силой повернул Мать к себе.
— Почему же нельзя? Как раз здесь и надо было… А что касается меня… за меня ты не беспокойся.
Скорбные складки у рта Матери стали еще глубже.
— Я одобряю твой выбор, — поспешил успокоить ее Подросток.
— Петер, если что-то не так, ты сейчас скажи, пока еще не поздно…
— Да все так, все в порядке. Я его уважаю, люблю, и вообще… я рад, Мама.
— В самом деле?
— В самом деле.
Мать радостно вздохнула, но тут же вновь посерьезнела.
— Как же так?.. Ведь сначала ты даже не понял, кого я имею в виду.
Подросток собрался с духом:
— Там, на улице, товарищи мои болтаются. Я за ними подглядывал.
— Товарищи?
— Ну, ребята… из мастерской. Гуляют под окнами.
— О господи! — ужаснулась Мать. — И давно они там гуляют?
Подросток пожал плечами:
— Давно, наверно. Не знаю. И знать не хочу. Какое мне дело до них!
Мать вдруг оживилась.
— Какая же я дура! За все это время… — она запнулась, но упрямо продолжала: — …с тех самых пор мне ни разу и в голову не пришло, что у тебя есть друзья, — и быстро, почти бегом направилась к окну.
— Постой, мама! У меня нет друзей!
Она остановилась, удивленная:
— Но ведь ты только что сказал…
Подросток чувствовал себя беспомощным и глупым: по-идиотски попался в ловушку.
— Они вовсе и не друзья мне, просто трое ребят из мастерской, учимся вместе, вот и все, — запинаясь, бормотал он. — Ты понимаешь? А друзей у меня нет.
— Боже мой! — опять ужаснулась Мать. — Что ты такое несешь? Почему нет друзей?
— Откуда я знаю! — злобно выкрикнул Подросток.
— Так давай позовем их.
— Нет, нет. Ни в коем случае!
— Петер, — мрачно взглянула на него Мать, — насколько я понимаю, мы не учили тебя делить людей на черную кость и белую. Ты меня удивляешь, сын. Очень, очень прискорбно…
Подросток, видя такую решительность Матери, криво усмехнулся:
— Это верно. Только… они к нам ни за что не пойдут. Они сами не хотят, можешь ты это понять?
На лице Матери застыло недоумение.
— Вот как? Не может быть! Зачем же тогда они здесь прогуливаются? Объясни.
Она резко повернулась и, раздвинув легкие, цвета слоновой кости кружевные занавески, настежь распахнула окно.
Те трое на противоположной стороне улицы обернулись на шум, недоверчиво приблизились и замерли плечо к плечу.
— Эй, мальчики! — крикнула им Мать.
— Не надо, — вцепился ей в локоть Подросток. — Умоляю, не делай этого. Умоляю тебя…
Стоя вдоль бровки тротуара, троица глядела на Мать. Молча, немо, без единого слова.
— Я мама Петера Амбруша, — ничуть не смутившись, защебетала она. — Может, подниметесь на минутку. Мы будем рады.
Тихоня шевельнулся, видно надумав задать стрекача, но Шишак, раскинув руки, заключил обоих в железные объятия. Поневоле прижавшись друг к другу, они снова застыли в безмолвном ожидании.
Мать рассмеялась судорожным, принужденным смехом.
Голос ее зазвучал неуверенно:
— Ну что вы, право, за чудаки! Заходите, не бойтесь. Петер спустится сейчас за вами, — сказала она, теряя надежду, и, выждав несколько тягостно долгих секунд, медленно затворила окно.
Те трое стояли все так же неподвижно, будто странная и нелепая, неведомо для чего предназначенная чугунная отливка.
Лицо Матери побледнело как мел.
— Что им надо от тебя?
— Понятия не имею, — кисло улыбнулся Подросток.
— Ну-ка сходи за ними, — не терпящим возражений голосом сказала Мать.
— Они меня на смех поднимут, — ужаснулся Подросток.
— Неважно. Иди, — сказала она и, вздернув острые плечи, отвернулась к окну.
Троица стояла на том же месте, все еще неподвижно.
Подросток заколебался.
— Живее! — поторопила его Мать.
Спустившись вниз, он вбежал под арку и, полный надежд, выскочил на улицу — как живой флаг, готовый развернуться на ветру.
Но едва Подросток, размахивая руками, появился на мостовой, Шишак повелительно дернул плечом, и все трое, сделав пол-оборота, с высоко поднятыми головами зашагали к перекрестку.
Не смея взглянуть на Мать, которая наблюдала за немой сценой в окно, он удрученно стоял в раскисшем под колесами машин снегу, пока те не скрылись за поворотом.
Тонкие руки Матери так и мелькали между грудой сверкающих украшений и темнеющей в сумерках елкой. Она морщилась и кусала губы, с трудом сдерживая нервную дрожь.
Подросток двигался медленно и неловко. Наконец он не выдержал мучительного молчания.
— Они меня презирают, — сказал он вялым, бесцветным голосом.
Мать промолчала. Только чуть громче зашуршала бумагой и несколько раз глубоко вдохнула смолистый еловый запах.
— Поверь, я даже не знаю за что, — с надрывом добавил Подросток. — Презирают, и все.
Мать зажгла свет, подошла к окну и резким движением опустила жалюзи. Без единого слова. При электрическом свете ее крашеный черный халат отливал зеленоватым оттенком — плесенным, серовато-зеленым.
«Как перья у больной вороны, — заметил Подросток. — До чего отвратителен этот халат. И все черное вообще».
К черному цвету у него теперь отвращение на всю жизнь. Разве можно объяснить что-нибудь человеку, только и думающему о своей скорби? Уж лучше молчать. Но через Минуту, все еще стоя напротив Матери и помогая ей украшать елку, Подросток вдруг сказал себе: «Боже мой, ну и дрянь же я стал!»
— Мам, ты об этом лучше не думай, — тихо сказал он. — Я так сожалею, поверь…
— Чему я должна поверить? Чему? — не выдержала, взорвалась Мать. — Что ты сожалеешь обо всем? Охотно верю. Можешь не объяснять и не плакаться мне в жилетку. Он сожалеет! Поделом! Сожалей теперь!
— Ну, если ты так поняла… — начал, бледнея, Подросток, но осекся под испепеляющим взглядом Матери.
— А как ты прикажешь? Тут хочешь не хочешь поймешь — стоит только взглянуть на них. Кошмар!
— Это точно, — кивнул Подросток. — Кошмар.
Упрямое жесткое лицо Матери исказилось:
— Но почему? Что ты сделал? Как вел себя с ними? — жалобно восклицала она. — Только не говори, что не знаешь. Должна быть какая-то причина!
— Есть причина, — сказал Подросток. — И не одна. Мой отец был судья. В мастерскую я попал из гимназии, вылетев оттуда как пробка, это так, не будем скрывать. Вот и представь: сын высокопоставленного лица, севший в калошу. Как могут к нему относиться?
— Ты с ума сошел!
Подросток улыбнулся:
— Скажешь, это не повод? Так послушай: моей работой Шеф обычно доволен, работой других недоволен, со мной он на «вы», с другими учениками на «ты». И еще тысяча всяких мелочей. А, что говорить!
Мать бессильно оперлась на спинку стула.
— Ты никогда об этом не рассказывал, — подавленно проговорила она. — И что… тебя обижают?
— Если ты имеешь в виду… телесные истязания, — с легкой иронией сказал Подросток, — то можешь не волноваться. В этом смысле меня никто не обижает. Да и вряд ли они посмеют когда-нибудь. Это слишком опасно как раз из-за моего происхождения или, лучше сказать, из-за мнимого социального положения.
— Таким наглым тоном ты никогда еще со мной не разговаривал, — оскорбилась Мать. — Надеюсь, ты понимаешь это? Я очень надеюсь.
— Понимаю, — потупился Подросток. — Я не хотел.
— Вот и хорошо, — сказала она. — Значит, они тебя презирают, и только. Что ж… этим они многого не добьются.
— Нет, конечно, — согласился Подросток. — Только и могут, что подкарауливать, выслеживать, преграждать дорогу да бойкотировать. Сама видела.
Мать снова омрачилась:
— Дело дрянь.
— Не нужно преувеличивать. Рано или поздно они успокоятся. Смирятся с моим присутствием. Привыкнут.
— Пожалуй, мне надо сходить к директору. Поговорить с ним. Куда же это годится… ведь работаешь ты нормально. Нет, так продолжаться не может!
— Нет, нет, — испугался Подросток, — не вздумай этого делать, Мама. Ты только испортишь все. Директор во всем полагается на Шефа, а с ним у меня никаких проблем. И вообще, директор нас не очень-то и замечает, кто мы для него такие? Никто.
— Но все-таки… — колебалась Мать, — что-то мы можем предпринять?
— Положись на меня. Это ведь просто… испытание. Хотят посмотреть, как я себя поведу… выдержу ли… Придет время, и примут меня в свою компанию. А пока… не нужно обращать внимания. Пустяки. Это все не страшно.
Но успокоить Мать было нелегко. Она украдкой следила за каждым движением сына и все пыталась перехватить его взгляд, который тот осторожно отводил в сторону.
Наконец пришел дядя Дюрка — веселый, исполненный спокойной уверенности, — и все встало на свои места. Рассказ Матери, в котором звучали трагические нотки, он слушал, покачивая головой и снисходительно улыбаясь.
— Мальчишеская выходка, — сказал дядя Дюрка, — только и всего.
«Хорошо бы, если бы он оказался прав», — без особой надежды подумал Подросток.
Мать слова дяди Дюрки не успокоили, и он добавил еще:
— Глупая выходка, ничего не скажешь. Просто идиотская. Но рано или поздно им это наскучит. А Петер ведет себя молодцом.
И тема была исчерпана.
Мать в этот вечер получила в подарок перстенек — скромный, но очень милый, с белым камешком, вправленным в бледно-желтый золотой ободок. Дядя Дюрка всегда был внимательным и тактичным: гладкое золотое кольцо, подаренное Отцом, оставалось на месте и по-прежнему занимало на руке Матери господствующее положение.
Мать ненадолго скрылась в ванной — освежиться под душем — и вернулась, блестя чуть подкрашенными глазами; в этот рождественский вечер они только изредка подергивались пеленой, да и то, наверное, от растроганности — как-никак состоялось обручение.
* * *
И вот сейчас, холодным январским днем, сверкающим чистой, слепящей белизной, она снова вернулась домой одна. На руке ее сиротливо светится старое обручальное кольцо, которое связывает Мать лишь символическими, давно потерявшими свое истинное значение узами.
Что ей теперь этот табель, разве он может ее обрадовать? Успокоить? Вот год назад, когда Подросток учился еще в гимназии, табель с отличными отметками привел бы Мать в неописуемый восторг.
Экзамен по математике Подросток с грехом пополам пересдал, и все же летний аврал оказался напрасным. Во втором классе гимназии на него обрушилась лавина нового материала, бороться с которым он даже не пытался — не было не только надежной основы, но, главное, интереса к учебе. Чего ему было стараться, кому что доказывать — даже Мать в то время от него отдалилась, она пыталась опереться на дядю Дюрку. Надо было бы и ему на кого-нибудь опереться, хотя бы на Эстер. Но та слишком явно жалела его, чем только отталкивала. В жалости после смерти Отца он нуждался меньше всего. На бессмысленную непонятную смерть Подросток ответил бунтом. Яростным протестом против жизни. Против возложенных на него повседневных обязанностей, казавшихся посягательством на его права. Он отрицал все. И прежде всего — усердие муравьев, поглощенных вечными заботами о своих жалких песчинках и крошках. Такие хлопоты он находил тогда совершенно бессмысленными, а стало быть, и ненужными. Он вообще не мог ни на чем сосредоточиться. Жизнерадостная соседка по парте, не терявшая присутствия духа в любых обстоятельствах, его раздражала. Ладная, не по годам рано сложившаяся фигура Эстер и завидно здоровый цвет ее лица вызывали в Подростке неприязнь. Глядя на девчонку, он почему-то всегда вспоминал виденные в больнице восковые лица умирающих. Он был глуп. Отчаянно глуп.
Еще дважды приносил он и без того убитой горем Матери полный неудов табель. За первое полугодие второго класса гимназии[2] и перед летними каникулами. Ему тогда пошел шестнадцатый год. Упрямый и молчаливый, он стоял перед Матерью, не умея ни объясниться, ни оправдаться. И она снова попала в санаторий.
В конце концов им помог дядя Дюрка.
Он нашел для Подростка место ученика, после чего можно было подать документы в промышленное училище. На училище настояла Мать: она вернулась из санатория, все хладнокровно обдумав, и уже никого не слушала. Ничто на свете не могло заставить ее изменить принятое решение.
О годовой отсрочке, в которой ему было отказано и которая если и не помогла бы удержаться в гимназии, то хотя бы спасла от позорных провалов, Подросток не вспоминал. Не напоминал Матери о своем предложении и дядя Дюрка. Он бывал у них ежедневно — приходил и уходил, неслышно касаясь земли широкими стопами, спокойный и уверенный.
* * *
Вареные картофелины легко сбрасывают с себя «мундир» — стоит только слегка ослабить пальцами потемневшую тонкую кожуру, и она снимается, обнажая желтоватый дымящийся клубень. Дымится и чай — пусть для Матери это будет сюрпризом, если, конечно, она способна сейчас чему-нибудь радоваться.
Стол накрыт. Сервировка — как по торжественным случаям! Губы Матери трогает благодарная улыбка. Несмелая и едва уловимая, но все же улыбка.
Подросток, сияя от счастья, берет в руки нож.
— Позвольте предложить вам сандвич, миледи?
— Сандвич? Какой еще сандвич? — весело удивляется Мать.
А Подросток уже нарезает роскошные картофелины желтоватыми ломтиками, прокладывая их кусочками холодного масла.
— Все как в лучших домах, — острит он.
— Сандвич так сандвич, хоть дюжину! — смеется Мать. И минуту спустя, с полным ртом, блестя окончательно оттаявшими при виде горячего чая глазами, признается: — Ну, старик, своим табелем ты порадовал меня! — Так и сказала: «старик».
— Спасибо, — кивает Подросток.
— Ты у меня молодчина, Петер, — зардевшись, говорит она. — Очень жаль, что в прошлом году… так все вышло. Я должна была подождать, пока ты придешь в себя… Ни к чему было так спешить — теперь-то я знаю это и искренне сожалею, поверь.
— Ничего страшного не случилось, — уверяет ее Подросток.
— Непоправимого, может, и не случилось. Посмотрим. У тебя еще все впереди. Ты еще можешь стать кем угодно… Сам решишь. Ведь самое главное — человеком быть. А человек ты у меня мировой.
— Спасибо. Ты тоже, Мать, мировая.
— Ну, в этом я не уверена.
— Можешь поверить мне.
Мать только качает головой:
— Ты так же великодушен, как был Отец.
— Самая что ни на есть мировая. И лучшее тому подтверждение — твой собственный сын, — опять острит он, хотя к горлу подкатывает комок. — Не будь ты и впрямь такая, я… я не говорил бы.
— Терпения — вот чего мне не хватало, а самолюбия было через край.
Подросток, чтобы сдержать слезы, говорит взахлеб, горячо, он витийствует:
— Здоровое самолюбие не порок, но ценнейшее из человеческих качеств, могу вас уверить! Миледи? — Он подливает чаю. — Сэр? Во избежание недоразумений, последнее обращение адресовано мне. Возражения есть?
— Ну полно тебе дурачиться.
— Как же мне не дурачиться, если я дурачок. Дуралей. Дурачина!
Мать через силу улыбается. Ест она уже нехотя, да и чай прихлебывает медленно, неохотно.
— А как у тебя… с товарищами? — осторожно интересуется она.
Подросток бороздит масло острием ножа.
— Нормально, — выговаривает он наконец.
— На рождество… ну, ты помнишь… это было ужасно.
— Глупая шутка. Так что ты не волнуйся.
— А я-то с тех пор так тебя и не спросила ни о чем, — отставив чашку, виновато говорит Мать.
Подросток с трудом отрывает взгляд от безымянного пальца ее правой руки.
— Случись что, — он пытается придать голосу небрежную интонацию, — я и сам сказал бы. В конце концов…
Мать ждет продолжения, но он молчит.
— Ты и раньше мне ничего не рассказывал, — говорит она тихо.
— Так то раньше! Раньше я не хотел тебя зря волновать, вот и все. Взгляни в окно: в такую-то ясную погоду, в такой снежный январь разве придет кому в голову подкарауливать человека?
— Но ты говорил…
— Шутка это была, — перебивает ее Подросток. — Испытание. Силу воли мою проверяли: не слабак ли, можно ли иметь со мной дело, понимаешь?
— Ну и как?
— Будь спокойна. Приняли они меня в свою компанию.
— Знаешь что? — обрадованно восклицает Мать. — Давай пригласим их! В субботу вечером или днем в воскресенье… как ты решишь. Мне все равно. Приготовлю вам что-нибудь вкусненькое. Рыбу, цыпленка — что они больше любят.
— Ты прелесть, Мам, — изображает он на лице благодарную улыбку. — Только, знаешь, я не хочу тебя утруждать. Ни в коем случае.
— Что за глупости.
— Не, Мама, не нравится мне эта идея.
Но упрямство Подростка только подхлестывает Мать.
— Почему же не нравится? По-моему, идея отличная. Помню, я в твои годы плясала от радости, когда удавалось пойти на вечеринку. А угощение было — хлеб с жиром да сверху кусочек дешевой колбасы. Погоди, погоди, как мы их называли, бутерброды эти? Утонченные! Уж очень тонко их мазали жиром… Вот такие были у нас сандвичи. К чаю в лучшем случае — пресные хлебцы. А еще «жженку» пили. Ты, конечно, не знаешь, что это за напиток. Откуда тебе знать? Делали его так: разогревали на огне сахар, заливали водой, кипятили и ждали, пока остынет. Это было для нас и вино, и джус, и шампанское. Чаю настоящего тоже не было. Из чего только его не варили: из ореховой скорлупы, из шиповника. И как здорово получалось… Вам же я приготовлю, чего душа ваша пожелает. Ведь, чтобы подружиться по-настоящему, мало встречаться только на работе. И раз уж ты с прежними товарищами не встречаешься… — Она вдруг умолкает.
— Спасибо, мам, ты просто молодчина! — восторгается Подросток, ломая голову над тем, какую бы придумать еще отговорку. — Я даже не ожидал от тебя такого. Честное слово, ты молодец, — повторяет он и осторожно добавляет: — Только… вот только…
— Что только?
— Они тебя не знают… И вообще, они трудный народ… Как тебе объяснить? У них дома все по-другому, привычки другие…
Мать хохочет:
— Ну и сын у меня, боже праведный! И впрямь дурачок. Ты что, с луны свалился, Петер? Ты хоть был у кого из них дома?
— Нет, не бывал.
— Ошибаешься, если думаешь, будто живут они как-то по-особенному… будто у них не такая мебель… или квартира не так оборудована… Единственное различие: может быть, у одних на комнату меньше, у других на комнату больше. Родители-то у них уж в годах, обжились, поди. Не будь ты таким наивным.
— Ну, не знаю, — пожимает плечами Подросток.
Мать продолжает серьезно:
— Нет, плохо я тебя воспитала, Петер. Далек ты от жизни.
— Разве? — пытается он отшутиться. — А кто тебе в два счета только что сготовил ужин? А ну, признавайся! Понравилось или нет?
Мать откидывает голову на спинку стула и, довольно зажмурившись, говорит:
— Ужин был царский! Подросток сияет.
— Ты прелесть, Мамочка! Ты такая, такая милая… как девчонка!
Мать открывает глаза. Он смущенно краснеет, но тут же находится:
— Это я так говорю, на всякий случай — вдруг ты не знаешь!
Она смеется счастливым беззвучным смехом. Лениво вынимает тонкие руки из-под затылка и тянется к Подростку, но коснуться его не успевает.
Телефон, чем-то смахивающий на насекомое, заливается неистовым звоном. Они переглядываются. Подросток собирается встать, но рука Матери останавливает его.
— Сиди спокойно, — говорит она. — Я устала. Да и нет сейчас настроения разговаривать с… чужим человеком.
Телефон трезвонит надрывно, настойчиво, пронзая незримыми стрелами напоенный ароматом чая и картофельным запахом воздух. Он звонит целую вечность и захлебывается так неожиданно, что теперь им становится не по себе от его молчания. Звонок оборвался, нарушив атмосферу домашнего уюта, слитную гармонию человеческих голосов, смеха, позвякивания ножей и чайных ложечек. Все распалось на части: отдельно Мать, отдельно Подросток, отдельно вилки и чайные ложки. Даже запах чая отделился от стойкого запаха картошки, который показался вдруг кислым, низменным, раздражающим. Они с Матерью одновременно тянутся к тарелкам с остатками еды, чтобы составить их на поднос.
К тому времени, как они вернулись из кухни, воздух в гостиной переменился, и ничто уже не напоминает ни о теплых минутах ужина, ни о прервавшем его тревожном звонке. Мать молча, с рассеянным видом ходит по комнате — кругами, точно на привязи.
— Ты у меня славный малый, — говорит она наконец.
— Ты тоже, Мать, мировая.
— Вот и отлично.
— Как будто однажды мы это уже констатировали, — умильно прищуривается Подросток. — Не далее как сегодня вечером.
— И правда, — через силу улыбается Мать. — Но доброе слово не грех и повторить.
— В таком случае… ты просто потрясающая!
Мать невольно обнимает его и чмокает мягкими губами.
— Так подумай насчет вечеринки и скажи, что ты решил, — напоминает она, прежде чем уйти спать.
Подросток, стараясь не шуметь, стелет себе постель и зажигает ночник. Он сидит без движения и прислушивается. В соседней комнате тихо как в склепе — точно Мать заживо погребена там. Она залегла, затаилась, чем-то напуганная, ушла в себя. В последнее время Мать даже дышать боится свободно. Все силы ее уходят на то, чтобы сдерживаться, держать себя в руках. Уж лучше бы кричала на него, как год назад: из-за двоек в табеле, из-за туманных сетований учителей, из-за его возмутительной, непонятной, эгоистической — так она и кричала: эгоистической, — эгоистической пассивности. Она выходила из себя по любому поводу. Обрушилась на смотрителя кладбища, когда с могилы пропал кустик герани, и даже на дядю Дюрку, когда тот пытался оправдывать Подростка. И наверное, Мать была все же права: что за безумие — дарить упрямому мальчишке драгоценные годы в надежде — к тому же весьма иллюзорной, — что он сможет избавиться от своих комплексов. Разве Отцу кто-нибудь делал такие подарки? Разве щадила его жизнь? И хотя год назад вспышки ее гнева Подросток переносил мучительно, теперь они вспоминаются с тоской: в них чувствовалась сила, решимость, упорство — словом, желание выжить. Мать впервые оказалась в ситуации, когда все нужно было решать самой, и она испытывала себя, пробовала силы.
Правда, она и тогда не была совсем одинока. Рядом находился надежный, уверенный человек, на которого — Мать, конечно, догадывалась об этом, не могла не догадываться — она может опереться. В его сочувствии можно было почерпнуть силы, так же как позднее в единомыслии, в общих заботах, в любви. Только Подросток, несамостоятельный и ранимый, не может прибавить ей сил и, наверное, долго еще не сможет. Он еще не встал на ноги. За себя-то не постоит. Сам покоя не знает. Скрывать это от Матери, обольщать ее и любить — вот пока все, что он в силах для нее сделать, не более. И еще работать. Работать он может сколько угодно — это гораздо легче, чем вечно быть под чьей-то опекой. Вот только оставили бы его в покое.
Только бы оставили!
* * *
Стоит Шефу появиться в дверях своей конуры, как рука, в которой Подросток держит инструмент, нервно сжимается. Движения делаются конвульсивными, кисти и локти деревенеют, перед глазами вспыхивают красные круги. Он чувствует, как в спину острогой вонзается взгляд Шишака.
Едва Шеф замирает в дверях, те трое сбиваются в кучу. Потом во весь рост поднимается Шишак, точно огромный и грозный перст, указующий на него, Петера Амбруша, — незвано-непрошеного чужака, предателя их оборонительного союза. Шеф, видя, как неуклюже работает Подросток, с сожалением отмечает про себя, что при всем желании не может похвалить его ни полсловом. Не Петера Амбруша — ученика-ремесленника, а Петера Амбруша — сына судьи, который некогда оказал Шефу неоценимую услугу, за что, как не устает он повторять, не расплатиться ему по гроб жизни. И раздраженный Шеф поворачивает было назад. Но взгляд его падает на бездельничающего Шишака. Тот замер на месте, точно напрашиваясь на скандал или хотя бы мелкую придирку.
Шеф рад воспользоваться подвернувшимся случаем.
— Господин Шишак, не предложить ли вам свои услуги вашему родному городу в качестве придорожного распятия? — вещает он елейным голосом, будто и впрямь дает добрый совет человеку, к которому питает величайшую благосклонность. Или говорит что-нибудь подобное, тем же снисходительным тоном, и мастерская взрывается хохотом.
При этом уши горят не у Шишака, а всегда у него, у Подростка.
Ненавидящий взгляд, железным когтем впивающийся в спину, достает до печенки. Он вынужден бросить инструмент и бежать из цеха — искать облегчения в расположенной в глубине двора деревянной будке.
Смех за спиной превращается в дикий хохот, который, накатывая волнами, точно подталкивает его в спину, в плечи, в затылок.
— Стоит ему старика увидеть! И готов! Ой, умора…
— Бог ты мой! Из чего они только вылеплены, эти нежные барчуки?
— Не хотел бы я оказаться в его шкуре, хоть полцарства мне отвали. Клянусь, не хотел бы. Ну, трусишка…
А Шишак молчит, он шуточек в адрес Подростка не отпускает и не оговаривает его, как все. Он только ухмыляется с довольным видом. Двое других покатываются со смеху. Шишак — никогда. Точно так же и Мастер, который давно уже о чем-то догадывается, чует: тут что-то нечисто. И ждет, наблюдает. Если нужен помощник, он требует непременно Подростка, хотя рабочие над этим уже посмеиваются. Поведение Мастера забавляет их, но ему никто не мешает. Мастер в последнее время стал незаметно приглядывать за Шишаком.
И храбрец повел себя осмотрительней. Как-никак он на последнем году, есть что терять в отличие от остальных. Не нравятся ему отношения Мастера с Подростком, их странное, почти без слов, взаимопонимание. Мастеру достаточно показать глазами, и Подросток уже знает, какая следует операция и какой подать инструмент. В этих глазах можно прочесть и другое: тревогу за Подростка, хотя Мастер его ни о чем не расспрашивает, просто держит поближе к себе, учит, защищает, насколько возможно. После Отца Мастер и дядя Дюрка — самые лучшие люди на свете. Одно плохо — что их мало таких… очень мало. Ему, как ни кинь, еще повезло. Разве это не везение — сразу трое прекрасных людей, которые чуть ли не из рук в руки передают его друг другу. Это не пустяки!
Но все же Отец был из них самый лучший. В этом можно не сомневаться. Вот только мерить себя его мерками Подросток не может. Где ему! Укрываться от непогоды под колоннами высоченной колокольни — дело разумное, а крутить шеей, пяля глаза на ее верхушку, глупо…
Смерть Отца до сих пор причиняет нестерпимую боль. До сих пор.
Ну а Матери?
Ей тоже?
Не этим ли объясняется исчезновение перстенька с ее пальца?
Не иначе как этим. А ведь как хорошо, как здорово все начиналось, обещая в будущем мир, покой и уверенность. Но Мать где-то сбилась с дороги — выяснять, где и как, не имеет смысла. Кроме него, ей все равно некому рассказать обо всем. Нужно подождать. Придет время — и она расскажет.
Истекает очередная неделя, и нетерпеливое воскресенье бесцеремонно отбрасывает ее назад, опрокидывает в бездонную пропасть времени, чтобы освободить место для новых событий и новых неожиданностей. Ясный, чистый январь миновал: рассветы, продираясь сквозь тучи, теперь подкрадываются исподтишка, а дни кажутся злыми и нудными. Тает снег, в городе слякотно.
Мать молчит, хотя болтает она без умолку — мило и непринужденно, по большей части о пустяках. Глаза ее блуждают рассеянно, губы грустные, неулыбчивые. Руки, ни на минуту не успокаиваясь, вечно что-нибудь теребят. Перстенек с безымянного пальца бесследно исчез.
И легких шагов дяди Дюрки давно не слыхать в их доме. Они забылись, как будто никогда здесь и не звучали. О дяде Дюрке в квартире ничто не напоминает, но в мыслях обоих он постоянно присутствует, им очень его не хватает, это неотвязное ощущение выражено в блуждающем взгляде Матери и в ее усталых движениях, его же можно прочесть и на испуганном лице Подростка. Мать молчит. И чем больше проходит времени, тем менее вероятным кажется, что трезвые слова могут что-нибудь объяснить, ответить на вопрос, куда подевался Легкая Стопа и почему оборвалась вдруг их только завязавшаяся дружба. Поэтому молчит и Подросток. Он просто общается с Матерью:
— Привет, Мам! Целую! Ну как дела?
На лице Матери появляется жалкое подобие улыбки.
— Спасибо, нормально. День прошел — и с плеч долой.
И после паузы добавляет непринужденным тоном, чтобы предупредить возможные расспросы:
— Неплохо прошел день. С экстрактом полный порядок, наверное, принесет сумасшедшие деньги. Начальство рассчитывает на большие заказы.
Она не говорит, дядя Дюрка, а говорит: начальство.
— Это тот самый, из паприки?
— Ну да. — Она старается выглядеть довольной. — А как у вас?
— Работаем потихоньку, не надрываемся, — успокаивающе-небрежным тоном отвечает Подросток.
Чтобы уйти от разговора, ей не нужно искать особого повода, дел по дому хватает. Она берет в руки штопку и садится к свету стосвечовой лампочки с такой нарочитой сосредоточенностью, что становится ясно: Мать обороняется. Протягивая иглу, она даже шевелит губами от усердия. Подросток понятливо умолкает.
Мать вздыхает: она ему благодарна.
Вечера они обычно проводят в комнате Подростка, молча, каждый занят своим делом и своими мыслями. Иногда их взгляды встречаются — в глазах у обоих смущение. Мать сковывает вновь овладевшее ею чувство одиночества и беспомощности, а сына — стыдливость юноши, еще не вошедшего в мир взрослых.
Февраль принес с собой теплые и влажные потоки воздуха: талые остатки сугробов сереют уже только на дне канав да на северной стороне улиц. С оголившихся крыш на глазах исчезают последние следы зимней сырости. Разделись и деревья, обнажив влажно темнеющие развилины сучьев. От этих пятен, похожих на мокрые подмышки, Подросток старается поскорей отвести глаза. Мокрые подмышки.
Они напоминают ему о первых днях в мастерской, когда отношения с другими учениками были еще приятельские. И о сокровище Шишака, раздобытом неведомо какими путями, о похабных фотографиях, что вызывают щекотное возбуждение, смешанное с ужасом и отвращением. Картинки эти были совсем не похожи на изображения обнаженного тела, виденные в художественных альбомах. И Подросток не оценил их, не выказал должного интереса.
Пожалуй, тогда и именно с этого все и началось.
* * *
Двое других готовы были визжать от восторга, Тихоня, двигая кадыком, глупо хлопал глазами, а Гном, тот просто колесом ходил вокруг Шишака. Дынеобразная физиономия его еще пуще раздалась вширь, будто сплюснувшись от изумления. Но Гном — сопляк, ему только исполнилось четырнадцать, и его реакция, как и поведение Тихони, Шишака не интересовала. Непомерному самолюбию шестнадцатилетнего верзилы польстил бы только восторг Подростка, его одногодка, но тот повел себя странно. Лицо Подростка непроизвольно скривилось, он просто не мог удержаться от этой гримасы: уж слишком все было неожиданно и, главное, противно.
Ну что ему стоило проявить интерес хотя бы из вежливости. Из тактичности, хитрости, из соображений разумной самообороны, в конце концов. Но он, тогда подавленный и раздражительный, и не подумал об этом.
Шишак, раскрыв веером фотографии — целую коллекцию обнаженных тел, в одиночку и парами, — ткнул их Подростку в лицо.
— Что, не нравятся? — хрипло спросил он.
— Не очень, — растерянно пожал плечами Подросток.
— Любопытненько, — нараспев, тонким голосом проговорил Шишак. — Любопытненько. Даже странно, я бы сказал.
Гном восторженно взвизгнул. Тихоня затаился и навострил уши.
Подросток был поражен: в голосе Шишака сквозила враждебность, в интонации чувствовался утонченный цинизм, совсем несвойственный его возрасту. Подросток тогда еще почти не знал Шефа — он был новичком даже среди только что принятых в мастерскую учеников — и, конечно, не догадался, что Шишак просто удачно копирует манеры их грозного наставника. Он ощутил лишь, что атмосфера сгустилась, и, не зная, как разрядить ее, натянуто засмеялся:
— Черта лысого странно, приятель. Биологическая незрелость, только и всего. Можешь смело отнести мое поведение на этот счет, я не обижусь.
Шишак, крепкий и мускулистый, раздвинув ноги, с надменным видом закачался всем телом вперед-назад.
— Нехорошо, нехорошо, Амбрушка. — Он прищурился. — Это кому же я тут приятель?
— Ну чего ты ко мне пристал, чего? — разозлился Подросток.
Шишак сложил фотографии, шлепнул пачкой по униженно протянутой руке Гнома и убрал ее во внутренний карман.
— Ну-с, — степенно заговорил он, — нельзя ли услышать еще разок, кому я, по-твоему, тут приятель? — и шагнул вперед.
Подросток тогда еще никого не боялся, просто сцена эта показалась ему такой жалкой, нелепой и даже абсурдной, что он с отвращением попятился, отступая все дальше. Первый же щелчок Шишака угодил ему в нос; железный палец ученика при каждом шаге резко разгибался и твердым потрескавшимся ногтем попадал точно в цель.
— Да будет тебе известно, братишка, — нараспев, бесстрастным, намеренно приглушенным инквизиторским голосом приговаривал он. — Я здесь два года уже оттрубил, аккурат два года. Это тебе не в гимназии штаны протирать. И заруби на носу, братишка, что приятелем ты сможешь меня называть только в том случае, если я добровольно, по собственному почину раскрою перед тобой свои жаркие объятья. Возражения?
Гном, прыгая вокруг них, восторженно хохотал:
— Вылитый Шеф! Чтоб мне лопнуть, если вру! Чтоб мне лопнуть! Дьявольски похоже! Как два плевка!
Шишак внезапно остановился и ухватил его за ворот.
— Суетимся, суетимся? Это кто здесь плевок, а?
Гном струхнул:
— Брось дурить… Ну чего ты?.. Я же только хотел сказать, что ты его классно копируешь. Чтоб мне лопнуть, если это не так.
— Тебе очень хотелось бы?
— Чего? — недоуменно вытянулась круглая физиономия Гнома.
Шишак по-прежнему держал его за ворот, время от времени встряхивая.
— Ты хочешь лопнуть? Или я ошибаюсь? В сей замечательный день, ребятки, я уже в двадцатый раз слышу, как этот пузырь заявляет о своем желании лопнуть. — Он сделал паузу и оглянулся по сторонам, но никто из учеников не смеялся, даже Тихоня на этот раз не улыбнулся. — Может, помочь ему? — И Шишак ткнул толстяка в живот.
Гном, все еще перепуганный, заканючил:
— Шишак, ну брось дурачиться. Отпусти, слышь… Чего к маленькому пристал?.. Ну оставь, не дури. Над слабыми легко издеваться…
Шишак, еще раз встряхнув мальчишку, отпустил его и оглянулся в поисках Подростка.
А тот тем временем стоял уже у входа в мастерскую и грелся на утреннем солнышке с таким видом, будто это не ему только что надавали щелчков и будто его вовсе не интересует, что происходит в эту минуту в раздевалке. Хотя на самом-то деле он судорожно прислушивался, ловя каждый звук. Чтобы не видно было, как дрожат его руки, Подросток глубоко запустил их в огромные карманы спецовки и крепко вцепился себе в ляжки.
Опять он спасовал. Оказался слабаком, не сумел защититься. Бежал с поля боя. Как всегда в последние полтора года. А ведь здесь ему нужно закрепиться во что бы то ни стало, он должен выстоять, это последний шанс, и если все кончится благополучно, то потом можно будет рассчитывать на что-то другое, лучшее. Сквозь эти три года нужно пробиться, как пробиваются сквозь метровые стены крепостной тюрьмы решившиеся на побег узники. В эту тюрьму он загнал себя сам и теперь уж хочет не хочет, а нужно держаться! Хотя бы ради Матери. Сколько можно волынить? Если и тут не удержится, то сведет Мать в могилу.
Она и так выплакала все глаза. За год раз сто побывала в школе. А сколько учительских квартир обошла, умоляя помочь сыну и выслушивая в ответ утешительную ложь и расплывчатые заверения.
Мать в трудные дни показала себя не усердным муравьем, а бульдогом, настоящей тигрицей — вот бы видел ее тогда лечащий врач Отца! Это по ее милости притча о трудягах муравьишках перестала его занимать и почти забылась, хотя, может быть, виновато и время — ведь с тех пор, как врач ему рассказал ее, минуло полтора года.
Заслышав, как сзади по бетонной дорожке к нему подкрадывается Шишак, Подросток так стиснул в карманах кулаки, что захрустели суставы. Но не пошевелился, продолжая глядеть на синее в этот ранний час августовское небо.
Тот стоял у него за спиной затаив дыхание, потом вдруг выдохнул: шею и уши Подростка будто опалило жаром. Он повернулся так резко, что Шишак от неожиданности отпрянул. Подросток смотрел на него в упор, стиснув до боли зубы, чтобы не выдать противнику внутренней дрожи.
Шишак осклабился. Сделав вид, что просто разыгрывает Подростка, он с кривлянием обошел его и, принужденно насвистывая, двинулся к туалету.
Подросток замер в ожидании.
Шишак обернулся, и на лице его изобразилось искреннее удивление. Он явно не знал, что делать дальше. Ведь он дал Подростку спасительную возможность, но этот хиляк с девчоночьим лицом не воспользовался ею, хотя мог спокойно улизнуть в мастерскую, оставшись целым и невредимым.
Подросток заметил в движениях противника нерешительность. Шишак пнул кочку, подняв облачко пыли, потом квадратным носком башмака стал чертить на глинистой, плотно утоптанной земле кривые линии, но, как бы он ни тянул время, расстояние между ними сокращалось.
Подросток стоял как вкопанный и явно не собирался ретироваться.
Тихоня с Гномом, укрывшись в мастерской, наверняка подглядывали за ними из-за какой-нибудь разбитой машины.
Наконец Шишак решился и, с наигранной небрежностью подойдя к Подростку, криво улыбнулся:
— А ты не такой уж и маменькин сынок, как я думал. Держи краба, старик, — протянул он открытую ладонь.
Подросток, чувствуя подвох, взглянул в настороженно прищуренные глаза Шишака и нерешительно вытащил руку из кармана. Они, как положено примиряющимся сторонам, пожали друг другу руки, но, готовил ли Шишак подвох, так и осталось невыясненным: с улицы в ворота мастерской завернул Шеф, покачиваясь грузным телом, прошел по дорожке и остановился перед учениками.
— Уже подружились? — Его огромная ладонь опустилась на плечо Подростка. — Одобряю, весьма одобряю. — Он выдержал паузу. — Вы, Амбрушка, у нас новичок. Так что обзаводитесь друзьями. А то обстановка тут непривычная, верно? Хочется человеческого участия… я все, все понимаю. Дружите себе на здоровье. Но если возникнут какие проблемы — сразу ко мне. Уяснили?
— Так точно.
— Вот и ладно.
Шишак нервно передернул плечами. Шеф покосился в его сторону:
— Что, нездоровится, сын мой? Знобит?
— Так точно… То есть нет, — смешался Шишак.
— Ну, ну. Значит, все-таки нет. Тогда, может, неважно отдохнули после ночной попойки? А?
— Смею доложить, попойки не было, товарищ завпрактикой.
— Ну да. Не было. И как это я мог такое подумать. Плохо, плохо я о тебе думаю, сын мой. Ведь ты ни разу в жизни еще не переступал порога этой самой… хм… забегаловки.
Шишак залился краской.
— Можно сказать, что нет.
— Ну да, — закивал огромной головой Шеф. — Хм, хм, хм. Возможно. Очень возможно, сын мой. Глаза мои, к сожалению, совсем уж не те, что прежде. Ничего не поделаешь, старость. То они видят, то не видят. Разве можно на них положиться. Ты тоже так думаешь? — спрашивает он с благосклонной улыбкой.
— Никак нет, — бледнеет тот. — Я не думаю.
— Не-е-т? Потрясающе! А я-то надеялся, что хоть с логикой у меня все в порядке. Я полагал, что начинка в моей голове не превратилась еще в труху… к сорока-то годам. Н-да. Я-то думал, что с ее помощью способен объяснить хотя бы себе причины и суть парадоксов. Очень жаль, но выходит, я заблуждался. Позорно заблуждался. Очень, очень и очень жаль.
И он уставился на окаменевшего Шишака, ожидая ответа.
— Так точно, товарищ завпрактикой.
Шеф чуть покачал головой, дружелюбно скользя взглядом по вытянувшейся фигуре ученика. Вниз-вверх, вниз-вверх, без остановки.
— Так, значит, о забегаловках ты и слыхом не слыхал? Я рад. Решительно рад. Ты просто осчастливил меня, сын мой. Осчастливил — шутка сказать!
Шишак, борясь с собравшейся во рту слюной, судорожно двигал кадыком.
— Смею доложить… не совсем…
Шеф, оживившись, ждал продолжения, но Шишак иссяк. Единственным продолжением были тяжелые вздохи, свидетельствовавшие о полной беспомощности ученика.
— Не совсем? Я не ослышался, сын мой? Не совсем, значит? Интересно, каким же образом ты намереваешься осчастливить меня совсем? Я весь внимание, сын мой! Ну так как?
Улыбка на лице Подростка постепенно превратилась в горестную гримасу. Он понял, что тирады Шефа — не безобидное отеческое подтрунивание добродушного наставника над непутевым учеником, что, несмотря на панибратский тон Шефа, третьегодок в его глазах просто ничтожество. Видя, как Шишак, будто попавшая в патоку муха, отчаянно барахтается в лицемерно медоточивых, тягучих словесах Шефа, Подросток не сдержался и взволнованно выпалил:
— Разрешите, товарищ завпрактикой…
Шеф повернулся к нему и удивленно вскинул пучки смолянисто-черных густых бровей:
— Слушаю, — сказал он, пристально оглядывая Подростка.
— Я… я… — испуганно стал заикаться тот. — Извините, забыл… Хотел что-то сказать и забыл… Извините.
Шишак побагровел, а Шеф дружелюбно закивал:
— Ничего. Бывает, бывает… Чего только не бывает на свете, дорогой Амбруш, Забывчивость — не самый большой порок, нет, этого я утверждать не могу при всем желании. Мелкий изъян… Дефектик, легко устранимый, ничтожный, пустяковый дефектик, который, конечно же, можно простить. — Он поднял коричневый, будто обмакнутый в морилку указательный палец. — На первый раз. На первый и единственный. Я выражаюсь понятно, дорогой Амбруш?
— Так точно, — выдохнул сконфуженный Подросток.
— Не слышу, — пожал плечами Шеф. — Со слухом у меня, видать, тоже не все в порядке. Что делать, старею, старею, ребятки, — беззлобно улыбнулся он. — Ну-с?
— Так точно, понятно, — отчетливо и громко проговорил Подросток.
В глазах Шефа будто сверкнули недобрые огоньки, но он тут же пригасил их густыми щетинистыми ресницами.
— Ладно, Амбруш. Вы тут особенно не задирайтесь… понятно? А если будете задираться, сын мой, то мне придется забыть о тех светлых чувствах, которые я сохранил к вашему покойному папаше. А этого мне не хотелось бы. Нет, не хотелось бы, сын мой. С вашим папашей в свое время был у меня один… памятный… скажем так: памятный и полезный разговор. — Он задумчиво помолчал. — Да. Ваш любезный папаша… несколько просветил меня по юридической части, когда еще… хм… словом, во времена оны. — Он снова уставился на Подростка. — Но, невзирая на это, заносчивых молодых людей я, как правило, быстро привожу в чувство. Да, да. И вы своим поведением, дорогой Амбруш, меня к крутым мерам не вынуждайте. В следующий раз постарайтесь набраться терпения, чтобы дождаться, как полагается, пока я сам обращусь к вам с вопросом. Это, вне всякого сомнения, самый безопасный путь. Да, да. Самый доступный и перспективный. Так как? Вы по-прежнему не помните, что хотели сказать? Или, может быть, уже припомнили?
Голова у Подростка гудела.
— К сожалению, нет… Извините.
— Не приходит на ум, дорогой Амбруш? Не так ли? Хотели сказать какие-то слова, а они, паршивцы такие, шасть врассыпную, и никак их обратно в голову не заманишь?
— Никак, товарищ завпрактикой.
Шеф расплылся в умильной улыбке:
— Вот-вот. Мне тоже так кажется, дорогой Амбруш. Примерно этого я и ожидал в абсолютной, можно сказать, уверенности. Да. Стареть мы, конечно, стареем, но зато опыта набираемся. — Он сделал паузу, снова обвел учеников улыбчивым взглядом черных блестящих глаз и, вскинув косматые брови, продолжил: — Ведь что мы имеем? Вот стоят передо мной двое юношей, можно сказать только вступающих в жизнь, красивых, здоровых, задорных! Сама резвость, сама жизнерадостность! Все козыри у них в руках и, может быть, даже путевка в будущий век. И тут же стою я, человек, для которого единственным источником силы может служить только жизненный опыт… но сила у него есть. Ты с этим согласен, Шишак?
— Так точно, согласен, товарищ завпрактикой, — по-военному вытянулся Шишак.
— А вы, дорогой Амбруш, согласны?
— Так точно, — ответил Подросток.
Шеф довольно кивнул:
— Правильно. Очень и очень правильно. — И, не повышая голоса, но уже без улыбки скомандовал: — Кругом! Марш!
Ученики отправились в цех.
Шеф грелся еще на солнышке, и Тихоня с выражением страдания на физиономии осторожно выглянул из смотровой ямы.
— Ну, теперь у нас будет денек, — укоризненно сказал он. — А все вы, черт возьми.
— Я когда-нибудь его убью, — раздувая побелевшие ноздри, прохрипел Шишак. — Убью гада. Я не я буду — убью.
Из ямы вынырнула дынеобразная голова Гнома:
— Хо-хо-хо, животики можно надорвать со смеху.
Шишак наступил на растопыренные пальцы мальчишки.
— Тебя кто-нибудь спрашивал? А?
Взгляд Подростка упал на стиснутые побелевшие губы Тихони, и ему тоже стало страшно.
— Пусти, дьявол, — взмолился Гном.
— Ка-ак? Как ты изволил выразиться? А ну, хмырь, повтори, кто здесь дьявол?
Гном побагровел, из глаз его брызнули слезы.
— Ой, пусти… Заору!
— Что ж, валяй, мы послушаем, — кивнул Шишак и покрутил носком башмака, как будто гасил окурок.
Гном заблажил не своим голосом, Тихоня спрятался в яме, а Шишак отскочил в сторону. В дверях мастерской показалась грузная фигура Шефа. Он, покачиваясь, приближался — важно, медленно, неумолимо.
«Это мой третий день здесь, третий, третий, третий, — стучало в висках у Подростка. — Всего только третий!»
* * *
С тех пор прошло шесть с половиной месяцев — загибая пальцы, считает он и отворачивается от окна, за которым сгущаются сумерки. Точно. Шесть с половиной. Конец седьмого подходит — уже февраль. Слякотный, промозглый февраль.
Завтра опять воскресенье. Будем сидеть дома вдвоем с Матерью и играть в молчанку. Она молчит, я молчу. Подросток пожимает плечами. Она щадит меня, я ее. Но разве же это выход? Следовать примеру Отца, показавшего, как нужно щадить близких? Но разве пример обреченного на смерть подходит живущим? Неужто Мать до сих пор не поняла, что так ничего не получится, так жить нельзя, так не выжить? Неужто?
Он смотрит в сад: дремлющие в зимней спячке деревья, каменные ступеньки и допотопные чаши для цветов размыты — будто вечер провел по саду огромной и мягкой сырой губкой.
Подросток на цыпочках подходит к ванной.
Слышно, как за дверью лениво плещется вода — моется Мать.
Он прижимается лицом к двери и кричит:
— Послушай!
— Что такое? Стряслось что-нибудь? — испуганно спрашивает Мать. Вечно, вечно она чего-то боится.
— Ничего. — Подросток вздыхает. — Что может стрястись? Просто хотел тебе сказать, что я решил прогуляться. Ты поддерживаешь эту идею?
Плеск в ванной стихает.
— У тебя что, свидание? Договорился с кем-нибудь?
Голос у Матери резкий, холодный, хотя, может быть, виноват в этом кафель, белый, от пола до потолка, безукоризненно чистый кафель.
— Ни с кем я не договаривался, — раздраженно отвечает Подросток, — просто хочу проветриться. К тому времени, как ты выйдешь, я буду уже дома.
— Хорошо! — кричит Мать и неуверенно добавляет: — Хотя я не возражала бы и против свидания.
— К сожалению, не запланировал.
— Только, смотри, не забудь запереть дверь.
Городок невелик, и в субботу вечером освещение ничем не отличается от будничного. Фонари в переулках светят подслеповато, они успокаивают, убаюкивают, их нечего опасаться. Они не выдадут — скорее помогут остаться незамеченным.
Подросток сворачивает за угол и идет по хорошо знакомой, выложенной из округлившихся столетних камней дорожке. Иногда нога соскальзывает в просвет между камнями — эти согнутые ладошкой ямки тоже хорошо знакомы. На следующей улице дорожка выложена из бетонных плит, они жестче, надменней, хотя многие из них уже растрескались и осели. Они точно отталкивают от себя подошву, вынуждают спешить, хотя спешных дел у Подростка нет. И неспешных тоже.
Он направляется к центру, бессознательно избирая маршрут, сотни раз хоженный при свете дня, быстро минует привычные перекрестки и повороты извилистой улицы и неожиданно для себя натыкается взглядом на высокую, заметную издали стену гимназии. Подросток резко останавливается и сворачивает влево. Пожалуй, это не бегство — ведь горькие воспоминания и остатки своего прежнего «я», очень мало похожего на него теперешнего, он носит в себе. Бежать от них невозможно, они засели в нем огромным вопросительным знаком, составленным из множества мелких. Подросток старается о них не думать.
Он рад, что уцелел, что хоть как-то приспособился к жизни, что плывет, увлекаемый монотонным течением дней, в одном русле с другими. Не так уж это и плохо.
В узкой улочке совсем темно, лишь кое-где сквозь щели в опущенных жалюзи просачивается свет: реже — теплый, золотисто-желтый, электрический, чаще — синевато мерцающий и холодный, от телевизора.
В доме, где живет Эстер, свет желтый, он пробивается сквозь узкую вертикальную щель старинных ставен. Подросток останавливается, прислушивается. В доме тихо — не слышно ни человеческих голосов, ни звуков радио и телевизора. Он переходит на другую сторону улицы и, тяжело дыша, приваливается к кирпичной ограде. Только теперь Подросток сообразил: оказывается, свернув в переулок, где живет Эстер, он припустил бегом… Вокруг — благодатная тишина и мрак. Дом напротив, проступая на иссиня-черном фоне, осторожно приоткрывает лицо, стряхивает с себя причудливые тени, и вот уже контуры его видны отчетливо. Подростка пронзает вдруг отчаянная, слепая тоска, он хочет двинуться с места, но ноги будто приросли к земле, не слушаются.
Темные стены кажутся отсюда неодолимой преградой — во всяком случае, для него они неприступны. Ведь он изгой, точнее, принадлежит к категории жалких, а более всего, глупых людей, взявших на себя эту роль добровольно.
Возможно, жизнь его выбилась из колеи временно, это только петля, отступление в его биографии, и все еще может наладиться… Но пока он по этой петле удаляется от прямой и будет еще удаляться и завтра, и послезавтра, и, может быть, еще долгие годы. Между тем каждый день, каждый час и даже минута, если ты не хозяин своей судьбы, кажутся невыносимо долгими… Где уж ему изменить судьбу, когда он и по мелочам-то не может принять решения. Уйти или остаться? Или, может, нажать на кнопку звонка в доме напротив? Он отыщет ее с завязанными глазами и помнит даже, как звонить, чтобы Эстер его безошибочно узнала: два длинных, с коротким интервалом. Наверное, Эстер можно рассказать, чего требует от него эта троица, вечно шушукающаяся за его спиной. Или не стоит говорить ей об этом?
Нужно только перебежать дорогу — двенадцать-тринадцать широких шагов, не больше, протянуть палец к звонку, и девчонка сразу поймет, кто ее вызывает. Это их условный сигнал, о нем, кроме них двоих, не ведает ни одна душа.
Эстер, конечно, узнает звонок, хотя после смерти Отца он ни разу здесь не был. Точно так же, как сам он, хоть сто лет пусть пройдет, не спутает ни с чьим другим звонок Эстер. Узнает в ту же секунду, как только ее палец коснется кнопки. Он в этом уверен, готов поспорить на что угодно, вопрос только в том, не забыла ли его сама Эстер.
Не считая шагов, Подросток бросается через дорогу. Звонок издает мелодичный звук, на мгновение умолкает и снова упрямо звонит.
Во дворе раздаются усталые, тяжело шаркающие по каменным плиткам шаги, слышится мужское покашливание. Подросток бросается наутек. Он мчится к фонарному столбу, что стоит у перекрестка, ему теперь все равно: пусть зальет его свет с головы до ног, пусть узнает его кто-нибудь из знакомых, пусть он наткнется на бывшего своего учителя, который, конечно же, догадается, откуда он так бесславно бежит, — все равно. Только не думать больше об Эстер, забыть ее, отшвырнуть навсегда, как отшвырнула его она. Да, отшвырнула — как еще понимать ее поведение, если условный знак, связывавший их двоих, уже ничего ей не говорит.
Сердце у Подростка бешено колотится. Он выглядывает из-за угла: пока никого. Калитку с ее засовами и цепочками открыть не так просто. Но вот из нее появляется мужчина и недоуменно смотрит по сторонам. Хотя издали узнать его невозможно, это наверняка отец Эстер, кому же еще быть? Он качает головой, захлопывает калитку, и в пустынном переулке снова воцаряется немая, гнетущая тишина.
Мать уже перед телевизором. Обернувшись к Подростку, она мягко кивает.
Он покорно садится рядом и, откинувшись на спинку стула, вперяется взглядом в черно-белое пятно экрана.
Что происходит в фильме, Подросток не понимает. На экране мелькают лица и бессмысленно жестикулирующие человеческие фигуры, слышится быстрая, бессвязная речь. Но через какое-то время действие вдруг наполняется жизнью, и персонажи уже не кажутся заводными куклами: невидимая кинолента доносит до Подростка если и не реальные, то по крайней мере хоть достоверные, правдоподобные судьбы. Он с благодарностью расслабляется, и в сознании будто приходит в движение вращающаяся сцена: безраздельно господствующий на ней герой — собственное «я», которое в последние месяцы поглощало все его внимание, к которому он беспрерывно прислушивался, разгадывал, изучал его, вдруг отходит на задний план, уступая место другим. Он чувствует, что способен забыть о нем. Хотя бы на время.
* * *
Странное дело, будто какой-то мотор заработал в Подростке: он ожил, он подгоняет неторопливо тянущиеся минуты и часы, все более светлые дни и все более долгие вечера. Он безжалостно отгоняет от себя навязчивые, незваные-непрошеные мысли. В руках появилась ловкость, в ногах проворность, спина гнется легко и упруго. Мастер все чаще поглядывает на него с одобрением, замечая, как бережно обращается Подросток с деталями, какими уверенными, почти профессиональными движениями выполняет все более сложные операции, — хвалить он его не торопится, только ободряюще и как бы невзначай похлопывает по плечу. Троица затаилась — вот уже несколько недель они не выказывают никаких признаков враждебности, но по-прежнему избегают Подростка. Молчат.
Пока что он не пропустил ни одного дня. Три раза в неделю — занятия в училище, остальные три дня — в мастерской. Тихоня с Гномом сторонятся его и в училище, но там это Подростка не тяготит. Он не обязан ни с кем объясняться, да и вряд ли кто обращает внимание на их поведение. Без Шишака эти двое совершенно безвредны. А Шишак с ними почти не бывает, он в другой группе, в другом здании. Так что три дня Подросток чувствует себя свободным.
Преподаватели здесь к нему не придираются и не выделяют его из общей массы. Он освоился здесь за несколько недель и даже не думает о возвращении в гимназию. Для здешних преподавателей он не какой-то чудак, неудачник, непонятный и замкнутый подросток, не загадочный случай из области психологии или невропатологии — он такой же, как все, один из учеников, готовящихся стать рабочими. Он здесь не надломленный сын трагически рано скончавшегося районного судьи. Подобных ему в училище много — у кого аттестат подкачал, кто вовсе не закончил школу, не захотел или по какой-то причине не смог продолжить учебу.
Никто не тянет здесь человека за уши из болота, не бередит старых ран и не лезет в душу. Никто не важничает, не наставляет на путь истинный и не дает с умным видом бесполезных советов. Здесь все четко: день — для труда и учебы, ночь — для сна, в личные, домашние дела никто нос не сует. Требования высокие, времени в обрез. Ученики едва успевают справляться с домашними заданиями.
И все же он подгоняет минуты, с нетерпением ожидая наступления темноты.
К месту первой неудачи его притягивает как магнитом. В переулке Подросток знает уже каждый камень, каждый выступ и каждую выбоину в мостовой. По вечерам он, прижавшись спиной к кирпичной ограде, подолгу простаивает перед домом Эстер. Он ничего не предпринимает, просто стоит и чего-то ждет.
* * *
И вот однажды они совершенно случайно — во всяком случае, так показалось Подростку — встретились на улице.
Щурясь от яркого солнца, он выходит из мастерской и, догадываясь, что троица следует за ним по пятам, как всегда, прибавляет шагу. По дороге домой даже при свете дня он чувствует себя не очень уверенно. Пока пути их не расходятся, асфальтированный тротуар будто горит у него под ногами. Подросток почти бежит. Он сворачивает направо, к центру города, и вдруг слышит шорох велосипедных шин. Кто-то едет за ним, не вращая педали. Время от времени поскрипывают тормоза — значит, не хочет его обгонять. Прибавить еще шагу было бы равносильно бегству, и Подросток резко останавливается. Велосипедист проезжает мимо и, тоже остановившись, спешивается.
У Подростка захватывает дух: в трех шагах от него, опираясь на раму велосипеда, в непринужденной позе стоит Эстер и улыбается. На ней темно-синие брюки и такого же цвета жакетик, через плечо перекинут невероятно длинный красный шарф. На голове, венчая короткую стрижку, лихо сидит веселый красный кепарик. Лицо, которое он столько раз мысленно представлял себе, как будто еще больше похорошело.
— Смотри, воробушек залетит! — насмешливо морща нос, кричит она изумленно раскрывшему рот Подростку. — Привет, Петер!
Эстер пытается перенести велосипед через кювет, он подхватывает его, весь сияя от счастья.
— Привет, — бормочет он, — привет.
— Это все? — Девчонка подстраивается под его шаг.
Подросток молчит, смущенно поглядывая на ее профиль с округлым подбородком и пухлыми губками.
— Ага. Все, — говорит он и добавляет: — Я обалденно рад.
Эстер радостно улыбается:
— Я тоже. Обалденно.
Они смеются. Глядят друг на друга и беспечно смеются.
Сзади доносится дружный топот шагов. Подросток вздрагивает, кусает губы, от страха у него начинает сосать под ложечкой.
Их обгоняют Тихоня с Гномом. Шишак, отстав, подталкивает плечом девчонку, с наглой ухмылкой заглядывает ей в лицо и вприпрыжку догоняет остальных. Вскоре троица вдруг останавливается и поворачивается к ним лицом. Эстер в недоумении смотрит на Подростка, который сжимает ей локоть, и они тоже замирают на месте.
Трое учеников как по команде закладывают пальцы в рот и издают протяжный, заливистый, оглушительный свист: он вьется, как вскинутый пастуший кнут, который змеится, закручивается в спираль, пока кончик ремня не взлетает над землей. Свист неожиданно обрывается, но пронзительный звук его еще долго отдается в ушах.
Те трое снова поворачиваются кругом и вразвалочку удаляются.
— Ты обиделась? — в замешательстве спрашивает Подросток.
— Вот еще! — пожимает плечами Эстер. — Пустяки. Это… твои друзья?
— Вместе учимся, — судорожно сглотнув, нехотя говорит он.
Девчонка пристально смотрит ему в глаза. Подросток, залившись краской, постукивает пальцем по резиновому наконечнику на руле велосипеда.
— Все ясно, — с деланной веселостью кивает Эстер. — Хороша компания, нечего сказать.
К чувству стыда, которое испытывает Подросток, примешивается благодарность.
— Это уж точно, — горячо соглашается он. — А что поделаешь?..
— Конечно, товарищей по учебе не выбирают, — улыбается Эстер. — В лучшем случае можно выбрать среди них несколько приятелей, а уж станут ли они твоими друзьями, это как повезет. Вот мне, например, не повезло, ты согласен?
— Нет! — бурно протестует Подросток. — Я с тобой не согласен.
— Ну и ну, — искоса поглядывая на него, укоризненно качает головой девчонка. — Какой ты забывчивый. Но, наверное, виновато время. Время скрашивает все неприятности.
— Ты права, — упавшим голосом говорит Подросток. — Я вел себя по-идиотски.
— Не повезло нам друг с другом, Петер, — кивает с серьезным видом девчонка, а глазами смеется, — ох, не повезло.
— Это я виноват.
Эстер останавливается.
— Не совсем. Дело не только в тебе. Да и какая в конце концов разница… Теперь уже все равно. Но, если ты хочешь, мы можем быть просто приятелями… Никто нам не запрещает.
— Спасибо, — со вздохом вырывается у Подростка. У него будто гора с плеч свалилась. — Ты потрясающая девчонка. Я и раньше об этом знал. Только теперь я… как видишь… — Он растерянно умолкает.
Эстер закидывает голову — будто что-то разглядывает в голубизне неба.
— Я тоже, как видишь… — вторит она Подростку и прыскает со смеху: — Ты даже не представляешь, какой ты осел! Или все-таки представляешь?
— Немного, — говорит он, чувствуя себя на седьмом небе от счастья. — Самую малость.
— Ах, так? Значит, все-таки представляешь! Это прогресс, если вспомнить…
— Ну забудь ты об этом, прошу!
Эстер дурачится, она идет, забавно прихрамывая — одна нога ступает по тротуару, другая по бровке.
— Если это единственная ваша просьба, сударь, я готова ее выполнить.
В душе Подростка рекой разливается бурная радость. Он зачарованно смотрит на девчонку, которая кривляется с такой милой непосредственностью, как это могут только невинные, отмеченные особой душевной чистотой натуры. «Святая простота, — думает Подросток. — Она не знает, что такое страх, не знает ужаса поражений и безвыходных ситуаций». Эстер наивная славная девчонка.
— Не думай, — внезапно остановившись, говорит она, — что я случайно сюда заехала.
Подросток судорожно сжимает руль велосипеда.
— А что, не случайно? — бормочет он.
— Нет, нет, — решительно трясет головой Эстер. — Хотела увидеть тебя, поговорить… Узнать, какой ты теперь, что поделываешь.
Лицо Подростка омрачается.
— Ну, увидела? — резко спрашивает он и добавляет с вызовом, почти враждебно: — Довольна?
Но она не обижается, говорит улыбаясь:
— Мне почему-то казалось, что ты тоже хочешь со мной встретиться, что тебе интересно, как мои дела…
«Уж не раскрыли ли они мою засаду?» — испуганно думает Подросток. Но в голосе девчонки нет ни тени насмешки.
Он долго и пристально всматривается в ее лицо, пытаясь поймать взгляд карих, прикрытых густыми ресницами глаз. Эстер застыла в ожидании.
— Мне тебя очень не хватало, — говорит он просто.
— Очень? — недоверчиво смотрит она на Подростка и смеется: — Очень-очень?
— Очень-очень.
— Что же ты не зашел? — не спускает с него глаз Эстер. — Позвонил бы, как раньше. Два долгих с коротким интервалом. Если уж так меня не хватало. Если и впрямь очень-очень.
Подросток потупясь разглядывает асфальт, он как будто остыл под их ногами и больше не жжет сквозь подошвы.
— А я заходил, — наконец говорит он. — Один раз попытался, но…
— Значит, это был ты? — Девчонка довольна.
— Ну я, — признается он виновато.
— Отец так и понял… но он не сердится.
— А ты?
— С какой стати?
У Подростка захватывает дух.
— Я думал… — взволнованно говорит он. — Я думал, ты еще помнишь наш звонок.
Эстер резко останавливается.
— И удрал как заяц. Эх ты! Я была в школе на вечере, — кричит она. — У нас был весенний бал, неужто не сообразил?
— Мне и в голову не пришло, — облегченно вздыхает Подросток. — Честное слово.
— Можешь не волноваться, — поспешно добавляет она. — Весь вечер подпирала стенку.
— А я не волнуюсь.
— О, — улыбается Эстер, — выходит, ты изменился.
— Изменился, не изменился — я сам не пойму.
— Мудрый ответ. — Эстер с серьезным видом поджала губы. — Ты знаешь, что о нас думают эти умники взрослые? Наши наставники? Подростковый возраст, — нараспев говорит она, — период бурных изменений. Идет формирование личности — биологическое, физиологическое, этическое и еще бог знает какое! Духовный мир подростка загадочен и непостижим! На внешние раздражители в отличие от взрослых, которым на все наплевать, подросток реагирует болезненно! В суждениях он поспешен, в притязаниях неумерен, а действует как бог на душу положит, по настроению, безо всякой последовательности — вот так примерно рассуждает наш гениальный классный руководитель. Ну и пусть себе рассуждает на здоровье. А говорю я это к тому, что в свете вышеизложенного ты просто не мог не измениться. В свете вышеизложенного на тебя ни в чем нельзя положиться.
Подросток сияет.
— Зато на тебя, — говорит он, — можно было положиться всегда!
— Благодарю, — довольно кивает Эстер. — Это первый комплимент… за сегодня. Не думай, что я не ценю. Проглотила с превеликим удовольствием. Правда, он немножко сомнителен. — Она вздыхает. — Не догадываешься?
— Как сомнителен?
— Будто ты не заметил! — посмеивается Эстер. — Я сама на него напросилась.
Подросток тоже смеется.
— Ты нисколько не изменилась! — восклицает он радостно.
— Надеюсь. Кстати, спасибо: это был уже настоящий.
— Что-что?
— Комплимент настоящий. Вот тугодум-то! — качает она головой. — Ну, давай сюда велик, поеду, а то мать из меня отбивную сделает.
— Мать тебя пальцем не тронет, я же знаю. — Подросток отчаянно цепляется за велосипед.
— Она сделает из меня отбивную в переносном смысле. Люблю фигуральные выражения. Если ты отвык, — Эстер пожимает плечами, — ничего не поделаешь, придется привыкнуть опять, или…
— Или что?
Девчонка снова закидывает голову, что-то высматривая в голубом небе.
— Или мы больше не увидимся, вот что.
— Эстер!
Балансируя раскинутыми руками, она идет по бровке тротуара.
— Но это ведь не трагедия, Петер? — Девчонка подскакивает к Подростку и топает ногой: — А ну, отдавай мой драндулет! Мать отпустила меня на полчаса подышать свежим воздухом, а я вместо этого каталась как дура вокруг вашей мастерской…
— Эстер…
— Тоже мне, технари, звонка у ворот нет. Хотела проверить, помнишь ли ты еще наш условный сигнал…
— Эстер…
— Не могла же я просто так заявиться: здрасьте, мол, где тут Петер?
— Эстер, я в самом деле…
— И я в самом деле. Ну, мне пора.
Подросток вцепился в велосипед мертвой хваткой.
— Эстер, ну подожди… — упрашивает он ее.
Девчонка демонстративно вздыхает.
— Ну ладно, — говорит она с довольным видом, — можешь позвонить мне сегодня вечером, часов в семь. Хорошо?
— Хорошо, — бормочет благодарный Подросток. — Хорошо.
Эстер садится на велосипед и оставшиеся до дома сто метров едет почти вслепую: она то и дело оборачивается и машет Подростку.
Он стоит и тоже машет руками — беспорядочно, будто испорченный робот или сошедший с ума регулировщик.
Его обходит какая-то пожилая дама. Встретившись с ней глазами, Подросток вежливо здоровается. Та оглядывается по сторонам и неуверенно кивает. Про себя он смеется: Эстер уже несколько минут как закрыла за собой калитку, ей ничто не грозит. Пускай думает старушенция, что он свихнулся. Важно это? Не важно. Дама заметно прибавляет шагу и, дойдя до перекрестка, с любопытством оборачивается. Подросток растягивает рот до ушей и кланяется — дама в паническом бегстве скрывается за углом. А он, сунув руки в карманы, с довольным видом думает о том, что не обходил в этот день стороной центр городка, не прятался ни от кого и никого не боялся. Чтобы не привлекать внимания своей широкой улыбкой, он стискивает зубы и, насвистывая, идет домой. Напрямик.
Улицы городка облетает легкокрылый трудяга ветер. Выдувая из старых домов запах прели, он сгребает его воедино и, покрутив над крышами в дрожащем хрустальном воздухе, уносит, чтобы развеять где-то вдали.
Где, никому не известно. Пути вольного весеннего ветра неисповедимы. Он насвистывает, гудит и, даже в мирном расположении духа, беспрестанно закручивается вихрем и меняет направление, то задувая человеку в лицо, то вдруг атакуя сзади.
Он разбрызгивает остатки собравшейся в рытвинах влаги, осыпает голые ветки деревьев и воротники пальто тонкой пылью и гонит перед собою тучи, чтобы внезапной грозой смыть следы своей шалости.
Он раскачивает телефонные провода, которые, ответив легким шорохом в трубках, продолжают нести слова от человека к человеку.
Отвратительный звон телефона кажется теперь Подростку волшебной музыкой. Аппарат Эдисона стал его другом, знатоком и хранителем тайн. Точкой опоры, самой твердой во всей вселенной.
Мать наблюдает за Подростком с подозрением, но лицо ее румянит не молчаливый протест — оно раскраснелось от мартовского ветра. Путь с опытной станции все же не близок. Идти домой в одиночестве скучно и утомительно. Скуку можно развеять, потолкавшись в магазине, хотя из-за покупок дорога домой утомляет ее еще больше.
В последнее время эти заботы Подросток взял на себя. Вместе с Эстер они путешествуют по гастрономическому эльдорадо, подолгу изучают разложенные на полках мясные продукты, консервы, пасты, паштеты, рыбу, творог, различные сыры, хрустящее печенье, сладости, фрукты, унося с собой из магазина пряные запахи — они делают более ощутимым волнующее чувство близости, в реальность которого Подростку трудно поверить.
А в корзинки они отбирают обычно совсем немногое — в строгом соответствии с домашними инструкциями.
Эстер всегда весела и всем довольна, отличное настроение и у Подростка.
Мать тоже постепенно оттаивает. Поначалу вечерние разговоры по телефону вызывали у нее улыбку, но со временем она к ним привыкла. В семь вечера она находит себе занятие подальше от телефона, в другой комнате или на кухне, где скрывается, плотно прикрыв за собою двери. Мать просто молодчина!
Днем о гимназии они упорно не разговаривают — только вечером, по телефону. Эстер развлекает Подростка приключениями из жизни его бывших товарищей. Он догадывается, что в этих рассказах есть доля вымысла, но и не думает обижаться. Иногда он даже сам спрашивает о школе, оторванность от одноклассников уже не причиняет ему такой боли, как прежде.
— Ох и требования сейчас на вступительных, ох и требования, — повторяет Эстер. — С ума сойти можно, старик. Подожди, через три года полкласса будет набиваться к тебе в ученики, серьезно.
— Ко мне? Брось хохмить.
— А что, автомеханик теперь самая престижная профессия. Назови, если знаешь, лучшую.
— Послушай, Эстер…
— Нет, это ты послушай. Что может быть лучше? Наши бедные мальчики, куда им податься после гимназии? Кстати, может, и мне что-нибудь присоветуешь?
— Шутишь? — сдавленным от волнения голосом бормочет он.
— Какие шутки, — протестует Эстер. — В этом году у меня средний балл будет три и восемь, самое большее — четыре.
— Шутишь? — повторяет Подросток. — Ты же всегда была у нас маяком.
— Всегда! А теперь вот завал с математикой, с физикой — тоже. Да и психолог наш от меня не в восторге. Разве я тебе не говорила?
— Нет, — пугается он. — Не говорила.
— Это лишнее доказательство, какая я стала тупица.
— Не шути так.
— Оскорбляю святыню, хочешь сказать?
— Эстер!
Девчонка тяжко вздыхает:
— Хорошо, хорошо. Только это не шутка, старик, чем угодно тебе поклянусь, хоть дырявыми панталонами бабки Мари. Будь спокоен, я не шучу.
В этом вся Эстер, радостно думает Подросток, вся Эстер.
— Алло, алло! — слышит он. — Ты что, мух там считаешь? Чего скис?
— Я не скис. Изумляюсь, — отвечает Подросток. — В себя никак не приду.
— Лучше придумай какую-нибудь классную профессию, чтобы по мне была.
— Ладно, ладно, — соглашается он поспешно. — А вдруг ты еще подтянешься? Надеюсь, такой вариант ты не исключаешь.
— Не исключаю, старик. Может быть, кто-то и исключает, но только не я, уж будь уверен. Было бы странно, имея такую нахальную физиономию…
— Обожаю твою физиономию.
В трубке молчание.
— Алло, — робко говорит Подросток.
— Слышу, слышу. — За иронической ноткой в голосе Эстер как будто скрывается растерянность. — Днем, при встрече, ты бы этого мне не сказал!
— А вот и сказал бы!
— Ну, — восклицает она неуверенно и добавляет другим, уже радостным, насмешливым тоном: — Один хвалился — с горы свалился!
Подростку слышится в этом обидный намек, у него обрывается сердце, он молчит.
— Алло, — тихо говорит Эстер.
— Да? — откликается он.
— Я думала у тебя будут комментарии.
— Какие?
— Ну… например, что во мне погибла поэтесса или что-нибудь в этом духе.
Подросток облегченно вздыхает.
— Боюсь, что она в тебе не погибла. — Он смеется.
— Мерси. Это лучшее, что ты мог сказать мне на прощанье. — Девчонка вдруг переходит на шепот: — А теперь замолчи и вздохни три раза. Томно! Я тоже буду вздыхать. И знаешь что? Потом сразу кладем трубки. Молча. Если согласен, то начинай. Синхронно, ты понял?
Подросток покорно вздыхает полной грудью и слышит, как по проводам до него долетает невнятный, едва различимый шорох, будто сладким причудливым наваждением крадется от дома к дому, от человека к человеку теплый мартовский ветерок. Он счастлив.
* * *
Эстер о трех его соучениках никогда не спрашивает. Она их просто не замечает, смотрит сквозь них, как сквозь стекло. Подросток следует ее примеру: вдвоем все же другое дело. Свист, шиканье, пошлые замечания — что позволяет себе только Шишак — для них все равно что шум проезжающего автомобиля.
Эстер — отличная девчонка. Она наверняка поняла бы его былые страхи, но лучше о них не вспоминать. Во всяком случае, пока. Пока что не стоит. Может, когда-нибудь, через годы… может, через месяц-другой, он попробует ей рассказать. Но пока ни к чему. Нет, нет, нет. И даже потом, если он об этом заговорит, то, конечно, шутя. Когда-нибудь над его страхами можно будет посмеяться.
А иначе об этом разве расскажешь?
* * *
Когда Подросток попал в мастерскую — когда это было, месяцев восемь назад? — осень наступила рано. В конце сентября зарядили дожди — холодные, беспросветные. Шеф был не в духе. Он слонялся как неприкаянный по мастерской и если исчезал за железной дверью, то вскоре появлялся снова — долго высидеть в одиночестве он не мог. Иногда Шеф подходил к кому-нибудь из рабочих и пытался завязать беседу, но те только бурчали в ответ и делали вид, что очень заняты, что работа невероятно трудная и срочная. А Мастер, тот и вообще не глядел в сторону Шефа — открывал крышку капота и поворачивался к нему промасленным задом комбинезона.
Шишак нервничал: косил то на Шефа, то на Подростка. На Шефа — с опаской, на Подростка — враждебно сверкая исподлобья колючими льдинками голубых глаз. Похоже, он все-таки не примирился с ним. Шишака раздражало присутствие Подростка. Видя, как благосклонно относится к нему Шеф — пусть это выражалось лишь в одобрительном похмыкивании, — он с отвращением отворачивался.
Уже тогда, а шел еще только второй месяц, Подросток все время ощущал, как по спине подирает мороз. С фальшивой стыдливостью показывал он Шефу свою работу — запоротые детали. Надеялся, что тот рано или поздно устроит ему разнос — это казалось совершенно неизбежным. Надеялся, что Шеф начнет честить его в хвост и в гриву — на что он великий мастер, — поминая и мать, и отца, и всю флору и фауну, от травы до пресмыкающихся и четвероногих, по-своему рафинированно и без нецензурности, так что особенно и придраться не к чему… Он думал, что таким образом наконец окажется на одной доске с остальными, уравняется с ними, не будет колоть глаза. Но Шеф с удивительным самообладанием сдерживал эмоции и на дерзость Подростка внимания не обращал, только качал головой и молча шел дальше.
В один из этих мрачных сентябрьских дней Мастер впервые взял его под свою защиту.
— Ты зачем это делаешь? — шепотом спросил он.
— Что? — покраснел Подросток.
Всякий раз, когда он замечал сходство между Мастером и Отцом, сердце его сжималось. Сходство их было не во внешности. Не в чертах лица и не в жестах — в чем-то другом. Наверное, в мягкости, доброжелательном внимании — одним словом, в отношении к людям…
Не получив ответа, Мастер посмотрел на него долгим сочувствующим взглядом.
— Это я из-за других, — смутившись, пробормотал Подросток.
Мастер выпрямился. Все, кто был рядом, украдкой наблюдали за ним: как-никак Мастер — лучший среди них специалист.
— Товарищ завпрактикой! — перекрывая шум, крикнул Мастер.
Шеф недоверчиво обернулся, остановился в ожидании. Мастер решительно подошел к нему. Пока он с ним говорил, Шеф только пожимал плечами, потом нехотя кивнул.
— Ну, парень, — сказал Мастер, вернувшись на место, — отныне будешь осваивать ремесло под моим началом. Руководитель ваш не возражает. Только ты не надейся… он будет тебе и другие поручения давать, туда-сюда посылать… но в основном будешь работать со мной. И уж, будь уверен, больше ни одной детали тебе запороть не удастся. Я с тебя глаз не спущу, дружище.
Шишак наблюдал за ними, прищурившись.
Подростка бросило в жар — и от радости, и от испуга.
— Я должен бы вас поблагодарить, — взглянул он на Мастера, — но как-то это… не знаю. Не знаю.
— Они тебя обижают? — спросил, наклоняясь к нему, Мастер. — Кто, Шишак, поди?
— Нет, нет! — запротестовал Подросток. — Не трогают они меня. — И с горечью добавил: — Только презирают, что ли. Как будто.
— Ты в этом уверен? Или так говоришь?
— Мне так кажется.
— Ну вот что, — улыбнулся взрослый. — Нечего сантименты разводить. Давай-ка лучше работать. Как будешь работать, так к тебе и будут относиться. Вот когда руководитель ваш похвалит тебя за усердие, а не за что иное, вот тогда и поговорим.
Подросток немного повеселел и больше не заглядывал на другую половину мастерской, где Шишак ремонтировал камеру от государственной легковушки. Из-под абразивного круга наждачной машинки сыпались искры и гасли в белом облачке резиновой пыли.
Шум мастерской уже полюбился Подростку, как и фиолетовые тени, и неожиданно вспыхивающие огни сварки, и даже тяжелые, поначалу с трудом выносимые им запахи. Но в тот день — может быть, из-за промозглой сырости, что проникала через распахнутую дверь, — ему было тоскливо. Его угнетали недобрые предчувствия, рассеять которые не могли даже теплые, то и дело останавливающиеся на нем глаза Мастера. Напротив, как раз в его взгляде Подросток заметил что-то такое, что предсказывало приближение опасности. Или это он задним числом придумал? Все были в тот день чем-то раздражены, не он один. Все.
Увидев, что Шеф снова выбрался из своей конуры, Мастер нахмурился. Темное мятое лицо Шефа, как пожухлый, изъеденный подсолнух, маячило то над одним, то над другим учеником. Рабочие время от времени переглядывались и снова брались за дело.
Вот фигура Шефа нависла над Гномом. Мальчишка, сидя на корточках, промывал детали карбюратора. Как видно, ноги у него затекли, и он беспокойно елозил, то и дело меняя положение.
— Ты, сынок, прямо как та голубка переминаешься, не ровен час снесешься, — беззлобно усмехнулся он.
Гном поднял голову и весело кивнул.
— Это точно, — начал он беззаботно, но осекся и продолжал другим тоном: — Ноги, товарищ завпрактикой…
— Что с ногами, сынок? — прервал его Шеф.
— Одубели слегка, товарищ руководитель практики.
— Что?! — округлил глаза Шеф. — Что я слышу, ребятки?
Рабочие снова переглянулись.
— Ты что, — вмешался один из них, — не в такой же люльке качался, прах тебя возьми? Ишь выламывается, будто не понимает. У пацана ноги затекли, коллега. Затекли — это бывает. Особенно с теми, кто работает. С теми как раз и бывает, кто вкалывает!
Шеф чуть заметно побледнел, но по-прежнему улыбался. Голос его звучал не громче обычного, только чуть выше тоном:
— Если мне память не изменяет, коллега, практикой руковожу я. И за пацанов отвечаю тоже я, милейший коллега. Я в твои дела, конечно, встревать не могу, однако…
— Ишь чего захотел, морда елейная! — Рабочий повернулся к товарищам: — Отродясь такой падали не видал, гада такого…
— Ладно, не лезь, — вмешался Мастер, — это его дело. Да еще начальства.
— И ты его защищаешь?! — взорвался рабочий. — Именно ты? Его дело, говоришь? А в чем его дело? Учить пацанов! У себя, в своей конуре! А здесь, в цеху, они практикуются. — Он выдохся и махнул рукой.
— Он перед нами отчитываться не обязан, — покачал головой Мастер.
Наступила мертвая тишина. Рабочие, опустив зажатые в руках инструменты, не спешили пускать их в дело. Они выжидающе молчали.
Гном сжался в комочек и приник к полу, не смея пошевелиться. Могучее тело Шефа все еще возвышалось над ним на широко расставленных ногах.
— Н-да, — протянул он. — Да, да. Так, стало быть, ноги твои одубели? Ну, ну. — Он самодовольно оглянулся, как исполнитель главной роли в окружении подыгрывающих ему статистов. — Затекли то есть. Жаль. Очень жаль, что таким хилым, неразвитым ножкам приходится подпирать такой груз.
Молодой рабочий, только что горячо на него обрушившийся, презрительно сплюнул и повернулся к «вартбургу».
— Идиот. Шут гороховый, — сказал он вполголоса и захлопал дверцами машины.
У Шефа нервно дернулась щека, он скривился.
— Тэк-с, — продолжал он. — Тэк-с, тэк-с. Ничего не попишешь: чем большая тяжесть ложится на несчастные ножки, тем быстрее они затекают — пардон — дубеют. Но это, сынок, не беда, мы твоим ножкам поможем. Известно, физическая культура в нашем отечестве — законное требование, более того, кое-где даже ставится во главу угла. Так что прямо и начнем. Не откладывая. И не сходя с места. — Шеф выждал и небрежно скомандовал Гному: — Встать!
Мальчишка поднялся и с испуганным видом запрыгал на месте, выбрасывая вперед то одну, то другую ногу.
Какое-то время Шеф задумчиво наблюдал за ним.
— Не то, — скорчил он вдруг презрительную мину. — Это все баловство, толстячок. Покажи-ка нам лучше, как ты отжимаешься.
Гном опешил, испуганно оглянулся на собравшихся и перевел взгляд на залитый маслом цементный пол.
— Что, здесь? — нерешительно спросил он.
— А то где же, — все так же добродушно кивнул Шеф. Но, посмотрев украдкой по сторонам, передумал. — А впрочем, вот что. Отложим. Но к этой теме мы еще вернемся. В свое время.
За этой сценой рабочие наблюдали уже с нескрываемым отвращением. Но молчание нарушил только один, тот, что возился с «вартбургом»:
— Глазейте, глазейте! Пока зрители есть, он свои фокусы не прекратит. У него только гонор и остался…
— Кончай волынить, ребята! — снова вмешался Мастер.
Парень рассмеялся:
— Ты думаешь, я испугаюсь? Плевать я хотел, что они с директором старые дружки. Мне что, надоест на его фортели смотреть, я в другое место подамся. Мне смотреть на эту образину противно.
Мастер, пытаясь заглушить поднявшийся гвалт, зазвенел инструментами. Подросток дрожал, все еще стоя у машины на одном колене — смотреть представление, как Шишак с Тихоней, он не пошел. Бледное лицо Шишака перекосилось от злобы. Тихоня растерянно ухмылялся.
— Ученики! На занятия! — гаркнул Шеф и направился к своей конуре.
Подросток впервые слышал, чтобы Шеф повысил голос — шум в мастерской стоял невообразимый, едва не лопались барабанные перепонки.
— Ступай, — взяв Подростка за локоть, кисло сказал Мастер. — И не вздумай ему перечить. Пускай распинается на здоровье. А вы слушайте да помалкивайте. В одно ухо влетело, в другое вылетело.
Подросток кивнул, обтер руки и последовал за остальными в конторку Шефа.
Тот стоял уже у стола, сцепив за спиной руки, и по обыкновению покачивался, переваливаясь с пятки на носок.
Окинув взглядом построившихся учеников, всю их четверку, замершую на одной линии, он улыбнулся.
— Красиво стоим, ребятки. Славная вы компания.
Ученики вытянулись по стойке «смирно». Никто не пошевелился. Шеф задумался, показывая короткими отрывистыми кивками, что размышляет над чем-то серьезным.
— Компания вы просто великолепная, слов нет. Внешним видом я вполне доволен, хоть всех разом взять, хоть каждого в отдельности.
Он выжидающе помолчал, откашлялся.
— Вы меня поняли? — чистым вкрадчивым голосом спросил Шеф.
— Так точно! — гаркнул Шишак.
— Так точно! — поспешили присоединиться к нему остальные.
— Хор-рошо, — протянул Шеф. — Хор-рошо, — повторил он еще раз и, вытянув губы, причмокнул. — Ежели понимаете, тогда бояться нечего. Именно, именно нечего. Все вы, ребятки, побывав в моих опытных и… устранивших немало всяческих затруднений руках, станете грамотными и, быть может, даже отличными специалистами. Это я вам гарантирую. С сознанием полной ответственности. — Он прищурился: — Все ясно?
— Так точно! — радостно завопил Шишак.
Остальные последовали его примеру.
— Правда, я не уверен, — с иронией в голосе продолжал Шеф, — что вы станете ими в назначенный срок. То есть по истечении трех лет. Для этого требуется, как известно, положительная отметка по практическим занятиям. Довожу это до вашего сведения с единственной целью: ликвидировать некоторые недоработки в своей воспитательной деятельности, по поводу которой мне только что пришлось выслушивать упреки. Уяснили, ребятки?
— Так точно, — подобострастно откликнулся Шишак.
— Так точно, — будто молитву, повторили остальные.
— Ученикам не мешает знать, скажу больше — крайне желательно знать, что единственной дисциплиной, которую не разрешается пересдавать, является… Какая?
— Практика, — не раздумывая, гаркнул Шишак.
Шеф довольно кивнул.
— Правильно. Очень и очень правильно: практические занятия. Ибо отметка, полученная по этому предмету, имеет вес, равный весу всех остальных, вместе взятых. И в случае провала неудачник сможет попасть в ряды перешедших на следующий курс счастливчиков только после прилежного повторения предыдущего курса. И опять-таки имея положительную оценку за практику. А выставляет ее ваш покорный слуга, и никто больше. Вы спросите, чем он при этом руководствуется? Существующими инструкциями, во-первых, и многолетним, целиком и полностью оправдавшим себя опытом — во-вторых. Это понятно.
Ученики подтянулись, но Шеф на них даже не взглянул. Он не ждал ответа.
— В случае, если отметка за практические занятия будет иметь вид кола, — продолжал он бесстрастно, — все придется начать с нуля, то есть вернувшись назад ровно на двенадцать месяцев. И тут вам никто, даже сам господь бог, повторяю, сам господь бог, не поможет, если, конечно, не сжалится и не призовет в свое царство. Это единственное, на что вы, ребятки, можете надеяться, и более ни на что.
Эффектом, который произвела на ребят его речь, Шеф был доволен. Ученики стояли, не смея дохнуть. Пример остальным показывал Шишак, вытянувшийся в струну, с застывшим, как у статуи, взглядом. «Третий год тренируется, — подумал Подросток. — А я еще только первый. Наверно, уже сыт по горло, два года здесь проторчав…»
— Итак, с юридическими основами моей деятельности, я полагаю, все абсолютно ясно. Всем присутствующим здесь счастливчикам, — добавил Шеф.
— Так точно, — в один голос ответили ученики.
Он, уставившись в одну точку, снова задумался, давая понять частыми кивками головы, что думает и думает над вопросами немаловажными.
Время шло, секунды складывались в бесконечно долгие минуты. Подростка уже покачивало от усталости. Он смотрел на косые струи неутихающего унылого дождя, не испытывая никаких эмоций. Слова Шефа он принял к сведению — что еще оставалось делать? Правда, в сознании шевельнулась странная мысль, которую он тщетно старался отогнать: как случилось, что Отец, такой честный и сильный, такой справедливый, что справедливей и не бывают, был связан с этим чудовищем? Что у них были за отношения? Он был у Отца на приеме? Или это случайное знакомство? Как бы там ни было, Отец не мог ничего подозревать, не мог. Да и давно это было, много лет назад. Может, Шеф был совсем другим? Хочется верить, но это невозможно. Хотя ведь и Мать, и он сам не такими были при жизни Отца. Все тогда по-другому было, совсем по-другому. И Шеф мог быть другим. Но все же представить это трудно. Почти невозможно.
Шеф поднял левую руку, точнее, чуть приподнял ее перед собой и с видимой сосредоточенностью, можно сказать даже с пристальной, но достаточно хладнокровной заинтересованностью обвел длинным ногтем большого пальца полукружья ногтей на руке, словно желая убедиться в их твердости. Проделав эту операцию, он принял обычную позу: слегка раздвинул ноги, а руки сцепил за спиной.
— Стало быть, основной тезис мы с вами сформулировали, — тихо, но внятно сказал Шеф. Услышав неосмотрительный вздох Гнома, он чуть приподнял одну бровь, однако голоса не повысил: — Но означает ли это, что драгоценное время, отпущенное для сегодняшнего «семинара», я считаю исчерпанным? Нет, исчерпанным я его не считаю. Наше общество, как известно, испытывает нужду во все более развитых индивидах, независимо от того, где обретается тот или иной индивид: у станка, при сохе или еще где. Это ясно?
— Так точно, — прозвучал дружный ответ.
— Между тем в воспитании нового индивида главным является… что? Сам индивид. Это тоже понятно?
— Так точно, — уже вяло и вразнобой ответили ученики.
Шеф чуть повысил голос:
— Замечу для общего сведения: я требую от учеников, чтобы одобрение звучало как одобрение. Не слышу энтузиазма. А ну-ка, еще раз, ребятки!
— Так точно! — грянули они хором.
— Ну вот. Другой коленкор. Итак, подведем итоги: главное в воспитании индивидов — координировать их, ибо каждый несет в себе отпечаток среды и духовного, так сказать, климата, в которых он вырос. Вот в чем вся штука, ребятки. А это уже искусство. Чтобы было понятней, поясню на примере. Что являет собой тысячелетняя история нашего городка? Борение духа, идей, образцы мужества и самопожертвования. Ну так вот. Как может относиться воспитанный в данной атмосфере индивид, так сказать коренной обитатель Рио-де-Калоча, к другому индивиду, положим такому же ученику-ремесленнику, который вторгается сюда, гонимый жаждой познания, к примеру, из Батя-Сити, где он до этого прозябал?[3] Как, скажите?
«Вопрос риторический, — подумал Подросток. — К тому же дурацкий. Шеф ненормальный, определенно. Не соображает, что несет ахинею. Скалится, будто сказал что-то сногсшибательное».
— Ну-с… вся компания, я гляжу, страдает отсутствием чувства юмора, — самодовольно просиял Шеф.
Тоже, шутник нашелся… «Рио-де», «сити» — чего тут смешного?
— Юмор мы понимаем, — осклабился Шишак.
Заухмылялись и остальные. Подросток с презрением к самому себе почувствовал, как мускулы на лице дрогнули, в улыбке обнажая зубы.
Шеф кивнул.
— Вот это мне нравится. Молодежи пристало быть жизнерадостной, бодрой и непоколебимо уверенной в собственных силах.
— Хи-хи-хи, — хохотнул Гном.
«Из подхалимства или просто не сдержался? Скорее последнее», — подумал Подросток, краем глаза заметив, как Шишак предостерегающе двинул мальчишку по щиколотке.
Улыбка на широком лице Шефа вдруг сморщилась, будто на нее плеснули кипятком.
— Однако, — медленно протянул он, — однако хорошее настроение и жизнерадостность не могут служить оправданием вздорного и беспричинного зубоскальства, не так ли? — Шеф снисходительно махнул рукой. — Вольно.
Все четверо, одновременно переступив, качнулись вправо. Занемевшие пальцы согнулись, и кисти рук бессильно повисли вдоль тела.
— Именно, именно, о том и речь, — лениво продолжал Шеф. — В здоровом теле… что?.. здоровое самосознание. В развитом теле — развитое самосознание, уверенность в собственных силах и прочая и прочая. Но, к сожалению, в двух случаях из четырех о развитом теле говорить не приходится. Конкретно, в твоем, — кивнул он на Тихоню, — и в твоем, — он сделал шаг в сторону Гнома. — Твой организм, сынок, просто вопиет об отсутствии закалки. Да, да, вопиет. Во всеуслышание вопиет. Так, что уши закладывает.
Шеф, продолжая оценивающе разглядывать упитанную фигуру Гнома, вытянул руку и тыльной стороной ладони небрежно похлопал мальчишку по животу.
— Хорошо идет накопление. Отлично идет, надо признаться, — одобрил он. — Отлично.
Гном, видимо от щекотки, снова захихикал. В горле у Шефа что-то забулькало, но он подавил смех.
— Как с аппетитом, порядок?
Гном, втянув живот, чуть отступил назад. Он не знал, что ответить.
— Ну, смелее, — подбодрил его Шеф.
— Порядок.
— И что же ты любишь больше всего? Наверно, лапшу с маком да со сметаной?
Ученики неуверенно переглянулись. Послышалось несколько неуверенных смешков.
— Хи-хи-хи! — нервно дернулся Гном, корчась от щекотки. — Не-е, больше всего слоеный пирог, — выдавил он наконец.
Шеф убрал руки за спину. Он покачивался легко и свободно, чуть ли не пританцовывая.
— А с какой начинкой, м-м?
— С разной, — пожал плечами Гном.
— А все-таки? — допытывался Шеф.
Глаза у мальчика загорелись.
— Разрешите доложить, с творогом и с капустой, — браво отрапортовал он.
— Из сладкого теста или из подсоленного?
Гном судорожно глотнул слюну.
— Лучше всего из подсоленного, товарищ завпрактикой. И чтоб сметаны побольше. А капустный лучше всего с перчиком. Без перца не то.
— Так, так, так, — закивал Шеф. — С аппетитом, дитя мое, у тебя и впрямь полный порядок.
Гном просиял.
— Товарищ завпрактикой, наверное, тоже не может пожаловаться, — опрометчиво ляпнул он, видимо желая польстить Шефу.
Шишак тихо охнул, и все четверо, словно по команде, вытянулись в струнку. Подросток в страхе зажмурился, сердце у него бешено колотилось, и, казалось, вся дождевая вода преждевременно наступившей осени холодным потоком хлынула ему за шиворот. «Сейчас упаду, — стучало в его мозгу, — сейчас, прямо здесь, на этом месте, упаду, упаду».
Шеф не взвился, не заорал — он заговорил на удивление ровно и спокойно, демонстрируя железное самообладание.
— Да, жаловаться — не в моем характере. Что верно, то верно, ребятки. Потому как в течение всей своей жизни, на каком бы посту я ни находился, я всегда твердо знал, что, когда и зачем нужно делать. Это я могу утверждать с высоко поднятой головой. Без тени колебания. Времена могут меняться, я же собственнолично, а также мои принципы, их суть — никогда! Так что жалоб, дети мои, вы от меня не услышите. Этому не бывать.
Наступило молчание. Напряженное, жуткое. Подросток не помнил, когда открыл глаза, запомнил только, что на смуглом лице Шефа играла обычная недобрая улыбка. Он все еще буравил глазами Гнома.
— Тэк-с, тэк-с. Думаю, растрачивать просто так, понапрасну такие резервы энергии было бы непростительной безответственностью. Транжирить ее бесцельно, вместо того чтобы обратить на пользу какому-нибудь прекрасному или великому делу. Бессмысленно расточать ее на какие-то там… хм… физические упражнения. На прыжки-кувырки. Или, скажем, на бег вокруг мастерской или отжимания от пола. Все это может служить только индивиду, а коллективу, обществу — никакой отдачи. Не так ли?
— Так точно, — хрипло ответил Гном.
— Правильно. — Шеф закачался взад-вперед. — Очень и очень правильно. Самым мудрым и достойным решением будет, если наши физические упражнения послужат и личности, и коллективу одновременно. И так как о примерных масштабах неизрасходованных энергетических ресурсов я имел счастье составить себе представление, то с ходу хотел бы внести одно предложение. Вполне серьезное и разумное. Не угодно послушать?
— Так точно, — ни живой ни мертвый, пролепетал Гном.
— Мое предложение — я особо подчеркиваю, предложение, а не распоряжение, — сводится к следующему. По истечении рабочего времени ты, братец, останешься в мастерской и произведешь генеральную уборку этой самой вот комнатушки. Само собой разумеется… хм… строго добровольно. Это ясно?
— Так точно.
— Возражения есть?
— Нет, товарищ завпрактикой.
Шеф удовлетворенно кивнул:
— Хор-рошо. Коль скоро в общем и целом мы с тобою договорились, ознакомлю с заданием в частностях. Генеральная уборка, как известно, включает в себя: выноску мебели, побелку, мытье окон и дверей, уборку мусора и мытье пола, конкретно — цементного пола. Оборудование и мебель, очистив от пыли, само собой разумеется, следует водворить на место. А утром, в начале смены, я оценю, правильно ли были использованы излишние и, без сомнения, вредные запасы энергии. Договорились?
— Так точно, — подавленно ответил Гном. — Все понял.
— Итак, это твой личный почин. — Шеф поднял палец. — Личный и добровольный!
— Так точно, добровольный.
— Хорошо, — улыбнулся Шеф. — Просто великолепно. Можно сказать, образцовый пример служения интересам коллектива. Такое случается не каждый день. С тем большим удовлетворением мы этот почин принимаем, не так ли? Ну что ж… на сегодня теоретические занятия будем считать законченными. А что касается практической стороны дела, я о ней позабочусь, не беспокойтесь.
Он еще раз окинул взглядом учеников. Все четверо, грудь навыкат, замерли в четком строю, ожидая небрежного жеста, означающего, что все свободны. Но жест запаздывал.
— И вот что, — неторопливо добавил Шеф. — Я хотел бы предупредить присутствующих, что речь шла о добровольной инициативе лишь одного из вас. Всякая поддержка ее, пускай также добровольная, будет расцениваться не как проявление солидарности, а как дисциплинарный проступок. Я считаю, что у остальных излишних запасов энергии, которые можно было бы безболезненно пожертвовать, нет. Это понятно?
— Так точно, — хором ответили ученики.
— Значит, понятно. Разойдись, — махнул он рукой и отвернулся.
Ученики строем, шагая в затылок друг другу, вышли в цех.
За ближайшей машиной Шишак остановился и жестом подозвал остальных.
— Вот скотина, — прошептал он. — Скотина, кретин. Он и со мной этот фокус однажды проделал. Ну и влип ты, несчастный, — взглянул он на Гнома. — Ну ладно, не дрейфь, не оставим тебя в дерьме. Иди работай пока. И держись подальше от нас. А вы, — повернулся он к остальным, — как только я двинусь в клозет, валяйте за мной. Идет?
Тихоня, опасливо оглянувшись по сторонам, молча кивнул.
— Идет, — согласился Подросток.
Стоило ему увидеть сочувственно улыбающееся лицо Мастера, и страха как не бывало. В конце концов, ничего серьезного не произошло. Для них сегодняшний день по сравнению со скандалом в цехе прошел довольно благополучно.
«И ведь все знают, какой он скотина, — досадовал про себя Подросток. — Все рабочие. Особенно молодые, кто у него учился. Хотя, если верить Шишаку, ряды его учеников за последнее время заметно поредели».
— Почему я единственный здесь третьегодок, не знаешь? — спрашивал Шишак у Подростка после работы. — А то, что на втором году никого нет, тебе не кажется странным? Да потому, приятель, что остальные слиняли. Нашли себе другое место — и привет. Ученики нынче не рабы, так ведь? За исключением меня, которого бог наградил таким дубоголовым папашей. Куда, мол, тебя судьба определила, там и держись. Вот я и держусь… Тоже принцип, ничего не скажешь… Но я выдержу. Меня Шеф так просто не вышибет. А вышибет, тогда и ему хана со мной вместе.
Шишак еще никогда так не откровенничал с Подростком. Он вообще с ним не разговаривал. Но глаз с новичка с самого первого дня не спускал. «Теперь все изменится, они меня, наконец-то, примут в свою компанию», — с надеждой думал Подросток, обходя лужи на темных улицах.
Мать против их приключения, обещавшего затянуться до поздней ночи, не возражала. Как и дядя Дюрка, который в ту пору был у них еще частым гостем. Подросток, испытывая щекочущее волнение, вышагивал по темной мостовой.
С Тихоней они встретились на улице Батяи. Шишак поджидал их у мастерской. В цехе было темно и, казалось, безлюдно. Но проверить все-таки не мешало: от Шефа можно было ожидать чего угодно. Они обогнули здание, и Шишак, взобравшись на спину Подростка, заглянул в единственное освещенное окно.
Гном взвизгнул от радости. Он был один, все в порядке.
Трое учеников бегом вернулись ко входу и на цыпочках прошмыгнули в темную мастерскую.
Полный развал, который они застали в конуре Шефа, целиком подтвердил их предположения. Вытащить тяжелую мебель из помещения Гному было не по силам. Без них он вообще ничего не сделал бы.
Шишак взял командование на себя. Закрыв мастерскую, они начали выносить мебель.
— Быстро белить, — втолкнул Шишак Тихоню в полупустое помещение. — В такую погоду до утра не просохнет.
Остальные работали при скудном свете, что падал из раскрытой железной двери. Подросток драил мебель, Гном протирал наглядные пособия и передавал их Шишаку, который тщательно, но невероятно быстро смазывал их машинным маслом.
— Если бы эти проклятые стены высохли, мы бы за два часа управились, — злился он. — Как у тебя, Амбруш?
— Почти готово, — пропыхтел тот.
— На цементный пол, ребятки, навалимся скопом, пока известка не высохла. Потом окно, дверь, и готово. Можно заносить мебель. Меня в свое время лампочка подвела… забыл протереть. Глядите, как бы не повторить оплошность. — И он, презрительно сплюнув, витиевато выругался.
— Потрясная хохма! Потрясная, старики, — радостно прыгал Гном.
Шишак, прищурившись, наблюдал за ним.
— Потрясная, — наконец повторил он презрительно.
— А что, нет? — ликовал толстяк. — Представляешь, придет Шеф утром…
— И что? — снова, впился в него глазами Шишак.
— Да у него челюсть отвиснет.
— Это точно.
— И можно тащить его в комнату смеха. Прямиком! — продолжал веселиться Гном.
— Куда? — не понял Подросток.
— Ты что, не знаешь? — Гном плясал от восторга. — Да где ты живешь, старик?
— В роскошном особняке, — бросил Шишак.
— Да иди ты куда подальше, — обиделся Подросток.
Шишак, в упор глядя на него, заговорил, чеканя слова:
— У Гнома мать санитаркой работает, да будет тебе известно. А комнатой смеха называют в больнице мертвецкую, приятель. Название, если вдуматься, очень меткое. Дело в том, что в подвязывании подбородков персонал расторопностью не отличается. Сначала покойников потрошат, мой дружок. Это ясно?
Подросток почувствовал, что бледнеет. Лоб его покрылся испариной. Он задыхался.
— Как я погляжу, — осклабился Шишак, — с фантазией у тебя порядок, Амбрушка.
Подросток бросился на него.
— Ну и гад же ты, Шишак, ну и сволочь…
— Давай! Вымещай на мне свое неутешное горе, смелее!
Гном вцепился в Подростка, пытаясь его оттащить.
— Ты что — идиот? Ну чего взбеленился? Хочешь не хочешь, а рано или поздно все там будем. Уж можешь поверить… я хожу туда как на экскурсию. Ну и чудак ты, старик!
Подросток его не слышал. Слова Гнома, отскакивая, как бильярдные шары, катились по замасленному полу в угол мастерской и затихали за разбитыми машинами.
— Что, приятель, тошнит? — заиграла на губах Шишака та же самоуверенная улыбка. — Неподходящее ты выбрал себе местечко. Не твоя это компания.
Подросток схватил его за плечо.
— Вы что, одурели? — визжал Гном. — Накроют нас всех, идиоты!
Шишак, стоявший на одном колене, спокойно поднялся и стремительно нанес удар, но на шее у него уже висел Гном, тяжелый кулак скользнул по его спине.
— Фу-у, — отодрав от себя толстяка, вздохнул Шишак и, присев на письменный стол Шефа, ударил в ладоши, будто сбивая с них пыль. — Ну, вроде управились.
— Я тоже, — появился на пороге Тихоня, до неузнаваемости измазавшийся в известке.
Шишак придирчиво оглядел стены.
— Нет, хоть тресни, не высохнет. При нашей жизни, во всяком случае. Так что ограничимся одним разом.
— Ты что, — возмутился Гном, — Шеф мне строжайшим образом наказал…
— Что он тебе наказал? — резко повернулся к нему Шишак.
— Побелить два раза. Непременно. Два раза.
— Чихал я на Шефа, понятно? Думаешь, он толщину известки будет замерять? И вообще, не лезь не в свое дело.
— Вы же пришли помогать, — пожал Гном плечами. — Я не придираюсь… но раз пришли помогать…
— Помогать, помогать, приятель, — ухмыльнулся Шишак.
— Ну?
— А еще для того, — прищурился тот, — чтобы у Шефа отвисла челюсть. Это, ребятки, немаловажный момент! — И, уже наклоняясь за ведрами с чистой водой, продолжил в манере Шефа: — Хор-рошо. План такой, дети мои. Вы начинайте мыть пол, конкретно: цементный пол, от дальней стены, а мы с Амбрушем от порога. И будем сближаться. Возражения? Разойдись! — Он повернулся к Подростку: — Давай, Амбруш, а то не ровен час стемнеет.
Тихоня с Гномом заржали.
— Ну и хохмач ты, старик, ну хохмач, — верещал сияющий Гном. — Уже полночь скоро.
Дверь и окно, казалось, вымылись сами собой. Усталости никто не чувствовал.
Подросток работал покорно и молча — как заведенный. Да, вел он себя по-идиотски, расчувствовался, как дитя. Ну зачем было подставлять себя под удар? И вообще мог бы сразу сообразить, что Шишак всю эту акцию солидарности затеял не только из сочувствия к Гному. Главное для него — насолить Шефу. И как он не понял этого? А впрочем, что изменилось бы? Остаться в стороне он не мог. Другое дело, что после провокации Шишака можно было их бросить без всяких объяснений. А он вот остался, послушно драил пол, потом расставлял по стеллажам наглядные пособия.
Наверное, так и надо было. Ведь от них никуда не денешься — трижды в неделю приходится бывать в мастерской, жить с ними бок о бок.
Поставив на полку последний макет, Подросток отступил и, склонив голову набок, оценивающе оглядел плоды своего труда. Нет, ничего я не потерял, успокаивал он себя, ничего ровным счетом.
— Тэк-с. Поработали мы на славу, ребятки, — подвел итог Шишак.
Тихоня молча заулыбался. «Этот лишний раз рта не раскроет, — подумал Подросток. — Вот и мне не мешало бы помалкивать».
— Что нам осталось? — выпятил грудь Шишак. — Водворить на место орудия труда. И более ничего, дети мои. А времени всего одиннадцать, точнее сказать — двадцать три, если можно верить моему допотопному хронометру, — потряс он часами и убрал их в карман.
— Можно, можно, сынок. Ровно одиннадцать, точнее сказать — двадцать три.
Все обмерли. Шишак медленно повернулся.
На пороге, расставив ноги, покачивался Шеф. Его грузная фигура в этот миг показалась мальчишкам фантастически огромной.
Он посмотрел на мебель, на стены, на серый цементный пол, затем по одному внимательно оглядел учеников. Лицо его было совершенно спокойным. Неужто именно это он и рассчитывал увидеть?
— Хор-рошо, — обычным своим тоном наконец произнес он.
Застигнутые врасплох, ученики только растерянно хлопали глазами.
— Если добрая память не изменяет мне, — улыбнулся Шеф, — не далее как сегодня утром я имел смелость пообещать вам, что под моим руководством все вы — я подчеркиваю: все до единого — с течением времени станете классными специалистами. То же самое я готов повторить и сейчас. Вот только со временем… неувязочка может выйти. Теперь это уже несомненно. — В голосе Шефа вдруг зазвучали растроганные нотки. — Вынужден констатировать, что никто из вас — я подчеркиваю: никто — не достоин того, чтобы закончить курс обучения в положенный срок. Нужно ли говорить, как мне больно в этом признаться. — Он повернулся к Шишаку: — Что это у тебя губы дрожат? Нехорошо. Могу дать тебе добрый совет: прежде чем товарищей к рукам прибирать, научись держать в руках самого себя… Ты хоть и третьегодок, а не надейся: для твоей исключительной личности исключения я не сделаю. Нет, сынок. И деваться тебе некуда — учебный год начался. За лето не успел отсюда перевестись, а теперь уже поздно. Так что придется тебе этот год повторить — не важно, останешься ты здесь или уйдешь. Это ясно? — Он сделал паузу, но Шишак молчал. — Хор-рошо. Ну, как знаешь… Что касается остальных, то им тоже воздастся — не всем сразу, по одному. — Он опять выждал. Никто не пошевелился. — Вот и прекрасно, — кивнул Шеф. — А теперь, чтобы драгоценные ваши родители понапрасну не беспокоились, марш по домам. Прошу, — с нарочитой любезностью посторонился он, пропуская учеников.
Те в немом молчании прошли мимо Шефа. Никому даже в голову не пришло попрощаться с ним. Шагали, как роботы.
— Амбруш, останьтесь, — сказал вдруг Шеф.
Плечи Шишака судорожно передернулись — это было последнее, что заметил Подросток. Гулкие шаги учеников вскоре стихли. Слышался только монотонный, похожий на шорох соломы, унылый шелест дождя.
— Послушайте, Амбруш, — начал Шеф мягче обычного, — вы еще новичок, совсем недавно попали сюда. Прежде-то едва ли вам доводилось бывать… хм… в таких местах. Недолго и под дурное влияние попасть. Тем более если его оказывает третьегодок… или я ошибаюсь? Который к тому же ровесник вам. Ведь так?
Подросток молча потупил голову, и лоб у него покрылся холодным потом.
— Вот видите, — продолжал Шеф, — я не ошибся. Как не ошибусь, если скажу, чего вы сейчас боитесь. Что я буду расспрашивать вас о товарищах. Успокойтесь, не буду. Я своих учеников знаю — наушники мне не нужны. Отправляйтесь-ка вы домой и постарайтесь забыть обо всем, что произошло. А еще могу посоветовать, если, конечно, вы в этом нуждаетесь, — остерегайтесь Шишака. Вот и все, что мне нужно было от вас. И еще: если будете хорошо работать, я вас на второй год не оставлю, вы и так потеряли два года в гимназии, с вас достаточно. Спокойной ночи. — И Шеф посторонился, пропуская Подростка.
— Спокойной ночи, товарищ завпрактикой, — подавленно пробормотал тот и вышел, качаясь как пьяный.
Чтобы не раздражать Шефа, по цеху он прошел размашистым шагом и только во дворе бросился со всех ног. Но ни у мастерской, ни за воротами никого не было. Дождь как будто приутих, неоновый свет вывески холодно и серебристо мерцал сквозь его стеклянные нити. Мокрая асфальтовая дорожка казалась огромным сплошным зеркалом, с которого дождь смыл все следы. Подросток помчался дальше.
На мосту он перевел дыхание и посмотрел вниз: обсаженная декоративными кустарниками площадь напоминала обмелевшее море, а освещенное изнутри приземистое здание автобусной станции — корпус севшего на мель корабля. В зале ожидания тоже никого не оказалось — те трое, выходит, удрали. Бросили его.
* * *
Наутро он долго боролся с соблазном вообще не идти в мастерскую. Мать могла бы устроить справку от врача, она сделала бы это, наверное, даже с готовностью. Но рано или поздно, размышлял Подросток, ему все равно придется встретиться с ними и взглянуть им в глаза. Почему бы не сделать это сегодня? В конце концов, Шеф его ни о чем не расспрашивал, а если бы и расспрашивал, все равно ничего не добился бы. Сколько времени он следил за ними из темноты? Ясно — открыл мастерскую своим ключом и, наверное, наблюдал за спектаклем, удобно устроившись в какой-нибудь из машин. Нет, троица не может его ни в чем заподозрить, что они, сами не понимают? — поспешно одеваясь, подбадривал себя Подросток.
Дождь кончился. Сквозь тающую дымку на бирюзово-сером небе пробивались первые лучи солнца. Тяжелые капли скатывались вниз по желобкам кое-где уцелевших понурых осенних листьев.
Как-нибудь образуется, успокаивал себя Подросток. Но шаги его становились все неуверенней, а дойдя до ворот мастерской, он уже едва переставлял ноги. Перед входом он растерянно остановился.
Заметив Подростка, трое учеников, поджидавшие его в дверях, заулыбались и дружно замахали руками.
Шишак шагнул ему навстречу.
— Здорово, приятель. Что, досталось тебе вчера от старика?
— Да нет, — смущенно пробормотал Подросток и не очень уверенно добавил: — Отделался легкой головомойкой.
Шишак обнял его за плечи. Сам Шишак! Ну и дела…
«Значит, все-таки стоило», — думал он, ощущая внутри приятный холодок. Страхи рассеялись, один-единственный жест сделал их смехотворными.
— Так, так. Но… ты не жалеешь?
— О чем? О вчерашнем?
— Ну да.
— Нет. Ни капельки. Ведь мы все… заодно, так ведь?
— Это верно, — согласился Шишак, обращаясь, как показалось Подростку, не столько к нему, сколько к тем двоим, — теперь мы все заодно.
Они подошли к остальным.
Гном пустился вокруг них в пляс, к нему, ухмыляясь, присоединился Тихоня.
— Потрясная была хохма, а?
— Радуйся, радуйся, пока жив, — мрачно скривился Шишак.
— Так ведь как мы его охмурили! — не унимался Гном.
— И что с того?
— Что с того, что с того. Охмурили!
В мастерскую неуверенно заглянуло раннее солнце, под прохладными пальцами его лучей все вокруг радужно засияло, у Подростка будто камень с души свалился — он почувствовал себя почти невесомым и наконец-то по-настоящему облегченно вздохнул.
— Охмурить-то охмурили, только… за это он всех нас вышибет, — поеживаясь, сказал Шишак, — как пить дать, вышибет.
Подросток вздрогнул:
— Да разве это возможно?.. По-моему, он одумается…
— Ну не скажи, — кисло усмехнулся Тихоня, — слово Шефа — закон.
— Теперь нам терять нечего, — вполголоса размышлял Шишак. — Уж если он кого-то задумает оставить на второй год, так и будет. Перво-наперво он разделается со мной. Ведь я на последнем году. А вы летом сможете подыскать себе другого наставника. — Он рассмеялся: — Так что нам всем терять нечего. В гробу мы его видали.
— Ура! — заорал Гном. — Тогда мы устроим ему еще пару концертов.
— Устроим. Одно, но большое, незабываемое представление. Если мы действительно заодно. — И Шишак глянул на Подростка. — Если мы все как один. Нет, это будет не дисциплинарный проступок, как он сказал бы… не детские шалости, от которых старый прохиндей готов лезть на стену… — Он, не отрываясь, глядел на Подростка. — Нет, я совсем над другим размышляю.
— Да ты что говоришь! — ужаснулся Подросток. — Разве он потерпит?
Гном расхрабрился:
— Я бы его заживо ободрал, честное слово! И солью посыпал. Я где-то читал…
— И не пожалел бы? — усмехнулся Шишак. — Неужто не жалко беднягу?
— Мне? Ничуть.
— Так ведь он загнулся бы, — отчетливо, с наслаждением произнес Шишак.
— Он того и заслуживает!
— А по-твоему? — посмотрел Шишак на Тихоню.
— По-моему, тоже.
— Присоединяюсь, — засмеялся верзила. — Именно этого он и заслуживает, чтоб ему пусто было! А ты как считаешь? — повернулся он к Подростку.
Тот, оглядев веселые лица, решил: это игра. И улыбнулся:
— Я — так же.
— Итак: смерть ему! — затрясся Шишак в довольном смехе.
— Смерть, смерть, смерть! — радостно прыгал Гном.
— Будем милосердны, — скривился Шишак, — выберем ему легкую и быструю смерть. Никакого свежевания, соления и прочих истязаний… Какие будут предложения?
— Дубиной ему по башке, — осторожно высказался Тихоня.
— Добрячок, — ткнул Гном его в бок. — Лучше обухом садануть.
— Да, с фантазией у вас слабовато, — покачал головой Шишак. — Ну, давай, говори ты!
Подросток, натянуто улыбаясь, пожал плечами. «Ерунда, — думал он, — просто глупая шутка. Они меня приняли в свою компанию, так что я должен радоваться. Собственно, я и радуюсь, только…» Шишак смотрел на него выжидающе.
— У меня тоже фантазия небогатая.
— Понятно, — кивнул Шишак. — Но приговор тем не менее вынесен.
Все трое заржали.
— Чин чином, — сказал Тихоня.
— Единогласно. — Шишак поднял палец.
— Вот так хохма! Потрясно! — ликовал толстяк. — Смерть! Здорово, старик?
Шишак обнял Подростка за плечи.
— Как ветеран, — заговорил он, — хотел бы внести предложение насчет дальнейшего. Хохмить так хохмить! Тащи мою фуражку, Гном. Только осторожно, в ней четыре яичка. Смотри не разбей!
Снова грянул восторженный хохот. В фуражке белели четыре свернутых в трубку бумажки.
— Отныне ты мой флигель-адъютант, приятель, — повернулся Шишак к Подростку. — Первый флигель-адъютант! Будешь держать.
Подросток с глупой ухмылкой взял в руки фуражку.
— Итак, — Шишак сделал широкий жест, — приговор вынесен, друзья. Кто приведет его в исполнение?
— Брось дурачиться, — попытался остановить его Подросток. — Это уж слишком, ты не находишь?
— Кто сорвет нашу хохму, того пустим в расход, — прищурился Шишак.
— Правильно! — подхватил Гном.
— Тихо. В фуражке, как видим, покоятся четыре бумажки. Три из них чистые, четвертая помечена крестиком. На счастливого обладателя последней будет возложена благородная миссия, а именно исполнение приговора. Прошу, — махнул он Гному и Тихоне, — можете тянуть.
Оба вытащили по бумажной трубочке. Следующим в фуражку запустил руку Шишак и поспешно отошел в сторону.
Подросток посмотрел сначала на них, потом на оставшуюся бумажку.
— Тебе повезло, даже тянуть не пришлось, — снисходительно сказал Шишак. — Ну, давайте смотреть.
Подросток стоял в растерянности, в одной руке сжимая потертую кепку, в другой — свернутую бумажку. Трое учеников вокруг него заговорщицки переглядывались. Наконец он набросил фуражку на голову Шишака, медленно развернул клочок бумаги и остолбенел: в глаза ему бросился нацарапанный простым карандашом корявый крест.
Те трое, покатываясь со смеху, размахивали чистыми полосками бумаги. Гном тщательно разорвал свою и с преувеличенно живой радостью прищурился на Тихоню, как бы призывая его сделать то же самое. Подросток подозрительно глядел на их лица, на плавно кружащиеся в воздухе бумажные обрывки. Что-то тут было нечисто, он готов был поклясться в этом. Его как-то надули… но как? И зачем?
— Качать его! — по-дирижерски махнул рукой Шишак.
Как Подросток ни отбивался, его подхватили на руки и стали подбрасывать.
— Виват! Виват! Виват! — разносилось по пустой мастерской.
Все поплыло у Подростка перед глазами. Утренние лучи холодно скользили по его побледневшему лицу. Когда он снова коснулся ногами земли, Шишак, придерживая его за плечо, сказал:
— Даем тебе три месяца, приятель. Целых три месяца. Ясно? — И он самодовольно ухмыльнулся.
— Фантазии у вас хватает, — ошалело хлопая глазами, пробормотал Подросток. — Это уж точно…
— Надеюсь, у тебя тоже, — оборвал его Шишак. — И не только фантазии, но и храбрости. — Все трое переглянулись. — А если не хватит, то мы добавим. Это я обещаю.
— Ну и хохма! Потрясная хохма! — заверещал Гном. — Просто потрясная!
В последнее время Мать снова частенько задерживается на работе, почти каждый день. Она ходит своей прежней упругой и твердой походкой. Глаза тепло светятся, черты лица смягчились. За мягкостью этой угадываются не усталость или растерянность — скорее, умиротворение. По вечерам Подросток с надеждой прислушивается к скрипу парадной калитки и быстрым шагам Матери по каменным плиткам двора. Но других шагов — легких, уверенных — он ждет напрасно.
Мать молчит, теперь уже не обиженно и горестно, а будто скрывая что-то.
Однажды она задержалась на весь вечер.
— Мне очень жаль, — нервно вибрировал в телефонной трубке ее голос, — очень жаль, сынок, но сегодня… мне придется поужинать с коллегами. Служебное мероприятие.
— Хорошо, Мама.
— Но ты не сердишься?
— Самое время. С какой стати я должен сердиться!
— Что ты имеешь в виду? — насторожилась она. — Чему время?
— Тебе отдохнуть и немного развлечься.
Мать долго молчала, в трубке слышно было только ее учащенное дыхание.
— Алло, Мама.
— Слушаю, слушаю, — поспешно откликнулась она. — Понимаешь, я не хочу их обижать.
— Ну понятно.
— Я уже не могу ссылаться… Прошло столько времени… Два года…
— Все верно. А за меня не беспокойся, приятного вечера. Тебя дождаться?
— Если хочешь. Я постараюсь освободиться как можно раньше.
И действительно, вернулась она довольно рано и вопреки ожиданиям Подростка одна. Но все же своих чувств она скрыть не могла — Мать и прежде не умела их скрывать, грустные или радостные, они всегда написаны у нее на лице.
Утром Подросток заметил на стеклянной полочке в ванной исчезнувший несколько месяцев назад перстенек.
И сразу повеселел.
Он понял молчание Матери: разве взрослые могут объяснить мальчишке причины своих размолвок? Но дядя Дюрка — в этом можно не сомневаться — непременно придумает что-нибудь.
Золотое кольцо на левой руке Матери уже не кажется таким сиротливым. На посветлевшее, нежное лицо ее хочется смотреть не отрываясь, хотя его выражение, как и кольцо, заставляет вспомнить Отца. Подросток расплывается в смущенной улыбке: он не понимает себя. Вот ведь странное человек создание: никакими разумными законами его чувства не объяснимы.
Взять хотя бы улыбку Эстер. Она гаснет так же неожиданно, как и вспыхивает. Собственно, окончательно она никогда не угасает. Эстер — кремень, а не девчонка: минул март, идет уже апрель, а ее даже в парк можно вытащить разве что на десять минут. Качнутся раз-другой на качелях, и ее уже след простыл — укатила на своем велике. Эстер любит огромные вековые деревья, не то что другие девчонки, которые с визгом бросаются за кусты — собирать цветочки. Крепкий она человечек, пожалуй, даже слишком. Во всяком случае, по сравнению с Матерью. Но это как раз хорошо, потому что те трое упорно висят у них на хвосте и отделаться от их преследования никак не возможно. Поначалу Эстер держалась геройски, но теперь, завидя компанию Шишака, она тоже вздрагивает. Те гоняют за ними на велосипедах или вырастают вдруг перед носом где-нибудь в узком переулке — слыша их пошлые замечания, девчонка бледнеет.
Она не спрашивает, что им, собственно, нужно от Подростка. Но он знает, что должен ей все объяснить, должен сказать правду.
Однако это объяснение приходится отложить — неожиданная отсрочка дается ему дорогой ценой, и все же Подросток испытывает облегчение.
* * *
В конуре Шефа начался очередной «семинар». Четверо учеников стоят ровной шеренгой, вытянувшись в струнку. На столе, небрежно брошенные одна на другую, лежат четыре тетради.
За окном бушует весеннее солнце, пригревая жаркими лучами зеленые комочки листьев на ветках. Словоизвержения Шефа Подросток слушает вполуха. Он видит, как, переваливаясь с пятки на носок, мерно покачивается грузное тело, ощущает бессильную злобу остальных, обжигающую ему лицо, но старается думать о другом. О молодой траве, весело зеленеющей во дворе, о вздувшемся от талой воды канале, о ждущих пылесоса коврах в гостиной, покрывшихся за неделю серым налетом пыли. О чем угодно, только не о занудных, пропитанных желчью словах Шефа, в которые он не может больше ни вслушиваться, ни вдумываться.
— Вы тоже не исключение. — Глаза Шефа устремляются на Подростка.
— Так точно, — отвечает он машинально.
— Не думайте, что я всех стригу под одну гребенку. Но даже ваши чертежи, к сожалению, не во всем безупречны.
— Так точно.
— Правда, некоторые меня удовлетворяют, но, раз уж на то пошло, нечего их жалеть. Несколько эскизов роли не играют. Вы согласны?
— Так точно, товарищ завпрактикой.
— Вот видите, — кивает Шеф, — вот видите, придется все переделать, от первого чертежа до последнего. Весь материал за год — чистенько, аккуратно, без единой помарочки.
Он не спеша, по одной, берет в руки тетради и надрывает со стороны корешка. Подросток следит за ним, холодея от ужаса.
— Прошу получить, — подходит к ним Шеф. — Срок сдачи новых тетрадей первое мая. Это праздник труда, ребятки, вот и отметите его, как положено, трудовыми подарками. Все свободны.
Подросток выходит в цех, чувствуя затылком жаркое дыхание Шишака. Толстую тетрадь он несет осторожно, чуть отстранив от себя, будто впервые видит ее.
С самого утра атмосфера в мастерской накалена: молодой рабочий, что постоянно бунтует против Шефа, как будто сделал тому какое-то замечание. Подробностей этой истории Подросток не знает — он пришел сегодня поздно, едва не опоздав. И вот теперь все взгляды обращены на учеников, рабочие — даже Мастер — замерли в ожидании.
Шишак бросает тетрадь на капот.
— Все заново переделывать, — злобно шипит он, — весь материал за год — псу под хвост!
— Это правда? — глядит на Подростка Мастер.
Тот пожимает плечами: ну и черт с ним… он сделает. Будет работать, не смыкая глаз, и сделает раньше других… хоть оставят его на несколько дней в покое. Как проклятый будет вкалывать — что-что, а чертить он умеет. Мать против ночных бдений, конечно же, возражать не будет. Будет варить ему кофе, крепчайший кофе, и радоваться, что видит, наконец-то, своего прежнего сына. Усердного и признательного.
Голос Мастера прерывает его размышления.
— Ну хватит, — говорит он спокойно, — сколько можно терпеть.
Под одобрительный гул рабочих Мастер направляется к конуре Шефа, трижды стучит в кованую дверь и только потом открывает ее.
— Выйди-ка на минутку, товарищ завпрактикой.
— Я работаю, — слышится пренебрежительный ответ.
В мастерской воцаряется напряженная тишина.
— И мы работаем, к тому же по норме в отличие от тебя. И все-таки мы тебя просим, потрудись выйти.
— Еще чего!
— Ладно, — после некоторого молчания говорит Мастер. — Придется сходить за директором, но к нему я пойду не один.
— Пацаны никуда не пойдут!
— Ясное дело, ученики останутся. Пока что без твоего разрешения, товарищ завпрактикой, из мастерской они отлучаться не могут. Только ты не подумай, что я обращаюсь к тебе за разрешением, такой чести ты от меня не дождешься, товарищ завпрактикой. Не забудь, все мы тут — равноправные труженики, что ты, что любой другой из взрослых рабочих. Оно конечно, учениками командуешь ты, но они с нами и не пойдут, не беспокойся. Хотя я на твоем месте побеспокоился бы.
Слышно, как в конуре раздувается мощная грудь Шефа.
— Чего надо-то? — спрашивает он.
— Выйдешь, тогда и поговорим.
С этими словами Мастер поворачивается и неторопливо возвращается к остальным. Те уже собрались и стоят неподалеку плотным полукольцом.
Шеф наконец появляется в дверном проеме и, расставив ноги, замирает на пороге.
— Ну что ж, — хладнокровно, с апломбом начинает он. — Почтенный коллектив, разумеется, не вправе отвлекать меня от трудов. Но дух коллективизма мне тоже не чужд, отнюдь. — Рты рабочих невольно растягиваются в улыбке, похоже, речь Шефа их забавляет. — Н-да. Он во мне не иссяк, уважаемые коллеги, и смею заверить, что у вас мне его занимать не придется. Так в чем дело?
— Отмени наказание, которое ты назначил ученикам. Подумай как следует и отмени, — говорит Мастер.
— Хотел бы напомнить: методы обучения и воспитания я выбираю сам, без помощи посторонних, — категорическим тоном заявляет Шеф и уже собирается скрыться в своей конуре, но голос молодого рабочего останавливает его.
— А ну погоди-ка! — кричит парень. — Может, все-таки объяснишь, зачем пацанов уродуешь?!
— У-ро-дую? — Шеф пораженно обводит глазами рабочих. — Это что-то новое, коллеги. — Взгляд его застывает на парне. — Очень жаль, но лично с вами, мой юный друг, мне разговаривать не о чем. Вам понятно?
— Послушайте, уважаемый, — багровея, кричит ему парень, — если вам так уж нравится, я могу и на «вы», мне плевать… Вам ведь прежде не с нашим братом приходилось общаться. Повыше летали… Правда, с этих высот, насколько я знаю, вас турнули под зад коленкой!
— Не о том сейчас речь, — пытается унять его Мастер.
— А вот и о том. Слава ваша, уважаемый, раньше вас тут была. Уж можете не сомневаться, наслышаны мы о ваших делишках, знаем, что вы за птица.
— Не будем начинать от Адама, — нетерпеливо обрывает его Мастер. — Пускай отменит наказание, и дело с концом.
— Отмени, не упрямься, — примирительно говорит кто-то из пожилых рабочих. — Не убудет тебя от этого.
— Так, значит, к первому мая, ребятки, — улыбается Шеф. — Не забудьте, к первому мая, — повторяет он и, отступив, бесшумно закрывает за собой железную дверь.
— Ну, что я говорил! — взрывается парень. — Я вам сразу сказал!
Шишак бледен как полотно.
— Переделывай не переделывай, а мою он не примет. Знаю я, к чему он ведет.
— А ведь ты, сынок, его лучший ученик. Самый способный. Во всех отношениях, — потухшим взглядом смотрит на Шишака Мастер. — Пошли, ребята. — И мрачно идет к выходу.
Подросток, цепенея, смотрит вслед уходящим рабочим. Он знает: можно успеть еще выскочить на улицу, во двор, забиться в какой-нибудь угол, бежать из этого маслянистого, давящего полумрака, но Шишак, засунув руки в карманы, уже двинулся к нему неторопливыми вихляющими шагами. Двое других застыли на месте. Тихоня испуганно ухмыляется, Гном судорожно двигает кадыком.
— Теперь будет достаточно просто сбить его с ног, приятель. Или врезать разок как следует. На худой конец огрызнуться. Только при всех. При всем народе. При директоре, ясно? — Он выждал и угрожающе добавил: — Решайся. Иначе откинешь копыта, приятель. И девчонка твоя заодно. Не думай, о ней мы тоже не забудем.
Подросток, избегая глядеть на Шишака, косит на железную дверь. Но она не открывается. Все вокруг замерло, как в стоп-кадре, только лихорадочный взгляд Гнома мечется между двумя учениками. Наконец, скрипя зубами, Подросток с трудом поднимает глаза на Шишака.
— Гнида, — отчетливо, громко и почти сочувственно говорит он. — Гнида, — повторяет и наклоняется за промасленной ветошью.
Он изумленно следит за спокойными, уверенными, автоматически точными движениями своих рук: он работает. И, как свою собственную, ощущает беспомощность Шишака, его страх, копившийся годами и пропитавший каждую его клеточку, — сам он уже ничего не боится.
Шишак, еще минуту назад грозный Шишак с жалким видом, озлобленный, отходит в дальний конец мастерской, где все трое, сгрудившись, о чем-то шушукаются. Подросток оглядывается на них, улыбается, работает дальше.
Но вот возвращаются рабочие. На триумфальное их шествие не похоже — они расстроенно шаркают ногами. Мастер с мрачным лицом молча берется за работу. Остальные стоят в нерешительности.
— Ну что, пацаны, — говорит молодой рабочий, — слинял наш директор. Минимум на три дня: на курсах его подковывают. Так вот почему старый хрен-то такой спокойный, — кивает он в сторону железной двери. — Но ничего, это ему так не пройдет.
— Ну ладно, — одергивает его Мастер. — Зачем ребят будоражишь? Обождать надо, а там уж посмотрим, как оно будет. Тремя днями больше, тремя меньше — для такой работы роли не играет.
Подросток скользит взглядом по лицам и снова улыбается: минутное воодушевление. Прогорит, как солома. Как спичка сгорит.
Железная дверь медленно и бесшумно открывается, и на пороге вырастает грузная фигура Шефа. Он самодовольно покачивается, переваливаясь с пятки на носок.
— Беритесь за дело, не откладывая, ребятки. Даю вам отеческий совет, — возвещает он с таким спокойствием, что кровь стынет в жилах.
Все молчат. Шеф невозмутимо стоит в дверях. Наконец задиристый парень не выдерживает и, согнув руку в локте, делает красноречивый жест.
— А это видал, уважаемый?
Мастерская оглашается взрывом хохота. Мастер неодобрительно хмурит брови, но рабочих это не останавливает, они продолжают смеяться.
— Ну, с вами мы еще разберемся, — дождавшись, пока утихнет смех, хладнокровно говорит Шеф. — Это подстрекательство, да будет известно вам, друг мой. Ваши речи и действия нельзя расценить иначе как подстрекательство.
— Расценивайте на здоровье! А вот ваши живодерские действия как прикажете расценить?
— От моего воспитания эти юнцы не подохнут. Зато вас, коллега…
Мастер делает шаг вперед. В поднятой руке Мастера замирает разводной ключ, потом медленно опускается и со звоном падает на цементный пол.
— Не подохнут? Да легче подохнуть, чем вынести твою дрессуру, уважаемый товарищ завпрактикой. Вот ты, к примеру сказать, в полировке, в окраске толк знаешь, а жестянщик, не обессудь, из тебя никудышный. Возьмешься выправить вмятину — только напортишь. Так и с людьми: попадет в твои руки кто — так ты гнешь его, ломаешь, увечишь вместо того, чтобы выправить. И, что хуже всего, ты и сам-то не осознаешь, что творишь. Во всяком случае, так мне сдается…
Шеф побагровел, на шее у него вздулись узловатые жилы. Он силится сказать что-то в ответ, но Мастер, проворно нагнувшись, поднимает разводной ключ и, размахнувшись, стучит железом о железо.
— Пошли работать, ребята, — машет он остальным.
Грохот стоит невообразимый, не слышно даже, как захлопывается за Шефом кованая дверь его конуры.
Но вот шум стихает, и рабочие расходятся по местам со странным, им самим не понятным, щекочуще-радостным ощущением.
Только Шишак стоит в общей толчее, беспомощно опустив руки.
— А с нами-то как? — озлобленно выкрикивает он. — Что с нами теперь будет?
Мастер не спеша распрямляется и, ощупывая поясницу, внимательно глядит на ученика.
— Работай, сынок. Остальное тебя не касается.
Шишак нервно скрещивает руки и, покачиваясь на манер Шефа, с едкой горечью усмехается:
— Меня, значит, не касается. Интересненько! Настропалили человека, втравили в скандал, а потом — его не касается. Да ведь речь о моей шкуре, перво-наперво о моей. Мне последний экзамен сдавать в этом году. Мне… — Шишак умолкает под пристальным взглядом Мастера.
— Ты бы лучше руками работал, а не языком, — замечает спокойно Мастер и отворачивается.
В смотровой яме стоит почти полная тишина: звуки, спотыкаясь о края ямы, скатываются вниз по бетонным стенкам и испуганно замирают. Работа здесь, может быть, чище, чем наверху, но зато тяжелее. У Подростка быстро затекает шея, работать на ощупь пока не получается, все его внимание сосредоточено на шасси. Но ему здесь работать нравится. Если уж не с Мастером, то лучше всего в смотровой яме, одному. Машина его не обидит, она ему подчиняется, послушно роняя в подставленную ладонь отслужившие свой срок детали. Машины вообще создания добрые, благодарные и покорные.
Сверху, неуверенно нащупывая ступеньку, в яму просовывается короткая пухлая нога, и по лестнице, забавно вихляя задом, осторожно спускается Гном. Толстяк запыхался, бусинки глаз оживленно блестят.
— Удивляешься? — шепчет он. — Удивляешься, что я пожаловал сюда, верно?
— Нет, — отвечает Подросток. — Ничуть.
Гном недоумевает.
— Брось трепаться, Амбруш. Я же знаю, что ты удивлен. На твоем месте я тоже удивился бы.
— А я нет, — говорит Подросток. — Но если тебе так хочется, могу разинуть рот.
— Потрясно! Вкалываешь тут как ни в чем не бывало…
— Ага, — отвечает Подросток.
Гном глубоко вздыхает.
— А я к тебе с этой… ну как ее… с миссией.
— Да что ты говоришь? — улыбается Подросток.
— Точно, с миссией. Потрясно, а?
— В самом деле, — соглашается Подросток, тщательно протирая карданный вал.
Гном переминается с ноги на ногу.
— Ты, конечно, догадываешься, кто меня послал, — выдавливает он из себя.
— Представления не имею.
— Брось дурачиться, знаешь не хуже меня.
Подросток упорно хранит молчание. На Гнома он не глядит, работает.
— Слушай, Амбруш… Меня прислали сюда. За тобой, понимаешь?
— Это я уже слышал.
— Шишак прислал.
— Ну.
— Что, тебя не волнует?
— Как видишь.
— Потрясно. Старик, я с такими еще не встречался. Что, действительно не волнует?
— Действительно.
Гном почесывает переносицу.
— Велел передать: ты должен что-нибудь сделать. Иначе хана тебе.
Подросток молчит, улыбается.
— Ну что ему ответить? — раздраженно спрашивает толстяк.
— А что хочешь, — говорит Подросток. — Что придумаешь, то и скажи, приятель.
Гном напуган.
— Старик, меня Шишак по стене размажет. Ну скажи, что ему передать?
— Ладно. Передай, что ответа нет. Мол, так и просил сказать.
Гном придвигается к нему вплотную и шепчет взахлеб:
— Слушай, Амбруш. Он труханул. Не на шутку — Шеф теперь его срежет, как пить дать. Сначала его. А что будет потом, неизвестно. Но Шишака срежет, это факт. Это ясно всей мастерской. Шишаку крышка.
Ветошь снова приходит в движение, очищая вал. Подросток на Гнома даже не смотрит, а тот тараторит:
— Старик, не дури. Жребий выпал тебе, какие могут быть разговоры? Твой отец был судьей… уж как-нибудь тебя выгородят, старик. Мать тебя не оставит, у нее знакомые, связи, ведь тек? А у нас, старик, никого. Если ты разок врежешь Шефу, он слетит. Понимаешь, о чем разговор? Мы отделаемся от него.
Подросток наконец опускает глаза на Гнома. Толстяк краснеет.
— И вообще, жребий вытянул ты, не так?
— Вытянул, — не сводя глаз с Гнома, отвечает Подросток. — Только вы знали, что эта бумажка достанется мне. Верно? И задумали это ради хохмы, еще в сентябре, через несколько дней после того, как я сюда поступил. Или нет?
Гном растерянно переминается.
— Старик, я же тут ни при чем. Меня Шишак по стенке размажет. — Он почти умоляет: — Разок врежешь, и хватит. Ну сделай же что-нибудь! Сделай, Амбруш, иначе… того… — Он вдруг умолкает.
— Что иначе?
— Не сделаешь — Шишак возьмется за девчонку. Ну, эту твою…
Ветошь в руке Подростка оживает и обезумевшей, разъяренной птицей врезается в лицо Гнома. Толстяк взвизгивает и, ощупью отыскав лестницу, бросается со всех ног наверх.
Подросток сидит в углу ямы на корточках. Размышляет. Шеф, уж если он что-то решил, на попятную не пойдет. И, как бы рабочие ни возмущались, а задание им, ученикам, придется выполнить. Да и кто знает, может, через три дня от их возмущения не останется и следа… Есть дома журнальный столик со стеклянной крышкой. Если осветить его снизу, можно запросто копировать чертежи, от руки обводя контуры карандашом. Конечно, потом нужно все обвести по линейке, это гораздо дольше, но зато никаких расчетов. С расчетами у него все в порядке — дядя Дюрка в свое время их проверял… половину по меньшей мере. Сколько всего чертежей?.. Сто?.. Сто двадцать? Если копировать, можно дня за четыре управиться. Ну за пять. А остальные пускай корпят… им и к маю не сделать. Не до того будет, чтобы ходить за ним по пятам — хоть отдохнет от них… Что ждет Шишака? Пожалуй, на второй год его все-таки не оставят, как-никак выпускник. Осталось два месяца… а там? На следующий год не будет Шишака. Эти два месяца надо как-нибудь продержаться. Во что бы то ни стало продержаться.
Что касается Эстер, она вряд ли его осудит. Эстер — понятливая. По вечерам во время его четырехдневного затворничества они, как обычно, будут общаться по телефону. А потом все изменится. Все, все будет по-другому.
Мать безропотно собирается в магазин. Наблюдая за странными приготовлениями Подростка, она покачивает головой, но все же стирает пыль со старого столика.
Подросток оправдывается:
— А что, я ведь сделал однажды как полагается, — бормочет он, не зная, куда девать руки, которые то сжимаются в кулаки, то разжимаются.
— Понимаю, сынок, я все понимаю, — вздыхает Мать, и глаза ее затуманиваются.
— Ты сердишься? — сдавленно спрашивает он.
— Да нет. То есть… сержусь, но не на тебя. На эту проклятую жизнь, Петер.
— Если тебе неприятно, я…
Мать не слышит его.
— На эту проклятую жизнь, — устало повторяет она, — в которой обманывать и обманываться все еще так естественно… Даже дети должны учиться изворачиваться, ловчить… Кошмар.
— Ну хочешь, я сделаю все заново? — с опаской смотрит Подросток на Мать.
— В том-то и дело, что не хочу, — усмехается она. — Даже я не хочу. — И Мать, наклонившись, чуть касается его лба губами. — Ну, ловчи. Ты ведешь себя умно.
И Подросток старается, налаживает свою «установку».
Завтра с утра он в училище. В половине второго рванет домой и к вечеру, если все пойдет, как задумано, пожалуй, управится с копировкой, вчерне. А обводить уже будет не торопясь, засиживаясь хоть до глубокой ночи. Может быть, добровольное заточение даже удастся несколько сократить. Директора не будет еще два дня. Впрочем, не все ли равно? Ведь Шеф от своего решения ни за что не отступится, как бы рабочие ни настаивали. Нет, на попятную он не пойдет. Да и тетради-то порваны, в училище их не зачтут, даже если подпишет Шеф. Так что деваться некуда.
* * *
В мастерской все спокойно. Необычно спокойно.
Шишак не замечает сегодня Подростка, глядя на него как на пустое место. И злости в глазах что-то не видно. Подросток удивлен, но старается не думать об этом. А после работы, вскочив на велосипед, несется во весь опор домой, проглатывает второпях обед и пристраивается к журнальному столику.
Немую тишину квартиры неожиданно разрывает телефонный звонок.
Раздраженно отложив карандаш, он снимает трубку.
— Алло, Мама?
— Привет, сынуля, — смеется на другом конце провода Эстер. — Что поделываешь?
— О, — смущается он, — прости. Я думал, мы вечером созвонимся.
— Работаешь?
— Да. Конечно. Как проклятый!
— Слушай, Петер. Наши общие друзья весь вечер вчера ошивались у моего дома. — Голос девчонки чуть заметно дрожит. — Интересно, что им надо?
— Я… я… не знаю, — заикается Подросток. — Эстер, я думаю… Кто их знает. Наверно, затеяли какую-нибудь идиотскую шутку. Не первый случай.
— Да… не первый.
— Сиди дома. Не вздумай выходить на улицу.
— Хорошо, — вздыхает Эстер. — А им что, чертежи переделывать не нужно?
— Они директора ждут: его сейчас нет. Надеются, что он отменит задание… Или на что-то еще надеются, не знаю.
— А ты?
— Я? Я не надеюсь. Ничего он не отменит.
Эстер молчит.
— Алло, куда ты пропала? — нетерпеливо кричит Подросток.
— Я здесь, — откликается Эстер.
— О чем размышляешь?
— Ты не думаешь, что вам… надо бы объединиться? Или всех, или никого. Во всяком случае, мне…
— Умоляю, послушай. — Подросток в отчаянии. — Я сам знаю, что надо бы. Только это исключено… Придет время, ты все поймешь… Ты же видишь, они задираются, не дают нам проходу, ведь так? Они кое-что задумали, если хочешь знать. Хотят вынудить к одной вещи.
— Меня?
— Да нет же. Меня. Только… я не иду на это. Ни в какую.
— Ты что, спятил?
— Рассказать тебе — ты не так удивилась бы! Не высовывайся несколько дней из дома. Только в школу. Договорились?
— Что-то потрясающее! — удивляется Эстер. — Закончишь свою ерунду, расскажешь?
— Расскажу.
— Слово даешь?
— Ну, даю. Но и ты обещай…
— Хорошо, — говорит девчонка. — За исключением сегодняшнего вечера.
— Никаких исключений!
— Мы с мамой идем в кино. Рано. На шестичасовой сеанс.
— Но одна — ни ногой. Обещаешь?
Эстер уже забавляет все это.
— Одна никуда не пойду. Ни за что на свете! Честное слово, какой-то фильм ужасов!
— Вот именно, что фильм ужасов, — начинает злиться Подросток.
— Ладно, не обижайся. Завтра в семь созвонимся.
— Я тебе раньше позвоню. И, ради бога, будь осторожна.
— Непременно, — смеется девчонка. — В общем, сегодня вечером я в кино, поэтому и звоню.
— Только поэтому?
— А то ты не знаешь, что не только.
— Тогда хорошо.
Эстер кладет трубку. Он задумчиво возвращается к столику и снова берется за дело, попеременно орудуя то ластиком, то карандашом. Работа сегодня движется дьявольски медленно.
* * *
В мастерской по-прежнему тихо — теперь его избегает вся троица. Что-то новое появилось в их поведении, они прячутся по углам, переглядываются. У Гнома подрагивает подбородок. Подростка бьет странный озноб, будто от холода; стучат зубы. Он еле шевелится, руки не слушаются: вчера просидел до глубокой ночи. Кованая дверь Шефовой конуры закрыта. Взрослые заняты своими делами. Только Мастер внимательно следит в это утро за учениками.
— Устал? — около полудня спрашивает он Подростка.
— Немного.
— Тогда вот что. Отправляйся сейчас в гараж, что на улице Хид, спроси Какони. И скажи, пусть зайдет ко мне вечером.
Подросток бросает работу, вытирает руки.
— Да, — совсем близко подходит к нему Мастер, — оттуда можешь не возвращаться. Лучше домой иди, отоспись.
— Спасибо, но…
— Посылаю — значит, иди. Ответственность беру на себя.
* * *
На улице Хид даже летом всегда прохладно, а в эту пору совсем промозгло и сыро, и Подросток зябко поеживается. Дома здесь, напившись грунтовых вод, в мокрых пятнах по самые крыши, стоят, как хмельные, нависнув над тротуарами. По изумрудной зелени кюветов пригоршнями рассыпано желтое золото одуванчиков. Воздух на этой улице необычный, приправленный дурманящими ароматами близлежащей дунайской старицы, — Подросток вдыхает его полной грудью.
Поручение Мастер, скорее всего, выдумал, решив, что мальчишке теперь лучше держаться подальше от остальных. Может, утром, еще до его прихода, что-то произошло в мастерской?
Он передает незнакомому рабочему слова Мастера, тот по-доброму, понимающе улыбается.
На часах всего лишь двенадцать. В гимназии через сорок минут прозвенит последний звонок — через сорок минут Эстер будет свободна. Не зная, что делать с неожиданно подаренным ему временем, Подросток задумчиво крутит носком ботинка педаль велосипеда. Наконец он садится и катит куда глаза глядят. Улицы одна за другой распахиваются перед ним, мелькают мимо дома, которые на такой скорости кажутся маленькими и невзрачными; открытыми окнами они будто силятся втянуть в себя хоть немного апрельской свежести, солнца, весны.
Выехав на площадь перед старинным, в стиле барокко собором, Подросток описывает несколько восьмерок и в нарушение всех правил сворачивает прямо перед капотом встречного грузовика на улицу, ведущую к гимназии. Сзади доносится ругань водителя — Подросток, обернувшись, смеется. Но вот он резко тормозит и прячется за кустами рядом с гимназией.
Наконец зазвенел звонок, такой же неистовый, как и год назад, и двери захлопали точно так же. Будто ничего не изменилось.
На улицу высыпают девчонки и мальчишки в темно-синей форме, они широко и небрежно жестикулируют — в движениях нет никакой осторожности, это жесты людей, подсознательно чувствующих свою защищенность, важность, неуязвимость. А вон его бывшие одноклассники. Лица и голоса почти не изменились. Он слышит знакомые имена: Барадлаш, Беппе, Гулливер, Пятачок… — имена учителей, суровых и мягких, любимых и нелюбимых, называемых по фамилии и удостоенных шутливых прозвищ. Подросток смотрит во все глаза, но Эстер не видит.
Вот выходят уже ученики другого класса и тоже рассыпаются кто куда.
Подросток, разочарованный, выкатывает из-за кустов велосипед.
— Эй, Амбруш!
Он испуганно останавливается, озираясь, куда бы скрыться.
Но в локоть ему уже вцепился Оскребок — самый маленький среди одноклассников.
— Привет, тыщу лет тебя не видал, — протягивает он руку.
Подросток пожимает ее, сконфуженно переминается с ноги на ногу.
— Ну, ты и вымахал, — изумляется Оскребок. — Вкалываешь?
— Сам знаешь, — неохотно отвечает Подросток.
— Бросили меня одного. Вот поганцы, а! Я сегодня дежурный, так ты думаешь, они подождали? Ничего подобного. Если дежурный — хиляй домой в одиночестве, вот такие, старик, дела.
— Да, — задумчиво произносит Подросток.
— Слушай, Амбруш, чего не заходишь? Хотя бы на вечер пришел как-нибудь. Серьезно, приходи, а?
— Мерси, — говорит Подросток, — как-то не хочется.
— Да ты что, опупел? Оттого, что ты вкалываешь…
— Где Эстер, не знаешь?
— Макаи? — уставился на него Оскребок.
Руки Подростка судорожно сжимают руль велосипеда.
— А то кто же?
— Понятия не имею. Ее сегодня не было. Вчера была, а сегодня нет.
— Нет? Это точно? Ты ничего не путаешь?
Оскребок вздыхает своей хилой грудью.
— Точно тебе говорю. Я же дежурный.
— Спасибо, старик. Пока. — Подросток прыгает на велосипед.
— Постой, нам по пути… Ты что, опупел? Амбруш! Амбруш! — слышит он вопли Оскребка, но не оглядывается, во всю нажимая на педали.
Кнопка звонка послушно вдавливается под его пальцем. Два длинных с небольшим интервалом. В доме — мертвая тишина. Он ждет, затаив дыхание. Потом опять звонит и опять. Но даже шторы на окнах не шевельнутся. Подросток не сдается, барабанит в калитку, бросает в окно камешки. За ним уже наблюдают из соседних домов, на лицах — жадное ожидание сенсации. Делать нечего, приходится ретироваться.
В его комнате белеет, приклеенный скотчем к стеклянной крышке журнального столика, вырванный из тетради листок — незаконченная этой ночью работа. Стоит только включить пристроенную внизу настольную лампу, и можно продолжить ее. Если взяться как следует, за сегодняшний день можно сделать вчерне хоть все оставшиеся чертежи, их еще около сотни с небольшим, думает Подросток, устало сидя у хитроумно сконструированного им столика. Взгляд его медленно скользит вдоль тянущегося к розетке провода, тем временем руки нащупывают края тетрадного листа и срывают его со стекла.
Неудержимая сила влечет Подростка к телефону. Он тяжело поднимается, берет трубку и, дождавшись ответа телефонистки, называет номер Эстер.
Долго, пока не затекает держащая трубку рука, вслушивается он в монотонные протяжные гудки, потом в полной растерянности садится и, положив перед собой дешевые наручные часы, мысленно делит оставшуюся часть дня на получасовые отрезки.
Стрелки движутся по циферблату с невыносимой, черепашьей медлительностью.
Тридцать минут — не вечность, они скоро истекут, нужно только набраться терпения и ждать, подбадривает себя Подросток.
Чтобы отвлечься от наблюдения за часами, он думает о Матери. Она в последнее время завуалированными намеками, недомолвками исподволь готовит его к новой встрече с дядей Дюркой, который на этот раз, похоже, обоснуется в их доме окончательно. Боже, какими наивными и глупыми кажутся эти ее недомолвки, когда, замолкая на полуслове, она ждет от Подростка одобрения и поддержки — а он молчит, так же глупо и беспомощно. Не смеет произнести имени дяди Дюрки. Может быть, потому, что не смеет и Мать?
В голове у него шумит, мысли разбегаются.
Телефонная станция отвечает равнодушно-бесстрастным, механическим голосом, и с каждым разом все более холодно и отталкивающе звучат гудки вызываемого номера.
Подросток распахивает окно, впуская в комнату незаметно подкравшиеся сумерки. Он напрягает воображение, но представить лицо Эстер четко, до мельчайших подробностей никак не удается.
Напряженную тишину разрывает звонок телефона.
— Алло! — задыхаясь, кричит он.
— Я хотела бы поговорить с вдовой Кароя Амбруша. — Голос строгий, сухой, официальный, но как будто знакомый.
— Она еще не пришла… — хрипло отвечает Подросток, — наверно, задержалась на работе. Алло, подождите, — судорожно сжимая трубку, бормочет он, — подождите, пожалуйста. Это говорит ее сын… Петер Амбруш.
Молчание. Глухое, неимоверно долгое.
— Сын, — презрительно выплюнули на другом конце провода. — Мне нужна вдова Кароя Амбруша.
Подросток вдруг узнает собеседницу. Или ему только кажется?
— Это вы, тетя Макаи? Это вы?
— Мне нужна ваша мать. Я еще позвоню.
Подросток потерянно сжимает в руке трубку, разглядывает ее, отставив от себя.
— Алло. Коммутатор… Слушаю вас, — пугает его раздраженный голос телефонистки.
Он в отчаянии роняет трубку, как выпускают из рук тяжелую штангу не справившиеся с весом атлеты, и, пошатываясь, выходит на кухню. Страшно хочется есть. Обед на плите, в кастрюльке, но стоит ему взглянуть на красный от паприки жир, застывший на ребрышках рагу и картофеля, как к горлу подкатывает тошнота. Подросток открывает кран и, как следует спустив воду, с жадностью осушает четыре стакана подряд.
* * *
Мать приходит домой веселая, возбужденная, какой он не видел ее уже несколько месяцев. Ее каблучки стучат по ступенькам лестницы легко и игриво, как молоточки по клавишам ксилофона. Она приветствует сына, ероша быстрыми пальцами его отросшие почти до плеч волосы.
— Не возражаешь, если завтра вечером у нас будет гость? — спрашивает Мать будто бы между прочим, хотя видно, как, полуобернувшись к шкафу, она замирает от волнения.
— Дядя Дюрка? — восклицает Подросток.
Мать сдержанно и задумчиво улыбается.
— Ты рад? — как бы удивляется она.
— Ну конечно!
Мать кивает и принимается хлопотать по кухне, а он незаметно скрывается за дверью.
Стоя у стола, Подросток пристально глядит на упрямо тикающие часы, секундная стрелка которых без устали обходит свои владения. Рука его снова тянется к телефону, и он — с часу дня до половины седьмого уже в одиннадцатый раз — называет номер Эстер.
В комнату заглядывает Мать, явно настроенная поговорить.
— Ну и вид у тебя, — еле сдерживая смех, замечает она. — Воплощенная скорбь, да и только!
Подросток молчит, упорно прижимая к уху трубку.
Мать нетерпеливо прогуливается по комнате, рассеянно смотрит на корешки книг.
— Не надоело тебе?! — не выдерживает она наконец.
Подросток сдается, но от стола не отходит. Он стоит спиной к Матери, тупо глядя в пустую ладонь.
— Да что с тобой происходит?
— Ничего.
— Ведь вы обычно созваниваетесь в семь, — говорит она. — В семь, не так ли?
— Ну да.
— А сегодня что, срочное дело?
Подросток пожимает плечами, молчит.
— Хорошо, — обиженно говорит Мать. — Можешь считать, что я тебя ни о чем не спрашивала. Можешь считать, что я тебе враг, что меня просто не существует…
— Да пойми ты, — все так же, не оборачиваясь, выкрикивает Подросток, — она весь день не снимает трубку!
Мать обескуражена: ее поражают не слова сына — в них она не находит ничего особенного, а его нелепая драматическая поза. Она задумчиво ходит по комнате, пытаясь найти объяснение странному поведению сына.
Телефон совершенно неожиданно заливается резким пронзительным звоном.
— Вот видишь, — вздыхает она с облегчением и берется за ручку двери, — а ты говорил.
Подросток нерешительно снимает трубку.
— Алло?
— Вдову Кароя Амбруша, — доносится до него раздраженный голос.
Он молча кладет трубку на стол и испуганно смотрит на Мать:
— Это тебя.
Та нехотя подходит к телефону.
— Слушаю, — говорит она вяло. — Да, я. — Следует пауза. — Минуточку, — кричит Мать взволнованно и зажимает трубку ладонью. — Петер, можно тебя попросить…
Подросток смотрит на нее, недоумевая.
— Выйди, пожалуйста. Очень тебя прошу.
— Извини, я не сразу сообразил. Извини.
Он выходит на кухню и, не зная, чем себя занять, открывает и закрывает водопроводный кран.
Сквозь шум воды пробивается голос Матери: она то вскрикивает, надрывно и истерически, то неожиданно умолкает.
Он застает ее на диване. Уткнувшись в ворсистый подлокотник, Мать захлебывается в рыданиях. Заметив Подростка, она резко и агрессивно вскакивает. Лицо искажено болью — отчаянием? злостью? — во всяком случае, чувством жгучим, невыносимым.
— Что ты наделал?! Что! Как ты только посмел! Чтоб тебе пусто было… Чтоб тебе… — задыхается она.
Подросток ничего не понимает.
— Что ты смотришь как истукан? Думал, никто не узнает? Ославили на весь город! Какой позор!.. В фойе кинотеатра, при людях… Да, именно, твои друзья! Наглым тоном… О том, что ты сделал с ней… С Эстер, конечно! Зачем было хвастаться! Врать! Что ты за идиот?! — Таким тоном она еще никогда с ним не говорила. Никогда. — А матери… что ей было делать? Повела сегодня к врачу. Можешь собой гордиться!.. Бедную девочку… к гинекологу! Из-за тебя, твоего идиотского, лживого, пошлого хвастовства. Видеть тебя больше не хотят. Они тебя больше не знают… не знают, ты слышишь…
Носовой платок Матери вымочен слезами. Ее рыдания сливаются в тоскливый отчаянный вой, прерываемый исступленными вскриками. «Так воют потерявшие детеныша звери, так, вероятно, так они воют», — думает потрясенный Подросток и молча, пошатываясь, выходит на темную пустынную улицу.
* * *
Утром, смочив под краном большую губку, он вжимается лицом в ее прохладную шероховатую мякоть. Половина шестого. Слишком рано, все еще слишком рано. Сидя в кухне на табурете, Подросток пьет холодную воду, прислушивается. В комнатах тишина. Мать, наверное, уснула поздно, оглушив себя снотворным, и проснется вялая, успокоенная.
Ночь тянулась ужасно медленно. Их маленький городок словно погрузился в небытие, словно давно осушенные придунайские топи, как когда-то, века назад, вновь приступили к городской черте, воинственно выставив копья тростника и батареи кочек, чтобы вынудить многокрышую рать домов встать на колени, сделаться жалкими карликами, трусливо вжимающимися в землю. В доме Эстер окна казались крохотными, крыша завалившейся, длина фасада — каких-нибудь десять шагов…
У него подкашиваются ноги. Во дворе, где Подростка ждет велосипед, его охватывает колючий холодок весеннего утра. Он ладонью сбивает с колес комки грязи и подкачивает шины, то и дело отирая со лба липкий пот. Приходится еще раз прибегнуть к помощи мокрой губки. Наконец, бесшумно прикрыв за собой двери, он отправляется из дому.
* * *
День еще только занимается. Не беда, что он явится ни свет ни заря — быть может, так даже лучше. А впрочем, не все ли равно теперь? Педали вращаются послушно, хорошо смазанный велосипед несет его как на крыльях, хотя за первым переулком он уже чувствует, как дрожат колени и немеют мышцы. Но все же каменные плитки тротуара и ромбы железных оград мелькают мимо довольно быстро. Движения на улицах нет. В это холодное росистое утро желающих выезжать раньше времени, видимо, мало.
Дверь мастерской, как всегда, распахнута настежь. Подросток толкает велосипед, который, качнувшись, медленно падает у стены. Он идет в цех, где царят маслянисто-влажные фиолетовые тени. От голода, усталости и бессонницы кружится голова, но он шагает твердо и быстро, подстегиваемый жгучей злостью.
Троица стоит, сомкнувшись стеной. Шишак, каланчой возвышающийся между Гномом и Тихоней, закинув голову, самодовольно ухмыляется.
— Девица его отшила, — говорит он. — Ей-богу, вы только взгляните на эту рожу.
Подросток в ярости бросается вперед.
— Сволочь, гадина, — хрипит он и наносит удар кулаком.
У Шишака под носом красной ягодой повисает дрожащая капля крови.
Подросток, задыхаясь, отчаянно молотит руками, но его кулаки отскакивают от упругого тела верзилы, только однажды, один-единственный раз, он попадает во что-то мягкое. Под градом ответных ударов он, корчась от боли, валится на пол. Плечи, спину, нутро обжигают новые вспышки боли, он уже ничего не чувствует и не видит, перед глазами, сливаясь, пульсируют разноцветные круги.
— Хватит, хватит! Ты что, озверел?! — Это как будто визжит Гном.
Слышатся глухие удары, но бьют уже не его.
Он протирает глаза — на них что-то липкое, теплое — и поворачивается: двое мальчишек вцепились в Шишака.
— Это уж слишком! От гадости, которую ты устроил позавчера, — гневно пыхтит Тихоня, — меня чуть не вырвало.
— Ах ты, Тихоня… ты пасть разевать? — Шишак кидается на Тихоню.
Гном налетает на верзилу сзади и пинает ногами.
— Я тоже чуть сквозь землю не провалился! Я тоже! — кричит он.
Раздается истошный вопль Шишака.
Подросток, шатаясь, выходит из цеха и, с трудом подняв с земли велосипед, собирается ехать, но замечает, что с улицы к мастерской приближаются люди. Он узнает Мастера и еще двух рабочих. Остальные, в темных костюмах, ему не знакомы. Он поспешно скрывается за подсобными помещениями.
Тут снова раздается хриплый, протяжный вопль Шишака, и взрослые бросаются в цех.
Путь свободен. С трудом удерживая руль, Подросток выезжает за ворота и поворачивает не к городу, а на шоссе, ведущее в сторону Дуная.
Он слышит у себя за спиной крики взрослых, резко оборачивается и только теперь, от боли, резанувшей по скулам, окончательно приходит в себя. Взрослые стоят в дверях мастерской и делают ему какие-то знаки, а Мастер трусцой бежит за ним. В страхе оглядываясь на него и бешено округлив глаза, Подросток очертя голову удирает.
Но опасность угрожает ему не сзади: чудовищная сила выбрасывает его из седла, он летит, кровью окропляя воздух вокруг себя, и проваливается в пустоту.
* * *
Прозрачные пузыри с размытыми очертаниями, теснясь, наползают друг на друга. Они раздуваются и опадают, вытягиваются, делятся и снова сливаются в сплошное белое поле.
Потом наступает мягкая густо-коричневая темнота.
Вспыхивают яркие разноцветные крапинки и, загадочно мерцая, разбегаются по коричневому своду. Свод растет, распираемый изнутри, содрогается от напряжения, которое отдается в мозгу резкой болью. Чье-то тонкое острое жало быстрым укусом распугивает мерцающие крапинки, они гаснут, опять уступая место теснящимся, напирающим друг на друга пузырям.
Перед глазами, застилая успокоившиеся наконец пузыри, неторопливо плывут клубы непроницаемого молочно-белого тумана, туман застывает и превращается в огромные снежные сугробы, которые, дрогнув, вдруг начинают пениться, оседать, и сквозь них проступает другая, более прочная и реальная, рассеченная на вертикальные и горизонтальные плоскости белизна. Слышатся отдаленные шорохи, чей-то шепот, холодное позвякивание металла…
Веки Подростка закрываются. Глазам горячо.
К нему кто-то подходит, он чувствует теплое дыхание и легкое прикосновение ко лбу.
Лицо, выплывающее из белизны, кажется сложенным из желтоватых осколков.
— Наконец-то, — доносится откуда-то издалека. Неужели это произнесли шевелящиеся на раздробленном лице губы? Не может быть.
— Наконец-то, — снова доносится до Подростка. Он видит, как удаляется женская фигура в жестко похрустывающем халате.
«Это я здесь лежу? Но почему я… почему? Как я-то сюда попал?» — пытается он понять, но мысли путаются, в голове дурман.
Дверь отворилась. Ее скрип показался пронзительным визгом.
Над ним склонился знакомый мужчина. Седина, полукружья бровей на широком лбу. Все то же самое.
— Двенадцатая, — бормочет Подросток в полузабытьи.
Мужчина склоняется ниже:
— Разговаривать, молодой человек, еще рано.
Подросток как будто видит в палате вторую койку. Пустую.
— Двенадцатая… — шепчет он еле слышно.
— Нет, не двенадцатая, сынок. — Врач смотрит куда-то в сторону, наверное на стоящую рядом сестру. — Все еще помнит про двенадцатую, — шепчет он. — Невероятно. Невероятно. — Вскинув руки, он снова приближается к Подростку, и слышится то же холодное металлическое позвякивание.
— Товарищ главврач, так ведь там лежал…
Неожиданно наступившую тишину пронзает острое беспощадное жало. Подросток вскрикивает и чувствует, как по телу разливается приятное тепло. На нем поправляют одеяло, пальцы мужчины что-то нащупывают у него на запястье, кожа Подростка, словно оживая от прикосновения, начинает дышать. Тишина вокруг белая, мягкая, успокаивающая. Бездонная тишина.
* * *
Раздробленное на осколки лицо постепенно разглаживается, сегодня оно совсем гладкое, свежее, симпатичное. Это лицо, постоянно находясь в поле зрения, привлекает к себе внимание, заставляет Подростка сосредоточиться.
— К вам двое друзей, — говорит сестра, останавливаясь в дверях.
Он смотрит на нее недоумевающим взглядом, с трудом вспоминая лица давних друзей, бывших своих одноклассников.
— Ребята из мастерской.
Подросток улыбается.
Входят Гном и Тихоня. Смущенные, робкие пацаны. Долго топчутся посередине палаты, молчат.
Наконец Гном подходит ближе.
— Потрясно, старик… Как барон! Палата на одного… Как дела?
— Ничего, — отвечает Подросток.
Они осторожно присаживаются на краешки стульев. Тихоня расплывается в немой улыбке, непривычно блестя глазами.
— Можешь считать, что выцарапался, — торопливо шепчет Гном, — это факт. Если я говорю…
— У него тут мамаша работает. Помнишь? — подхватывает Тихоня. — Она тоже считает, что самое трудное позади. Это главное, старик.
— Я тоже так думаю, — говорит, оживляясь, Подросток.
Гном, тщетно стараясь не шуршать вощеной бумагой, кладет на тумбочку сверток.
— Слоеные пироги. С капустой и с творогом. Если любишь.
Подросток прищуривается, говорить ему трудно. И как-то не хочется.
— Ты только послушай, Амбруш, — уже совсем бойко говорит Гном. — Шеф погорел. Потрясно, а?
— Кто?
— Шеф. Убрали его от нас. Его к людям на пушечный выстрел нельзя подпускать — так директор сказал. Ну, этот… приятель его. Я сам слышал, своими ушами. Старик, теперь ему только машины будут доверять. Ну, что скажешь? Потрясно?
— Потрясно, — еле шевелит языком Подросток.
Гном в восторге.
— Тогда будь любезен, назови мне машину, которую ты решился бы ему доверить, назови.
Гном смеется довольным, счастливым смехом. Тихоня, подавшись вперед, изучающе разглядывает носок ботинка. Он немного придвинулся к койке и все же будто бы отдалился.
— Слышь, Амбруш. Ты на нас обижаешься?
Подросток улыбается уголками губ, лоб его покрывает испарина.
— Нет… не обижаюсь.
— Мы по-свински себя вели.
— Точно, по-свински, — искренне присоединяется Гном. — А вот ты с нами — по-человечески.
Он молча, удивленно смотрит на них.
— Не накапал на нас.
— Меня не расспрашивали, — обманывает их Подросток. Голос его слабеет.
— Нет, какой молодец! — Гном тычет Тихоню в бок.
Тихоня улыбается, хмыкает.
— Ты только не думай, что мы из-за этого торчали здесь целыми днями…
Глаза Подростка отрываются от мальчишек, веки, наполовину прикрывшие радужную оболочку, странно дрожат.
— А ты что, не знал? — неуверенно спрашивает кто-то из них.
Кто — Подросток не разбирает, но поводит глазами: не знал, мол.
— Потрясно, старик, — поражается Гном, голос его снова звучит отчетливо. — Ему даже не сказали! Старик, чтоб мне лопнуть, мы каждый день приходили. Ведь если бы ты дал дуба, то можешь себе представить…
— Не болтай, ты его утомляешь, — одергивает Гнома Тихоня.
Толстяк заикается:
— Извини, Амбруш… Я просто дурак… Идиот, понимаешь? Законченный.
— Все в порядке, — пытается улыбнуться Подросток. К горлу его подкатывает комок, но не от растроганности — недавнее умиленное чувство исчезло. Его мутит от головокружения.
— Серьезно? — с тревогой допытывается Тихоня.
В подтверждение он снова поводит глазами.
— Да ну? — недоверчиво наклоняется к нему Гном. — В самом деле? В порядке?
Тихоня с облегчением ерзает на стуле и подталкивает Гнома под локоть.
— Если в порядке, тогда хорошо.
— Хорошо, — шепчет Подросток. — Все… хорошо…
Он куда-то проваливается.
Сквозь плотные волны накатывающей темноты доносится топот бегущих ног и испуганный мальчишеский вопль. Где-то далеко, недосягаемо далеко, хлопает дверь.
Новая, незнакомая темнота бесцветна. Сплошная, без вспышек и проблесков, она методично, с неторопливой уверенностью окутывает тело Подростка, поднимает его и куда-то влечет, и кажется, что отбиться от нее невозможно.
Но потом она все-таки отступает, застывая в немом, отчаянном ожидании.
Примечания
1
Речь идет о так называемом промышленном училище, которое ученики, получающие рабочую специальность непосредственно на производстве, посещают два дня в неделю. — Здесь и далее примечания переводчика.
(обратно)2
Гимназия в ВНР — четырехлетнее учебное заведение, дающее после 8 классов общей школы законченное среднее образование.
(обратно)3
Калоча — место действия повести — старинный венгерский городок близ Дуная, основанный в XI веке королем Иштваном I, в средние века — важный религиозный и стратегический центр. Батя — небольшой поселок неподалеку от Калочи.
(обратно)

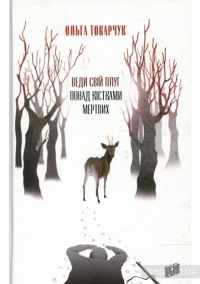
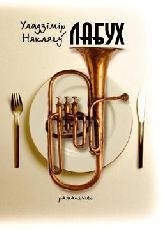




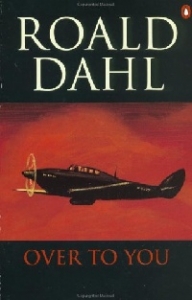
![Шампанское с желчью [Авторский сборник]](https://www.4italka.su/images/articles/439426/primary-medium.jpg)




Комментарии к книге «Горы слагаются из песчинок», Шаролта Раффаи
Всего 0 комментариев