Я, Данила
МОНОЛОГ ДАНИЛЫ ЛИСИЧИЧА
Роман Дервиша Сушича «Я, Данила» поднимает тему, которая известна литературе всех стран, вступавших после военных и революционных потрясений на путь социалистического строительства. Он показывает действительность на переломе двух эпох. Завоеванная в жестоких боях свобода приобщала народные массы к историческому творчеству, вызывая к жизни мощные созидательные силы. В то же время переход к мирному времени оказывался процессом далеко не простым, порой болезненным, знающим свои, часто трагические противоречия, отступления от завоеванного, а то и попятное движение. Эти поворотные годы в истории народов производили отбор человеческих характеров подчас не менее жестко, чем только что закончившаяся война.
Известна эта тема и молодой советской литературе 20-х годов, во многих произведениях показавшей, что — как сказано в «Голубых городах» А. Толстого — для того, чтобы «баранками торговать, может потребоваться больше мужества, чем с клинком наголо пролететь в атаку».
Поэтому, чтобы понять книгу Д. Сушича, надо прежде всего увидеть ее на фоне огромной литературы о прошедшей войне, появившейся в Югославии.
Место, которое занимает война в творчестве югославских писателей, соответствует тому месту, которое она занимает в истории народов Югославии. Война началась для них фашистским вторжением в апреле 1941 года и подняла на отпор иноземным захватчикам всю страну. В то же время она стала быстро перерастать — особенно после нападения гитлеровской Германии на Советский Союз — в войну за социальное освобождение и сопровождалась острейшим размежеванием внутри югославского общества. В ходе ее на основе массового партизанского движения сформировалась Народно-освободительная армия, ведшая в невероятно трудных условиях самоотверженную борьбу с гитлеровскими и италофашистскими оккупантами. Память об этой героической борьбе стала сегодня святыней югославской истории.
Прошедшая война была и остается первой и главной темой литературы Югославии. Практически все крупнейшие писатели, особенно того поколения, которое начало свой путь в новых условиях, внесли свой вклад в ее осмысление, в познание своего современника, проходившего в партизанских боях жизненную школу. С годами углублялось понимание революционного смысла войны. Отсюда острота нравственных конфликтов, бескомпромиссность писательского приговора действительности, пристальное внимание к проблеме выбора пути и ответственности за этот выбор. «Моя тема не война, но революция», — прямо сказал однажды М. Лалич, один из крупнейших писателей современной Югославии, автор многих знаменитых романов о том времени («Свадьба», «Ненастная весна», «Разрыв», «Лелейская гора», «Облава», «Клок тьмы»). Эта двучленная формула хорошо объясняет общие для многих писателей Югославии особенности трактовки военного времени, таких, как Б. Чопич («Прорыв», «Засада», «Богатыри Бихача»), Д. Чосич («До солнца далеко», «Раздел»), В. Калеб («Прелесть пыли»), Б. Зупанчич («Поминки»), Ц. Космач («Баллада о трубе и облаке»), А. Исакович («Папоротник и огонь», «Мгновенье») и другие.
Эта формула приложима и к роману Д. Сушича «Я, Данила», хотя тема его иная и война появляется на его страницах только в воспоминаниях главного героя. Но это воспоминания особого рода, ибо они создают масштаб для понимания событий нового, еще только вступающего в свои права времени. Война для героя книги Данилы Лисичича — это беззаветный героизм во имя общих народных судеб, это чувство интернационального братства. Это и дружба, верность, взаимная выручка, ясность человеческих отношений, в которых важны не мелочи жизни, а вещи общего, главного смысла — хлеб, вода, воздух, любовь, жизнь, смерть, победа.
Война, утверждает автор, учила видеть жизнь такой, как она есть. В одном из мест книги с целями открыто полемическими он вводит рассуждение о «странных людях», которые пишут о войне, либо идеализируя ее, либо поражая нарочитыми ужасами.
«И ни слова нет о пехоте, о той усталой и преданной до конца партизанской пехоте, серой и спокойной на марше и опасной в деле, о пехоте, которая кричала только в атаке, а в атаку шла по приказу командира, когда же его не было, по приказу того, кто шагал впереди, о пехоте, которая, что греха таить, порой и отступала, рассыпаясь по долам, а потом, вновь крича и улюлюкая не хуже турок, снова кидалась в бой и отбивала потерянные позиции. О той пехоте, что молча умирала на полях, в кустах, во рвах и всевозможных других местах, о пехоте, которая, к сожалению, не значилась ни в каких списках — ни живых, ни мертвых!»
Нетрудно увидеть в этих словах декларацию искусства демократического, близкого проблемам народной жизни, искусства реалистического.
Человек, у которого за спиной четыре года такой войны, раненый, голодный, в истлевшей от пота и грязи одежде, пришедший в родную деревню, где у него нет ни дома — он сожжен, — ни семьи — она погибла, сидит и ждет, как встретят его односельчане, — вот исходная ситуация романа, точка поворота истории, когда одна эпоха кончилась, а другая еще не начиналась.
Книги о современности сравнительно редки в литературе Югославии, и роман Д. Сушича был одним из первых среди них. Задача, которую он ставил себе, принадлежит к труднейшим. Война, несмотря на свою близость и огромность, представляет собой все же закончившийся период истории. Д. Сушич создавал книгу о текущем дне и доводил ее (впервые роман «Я, Данила» был опубликован в 1960 г.) почти до тех дней, когда она писалась. В отличие от подавляющего числа произведений писателей Югославии, затрагивающих, прямо или косвенно, военные события, в нем нелегко уловить непосредственно автобиографические черты. Герой его старше автора на целое поколение, это человек существенно иной судьбы.
Творческая смелость Д. Сушича проявилась в том, что в центр своего романа о новом времени он поставил поистине нового героя — выходца из народных низов, плоть от плоти и кость от кости беднейшего населения его родной Боснии, в которой он родился, живет и о которой пишет.
Босния, составляющая вместе с Герцеговиной одну из республик, входящих в Югославию, — это богатейший по природным условиям горный край, принадлежавший всегда к отсталым частям страны, население которого, исповедующее и христианскую, и мусульманскую религию, страдало на протяжении веков и от турецкого, и от австрийского иноземного гнета. Вековая неподвижность Боснии, затаенное в ее людях и не находящее выхода напряжение — постоянная тема книг И. Андрича, ее великого классика. Буржуазно-монархическая Югославия не могла разрешить ни социальный, ни национальный вопрос этого края. Не в последнюю очередь поэтому Босния сыграла такую большую роль в годы народно-освободительной войны.
Характер Данилы Лисичича — главное достижение романа. Уроженец «боснийского захолустья», крестьянин, у которого все предки тоже были крестьяне, он предстает перед нами как натура необычайно одаренная, творческая, смелая. Это образ человека из глуби народной, пробужденного революцией. Творя будущее, он творит и свою судьбу, которая не предопределена заранее. Как говорится в романе, на роду ему было написано или получить высокое звание, или угодить на виселицу, видеть склоненных перед ним в поклоне властителей или быть посаженным на кол на самой высокой городской стене.
Автор исследует характер своего незаурядного героя, ставшего после войны хозяйственником и одержимого идеей превратить «убогое боснийское село» Лабудовац в социалистический город как можно скорее, немедленно. Среди тех, с кем и для кого он работает, немало вчерашних приспособленцев, обывателей, а то и врагов — сегодня это его сограждане, люди, о которых он должен заботиться. Кто из них заблуждался искренне, кто остался врагом, ждущим своего часа, как распознать добро и зло, когда они прячутся в закоулках повседневного быта, — вот вопросы, которые обступают Данилу. Он решает их не умозрительно, а действием — помогая себе иногда революционной хваткой, а иногда крестьянской хитростью. Он всегда активен — это главное в его характере. И прямые действия, и нахрапистый обман нужны Даниле не для себя, а ради других; себе этот «боснийский Дон-Кихот» (как назван был герой романа Д. Сушича в одной из статей, появившихся в югославской печати) не желает ничего, даже самого необходимого, даже личной жизни.
Но многое в социальном здании, которое он помогает возводить своими руками, ему перестает нравиться. Он остается одиноким среди бюрократов и самоснабженцев, мещан и обывателей. В романе не случайно начинают звучать сатирические ноты. В галерее начальственных лиц, с которыми ему приходится сталкиваться по работе, все меньше тех, с кем он находит общий язык. Жизнь, как кажется Даниле, катится вспять, потому что к ней уже не всегда приложимы чистые и высокие мерки военно-революционного братства, но жизнь и обгоняет его, ибо четырех классов начальной школы и командирского опыта, которые у него, крестьянского сына, за плечами, уже не хватает для того, чтобы заниматься хозяйственной деятельностью. Более того — Данила сам себе бросает обвинение еще более суровое: «Как можешь ты присваивать право называться борцом за новое в человеке, когда сам ты отнюдь не гармоничная личность?»
Остро сталкивая своего героя, необузданного и противоречивого, с проблемами послевоенной Югославии, автор предоставляет читателю решать, где его Данила Лисичич — то кристально местный, то жуликоватый, то все понимающий в людях, то ошибающийся в них — прав, а где виноват. Не идеализируя его, он видит в нем героя реальной действительности, сильный, самобытный, близкий ему характер, и ощущает его судьбу как трагедию.
Стремясь прежде всего к исследованию своего героя, автор строит роман как его монолог. Конечно, это условность, определенный писательский прием. Мы не знаем, кому Данила рассказывает о себе, может быть, это исповедь перед самим собой, перед «другим Данилой», то есть перед своей совестью. Если не считать горькой иронической интонации (весьма гибкого в руках автора художественного средства), ничто не свидетельствует о ретроспективности повествования; временна́я точка, в которой находится рассказчик, движется вместе с его рассказом.
При всей условности, такое построение порождено задачами реалистического познания действительности. Взгляд на мир в личностной перспективе, с точки зрения Данилы и через Данилу, позволяет стянуть к нему, как к центру, все содержание романа, и это помогает автору представить его образ крупным планом, показать «изнутри». Но важно отметить, что монолог Данилы не замыкается ни на его личной судьбе, ни на его личном отношении к миру. Он широко включает в себя этот мир — послевоенную действительность Югославии, ее прошлое и ее будущее, судьбы ее народов, судьбы мира, судьбы социализма.
Романы, построенные как «эпические монологи», в 60—70-е годы появляются в литературах разных социалистических стран и составляют определенную примету их развития. Мысль о народной судьбе соединяется в этих книгах с обострившимся вниманием к личности, к нравственной проблематике. Роман Д. Сушича принадлежит к наиболее ранним и своеобразным примерам этого характерного явления.
Однако условность монолога Данилы заключается еще и в том, что автор не стилизует его последовательно под речь своего героя. Он как бы «рассказан» не только им, но и самим автором, местами изложен языком, который вряд ли может быть свойствен крестьянину, даже прошедшему переплавку в горниле народно-освободительной войны. В нем много рефлексии, интеллектуальной игры, немало литературных ассоциаций. Это тоже, в значительной мере, писательский прием, с помощью которого автор стремится придать своему герою дополнительную «всеобщность», непосредственно, иногда с открыто публицистическими целями, ввести свой роман в контекст идейных споров современности.
Прямая полемика содержится и в реплике, которую Данила Лисичич произносит о себе уже на первой странице книги: «Я не Сизиф». Античный миф о Сизифе, истолкованный как символ тщеты всех человеческих усилий, — ключевой для философии экзистенциализма. Экзистенциалистские взгляды были широко распространены в литературе и литературной критике Югославии, особенно в 50—60-е годы, и книги, в основе которых лежит реалистическое исследование действительной жизни, человеческого характера, имели в этом смысле открыто полемическое звучание. Относится это и к роману Д. Сушича «Я, Данила». Потерпевший крушение герой — в полную противоположность с расхожими идеями экзистенциализма — не приходит к мысли о том, что жизнь его была напрасна. Его подвижническая деятельность — не «Сизифов труд». Он неизменно уверен в созидательных возможностях человеческой натуры, в том, что человек не игрушка судьбы, а творец обстоятельств. Подчеркивая широту своего замысла и жизненную основу образа Данилы, Д. Сушич говорил в одном из интервью:
«Кто такой Данила Лисичич? На этот вопрос точно ответить нелегко. Возможно, это мое собственное понимание нашего безымянного, но великого революционера определенного этапа, который не сумел на следующем этапе быть в первых рядах борьбы. Возможно, удачно найденный синтез нескольких моих товарищей по партизанской борьбе и послевоенному строительству. Возможно, попытка изобразить в нашей действительности вечную тему трагизма героя. Возможно, чистый вымысел, в котором многие узнали себя или своих товарищей. А возможно, и все вместе взятое…»
«Открытость» в будущее закреплена и в композиционном построении романа Д. Сушича. В нем бегло, но, конечно, не случайно упоминается «Поднятая целина» М. Шолохова. Сопоставление романа «Я, Данила» с «Поднятой целиной», оказавшей огромное воздействие на жизнь и литературу в социалистических странах, встречалось и в югославской критике. С полным основанием можно было бы вспомнить и другое произведение М. Шолохова: рассказ «Судьба человека». Так же как герой этого рассказа, русский солдат Соколов, потерявший в войну все, привязался к мальчику-сироте, так и Данила со всей присущей ему страстью вложил свою любовь в спасенного им маленького Ибрагима, сына погибшего на его глазах партизана. Он хочет воспитать Ибрагима сильным, смелым, ловким, он хочет видеть его образованным и счастливым, он хочет, чтобы у него было все, чего не хватало ему самому.
«Эстафета», переданная грядущим временам, — это тоже общая примета многих книг в литературе социалистических стран.
Горячая заинтересованность в современности, умение видеть ее в противоречиях и в движении, бескомпромиссность нравственной позиции — все это сделало книгу Д. Сушича популярной в Югославии, где она издавалась несколько раз. Инсценировки по роману шли во многих театрах страны, по нему был сделан фильм. При всей специфичности проблем югославской жизни, отразившихся в романе, он вызвал живой интерес в других социалистических странах и был переведен на несколько языков. Интерес этот понятен. Роман Д. Сушича принадлежит к произведениям, которые помогают понять существенно важные процессы, идущие в современной жизни, а его герой входит в галерею тех революционеров, сформированных нашим временем, которых никакие трудности не могут заставить отказаться от идеалов будущего.
П. Топер
Я, ДАНИЛА
Я, Данила Лисичич,
гражданин своей страны и Организации Объединенных Наций, руководящий работник по профессии, неожиданно скатился к подножию своей служебной спирали. Я не Сизиф, и напасти мои ничтожны в сравнении с тем, что легенды и мифы приписывают этому бедолаге. Я простой смертный, который с верха биографического минарета грохнулся на мостовую. И на старости лет, усталый и разбитый, оказался не у дел и без гроша за душой.
Солдат во мне всегда одерживал победу, крестьянин терпел поражение. Да вот только шкура у них, на мою беду, одна.
Я, усталый демобилизованный солдат, сижу на отчем пороге. Справа — почернелая стена. Слева — пустота. Читаю вырезанные на стене лозунги всех армий и узнаю калибры пуль, утверждавших этот политический орнамент во время войны. Смотрю на дорогу. Нигде ни души.
Полдень.
Июнь.
Далеко внизу, у самой реки, поют впряженные в плуги женщины.
Два уцелевших дома и десятка два стен, разбросанных по обе стороны дороги, по всей видимости и есть мое село.
На мне военная форма. На рукаве три звездочки. Капитан. Бывший. Брюки, надетые прямо на тело, трут в паху. Почесать под мышками боязно, — того гляди, рубаха под пальцами расползется. Пот ест босые ноги в жестких жарких сапогах.
Гляжу я на этих своих верных товарищей. Чем не дневник? На болгарской границе их ваксила пригожая крестьяночка, а я тем временем ей заливал, какие мы, партизаны, порядочные, у нас, мол, без согласия женщины ни-ни… А на австрийской они тузили по заду немецкого полковника, а я тем временем внушал ему, что мы, партизаны, блюдем Женевскую конвенцию, соответственно местным условиям и возможностям, разумеется.
Сапогу следует поставить памятник и тут же дать по нему из орудия.
Подле меня вещмешок, автомат и револьвер. Муравей резвится на мушке револьвера, выглядывающей из рваной кобуры. По дулу автомата ползет червяк, убеждая меня в ненужности оружия. Весь металл на восстановление! Но лозунги мирного времени меня мало трогают, я вовсе не собираюсь бросать оружие и становиться на героическую вахту у плуга. Без оружия нельзя, в лесу еще банды орудуют. Пахать я не могу — спина моя нашпигована осколками, и, чуть наклонюсь, они шуршат под кожей, как щебенка. Спущу денежки, а там и примкну к какой-нибудь колонне мирных жителей заканчивать свою биографию. Деньги я слишком мало ценю, чтобы делать ставку на них. Искать славы — поздно. Впрочем, я за ней и раньше не гонялся. Нет у меня никаких желаний. Все позади. А впереди еще ничего не светит. Плыву, как одинокое бревно по спокойному лиману времени.
Терзаю я свою потную грязную потылицу и думаю: а не съесть ли мне хлеб и лук, что лежат в мешке? Решаю так: покажется женщина — съем, мужчина — оставлю на ужин.
Показалось пугало, старое, в лохмотьях. В нынешние времена помощи ЮНРРА[1] и Красного Креста воистину мудрено ходить таким оборванцем. Да и политически никуда не годится. Почесываясь то там, то здесь, словно вши у него привыкли к ДДТ, старик издали подозрительно косился на меня.
Он хотел было свернуть в сторону — война его кое-чему научила, но любопытство взяло верх. Приложив два пальца к шапке, которая по идее когда-то была папахой, он, не ведая еще, из какой я армии, для начала сказал:
— Жарища!
— Мне не жарко, — отозвался я.
Старик присмотрелся ко мне, нагнулся, заглянул мне в глаза и завопил:
— Данила, никак ты?
— Угу. Собственной персоной…
— О, боже милостивый, боже милостивый! Неужто ты жив, касатик?
— К сожалению, да.
Мое равнодушие задело его за живое.
— Не признаешь меня, Данила?
— Как не признать, ты Панта Куль, мой ближайший сосед…
— А ты вроде б серчаешь на меня?
— Да нет, просто живот болит.
— Найдем тебе глоток-другой зелья лютого, хоть из-под земли достанем! Дай-ка поглядеть на тебя! Смотри-ка, весь седой! И изранили небось, мерзавцы?
— Железа во мне на целую борону.
— Ох-ох, злодеи, что они с нами содеяли, накажи их бог! Я тоже хлебнул горюшка, сколько раз на ружья натыкался. Одному богу известно, как уцелел. А-а… ежели здесь останешься, поди, будешь… председатель аль начальник какой?
— Я из Госбезопасности, — пошутил я.
Панта выпучил глаза, выдернул травинку и с лисьим спокойствием посмотрел на небо.
— Людей сажать — тоже дело.
— Ну, а как твои, Панта? Все живы?
— Где уж там все! Ну ладно, прощай, Дане. Пойду поищу глоток ракии. Ежели сам не смогу принести, пошлю мальчонку.
Два сына Панты ушли с четниками. Он был имущим хозяином, из тех, кто, как говорится, и нашим и вашим. Был комитетчиком у нас и у четников, старостой при усташах. В одной и той же кровати у него одинаково удобно спали и Коча[2], и полковник Фишер, и Сергие Михайлович[3], и Францетич[4]. Он ловко ходил по остриям наших военных хитросплетений и ни разу даже не поранился. Хамелеона несправедливо исключили из науки о человеке.
Я знал, что он не вернется. Но раззвонит по всему селу о моем прибытии. Интересно, кто первый захочет поглядеть на меня?
Йованка!
Она бросила плуг, на бегу умылась и переоделась. Стройные ноги были еще мокрые до колен. Шумно дыша, она звонко целовала меня и обнимала руками пахаря.
— Ой-ей, пришел наконец, старинушка! К кому пойдешь ночевать? Мама твоя померла в лагере беженцев, знаешь, поди?
— Да.
— Стевана повесили эсэсовцы. Перед общиной.
— Знаю. Слыхал.
— Сестра вдругорядь замуж вышла, уехала в Сербию.
— Да ну!
— Бабку Евту задушили бандиты-четники.
— О, значит, никого не осталось.
— Никого, бедный мой Данила! Но мы с тобой старые товарищи, друзья по несчастью.
— Верно, обоим досталось от твоего покойного мужа.
— Добрый был человек, бедняга, да только чудной какой-то. Ну, так пойдешь ко мне ночевать?
— Пойду, только чур — ночью ничего!
— Ладно, ладно, ты только приходи! Взять мешок и фляжку?
Улетела.
Тридцать раненых перенесла она в Семберию. Два немецких наступления выдержала в отряде. На руках перетаскивала через горные потоки изнемогших бойцов. В Семберии взваливала на спину мешок пшеницы и шла в горы, чтоб накормить размещенные там отряды. А сегодня так же, как вчера и позавчера, впряглась в плуг и пахала. Да еще и пела.
Что делать, ежели она, как солнце зайдет, протянет ко мне руки?
Третьего гостя не пришлось долго ждать.
Пришел Раде по прозванию «Власть».
Гражданская эта власть хромала, однако возмещала свой недостаток толстой палкой и хорошо подвешенным языком. Молодая, желтая от плохих харчей, ощетинившаяся, самоуверенная, словно заткнула за пояс «Капитал», она подошла ко мне, подозрительно поздоровалась и спросила:
— Имя и фамилия?
— А тебе какое дело? — плюнул я ему под ноги.
— Что-о?
— А вот возьму да арестую тебя, потому как у тебя нет даже удостоверения личности, а у меня есть! — с истинным наслаждением дразнил я его. Такой роскоши не позволил бы себе человек с мозолями от собственной биографии. И тот, кто не надеется на свои кулаки.
— А зачем мне удостоверение личности? Меня и так всякий знает. Я Раде Билегович.
— Очень приятно, — сказал я с достоинством и отрекомендовался: — Данила Лисичич!
— Ты Данила? Товарищ Данила… Неужели? Здравствуй, Данила! Ну как ты? Извини, признаю критику, но пойми, товарищ Данила, я обязан проверять всех, кто здесь проходит. Знаешь, бдительность превыше всего.
— Верно, верно.
— Товарищ Данила, а не хочешь ли ты включиться в…
— Сначала я отдохну.
— На полатях лежать, так и хлеба не видать. Надо строить новую жизнь. Это я тебе, товарищ Данила, сразу могу сказать.
— Сначала я отосплюсь.
— И сколько ж тебе надо на это времени?
— Ну, месяца два.
— Многовато. Столько мы никому не даем. Я могу приказать, чтоб тебя два дня никто не беспокоил и чтоб все это время на полкилометра от дома стояла тишина. Два, больше не дам. А где думаешь отсыпаться, товарищ Данила?
— У Йованки.
— Гм!
— Чего это ты гмыкаешь?
— Не пойдет. Между нами говоря, не нравится мне она. Конечно, она за нас, но в личном плане вызывает сомнение. Все время поет, вертит задом, глазами зыркает, задирается, меня и то иной раз ущипнет — никакого уважения к руководящим работникам! А главное, смеется, даже когда ей плохо. Я сам люблю посмеяться. Скажем, договоримся: а ну, товарищи, посмеемся назло реакции, и давай хохотать. Организованно. А она — индивидуальничает.
— Да ты, Раде, поди, не прочь и сам переспать с ней разок?..
— Что ты сказал? Выбирай слова, товарищ Данила! Хотя, гм, знаешь, ежели б оно, скажем… строго конспиративно, так, чтоб народные массы не узнали, черт бы их всех побрал, тут, хоть кротом обернись, все равно не скроешься, но ежели б, знаешь, нелегально, эх, тогда я за себя не ручаюсь!
— Ха-ха-ха!
— Хе-хе-хе!
— Тогда б она утром не пела, а, Раде?
— Нет, товарищ Данила, честное партизанское, не пела бы! Три дня тряслись бы поджилки. Она бы у меня узнала, как хвостом вертеть. Хотя, может, меня б самого вынесли на носилках. Эхма!
Ом посмотрел на солнце.
— Пора идти. Только вот еще растолкуй мне, товарищ Данила, что такое гонорар?
— Надбавка, доплата, что-то вроде этого.
— Видишь ли, один чиновник пишет, что приедет к нам, если сверх жалованья будет получать еще и гонорар. То бишь надбавку. Так бы и писал, тогда бы я сразу понял. Ну и люди! Только и думают о собственном брюхе! Ну пока, смерть фашизму, товарищ Данила! Увидимся еще.
Он ушел, ловко опираясь на палку.
Долго никто не приходил.
Горы, выгнувшиеся подковой, которую замкнула река, взяли в кольцо сухую горячую тишину. Звенит пустота. Будто из воздуха, из неба и света что-то выдернули и на этом месте зияет провал. Прошлое шумит, как раковина, печально повторяющая шум давно высохшего моря.
Загрустил во мне солдат. Перепугался штафирка при виде всех ужасов конечной остановки. Бежать? Оставаться? Где и с кем?
Решительно все надо начинать с начала, а я чувствую себя так, будто доехал до конца. Передо мной стена. А подле нее — раскрытая могила.
Из зарослей ломоноса показался босоногий парнишка. Он махал рукой у подбородка, и мне тотчас загорелось узнать: чего это он размахался?
Парнишка остановился передо мной.
— Ты Данила? — спросил он строго.
— Да. А ты кто?
— Я Мичун.
— Садись, товарищ Мичун. А почему ты машешь рукой?
Мальчик поднял подбородок. Длинный, от уха до уха, нагноившийся шрам сочился в нескольких местах желтыми прядями.
— Мухи садятся, Данила, я их и отгоняю!
— Придвинься-ка ближе, Мичун! Ух, где это тебя так угораздило?
— Усташи резали, да только в спешке неглубоко взяли. Торопились порешить взрослых.
К счастью, Йованка не забрала мешок и фляжку. Я промыл ему рану, содрав часть заскорузлых струпьев. Из синих небес его глаз на руки мне капали слезы, но из груди не вырвалось ни единого стона. Я пальцем наложил на рану мазь и перевязал ее последним солдатским бинтом. С белой повязкой на шее он походил на молодого петушка.
— А у тебя нет зеркальца, Данила?
— ?!
— Посмотреть на себя. Если нету, ничего. Я не за тем пришел. Я вот за чем. У тебя, случаем, не два карандаша? А то бы дал мне один? Дед мой, ты ведь его знаешь, косой Джордже, говорит: ишь чего захотел, у меня порток путных нет, а тебе карандаш подай.
— В школу ходишь?
— Осенью пойду в третий. Эх, товарищ Данила, если б ты нам помог! Нынешние пацаны, брат, понятия не имеют, что такое строй и отряд. Им бы только гонять по лугу тряпочный мячик да сливы воровать. Что поделаешь, сознательности не хватает! А взрослые бьют. Чуть что — по заду! Или тычок в спину. Ну и времена пошли, товарищ Данила! Будто мы и не воевали! Говоришь, идет мне повязка?
Я ошалело молчу и слушаю его болтовню. Пожалуй, только самая чистая невинность может с такой легкостью и проворством перекидывать мосты над глубочайшими безднами. Я не сумел толком ответить на его вопросы — о нашей армии, о боях и вражеских наступлениях, о здоровье нашего земляка, героя-генерала. Я просто дал ему денег на карандаш и тетрадки, а еще — на табак и штаны для деда. Он простился — отважно протянув руку — и добрую часть пути проделал четким шагом солидного хозяина. А потом, решив, что я его уже не вижу, припустил бегом. Рука с деньгами была крепко прижата к бедру.
«Сукин сын», — выругал я себя.
Видишь ли, вздумалось ему малость поумствовать, отдохнуть, пока другие тянут на себе плуги или с невинной улыбкой перемахивают через вырытые войной пропасти.
Марш в строй! Завтра доложишь о своем прибытии самому себе!
В противном случае…
В противном случае будешь последним предателем, что травят себя ненавистью и тщеславием.
Надень шоры и, подобно вышколенному вороному коню, скачи прямо по дороге! Тебя будет греть надежда, что в конце концов куда-нибудь прискачешь. Это лучше и честнее, чем прохлаждаться в канаве у дороги, заросшей и грязной, откуда видно, что другие идут, а ты уже примирился с тем, что никуда не придешь.
Помнишь батальонную колонну? Когда скрывались из виду последние и дорога пустела, слабакам оставалось лишь пустить себе пулю в лоб или дезертировать.
В сумерках я отдал команду.
— Шагом марш! Направление — за командиром! На раненых и мертвых не оглядываться! Их будут лечить или хоронить медсанбатчики! И те, кто идет за армией и пишет историю.
Йованка, пышущая здоровьем, ждала меня с ракией и ужином. Вместо дома у нее была хижина с печкой и кроватью, вполне поместительной для двоих.
Я строил дома погорельцам.
Начали мы с громких слов.
Мы — герои,
мы изгнали ненавистного оккупанта,
мы идем в новую жизнь,
но наши руки были старые, пальцы старые, в старых мозгах лишь изредка попадались новые извилины, арсенал понятий старый — бог, держава, мое поле, словом, все как и прежде; ростки грядущих перемен только-только пробивались. Кроме, конечно, свободы крика на комитетчиков и их смещения и назначения.
«Техническая база» была горе горькое. Наши испытанные фронтовики воровали гвозди, стекло, черепицу, дверные и оконные петли, иные по три раза крали одни и те же стройматериалы и перепродавали. Крестьяне взимали репарации со своей любимой отчизны. Хилое, рахитичное сознание не могло пробиться сквозь бетонированные траверсы собственничества.
Я уже тогда боялся, что ежели в селе появится бог, не привезенный крестьянами на своих телегах, они сдерут с него шкуру и сожрут вместе с потрохами, да еще и кости обглодают. А его красный балахон повесят на триумфальной арке.
Социализму на селе предстоит перепахать много чего поважнее межей и оград. Какой тут, к черту, социализм, пока борозда не протянется по крайней мере километров на пять. И пока крестьянские порты не заменит синий комбинезон. А брошенную мотыгу — машина, приводимая в действие нефтью. Только, боюсь, запчастей не напасешься, ведь наш дорогой земледелец непременно начнет по ночам выворачивать болты и прятать их по чердакам и под стогами сена: авось пригодится! А утром, почесывая за ухом подле развинченной машины и растерянного следователя, проворчит: «И кто ж это делает, чтоб ему пусто было!»
Куда проще обозреть утекшие воды истории, чем стараться заглянуть в будущее! Муки прошлого уймут протяжные песни и возвеличат хрестоматии. А будущее попахивает железным расчетом, для которого понадобится чуточку больше извилин, чем нам досталось от частного землевладения. И нечего пытаться их прикупить, привозные извилины вряд ли подойдут к нашим черепам, и головы наши все равно останутся пустыми.
Двадцать фронтовиков гомозятся вокруг нового дома Стояна Гргеча. Спешат до темноты вставить оконные рамы, выкопать вокруг дома канавы, настелить полы. Стоян сидит на корточках в саду рядом со мной, словно хозяин, приглядывающий за поденщиками. Попыхивая глиняной трубкой, он изредка роняет слова:
— А ежели я в чем не потрафлю государству, выгонят из дому меня?
— Не валяй дурака!
— Видишь ли, меня ведь уже раз выгоняли из собственного дома, потому и спрашиваю.
Сперва он мне показался забитым трусишкой, который обмирает со страху, если его угостят сигаретой. Не привыкший к подаркам, он попросту усмотрел бы в этом какой-нибудь подвох. Но в гнезде, свитом из бороды и усов, появилась усмешка. Мудрость молчаливой земли и непробиваемого, воловьего спокойствия.
— Выдюжили войну! — сказал он.
— Кто выдюжил, а кто и нет!
— Я про себя говорю, Дане!
— А почему ты не пошел в партизаны?
— Гм! Почему не пошел! Когда тут заварилось, я рядно на голову и под эти скалы. Молю бога сохранить мне дом, чтоб было где встретить своих товарищей. Пришли немцы, задымилась крыша, я взмолился: «Товарищ бог, оставь хотя бы стены, я набросаю на них досок, чтоб усталые товарищи не мокли, когда придут». Стены остались, да только четники устроили там бункер, а как товарищи наддали, гранатами их и разметало в стороны. Смотрю я из-под этой скалы и говорю: молю тебя, всевышний, сохрани мне хоть камни, хорошего камня поблизости нету, а где я наберу столько денег, чтоб платить по сотне за кубометр?.. Остались камни. А тут как раз последнее немецкое наступление. Немцы во дворе вырыли орудийный ров. Налетели самолеты, разворотили и пушку и ров. А я говорю: о господи, ну и свинья же ты, ежели бедняцких слез не видишь. Тут уж и я подался в Народно-освободительную армию. Только закинул на плечо котомку, прибегает мальчишка и говорит: война кончилась! Ну и слава богу, хватит, навоевались.
— Так ты мне и не ответил, почему не пошел в партизаны.
— Слушай, а кто был бы народной массой, ежели б все шли в армию?
«Народная масса» молчит и ухмыляется. Он не сказал еще и сотой доли того, что тихо, но неуклонно варится в его котелке.
Мы торопились дать людям крышу над головой. Но ловкие, ухватистые мужики возводили дома, в которых собирались века вековать. Через год без домов остались лишь те, кто их не заслужил, и те, кто не привык жить под собственною крышей.
Когда все отстроились, вспомнили и про мои обгорелые стены. И словно бы из преогромной любви ко мне крестьяне дружно взялись за постройку дома. На юрьев день заложили фундамент, на ильин — вбили последний гвоздь. Дом вышел поменьше отцовского, но зато современнее. А пока строили, я, как и Стоян, сидел в сторонке и размышлял. О самых старательных. И о их любви ко мне.
У первого — дочь-перестарок, а у меня и дом есть, и добрый кусок земли, да и на государственной службе состою. Твердая зарплата.
Второй — наверняка попросит замолвить за него словечко, ежели заинтересуются хищением леса, когда тут не было ни властей, ни лесников.
Двое молодых парней — кандидаты в партию, вот и решили на всякий случай проявить энтузиазм, авось зачтется.
Йованка надеется продать дом, который ей построило государство, а самой поселиться в этом в качестве супруги Данилы Лисичича.
Двум-трем девушкам охота побыть на глазах у парней, потому что где еще их увидишь — в церковь эти безбожники не ходят, на базары тоже, под окнами девичьих домов по ночам не посвистывают и не покашливают, а все мотаются по каким-то общественным делам и слетам, будто и жениться собираются на этих самых конференциях. Правда, все они какие-то бледные и чересчур серьезные, словно на морозе вскормлены. Но где взять других? Здоровых ребят скосила война по разным армиям — спят они в земле сырой.
В комнату, где еще пахло известкой и свежими досками, я принес охапку соломы, два шерстяных одеяла, стеганое ватное одеяльце ЮНРРА и оружие. Йованка — подушку.
Целыми днями таскался я по селам, занимаясь всевозможными делами, которые я объединил бы под одним названием: внутренняя политика. То в сумерки, то на рассвете брел я по полям домой с единственным желанием переступить порог и как есть, в грязи, не снимая сапог, повалиться на пол. Комната всегда была прибрана и проветрена, а на подоконнике стояла остывшая еда. Таз и кувшин с водой напоминали мне об обязанностях по отношению к собственному телу.
Дух женщины, которая только что была здесь, не позволял моему дому стать кельей вдовца.
Порой я заставал Йованку с веником в руках или за мытьем полов.
— Живешь, как гайдук! — с горечью говорила она.
А я хватал свою сообщницу и наверстывал с ней четырехлетний народно-освободительный пост, за что, естественно, моя сообщница была мне весьма благодарна.
Город поет гимны весне, село — осени, город — зеленому рынку, село — полному амбару. Весной крестьянин настроен отнюдь не лирически, как это утверждают хрестоматии. Весной он ругательски ругает и беременную жену, и оголодавший скот, и малокровных детей, с которыми то и дело случаются обмороки, клянет он и небо и землю, точно они виноваты в том, что приходится молоть на хлеб посевное зерно, он бранит все и вся, щадя разве что одно государство, да и то лишь в том случае, если оно уделит ему горсть-другую пшеницы. На собрания приплетается вялый и мрачный и чуть ли не кричит на тебя:
— Какого черта вытащил меня переливать тут с тобой из пустого в порожнее? Не видишь, что ль, еле на ногах держусь?
Той весной мы с секретарем уездного комитета вдоволь напереливали из пустого в порожнее. Совсем запамятовали, что война давно кончилась, что теперь экономика держит в руках политику и что для пахаря пахота куда важнее членских взносов и разных там собраний и заседаний.
Если вам приходится выезжать на места, постарайтесь как-нибудь обойтись без секретаря комитета!
Не то у вас будет, как было у меня, за семь дней семнадцать собраний плюс семнадцать тысяч бед. Только выслушать их — совершить подвиг, а ведь из каждой надо еще и выход найти!
Там, где вы с хозяином, потягивая из баклажки, с чувством исполнили бы какой-нибудь фольклорный номер, с секретарем вы выпьете чашку разбавленного теплого молока и всю-то ноченьку, скрестив на груди руки, промолчите с умным видом, слушая лекции по внешней и внутренней политике!
Хозяин уложит вас на свою единственную, притом довольно узкую кровать и покроет единственным одеялом, если таковое найдется. А то и вовсе — на ухо ложись, другим накройся. Да еще вытянись в струнку и не шевелись — не то, чего доброго, лягнешь коленом секретаря уездного комитета или ненароком двинешь задом, и он свалится на пол, ушибется, и если, к счастью, не проснется, то, не дай бог, простудится! Ну сами посудите, как после этого показаться на глаза кадровикам? А утром встанешь — колени не гнутся и весь ты словно аршин проглотил.
Правда, что до меня, так я бы и спихнул своего секретаря, если бы сумел, но — черта с два, попробуй выпихни верзилу в полтора раза выше тебя! Он как завалится, как зажмет одеяло и зубами и коленями, тут уж его сам господь бог с места не сдвинет.
Мне только и оставалось, что, вытянувшись, как брошенный на землю шест, считать бесконечные часы глухой ночи.
У этого парня прежде всего бросались в глаза ноги.
Это не были ноги нашего пехотинца, который отмахал свой четырехлетний маршрут, а теперь тщетно лечит ревматизм и воспаление суставов, — ведь жизнь человеческая ведет всегда к старости, молодости не вернешь, и чем дальше, тем труднее бороться с недугами,
это не ноги спортсмена, который постоянно укрепляет и тренирует их для услады зрителей и престижа нашего спорта в миролюбивом мире,
это не ноги деревенского щеголя, который носится с ними, как с писаной торбой, нежит, холит, лелеет, украшает всякими немыслимыми носками, опанками и сапогами, а силу их показывает разве что в дробных замысловатых коленцах деревенских плясок,
это ноги бывалого подпольщика-горца, длинные, стройные, гибкие по-кошачьи и ловкие, как у канатоходца, ноги, которые стоят дороже, чем иные руки, плечи и голова, вместе взятые, ноги, заслужившие, чтоб их воспели наравне с руками…
Они тихо, как самый тихий шелест, пробегали по полночным горам, неслышно проскальзывали мимо часовых и охранников, под окнами вражеских штабов, через села, полные собак, которые брешут при малейшем дуновении ночного ветра в лесу, а шагов подпольщика не слышат. Эти ноги незримо переносили тело по самой кромке снопов света прожекторов и фар. Под ними не скрипели самые рассохшиеся половицы. Это ноги подпольной части революции. Они задавали перцу многим чужеземцам в этой стране.
Колоды, на которых я шкандыбаю, не достойны даже ковылять за ними, хотя я на них по родимой земле намотал не меньше пол-экватора.
На восьмую ночь, промокшие до нитки, подошли мы с товарищем секретарем к нищему хуторку Урвины.
— Ночевать пойдем к Воиславу Опремичу! — сказал секретарь.
— Останемся без ужина. А может, и без головы.
— Я и хочу к нему, потому что он бедняк и бывший четник.
— Если я родился по недоразумению, то уж про тебя этого никак не скажешь.
— Наш долг бороться с реакцией за каждого человека.
— Если мы, мой секретарь, станем бороться на голодный желудок, оба скоро околеем, на радость внутренним и внешним врагам.
— Я ем раз в день! — сухо отчеканил секретарь.
— По политическим мотивам?
— Берегу фигуру.
— Я всю свою фигуру готов отдать за жареную курицу! — произнес я торжественно. — Похожу с тобой еще три дня, и вовсе разучусь жевать. Может, поищем зажиточного трудящегося?
— Нет!
— Понятно!
Как повелось в этих селах со времен османского владычества, поначалу нас встретила свора собак, потом появился ребенок, за ребенком — хозяйка, и лишь после того, как они уразумели, кто мы такие, и доложили хозяину, вышел и сам он, ругая для порядка жену и ребенка за то, что затеяли пустой разговор с усталыми путниками, которых следовало сразу пустить к очагу. Но я был уверен, что при первом условном знаке он готов был сигануть через другую дверь в лес, в горы.
Мы сели у огня. Разулись. В честь столь важных гостей хозяин зажег свечу. Секретарь тотчас же завел с ним беседу, подготовленную еще по пути. Я же погрузился в тайное исследование грязной посуды, стоявшей поблизости от очага.
Что у них было на ужин?
Детальный анализ одной миски сразу установил — простокваша.
Секретарь упорно разыгрывал доброе отношение к Воиславу, Воислав — преданность. Забыв про ужин, они принялись восхвалять прелести свободы, словно эта самая свобода — медный котел, полный турецкого плова, и они его уплетают за обе щеки. А я гляжу на них и облизываюсь.
Наконец я не выдержал и, быстро придумав маневр, встал и направился к двери. Воислав вскочил, чтоб открыть мне и показать, где тут у них… Оказавшись за порогом, я схватил его за грудки и прошептал в самое ухо:
— Ставь на стол ужин, не то будешь иметь дело со мной!
— Что?
— Ужин, говорят тебе, давай. Ишь, взялся лясы точить с хорошим человеком! Знаешь, что не попросит, вот и не чешешься.
— А чего вам, брат?
— Молока, яичницы, хлеба, щавелевого пирога, творога, сыворотки, давай что есть, только без дураков! Потому как если я спрошу тебя про дукаты Хамзича и двоих раненых партизан с базы под Бороговом, то тебе и сам бог не поможет..
Когда я вернулся в дом, молодая хозяйка сердито взбалтывала у очага яйца. Хозяин, сидя по-турецки и вытянув шею, подобострастно слушал лекцию секретаря.
Вот жулик, подумал я, махонький сейчас, в жилетном кармашке поместишься, а какой ты был, когда бряцал оружием и тряс бородой! Ах ты, сучий выродок, паинькой прикидываешься, классово чистым крестьянином. Услышал небось, как это высоко котируется на бирже анкет. Земли-то всего ничего, а дом отгрохал, волов завел, хлев кирпичный строишь, землю собираешься покупать, на чьи шиши? И ведь сумел же подольститься, без мыла влезть в эту суровую и чистую душу, которая незаслуженно верит всякой дряни вроде тебя.
Ох, если бы мне дали власть на три дня!
Я заставил бы вас три ночи кряду жрать куколь из пшеницы.
Юлишь и извиваешься в широкой рубрике «в прошлом заблуждавшиеся, но в основе своей честные», а наша полуграмотная власть и честные души не видят, как бьет ненависть из твоих обернутых в шелковую улыбку глаз.
Я высказал ему все это своим угрюмым молчанием, а он, как умный крестьянин, ответил мне не менее красноречивым пренебрежением:
«Плевать я на тебя хотел, главное, секретарь — мой. Ужин ты, конечно, получишь. Дай-то бог нам с тобой встретиться где-нибудь на узкой дорожке!»
Поужинали отменно. Секретарь расчувствовался, приняв ужин за знак расположения к нам хозяина. А я не сомневался, что, будь его воля, он с гораздо большим удовольствием подсыпал бы нам стрихнину, а для верности еще бы и головы отрубил.
Мы погасили свечу и продолжили разговор при свете очага. Хозяин и секретарь наперебой потчуют друг дружку красивыми словами. Мало-помалу, и вот я уже слышу: «Товарищ Воислав!» и «Товарищ секретарь!». Социализм, капитализм, электрификация, индустриализация, аграрная реформа, государственный и кооперативный сектор… А мне спать охота! Повернул я к очагу свою молодецкую спину и таращусь в темноту.
Дети в горнице поплакали и затихли. Хозяйка не выходила.
Воислав рассказывал секретарю о своих подвигах, совершенных в то время, когда он еще воевал в партизанском отряде. Секретарь приехал в наши края в сорок четвертом и, похоже, верил в эти небылицы. Только хозяин улегся за пулемет, чтоб пальнуть по колонне усташей,
как по-над селом
прогремела всамделишная очередь.
— Патрули пуляют! — спокойно объяснил Воислав, но по едва уловимой дрожи в голосе я понял, что ему кое-что известно. Это не случайная пальба: наверху, на высотке, что-то происходит. Я незаметно зашнуровал башмаки и положил на колени автомат.
Недолгую тишину распорол разрыв двух гранат невдалеке от нас. У самого дома загрохотали шаги. Дверь распахнулась. Бородач грянул:
— Отворяй погреб, Воя, так твою перетак!
Из-за него высунулась еще одна голова.
Я взял автомат и, не вставая, поздоровался с ними длинной очередью.
На заре мы с двадцатью солдатами шли за телегой, на которой тряслись трое мертвых бандитов (третьего ухлопали солдаты).
— Ну как, поглядел на Воислава? — спросил я секретаря. — Ты с ним сю-сю, а он…
— Воислав будет с нами!
— Не скажи, он укрыватель.
— Не могли же все партизанить. Когда началось, я думал, что мы сами перебьем друг друга, всех до одного. Воислав свое отсидит и придет к нам. И будет избирателем.
— Я бы его направил в небесный избирательный округ.
— И скольких бы ты пощадил от своего гнева? И сколько бы насчитывало население Югославии?
— Не пойму я тебя. Отъявленного мерзавца милуешь, а натвори я завтра в десять раз меньше, ты…
— Ты доказал, что не можешь натворить ничего такого. А дал бы я тебе взбучку за лень, усыпившую сознание.
— Да, живой человек все стерпит, — вывел я мораль из только что прослушанной нотации.
Дом оказался запертым. Я озирался, гадая, где Йованка могла оставить ключ. И тут за забором, на дороге, показалась копна волос. Она принадлежала гражданину, еще ходившему по земле без штанов, в одной рубашонке.
— Хочешь, я позову тетю Йованку? — спросил он, взявшись за забор со степенностью заправского соседа.
— А откуда тебе известно, что мне нужна тетя Йованка?
— Слыхал…
— А что ты мог слыхать?
— Мамка говорит…
— Ну и что же говорит твоя мамка?
— Мамка говорит, этот жулик Данила ночь напролет ловит блох на брюхе Йованки.
Я чуть было не попросил его передать мамке пару ласковых слов, да удержался из опасения, что женщина поймет меня превратно. Одну блоху я еще кое-как поймаю, но две явно превышают мои блохоловецкие возможности.
Мальчонка ушел.
В ожидании Йованки я сел на порог. Кто-нибудь уж непременно доложит ей, что я прошел по селу. Злорадство, зависть и злые языки как-нибудь об этом позаботятся.
Как только что распряженный вол, я бессмысленно и тупо таращился в зеленую пустоту, в синюю опрокинутую чашу неба. Извилины в мозгу в хаотическом беспорядке воскрешали недавние картины. Бородатые лица, голодные глаза, секретарь, Воислав, затянутые в патронташи окровавленные трупы, сосновая веточка, бьющая меня по глазу. Умный человек сделал бы надлежащие выводы. Я же по горло был сыт выводами. Я просто вздохнул: а каково тем, кто день за днем ведет протоколы? И я вновь предался своей душевной сумятице и тупой боли в ногах. Другой на моем месте по крайней мере дал бы зарок не ездить больше по уезду с секретарем. Я не мог сделать и этого. Пока еще секретари решают вопрос, кто должен быть в их свите.
Не имея ни малейшего представления о кооперативах, я организовал кооператив в Лабудоваце. Ничего не попишешь. Такова директива. Перво-наперво я открыл лавку, забив ее солью, гвоздями, мотыгами и топорами, бочками керосина и медного купороса, резиновыми опанками. Были здесь и туфли на высоких каблуках, а также довоенные остроносые туфли и ботинки, которые в пахоту развалились бы на первой же борозде. Прислали мне и случившиеся среди товаров, реквизированных у старых городских торговцев, заколки, пряжки, корсеты, полуцилиндры, шелковые чулки. Марко Охальнику я дал корсет, чтоб он завернул в него больного ребенка. Два полуцилиндра послал молодежному драмкружку — ребятам не во что было одеть буржуев в пьесе. Один оставил про запас. Приедет к нам, к примеру, какой-нибудь специалист, чем не подарок ко дню рождения или, скажем, к рождеству? Пять пар шелковых чулок взяла в кредит Йованка и раздала вдовам погибших партизан. Она просила и резинку для подвязок, но за неимением таковой женщины удовольствовались шпагатом. Сорок пар туфель на каблуках я отослал в Сараево в обмен на ящик гвоздей, дверных и оконных петель и серпов. На туфли могли польститься либо буржуи, желающие умереть элегантными и красивыми, раз им все равно суждено умереть, либо новоиспеченные «дамы», которые, кстати сказать, совсем недавно сняли опанки, деревянные сандалии или сапоги. Не знаю только, найдется ли в Боснии и Герцеговине нога, что влезет в подобную туфельку!
Хотя женское тщеславие способно решить любую задачу.
В лавку я посадил сына одного городского торговца, почившего в бозе перед самым нашим приходом. Вот уж истинный сын своего отца! Я просто наслаждался, глядя на его работу.
— Пожалуйста, душа моя!
— А это тебе, тетушка, от себя добавляю. Все теперь наше! За что боролись?
— С походом даю, кооператив не обеднеет, мы не капиталисты, чтоб людей обвешивать! Народу надо дать как можно больше хлеба, работы, порядка и мира. Пожалуйста, следующий.
— Ладно, товарищ Ранка, доплатишь, когда сможешь, свои люди. До свидания! Свобода народу, товарищ Ранка, привет товарищу председателю!
А я вижу привязанный к весам камень, на каждый килограмм сто граммов недовесу выходит, смотрю на него и думаю: что же это будет? Научились таким дивным словам, а дело идет по старинке!
Когда покупатели схлынули, парень вышел из лавки и, потирая руки, подмигнул мне злыми зелеными глазами.
— Идет дело, товарищ Данила!
— Марш обратно! — ласково прикрикнул я, и он, словно резиновый мячик, вкатился в сумрак лавки.
Приходят покупатели из дальних селений, мы здороваемся за руку, садимся перед лавкой и курим, потягивая ракию. Все они голь перекатная, разутые, раздетые, но когда придет пора купить ситца или гвоздей, из глубин грязных волосатых пазух вытаскиваются денежки, в три тряпицы завернутые, на трижды три узла завязанные, и на прилавок медленно выкладываются новехонькие, хрустящие банкноты. Голодная весна миновала, щеки вновь порозовели. И первые тысячные спрятаны в стену в подполе, в соломенный тюфяк или под половицу. Хлебный кризис пошел на убыль. Зато у меня, председателя кооператива, наступил кризис нравственный. Говорят, он не опасен. Похоже, от него еще никто не умер. Но я чувствую, как он гнетет меня. Вроде ничего не болит, а душу гнетет, как, впрочем, и всякая рана, о которой вслух не принято говорить.
К чему стремиться?
Рентабельность?
Кто наденет намордник на алчную пасть торговли, когда она доберется до дирижерской палочки цен?
Но если мы станем лить слезы над судьбой рядового потребителя, мы за один день слопаем наши тощие резервы.
Значит, надо добывать деньги!
Вперед!
А если нашему многострадальному гражданину ремень и вовсе окажется без надобности, это отнюдь не означает, что скандал неминуем. Штаны можно и руками придерживать.
Перед лавкой остановился джип. Все вокруг примолкли. В Лабудоваце джипы не останавливаются, и вообще выше уездного секретаря сюда никто не приезжает. Поэтому все рты, которые до того не закрывались на двести метров вокруг, все глаза, которые на этом расстоянии на что-то смотрели, оставили свое занятие, а обладатели их медленно, стараясь оставаться незамеченными, все свое внимание переключили на джип. Не зная, кто в нем, я крикнул:
— Лабудовац, смирно! Кто-то прибыл!
Впрочем, парадом командует секретарь комитета. Я всего лишь производственник.
Притаившись за углом пивной с комитетчиком Марко Охальником, я пытаюсь установить, кто пожаловал.
Если депутат, надо сразу всех созывать на митинг. Наверняка сообщит нам какую-нибудь новость из газет — ведь мы газеты не регулярно получаем.
Если товарищи из областного комитета, меня нет, «поехал в села», ибо кто его знает, сколько дней продлится совещание, пока я расскажу им все, что они захотят услышать, и пока они скажут мне все, что, по их мнению, я должен услышать.
Если ревизия, вскакиваю на коня и мчусь в соседний уезд, разумеется, по важному делу.
Если частные лица,
я выйду к ним,
мрачный и страшный,
и
ИМЕНЕМ НАРОДА
спрошу, кто это позволяет себе роскошь в то время, когда народ напрягает все силы и т. д. и т. п., ну-ка, полюбуйтесь на них, это еще что такое?
— О, господи, кожанки! — говорит Марко Охальник.
— Трое.
— Трое, господи спаси и помилуй.
— Они не из нашего избирательного округа?
— Нет.
Ни одно из моих предположений не сработало.
Направляясь к джипу, я пустился в размышления о кожаных пальто.
Потомство, одетое в нейлон, перлон, грилон и шерсть, которую будут стричь на лугах и прясть из воздуха, должно знать, что некогда означало кожаное пальто.
Если пальто застегнуто на все пуговицы да еще перетянуто ремнем, из-под него выглядывают сапоги, а зад раздут пистолетом, это значит: «Берегись! Я важный государственный деятель, у меня нет ни желания, ни времени цацкаться с вами, а мрак в моих глазах — это усталость от беззаветного служения родине и народу и тайный груз, предназначенный не для простых смертных».
Если кожанка расстегнута и полы ее волочатся по земле, это наверняка трудяга, что из последних сил тянет какой-нибудь тяжеленный хозяйственный воз, или прикидывается таким.
Если кожанка небрежно наброшена на плечи, то тут возможны два варианта:
1) Если она на плечах крестьянина, значит, кто-то в последний военный год сковырнулся от крестьянского обреза, по собственной инициативе пущенного в дело.
2) Если она на плечах прилично одетого товарища, который держит руки за спиной, это наверняка кто-нибудь из кабинетных руководителей, что ходят пешком только от дома до своего кабинета, а новое пальто берегут на случай съездов, союзных конференций и областных совещаний.
Если надраенная до блеска кожанка на молодом человеке, а дополняют ее шарф, галстук и новые кожаные перчатки, то можете не сомневаться, перед вами сын руководителя, ибо товарищу папе кожанка стала тесна.
Если она на женщине, тогда приходится собственные взгляды на женский вопрос держать при себе, ибо носят их, как правило, боевые представительницы АФЖ[5].
Однако лабудовацкие гости не подпадали ни под одну из этих категорий. Они сильно смахивали на аппаратчиков, которые кожанки берут напрокат в городе, чтоб придать себе весу на селе. А поскольку вообще еще не наступило время ходить в пальто, я сделал вывод, что кожанки для всей троицы — своего рода компенсация за пробелы в их боевой биографии на ее ранних этапах.
Мы поздоровались, пожав друг другу руки и пробормотав ошметки своих фамилий. Они протянули мне письмо, и я сразу почувствовал, что они рассчитывают на него как на психологическую атаку. Республиканский министр рекомендовал их самым уважительным и дружеским тоном. Просил оказать содействие в закупке ореховых пней. Внизу секретарь уездного комитета написал красным карандашом резолюцию: «Нос! Выполнить! Семь!» Я мигом расшифровал: «Кровь из носу, а все выполнить самое большее за семь дней!» На эту любезность секретаря мне оставалось ответить лишь добровольным согласием.
Пока мы наперебой пропускали один другого к пивной, во мне вспыхивали неоновые слова великой идеи. Я не сразу охватил ее целиком, но уже догадывался… От догадки до прозрения один шаг, если, конечно, человек не привык привязывать лошадь там, где ему укажет ага. А я безлошадный, да и возле аги не кручусь, норовя первым поцеловать ему полу и руку и восхититься его мудрым советом, где следует привязать лошадь. Идея быстро расцвела пышным цветом, от которого запахло большими деньгами. Не успели еще гости посвятить меня в свои планы, как я уже имел собственные, естественно тут же решительно оттеснившие все прочие.
Главное, не терять ни минуты — развитие торгового дела не может ждать.
Я повел их в пивную, которую мы переименовали: «Столовая рабочих и служащих. Вперед, товарищи!» Так гласила вывеска, и так было выбито на печати. Официант, услышав скрип тормозов, выглянул в окошко и бросился переодеваться. Ясно, что гости, по старому доброму обычаю, прежде всего зайдут к нему. Когда мы вошли, он прямо за стойкой, скинув гунь, облачался в белую куртку. На мой подмиг он извлек откуда-то чистые стопки и двухлитровую бутыль. Постелил новую скатерть, которую я предназначил только для депутатов и гостей из обкома, если те ненароком пожалуют. В окошечко из кухни выскользнули четыре тарелки с превосходной жареной бараниной под соусом. Мы получили даже зубочистки, солонку и перечницу. Прохвост официант, видать, решил, что перед ним члены правительства или ЦК!
Поначалу гости держались скованно, но увидев, что все идет как по маслу, быстро пришли в хорошее настроение. Я потчевал их ракией и мясом, пичкал посулами устроить все как нельзя лучше, уверял, что они прекрасно проведут у нас время, пусть, мол, ни о чем не беспокоятся, пни через денек-другой будут сложены у шоссе. Сейчас мы посидим, сколько пожелают дорогие гости, а потом я устрою их у лучших хозяев.
Потекли разговоры, наполняя все затоны и рукава пенистым журчанием правды и фантазии. А я тем временем изучал гостей.
Когда каждый из нас ликвидировал по меньшей мере десяток бункеров и где из пулемета, где штыком уложил сотню вражеских солдат, у меня составилось окончательное суждение о приезжих.
Самый старший.
Весь из вычерченных по линейке прямоугольников. Чиновник до мозга костей. Лет сорок с лишком пустого бумагомарания. Машина по переработке пыли в песок. Олицетворение здравого смысла, начавшего притупляться с первым декретом. Австрия научила его, как и всех своих чиновников, держаться гордо и надменно. Таким он был и дома, и на службе. Это помогало ему пускать пыль в глаза, выдавать медь за золото, нерасторопность за основательность, молчание за глубокомыслие, мрачность за серьезность. И все же его отличительная черта — пустоголовость, и я не дал бы и одного коновода из своего отряда за сотню таких вот надутых болванов. Поскорей бы спровадить их на пенсию! Не то они и наше руководство заразят бездушием, если уже не заразили.
Я преподнес ему две-три байки об орудующей и днем и ночью в здешних местах банде, которая особо охотится за джипами: знают, черти, что в них ездят чины да шишки. Я усердно нагонял на него страху, рассчитывая, что, если он и заметит подвох в этой купле-продаже, он посмотрит на это сквозь пальцы и улепетнет домой. Надменные служаки, как правило, трусоваты.
Второй!
Второй — барабан, затянутый кожанкой, с нездоровой одутловатостью на лице и шее, но при этом бойкий, быстрый, за словом в карман не лезет, словно вырос за прилавком. Партизан со второй половины сорок четвертого. До последнего дня проходил в интендантах. Репутация расторопного хозяйственника помогла ему втереться в министерство. Перед революцией ничем не провинился. Но и революции, в свою очередь, не позволил провиниться перед ним, начиная с еды и квартиры и кончая маркой машины, на которой разъезжает по стране. Он жаловался на простуду, тем самым давая мне понять, чтоб дом ему отвели получше. Но я все равно шепну хозяину, пусть приоткроет окошко над его головой. Авось насморк помешает ему заметить то, что мне понадобится!
Третий, самый младший!
Свой в доску. Бессменный связной в бригаде, потом начальник штабного охранения, потом командир и, наконец, сотрудник министерства. Право, любят парадоксы наши кадровики. Из него вышел бы неплохой экономист в натуральном хозяйстве. Но в нашем, день ото дня все усложняющемся, он только и мог, что выбивать по телефону план у подчиненных. Впрочем, за это теперь платят жалованье. Дело, по которому он приехал, его ничуть не занимало. В его годы я тоже только и мечтал, как бы поскорее дорваться до женских ножек.
Сейчас, за ужином, он больше всех убил вражеских солдат. Тут уж не до шуток! Отбивал шесть немецких наступлений. Просиди он все это время в полевой сумке командира, и то было бы предостаточно. А ведь он связным был! Я лихорадочно перебирал в уме разные невинные средства, способные усыпить его бдительность. Будь в Лабудоваце молоденькая учительница, он и сам постарался бы поскорее избавиться от меня.
Ладно, если он заартачится, такого ему нарасскажу про все семь наступлений в этом нищем краю, что его партизанская душа не выдержит и он пустит слезу. А сквозь слезы хуже видно. Пожалуй, пройдет номер.
Я сделал им подробный и довольно бессвязный доклад о состоянии дел у нас. Они таращились на меня, не слушая. Старый чиновник так и ждал удобного случая ретироваться отсюда, разумеется доконав еще пол-литра и еще одну тарелку баранины. Бывший интендант зябко поеживался, напоминая мне — а то еще забуду — про лучший дом. Бывший связной тянул шею к окну. Но на дороге, как назло, не видно было ни одной юбки.
Я заказал ужин.
Умяли до последней крошки.
Официант украдкой сунул мне счет. Съездовский буфет обошелся бы дешевле.
По домам я разводил их тепленькими.
А сам побежал к себе за револьвером, автоматом и сапогами. Йованка сидела у кровати (кровать мне смастерил Ниджо-колесник) одетая и надушенная, как новобрачная перед первой ночью. Я ласково щелкнул ее по лбу:
— Чего домой не идешь, поздно уже!
— По тебе соскучилась. Три ночи жду понапрасну.
— Э, гостьюшка моя нетерпеливая, сегодня меня тоже нет. Отправляюсь на дело.
Когда я натянул сапоги и надел ремень, она встала.
— А я, горемыка, все жду…
— Не жди!
— Совсем?
— Видишь, душа моя, какая тут заваруха…
— Эх, Дане, а ты не видишь, что время проходит? Что оба мы стареем?
— От старости никуда не денешься.
— А любовь, Дане? Как волк, все урывками, раз в году. Еще немного, и захочешь, так не сможешь. Дане, не уходи!
— Не могу никак.
— Государство не пропадет.
— Если б всеми председателями командовали их жены, то процветали бы только их собственные хозяйства, а на общее дело у них не хватало бы времени. Радость моя, потерпи до завтра.
— А завтра придешь чуть живой и бухнешься в постель!
— Ну стоит ли из-за этого плакать?
— Как же не плакать? — визгливо закричала она. — Шесть лет соломенная вдова, четыре года войны: Йованка, блюди свою честь, оружием ее защищай, ведь придут свои, спросят, кто тут хвостом вертел перед воеводами, четыре года — ложись одна, вставай одна, обливай подушку слезами, думай: боже, кто из них первым вернется с фронта? А про отряд и вспоминать тошно. Глаза так и горят желанием, а чуть кого заподозрят — к расстрелу! Ну вот и война давно кончилась, домой вас вернулось только шестеро, остальные или женатые, или зеленые еще, или старики. А ведь я тебя еще до войны полюбила, да ты теперь совсем другой, и вообще всех вас ровно подменили, от прежних парней ничего не осталось. Все-то вы торопитесь, словно и не мужики вовсе. Готовы шею себе сломать на государственной службе, будто государство пропадает без вас! Пока ты жил у меня, еще так-сяк! Проснешься, бывало, и сразу руку за пазуху. Но как перешел в свой дом, я жду тебя, как голодный — пайка. Не нужен мне такой муж, чтоб только охал да ахал. Я любви хочу! Ведь я еще живая, понимаешь! Стосковалась по ласке, аж нутро все горит!..
Кое-как отговорившись, я выбежал во мрак.
Поддайся я на уговоры, я ни шиша не заработал бы на ореховых пнях.
Той ночью я вел тихий классовый бой. У властей я правдами и неправдами выбил решение о реквизиции пней, взял трех милиционеров и пошел по домам. Богатых крестьян, всю войну хранивших пни в ожидании лучших времен, чтоб их повыгодней продать, я застал врасплох.
До самого утра скрипели телеги и тарахтели три грузовика, случайно оказавшиеся в Лабудоваце. Двадцать скоевцев[6] провели операцию куда успешнее, чем это сделали бы двести нанятых нерадивых поденщиков. О подробностях этой операции лучше не рассказывать.
В десять часов на церковном дворе лежали пни, как спокойные откормленные волы, поджидающие покупателей. Ошалевший от усталости и бессонной ночи, я пошел в столовую «Вперед, товарищи!». Гости, кожпальтопоклонники, бледные после вчерашней попойки, сидели уже там.
Я дал им опохмелиться и торжественно повел к церкви.
Измерили. Пересчитали. Чиновник принес из джипа огромную сумку и стал отсчитывать тысячные мне на колено. Тонкие желтые пальцы ловко отслоняли бумажки одну от другой, а синие губы шептали цифры, самую прекрасную в мире молитву.
Золотое время наипростой циркуляции денег: из рук в руки! Как подумаю о теперешних банках, впору заплакать по тем временам!
Заплатили они в восемь раз больше, чем я ожидал. Я сунул деньги в мешок, договорился с гостями о погрузке, когда они пригонят грузовики, и, наспех простившись, дал драла… Деньги спрятал в милиции, под соломенным тюфяком начальника.
До дому я еле доплелся и, не раздеваясь, повалился поперек постели. Сквозь толстую пелену сна я чувствовал, как меня раздевают и ворочают. «Вдруг бандиты! — мелькнула у меня полусонная мысль. — А я и головы поднять не могу. Зарежут, как ягненка. Ну и пускай! Хватит, находился по этой глухой и слепой земле. А если Йованка, тем лучше, еще денек-другой поброжу по белу свету с живой головой на плечах». И я снова провалился в теплую пучину сна.
Декабрь замел все пути-дороги. Ну и черт с ними. Мы по лесам не бродим, а сидим в тепле под крышей, в своем отечестве.
Хлеб у нас есть, вода есть. А План, наверное, так уделает экономику, что в один прекрасный день нам только птичьего молока будет недоставать. Так что не придется выскребать донышко, как мы это делаем с самого поселения на Балканах. Не будем садиться за стол, изнемогая от жажды. И вставать из-за стола голодными.
Сижу я у окна, читаю «Борбу». Номер десятидневной давности. Пришел вчера. Какой-то негодяй оторвал по дороге пол последней страницы. К счастью, главные директивы не пострадали. Первую страницу я уже кое-как одолел, до ужина осилю вторую, а перед сном третью. Я должен чувствовать себя идеологически подкованным, непоколебимым, как гранит.
Но я-то знаю, что никакой я не гранит, а самая обыкновенная глина. Вымесила и размягчила меня сумятица. Я изучал, что такое классовая борьба, а в общине нашей ни у кого нет больше двадцати овец или пары лошадей. Но только я махну рукой, прощая жителям общины классовые прегрешения, как рука на полпути замирает: постой! Разве мало здесь таких, в ком не затаился хищный зверь, кто и брата родного зарубить топором готов из-за усохшей сливы или клочка межи? И кто из этих классово не определившихся и незрелых отказался бы, если бы им завтра предложили, от двух тысяч гектаров пахотной земли и от десятка батраков? Что делать, когда в сегодняшнем бедняке сидит на привязи кулак чистой воды? Кроме аграрного максимума? Взять за руку этого безобидного, как кровожадная ласка, бедняка и торжественно ввести в царство коллективной собственности? Принуждение дела не решает. А доброе слово может обернуться пустозвонством.
Исколотый шипами сомнения, я молчу в присутствии тех, кто не знает или не хочет знать об этом мучительном клубке вопросов. Идейно я оцепенел, как нагруженная кляча на тропе, спускающейся с обледенелой горы. Ноги раскорячил, поджилки трясутся. И шагу ступить не смею. Едва пошевельнусь, все кончено. Пытаюсь раздвоиться, чтоб красная половина убедила белую половину. Но располовинить человека в наших краях по сю пору под силу лишь топору. И я мучаюсь молча, дисциплинированно стиснув зубы.
Прибегаю к хитрости. Посажу перед собой товарища министра по вопросам наших внутренних неурядиц и давай пытать вопросами:
— Товарищ министр! Что делать? Как быть?
Товарищ министр молчит, уставившись в пол, и машинально потирает ревматические колени.
— Данила! — доносится наконец его голос из глубочайших глубин яви. — Наша задача, Данила, идти вперед! А ведь денежка дорожку прокладывает. Зарабатывай, добывай, только, во-первых, гляди, чтоб не нанести обиды нашим людям, и во-вторых, чтоб Лабудовац не нанес ущерба Республике. Молодая она и нежная.
— Золотые слова! — соглашаюсь я. — Теорию я прочел, только как мне эти печатные слова просунуть в лабудовацкие окна?
— А ты сделай наоборот. Проведи Лабудовац через колонны директив.
— Ну что ж, можно и так! Подскажи только, с чего начать.
— Опыта у нас маловато, товарищ Данила. Нужно искать свои формы.
Оба молчим. Я ищу новые формы в глубинах мозга, но где ни копну, все не то. Колхозы! Стараюсь не выдать товарищу министру свой страх. Кто будет пахать и сеять, если из-за каждой мотыги придется собирать собрания? Кто будет кормить десять миллионов крестьян, пока они будут митинговать? Создать колхозы сейчас — все равно что обуть голову и разуть ноги. Что нам обобществлять? Допотопную технику, тощую скотину, называемую тягловой силой, постные нивы, такие же голодные, как и их владельцы, и подсластить все это сознанием коллективного производства, на деле равного нулю… Такой коллектив сожрет государственную казну за месяц. А потом мы потянем голодные рты за границу. А заграница ежели и даст, то можешь прощаться с собственной шкурой — сдерет и не поморщится.
Когда я поднял голову, чтоб задать следующий вопрос товарищу министру, табуретка передо мной была пуста. Товарищ министр наверняка ушел на очередное совещание, куда более важное, чем поиски лабудовацких форм.
Привалившись к моему плечу и обдувая мне шею из обеих ноздрей, Йованка вполголоса читает по складам строчки. Я знаю, что газеты ее не интересуют. Ждет не дождется, когда я их сложу. Утром до девяти продержала меня в постели. Сейчас еще и восьми нет, а она уж за свое. С ней тоже надо что-то решать. Как бог на душу положит — тоже не годится. Связаться прочными узами — они нам обоим опостылят еще до того, как мы получим свидетельство о том, что мы связаны. Закрыть перед ней дверь — тоже грех. Да и мне, сказать по правде, вовсе не противно время от времени попасти буланого коня на ее тучных лугах. Стоит мне протереть ослепшие от проблем глаза, как передо мной чудо чудное: крепкая, здоровая баба. Организовать на дому пионерский отряд? Ведь она не боится ни бога, ни черта, ни мышей, ни змей, ворочает любые тяжести, в комитет ходит выкричаться, плачет, только когда ноги намнет, автомат и револьвер и соберет тебе, и разберет, а если понадобится, не раздумывая снова наденет брюки и пилотку…
Наступает эпоха накоплений, семьи, дома и огорода. Наденет на меня мелкособственнические кандалы. А там и душа, неохватный океан, ужмется до вонючей лужицы, которую чистая публика будет брезгливо обходить. Нет, не хочу я барахтаться в собственных обмывках. Этак меня первый же жгучий взгляд какого-нибудь новоявленного солнца вмиг осушит. Быть тихим и незаметным — не мой удел. Я буду размывать фиорды и перекраивать пляжи. До тех самых пор, пока меня не нанесут на географическую карту достопримечательностей или пока не размозжу голову о скалу.
Январь.
Из вспененной и горластой кутерьмы обновления выглядывают шипы давно и прочно освоенного. Мы больше не переписываемся вот так: «Отпусти Йове двацать кил пшеницы, как ты што делаиш унас все харашо смерть фашизму! Радиша». Власти захомутали всех, у кого есть шея: «В связи с вашим письмом номер такой-то… К сведению и исполнению. Смерть фашизму!» Председатель больше не возит из Сараева деньги в мешке. Появился колосс, который, сдается мне, многих возьмет за глотку. БАНК! К счастью, в нашем уезде директор банка хорошо если окончил четыре класса начальной школы. Пока он поднатореет в делах и пока Закон не заткнет все входы и выходы, кроме парадного, который будут держать под неусыпным контролем, и Лабудовацу перепадет кое-что из этого банка.
Я медленно шагаю по улице, устланной белым пухом, и завершаю в уме план операции, ради которой приехал в город. До меня наконец дошло, что отныне деньги потекут только по бюджетным каналам. А раз так, надо вовремя свернуть этот золотой ручей к своей мельнице. Ведь Косовская битва была проиграна еще на Косовской вечере. А я не собираюсь быть Лазарем[7].
В уездном комитете стояла такая тишина, будто секретарь готовил доклад для партийной конференции и все живое разбежалось на пятьсот метров вокруг. Ни одна дверь не приоткрылась на мои шаги. За дверями не раздавалось непрерывного перестука пишущих машинок. Я робко постучался в кабинет секретаря.
Секретарь, человек веселый и прямой, удивился:
— Ты чего в такую рань? Еще только полвосьмого, да и вообще в январе из уезда никто не приезжает.
— Лиха беда заставила. Нужда плачет, нужда скачет, нужда песенки поет. Здравствуй!
— Садись! Кстати, я тебя как раз собирался вызывать.
— ?!
— Об этом потом, сначала выкладывай, зачем пришел.
— Деньги нужны.
— Здесь уездный комитет партии, а не финансовый отдел уездного совета.
— А если я тебя возьму в охапку и отнесу в совет? Там мы сможем потолковать?
— Ладно, представь себе, что мы в совете. Какие деньги? На что?
И пошел я плести доклад длиной в несколько километров из пряжи самой что ни на есть доподлинной жизни, а к каждой нитке подпускаю другую, потоньше, позолоченную, прошу, глажу, улещаю, лгу, вьюсь ужом, проделываю языком невероятные сальто, вращаю глазами и строю такую жалостную мину, что международный банк и тот бы прослезился. А в душе радуюсь, что и в социалистической, так сказать, товарищеской просьбе сумел воспользоваться всеми уловками старого попрошайства и притворства.
После того как я назвал нужную мне цифру, мы оба заходили по кабинету. Он в направлении север — юг, я — восток — запад. Порой один из нас переходил на диагональ, но правила дорожного движения при этом мы соблюдали неукоснительно. Я всегда старался избегать столкновений с секретарями комитетов!
— Специальных дотаций не дают! — изрек он.
— Не дают.
— А идея неплохая.
— Просто отличная.
Несмотря на свой острый, цепкий ум, секретарь не в состоянии вскрыть подоплеку моих идей. Будучи сам человеком глубоко порядочным, он склонен и других считать такими же. Типичное заблуждение пророков и заурядных политиков!
Воистину золотое время, когда можно секретаря комитета заразить великой идеей! Теперь это невозможно. Теперь тебя направят в совет. А там сидят специалисты. Пиши пропало!
Мне удалось убедить секретаря в том, что в лабудовацкой долине такие же условия для садоводства, как, скажем, в Калифорнии. И нельзя медлить ни минуты, ежели мы хотим первыми вывезти новые социалистические фрукты на внутренний и внешний рынок. Я сумел уверить его, что через пять лет самолично отвезу Сталину корзину яблок, и он, едва надкусив одно, признает, что если я и не превзошел Мичурина, то, уж во всяком случае, с ним сравнялся.
— Дело нехитрое. Только денег нет, — говорю я.
— Денег нет, — подтверждает секретарь.
Живая снежная завеса за окном не раздвигается. До завтра навалит по пояс. Автобусы не ходят, почта не доставляется, управленцы простаивают, служащие в ожидании конца рабочего дня прилипли носами к окнам, никто не требует ни справок, ни материалов, ни описей, ни копий. Благодать божья! А снег до первого осядет, и жалованье придет вовремя.
Секретарь замедлил шаг. Он же и председатель уезда, ему ли не знать, где лежит каждый государственный динар.
— Негде взять! — вздыхает он. Но я вижу, что это не последнее его слово. Это он просто ищет выход. Я подождал еще немного, а когда раздумья его достигли критической точки, тихо, будто подсказал, через какие двери лучше вынести покойника, произнес:
— Вот если бы…
— Что «если бы»?
— На сельское хозяйство в этом году ассигновано четырнадцать миллионов. На садоводство — шесть. Стоит ли дробить их на весь уезд? Не лучше ли сконцентрировать в одном месте? В этом году пустить на большой рассадник и опрыскиватели. А уж в будущем во всеоружии обеспечить уезд новыми сортами и взяться за расчистку и корчевку старых садов. Таков мой план. Какой смысл распылять средства? Ни то, ни се, деньги идут, а толку чуть.
— Ты думаешь? — спрашивает секретарь.
— Конечно.
— Подавай докладную. На заседании совета будешь отстаивать свое предложение.
— Хорошо, товарищ секретарь, только ты, когда я буду говорить, раз-другой кивни в знак согласия. Тогда и другие согласятся.
— Ладно, уговорил. Когда едешь домой?
— Сейчас. Не знаю только, прорвется ли «додж» к селу. А что?
— Ты награжден за тех бандитов. Я должен торжественно вручить тебе орден. Или отложим до Первого мая?
— Давай отложим.
— Тогда счастливого пути!
Грузовик с трудом пробился сквозь сугробы до Лабудоваца. У околицы села я вышел. Однако забираться в свою берлогу за два часа до темноты мне не улыбалось, и я задами двинулся совсем в другую сторону. Пробираясь сквозь живую изгородь, которую снег превратил в причудливые сказочные стены, я усердно пригибал голову, чтоб, упаси боже, кто-нибудь ненароком не узрел мою шапку. Люди уже поотвыкли от прекрасного безразличия военного времени, когда никого не интересовало, кто к кому и зачем ходит. Событий вокруг никаких, и потому никто не упустит случая посудачить на столь приятную тему — к кому пошел Данила. Фантазия и злорадство дорисуют остальное.
Йованка обрадовалась мне. Я не был у нее с тех самых пор, как построил свой дом. Она издала счастливый возглас, словно мой приход неопровержимо доказывал, что я стосковался по ней. Глупая баба! Все-то она видит сквозь обманчивую призму сердца — и вселенную, и муравья! Баба бредит, да кто ей верит! А как поймет, что сердце другого лишь мотор, который кровь гоняет по сосудам, тут уж не приведи господи! Такие стоны и причитания, каких, наверное, не слышало Косово поле по мертвым Юговичам[8].
Сорвав с меня пальто, шарф и сапоги, она втолкнула меня, точно двуногую вагонетку, в теплую горницу. Должно быть, в моей дальней родне не обошлось без какого-нибудь распутного бега. Всегда меня одолевает соблазн по-султански раскинуться на подушках, вытянуться во всю длину и почесать языком в свое удовольствие.
Развалившись на постели, я выпил молока, затем крепкого кофе, умял не меньше килограмма ветчины с хлебом, нащелкал две пригоршни орехов, и все это потягиваясь и зевая… И незаметно для себя принялся за доклад, подсчеты, сметы…
…Вдруг ухо мое уловило тишину. Я почувствовал безмолвие, напоенное гневом и горечью.
Йованка с голыми плечами стояла посреди горницы. Глаза ее метали громы и молнии.
— Не видишь меня? — спросила она сквозь зубы.
— Увидел.
— Битых два часа торчу у тебя перед носом, а ты все жуешь свои доклады.
— Вконец меня раскритиковала, кому-то ведь надо их жевать.
— А я думала, ты меня пришел повидать.
— Конечно. Ты здорова? Все в порядке?
— Чтоб тебе подавиться своими докладами! — Она сердито повела своими божественными плечами и подскочила к увитому бумажными цветами зеркалу.
Смотрю я на нее, и чем дольше смотрю, тем все дальше отодвигаются строчки доклада, а глаза мои все лучше видят женщину. Руки у нее длинные, тяжелые, как у борца, шея как у лесоруба, ноги — две стройные осины, веретеном спускающиеся к ступням, черная атласная юбка ниспадает с бедер богаче и роскошнее любой тафты на рахитичной городской барышне. Румяная широкая спина. Сочная ливада с соблазнительной ложбинкой.
— На танцы собралась? — спросил я.
— Будь ты помоложе, взяла б тебя с собой.
— Неужто я такой старый?
— Слепой. Я уж двадцать раз прошла перед тобой, а ты, ровно пенсионер, уставился в свои бумаги и в ус не дуешь. Боюсь, как бы вскорости не пришлось тебе выбирать — или я, или доклады!
— Слушай, а что это у тебя на спине? — воскликнул я. Она раскусила мою хитрость, но притворилась, что поверила, и попятилась, облегчая мне задачу добраться до нее, не вставая.
Затрещала кровать, наполняя грохотом горницу. Одеяло, простыни полетели в дальний угол.
Добротная буковая кровать, на которой плотогоны могли бы спать сто лет, закачалась и осела… Пол встретил нас с надежностью матери-земли.
Йованка, вся сжавшись в моих руках, и всхлипывала, и рыдала, и шептала слова, какие только женщина может шептать в эти мгновенья беспамятства: что я старый кот, что она отгрызет мне усы, что она готова съесть меня, что я негодяй — одни-то муки от меня, но она уж найдет дырочку, проденет цепочку и привяжет меня к кроватной ножке.
И — мольбы,
чтоб я не надрывался на работе, чтоб бросил все эти бумаги и счеты, потому как остались у нас считанные денечки, раз-два — и обчелся, а она меня любит, ой любит паршивца! Вот ведь взялся за какой-то там кооператив, чтоб ему сгореть вместе с теми, кто его выдумал, даже вот перед ней прикидываюсь — мол, забот полон рот, а у самого, старого греховодника, одно на уме, как бы не пропустить молодой бабенки! Не вижу я, как она любит меня, только меня любит,
люблю тебя, ой, чмок! о-ох, все твои бумаги брошу в печку, ежели еще хоть раз увижу тебя с ними, пускай другие с ними валандаются, у нас с тобой впереди всего-то какой годок, Дане, останься, не уходи… сожми меня, так, так, та-ак, мммммм! Ну и ручищи у тебя…
Опустошенный, с ломотой в костях, я натягиваю сапоги
и размышляю:
если б во время вчерашней любовной кутерьмы крикнули, что Лабудовац горит, я послал бы его ко всем чертям. А сейчас и гроша ломаного не дал бы за все женские прелести. Холодную пустоту в душе пронзила тьма острых булавок угрызений совести, стыда, горечи, сразу вдруг встала такая уйма проблем, что так бы и вычеркнул себя из метрических книг живых.
Я потряс головой: может, наваждение пройдет? Но не тут-то было. Единственное, что я могу сделать, — это спросить проснувшуюся совесть и сознание:
А где вы были раньше?
И почему это вы всегда являетесь под конец, изливая на ладонь бездумной радости желчь принципов?
Если принципы и дальше будут грызться с плотью, следует поскорее что-то одно ликвидировать… Не то пойдет в ход боевая техника. И тогда — прощай и то, и другое!
А может быть, я, по своей крестьянской близорукости, не замечаю… что, скажем, эта грызня — единственная нива, на которой зреют радости!
Как бы там ни было, одно мне доподлинно известно, и это так же верно, как дважды два — четыре, что люди принимаются философствовать после того, как насытят свою плоть, или же когда ее иссушат годы. На форумах мудрости председательствует усталость. И вспоминать это — все равно что обгладывать белые холодные кости, разбросанные вокруг пиршественного стола жизни.
А то, что я сейчас ударился в воспоминания, это значит совсем другое, потому что я-то вспоминаю не без умысла. И потом, какой трудящийся югославский крестьянин пошевельнет пальцем без видов на профит? Такого и во сне не увидишь! Просто я отмечаю, что в то утро был сыт и потому склонен к размышлениям. И, похоже, с моей совестью не все ладно — что-то уж слишком часто я ее поминаю.
К счастью, я подписался на газеты. Передовица всегда вовремя одернет: направо равняйсь! И я, стоя в тесном железном строю, с удовольствием посмеиваюсь над ловушками, которые недостаточно идейно подкованная совесть расставляет невинному гражданину. А когда труба проиграет отбой, я засну сном социалистического праведника.
Уезд дал мне миллионы на садоводческое хозяйство! Я эти деньги пустил на другое. С фруктами, черт подери, успеется. Кому нужен витамин «C», пускай идет в аптеку, там его навалом. Конечно, я огородил одно экспроприированное поле и высадил на нем саженцы. Так, на всякий случай. Вдруг кто приедет и спросит: где же твое садоводство? А вот оно, садоводство! В рассаднике я заложил фундамент большого здания — доказательство моих благих намерений. Это иной раз лучше готового объекта. На голых фундаментах фантазия возводит наилучшие решения. Готовое здание — готовый укор! А кому захочется его перестраивать?!
Весна. Электрификация и индустриализация грохочут вдали от нас, вызывая у меня в ладонях странный индустриальный зуд. Коли уж взяли за правило во всех планах ставить село на последнее место, то уж не будем, товарищи, нарушать другой старый и добрый принцип: нет правил без исключений. Почему бы Лабудовацу не стать исключением?
Я забегал по Лабудовацу, меряю, соображаю, подсчитываю и все никак не решу, на каком виде промышленности остановиться. Строить железную дорогу, пусть даже лесную, скажут: не оттягивай силы с главных фронтов! Да и что бы мог я возить на платформах, кроме леса? Блох и клопов? Или повесить на стояки по мешку слив и корзине яиц, а пустые вагоны пускай вдохновляют поэтов? Очень надо! Взяться за мелиорацию — не могу, еще не объявлено генеральное наступление на сельское хозяйство. Впрочем, эта самая мелиорация — журавль в небе. А мне нужны машины, которые с первым тарахтеньем выхлопнут и первые деньги. Вот тогда я развернусь и покажу, как капиталистическое село Лабудовац преображается в социалистический город! Поскорей бы что-нибудь начать, чтоб превратить это захолустье в маленький город, а жителей его — в горожан. Но для этого нужны деньги, которых мне пока никто не предлагает. К счастью, люди придумали инициативу снизу. А это большой мешок, куда можно многое втиснуть. Надо лишь стараться, чтоб в него не заглядывали посторонние.
Мои проекты поглотили бы за месяц весь уездный бюджет, не говоря уж о статье на сельское хозяйство.
Прикинув в уме все возможности добыть деньги, сверх уже выделенных на садоводство, и увидев, что таковых не имеется, я решил добиться цели без денег. Динар — посредник между товаром и потребителем. А если попробовать обойтись без посредника или свести его участие к минимуму? Сколько законов были игрушкой в руках истории и сколько законных капканов с мертвой хваткой обошел крестьянин, ни разу на них не наткнувшись! Почему бы и мне не обойти этого шуршащего, надменного и наглого посредника, сделать его ненужным или, на худой конец, третьестепенным? То есть вместо двух миллионов заплатить двадцать тысяч, а остальное — восполнить другими человеческими ценностями, скажем, моим красноречием и чьей-то доверчивостью.
Я стоял перед Белградом.
Белград еще только завтракал. Главный город страны, выгнувший спину, точно бык, готовый проткнуть рогами жертву, встретил меня с равнодушием бетонного бога. По верху хребтины стелются испарения. У подножья плещется грязная река, оглашаемая матросской бранью.
Я не люблю город. То ли от гордости, то ли от болезненного самолюбия — сам не знаю, в чем тут дело, только я всегда чувствую себя ничтожной букашкой, когда ступаю в холодные коридоры железобетонных блоков.
На минутку я остановился перед земунским мостом. Приглядываюсь к Белграду. Страх я уже поборол, внушив себе, что это наш город. Что все его сердца открыты для нас, уважаемых и честных граждан этой страны, а что до меня, то я со своими двумя-тремя сотенными в кармане готов склониться перед ним и поцеловать ему полу и руку.
Последнее, конечно, конспирация, на самом деле я его надую и проведу, возьму с него дань натурой. Хотя бы для того, чтоб возместить малую долю того, что спокон веку полной мерой с нас взимали король и отчизна, давая нам взамен кукиш. Уж я-то знаю, что по крайности один этаж какого-нибудь многоэтажного дома построен на налог, взятый с нас, нищих лабудовчан! Я вовсе не вынашиваю никаких реваншистских планов, боже упаси, как могу я допустить такое по отношению к своей родной столице, пусть она живет и здравствует! Просто оттуда, со стороны Земуна, откуда приезжают туристы, не видны все социальные слои нашего прекрасного города, и мне поневоле приходит на ум одна лишь старая буржуазия.
Итак, стою я перед Белградом, вспоминаю историю. На этом берегу стояли — славяне, гунны, венгры, янычары, австрияки, пруссаки, рабочие, бродяги, прачки, служанки, школьники, студенты, голодные герцеговинцы, крестьянки с приблудным ребенком на руках, авантюристы, библейские шизики, — все они останавливались здесь, лицом к лицу с городом, прежде чем броситься в артерии его коммунальной утробы захватывать, жечь, насильничать, отнимать, воровать, устанавливать свой порядок, молить, просить, клянчить, кусать, резать, обретать богатство и могущество или подыхать на улице. (Албанцы приходят в Белград с другой стороны и в основном пешие.) Вот и я (вроде бы и в начальниках хожу, а в душе все тот же нищий боснийский крестьянин, что со страхом и трепетом переминается с ноги на ногу перед дверьми высокого чиновника) загремел башмаками по мосту; недавний партизан, я готов запомнить все памятники боевой славы столицы, чтоб было чем расширять кругозор местнически настроенного населения Лабудоваца. А избрали меня мои односельчане для того, чтоб я от большой югославской лепешки, испеченной в столичной пекарне, отломил добрую краюху и, сунув ее под мышку, тут же пустился назад к своим избирателям. Стою я перед Белградом, в фанатической решимости обмануть его, выудить из него благостыню, в которой он бы мне не отказал, будь я единственным просителем. Но плановая комиссия утвердила очередность благодеяний. Я, вероятно, где-то пятимиллионный в списке нуждающихся.
Я же хочу перебраться в первые ряды. Никто и никогда в моем роду в тылах не отсиживался. Оградил господь от этого позора.
Сначала я потыкался носом во все витрины от «Албании» до «Славии», потом прошвырнулся от Калемегдана[9] к «Лондону», надеясь встретить какого-нибудь земляка, бросившего якорь в Белграде, — чем черт не шутит, вдруг поможет.
Натрудив вконец ноги на твердом асфальте и наслушавшись всех языков и наречий Югославии, я зашел в «Балканы»[10] выпить ракии и посидеть в молчании часика два-три.
План у меня был. В Сараеве операция прошла успешно. Одному злосчастному подриньскому селу выделили лесопилку. Но денег у них не было. Продай они даже весь свой скот и землю, они не наскребли бы нужной суммы. А у меня было хотя бы столько, сколько требовалось внести в уплату той незначительной доли стоимости, какую взимало государство из уездных ассигнований на сельское хозяйство. Значит, в Сараеве я получил — локомобиль, динамо-машину, одну пилораму, две циркульных пилы и кой-какую мелочь. Правда, я просил еще, но плановая комиссия добавок не дает. Получил — проваливай. Дадут мяса — ешь и помалкивай! Навалят тебе костей — глодай втихомолку! Мне отвалили целый противень баклавы. А теперь в Белграде надо выклянчить пряностей, чтоб посыпать эту баклаву.
Я сидел в «Балканах», потягивал ракию и ждал случая, какого-нибудь легкого толчка, который повернет ключ в моторе моей воли.
Жирная муха, истомленная зноем и духотой, уселась на мой столик и, похоже, собиралась мозолить мне глаза до тех пор, пока я сам не сбегу отсюда. И только я встал, как мотор заработал.
Я гордо зашагал по Теразиям[11]. Анемичная, кормящаяся по карточкам публика расступалась передо мной. У меня-то плечи с тротуар, и ростом бог не обидел, а на плечах запросто вынесу из зала заседаний стол президиума среднего размера.
Белград полноводной рекой тек подле меня, в военной униформе, в перешитых шинелях, в полугражданской одежде, в солдатских башмаках, сапогах, довоенных остроносых ботинках «шимми», в сандалиях и опанках всех видов — от албанских со множеством ремешков до белых плетеных черногорских и на добротных подковках с острова Вис. Город бороздят джипы и редкие стыдливо-элегантные лимузины, каких еще не покупают на собственные деньги. Пенсионеры щеголяют в пилотках, а бывшие воины ходят с непокрытой головой, кроме тех, разумеется, кто не снял еще униформы. Барышни все еще немножко напоминают наших боевых подруг, сапожки и щеголеватые юбки из английского офицерского сукна говорят, что их владелицы идут в ногу с временем, и все же в них уже начинают проглядывать прежние барышни… Нынешним холостякам и тем, кто оставил своих жен на селе, скромность в женщинах порядком поднадоела. Да и сами белградки всегда предпочитают Белград нынешний Белграду ушедшему. И ведут себя сообразно этому.
Наших боевых подруг всегда узнаешь — они до сих пор ходят в униформе (правда, без пистолетов), а если уже примирились с удобством гражданских одеяний и надели старомодное платье с оборками, то все равно вышагивают так, будто идут в строю.
Время от времени из боковой улочки на Теразии выныривает вдруг организованная кучка людей. Вожатый проводит стоячую летучку. Мигом выносится решение: спросить первого постового, где находится такая-то столовая, тот-то и тот-то дом. Ничего удивительного, в Белграде проходят сейчас два конгресса, три скупщины и четыре союзных конференции, не говоря уж про бесчисленные мелкие совещания и встречи. Иной брюзга не прочь съязвить на их счет. Лично меня это не удивляет. Дороги в будущее нам еще предстоит прокладывать, и потому наиболее сознательный головной отряд обстоятельно и подробно обсуждает каждый сантиметр предстоящего пути. Миллионы людей оставили свои следы на этих путях, но все кажется, что они только мучительно кружили вокруг да около. Война научила нас ходить колонной. И если голова начинала метаться из стороны в сторону, в колонне поднимался ропот. Вот мы и ищем кратчайший путь. Слишком наголодались наши люди, чтоб бродить по бездорожью гор. Идти напрямик, но с общего согласия.
На улицах то и дело попадаются небелградские физиономии, не считая, конечно, командировочных. По всем направлениям крестьяне штурмуют город. Столкнулись асфальт и опанки, и еще неизвестно, кто кого. Если опанки раздерутся первыми, человек обует более ноские и к тому же более изящные ботинки. В противном случае из-под асфальта вылезет брусчатка. А кто на брусчатке ума набирался, тот его нескоро растеряет.
Белград выглядит каким-то пестрым, ни дать ни взять — молодуха перед первыми после свадьбы гостями. Преобладают:
красный цвет — в убранстве улиц и домов,
серый цвет — в витринах лавок и магазинов,
иссиня-белый цвет — на лицах,
оранжевый — на афишах,
зеленый — на земле, отведенной под строительство жилых домов,
черный — в частных особняках.
Разумеется, все цвета с порядочными исключениями и во множестве оттенков.
Раньше, если приезжали в какое министерство, ноги вытирали аж на вокзале. Теперь всякая шушера запросто вваливается в кабинет к товарищу министру, депутату, генералу, а то и вовсе прет к ним домой: нельзя ли часом переночевать? У меня, правда, нет знакомых, земляков или боевых друзей на высоких постах. Может, они и появятся, когда с десяток наших полковников и республиканских деятелей дойдут до командных высот. Однако, будь у меня министром даже родной брат, я бы не пошел к нему за помощью. Стану я впутывать нашего социалистического, можно сказать, самого высокого руководителя в обыкновенную крестьянскую спекуляцию, чтоб ему после стольких благодарностей и грамот вынесли выговор с занесением в личное дело за местнический патриотизм! Нет уж, брат, это я сам. Выгорит — хорошо, провалюсь — тоже неплохо. Во всяком случае, наша принципиальность ни на волос не дрогнет из-за какого-то там Данилы Лисичича.
Наконец добрался я до желанного перекрестка и свернул в царственно тихую улицу, зажатую двумя рядами грозных своей пышностью зданий, которой буржуазные архитекторы некогда нагоняли на нас, бедняков, страх: придете, мол, подавать прошение, увидите эту силу и мощь, перекреститесь, войдете, снимете шапку, выслушаете безропотно все, что вам скажут, и возвратитесь восвояси.
Пусть после этого попробуют убедить меня в том, что между политикой и архитектурой нет никакой связи!
Но поскольку буржуазию мы свергли, я без страха подмигнул этим ископаемым из праистории борьбы за свободу и даже кончиком сапога попробовал устойчивость цокольного этажа одного из этих мрачных и холодных колоссов. Прочный, ничего не скажешь! Сразу видно, хозяин собирался здесь жить долго.
Я нашел нужную мне дверь. Я не баран, что любит глазеть на новые ворота, да и ворота не были новыми. Просто с тех пор, как мы перестали разрушать и начали строить, я невольно обращаю внимание на финансовую сторону всякого объекта или его части. Этих огромных массивных врат из мореного дуба, украшенных вроде бы невинным стальным орнаментом, хватило бы на светлый и удобный жилой дом.
Оглядев хорошенько позиции, расположение пустот и обшитых сталью поверхностей, я пришел к выводу, что два тяжелых пулемета могут отсюда держать под обстрелом три улицы. Странно, но за излишней пышностью и монументальностью мне всегда чудился страх. Страхом веяло и от этих дверей бывшего капиталистического министерства. Вероятно, наши товарищи постараются поскорее съехать отсюда, ведь уже нет необходимости стращать народ разными дверьми и стенами.
Я толкнул тяжелую створку двери и очутился перед мраморной лестницей, какая, наверное, ведет еще только на небо — с пропуском святого папы римского. Из сумрака наверху вынырнула живая восковая мумия. Вот она остановилась и, раскорячив свои прорезиненные ноги, стала мерить меня с головы до пят, видимо прикидывая в уме, как со мной обойтись. Портье. Старый министерский портье, унаследованный от старой Югославии вместе с прочим инвентарем. Искушенности и лукавства в его злых глазах достало бы еще на два места портье по совместительству. А уж спеси — на всех сорок с лишком министров, которых он тут пересидел. Только он раскрыл рот, чтоб задать мне пару вопросов, согласно, вероятно, ритуалу приема посетителей, как я возьми да и прошмыгни мимо. Он застыл, точно громом пораженный. Такое ритуалом не предусмотрено, да и в его многолетнем опыте не встречалось. Он велел мне остановиться и даже попытался догнать меня на своих подагрических ногах, которым впору догнать разве что свой собственный гроб. Однако его блеянье могло поднять в здании нежелательную тревогу, и потому я вернулся, сунул ему под нос какие-то затерханные черные корочки и угрожающе прошептал:
— Госбезопасность!
Он чуть было не присел в реверансе.
Внизу дремала сумрачная торжественная тишина. Я уж было решил, что попал в храм. Но тут в глубине коридора, с правой стороны, я заметил стеклянную дверь, за которой на кожаном диване лежал солдат в полном снаряжении, с автоматом. С помощью телепатии я передал ему: «Отдыхай, пехота!» — и стал подниматься по лестнице.
Навстречу мне шел какой-то странный шум. Казалось, огромная бумажная птица машет крыльями, отряхивая перья. Поднявшись на площадку, я узнал тихую пулеметную стрекотню пишущих машинок, доносившуюся из многочисленных канцелярий.
Когда-то бумаги, печать, канцелярия вызывали во мне тайный трепет. Это было до тех пор, пока судьбой таких сиволапых мужиков, как я, распоряжались другие. Теперь я знаю, как фабрикуются документы, сколь относительна их сила и какие мелкие и низменные душонки подчас обретаются за дверьми кабинетов. И потому поплевываю на этого бумажного великана, который первейшим своим долгом почитает снять с тебя все мерки и данные, где, когда и почему ты родился, куда вписан, и лишь после этого позволит тебе открыто быть самим собой. Может быть, во мне говорит мстительное презрение недоучки к разной писанине? Что поделаешь? Я за всю начальную школу исписал только две тонкие тетрадки. Да и в тех остались две чистые страницы, которые покойный дед употребил на самокрутку. «Ладнехонько дымит школа, мать ее за ногу…» — говорил он, млея от удовольствия.
Из середины коридора прямо на меня двинулся взводный, хорошо вооруженный для ближнего боя. По походке его я определил, что он воевал. Но глаза сами собой отметили полумрак вестибюля и нижнего этажа. Я быстро сунул руки в карманы брюк. Полы пиджака вздернулись, открыв огромный револьвер. Это было мое удостоверение личности. Глаза дежурного потеплели. «Свой», — заключил он сразу.
— Здорово, дружище! — сказал я тоном на чин выше собеседника.
— Здорово.
— Министр у себя?
— Нет.
— Нет так нет… А к начальнику можно?
— К какому? Их тут шестнадцать.
— А к тому, что машины распределяет.
— Машинами ведают трое.
— Спасибо.
— Не за что.
— А просто так. Значит, можно?
— Проходи!
Я мигом сообразил, какая мне нужна дверь, и тихо и робко постучался. Ну как есть проситель, сознающий в душе, что не имеет никакого права соваться сюда со своей просьбой. Я весь превратился в этот едва слышный стук. Что поделаешь! Опыт пяти поколений! С шапкой под мышкой открыл дверь и приниженно засеменил — чтоб поняли люди, как высоко я ставлю этот центр справедливого распределения!
За столом — женщина. Английская юбка, белая, наглухо застегнутая блузка, элегантный лакированный пояс, как офицерский, только с огромной пряжкой, сапожки, шелковые чулки.
За секунду до моего прихода она зевнула, и морщинки вокруг прелестных губок еще только принимали выражение серьезности и внимания. На столе пусто. В корзине — ни единой бумажки. Товарищи руководители еще не позаботились найти работу секретаршам, чтоб оправдать их существование. Впрочем, всему свое время!
— Что вы, товарищ, хотите?
Держалась она с профессиональной ласковостью военных санитарок. Но я готов поклясться, что судьба уберегла ее от возможности проявить отвагу на поле боя. Все в ней говорит об изяществе, здравомыслии и хорошем воспитании, как духовном, так и физическом. У товарища начальника отменный вкус.
— Видишь ли, товарищ, я прибыл издалека, — начал я мямлить по обычаю писак, которым надо прикрыть шаткость своих принципов, и крестьян, прячущих змеиное лукавство, — помоги мне, ежели, конечно, можешь.
— Пожалуйста! Садись, товарищ!
— Спасибо тебе большое, уморился до чертиков. Ну и занесло наше село, убей его бог, пять ден пути до столицы. Эх, что поделаешь, проклятая буржуазия разметала наши селения, чтоб мы были подальше друг от друга. Боялась, похоже, скученности трудящихся масс. Бог даст, и это встанет на повестку дня. Дымишь, сестренка? Молодчина, а я вот весь отравлен табачищем. Дошел до нас слух, сестренка, что здесь выдают машины для лесопилок, вот товарищи и отрядили меня, иди, говорят, Дане, и проси машины. Я ведь, сестренка, на лесопилке раньше работал, рабочая косточка, вот и приехал разведать, не перепадет ли что и нам в нашем медвежьем углу. Леса у нас, слава богу, хватает, деревянный Париж можем выстроить, сама воевала, знаешь, что такое лес…
— Да, конечно.
— Леса у нас столько, что тыщу лет будешь рубить — не вырубишь. Ежели б, к примеру, делались корабли из дерева, а корабельщиками были крестьяне, то бы всем подлодкам в мире нас не потопить. Вот сколько бы нас было! Мы бы в три приема выпили океаны. Но люди у нас — бедняк на бедняке…
— В самом деле, как живут народные массы? — спросила она, чуть наклонив голову, как любопытный воробушек. Я-то знаю, что для нее народные массы — пустой звук, и интерес к ним — всего лишь модная сентиментальность приемных больших начальников. Всерьез о жизни народа спрашивают не так. Однако, прикинувшись наивным простаком, который верит даже в такие чудеса, как забота чиновников о судьбе какого-то там народа, я поблагодарил ее за эту самую заботу и повел речь дальше:
— Спрашиваешь, значит, как люди живут? В нищете да в сирости, их не накормить и трестам ЮНРРА и всей мировой текстильной промышленности не одеть. Смертоубийство перед складами, когда чего дают. Вот ежели б ты меня пустила к товарищу начальнику и замолвила за меня словечко… Вижу, добрая у тебя душа, знаешь, что такое народно-освободительная борьба и все семь вражеских наступлений и как оно бывает, когда на сто километров вокруг индустрией и не пахнет…
— Знаю, знаю, посиди здесь, а я спрошу товарища начальника.
Она скрылась за обитой дверью, из-за которой не доходило ни звука. Я остался, дрожа от страха. Вот уж не думал, не гадал, что так быстро доберусь до последних дверей! План битвы-то не составил загодя. Полагал, осмотрюсь сперва на поле боя и уж там, на месте, решу, куда нанести главный удар. А так, похоже, сам себе дам коленом под зад. Боже милостивый, помоги мне остановиться хоть у Савы!
Надо было поразмыслить. Конструктивно и действенно. Но в котелке, как назло, было пусто, словно у начетчика, который только и умеет, что сыпать цитатами. Ни на грамм ума. Мало-помалу страх расшевелил мои окаменелые извилины. Бежать некуда. Впрочем, я не простил бы себе постыдной трусости. И то сказать — отправиться в столицу, дабы обмануть министерство и выклянчить кое-что для своего села, потратиться на дорогу, дойти до главного рубежа и вдруг — в кусты! Нет уж, дудки, не того я роду-племени!
Секретарша довольно долго пробыла в кабинете. А я тем временем состряпал кое-какой план, чтоб избежать неожиданностей. Хотя от них не застрахован даже союзный план, а уж мой и подавно!
Итак, ежели начальником окажется бывший подпольщик-молчун, значит, он белградец и ему не довелось шататься по Боснии. Наплету ему про наши беды и что было и чего не было. Распишу, как мы, сражаясь в горах, дрожали за судьбу нашей столицы и ее славных подпольщиков и как теперь эта наша столица прямо на глазах растет и хорошеет, превращается в настоящую социалистическую столицу! Пульну в него самыми громкими государственно-праздничными лозунгами во славу города, в котором живет и трудится… и славный товарищ начальник!
Найдите такого человека, который хоть чуточку не выпятит грудь, как услышит похвалы своему городу. Ведь он, естественно, считает себя живой его частью. И совладельцем его славы…
Ежели начальник помешан на теории, я заведу речь о расстановке классовых сил, о приводных ремнях революции, о трех источниках и трех составных частях… все, разумеется, в духе братства и единства наших республик, готовых прийти на помощь друг другу. Он, конечно, решит, дай-ка и я применю недавнюю теорию на практике, и — даст машины.
Ежели начальником окажется бывший партизанский командир, то сначала мне придется безошибочно определить, кто он — черногорец, личанин, македонец или серб, и уж потом помянуть братские отряды из его родного края, боровшиеся на нашей земле. И это будет святая правда — попробуй найди такой отряд, который бы не ел в Боснии овсяного хлеба и не оставил в ее горах павших бойцов.
А когда товарищ начальник размякнет от военных воспоминаний, как смазанная сметаной горячая лепешка, тогда я передам ему привет от имени нашего края и попрошу — машины.
Но ежели начальником окажется профессиональный чиновник, который, согласно моему заключению, не имел никакого отношения к нашей великой борьбе, а сделал карьеру благодаря диплому, я сразу распалюсь, прикрикну на него, предъявлю ультиматум, повожу перед его носом пальцем и зароню в его душу подозрение, что встречал его уже где-то во время войны, о чем мы побеседуем в положенном месте, а сейчас — чем разрушать наше братство и единство отказом, пусть-ка лучше даст нам машины, какие еще имеются на складах.
А когда машины смонтируем и лесопилка заговорит, письменно извинюсь перед ним, дескать, обознался, и приглашу его на охоту, разумеется, на кооперативный кошт.
Да не упрекнут меня блюстители народнохозяйственной морали! Находчивость и сноровка давно уже возведены в достоинство, пределы же их еще не определены. И закон не возвел вокруг них железобетонных ограждений. Положим, я без спросу трясу государственные орехи, эка важность, я ведь не свои карманы набиваю, а общинные. А ведь община — это тоже как-никак юридическая, географическая и этническая категория нашей прекрасной родины, скроенная по социалистическим меркам. Благородство моей цели, надеюсь, оправдает негодность моих средств. Впрочем, еще рано говорить с морали. Поживем — увидим, как у нас будут развиваться торговые отношения! А то, чем занимаюсь я, это, дорогие товарищи, всего-навсего индустриализация отсталых краев!
В широко распахнутых дверях появилась улыбающаяся секретарша и жестом пригласила меня войти.
— Пожалуйста, товарищ!
Товарищ вошел, зажав шапку под мышкой, готовый к решительному бою, неожиданно выпавшему на его долю.
Разглядывать кабинет было недосуг. И время и внимание я должен был сразу сосредоточить на противнике. Окинул его взглядом. К моему немалому удивлению, он не принадлежал ни к одной из тех категорий, к каким я готовился в приемной.
Но недаром все мои предки были крестьяне. Мудрости нам не занимать стать. Осторожности хватит на всю лисью породу. А из нервов можно сплести провода для линии электропередач через всю Югославию.
Мы теряем голову только под топором.
Начальник крутит в руках трубку и сучит шнур. Ноги поставил на выдвинутый нижний ящик. Говорит быстро, грамматику ни в грош не ставит. О слово споткнется — на мат обопрется. От избытка чувств. Говорит, как закадычный друг, — видно, с собеседником на равных; все свалено в кучу: базы и носилки, каймак и слоеный пирог, областное партийное собрание и какой-то главный комитет; про кого-то отказался высказать мнение, другого назвал котом мартовским, который-де в бытность свою связным не упускал случая промочить горло и утереть слезы молодой вдове, а впрочем, такого товарища днем с огнем не сыщешь.
На щеках — первый здоровый жирок. Блестящий румянец только что выкупанного ребенка, который уже с конца сорок четвертого жил без особых тревог. Глаза гуляки. Совещания еще не испортили ему надпочечников.
Я сделал вывод:
участник НОБ с первого дня оккупации. Происхождение — из середняков. Место жительства — Ниш, Вране, Северная Македония — что-то в этом роде. Обком отрядил его на работу с массами еще до окончания войны. Оттуда по кадровой спирали угодил в министерство. Значит, в делах гражданских разбирается. Телефон и кабинет ему не в диковинку. А фольклорность его языка говорила в пользу того, что он понимает душу крестьянина и не слишком чтит бюрократический порядок. Натура широкая, как Морава в половодье.
Он положил трубку и встал.
— Здравствуй, товарищ. Садись!
— Здравствуй! Спасибочки.
— Что, устал?
— Притомился маленько, ведь до Белграда, родимый, от нас не рукой подать.
— За машинами приехал?
— За машинами.
— Мы все уже раздали по республикам, одна Сербия еще только не забрала свою долю. А ты откуда?
— Из Лабудоваца…
— А где это?
«Кончено, — подумал я. — Вот как, товарищ Данила Лисичич, рушатся нереальные планы. Что ты себе вообразил? Будто люди только и думают, как бы пособить тебе в твоих плутнях? Эх, голова садовая, ума палата!» И, стиснув зубы, я медленно процедил:
— Это… это километров восемь от Дрины.
И… о, чудо! Пронесло! Начальник не спросил, по какую сторону Дрины. Я чуть было не воскликнул: да здравствуют наши начальные школы и пробелы в географическом образовании! Да здравствует привычка жить и думать только на своем берегу реки, разумеется, без политических последствий! Да здравствует товарищ начальник, соединивший в себе и то и другое!
Я, разумеется, не стал разубеждать товарища начальника в том, что Лабудовац находится на правом берегу холодной Дрины.
Он смотрел на меня и улыбался. Ну, думаю, роль простофили и страдальца я сыграл неплохо. Да, видать, и смазливая секретарша из приемной поспособствовала. Конечно же, она была главной причиной, благодаря ей у начальника и сложилось мнение обо мне. В самом деле, трудно поверить, чтобы такой начальник не испытывал влияния такой помощницы! Так вот для чего бог выдумал влияние!
Тоном всезнающего учителя он спросил меня, деревенского недотепу:
— А товарищи дали тебе какую-нибудь бумагу, ну, письмо?
— Нет, брат! Сказали, получишь, Дане, тогда, мол, уезд и пошлет все нужные справки, так-де, мол, и скажи товарищам!
— Сейчас посмотрю, есть ли вы в списках! — Он пробежал глазами какую-то бумагу. — Нет, Лабудоваца нет.
— Быть того не может!
— Нет.
— Что же мне делать, товарищ начальник? — заохал я, как заправский серб. — Заклинаю тебя нашей свободой! Не могу я живой вернуться с пустыми руками!
— Гм! Посмотрим. Посмотрим… Ты, я вижу, воевал?
— С первого дня.
— Коммунист?
— Эхма! Забыл уж, когда меня принимали, так давно это было.
— Гм. А как там у вас политическая обстановка?
— Ежели б с экономикой у нас дела обстояли так, как с политикой, мы бы уж честь по чести доложили о начале коммунизма. А то ведь делим один хлеб на четверых, пашем на одной кляче. Во всем себя урезываем, деньги на машины бережем. Вот и сюда приехал на свои кровные. В кассе пусто. Голь перекатная, товарищ начальник, хоть плачь!
— Гм! Ну что ж, я дам указание министерству Сербии, чтоб вам выдали…
— Ой, нет, нет, лучше не давайте, пожалуйста! От них ничего не получишь. Вся надежда на тебя, на твою справедливость, товарищ начальник. Наслышан я много про то, какой ты отзывчивый, как всем помогаешь, как…
— Но я им прикажу!
— Только не им. Лучше дай приказ на склад. Так оно скорее будет. Не то, товарищ начальник, пока суд да дело, с полгода проторчу в Белграде. А тут каждый день дорог. Мои бедолаги ждут машин не дождутся. Дай распоряжение на склад! День, и все будет сделано!
— Ладно, уговорил. Дадим распоряжение на склад.
— А мы вам, товарищ начальник, памятник поставим на верхушке трубы!
— Ну, вот еще что придумал! Так вот, товарищ, сейчас я попрошу секретаршу составить для тебя список, пойдешь с ним на склад. А поезда ходят к вам?
— Грузовик кое-как добирается.
— Дадим тебе два грузовика.
— Добрая у тебя душа, товарищ начальник!
— Гм, пустяки, брат, как-никак дело у нас общее. Так! Вот тебе записка в нашу министерскую столовую! А сейчас ступай отдохни, пообедаешь в нашей столовой, потом сосни чуток, а затем возьмешь на складе все, что нужно. Грузовики будут. Считай, что государство подарило вам машины. Заплатите двадцать пять процентов стоимости. Но это не к спеху. Время терпит!
Девушка, похоже, разбиралась не столько в промышленности, сколько в руководителях промышленности. Я накидал ей в список и гвоздей, и рельсов, и топоров, и ручных пил, и рубанков, и рессор для грузовиков, и несколько сварочных аппаратов, и два полных комплекта инструментов для выездных автобригад, включил даже все для узкоколейки. Как все это начальник подписал, ума не приложу. Может, он даже и не взглянул на список, когда секретарша принесла ему его на подпись, может, он смотрел на что поинтересней…
Погрузил я первую партию и дунул из Белграда.
Машины три дня перевозили все, что мне удалось добыть. В последний день одна из трехтонок сломалась на подъезде к Лабудовацу. Из Белграда пришло указание оставить машину на обочине «впредь до распоряжения». Когда шофер уехал, мы нашли «утерянные» части, заменили подсахаренный бензин чистым, грузовик перекрасили, приладили новый номер и посадили за руль парня, который уже закончил множество разных курсов — и нормировщиков, и учительские, и учетчиков, и санитаров, и трактористов, и теперь ломал голову над тем, на какой специальности остановиться. Грузовик продолжал беззаветно служить родине в границах лабудовацкой общины.
Сижу я на глиняном валу и поторапливаю в душе пестрый муравейник лабудовацких фронтовиков. Шепчу про себя просьбы-торопилки этому люду, который только о том и печется, как бы поскорее получить справку о своих трудовых свершениях…
Веселее, ну, веселее работайте, милые мои и дорогие фронтовики, каждый получит по два месячных пайка пшеницы и гороха, не зря же я обвел вокруг пальца товарищей снабженцев в уезде и дважды получил положенное, и рису подкину, и грушами обеспечу, ежели пожелаете, только поживей работайте! Не стой, Стоян, все вразвалочку норовишь, пошевели рукой, паршивец, нашел время лясы точить с этой соплюшкой! Цыплятники захотелось, жену-то еще перед войной до того добил, что она и посейчас в горнице лежмя лежит, а тебе подай свежатинки? А? Ну-ка, давай вкалывай, не то я тебе… Вон и толстозадые Воичи прохлаждаются…
— Товарищи, поднажмите, пока светло! — прошу их вежливо, с трудом сдерживая ярость.
А руки так и чешутся пройтись по Воичам дубиной. Весь род их со времен царя гороха — мошенник на мошеннике. Четыре брата, девять дочерей и четырнадцать сыновей, шестеро из них были с четниками и только один с нами, подорвался на собственной гранате, взорвалась у него в кармане. И теперь Воичи, все до одного, стучат в государственные двери и обрывают провода, как семья погибшего. А на работу выходят, ежели Марко Охальник уговорит их с глазу на глаз или ежели услышат, что по работе будет и выдача зерна. На вежливую мою просьбу переглянутся исподлобья друг с другом и по-прежнему ковыряют землю, словно через силу.
Вот несколько подростков — только-только выросли из детских штанишек. Кирки для них явно тяжелы. Руки — плети, ноги — скалки. Что скажет комиссия в военкомате? Знаю я, каково это — не можешь, а надо. Поглядывают на девчат, да ведь тесть по бицепсам выбирает зятя. Как бы ободрить их? Нечем. Физическая сила имеет свои границы. Напомнить разве о их предшественниках?! О тех, кто в их годы, сверкая холодными, как клинок, глазами, превзойдя мудростью философов, давным-давно почивших на своих перинах, создавали государство, не зная даже, что это такое. О тех иззябших, голодных, до времени постаревших, позеленелых, искалеченных! Нет, лучше их не вспоминать.
Я уже слышал, как возмущается нынешняя молодежь: что вы нам тычете в нос предшественников! И мы бы на их месте не оплошали.
Я безмолвно молю их: не зевайте по сторонам, копайте, неужели это так трудно, никто же от вас не требует хватать звезды с неба! И мы небось были молодыми, знаем, что это такое! Вон сколько баб на одних вас и надеются! И все равно не отлынивайте, на себя работаете, не на чужого дядю, а Данила вам и гармониста разыщет, и тамбуриста, чтоб вы могли погулять вечерком, клуб вам построю, открою школу, тракторы и комбайны пригоню, ежели, конечно, после индустриализации найдется клочок пахотной земли, построю вам кино и театр, чтоб чиновники из министерства просвещения не говорили, что у нас плохо обстоит дело с народным просвещением.
Только копайте, дорогие мои малокровные соколы-рахитики… Ведь ежели какой начальник взглянет ненароком на географическую карту, он же сразу увидит, на каком берегу Дрины Лабудовац. А ваш Данила отправится на многолетний отдых в какой-нибудь наш прекрасный мраморный карьер. И останутся от лесопилки лишь рвы, а лет этак через сто прыткий истории защитит докторскую, в которой с полной неопровержимостью докажет, что в этих окопах произошло одно из самых кровопролитных сражений второй мировой войны. А в кассу нашей общины в кои-то веки прольется капля милосердия комиссии по дотациям.
Марко Охальник объявил перерыв. Парни побросали мотыги и, потягиваясь, подошли ко мне. Подошел и Марко. Йованка привела трех женщин. Воичи, решив, что речь пойдет о материальной помощи или пайках, тоже приблизились.
— А когда пустим? — спросил кто-то из парней.
— Через месячишко, пожалуй.
— Молодежь ждет не дождется… Знаешь, товарищ Данила, государственная служба все же лучше.
— На лесопильне будет не до собраний! — влез в разговор старший Воич. Знает, хитрюга, что парень секретарь скоевской ячейки. — У багра да пилорамы нет языка, чтоб болтать попусту.
Воич этот слыл реакционером, и секретарь пропустил мимо ушей его слова. Для него он пустое место. Или категория зла, которую принимают во внимание лишь при подготовке к политической операции.
— Товарищ Данила, я хочу спросить тебя конкретно. Вот мы знаем, кто такой Маркс, кто такой Энгельс, я все понял, кроме второго раздела четвертой главы, вроде, значит, разбираюсь во всех этих проблемах. А вот объясни ты мне одно, когда здесь-то будет социализм?..
— Приедет в карете и с музыкой, — снова влез Воич.
— Молчи, старый осел! — накинулась на него одна из женщин, судя по тону, его жена. — Люди об умных вещах толкуют, а тебе бы только дурака валять. Парнишка дело спросил. Интересно ведь… Мы тут кричим: вот он, социализм-то, уже не за горами, еще годок, еще одну железную дорогу, а его нет как нет, застрял где-то, видать. Давай послушаем. А ну-ка, Дане, рассказывай!
— Правильно, дайте послушать! — поддержала ее Йованка, невозмутимо проглотив шепотную шпильку Воича: «А ты, Йованка, не переживай! Он тебе опосля с глазу на глаз расскажет».
Марко-комитетчик поднял палку и крикнул тем, кто было устроился в тенечке:
— Эй, вы, все сюда! На лекцию и ахитацию.
— Не ахитацию, а агитацию! — поправил его парень.
— Зелен еще меня учить! — огрызнулся Марко. — Я эту саму ахитацию в бункерах проходил, когда ты еще без штанов бегал.
После столь основательной подготовки отступать было некуда. И я лихорадочно прикидывал, с чего начать. Лекцию можно читать для собственного удовольствия. Такие лекторы, как правило, глубоко убеждены в том, что для публики нет большего счастья, чем лицезреть их. Лекцию можно читать и ради галочки. Такое случается тогда, когда цифра проведенных болтологических мероприятий дороже тесного общения с людьми, пришедшими тебя слушать. Лекцию можно читать и для того, чтоб освободиться от материала. Так поступают люди и сами не верящие в то, что говорят. Лекцию можно читать и тогда, когда ее никто не хочет слушать. Это делают те, кто думает, что люди станут лучше, если их постоянно изводить, терзать и мучить. Лекцию читают и перед пустым залом. Такая участь постигает тех, кому уже раз довелось выступить там. Итак, лекции читают по-разному.
Мне хотелось зажечь, захватить, подчинить сердца этих грубых и донельзя узколобых людей, избавить их от нищеты духа, раскалить им котелки так, чтобы вздыбились извилины, чтоб от них поднялись пары идей и веры в нечто более гуманное, чем милосердный бог.
— Социализм не распутный бег, он не прикатит в Лабудовац в карете, — с этого я начал. И, оперируя цифрами, — а лучшего горючего для запуска фантазии нет, — убедил их в том, что, когда лесопилка начнет давать продукцию, у нас появятся первые деньги, с помощью которых забьется сердце социализма. Рассказав о наших будущих заработках, я стал рисовать им будущий Лабудовац. Я прокладывал прямые, длинные и широкие улицы, а мои слушатели высовывались из-за своих углов и, разинув рот, глядели на эти белые, прямо-таки царские дороги. Двумя ладонями и грудой слов я строил в долине красивые здания и селил в них поочередно всех присутствующих, а они, робко топоча деревянными башмаками перед мраморными лестницами, смотрели на меня с таким страхом, с каким смотрит скотина на новый хлев. Я открывал шикарные рестораны и перечислял блюда, а они глотали слюну и облизывались. Я вел их в театры, кино, цирки, в огромные, залитые солнцем залы, где на забаву им собрал чудеса со всего белого света.
Строительство Лабудоваца я закончил памятником павшим воинам, вознесшимся выше облаков.
Слушатели мои оцепенели, застыли, глаза будто остекленели. И наконец тишину прорезал тоненький, едва слышный всхлип старшего Воича:
— Дане, а кутузка где будет?
Взрыв смеха грозил снести мои замки, и я поспешил обрушить на него ураган ненависти.
— Для тебя, дядюшка, всегда найдется каморка с хорошим замком. Как раз по твоим заслугам.
У Марко-комитетчика хватило ума взять на вооружение мои слова.
— Слышали? — крикнул он, потрясая палкой. — И чтоб мне больше никаких отговорок. Хоть на карачках, а на работу выходить! Такой распрекрасный социализм нас ожидает, а мы копаемся, как буржуйские бабы. Вставай! Хватит языки чесать, берись за кирку! Товарищ Данила, от имени фронтовиков спасибо тебе за лекцию. Больно складно у тебя вышло…
Йованка осталась, присела рядом со мной на доски.
— Дане, а ты часом не болел мозгами?
— Твой покойник как-то огрел меня колом по башке… до войны еще. Помнишь?
— Мелешь порой незнамо что.
— Когда это я молол?
— Да хоть бы сейчас. Про Лабудовац. Или ты дурак и сам веришь в свои бредни, или — хитришь, морочишь нам голову.
— Не веришь?
— Дане, а неужто ты веришь?
— Ты меня знаешь. Кабы не верил, бросил бы все.
— Ничего путного ты здесь не сделаешь. Разливайся, сколько хочешь, за то тебе и деньги платят, бросить ты не можешь, раз начал. Но мне-то впереди ничего не светит. Даже самого малого не досталось…
— Мужа?
— Боже упаси! Очень надо, чтобы какой-нибудь хрыч слонялся по дому в подштанниках. Лучше уж повеситься… Эх! — Она вздохнула, потом медленно повернулась и, подняв на меня глаза собаки, молящей о пощаде, проговорила: — Дане, я приду к тебе вечером?
— Меня дома не будет.
— А завтра?
— И завтра не будет.
— А послезавтра? — простонала она приглушенно.
— Надо к лесорубам ехать.
— Дане, ты бегаешь от меня. Почему, Дане? Ведь я знаю, что люба тебе. Забил себе голову глупостями и не видишь, куда катишься. Надеешься сделать, что задумал? И думаешь, тебе спасибо скажут? Понастроишь всем дворцы с золочеными крышами, пустишь молочную реку с кисельными берегами. А что с тобой будет? Один как перст. Никто и на порог не пустит, а об себе заботиться уж поздно будет. Очнись, старый дуралей! Ведь можно так все сладить, чтоб и волки сыты были, и овцы целы! И об государстве радеть, и про себя не забывать.
— Для твоих боков, что ль?
— Дане, кобеля и на дороге найти можно. Мне ты нужен.
— Душа моя мелкособственническая, не хочу я быть ничьей собственностью. Бери-ка лопату и ступай поработай, вот вся дурь из головы и выйдет. А я подумаю, когда к тебе зайти.
Она вскочила.
— Я не шлюха, чтоб ты приходил ко мне, когда захочешь!
И сердито отряхнув юбку, она зашагала к женщинам, стоящим на другом краю стройплощадки. Они уже поглядывали на нас, лукаво перемигиваясь.
Боль на душе не означала демобилизации. Мучают меня эти нелады, еще как мучают! Была у меня крупица личной жизни, да и та обернулась обузой. Мало, что ли, проблем и без того! Обернулась сомнением, извечным сомнением затылка в путеводной способности глаз. О-о, вот несчастье, что бога нет. Был бы бог, было б кого отколошматить за сумятицу в душе. Боюсь… до дрожи боюсь одиночества, которое рано или поздно свалят на меня годы. Всемогущему богу и тому мудрецы дали компанию: жену, сына и шута придворного — святого духа. Знали, что ни один дурак не поверит, будто можно жить монахом. Даже господу богу. Не говоря уж про простых смертных. А мне вот приходится.
Нет, я не позволю связать себя по рукам и ногам ради чревоугодия. Милая моя Йованка, если б ты только знала, какое это счастье ничего не ждать для себя. Ты здоровая, нормальная женщина, ты имеешь право на собственные желания, я ведь и борюсь за то, чтоб осуществить мечты людей, сделать их реальными для всех. Но что со мной станется, если еще и ты начнешь предписывать мне повестку дня? Душа моя, хватит с меня директив сверху! Я не могу разрываться между борьбой за интересы всего народа и щекотанием твоих пяток. На это способны лишь те, кто одновременно начал заниматься и тем и другим, когда сила привычки помогает.
Мы с Марко забрались на самый высокий вал. Луг был изрезан прямоугольниками рвов, из которых торчали головы и ритмично выбрасывалась земля. Завтра соберутся специалисты: техник из Лозницы (боюсь, как бы не пришлось тащить волоком этого пьянчугу), один семберский кузнец, знающий толк в динамо-машинах, и еще два-три механика-самоучки, которых я насобирал с бору по сосенке и которых каким-то чудом обошла мобилизация всех, кто умеет хотя бы забить гвоздь.
Мой белградский благодетель еще не узнал, кому он дал машины. Только бы их установить, а там пусть себе узнает, ежели захочет. Завтра мы приступим к бетонированию, а там — торжественный обряд монтажа! Через десять дней всякий, кто пройдет мимо, сможет вдохновенно воскликнуть:
— Машаллах[12], индустрия!
На цыпочках все удлиняющихся теней подбирается вечер, мой старый недруг. Тени ползут по лугам и полям, неспешно покрывая саваном ночи дивную игру света и красок. Я не люблю ночь. Она напоминает о смерти. Не на поле боя, где пуля в лоб или в отважное сердце — и конец. А о медленном умирании с ломотой в костях, постепенном отравлении собственными ядами. Природа, видно, для того и придумала сон, чтобы охранить людей от мрака.
Я мог бы пойти к Йованке или привести ее к себе. Но близость по принуждению только усиливает одиночество. Мне пришлось бы, как крестьянина — в пользе агротехники, убеждать себя, что я пожелал ее, и, превозмогая усталость, лгать ей, как я люблю ее мощное тело и коровье спокойствие.
Нет уж! Раз мы не собираемся заводить детей, ни к чему это. Ради лепета и невинных глаз крепыша сына я дал бы еще запереть себя в четырех стенах. Социализм, может, и не стал бы корить запоздалого отца за то, что он не ходит на собрания.
— Данила! — сказал Марко. — Говорят, ты с Йованкой…
— Врут.
— Женись, Данила, хватит в ухажерах ходить!
— Поздно, Марко.
— А как ты про меня полагаешь? Обрыдло жить бобылем. Может, найти кого?
— Ну, ежели пороху хватит…
— Найти бы бабенку посмирнее. А то не ровен час — налетишь на афежейку[13], как начнет качать права, моих и не останется.
Женщины сложили инструмент и кто в одиночку, кто парами пошли мимо нас, заканчивая начатые еще утром дискуссии. Показалась Йованка. Одна. Я окликнул ее. Хотел пошутить, чтоб как-то смягчить разрыв. Она поднялась на вал и бросила на меня хмурый взгляд.
— Чего тебе?
— Йованка, Марко невесту ищет…
Я не договорил. Она зыркнула направо, налево и, убедившись в том, что нас никто не видит, закатила мне такую пощечину, что я закачался. Спускаясь, она оглянулась и процедила сквозь зубы:
— Стыда на тебе нет! Ежели ты приходил ко мне, чтоб, когда надоем, швырнуть другому, то больше не приходи. Топором зарублю.
Один мой глаз затуманился от пощечины. Другим я покосился на Марко.
— Что бы это значило, Марко?
— Тебе лучше знать. Вот и женись! Ежели б она меня так звезданула, я бы кубарем скатился в яму. Твое счастье, ты еще твердо на ногах стоишь. Какого дьявола она взбеленилась, когда ты ей про меня сказал? Чем уж я так плох, растуды ее малина?..
Я понял, что натворил. Все кончено. Единственное, что мне оставалось, это сделать давно уже сделанный и столько раз подчеркнутый красным карандашом вывод: океанографы могут измерить глубины морей, астрономы — глубины вселенной. И только для женской души нет батискафа. Технически неразрешимая задача. Кошмар мелей и бездонных пропастей, джунгли центров реакции. Ты к ней с шуткой, а она в ответ — оплеуху.
Вот и женись, как сказал Марко Охальник.
Лучше уж спать в обнимку с трубой на лесопильне. По крайней мере она не требует налога на сентиментальность.
В День Республики состоялось открытие лесопильни. Ее украсили цветами и пестрыми платками. Произносили речи, восхваляли инициативу народных масс, секретарь комитета битых два часа говорил о значении социалистического строительства в нашей стране, народный депутат обрисовал политическую обстановку во всем мире, Раде Власть сделал подробный доклад обо всем, что свершилось у нас, начиная с сорок пятого, председательница АФЖ еще раз перечислила все несправедливости, которым веками подвергались женщины, — словом, каждый хотел высказаться до конца, невзирая на то, слушают его или нет… Так что на мою долю досталось буквально две минуты. Я поднялся на дощатую трибуну, поблагодарил гостей и пригласил их на обед, а всех присутствующих на гулянье. Гости захлопали, народные массы подхватили аплодисменты, и веселье началось. Закружилось коло… Гостям уже поднадоело стоять на дожде и ветру, и они с радостью двинулись в нашу столовую «Вперед, товарищи!», где их ждал обед.
К счастью, никто не поинтересовался, почему лесопилка через полчаса остановилась. Пока гости на цыпочках пытались пройти через грязь, я ринулся в первый цех. Главный специалист, техник из Лозницы, напился вдребезги и, падая, задел привод. Вдвоем с машинистом мы вынесли его через боковую дверь, и я дал ему коленом под зад, что было равносильно увольнению. Причин можно не объяснять.
Выходя, я приказал машинисту дать гудок.
Пронзительно и мощно завыла сирена, возвещая в этом медвежьем углу истории начало новой эры индустриализации. Металлическая труба, для надежности прикрученная еще веревками и проволокой, изрыгала белые и серые клубы дыма. Я снял шапку и поклонился. И тут мне пришло на ум, что неплохо было бы установить на верхушке трубы мемориальную доску: «Этот объект построили трудящиеся массы общины Лабудовац благодаря наиблагороднейшему невежеству в географии одного руководящего товарища. Слава им! Во веки веков!»
Лето не считалось с сельским хозяйством. Да и кто тогда с ним считался? Ему говорили: давай, сколько можешь, ассигнований же подожди до следующей пятилетки! Лето выжгло посевы до корня, статьи на мелиорацию свело к нулю. От жары пересохли многие речушки, и нам волей-неволей пришлось лозунгом экономии обуздывать свой аппетит за скудной трапезой.
Как пророк Магомет, я сбежал из села, чтоб подумать о селе. Решив взглянуть на него с высоты птичьего полета, я сел под руинами старой турецкой крепости, возвышавшейся на самой высокой вершине кольца окрестных гор. В ивняке, пожалуй, было бы и потише, но вещи, которые видишь снизу, выглядят иначе. Когда смотришь им в макушку с высоты, принципиальность обеспечена. Наверное, поэтому цари всегда жили в столицах. Наверху. Отсюда, видать, и пошел поклон вышестоящим: символический знак признания, что поклонившийся принадлежит к тем, кому смотрят в макушку.
Подо мной долина. Мало-помалу я начинаю прокладывать дороги и новые улицы, рою каналы, строю жилые массивы, возвожу четыре вокзала в четырех концах большого города.
Самое высокое и самое внушительное здание я дарю Народному банку. Я уже вижу, как на верхушке его шпиля, даже выше пурпурной пятиконечной звезды, сверкает динар, символ силы и целеустремленности. Институты я расположил в центре города, хотя заведомо знаю, что навлеку на себя нарекания. Но я это сделал умышленно. Пора уже нашей науке из бархатной тишины академических храмов выйти на сквознячок реального мира. Правда, на улице она слегка запылит ноги, но это не беда в сравненье с заплесневелостью мозгов в непроветриваемых помещениях.
Больницы я расположил так, чтоб они ежедневно оказывались на пути руководящих товарищей. Не худо бы им помнить, куда они тоже попадут, когда их прихватит. Поэтому мои больницы оборудованы по последнему слову науки и техники.
И только со школами у меня еще полная неясность, Наша четырехлетняя дикарка сильно нуждается в улучшении породы. Эх, если б можно было завести школу без классов! Ведь стоит учителю взойти на кафедру, как начинается проповедь. Проповеди порождают попа. А не поп должен учить гражданина социалистического общества. Не знаю, как надо учить, знаю только, чего я хочу. Я хочу, чтобы школа учила крестьян для индустриальной страны, а не господ — для страны кукурузы. Впрочем, школа останется тем, чем и была: удобным трамплином, чтоб выпрыгнуть из голодных крестьянских недр на платежные ведомости канцелярий.
Чубуком грез делю долину на районы, провожу водопровод, перемещаю учреждения соответственно потребностям, загоняю колонны гостей в только что отстроенные отели без вшей и клопов, оркестрам даю знак играть гимн всеобщему порядку и ликованию, в которых благодаря тонкой и умелой организации нет ни грана фальши и неискренности.
Зеленая лесная муха укусила меня в руку. Я ее согнал, почесался, и тут же мечты мои развеялись, как надежды на утверждение проекта бюджета. Теперь я видел только то, что могут видеть человеческие глаза. Подо мной лежала зеленая долина, исхлестанная ливнями слепящего света…
В усталой зелени схоронились дома. Только раскаленные крыши сверкают, точно лысины чиновников после головомойки у шефа. В одном конце дымит лесопилка. Можно подумать, что какой-нибудь дядюшка разлегся в тени и, посасывая трубку, дымит в небо. Белеет единственный двухэтажный дом. Только что подвели под крышу. Рядом чернеют котлованы будущих фундаментов. Итак, негусто, ежели принять во внимание мои гигантские задумки. Но главное уже сделано. Я проткнул брюхо летаргии. Всколыхнул спячку. Возможностью заработать привел в движение невидимые в людях пружины.
Средства у меня есть. Торговля процветает. Уже работают три магазина, на полках лежат товары, каких не сыщешь даже на базах, где мы отовариваемся. Как я их добываю, это уж мое дело. Иногда даже без ущерба для социализма сотрудничаю со свергнутыми классами. А как известно, эти классы были не дураки хотя бы по части закупки товаров.
На уездной скупщине я заявил, что рассадник растет и развивается — любо-дорого смотреть, что дела в кооперативе идут как по маслу, что он уже не нуждается ни в каких дотациях. Напротив, сам готов помочь дорогому уезду — только попроси! Последние мои слова были встречены дружными овациями. Хлопали все — от союзного депутата до комитетского портье. Я выглядел настоящим героем. Никто, конечно, не обнаружил рентабельности моего заявления. А ведь именно оно давало моральное право запустить руку в общую кассу. Теперь-то уж они поверят в реальность и выполнимость любых моих грандиозных планов. И потекут в Лабудовац золотые реки! Товарищ депутат, которому я предоставил широкую возможность хвастаться успехами своего края, наградил меня, прямо скажем, с депутатской щедростью. Исхлопотал, без единого динара, две полностью оборудованные мастерские — механическую и столярную! По линии кооперации я получил два трактора в качестве премии и поощрения. И тут я не растерялся и, не доверяя другим выбор марок, сам ткнул пальцем в гусеничные. А поскольку до сельского хозяйства очередь еще не дошла, я использовал тракторы для вывоза стволов с лесоповала. Сейчас, сидя под руинами крепости, я слышу сквозь недвижные слои солнечной тишины их тарахтенье далеко за горой.
Деньги я уже не держу в милиции. Две трети храню в банке, одну — в сейфе, который не возьмет никакая дрель. Будут еще. Вентили открыты. В ловких руках динар родит двойню. Финансовая рождаемость (по своей значимости) всегда шла вровень с человеческой. Динар питает наш ум и все наши чувства. Никто нам, конечно, не запрещает мудрствовать в свое удовольствие на голодный желудок. Но если мы детям вместо хлеба, одежды, игрушек и игр, вместо школы, моторизации, путешествий, полетов в космос и проникновения в недра земли дадим только ум да мудрые изречения, они пошлют нас к черту вместе со всей нашей мудростью…
Разумеется, динар можно облагородить целью — чтоб он не стал самоцелью, а был лишь средством. Но для этого его надо иметь…
Поклевывая таким образом зерна мудрости на свалке собственного ума, я вдруг увидел, как по голому склону, весь изогнувшись в упорном стремлении вперед, медленно поднимается хромой человек.
Раде доковылял, обвил короткую ногу вокруг палки и бросил на меня подозрительный взгляд.
— Привет!
— Привет!
— Где ты, товарищ Данила?
— Географически или организационно?
— Политически!
— А! Ну, скажем, создаю экономику.
— Слушай, товарищ Данила, я не посмотрю, что ты член пленума укома, и потребую наложить на тебя взыскание. На трех собраниях не был, четыре месяца не платил членские взносы, трудфронт, политика, проблемы власти, все это тебя ровно не касается… И в холодную воду надо входить, товарищ. Почему ты не провел предвыборное собрание в Шпаичах?
— Были дела в правлении.
— Каком еще правлении? Оно хоть раз собиралось?
— А ты знаешь, кто в нем сидит? Не один ни бе ни ме.
— Ну и ты не Маркс. А… людей бьешь? Не плоше фашистов!
— И кого ж это я ударил?
— Данила, ударил ты старого возчика. Нельзя бить людей. Провинился человек — к суду его, и хоть под расстрел! Но оплеухами не оскорбляй. За что ты его избил?
— Вот за что. Ему, видите ли, в пивную не терпелось. Навалил на телегу песку вдвое больше, чтоб за один раз управиться. Ну ось и лопнула на полпути. А теперь послушай! Ось стоит восемьсот динаров. По всей Югославии, поди, тысяч пятнадцать телег наберется. И ежели каждый возница за полгода по халатности сломает одну ось, государство потеряет около десяти миллионов. За полгода десять миллионов. За полгода десять миллионов будут выброшены на ветер!
Я знаю, что с ним лучше не ссориться. Лучше действовать убеждением. А до полемики с таким матерым волком, как я, он еще не дорос. Он встал на защиту одного человека — я в противовес ему защищаю государство. А за государство он готов пострелять всех и каждого. По его лицу я видел, что он колеблется. И решил немедля покончить с остатками его веры.
— Десять миллионов! Представь себе, Раде, что тебе вдруг дали дотацию в десять миллионов, скажем, на улучшение жизни тутошних инвалидов! Как ты думаешь, стоят затрещины нерадивым возницам десяти миллионов? Ну! Отвечай! Чего молчишь?!
Товарищ Раде опустил хромую ногу, решительно встал на обе, кончиком палки вывел на песке несколько нулей и, не смея посмотреть мне в глаза, устремил взгляд куда-то в сторону.
— Солидная цифра, — признал он. — Дай закурить!
— Видишь, как выглядят вещи, если на них смотреть реально?
— Да, реально. Десять миллионов!
— Десять миллионов!
— Эх, Данила, да за десять миллионов я бы дал перебить себе и вторую ногу, чтоб, скажем, построить больницу для инвалидов. И все же рукам воли не давай, действуй на сознание.
— Ладно, согласен.
— Взносы уплати и приходи на партсобрание. И чтоб я видел тебя на предвыборной конференции! В практицизм впадаешь.
— Текучка заела, Раде.
— И управленческий аппарат в кооперативе наладь. Возьми счетоводов. Расходо-приходной книги нет?
— Нет.
— А печать?
— Вот она, в кармане.
— Вот видишь. Вчера я заходил к тебе в контору. Бумаги валяются на полу. В запрос из уезда завернут кукурузный початок. Продавец в лавке не справляется с учетом.
— Верно.
— А я постараюсь подыскать уважительные причины для неявки на партсобрания.
Я пытался подобрать ключ к этому представителю власти на селе и секретарю здешнего партийного комитета, которому еще только стукнет девятнадцать.
Его поколение умело убеждать, а там, где методы убеждения не помогали, не задумываясь, прибегало к силе. Поколение это было дерзкое, напористое, искреннее, фанатичное, неумолимое! Трудно сказать с уверенностью, оно ли кроило время по своим меркам или же само было продуктом своего времени. Раде не закончил даже начальной школы. Но на войне это ему не мешало. Он был связным и потерял самое для себя важное — ногу. В январе сорок пятого, в шестнадцать лет, его уже выбрали секретарем подпольной молодежной организации. Он заманил в дом своей тетки штаб одной из рассеянных по горам бригад четников. Из партизанского тайника натаскал в подпол динамиту и других боеприпасов, а когда штаб заснул, бросил туда гранату. Штаб в полном составе переселился на тот свет. Правда, и тетка с дядей отправились туда же. Раде горевал только по тетке, дядька был заодно с четниками…
Сейчас он курит и кончиком палки выводит в пыли разные загогулины. А я смотрю на него… Слабонервный сразу его возненавидит. А окажись на его месте — просто покончит с собой. Интеллигентные старые девы найдут его суровым и ограниченным.
Певцы травы и букашек вообще его не заметят. Киношники не снимут о нем фильм. А циник скажет, что по невежеству ему не дано понять трудности в их подлинном объеме.
Из четырех колес автобуса, на котором едет наша судьба, одно — поколение Раде. Идеологи, берегите это колесо. Чтоб все болты были на месте. Чтоб резина не лопнула. Поломка надолго задержит нас в пути.
Кончиком палки Раде подцепил окурок и принялся старательно разминать его в пыли. Бледный от недоедания, с какой-то вековечной усталостью во всем теле, невыспавшийся, с глазами, горящими бескомпромиссной прямолинейностью, он на мгновенье потерял душевное равновесие, заморгал по-крестьянски боязливо и, как его прадед, когда в чем-то был не уверен и хотел порасспросить людей, тихо сказал:
— Данила, хочу я тебя спросить, только конспиративно!
— Нас слышит одна земля.
— Я хочу жениться.
— Да ну!
— Есть одна загвоздка. Она дочка Панто, а Панто — бандит. Сын его еще бродит по лесам.
— Знаю, Раде, но ведь ты не Панто будешь раздевать, а ее. Ежели она согласна…
— Ей тоже невтерпеж. Моченьки нету, говорит, ждать.
— А ты-то готов… ну как мужчина?
— О, и сказать-то совестно. Иной раз аж кулаки Грызу. Мать спрашивает: что с тобой, а я говорю — оставь, старая, проблемы одолели. Говоришь, жениться?
— С ходу!
Минуту назад я не сомневался, что аскетизм начисто иссушил в нем истоки физических желаний. А он, оказывается, вон каков! Ха-ха-ха! Ну и подшутило время над женихами! Кто только до сих пор не забирался в девичьи кущи! От удальцов, бросавших вызов небесам, до помешанных неистовых калек, ползущих к постели на карачках. А теперь вот злой святой, какого еще не помнит мир, желтый и тонкий, как оса, должен научиться улыбаться, обнимать плечи женщины, вечно оскаленные зубы прикрывать губами, сложенными для поцелуя, руками, привычными к совсем другому, гладить, ласкать и мять упругое девичье тело, неповоротливыми мозгами, выдрессированными железной дисциплиной, выдумывать те ласковые, нежные слова, ложь и заклинания, которые открывают путь к наивысшему блаженству.
В тесном пиджачке со складов Красного Креста, в бязевой рубашке без воротничка, в задрипанных штанах и сношенных башмаках, хромой, скособоченный, злой от забот и хлопот, он был так же далек от традиционного образа жениха, как, к примеру, здешний крестьянин — от слащавого передовика сельского хозяйства, о котором пишут в наших газетах.
Мои видения будущего Лабудоваца, развеянные укусом мухи и внезапным появлением острой физиономии Раде, уже не могли собраться воедино. Тщетно старался я после ухода Раде вновь отдаться своим мечтам. Реальная картина прорывалась вперед, колола глаза четкими линиями и формами.
Убогое село дремало на солнце.
В хмельном угаре сижу я перед гостиницей на Башчаршии[14]. Стоит пошевельнуть Головой, как шейные позвонки издают скрип, а в черепной коробке вскипает Бискайский залив. Странно, я не сидел до зари на конференции, не вел протокол затянувшегося собрания. Пил обыкновенное спиртное. И все же каждый капилляр горит огнем.
Кутил с друзьями из батальона. Мы перекрыли все нормы потребления спиртного. И еще разок, теперь уж без потерь, отбили все атаки, прорвали все фронты, оплакали мертвых, перемыли косточки живым, обсудили неполученные ордена, пропели весь наш боевой репертуар и, наконец, с песнями, подвываньями и всхлипами расползлись в разные стороны, забыв даже пожелать друг другу спокойной ночи.
Черт бы побрал эти военные воспоминания!
Словно шелудивый кот, торчу на солнце, ожидая, пока пройдет головная боль.
Ни кофе, ни вино с содовой, ни ведра доброй сараевской воды, ни даже утренние газеты не помогли. Трещит голова, и все тут. И только вчерашняя жатва немного скрашивает мое существование. Я провел министерство и получил еще два вагона пшеницы. На скобяном складе купил два полных грузовика разной мелочи. Выбил разрешение на повал нескольких тысяч кубометров леса. Заготовлю, разумеется, по ошибке вдвое больше, и вот они, денежки! Словом, вчерашний день уродил, как иной год с помощью агротехники и божьего благословения. Одного не сделал. Не нашел подходящего конторщика, который добровольно взял бы на себя не слишком тяжкое бремя нашего делопроизводства. В эпоху повального переселения села в город никто не хочет ехать в село. Опанок вкусил асфальта. Лакированные ботинки иной раз и мелькнут на селе, но только на ногах какой-нибудь инспекции с хорошими суточными, да и то лишь в краях, где можно дешево купить яйца, копченое мясо, индейку… Люди читают газеты. Видят, что деньги повернулись к городу, к промышленности, вокруг же больших столов всегда найдется пожива для стервятников. К чему работать, когда можно и так заработать. Сижу, значит, я за столом, — утром его выставили на тротуар, жду, сам не зная кого, и незрячими с похмелья глазами гляжу на Башчаршию.
— Здесь не занято? — услышал я вдруг женский голосок, шоколадно-сладкий и звонкий, как колокольчик. Оглянулся в испуге — уж не померещилось ли мне это спьяну. Но…
Не один юноша отдал бы молодость за то, чтоб случай привел к нему за стол нечто подобное. Вообразите себе смугляночку, росточку — мне по плечо, талия осиная, ножки точеные, на груди хоть стакан с водой неси, щеки — кровь с молоком, серые детские глаза светятся умом и добротой. Серая юбка едва прикрывает коленки, блузка наглухо застегнута неброской, но изящной брошкой. Опрятная, сдержанная, элегантная и скромная. Я бы поклялся: стенографистка на самом высшем — правительственном уровне. В моих медвежьих глазах — чистая мечта!
Похмелья как не бывало, я вскочил и предложил ей место. Смахнул со стола пепел, крошки и, слетав в буфет гостиницы, принес еще один стул, положив на него ее красивую дорожную сумку. Злые языки сказали бы, что во мне проснулась давно задавленная молодость! Вовсе нет! Просто я сразу понял, что она из другой братской республики, а мне надлежит быть вежливым и предупредительным с гостями из других республик. Разумеется, в духе наших принципов.
— Вы автобус ждете? — спросила она.
— Нет, я не жду автобус.
— Мне сказали, что автобус ждут здесь.
— Да, автобус ждут здесь.
— Мне, видите ли, надо в Зворник. Я из Белграда, но поездом ехать не хочется. Лучше через Зворник.
— Верно! Через Зворник лучше. Но раньше, чем завтра в полдень, вы в Зворник не попадете.
— Что вы говорите? Почему?
— Автобус идет только утром.
— О, господи! Что же мне делать?
— А ничего. Ждите, как и я. Снимите номер в этой гостинице.
— Ой, а мне сказали…
— Мало ли что говорят.
— А вы тоже едете через Зворник?
Так завязался разговор. Она сидела с напряженным достоинством королевы или, может, как проткнутая колом гусыня и без умолку ворковала нежным голоском сремской домрочки, а я время от времени самым учтивым образом вторил ей на контрабасе. Мы поболтали, полностью исчерпав программу обычных для залов ожидания бесед: о транспорте, о скудных пайках и тяжелых обязанностях, о засухе и ужасных ливнях… Затем она приличия ради принялась восхищаться Боснией и Герцеговиной, думая, наверное, польстить моему местнореспубликанскому патриотизму и не ведая, что мне все равно, где жить — в Бусоваче или в Чикаго, Лишь бы жить и строить то, что считаешь правильным. После этого крайне осторожно и ненавязчиво девушка довела до моего сведения, кто она и откуда. Она из Белграда и сейчас возвращается туда, чтоб поступить на работу. Там ее ждет место. До сих пор жила как придется. Я не спрашиваю, где она была. Ни к чему. Тем более что у нас есть немало мест, откуда можно приехать. К тому же, я слышал, недавно прошла амнистия. Поди знай!
Хмель из меня выветрился окончательно. Я замолчал, как лектор, после того как все выложит, придет домой и даже жене не находит что сказать, пока голова снова не наполнится хоть чем-то.
И вдруг в белой пустоте мозга вспыхнула искра рокового вопроса:
— А какую ставку предлагают вам в Белграде?
— Думаю, две с половиной тысячи.
— Я вам предлагаю три с половиной. И сразу аванс — тысячу. Плюс — квартира, питание и, возможно, приличный парень.
— А где это ваше место?
— Английская аристократия, милочка, чтоб заработать, отправлялась в джунгли. А уж югославской трудящейся женщине сам бог велел ехать в боснийское село, имеющее к тому же отличное будущее. По рукам?
Она жалась, отнекивалась, ссылаясь на маму, в существовании которой я сильно сомневался. Ну а если она все-таки была, то в дела дочери явно не вмешивалась. Я был бы не я, если б не сумел уговорить такого цыпленка согласиться ехать со мной. Чего я ей только не наплел, во всяком случае величайших лжецов мира я не посрамил. Я так расписывал Лабудовац, что оставалось удивляться, почему все наши конференции, пленумы и съезды проводятся в какой-то там Опатии и Дубровнике, когда есть Лабудовац! Наконец она сказала, что чемодан ее находится где-то поблизости и, чтоб можно было сразу тронуться в путь, надо… но только как же это так, где это видано, чтоб незнакомого человека так вот с ходу брали на работу, где это видано, чтоб человек так вот с ходу принимал предложение, не зная даже, в какой это части света, уж не говоря про то, какое это место, чтоб… и т. д.
Я прикидывал в уме все «за» и «против» и пришел к одному выводу: надо брать ее на работу. Она-то уж не принесет в контору завтрак в торбе для овса — кукурузные початки и кусок солонины, и мне не придется потом выметать за ней крошки. И по три раза на дню не будет выбегать на улицу, чтоб спросить первого встречного, как пишется та или иная буква, забытая по причине долгого неупотребления, что следует ожидать, если я предпочту обойтись кадровыми ресурсами Лабудоваца.
Ежели она внесет в делопроизводство хоть частицу себя, книги у нас будут чистыми, как стеклышко.
К такой в кабинет не войдешь без стука. Под взглядом ее красивых глаз ершистые посетители спрячут когти в бархатные лапки.
Она станет первой женщиной в Лабудоваце, которая не услышит за спиной ржанья. Все будут с ней вежливо здороваться: «Добрый день!»
— Ваша биография меня не интересует! — сказал я, чтоб не бередить ее ран. — Диплом меня тоже не волнует. Я не страдаю идолопоклонством перед ученостью. Если вы возьметесь, ваши способности…
— О, они в самом деле весьма разносторонние! — воскликнула она уверенно.
Я смерил ее с головы до пят и подтвердил:
— Не сомневаюсь!
Теперь я понял, почему разорилось столько королевств и лопнуло столько банков.
Под вечер мы решили пройтись по Сараеву. Но прогулка, увы, не состоялась. Когда мы проходили через пивной зал гостиницы, бармен, заспанный и опухший, Сплюнул через стойку и сказал:
— Эй вы, если вам надо через Романию, через полчаса будет грузовик.
Я нагнулся к симпатичной курочке, уже опутавшей меня невидимыми сладостными нитями.
— Как вы смотрите на грузовик?
— О, положительно!
— Тогда вернемся, чтоб собраться в путь?
— О, конечно!
— А маме, чтоб она не беспокоилась, отобьете телеграмму из Лабудоваца.
— Непременно, — прелестно солгала она.
Боснийские полчаса растянулись, как водится, на целых два часа. Прогулку мы отложили до следующей командировки в Сараево.
Половина Сараева уже приступила к омовению перед последней дневной молитвой, когда наконец грузовик подошел. Шофер вбежал в буфет заправиться горючим. Я дал ему пятьдесят динаров и показал на спутницу, стоявшую с чемоданом на тротуаре.
— Нас двое.
— Ого, сентиментальное сосуществование! — воскликнул он. — Вам повезло. В кузове текстиль. Располагайтесь со всеми удобствами. Выгружу вас в Лабудоваце, а сам покачу дальше. До места еще километров сорок будет. В пути грузовик пользуется правом экстерриториальности, и, стало быть, на вас не распространяется положение об охране общественной морали в ФНРЮ. Смотрите только, не слишком налегайте на рессоры. Итак, может, и вы пропустите посошок? Ваше здоровье! Официант, еще по одной!
Пораженный красноречием этого чумазого плешивца, я спросил, кто он и что и какие университеты окончил.
— Я был подопытным кроликом у своего папаши, он пытался на мне доказать, что и нормальный человек может запросто получить образование. Разумеется, опыт не удался. Кроме того, два года я просидел в тюрьме. А там, как известно, ведется воспитательная и культурно-массовая работа. Скажите-ка, а эта крошка вам, случаем, не родственница? Может, дочка, а? Судя по декоруму…
— Она у меня работает.
— А у тебя, товарищ, хороший вкус!
— Наследственный! А ты, товарищ, понимаешь что-нибудь в развитии современного села?
— Понятие неохватное, как квартира начальника жилуправления.
— Переезжай в Лабудовац. Мне нужны шоферы. Дам тебе двойной оклад.
— Дорогой мой пассажир, я не Давыдов из «Поднятой целины». Я не сойду с асфальта. Все-таки сейчас середина двадцатого века. Эпоха реализма и борьбы за повышение жизненного уровня. Скажешь, что я под влиянием мелкобуржуазной идеологии? Чепуха! Какую там идеологию ни прими, все равно обедать и ужинать надо, а еще надо быть уверенным, что на старости лет не попадешь в богадельню. Оплаченное милосердие, оно, брат, куда вернее, надежнее, щедрее и приятнее вымоленного.
Грязный человек опрокинул еще сто граммов и расплатился.
Я поднял брови.
— Ну?
— Поехали! В кабину я никого не сажаю, не люблю спутников. Впрочем, и наверху мягко. Устроитесь удобно. Если что, стучите кулаком по крыше кабины. А банда откроет огонь, на меня не рассчитывайте. Самое высокое воинское звание, до которого я дослужился, — дезертир. Залезайте и сверху подайте руку даме.
Я и мой новый делопроизводитель соорудили два ложа на расстоянии вытянутой руки друг от друга, легли и натянули одеяла до подбородка. Машина тронулась так плавно, словно дорога была устлана шелком. До Бентбаши над нами плясали квадраты огней, потом нас накрыло толстым и свежим покровом ночи. Грузовик закачался, как зыбка, которая почему-то пропахла нафталином. Над головой плыло небо с редкими звездами и одним-единственным голодранцем-облачком. Похоже, плутишка не прочь разживиться одежонкой из тюков, что под нами…
Я человек трезвый и за всякие там возвышенные чувства гроша ломаного не дам. Но волнение, какое я испытывал сейчас, было, пожалуй, глубже и возвышеннее священного трепета паломника перед святыми местами. В эту минуту я с легким сердцем отдал бы, наверное, и квартальную и даже годовую продукцию своей лесопилки тому, кто спел бы мне:
Поздно под вечер на горе Романии С другом верным, с красной девицей…Темнота — лучшее условие для инициативы такого рода. Только руку протяни. Девушка, видно, не так глупа, чтоб не понять, сколь неравны наши силы. Но вместе с грешными желаньями я вдруг ощутил в себе тысячи разных преград и пут, и они связали меня по рукам и ногам. От исконного, вбитого еще в голову матерью: «Грех, бог накажет!» — до: «Товарищ Данила, в такой-то день и час явишься на комиссию!»
По щекам хлестал свежий романийский ветер.
Безоглядный азарт, какого я еще никогда не испытывал, подбивал меня протянуть руку.
Осмотрительность, предтеча импотенции, говорила: нет!
Я почувствовал, что она зашевелилась под одеялом. Навострил уши.
— Товарищ председатель, вам не страшно?
— Все мои страхи связаны только с внешней политикой.
— Не шутите, я вся дрожу.
— Укройтесь получше!
— Я боюсь, товарищ председатель!
— Темноты?
— Всего.
— Зажмурьтесь! Суньте голову под одеяло. Страус давно разрешил подобную проблему.
— Товарищ председатель, а можно, я к вам придвинусь?
— Ну-у, пожалуйста, только я заранее снимаю с себя ответственность…
— Не съедите же вы меня, товарищ председатель!
— Об этом можете не беспокоиться.
— Ну тогда…
Я помог ей устроиться в моем теплом гнездышке. Ровно малое дитя, юркнула она ко мне под одеяло, уткнулась лицом в отвороты пиджака, а коленями — в мои. Голова ее слегка покачивалась на моем плече. Она мостилась, все теснее прижимаясь ко мне, чтоб согреться, щебетала что-то у меня под подбородком, а я, неуклюжий слон, молчал, храня свою залатанную честь ответственного работника. На резком повороте грузовик бросил ее мне на грудь. Я стиснул шапку, крикнул про себя: ну, помогай бог, держись, милая!
Но тут во мне вздыбился тот строгий товарищ, который умеет предусмотреть все.
«Осади!» — гаркнул он.
Клянусь собственной честью и честью своего народа, я не сделал ни малейшей попытки разорвать опутавшие меня узы. Нет, не променяю я дорогое «завтра» на безделку сегодня. Я поборол в себе разъярившегося классового врага и уберег свои руки от цепей, которые, поступи я иначе, сковали бы их уже утром в Лабудоваце.
Девушка мельтешилась все реже. Я хорошо представлял себе ее удивление, презрительную усмешку, укоры, вопросы и на все отвечал мертвенным спокойствием.
Кто на молоке обжегся, дует на воду!
Наконец девушка заснула. Она спала на моей руке, улыбаясь во сне, словно звезды ласкали ей лоб и губы. Я сдерживал дыхание, боясь разбудить ее. Мне известно, что такое стоять на страже не на живот, а на смерть, я мог бы написать об этом целую книгу. Но все это пустяки в сравненье с тем, как я хранил ее покой и сон. Мне было под силу отвести гром от ее головы, чтоб она не проснулась. Поймать гранату на лету в шапку, размонтировать и выбросить по частям на обочину дороги. Только б не нарушить ее детский сон!
Мы подъезжали к Лабудовацу. Я разбудил девушку, хотя до света оставался еще добрый час. Она приподнялась, привела в порядок прическу, разгладила руками измятую юбку и уселась, как в кресле.
— О, как хорошо я спала! А вы, товарищ председатель?
— И я хорошо.
— Прекрасное путешествие, не правда ли?
— Конечно, прекрасное.
— Какой же вы добрый, товарищ председатель!
— Добрый? Первый раз слышу.
— О, это вы только с виду грубый и страшный, а на деле вы мягче тетки, что почти заменила мне мать.
— Да, временами на меня находит.
— Вы ведете себя как настоящий отец, товарищ председатель!
Я чуть не вскрикнул: «Не буди во мне зверя, малышка, не то увидишь, какой я тебе отец! Мне ведь ничего не стоит показать тебе, где раки зимуют».
Вместо этого я степенно кивнул головой.
— Да, я человек внимательный. Такой уж уродился. Что поделаешь! Воспитание!
В Лабудоваце я разбудил повариху нашей столовой «Вперед, товарищи!» и вручил ей свою спутницу.
Рассвет я встретил на пороге собственного дома, воскрешая в памяти подробности ночного приключения и давая им оценку.
В гордости, рожденной отрицанием, обязательно есть доля малодушной радости, что удалось избежать неприятных последствий, и все-таки я был горд, что хотя бы из одного кризиса вышел победителем. Может быть, настанет день, когда я пойму бессмысленность подобного утешения, когда святой рассорится с богом и кинется наверстывать сладостные грехи.
Наверное, мне бы следовало пожалеть о чрезмерной поспешности, с какой я принял эту странную птичку… Однако, что ни говори, у меня для этого достаточно веских оснований, как, впрочем, у каждого, кто задним числом старается оправдать сделанное. Я мог бы посадить в правление кого-нибудь из местных кадров. Но я часто захожу в уездный совет. Канцелярии забиты местными кадрами. Три стола, четыре работника. Не хватает только треногих деревенских табуреток. В углу торбы. На столах — крошки. На полу — окурки самокруток. В бумагах — хаос. Знаки препинания вообще вышли из моды.
Однажды, пока я ждал, когда такой вот референт выведет на документе три буквы, один из его коллег подскочил к окну и радостно возопил:
— Гляди-кось, кобыла моя!
Все прильнули к стеклам. С холма, что возвышается над городом, спускался дядюшка грамотея в крестьянских портах, ведя в поводу кобылу, чтоб увезти в село паек племянника.
Я вернулся сюда около двух часов. Здесь все еще говорили о кобылах.
Я не хочу, чтоб мои служащие беседовали о кобылах. Или приносили с собой кукурузные початки, лук, брынзу и ракию в пестрых узелках. Служащий в опанках — безнадежный инвалид. Бесполезно пускать его в дорогу, он никуда не придет. И уж коли я задумал вести дело как положено и не носить печать в кармане, то я передам ее в культурные руки, которые не напишут на бумагах «патамушто» и «актябырь». Впрочем, здесь есть и прямой расчет. Чем служащий культурнее, тем в нем сильнее развито чувство дисциплины. Местный писака в разгар рабочего дня усядется на стол и пустится в воспоминания, начнет с первого немецкого наступления, к обеду, глядишь, только-только до Сутески доберется.
Руки девушки внесут культуру в делопроизводство. Я не требую от своих служащих особой точности и тщания. Напротив! Это бы мне лишь помешало хватать направо и налево все, что только можно, для своего убогого селения, из которого я хочу сделать городок! Но уж коли что попало в книги, пусть будет записано четко и аккуратно. Никакой мазни. Для любой неточности я найду тысячи оправданий — от нехватки специалистов до необъятности и сложности производства. Доверие ко мне — к человеку, который не строит себе дом, не покупает землю и не живет на широкую ногу, смягчит любое нарекание. А красивые руки моей служащей и вся прочая ее краса невольно разгонят желчь даже у самого дошлого ревизора.
Раде Билеговича, по прозванию Власть, бросила девушка. Как-то вечером она сказала ему, что он ей надоел, что она уважает его как народную власть, но гулять с ним больше не желает. Обрыдли ей его лекции со всеми их экономическими и политическими проблемами. Когда люди любят друг друга, они говорят о чем-то поинтереснее. Он попытался было убедить ее в том, что от пустой мещанской болтовни толку чуть, что ее задача — развивать в себе сознание и нарожать побольше сознательных строителей нашей родины. Она показала ему кукиш и заявила: «Мне рожать строителей, а моему отцу семена не дают бесплатно!» Увидел Раде, что в девушке возобладал реакционный дух, и отступился. В последнем письме он по-товарищески попросил вернуть ему разные скоевские и партийные материалы, которые он давал ей для личного роста, пока ходил в ухажерах.
После выборов Раде отозвали в уезд, где он, вероятно, затеряется в море аппаратчиков. Место его занял Дойчин, вечно хмурый и мрачный. Очень уж он был серьезный мужчина. В каком-то уездном учреждении он поднаторел в разных бумажках, а до этого — на войне — в политике. Живой авангард лабудовацкого планового хозяйства. Неумолимый, как закон, и тихий, как прелюдия к перетряске кадров. Это все, что я мог о нем заключить, когда мы на первом партсобрании схлестнулись на таком принципиальном вопросе, как может ли совет давать директивы земледельческому кооперативу, то бишь Дойчин — Даниле? Я знал, что может и в каких пределах, но мне хотелось выяснить, на что способен этот председатель. И к сожалению, понял, что он способен на все. И все же его язва желудка подает мне надежду на некоторую свободу действий.
Свой дом я передал другим. Разумеется, во временное пользование. Я ведь не сотрудничал с фашистами, чтоб искупать грехи щедрыми подарками, Йованку почти забыл. Иногда увижу ее издали, сердце екнет, но жизнь с ее неубывающими проблемами скоренько выталкивает все воспоминания.
Поселился я в каморке над столовой. Живу, как заматеревший беззубый волк. Мысли, что приходят мне в голову, когда я жарюсь на углях одиночества, держу про себя, не то еще сочтут меня идейно отсталым и пошлют на семинар. А я не хочу терять времени.
Село растет, как японский гриб в банке. Через год здесь будет настоящий социалистический город. Контора уже благоухает духами моей служащей. Ревизорам придется вымыть руки, прежде чем браться за ее книги. В помощь ей я дал пенсионера-счетовода и одного парнишку с законченным начальным образованием. В своем неукротимом стремлении угодить ей старый пенсионер забыл про свой ревматизм, а мальчик перестал зыркать в окно. Оба с нее глаз не сводят. Чудеса, да и только!
Иной раз приду я в свою контору. Стол сверкает, как блюдо самого паши, газеты и несколько неразрезанных журналов, которые редакции упрямо шлют, видимо полагая, что они играют огромную роль в просвещении непросвещенных, лежат на своем месте. Подпишу письма, выкурю пару сигарет, подышу близостью девушки и — с наступлением посетительского часа — исчезаю. Как и подобает председателю.
Небо горит. Воскресный день клонится к вечеру. На это время даже секретарь парткома не решится назначить собрание. Каменщики разбрелись по своим селам — помыться, сменить белье. На лесопилке затишье. Мастерские закрыты. Только один рабочий точит зубцы на циркулярных пилах. Магазины на засовах. Люди отправились окапывать свою кукурузу по второму заходу. Городок совсем замлел от жара. Зной давит на красные крыши с упорством комиссии, производящей проверку на прочность.
Ошалевший от слепящего света и убийственной жары, я бесцельно бродил вокруг двенадцати незаконченных зданий. Глаза мои побелели, горло пересохло, будто я читаю уведомление, что урезаны обещанные дотации. И вдруг, сам не отдавая себе в этом отчета, свернул в сады и по заросшей травой стежке пришел к реке. Выбрал омут, окруженный кустами, где меня сам господь бог не отыщет, разделся и бух в воду. Я плескался с наслаждением, словно был председателем процветающей индустриализованной коммуны, нырял, нежился на воде, позволяя ей нести меня, подобно тому как мнимые геологические находки уносят государственные деньги, снова нырял до дна и быстро, как проблемы в сельском хозяйстве, выскакивал на поверхность.
Накупавшись до посинения, я вышел на берег, надел штаны и повалился в тень. Известно, что все философии создавались в тени. Вот и я принялся философствовать на тему — свежесть природы и раскаленность городской толчеи. Будучи, однако, трезвым практиком, я топтался лишь по мелям своего ума. Ракеты моих мыслей все еще ходят пешком. Потому-то, как я ни старался, ничего великого я не придумал.
И задремал.
Ветер с реки обдавал меня пригоршнями свежести и защищал от жары и духоты.
Я заснул.
Но вскоре проснулся, разбуженный великолепным фонтаном смеха, какого не слышал с тех самых пор, как занялся хозяйственной деятельностью. Я вскочил в страхе, решив, что духи перенесли меня на другую планету. Ведь на земле смеются от души или те, кто все постиг, или же круглые идиоты!
Шагах в пятнадцати от меня вниз по реке стояла моя делопроизводительница по щиколотку в воде, а перед ней в омуте какой-то человек проделывал акробатические этюды. Я затаился чтоб не мешать им и чтоб из-за ложного чувства стыдливости они не лишили меня удовольствия спокойно любоваться девушкой.
На большом пляже, среди множества голых тел, я бы, наверное, и не заметил ее. Но при лабудовацкой бедности сенсациями эта двуногая песня превращала меня в молодого четвероногого, что бессильно рычит и облизывается в своей засаде.
Только теперь до меня дошло, что́ я упустил, когда ехал с ней на грузовике из Сараева. От воспоминаний об этом полусобытии, к которому мы, не сговариваясь, по взаимному согласию не возвращались, оставались жалкие обрывки, да и те норовили сигануть со склада памяти. До сих пор моим глазам и воображению беспрепятственно предоставлялся один ее профиль. Сейчас вся ее фигура от пальцев ног до подбородка, эта незримая, дразнящая скала, стояла передо мной живым воплощением моих несбывшихся желаний. Старость — наказание уже хотя бы потому, что понимаешь безвозвратно потерянное.
Вдохновленная, видимо, искусством купальщика, она вдруг раскинула руки и нырнула головой вниз прямо к нему.
Когда они вышли из воды, я узнал и его. Учитель! Один из немногих, кто сдал государственные экзамены и на этом основании пользовался безграничным доверием. Женщины считали его писаным красавцем, вероятно, потому, что голову он причесывал гораздо чаще, чем мыл ноги. Он был из числа тех, кто покоряет только в костюме. Лопатки у него торчали, как бока у старого одра, а руки и ноги были ровно плети. Может быть, девушка не замечала этих недостатков. Может быть, я из чистой ревности приписывал ему изъяны, которые любовь превратила бы в достоинства атлета.
Девушка легла на спину. Он сел у нее в изголовье.
— Почему вчера не пришла? — спросил учитель.
— Работа…
— Этот дьявол совсем тебя заездил…
— Нет, лучшего начальника, чем товарищ Данила, у меня еще не было.
— Это же дикарь, который ничего не видит в жизни, кроме камня, кирпича и денег! — съехидничал учитель, словно я камнем, кирпичом и деньгами убил его отца. Гм, любопытно, что он еще скажет. — Я вижу, — продолжал учитель, — как ты раболепствуешь перед ним. И не ты одна. Навязал свою волю селу. Люди боятся ему слово сказать. Работают и молчат, а он их молчание принимает за согласие, не видит, что это молчаливый отпор. Люди боятся его и не любят. Слабые льстят ему, сильные ненавидят. Своей дурацкой личной жизнью он лишил их орудия мести. Молчат даже тогда, когда он, прикрываясь благими целями, делает глупости. Он иезуит, супостат, насильник, невежда, старый хрыч, полный ненависти. Я говорил в уезде, но там пока еще увлечены одной только материальной стороной строительства. Боюсь, как бы лабудовчанам не встал поперек горла социализм этого мрачного чистюли Данилы. Он ведет себя так, словно в одном кармане у него Маркс, а в другом — Энгельс. А того не видит…
Девушка села.
— Нет, Сречко, он все видит, просто времени не хватает…
— Просто ты ему еще не дала повода, ждешь, когда у него будет время…
— Сречко, веди себя пристойно! Я знаю и тебя и его. И если вас сравнить, ты ему во многом уступишь. Будь ты на его месте, ты душил бы людей от ярости, а он все же находит время, чтоб с нами, мелкими сошками, приветливо поздороваться: «Доброе утро!» Он настоящий мужчина, не то что ты и тебе подобные. И не говори, пожалуйста, так о моем председателе!
— Философия мелкой сошки!
— Ах, Сречко, мы с тобой стоим друг друга.
Я чуть не взвизгнул от гордости в своем зеленом укрытии. Молодчина, девушка, хотел я крикнуть, разве эти сопляки знают толк в мужчинах! Ну продолжай же, язычок, свои сладкие речи. Я прикажу повысить тебе жалованье на пятьсот динаров. А ты, парень, сыпь домой и тренируй свои хилые мышцы в спортивном обществе «Партизан». Когда сможешь бегать с небесами на плечах, как мое поколение, вот тогда и приходи на комиссию к дядюшке! А пока предоставь ему беречь честь и достоинство мужского рода! А за оскорбления я с тобой расквитаюсь! Обнаглел ты, братец, от лабудовацкого благоденствия, уж и я тебе мешаю. Ну погоди, зашлю я тебя в глухомань, поймешь тогда, что́ ты своим грязным языком наклепал. И пусть меня за это хоть душегубом обзывают.
Они скоро помирились, поскольку речь шла не о них самих, а о третьем лишнем, и, забыв про меня, предались игре, к которой так располагали и укромное местечко, и вода, и солнце. Сперва, как бы в качестве предисловия, поцеловались два-три раза, потом он стянул с нее одну бретельку, а под голову ей подсунул руку…
Я отвернулся, чтоб глаза мои не выскочили из орбит от такого зрелища. А кроме того, я где-то прочел, что джентльмены в подобных ситуациях иначе себя и не ведут.
Они повалялись в свое удовольствие, а потом взялись за руки и побежали к воде. Мой тайник становился опасным. Вдруг им захочется перейти в тень после купания? Они тут же меня обнаружат. Или решат идти домой этим путем? Или заметят на песке свежие следы, ведущие в кусты? В любом случае догадаются, что я пялил на них глаза, ровно юнец, постигающий тайны бытия.
Мне не хотелось падать с пьедестала, на который она меня вознесла, а в перечень пороков в глазах учителя — вносить еще один.
В нашем городке, как и в любом боснийском захолустье, пляж был притчей во языцех. Мужчины, говоря о нем, гогочут, женщины — морщатся, а старухи фыркают и осеняют себя крестным знамением. Общее суждение — подумай только, эти-то двое голые!.. Зная об этом, и наша парочка не решалась возвращаться в село вместе. Парень первый отжал свои плавки, набросил рубашку и зашагал по кукурузному полю.
Девушка осталась в воде.
Я незаметно перебрался на крутой скат, отошел метров на пятьдесят и вновь направился к тому же месту, покашливая и посвистывая. Словно бы случайно очутился здесь.
Девушка увидела меня из воды.
— О, товарищ председатель, какая вода чудесная! Прыгайте, пока солнце не зашло. Прыгайте, зачем садитесь? — крикнула она с гостеприимностью хозяйки, приглашающей войти в прекрасный дворец.
— Я свое отпрыгал. А ты купайся, купайся!
— А вы попробуйте, не стесняйтесь! Мы здесь одни.
— Спасибо. У меня судороги бывают.
Я сидел недалеко от ее вещей. Она вышла из воды, сверкающая и гибкая, словно на нее были направлены все камеры мира, а не только мои грустные, по-стариковски чуть гноящиеся глаза. Пьяняще покачивались в лад движению расчески ее плечи и груди, крутые бедра, которые могут заставить забыть все договора, тобой подписанные, и все уставы, поддерживающие в тебе дисциплину, и с легким сердцем опустошить ради них любые сейфы и кассы. Причесываясь, она болтала с такой простодушной непосредственностью, что я невольно подумал о том, какой многоопытной надо быть, чтоб вести себя так непринужденно.
Вспомнив слова учителя, я спросил девушку:
— Скажи мне положа руку на сердце, что я за человек?
Столь банальный вопрос из уст такого бывалого старика, как я, удивил ее.
— Вы, вы, товарищ председатель, печальный человек. Мне вас очень жаль!
— Вот уж чего не ждал!
— Да, да, правда. Надрываетесь от зари до зари, нервничаете, подгоняете людей, а они себе копаются, они привыкли всю жизнь дремать, а вы сами не спите и хотели бы, чтоб и другие, в своих же интересах, тоже не спали, вы сдадите раньше тех, кого подгоняете, вы все отдаете за их будущее, а они вас уже сейчас ненавидят, костят на все корки. А устанете, думаете, они вам спасибо скажут! Им бы только поскорее вас похоронить. Вот и отдыхаете вы один. На душе у вас горько, даже когда вы смеетесь. Можно, товарищ председатель, я задам вам один вопрос? Почему вы не совьете себе гнездо? Время…
— Милое дитя, с такой птицы, как я, хватит и охапки веток. О гнезде надо тебе думать.
— Ах, я не собираюсь! Все соседи люди дивные, но своим мужем я никого не могу себе представить. Вот хоть наш учитель, он только что был здесь, приятная наружность, неплохо зарабатывает, достаточно образованный, чтоб не быть скучным… Но чего-то не хватает. И не только ему. Чего-то такого, что есть только у бывалых солдат: устойчивость, сильные плечи, непонятные темные озера в глазах, словом, величие крепости с налетом столетий. Острое меткое слово. И руки… ах, господи, медвежьи руки, внушающие такое доверие!
Я чуть не вскрикнул: «Ну и нахалка! Одних нахваливаешь, а с другими по пляжам валяешься!»
Казалось, она услышала мой крик и кокетливо вздохнула:
— Простите меня! Я беру от жизни то немногое, что осталось мне, как женщине. Могу же я позволить себе маленькую радость, от которой никому нет никакого вреда.
Она бросила расческу, расстелила на песке платье и легла на бок лицом ко мне. Я видел ее бедра и беспокойные колени, которые то соединялись в поцелуе, то судорожно расходились.
— Извините, товарищ председатель, еще один вопрос! Вы любили свою покойную жену?
— Нет.
— А другую женщину?
— Не помню.
— Всю жизнь один? И в молодости?
— Может, ты хочешь, чтоб я похвастался своими победами?
— А у вас были победы?
— Реестр толщиной с Евангелие! — солгал я.
— Ха-ха! Кто бы мог подумать! — Со смехом она откинулась на спину и развела колени.
«Господи, — возопил я в душе, — если ты столкнешь меня в эту пропасть, я спалю тебе бороду. И всех твоих святых соратников постреляю». Неужели такое возможно?! Чистый ангел с утонченным вкусом так бесстыдно прельщает меня, грубого грязного старика! Какие демоны управляют ее желаньями? Я протер глаза, намереваясь отвести их в сторону, но они, как назло, точно приковались к ней.
Она молчала, вопрошающе глядя на меня расширенными зрачками и проводя кончиком языка по беспокойным губам.
Я огляделся по сторонам. Она поняла это по-своему, приподнялась и прошептала:
— Только не здесь!..
— Ты о чем?
— Вы хотели…
— Нет! — крикнул я и вскочил.
Словно снятый с выборного поста, я медленно побрел, понурив голову. И лишь где-то посреди пути, на тропе, ведущей через заросли кукурузы, она нагнала меня и, с трудом переводя дыхание, спросила:
— Вы не сердитесь, товарищ председатель?
— Нет. Удивляюсь.
— Знаю. Я вас не так поняла.
— А если б я захотел, ты согласилась бы? Почему?
— Я могу быть откровенной? Тогда я вам скажу… Вы одинокий человек. Вы необычный мужчина. Вы мой шеф, который еще ни разу не подал виду, что жаждет моих ног. Вы меня просто не замечаете. Вот почему.
Я уже успокоился, собрался с духом и мог даже шутить.
— И потому, говоришь, заслужил небольшую подачку?
— О, не обижайте меня, товарищ председатель! Если вы не возражаете, давайте об этом забудем!
— Не волнуйся, у меня память короткая.
Она тоже недолго помнила. Покачивая боками и болтая всякую чепуху, она шла впереди, но у канав останавливалась, поджидала меня и, опершись на мою руку, с детским радостным визгом перепрыгивала. И шла себе дальше, обвивая меня, как благоухающий шелкопряд, а я по-прежнему был по-дурацки тверд и неприступен. Ради чего?
Ради сомнительного удовольствия быть единственным шефом, не удостоившим внимания ноги своей подчиненной?
Слабое утешение.
Я лежал во мраке тесной каморки над столовой. Одетый. Томимый одиночеством, которое принес с собой наступивший вечер. Подо мной, в пивной «Вперед, товарищи!», цыганский бубен бьет в такт пульсирующей артерии под шеей. Чей-то голос плачет о своих горестях под дробь бубна и пиликанье скрипки. Уличный фонарь под окном подмигивает небу, насмехаясь над тенями на моей стене и убеждая меня в том, что я галлюцинирую.
Я, самый крутой государственный деятель в Лабудоваце, заставляющий людей не замыкаться в себе и своих четырех стенах, сворачиваюсь в клубок, как кутенок, и скулю под бременем одиночества. Бог карает кондитеров отвращением к сладкому, а меня — одиночеством, из-за которого я уже несколько лет кряду держу на осадном положении все капилляры души и тела.
По счастью, сон, словно мокрая тряпка доску, протер мозги, испещренные хаосом мыслей. Я заснул в горячем бреду. Сколько прошло времени, не знаю.
Чья-то ладонь коснулась моего лба. Подобно перископу, я вынырнул из океана мрака и тотчас решил, что про эту ладонь я мечтал во сне. Внизу еще бил бубен и стонал несчастный страдалец. Я открыл глаза. Надо мной стояла моя подчиненная.
— Товарищ председатель, я принесла вам молока. Выпейте, пока не остыло!
— Дорогуша, я не нуждаюсь в милосердии. Я не раненый и не выздоравливающий. Не хорони меня до времени!
— Товарищ председатель, я приказываю!
— Гм! Вот до чего дожил!.. Ну коли так, давай!
Я залпом выпил сладковатую жидкость, какую пьют дети, а порой и взрослые в надежде, что промоют свою гнилую утробу после кутежей и обжорства.
Девушка уселась в изножье кровати, и, как мне показалось, надолго. В комнате было достаточно светло от уличных фонарей. И все же я велел ей зажечь свет.
Она смотрела на меня сострадательным взглядом монахини на разнюнившегося больного.
— Товарищ председатель, неужели вас не убивает одиночество?
— Опять за свое?
Новая попытка после неудачной атаки?
— В один прекрасный день вы умрете от одиночества, товарищ председатель! Человеку нужна хоть какая-то личная жизнь для поддержания общественных идеалов. Что вас поддерживает, товарищ председатель?
— То, что мне дают в столовой.
— Ах, вы насмехаетесь над собой, потому что не хотите никому открывать свою душу. Может быть, простые смертные и не стоят того, чтоб их посвящали…
— Вздор! Дорогуша, эта старомодная болтовня здесь так же не нужна, как, скажем, не нужны подтяжки, если есть ремень. Может, поговорим о чем-нибудь другом?
Она вздохнула с очаровательным лукавством.
— Знаете, а я сегодня получила от родных из Белграда вот что…
И она вытянула на кровати одну ногу и легонько провела ладонью от лодыжки до края чулка, завернув при этом юбку. Нога румянилась под прозрачным чулком, нога — какой боги награждают женщину раз в столетье.
— Нейлоновые, товарищ председатель!
Я приподнялся, взял двумя пальцами подол юбки и прикрыл ей колени. Она поглядела на меня и жалобно улыбнулась — словно мужику-простофиле, который по незнанию шоколад выбросил, а фольгу сунул в карман.
— А сейчас дай мне поспать, — сказал я строго.
— Я вас обидела, товарищ председатель?
— Спасибо за молоко, погаси свет и ступай!
— Товарищ председатель!
— Вон!
— Спокойной ночи, товарищ председатель! — попрощалась она со слезой в голосе.
Я зубами вгрызся в подушку. Но где-то в глубине своего нутра был доволен тем, что совладал с разъяренным быком и продел кольцо сквозь раздувающиеся ноздри. Господин мой, сказал я себе, в строю курить не разрешается, а тем более подминать под себя своих подчиненных. А ты в строю! Не будь ты в строю, ты не подчинялся бы приказам командования! А у него не было б никакого права приказывать тебе.
Турки целый месяц проводят без женщин и еды. А сколько времени пощусь я?
Чего доброго, припорхнет еще какая-нибудь птичка. Надо застраховаться от сюрпризов. Но как? На хмуром челе письменами морщин и борозд начертать: «Посторонним вход запрещен! Осторожно, аскетизм высокого напряжения! Бьет!»
Мы прорабатывали в комитете письма и резолюции. Сперва мне было любопытно. В середине собрания я понял, что на нас обрушат румынскую, венгерскую и болгарскую армии, и уже прикидывал, где раздобыть три разговорника, чтоб объясняться с пленными. Под конец все мы побелели — частью от злости, частью от табака и усталости.
За два бесконечных дня мы вволю намолчались и наразговаривались. Потом сели и накатали телеграмму: «Белград. Дорогие товарищи! Мы не забыли раны и потери. Да здравствует мирное сосуществование! В случае происшествий на границе немедленно сообщите!» Выйдя из дыма заседаний, мы поняли, насколько опасность преувеличена. Границы Югославии не сдвинулись ни на сантиметр.
Я спросил доверительно бледного и усталого секретаря по промышленности:
— Милош, друг, а что будет, ежели начнется война?
Он махнул рукой:
— По крайней мере отдохну от экономических головоломок.
И все же, вернувшись в Лабудовац, я заперся в своей конуре, почистил и смазал автомат и револьвер, боеприпасы пересчитал и завернул в масленую тряпку, а новые башмаки намазал пожирнее вазелином и поставил под кровать, чтоб можно было сразу попасть в них среди ночи. Словом, привел свою боеготовность на самый высокий уровень. Позднее на лугу я убедился, что гранату я бросаю и по дальности и по меткости не хуже республиканского рекордсмена, после чего загнал оборонительные приготовления в дальний угол сознания, а все освободившееся сознание бросил на терновые заросли повседневных забот.
Обыденные дела были, как водится, сплошной коловертью. Между утренним и вечерним приветствием моей делопроизводительницы — стройки, камень, подводы, песок, известь, бесконечные сидения в совете, в комитете, которые я употреблял на обдумывание разных своих проблем, шумный разнос тех, кто хочет феодальными темпами строить социализм, лесопилка, бревна, кубометры, торговля, выступление общего характера на митинге в городе, сотня конкретных на собраниях в селах, дрязги с председателем общины Дойчином, который все время порывался меня кастрировать экономически, головная боль из-за доставки кукурузы в села,
словом,
каждодневные и обычные дела и заботы.
С пятью тысячами динаров в кармане, вырученными за клин отцовского поля, я очутился в Дриняче. Зашел в трактир, чтоб подождать здесь грузовик в Лабудовац. Пропустил стопку — чтоб не сидеть за столом зря, вторую заказал, потому что понравилась первая, третью смаковал, потому что двух первых показалось мало, а когда официант вынес жаренную на решетке индейку, я велел отрезать мне половину, а к пол-индейке надо по крайней мере пол-литра. Не успел я и уполовинить пол-литра, как прикатил и тут же укатил грузовик. С горя я чуть не залпом выпил остаток и заказал еще… Так оно и пошло.
Полдень отмер, как прекрасный обычай. В низкое оконце вижу: день стаял, будто тоненькая свечка в подсвечнике. А мне неохота вставать. И охота пить. Грузовики приходят и уходят, порой шофер заскочит пропустить по маленькой. Но ехать мне не хочется. Впрочем, я сейчас далеко от глаз своих избирателей и подчиненных и могу дать себе некоторое послабление, чуть-чуть выпустить пары. Стоит опрокинуть рюмку, как тотчас возникает повод для новой.
Ох-хо-хо, что же будет с человечеством, если даже мы, коммунисты, не можем подчас договориться?
Ох-хо-хо, каково же приходится австралийским неграм, застрявшим в каменном веке?
Ох-хо-хо, сколько народу погибло во второй мировой войне! Найдется ли на всем белом свете хоть один благодарный слушатель, кому бы я рассказал про все семь немецких наступлений!
Ох-хо-хо, почему я не убежал от отца после начальной школы? Был бы сейчас врачом или инженером, культурным человеком. Хотя нет, врачом не стал бы, вот уж нет желания совать нос туда, куда сует врач, инженером тоже не стал бы, очень надо, чтоб за моей спиной качали головами: «Ох уж эти интеллигенты! Только денежки гребут!»
Ну, посудите сами, где тут справедливость: мы строим социализм, а трое голодранцев цыган пиликают здесь для меня за жалкие гроши, господи, какие же мы передовые люди, когда три живых существа — чистое доказательство того, что еще есть эксплуатация человека человеком!
Однако
постой!
Кто кого эксплуатирует?
Я в поте лица добываю каждый динар для своего кооператива, а они трали-вали, минута, другая, — и пятисотенная в кармане. Да, братец, это еще вопрос — кто кого эксплуатирует! А ежели музыкой не прокормишься, ступайте-ка на лесопилку или на лесоповал. Так-то оно, братец ты мой!..
Ох-хо-хо, как жмет башмак, надо же, даже к старости не заработал себе на пару удобных туфель!
Ох-хо-хо, до чего поганая ракия, а я ее лакаю и деньги на нее трачу.
Ох-хо-хо, ну и трачу, кому какое дело, куда я деваю собственные деньги!
Эй, еще двести грамм, полцыпленка и тарелку маринованного перца, а ты, черномазый, давай-ка эту «Как мне выплакать свое горюшко».
Не знаю, когда появились в трактире два пожилых человека. Одеты одинаково, одного росту, даже оба на одно лицо. Вместе направились к моему столу, сели на один стул. Я пригляделся — ну и дела, это был один человек. Он мне что-то сказал, я ответил… Временами я различал его лицо и, словно сквозь дымовую завесу, видел, когда он говорит, а когда я сам мелю.
Внезапно я очнулся. Вижу, солнце снова взошло. Музыканты спят на скамейках. За стойкой другой официант. За моим столом сидит незнакомец и говорит:
— Надеюсь, ты будешь доволен каштанами.
— Какими еще каштанами? — удивился я.
— Шутить изволишь? Мы только что подписали контракт. Я тебе два грузовика, ты мне — шестьсот тысяч динаров.
— Ничего себе! А почем каштаны?
— Помилуй, приятель, ты мне всю ночь морочил голову.
— Ладно, ладно! — говорю я и, как ни кручу мозгами, никак не могу вспомнить ни каштаны, ни контракт. — А откуда ты, приятель?
— О, господи! — воскликнул человек. — Да ведь вчера вечером за здоровье Николы Мичича, моего председателя в Братунаце, мы выпили две бутылки ракии. И досыта наговорились про все — про твою лесопилку, про товарища Йованку, про какую-то служащую, про дома, какие ты строишь, а потом про мой Братунац.
— Не приходилось там бывать.
— А каштаны?
— Какие каштаны?
— Берешь?
— Кто сказал, что беру? — отбрыкиваюсь я.
— Ты же сам подписал со мной контракт.
— Может быть. Дай мне экземплярчик, я взгляну на него.
— Вон он у тебя в левом кармане!
Я поглядел. Нормальный контракт с моей подписью и номером доверенности на заключение контрактов. Я пожал плечами. И на словах согласился с тем, с чем не так давно согласился письменно. И тут же твердо решил поскорее отсюда убраться. Не то еще кто-нибудь продаст мне Тихий океан, и что я тогда стану делать с Америкой и Китаем?
Подошел трактор. На нем я спустился в Зворник и, пересев сразу на попутный грузовик, прибыл в Лабудовац.
На четвертый день я выгрузил на склад несколько тонн каштанов. И чуть в обморок не упал. Каштаны на вид — одно загляденье. Внутри — как у иных щеголей, гниль и плесень. Итак, шестьсот тысяч динаров! В контракте я не предусмотрел рекламации. А при покупке не проверил! Шестьсот тысяч! Вполне достаточно, чтоб человека, живущего на зарплату, хватил кондрашка.
Не дожидаясь, пока заметят мою оплошку, пока прокурор спросит с меня за ротозейство, а партия — за богатырское здоровье, я приказал:
— Грузи каштаны!
На двух грузовиках укатил я в Сараево. Чтоб вернуть деньги или погибнуть.
Беда — лучший советчик. Всю дорогу я трясся у нее на коленях, молил и заклинал шепнуть мне спасительную идею, клялся и божился, что никогда больше не обращусь к ней за помощью, но она молчала, глухая и непробиваемая, точно какая пенсионная комиссия. Воображаемый советчик и словечка не обронил. Как знать, может, и беда теперь берет мзду и за здорово живешь не оказывает услуг простому люду, а только тем, кто хорошо платит.
На Башчаршию я прибыл без единой путной идеи. Я чувствовал себя между молотом и наковальней. Продать социалистическому сектору — душу загубить. Заставить наших социалистических детей есть порченые каштаны? Никогда! На это не пойдет даже моя не слишком-то разборчивая совесть. Продать частному сектору — головы не сносить. Можно сказать, коммунист, а ухватки как у форменного капиталиста. Но кому-то ведь надо всучить каштаны!
Покрытые брезентом грузовики я поставил в безлюдном переулке, а сам завернул в трактир выпить чашку кофе. И тут, как бы невзначай, пустил слух:
— Есть каштаны!
Один тип, за чью внешность, а вероятно, и за внутренности ни одна комиссионка не дала бы гроша ломаного, наклонился ко мне и доверительно спросил:
— Ты продаешь?
— Я.
— Повремени.
— Я буду у Хаджибайрича.
И первый заинтересованный испарился.
Мне уже приходилось сбывать кое-что на Башчаршии, и потому я мигом сообразил, с кем имею дело. Это один из мелких рыночных барыг, которые всю жизнь служат другим, обкусывая по краям чужие заработки и являясь гибкой, незаметной, тайной и дешевой связью между незнакомыми делягами. Зная точно, где продаются ковры, дукаты, отслужившая плита, они в мгновение ока находят покупателя и, получив комиссионные, не уходят, а со всем пылом-жаром вступают в торг, горячатся, ударяют рукой об руку с продавцом или покупателем, страстно болея за того, от кого, на их взгляд, скорее перепадет рюмка ракии или порция плова в харчевне. Они толкутся в каждом буфете, в каждом трактире и на каждом углу, и когда нет чего поинтересней, перекинут через плечо чужое пальто, штаны или коврик и навяжут их именно тем, в ком их зоркий, наметанный глаз угадает покупателя. Все они нищие. Пока живы, они никому не в тягость, но стоит им умереть, морги не знают, как от них избавиться.
В этой нашей чисто балканской мелочной торговле они выполняют роль справочного бюро, бюро добрых услуг и прочих деловых контактов и связей.
Я рассчитывал, что слух дойдет, до кого надо. Но как быть дальше — я еще не знал. Загнать каштаны — не проблема. А вот совесть свою в карман не спрячешь. И вразвес она не продается. Хотя, наверное, немало найдется таких, кто с легкостью отделался бы от нее таким образом, если б при этом только шкура не пострадала.
Вразвалочку дошел я до харчевни, всласть назевался и насмотрелся в окно, наширкал носом и накурился, а уж потом заказал похлебку. Выхлебал прокисший брандахлыст, какой едят бережливые путники, выпивохи, холостяки с мизерным жалованьем, студенты, живущие на стипендию, и весь тот люд, который концы с концами не сводит и у которого ни кола ни двора своего нет. Похлебка была дешевой и лишний раз подтверждала ту непреложную истину, что дешевые вещи обходятся дороже дорогих. И все здесь было так сиро и убого, что я невольно предался горестным раздумьям о своих бедах и невзгодах, о глупости, сыгравшей со мной злую шутку. Теперь вот выкручивайся как знаешь. Положеньице не из завидных. Пить я не зарекался. Просто я твердо решил выбросить на улицу всякого, кто осмелится зудить мне здесь об экономических, торговых или коммерческих проблемах. Лучше уж попасть в вытрезвитель, чем подписать контракт с каким-нибудь торговцем.
Не помню, сколько времени я провел в умствованиях на тему — торговля и осторожность, когда в дверь харчевни заглянул человек в кожанке и с кожаной шапкой на затылке. Обежав взглядом все столы, он решительно пошел ко мне.
— Помоги бог! — сказал он и сел.
— Бог в помощь… — ответил я.
— Как живешь, хозяин?
— Так, помаленьку.
— Погода хорошая?
— Слава богу, не жалуемся.
— А как у вас с урожаем?
— Да как сказать, и так, и сяк. Божьей милостью, бывает и лучше.
— Божьей милостью.
— Да.
— Точно.
Разговор этот, на первый взгляд пустой и никчемный, был общепринятым вступлением к серьезным торгам такого рода, во время которого мы, как две дворняги, принюхивались, присматривались друг к другу, выясняли происхождение, нрав друг друга, собирали необходимые сведения о противнике, составляли стратегический план деловой схватки. Я внимательно наблюдал за ним, хотя всем своим видом являл собой этакого простофилю крестьянина, который чуть ли не засыпает за столом — так ему все безразлично. Это старый трюк крестьян, на который не раз попадались матерые торгаши. В том, что этот человек ворочает большими деньгами, я был уверен не меньше, чем в отсталости нашего сельского хозяйства. Грязный, как канава под бойней, и отчаянно свирепый, когда задеты его кровные интересы. Сильный, но умом и проницательностью не блещет, осторожничает скорее из страха. Изучив его, я почувствовал прилив вдохновения, достойного такого противника. Есть! Идея. Да еще какая идея! Только бы клюнул. Только бы купил.
Руки я спрятал под стол, чтоб противник не заметил дрожь нетерпения. Добью его по-крестьянски просто. Обдеру, как липку, оставив его физически здоровым и способным вкалывать на самом что ни на есть отдаленном руднике.
Когда он поймет, что остался в дураках, для мести будет поздно. В поножовщине я ловчее. Он и мигнуть не успеет, как я выпущу ему кишки. Или проломлю череп.
Я крепко держал себя в узде, предоставив ему составить обо мне такое мнение: наивный крестьянин, тайком привезший товар и не чающий его сбыть. В ценах не разбирается. Тупой и глуповатый. Неподвижный, как стельная корова. Обработать нетрудно, понадобится только немного терпения.
Два золотых зуба из-за похотливых губ сверкнули блеском перелитых дукатов.
— Значит, товар у тебя, хозяин?
— Так, пустяки…
— А где грузовики стибрил?
— Попутные.
— Вот что! Каштаны?
— Да вроде бы.
— Почем?
— У тебя таких денег нет! — говорю я и оборачиваюсь к окну. — Государственному сектору только под силу.
— Почем? — рассердился он.
— Предлагают сто пятнадцать за кило, да я не отдаю.
— Сто восемнадцать?
— Нет уж.
— Сто восемнадцать заглазно. Только взвесим.
— Чего там заглазно. Смотри сколько влезет. Каштаны — как на подбор! — Похоже, я и поседел оттого, что слишком часто играл с огнем. Вот и сейчас, нет чтоб благоразумно и степенно согласиться на эту баснословную цену, я нахально пру дальше. Не иначе кто-то из моих предков спустил в очко по меньшей мере гектаров двадцать земли.
Противник сделал маленькую паузу — в полном соответствии с ритуалом торга. Мы обменялись еще кое-какими мыслями о дороговизне и хорошей погоде, и как раз в ту минуту, когда он хотел предпринять новую атаку, в дверях харчевни показался элегантный аферист с руками, по доброму воровскому обычаю, в карманах. Он поздоровался с моим противником, учтиво поклонился мне, представился и, не спросив разрешения, сел за наш столик. Приход второго был явно не по вкусу первому. Хотя они были на «ты» и шутили, как закадычные друзья, но я тут же учуял, что они горло перегрызут друг другу из-за моих каштанов, ровно гиены из-за падали. И учтивость их, и дружелюбие были шиты белыми нитками. Оконца ясного улыбчивого неба обложили потаенные громы и молнии волчьей ненависти конкурентов.
— На чем остановились? — спросил господин аферист.
Первый подмигнул мне — помалкивай, мол. Я прикинулся простофилей, не понимающим подмигов торговцев.
— Да вот, сударь, он предлагает сто восемнадцать, а я не могу, никак не могу, братец, отдать, за такую цену, лучше уж вытряхнуть в Миляцку… Ну посуди сам, где тут справедливость? Обжаришь каштаны, по десять динаров фунтик продашь, какие деньги огребешь! Втройне! Тоже, нашли дурака.
— Твоя цена? — любезно спросил господин аферист.
— Сто двадцать пять.
— Сто двадцать?
— Нет.
— Сто двадцать один! — повысил цену первый и схватил меня за руку.
— Нет.
— Может, пойдем, выпьем чего-нибудь? — предложил господин аферист.
— Да можно! — говорю я, а про себя зарок даю — не брать в рот ничего крепче лимонада!
Долго и излишне рассказывать, что было дальше. Главное — я склонил их купить каштаны пополам по ста двадцати одному динару за килограмм. И пришел к выводу, что эти господа архиплуты слабы со мной тягаться. Они не потрудились даже разузнать, как нынче уродились каштаны, нет ли их поближе к Сараеву, хорошие ли уродились — тонут, или гниль одна, или с червем, какой спрос на рынке, не много ли десять динаров за фунтик… Поддались первым поверхностным наблюдениям: каштанов на рынке нет, когда-то они шли хорошо, значит, и сейчас пойдут, как халва. Нарвись я на паломника, который на таких вот спекуляциях отгрохал в Сараеве несколько домов и на доходы с них уже не раз сходил в Мекку, я наверняка не провел бы его с такой легкостью. А если б он и поддался на мои уговоры, он дал бы мне динаров сорок за килограмм. Чтоб самому заработать по пятьдесят. Стало быть, трезвые торгаши-частники погорели в родном Сараеве сильнее, нежели я, пьяный, в чужой мне Дриняче.
Хотя уговаривались мы брать товар заглазно, они все же сделали попытку осмотреть каштаны. Когда они заглянули в первый мешок, я громко прошептал: «Осторожно, за углом милиционер!» Они сразу заторопились, махнув рукой на столь пустячное дело, как осмотр купленного товара.
Грузовики мы загнали в глухой и тесный проулок, в глубине квартала. Молчаливые албанцы-поденщики принялись за разгрузку. В обоих концах проулка стояли на стреме двое проходимцев, чтобы поднять тревогу, если на горизонте появится милицейская форма или некто, чьи сапоги выдадут его принадлежность к милиции. Албанцы бегом таскали мешки во двор, там кто-то стучал гирями по весам и выкрикивал: «Восемьдесят семь, семьдесят три, шестьдесят девять».
Когда первый грузовик наполовину опустел, я взял афериста за лацкан пиджака.
— Деньги на бочку!
— Когда все выгрузим!
— Деньги! — взревел я и расстегнул пиджак, чтоб показать ему висевший на животе пистолет. Господин аферист подозвал компаньона, они пошептались на своем блатном наречии, и — компаньон вынес из дому сумку. В старый комиссарский планшет я затолкал полмиллиона динаров, одними новенькими тысячными купюрами. Остальное — когда кончится разгрузка.
Наконец все сделано, взвешено, вычислено, сосчитано и уплачено. Я поднялся на подножку грузовика.
— Поехали! Товарищи спекулянты, берегитесь органов!
— Не твоя забота! — огрызнулся господин аферист.
На выезде с Башчаршии грузовик, ни в ком не вызвавший подозрения, остановился. Я вошел в кабину телефона-автомата. Не торопясь набрал номер отделения внутренних дел. В трубке послышался сонный голос:
— Кто говорит?
— Гражданин социалистической Югославии! — отрекомендовался я спокойно и вежливо.
— Что ты хочешь?
— Послушай, товарищ дежурный! — протянул я доверительно и вполголоса. — На такой-то улице, в таком-то доме два спекулянта закупили большую партию гнилых каштанов. Дорогие товарищи, не допустите, чтоб всякие спекулянтские рожи отравляли наших детей и наших граждан порчеными каштанами, чтоб они наживались на них и возрождали капитализм в нашей стране. Бегите туда, товарищи, пока они не перенесли каштаны в другие тайники! Смерть фашизму!
— Спасибо! — поблагодарил дежурный и повесил трубку.
Я — бегом к машине.
— Газуй! — гаркнул я шоферу. И мы погнали по Бентбашиному ущелью, а я сидел и молился всем святым подряд по календарному списку, чтоб они дали мне добраться хотя бы до Романии. Там уж пойдет легче. А на Сокоце я просто руками разведу:
— Помилуйте, какие каштаны? Где это видано, чтоб социалистический сектор продавал частникам какие-то каштаны! Надо же что придумать?!
Я заскочил в уезд. Рассказал все по порядку председателю укома (разумеется, опустив Дринячу). Тот смеялся и грозил мне пальцем. А под конец спросил, на что я потрачу эти деньги.
— Надстрою школу!
— Ну, ради этого стоило их околпачить!
На школу я деньги, конечно, не потратил. Всегда находится что-то более спешное. Но в любом случае невредно заручиться поддержкой председателя.
Такую трудовую победу следовало отметить днем отдыха. Назавтра я встал пораньше и, сложив руки за спиной, весь день играл в пенсионера. Ни на кого не накричал, никому, отговариваясь спешкой, не насолил. Право, распрекрасное занятие — смотреть, как работают другие! Я обошел три кооперативные лавки, обе мастерские, лесопилку, школу, ямы для гашения извести, даже в свою контору заглянул, вдосталь наговорился с комитетчиком Марко Охальником, посидел в столовой «Вперед, товарищи!», женщинам, пришедшим просить помочь пшеницей, сказал несколько красивых пустых слов…
Обошел стройплощадки и на удивленье ни с кем не сцепился и никому не погрозил кулаком. Оттого-то, видать, и услышал вдруг за спиной голос старого плотника:
— Что это с ним? Неужто спятил?
— На одиноких стариков такое находит, — шепнул другой. — Видел, как он бормочет себе под нос?!
Улыбающийся и счастливый, что, к их огорчению, еще не выжил из ума, я зашагал к полю, чтоб взглянуть на посевы. Кровь крестьянская заговорила, не иначе!
Устроившись за густой живой изгородью, я бережно приподнял пучок травы и заговорил с ним, как с другом детства. Понял он меня, нет ли — не знаю. Но я его понял. В тени боярышника ему было неплохо. Сочная зелень не читала статей о неуклонном подъеме сельского хозяйства. И не было у нее головы, чтоб пухнуть от проблем социалистического строительства.
За сухим торжественным тоном одного газетного объявления я почуял деньги. Велев погрузить на грузовик буковые поленья, я посадил между собой и шофером свою щебетунью — делопроизводительницу (разумеется, по ее просьбе) и двинулся в Белград.
Тряска. Наши бедра, соприкасаясь, ведут меж собой долгую дискуссию. Размеренный рокот мотора убаюкивает совесть. То в одно, то в другое окошко смотрю я на мелькающие пейзажи, попутно окидывая взглядом глубокий вырез на груди своей конторщицы. Но вот глаза устают от верчения, я замираю и погружаюсь в теплые волны пустой болтовни.
Столица встретила нас парадом фонарей. Мы остановились у вокзала. С генеральским величием выгрузил я свои телеса и тут же протянул руку принцессе лабудовацкого руководства. Она прыгнула мне на грудь, как это умеют делать женщины, встала на ноги, оглянулась по сторонам и с горящими глазами воскликнула:
— Белград!
Раздувающиеся ноздри жадно пили воздух столицы. Его испарения преображали ее, словно быстродействующие наркотики. Белград только что стряхнул с себя дневную серость и начинал ночную жизнь великого иллюзиониста. Его скудное освещение казалось девушке фейерверком, устроенным в ее честь. Она хлопала в ладоши, крутилась, шумно дышала, томно закрывала глаза, будто перед ней расстилался океан роз, а не город, причем с не очень-то прикрытой канализацией. Пронзительно дребезжащему трамваю махнула рукой, как старому доброму другу, не утратившему с годами своего обаяния. И, вконец завороженная, произнесла:
— Мой Белград!
Мы наскоро назначили место встречи. Она схватила чемодан и наподобие неуловимой смешинки потонула в людской толчее.
Шоферу я приказал сидеть в грузовике, даже если ему придется встречать в нем десятую пятилетку. А потом, стиснув зубы, пожертвовал несколько десяток и на такси помчался по Балканской. На сей раз я не вызывал Белград на поединок. Я скользнул в него, как в тесто, тихо и незаметно, подобно множеству людей, приезжающих с командировочным удостоверением и жалкими грошами на прожиток.
Я ввалился в «Москву», чтоб еще разок проверить про себя план великой операции, которую я назвал «Операция Глупость». Я ничем не рискую. Победа принесет мне миллионы. В случае неудачи — ретируюсь без потерь. Убытки понесут другие.
У моего Лабудоваца аппетит растет. Дал я ему лесопилку, кирпичный, черепичный заводы, фруктовый сад площадью в четыре га, заложил фундамент небольшого завода по переработке фруктов, построил двадцать жилых домов, новое здание общинного совета, новую восьмилетку, клуб, вымостил брусчаткой главную улицу. Словом, воздвиг памятник собственной находчивости и головотяпству своих партнеров. Все, что мне удавалось урвать наверху или внизу, я отдавал своему детищу из кирпича и камня. Но оно просит еще…
Теперь мне понятно, почему старики с умилением вспоминают доброе старое время. То было время скромных потребностей. Лабудовацкие потребности постепенно начинают превосходить мои силы, как нынешние дети превосходят своих учителей. Я бездомный. Аккумуляторы совести наполняю все более разбавленной эссенцией. Жизнь я знаю не по газетам. Джунгли торговой практики я постиг, заглянув в них из-за фасадов закона.
Я одинок в личном смысле слова. Ни один комитет не решит моей судьбы. Это сделает лишь мать сыра-земля. Но я буду бороться до последнего вздоха. Если не жаром сердца, то по привычке профессионального солдата. Лабудовац еще долго будет питаться моей печенью. И мне не жаль — не он, так съели бы другие.
Конторщица моя все не идет. Мы условились на восемь. Минуло девять, а ее все нет. Ну и ладно. Будь что будет. Беспокоиться мне не о чем. Старческой манией наверстать упущенное я не страдаю. Я вполне удовлетворюсь, даже если свидание сведется к уговору, где нам встретиться перед отъездом. Слишком высоко вознес я то, чего не имел, — любовь, чтоб женщина ее роста на столь хрупких ножках могла до нее дотянуться. Пожалуй, я мог бы ей позволить поиграться у подножья интима. Но наверх, на белую вершину страсти, — никогда! Даже с пропуском министерства внутренних дел!
Я согласился провести с ней вечерок, соблазненный провинциальной гордыней — я, сиволапый мужик в сапогах и в костюме из грубого сукна, убеленный перелистанными календарями, весь вечер продержу возле себя этакую кралечку. Ведь парни всех мастей, любого социального происхождения, партийной принадлежности и года рождения просто изойдут слюной! А мужик им сделает длинный-предлинный нос.
Но, видно, старики явились в этот мир на потеху времени. Вот уже одиннадцать, я выпил два литра вина, а ее все нет. У меня появилось опасение, как бы официанты, увидев, что я прилип к месту, точно забытая вещь, не вышвырнули меня на улицу. Или не обсмеяли, как усатое чадо, потерявшее в большом городе маму и ухватившееся за первого прохожего.
Она пришла.
Ее было не узнать. Маска скромности, которую она носила годами, вероятно, по расчету, была сброшена. Я впервые видел ее в таком одеянии, оно делало ее похожей на недоощипанную индюшку — то ли ей удалось вырваться самой, то ли ее отпустили, побрезговав таким товаром. Безвкусно размалеванная и разодетая блудница, забывшая, как следует одеваться красивой горожанке.
— Вот и я! — сказала она, запыхавшись, и без всяких церемоний плюхнулась в кресло. — Вы будете меня, конечно, ругать. Клянусь, я не виновата. Это одна моя старая компашка… Еле вырвалась, такой бедлам устроили. Чуть жива. Может, мы вдвоем продолжим? Есть укромные местечки…
— Домой! — грубо скомандовал я.
— Не хочется! — небрежно бросила она, обдувая свою обнаженную грудь.
— Марш домой! — процедил я сквозь зубы.
— Браво, товарищ…
— Попробуй теперь только сунуться в Лабудовац! — пригрозил я и встал.
На тротуаре, недавно политом водой и остывшем от ночной свежести, она догнала меня, схватила за руку и, судорожно прижимаясь ко мне, со слезами призналась, что пьяна, что ей некуда идти, завтра-де все пройдет, только чтоб я не бросал ее одну на улице. Она звала меня с собой… Тетка велела ей привести своего начальника ночевать к ней, она так благодарна ему за племянницу. Без него она не смеет и на глаза ей показаться.
Такси доставило нас на ухабистую узкую улицу. Домище, в который она меня ввела, звенел, как выложенная плитами гробница. Дом вражды и равнодушия. Ничто не напоминает милого сердцу дыхания крестьянского жилища, перед которым снимают шапку и целуют дверной косяк. На четвертом этаже хоть нос зажимай от вони из подвалов, а запах плесени с чердака добирается до самого низу.
Комната, куда меня ввели, чистая и опрятная. Ни дать ни взять — пудреница, где хозяйка держит пуговицы и заколки. Мебель в червоточинах. Большое старинное зеркало. Кровать и оттоманка. На всем печать временного пристанища. Триста пятьдесят динаров без света и прочих услуг. На скатерти застарелые винные пятна. Девушка предложила мне располагаться, а она, мол, сейчас вернется.
Вместо нее появилась некрасивая женщина в грязном халате.
— Добрый вечер!
— Добрый вечер!
Она присела на край стула. Хозяйка. Припухлые, потресканные пальцы на красных и сильных руках. Нездоровый двойной подбородок. Строгие глаза.
— Ждете девушку?
— Да.
— Гм… День сегодня был хороший!
— Да!
— Вы ее начальник?
— Да.
— Она вас очень хвалит. Слушается?
— Беспрекословно.
— Не гуляет?
— Нет.
— Слава богу. Видно, образумилась. Будь вы помоложе, я б не поверила. А так, могу спать спокойно. Вы женаты?
— Пока нет.
— Эх, брат, ты же не урод. Столько вокруг красивых и здоровых баб!
— Что поделаешь! Такой я переборчивый.
— Оставь, старый кот — вот ты кто. А что у тебя за специальность?
— Был председатель. Теперь управляющий. Это все одно.
— Хорошее дело председателем быть. Учиться не нужно, а платят хорошо. Вот и мой сосед Тоза всегда какой-нибудь председатель. В одном месте выйдет срок, его в другом сразу выберут. Дом — полная чаша. Правда, жена, а она баба крепкая, здоровая, нет-нет да и вздохнет: как стал Тоза по собраниям мотаться, ладно, если раз в две недели ущипнет. Ха-ха-ха! Может, и ты, начальник, из-за этого на баб не смотришь?
— Я, дорогуша, в таких делах ни разу не промазал!
— Ха-ха-ха! Старая усатая курва. Смотрю я на нынешних, слушаю и думаю — ведь и позубоскалить-то путем не умеют! Разве что встретишь старого человека, душу отведешь. Да что толку! Сверстники мои уж из ума повыжили. Один Жика-мясник еще держится, да и тот жиром заплыл.
В коридоре зашуршали шаги. Застонали невидимые двери, и вслед за тем послышался негромкий перезвяк посуды и стекла.
Вошла моя конторщица с подносом в руках. Вино, мясо, хлеб. И опять поразила меня своим видом. Простая и милая девушка, какую я знал раньше, вернула прежнюю свою красоту. Виски еще влажные от воды. В глазах ни единой хмелинки.
Хозяйка встала.
— Ты можешь спать здесь, — обратилась она к девушке, — твой начальник очень серьезный человек. Как поужинаете, снесешь все на кухню. Понадобится еще вина, возьмешь в большой бутыли. Спокойной ночи!
— А ты не выпьешь с нами рюмочку? — спросил я.
— Нельзя мне. Катар желудка. Не то бы чокнулась с тобой, старина.
Тетка привела меня в хорошее настроение. Хотелось смеяться. Я ждал хоть малейшего повода. Но моя конторщица уселась против меня и понесла какую-то преснятину. Мы проговорили больше двух часов, произнесли несколько тысяч слов, однако и двух путных слов я не смог бы извлечь из нашего пустопорожнего разговора. Желание посмеяться погасло, как благое намеренье мужа выполнить свои супружеские обязанности при виде жены в замызганном халате, с папильотками на голове. Я стал кислее вина, которое отхлебывал с нескрываемым отвращением.
Мы молчали. Под окном замирало предместье. Трезвон трамвая на повороте, пьяная свара, напрасный зов вырвавшегося вперед спутника, равнодушный свист — все потонуло в озере тишины.
— Ну-ка выйди, я разденусь! Пора спать.
Я лег.
Не отрывая головы от подушки, я видел в зеркале, как она раздевается за моим затылком. Понимала ли она, что я ее вижу? Я готов был поклясться, что она нарочно выбрала именно это место для переодевания. Упоенно снимая с себя один за другим предметы своего туалета и небрежно складывая их на стуле, она болтала так непринужденно, словно мы уже год как женаты. Я не знал, что и думать. Вроде не праздник, чтоб веселиться, и не будни супружеской четы, когда каждый на своем ложе с головой забирается под одеяло. И я не святой, чтоб толковать ей об экономических задачах современного момента, а потом позволить ей заснуть, не покарав за легкомыслие. И не молодой бык, готовый свой завтрашний покой утопить в ночной реке.
Я смотрел на нее в зеркало оценивающим взглядом пресыщенного визиря. Она затягивала обряд раздевания и без умолку тараторила, внезапно застывая в соблазнительной позе и заканчивая фразу. Наконец она с наслаждением погладила свои бедра и нагишом прошлась по комнате — за ночной рубашкой.
— …сто тысяч динаров! — услышал я вдруг. — Позарез нужны!.. Впору руки на себя наложить. Только они спасут меня. Не могли бы вы одолжить мне из кооперативной кассы?
Я так и сел. Она не вскрикнула со стыда, а только прижала к себе скомканную ночную рубашку, прикрыв ею грудь и живот. И вся подалась вперед, словно устремляясь мне навстречу. Голая нога. Бедро, изваянное нежнейшей ладонью. Плечи, достойные того, чтоб на них потратить биографию.
Сотни ловеласов, искателей приключений, деревенских волокит, ослепленных глухарей разом проснулись во мне и с визгом и с ржаньем готовились к атаке.
Однако, как это нередко бывает с теми, кто жарился на углях какой-нибудь комиссии, а потом остывал в золе чиновно-солдатского аскетизма, верх взяла осмотрительность. Из огня похоти выглянул обугленный до черноты крестьянин, оборванный и голодный, и поднял палец с затверделым грязным ногтем.
— Потомок, опомнись!
— Спасибо, дядюшка, за совет, — поблагодарил я. — Опомнился.
Чтобы сладостному азарту предпочесть осмотрительность, надо обладать силой и умом. Или быть просто трусом.
Я откинулся на подушку и вонзил ногти себе в ляжки.
— Деньги, милая, на дороге не валяются.
— Ну хотя бы пятьдесят тысяч!
— Пятьдесят тысяч — это не хотя бы.
— Честное слово, я скоро верну.
— Такой аванс не может позволить себе и сам министр финансов. Гаси свет и ложись! Проживешь и без этих денег.
Я натянул на голову одеяло, чтобы не слышать слез, которые она наверняка пустит в ход, как последнее средство. Но плачь не плачь, я не сдамся. Кризис миновал. А старики учат не верить слезам женщин и хвалам мужчин.
Я стал думать, зачем ей могли понадобиться деньги. И тут ее, казалось бы, случайные и разрозненные слова и поступки сегодняшнего дня как-то соединились, связались. Дверь подозрений распахнулась настежь. Но я тут же захлопнул ее ногой. Подозрение, едва вылетит на волю, начинает, как ведьма на метле, кружить над тобой и, питаясь собственным мясом, расти, не зная удержу. И как ты ни доказывай его несостоятельность, оно все равно останется, точно спертый воздух в комнате без окон. Словом, я отбросил подозрение, что все сегодняшние события развивались по заранее подготовленному сценарию — и приезд, и общая комната, и раздевание, и просьба. И все же я похвалил себя за выдержку:
— Аферим, дурачина!
По крестьянской привычке, встаю я рано.
Оделся в потемках, тихо умылся у двери и потянулся за сапогами. Но их не оказалось на том месте, где я их оставил. Пришлось зажечь свет. Девушка зашевелилась, она лежала на спине. Одеяло сползло на пол. Рубашка едва прикрывала согнутые в коленях ноги. Я постоял над ней. И… чуть было не одолжил ей сто тысяч динаров.
Сапоги стояли в углу. Я взял их и в носках вышел из комнаты. Так, без потерь, вырвался я из лап еще одного вражеского наступления.
Я шел в атаку, попирая асфальт с такой надменностью, словно был мясником или зеленщиком с набитым засаленным бумажником. Белград, однажды обманутый, уже не вызывал у меня особого интереса. Утро загнало рабочий люд «отсемидодвух» в клетки, оставив на улицах толпы домохозяек, спекулянтов, элегантных бродяг, студентов, то есть всех тех, на ком нет кандалов рабочего времени.
С полным сознанием правого дела шел я на приступ очередного рубежа. Это было крупное предприятие, и по тому, как оно работало в Боснии и что мне удалось вызнать о нем в Белграде, я понял, что хозяина у него нет. Я узнал также, что нет там и ловкача, способного вместо золотой маджарии всучить мне медяшку в два динара. Отсутствие должной сознательности на предприятии наше дорогое государство компенсировало солидными дотациями. Каждый метр дороги, проложенной этими недотепами, обходился в дукат, а на деле не стоил и динара. Я намеревался обмишулить его, то есть от имени народа — покарать!
Я быстро нашел роскошное здание. И еще того быстрее очутился в просторном кабинете с темной массивной мебелью чистого орехового дерева. Пол устилали толстые ковры, стоившие примерно столько же, сколько стоят две школы-восьмилетки. Стены украшали картины, которые могли бы висеть в парадных залах какого-нибудь магараджи. От такого стола во избежание пересудов отказался бы даже Рокфеллер. Обилие телефонных аппаратов наводило на мысль, что сюда, видимо, сходятся нити разведывательной службы всего мира. Кресла были такой величины, что из каждого можно было бы сделать два. В книжных шкафах за стеклами выстроились по ранжиру объемистые книги в кожаных переплетах с золотым тиснением. Все здесь было полутемное, тяжелое, большое, рассчитанное на то, чтоб вызвать у профана благоговейный трепет перед мудростью и величием экономических верхов, а тем, кто тут работает, — создать приятную тишину и иллюзию, что именно в этих стенах решается судьба государства. Бездна притязаний и дурной вкус тощий государственный карман в расчет не принимали.
Из этой сумрачной пещеры наших дней вынырнул человечек, мне по пояс, и пошел навстречу с протянутой рукой.
Я тотчас вонзил в него острый, как нож, взгляд. Да, такому специалисту я не доверил бы даже размешивать штукатурку. Геморроидная подслеповатая рыбешка из океанских глубин административного аппарата, выплывшая наверх благодаря особой гибкости спины и языка. Этого человека ведет по жизни один лишь страх перед внезапным и неведомым. Раб тайного тщеславия, великий маг лести, неутомимый канатоходец на проволоке кадровой политики. И вечный мученик из-за чего-то, что он скрывает. То ли хроническое воспаление мочевого пузыря, то ли ревматизм, бессонницу, воспаление почек? Или с трудом замаскированное пятно в биографии? Мастер наводить лоск на сделанное другими. Червяк перед вышестоящими, солдафон с подчиненными. Ужасно сердит на бога за то, что тот не поделил с ним свое всемогущество. Крупный специалист по мягким поворотам. Заклятый враг смелых вертикалей. Спирохета югославской экономики.
Я понял, что в кассе у него пусто. Машины загублены. Продает три старые, чтоб купить одну новую. В противном случае сверху зазвонит звонок, возвещая последний акт. И тут, как по заказу, являюсь я — покупатель его хлама. В некотором роде — спаситель.
Он сразу попытался взять меня величием. Я подыграл ему — пусть себе думает, что уложил меня на обе лопатки. Прикинулся этаким пентюхом, которого ничего не стоит ободрать, как липку. Он даже начал подпрыгивать на месте от радости. А я потирал заскорузлые ладони, позволяя одру тонуть в трясине, на которую он весело выскочил, приняв осоку и тростник над водой и илом за зеленую луговину.
Два часа мы просидели, три часа объезжали объекты, разумеется, в лимузине, после чего подписали контракт. Он мне — дробилки, каток, бетономешалки, я ему — миллионы. Первый взнос — в Лабудоваце, после приема машин комиссией. Два других — в течение двух последующих месяцев. Их механическая мастерская немного подремонтирует машины, чтоб проработали хотя бы некоторое время.
Мы торжественно пожали друг другу руки. Директор устроил небольшой банкет по случаю подписания контракта. Я отказался быть на нем, сославшись на то, что тороплюсь.
— Мы выпьем за вас! — поспешил утешить меня директор.
Провожали человек сорок — чуть ли не весь коллектив дирекции. Не хватало только транспарантов. Большая трудовая победа радовала их безмерно.
Под вечер я нашел свою конторщицу у грузовика. Самоубийством она не кончила. Более того, вчерашние свои страдания мудро скрыла под маской очаровательной улыбки. Я подсадил ее в кабину, улыбнулся Белграду и сел сам.
Около полуночи мы ползли по Посавине. Машина, груженная купленным по дороге товаром, едва дышала. Одышливое кряхтенье мотора убаюкивало, как скучное чтиво. С шофером мне не о чем было разговаривать. С девушкой ни о чем нельзя было разговаривать. Любое слово показалось бы шоферу подозрительным, и назавтра весь Лабудовац говорил бы о том, что я предавался в Белграде кутежам и оргиям и спустил все кооперативные деньги. Поэтому мы молчали, слушая каждый свой монолог. Конторщица дремала. Когда на длинном ровном перегоне мотор затарахтел до тошноты мерно и однообразно, она подняла ко мне голову:
— Можно к вам прислониться?
— Пожалуйста, ради бога!
Если б моральные качества в человеке существовали в чистом виде, земля превратилась бы в обиталище святых. Но попробуйте в перечне черт характера четко разграничить нахальство и простодушие, плутовство и невинность.
Поистине великолепно умение женщин злоупотреблять нашим джентльменством!
В мгновение ока юркнула она ко мне под пальто и, сонно заерзав, что-то защебетала. Я уже думал, что она, как грудной младенец, безраздельно отдалась мне. Между тем, когда мы проезжали через какой-то городок, при свете уличного фонаря я увидел, что колени ее касаются ноги шофера. А тот, то и дело переключая скорость, каждый раз, словно бы нечаянно, проводил по ним ладонью.
Дойчин не дал мне даже прилечь. Только закончили разгрузку, перенесли товар на склад и я, перекинув через плечо пальто, направился к столовой, как он остановил меня взглядом.
— Ты сообщил в уезд о покупке машин?
— Да.
— Откуда у тебя деньги?
— Машины я получил даром, — ответил я и показал ему язык.
— Кого теперь надул?
— Государственный сектор.
— Ну?
— Да, да!
— Обкрадываешь государство?
— Нет, просто придерживаюсь принципа: динар — батюшка, рентабельность — матушка.
— Смотри, как бы не родился ублюдок!
— Внебрачные дети в правах не лишаются.
— Мелешь чепуху! Поднимется шум, Данила, я первый тебя бить буду.
— О, и сам поцелуешь черную землицу!
— Думаешь? Ну, ладно. Как ты? Устал?
— Спасибо, маленько. Что у тебя дома?
— Все по-старому. Что в Белграде?
— Ничего особенного. Сава по-прежнему впадает в Дунай.
— Ну-ну! А все ж смотри, в беду не попади. Все мы не прочь урвать с большого стола, но ты, брат, меры не знаешь.
Зря Дойчин так обо мне тревожился. Все шло как по маслу. Через несколько дней после того, как я подписал контракт в Белграде, прибыли машины, залатанные и перекрашенные. Когда подошел срок первому взносу, я был в отъезде, а никто другой не имел права распоряжаться деньгами. Конторщица любезно сказала гостям, что я — всего-навсего! — на конгрессе и вернусь дней через десять, не раньше. Прием машин закончен. Гости отбыли несолоно хлебавши. А бывший счетовод послал на лесоповал мальчонку с тайным донесением:
— Враг отступил.
Пока два кузнеца, часовщик и шофер испытывали машины, я подписал в уезде контракт на ремонтно-дорожные работы. Золотые реки вновь потекли в Лабудовац. Терять мне нечего. За машины платить не стану — это я твердо решил. Не дам ни динара. Не хватает еще кормить банду, загубившую чудесную технику и выбросившую на помойку кровь и пот нашего народа! Не дам, и все тут. Пускай подают в суд. Будем таскаться по судам, пока или им, или мне не надоест. А тем временем машины будут работать полным ходом. Пускай себе тяжба тянется хоть до второго пришествия. На то мы и крестьяне. Разве мы не клали жизнь ради одного-единственного саженца? А уж про машины и говорить нечего.
И контракт с уездом — тоже не бог весь что! От точных сроков я увернулся. Ну а раз над тобой не висят сроки — не грех кое-что из обязательств оставить и потомству.
В первый год белградское дорожно-строительное предприятие требовало деньги за машины. Я не отвечал, прикидывался дурачком. А машины работали и день, и ночь, в кассу шла чистая прибыль.
На другой год пригрозили судом. Я отмалчивался.
Минуло два строительных сезона, когда меня вызвали в Белград на арбитражный суд. Я не явился.
Через четыре месяца пришла вторая повестка. Я молчу. А машины работают вовсю, далеко перемахнув все заданные мощности. Миновал и третий сезон. И, наконец, прибыла третья повестка. Я собрал вещички и двинулся в путь. Дальше уклоняться я не решился.
Отправляясь в Белград, я еще не знал толком, как вести себя перед судом. И ни чуточки из-за этого не горевал. Как там себя ни веди, передряга эта скоро забудется. А перед судом истории я чувствовал себя чуть ли не героем.
Осмотрюсь сначала, а там будет видно, какую занять позицию. Возможностей не счесть. Сам суд — кто там будет сидеть — подскажет правильное решение.
Вошли судьи. Сели. Их трое. И нас двое: я и противник, юрисконсульт пострадавшего предприятия. Крупный, спокойный человек в очках, с новой сумкой, набитой какими-то красивыми папками, обложками и скрепками для документов. У меня — ни блокнота, ни карандаша. Этот, думаю, будет бороться до конца, неспешно, рассудительно и обоснованно громоздить горы фактов. Разными статьями и параграфами он загонит меня в угол. Он будет апеллировать к разуму. К логике.
Стало быть, эту область он уже захватил. Мне остается другая — сердце. Ну, а по части чувствительности я маг и волшебник.
Я соизмерял судей и свои надежды на успех.
Направление главного удара — председатель.
Кто он?
Сейчас разберу по косточкам и узнаю.
Вывод я сделал довольно быстро. Это был исполненный достоинства обломок прошлого, красивый, холеный, полноватый, но это его ничуть не портило. Судебная пыль не въелась ему в кожу, не запорошила глаз. За обвиняемым, которого следует сдавить железными тисками закона, он способен разглядеть и человека, которого следует понять. Словом, можно уповать на его гуманность — о ней говорят и специфические отложения на носу и скулах. Коли не дурак выпить, значит, любит и приятные застольные беседы, а это опять же подает надежду, что по вечерам он вином смывает серый налет судебного утра.
Далее я рассуждал так.
Если б этот человек с юридическим образованием, отличным знанием законов и экономики еще бы и воевал с сорок первого года — а возраст его это позволяет, — он был бы сейчас министром, а не каким-то там председателем суда. Будь он бандитом или послевоенным реакционером, обычной судейской крысой, или невозмутимым специалистом, или просто размазней, не умеющей извлечь выгоду из собраний, ему бы не доверили столь высокий пост. Значит, он был золотой серединой.
Ну, а поточнее?
Главное сейчас — раскусить его до конца.
Из всех возможных вариантов последний показался мне самым вероятным. И чем больше приглядывался я к председателю, тем все сильнее утверждался в своих предположениях. Наконец я составил его примерную биографию.
До войны он был салонным коммунистом или социал-демократом из хорошей семьи и в те давние времена оказывал нашим небольшие услуги, разумеется, в пределах, которые придают вес в глазах прекрасного пола, которые не опасны, но позволяют разыгрывать перед самим собой великого заговорщика и в глубине души быть уверенным, что в худшем случае отделаешься нагоняем в полиции. Однако вскоре он женился и заменил членство в партии партией в карты с тестем и с шуринами. Так и получился из него прекраснодушный либерал и добропорядочный гражданин. Когда на Теразиях запела Лили Марлен, а первые повстанцы закачались на фонарных столбах, он нырнул в глубоководье мещанского мира и покорности. И давняя монаршая благодарность отцу пришлась ему как нельзя кстати.
И так далее…
А когда Белград освободили, он вспомнил старых друзей, и со временем старые друзья его тоже припомнили.
В суде он главный. По правую руку от него сидит желтый чиновник с голым и румяным, как задок ребенка, черепом. На любое замечание председателя он расплывается в угодливой улыбке:
— Совершенно правильно, товарищ председатель!
Значит, одолею председателя — этот приложится сам. Большинство есть. На третьего плевать.
На людей типа моего председателя очень действуют душещипательные разговоры, игра на сердечных струнах. Сиди на его месте человек, прошедший Главнячу[15] и все семь вражеских наступлений, тот уж, будьте спокойны, не поймался бы на эту удочку. Словом, выбор оборонительных средств не вызывал у меня особых усилий, применить их было и того легче.
Страшное обвинение сводилось к одной короткой фразе:
«Этот тип обманул предприятие».
Изложение фактов продолжалось полтора часа.
Председатель суда задремал, установив, видимо, уже в первые десять минут, что обвинение — справедливое, к тому же основательно и юридически безукоризненно обосновано и документировано. Наверное, он уже знал, как следует по мне вдарить, и потому предался сладкой дреме и мечтам, в которых ему виделся обед, послеобеденный отдых, вечернее кафе, шприцер и, возможно, партия преферанса.
Но я не дремал. Под полой очевидной жертвы я прятал меч победы. Чтоб поразить им головотяпство и легкомыслие!
Сотни моих предков, крестьян, десятилетиями боровшихся с помещиками, жандармами, таможенниками, сборщиками податей, судьями, окружными начальниками, депутатами и всегда выходивших из сражений с минимальными потерями, знавших для этого сотни уловок, змеиных улыбок, притворных охов и вздохов, проснулись во мне, кровь побежала по моим капиллярам, насыщая умом мои мозговые клетки. Я отбивался, как мог, от этих незваных помощников:
— Пращуры, на место! И без вас обойдусь. Это наш народный суд! И противники мои не те, с какими вы тягались, хотя я, ваш потомок, в интересах ваших же потомков и должен оставить в дураках этих добрых людей. Но, в отличие от вас, мне надо отстоять не чье-то поле, не чью-то жизнь, а стремительный темп развития Лабудоваца, — только и всего, так как иначе он легко может замедлиться, отбросив ваших потомков на задворки какой-нибудь дальней пятилетки в необозримой перспективе. Поэтому отойдите в сторонку, плуты и мошенники! Вы приходили в суд босые, но отдавали торбы серебра за имения разорившихся бегов. Днем вы были косари и бедолаги, а ночью — гайдуки. Вы похоронили Османскую империю и на своих же костях воздвигли королевство, дабы и впредь было кому вас угнетать. Вы с именем всевышнего рубили друг другу головы за пядь земли или мелкую обиду, готовы были лизать руки за медный грош, рассыпаться мелким бесом перед соседкой, прельстившись ее задом, и в диком загуле спустить все, что с трудом и муками сколотили за целую жизнь. Так помолчите же, речь идет не о вашем противнике, а о моих недругах, которых надо добром склонить на сторону общины, взявшей то, в чем она действительно нуждалась и что тяжущееся с ней предприятие только загубило бы. И все же не мешает призанять у вас ума, пусть будет под рукой на всякий случай.
Подошла моя очередь. Сквозь дремотный туман председатель пропустил луч учтивой приязни:
— Что вы, товарищ, можете сказать на это?
По всей вероятности, он ожидал невразумительной невнятицы. Но я выпрямился, как минарет на Беговой мечети, развел руками и возопил:
— Товарищи и братья!
Эти два неюридических термина прямо на глазах моих сотворили чудо. Все мы словно бы внезапно поняли, что люди могут быть не только судьями, истцами и ответчиками, но еще и товарищами и братьями. Я произнес их так трагически, как будто сообщал вкладчикам о крахе Народного банка ФНРЮ!
Первая тактическая победа: я обратил на себя внимание председателя и смутил противника.
— Товарищи и братья! — воскликнул я со слезой в голосе. — В ваших руках наша славная социалистическая справедливость. Судите меня! Однако прежде выслушайте, чтобы до конца быть уверенными: приговор ваш не идет вразрез с учением Маркса, Энгельса, Ленина! (Я уже совсем отвык от концовки этого ритмического ряда имен.) Я никогда не ходил по судам и потому не знаю, как судят людей, что попали в беду, вроде моей. Товарищ председатель, раз народ доверил вам столь высокий и почетный пост — быть на страже нашей социалистической справедливости, значит, вы всю свою жизнь с молодых лет отдали борьбе за эту справедливость. Борясь за права народа, вы, конечно, видели страдания нашей бедной гордой Боснии. Она кормила вас, партизан, отдавала вам хлеб до последнего зернышка, когда вы, раненые, спасались в ее дремучих лесах, она оберегала вас, ибо только в вас видела избавителей от столетнего ярма, горького и кровавого! Вы, товарищ председатель, помните, как вы проходили колоннами, с пулеметами на плечах и гранатами на поясе, а наши голодные, оборванные ребятишки отдавали вам последний кусок, чтоб вы лучше воевали за их молодость, за их будущее, потому как их отцы, к которым я причисляю и себя, воевали в других братских республиках. Товарищ председатель, вспомните страшное горе тех сел, через которые проходили ваши батальоны…
Председатель сначала удивленно заморгал, потом почувствовал себя польщенным, заерзал и вдруг выпятил грудь, словно и в самом деле все четыре года воевал в Боснии. А когда он вдосталь нахорохорился, войдя в роль, какую я ему навязал, ему пришлось-таки вспомнить, как выглядела Босния в те времена…
Все силы своей изворотливости я употребил на то, чтоб поддержать его в этом очень приятном для него заблуждении. Я наседал, как командующий армией, когда какой-нибудь роте удается пробить брешь в линии обороны противника и он немилосердно бросает в нее войска, расширяет и углубляет ее, разваливая вражеский фронт. Я пустил в ход артиллерию фраз, срывая со слушателей последние лохмотья настороженности, в их мигании и непрерывных кивках я видел взметающиеся в воздух бункера юридической логики, я забрасывал десанты автоматчиков, застававших врасплох их сочувствие, и оно пробуждалось и сдавалось в плен поначалу частично, а потом и целиком. Ракетами вымышленных цитат из речей наших самых высоких руководителей я освещал все закутки поля брани, не позволяя ничему уйти в тень. Я доказывал с пеной у рта, просил, заклинал, гордо вскидывая голову, как человек, ждущий не милости, а справедливости, все глубже овладевал душой и сердцем председателя суда, все безогляднее требовал от него, ко все большему его удовольствию, справедливости человеческой, но при этом не умалял справедливости законов, взывал к ним, как к людям, возносил их, как блюстителей закона.
И в то время, как на улице шумел осенний столичный полдень, в этой комнате с тяжелыми шторами и с жесткой мебелью, да и не только мебелью, в полной тишине, вызванной необычным вниманием слушателей к моей еще более необычной речи, велся бой за пятнадцать миллионов динаров, которые я за два с половиной сезона заработал на машинах. За эту сумму стоило бороться, даже и такими средствами. Что же касается моего югославского сознания, оно лишь подернулось чуть заметной рябью. Небольшой штиль. Однако, если надо было заплатить за успех угрызениями совести, я со спокойной душой шел на это, не считаясь с подобной жертвой.
Главный пункт обвинения в неуплате денег за машины я без труда отвел под натиском неопровержимого довода: мы ждали от нашей республики дотаций, но их в последнюю минуту отдали коксовым и металлургическим заводам.
И наконец я открыл последний шлюз, намереваясь доконать врага и по трупам прийти к цели. Тысячи бедняков, сказал я, ждут исхода суда, они крепко надеются на его справедливость, от его решения зависит, процветать ли Лабудовацу или прозябать до тех пор, пока на повестке дня Союзной скупщины не встанет вопрос о краях, не имеющих условий для развития промышленности и сельского хозяйства.
— Я, товарищи, обрисовал вам нашу жизнь на селе, где первую борозду после освобождения провели женщины и дети, сами впрягаясь в плуг, и где и посейчас еще добрая половина детей не ходит зимой в школу, потому что у них нет опанок!.. Вот теперь и судите, товарищи!
Председатель суда чуть не прослезился. Сидевший рядом с ним плешивец угодливо вытащил платок. На третьего я даже не взглянул.
Председатель наклонился над столом и, подражая великим гуманистам из заурядных фильмов, спросил с наигранной проникновенностью:
— Вы, товарищ, воевали?
— Да, у меня медаль первоборца.
— Какая у вас семья, дорогой друг?
— У меня никого нет. Все погибли.
— А дети?
— Своих нет. Цель жизни я вижу в будущем чужих детей. А на ваш суд добирался где как: то сидя, то на своих двоих (разумеется, я умолчал о том, что сидел и стоял в поезде). И я прошу вас, товарищ председатель…
— Да, да!
Попроси я сюртук из добротной довоенной материи с его плеча, он бы, не колеблясь, расстался с ним — театрально, со слезой запоздалого революционера, и, уж конечно, постарался бы, чтоб об этом услышали в райкоме и вышестоящих органах. Но я не собирался вносить разлад в его семейную жизнь.
Юрисконсульт строительного предприятия понял, что проигрывает сражение. Он начал было говорить, ткнул пальцем в густо исписанную бумагу, но судья встал и облил его сдержанным председательским гневом:
— Считаю представление фактов обеими сторонами законченным!
Большего болвана с университетским дипломом, чем этот судья, я в жизни не видел.
Приговор гласил:
«…Земледельческому кооперативу в Лабудоваце надлежит уплатить штраф в размере двадцати тысяч динаров и в течение десяти дней возвратить машины предприятию там, где они находятся во время вынесения настоящего приговора».
Надо ли говорить, что я взвизгнул от радости!
Мы с противником спускались по лестнице вдвоем. Я бы на его месте вышвырнул к черту папку с этими битыми козырными фактами. Он сжимал ее под мышкой и, опустив голову, считал ступеньки, все еще озадаченный странным исходом дела. Я похлопал его по плечу. Он вслух продолжил свою мысль:
— Как же так?
— Э, приятель, — утешал я его отечески. — Велика беда! Я не таких укладывал на обе лопатки! А тебе впредь наука. Факты, эта самая важная вещь в арматуре жизни, порой повисают в воздухе. Голые факты куда как просто лишить почвы. Голос души и сердца звучит гораздо громче.
— Но ведь вы же сознавали, что не правы!
— С юридической точки зрения.
— Разве этого мало?
— Юридическая точка зрения весьма сомнительна, если в ней закон не соединяется со справедливостью. И все же учись поступать по совести, молодой человек, держись своих законов! Может быть, придет время, когда повыведутся плутоватые крестьяне, что таким вот образом одерживают верх над сердцами и судебными законами, когда правосудие, правдолюбие, логика и сочувствие, ум и красота, здравый смысл и пламя крови соединятся в один нерасторжимый и неприкосновенный узел, некую категорию нерушимой морали. А сейчас удовольствуемся условиями переходного периода и, — здесь я поднял палец, — двинемся вперед, к коммунизму!
Юрист улыбнулся.
— Слушай, где ты прошел эту науку?
Я показал на свои плечи.
— Школьные дипломы зарабатывают задницей, а жизненные — горбом.
— Понятно.
— Ну будь здоров да удачлив! И остерегайся связываться с крестьянскими отпрысками. За неимением Австро-Венгрии они надувают собственную мать, за которую готовы голову сложить.
— Глубокая мысль!
— Иной раз плохой пловец тонет в глубокомыслии. А мои слова заруби у себя на носу, не то карьеры тебе не сделать. Итак, еще раз будь здоров и весел.
С гордым и надменным видом вышел я на улицу. Во мне клокотала непонятная сила. Казалось, кольни меня иглой, сразу брызнет кровь. А если сосчитать все красные кровяные тельца, их будет ровно пятнадцать миллионов.
Белград вилял хвостом у моих ног, как интеллигентная собачонка.
Я удивлялся, отчего не трясутся его мостовые, когда по ним шагаю я, Данила!
Когда мы с Дойчином вместе с половиной укома вошли в зал, там уже яблоку негде было упасть.
Я открыл собрание.
Было много громких, красивых слов и шумных аплодисментов. Перечислялись все наступления, все съезды и пленумы. А когда секретарь похвалил меня и мой коллектив за беспримерные успехи, раздались овации.
Кто-то крикнул:
— Да здравствует наш Данила!
И меня захлестнуло волной криков и рукоплесканий.
А я вдруг подумал о своей холодной каморке, объятой мертвой тишиной. Люди накричатся, наговорятся и разойдутся, чтобы согреть свои души подле очагов и в своих постелях под ровное дыхание жены и уютное посапыванье спящих тут же детей. Блаженные, они поплывут, лежа на спине, по сладостной реке сна. А я всю-то ноченьку буду сражаться с самым страшным своим палачом и самым коварным врагом — самим собой. И, задыхаясь в горячей мгле одиночества, с головной болью и ломотой во всем теле встречать белый флаг рассвета.
Думаю, что все святые страдали бессонницей. Если, конечно, чтоб стать святым, достаточно пустить по ветру все личное, а себя отдать на съедение коршунам общественных потребностей!
Жизнь мало-помалу низала годы в длинное монисто времени. С каждым годом моя голова все больше белеет. Прибавляется усталости в коленях и пояснице, убывает сила в руках. О женщинах вспоминаю раз в семь-восемь ночей. Но уже утром холодная вода и жгучие проблемы прогоняют соблазнительные видения. И я выхожу на люди таким спокойным, словно ночью меня ублажал целый гарем.
Лабудовац рос быстрее, чем мне бы хотелось и чем я успевал следить за каждым его новым шагом и движением. Несмотря на шестьдесят с лишком новых домов, жилья не хватало. Видно, Лабудовац не желал быть исключением в своей стране. Несмотря на десяток административных зданий, за двумя столами сидели три работника и макали перья в одну чернильницу.
Более двух тысяч жителей, если верить статистике.
В читальне буквально негде сесть — столько там шахматистов и картежников. Две трети населения не знает меня. Оно неудержимо растет, а я, как и прежде, один. И похоже, глубоко несчастный и безнадежно безвестный. А ведь каждый камень в городке и каждое имя и фамилия его жителя прошли через мои руки. Из двенадцати учителей я знаком только с троими, притом один из них — тот самый, кого я однажды застал на реке со своей конторщицей.
Три ученика из механической мастерской позавчера разговаривают в читальне:
— …Говорят, и сердитый же этот Данила!
— Старый дурак, считает мой мастер. Людям вздохнуть не дает.
— Старики, они все такие! — заметил третий и вытер рукавом ручейки под носом. — Бог даст, и эти долго не протянут. Говорят, весна так и косит их одного за другим.
— А осень — одышливых!
— Данила, кажется, одышливый.
Я слушаю и посмеиваюсь в ус. И шепчу: слава богу, что мы надоели потомкам. Значит, хотят поскорее сами встать у руля. Что ж, в добрый час! Только сумеют ли они, как мы, стиснуть зубы, когда прихватит беда? Одно мне заведомо известно — они наверняка сократят рабочий день и пенсию вытребуют раньше.
Сейчас меня редко кто и спрашивает, когда собираются что-нибудь строить. Понаделали столько разных комитетов, комиссий и советов, что мне просто для порядка суют на подпись, если без моей подписи никак нельзя. Белый городок окреп и уже и думать забыл про того, кто к корням его подключил первые электроволны инициативы. Все новое, мало сказать, прочно вошло в жизнь, оно уже заявляет о своем праве влиять на развитие всего края. Школьники и те не говорят мне: «Здравствуй, дядя Дане!» — потому что детей здесь около семисот, а всяких дядюшек, помимо их отцов и меня, предостаточно. Да еще каких!
С некоторых пор я подумываю о том, не пора ли начать хлопотать о пенсии, как раз лет пять на это и уйдет. Я разбил о борт бутылку шампанского и разрезал последнюю ленточку. Корабль спущен. Теперь можно собирать на память осколки. И слушать радиограммы о движении судов.
Из-за гор надвигалась реорганизация. Пока я был в отъезде, новый председатель уездного совета два дня провел в Лабудоваце. Говорят, заглянул во все на свете и ничего не сказал. Но я-то понял, что он увидел. Пошли анализы и синтезы, заявления, жалобы, счета и сметы, собрание за собранием, бесконечные телефонные разговоры и телеграммы, а после всей этой невообразимой кутерьмы, хаоса и отсрочек Лабудовац получил трех директоров. Взяли у меня лесопилку, строительство и транспорт.
Трое директоров трех новых предприятий приехали с целью сделать гиганты из того, что здесь застали, а попутно устроить и свои собственные дела. Я поздравил их с оказанной им честью и благоприятными обстоятельствами, умышленно утаив кое-какие детали. Они не знали, что директор назначается на предприятие для того,
чтоб ревизоры знали наперед, кого хватать за жабры,
чтоб обыватели знали, в чью миску и карман заглядывать,
чтоб массовым организациям было у кого просить о помощи,
чтоб председателю совета было на кого орать в случае невыполнения планов
и, наконец, возможно,
чтоб было кому руководить производством.
Все эти мотивы я не привел по доброте душевной. И тем позволил им пребывать в приятной уверенности, что директор назначается для того,
чтоб наконец признать чьи-то заслуги и способности,
чтоб человек, всю жизнь ходивший пешком, мог хоть немножко поездить даром,
чтоб было кому оговаривать своего предшественника,
чтоб хоть раз в жизни можно было поехать в отпуск или командировку без ведома жены, партии и фининспекции,
чтоб перестать служить и начать наконец командовать
и, возможно,
чтоб было кому руководить производством.
Директора приняли предприятия. Я ничуть не горевал. Я любил свои творения, пока их создавал. Стоило мне увидеть готовые объекты, любви как не бывало. Я лишь слегка беспокоился за их судьбу. Один директор был портной, второй — регистратор, третий — поп-расстрига. Первое, что подписал расстрига в качестве начальника транспортного отдела, было распоряжение перевезти на пятитонке его мебель, жену, свояченицу, пятерых детей, тещу, собак и тридцатилитровый бочонок ракии. Портной, директор лесопилки, сразу стал обносить свой двор частоколом, а перед домом регистратора уже на третье утро выросла куча кирпича. Несколько раз он обиняками давал мне понять, что купил кирпич. Но я-то по колеру вижу, где он обожжен.
Я не из тех, кто поднимает шум по пустякам. Тем более что эти «спецы» даже украсть путем не умеют. Нет, за них у меня душа спокойна!
В первые дни после реорганизации я слышал вокруг себя звенящую пустоту. С оставшимися делами в кооперативе управлялись другие и раз в неделю докладывали мне о ходе работ. Моя конторщица отлично улаживала дела с финансовыми ревизиями, которые почему-то засиживались в Лабудоваце дольше, чем где-либо, и в своих отчетах гораздо больше места отводили ей, нежели состоянию финансов. Впрочем, у кого что болит, тот о том и говорит.
Рассадник тоже не требовал хлопот. Два угрюмых крестьянина развивали там сельское хозяйство, ругая на все корки и меня и сельское хозяйство за то, что до сих пор не получили давно, по их мнению, заслуженную надбавку. Фруктовые деревья, малина и клубника, вопреки моей агитации, пропаганде и директивам, не росли быстрее, чем при любых других системах и режимах, и было вполне достаточно заглядывать туда раз в две недели. Породистые коровы, которых я распределил по селам, вместо того чтоб улучшать местную породу, постепенно опрощались, видимо, в силу географических, кормовых и инвестиционных условий. Зато процветала купля-продажа… Легионы барышников ускоряли обращение денег, не заботясь о товарообороте. Не проходило месяца, чтоб хотя бы двое не угодили за решетку. Оттуда они возвращались посвежевшие и отдохнувшие, начиненные новыми планами, обмозгованными во время долгого обучения и ничегонеделанья на тюремных нарах.
Я слонялся по базару, как полуослепшая дворняга вокруг мясных и хлебных лавок. Я искал чего-то нового, чего-то такого, что опять меня закрутит-завертит, заставит выбросить из головы себя. Не то я рухну, свалюсь на собственное подножье, словно старый дом бега. За эти два-три месяца поисков какой-то идеи я все больше впадал в суеверие, все чаще середь бела дня клевал носом, сидя один на скамье у гостиницы, подставив солнцу лоб, а остатки ума — туманным грезам.
И однажды утром я решил остаться в постели.
Лабудовац привык к тому, что я первый кашляю у него под окнами. А если в одно прекрасное утро он не услышит моего кашля? Что тогда? Да ничего, он просто не заметит этого! И все же не худо бы проверить. Пущу-ка я слух о своей болезни. Посмотрю, кто придет меня проведать, обеспокоенный моим здоровьем. А заодно устрою себе выходной. Лежа подведу баланс за последние одиннадцать лет. И если найду недостачу, попробую возместить ее как можно скорее. На излишки я не рассчитывал. Они, как правило, выявляются после смерти, и судят о них по числу венков и чину ораторов над разверстой могилой.
Я искал недостачу, но где тот идеальный кассир, который, найдя ее сам, не побоится открыто признать себя виновным? В наш век, когда и самокритика перешла на самоокупаемость, к ней прибегают лишь в том случае, когда из нее можно извлечь выгоду.
И потому меня все больше охватывало тщеславное любопытство: как относятся ко мне люди, кто первый навестит меня?
Первой появилась горничная в резиновых опанках и капроновой косынке.
— Вот те на, товарищ Данила расхворался! А я-то хотела убраться.
— Принеси мне, пожалуйста, чаю!
Толстозадая горничная удалилась, гремя ведрами и совками. Дверь она не закрыла, и я слышал, как она с верхней площадки приказывала кому-то:
— Один чай наверх! Старый хрыч, похоже, разнемогся.
Прошел час, второй, третий.
Никого.
Под окнами гостиницы проходит Лабудовац по своей главной улице, которую я проложил, каждый ее метр пропитан моей кровью и мозгом, каждую брусчатку я по нескольку раз с руки на руку перебросил. Шагает городок по моей спине, по моей хребтине, давит меня ногами, как давят виноград, вонзает в меня каблуки, подковы, гвозди, топчет меня опанками и потресканными мелкособственническими пятками, и никому и в голову не приходит остановиться под моим окном и крикнуть:
— Эй, Данила, старина, что это с тобой подеялось?
Просто невероятно, чтоб никто не знал, что со мной. В Лабудоваце стоит кашлянуть, как уж за десять домов известно, что ты умираешь от чахотки.
Сколько я сделал для людей! И хотя бы один справился о моем здоровье!
Видно, и впрямь я что-то значу для них только в своем воображении. А они видят во мне тирана с бичом, сплетенным из добродетелей, и тайно ненавидят. Да, время принуждает меня к отречению, и провести его надо со всей помпой и театральностью! А может, во мне заговорил человек, который долго пробыл под гнетом дисциплины и особо строгой морали и потому возжелавший вдруг возмещения за свое самопожертвование?
Я читал по складам арабские письмена на сыром и заплесневевшем потолке и думал с тоской о том, почему нет у меня трубного голоса. Созвал бы я сейчас жителей долины на сходку под свои окна, построил бы их — налево коммунистов, направо церковников и мелких собственников — и отсюда, из окна, толканул бы речугу:
«Слушайте, вы, трудящиеся, я что — щенок за дверью, или прошлогодний снег, или горе-политик, что вы так скоро забыли меня? На кого и для кого растрачивал я себя больше десяти лет? Кто это посылает меня к врачу? Ты? Прекратить разговоры в строю! Смирно! Так. Только пошевелись у меня!.. Так, значит, вы со мной, а? За здорово живешь? Прекрасно, черт возьми! Хотите малость отдохнуть от меня? Ну я вам покажу отдохновение. Замолчи-ка лучше, критикан, замолчи, вечно говоришь от имени большинства, а на выборах и двух голосов не получил бы! Закрой свою пасть и изучай роль личности в истории! А теперь к делу!
Эй, Коста, ты что, не мог встать пораньше — посмотреть, что со мной, когда я не вылез из своей гостиничной кельи? Обрадовался, что не услышишь моей ругани на лесопилке? Теперь я для тебя последняя спица в колеснице? А того ты не скумекал, мякинная твоя башка, что с юрьева дня и до святого Димитрия ходить бы тебе босым и раз в два месяца спускаться на базар за солью, пузырьком постного масла и метром бязи, не построй я лесопилку и не поставь тебя на пилораму, словом, не дай тебе в руки хлеб! А теперь ты кум королю! Надеваешь по субботам темный костюм и лакированные штиблеты на грубые носки, твоя Пелагия (эта кобыла откармливает в ванной поросенка и на шуточки соседки гогочет: «Ну ты даешь!») тоже натягивает костюм из чистой шерсти, и вы под ручку отправляетесь в кино, а после пересказываете фильм: «Жил-был на свете один царь…» Думаешь, тебе уж и сам черт не страшен? Как бы не так! Будет еще реорганизация, да не одна, на то мы и югославы! И тебя еще трахнут по кумполу! И оглянуться не успеешь, как уж опять босиком зашагаешь за плугом. Ты еще не знаешь, что будет, когда капиталовложения потекут по бороздам, а твоей пилораме придется самой о себе заботиться! И тогда не проси меня о помощи — пошлю к такой-то матери.
А вы, господин граф Антон Спиридонович? Или, по-нашему, господин Шпиро! Прослышал про мою болезнь и обрадовался: как-никак уходит из жизни последний свидетель твоего нравственного падения! Помнишь ли, милок, где и каким я тебя нашел?! На кирпичном заводе, на досках, скрючился подле теплой трубы и зубами стучишь. А от твоей щетины и рванья стошнило бы даже шанхайские трущобы. За одежду и первые пятьдесят динаров вы, ваше превосходительство, господин молодой полковник из армии Врангеля, руки мне целовали! А теперь ты стоишь передо мной прямой, как копье, белый, холеный и гордый, как покинутый дворец, и с презрением смотришь на этот организованный хаос превращения балканского крестьянина в первого гражданина Европы, и пуговицы на твоих крахмальных манжетах для тебя важнее человека, твоего благодетеля, меня, дурака, собравшего вас здесь себе на голову, людям на позор! Ну что, если бы я с тобой обошелся, как положено по классовому принципу, раз уж ни Ворошилов, ни Буденный этого не успели? Ты бухгалтер, а корчишь из себя декана экономического факультета, взирающего на подлинных деканов, как на бухгалтеров!
А ты, Радислав, со скрипучим протезом вместо ноги! Ты, товарищ председатель совета инвалидов! Почему ты косишься на меня так мрачно? Разве я виноват в том, что тебе не дают медаль первоборца? Где это видано, чтоб давали медаль тому, кто носил кокарду до самой капитуляции Италии? Напрасно ты обиваешь пороги военкоматов и досаждаешь нашим землякам — генералам! Из уважения к твоей культе они любезно примут тебя, но заявления не подпишут. Во всяком случае, пока я жив и они живы. Ведь это я взял тебя в плен, товарищ Радислав, да еще шомполом вдарил за попытку к бегству — что ни говори, а все лучше, чем расстрелять! Я просил в штабе не посылать тебя в штрафной батальон. Теперь ты загордился. Еще бы — вон какой гладкий от сидячей жизни на инвалидной пенсии, скрипишь с таким видом, словно на тебе все протезы революции, а я бы этакому другу и стражу нашей революции, во имя этой самой революции, перебил и вторую ногу. Другие, не чета тебе, да и здоровьем поплоше, сидят в табачных лавках, привратницких и на телефонных станциях, а ты гуляешь себе по Лабудовацу, вынюхиваешь да высматриваешь, нет ли где какой поживы, так и вертишься то в комитете, то на складе Красного Креста да морочишь голову честному народу запоздалым геройством.
О наше военное милосердие, ведь и ты подчас меры не знаешь!
А вы все, что ни рыба ни мясо, вспоминающие о политике лишь в день выборов, вы, занимающие столбцы в переписи населения и за отсутствием собственного мнения всегда принимающие чужое, вечные соглашатели и подпевалы, неужто ни один из вас не счел нужным навестить меня? Не слышали? То, что вам нужно, вы слышите в сей же миг, даже если это происходит в нижней палате или в Белом доме! Был бы у меня арсенал ругательств Марко Охальника, я надиктовал бы страниц двадцать убористого текста и разослал вам в виде циркуляра! Или прочитал на собрании вместо доклада! Вы бы и тут аплодировали. Хотя на другой день из этой самой общины в канцелярию президента ушло бы по меньшей мере двадцать анонимок с жалобами на невыносимую обстановку, которую создает такой-сякой Данила Лисичич!
И вы, дети, что с удивлением смотрите, как вспыльчивый дядька бранится и сквернословит из-за каких-то непонятных вам проблем! Неужто ваш гундосый учитель не научил вас ничему, кроме букв да таблицы умножения? Я не виню вас, как, впрочем, и никого не виню. Я ругаю. Вам просто незнакомо чувство долга, тем более по отношению ко мне. Не умею я собирать вокруг себя ребятишек и потешать их байками, чтобы завоевать их любовь. Я построил школу, стадион, приобрел для вас домры, играйте, сколько душе угодно! Как знать, может быть, для кого-нибудь это станет профессией — ведь дурной вкус куда как живуч! А еще я организовал автобус, который развозит вас по селам, чтоб вы не намяли свои нежные ножки, чтобы не мерзли зимой, ну а еще чтоб с малых лет научились ездить хотя бы на автобусе, если уж вам не светит ездить на собственной машине. Нет, я не в обиде на вас за то, что вы как должное принимаете все мои заботы, полагая святым долгом старших — жить для вас. Но одно ваше: «Доброе утро, дядюшка Дане, как ты?» — подняло бы меня с постели и заставило бы, не щадя себя, без роздыху трубить еще лет десять! Уж это точно, клянусь своими сединами!»
Полдень.
Никто не идет, некому слушать эту рвущуюся из меня речь, которую не мешало бы послушать не только жителям нашей долины.
Почему никто не приходит?
Может быть, я забыл здешние свычаи и обычаи? Может быть, нужно кричать и громко стонать, чтоб тебя навестили? Или должен пройти слух, будто ты при смерти, и тогда прибегут взглянуть на тебя в последний раз? Есть у меня друзья? Марко, Дойчин, Вуле, Реджо, конторщица, счетовод, учитель… И можно ли назвать дружбой вечную грызню по служебным поводам, часто пустым и мелким? Неужто вся эта суета и очевидные благие свершения не высекли хотя бы одну теплую искру.
Не знаю. Не знаю.
Может быть, тщеславие лишило меня разума? А иезуитская суетность — друзей?
До самого вечера никто не пришел.
И до утра никто не пришел.
Около десяти горничная принесла письмо. Срочно вызывают в уезд.
Стало быть, обязанности опередили друзей. Вызывают. Конечно же, вызывают. Дело, мое прекрасное дело! Только ты одно не оставишь человека, не нашедшего любви! Ты никого не вычеркиваешь из списка своих приглашенных. Честь и хвала тебе, дело, каким бы ты ни было! Все-таки именно ты самая прочная связь между людьми. Без тебя человечество распалось бы на два миллиарда индивидуумов. И что было бы со мной без тебя?
Я написал записку: «Лежу один. Тяжело болен. Приехать не могу», позвал горничную и велел отнести на почту телефонисту, чтобы тот передал в уезд.
Из уезда прискакал один из замов. Он привез мне орден Труда второй степени и приказ председателя всем, кому можно приказывать, проявлять ко мне чуткость и внимание, не перегружать лишними заданиями… и так далее и тому подобное, и все это под знаком решения проблемы сохранения кадров на научном уровне уездной администрации.
Орден мне вручили в постели. Нажали на кнопку механизма официальной любви.
Тотчас же провели с десяток совещаний на тему, как организовать заботу обо мне. Договорились, что меня навестит руководство, затем представители коллектива кооператива, молодежь, дети, женщины, профсоюзная организация… Долго обсуждался вопрос о том, где взять средства на гостинцы, ибо все деньги извели на вечер, посвященный Первому мая. Решили просить дотацию в уезде. А дотация есть дотация. Пока ее дождешься, нужда пройдет.
Сливки гуманности собрала делегация общинного совета во главе с Дойчином. Расселись, кто на кровати, кто возле нее. Дойчин держал заздравную речь:
— …Не спеши-ка ты на тот свет. Еще здесь дел невпроворот. Про один налог как вспомню — язва в желудке так и разыгрывается. Больной, говоришь? Живот? Ага, печенка! Это от спиртного или острой пищи. А у тебя, может быть, от нервов. Пошлем на курорт. И не вздумай отлынивать, когда придет приказ. На курорт, или поколочу!
Я не звука.
Официальная любовь?
Нет.
Так почему же не пришли раньше?
Марко Охальник сует мне свой черный самосад и приступает к содокладу.
— Печенка — дело сурьезное. Говорят, она гниет и разлагается. А я, видишь ли, так разумею, что нас, стариков, и лечить нечего. Раньше надо было думать. Теперича поздно. Теперича лечи не лечи, один черт. Раньше меня обида брала, что лечиться не посылают. А теперича вижу, зажился я на этом свете, пора молодым место уступать.
Тщедушный зеленый писарь, уже более десяти лет геройски сражающийся с убийственными веснами, строго сказал:
— Я не согласен. В журналах пишут, что нужно вести размеренный образ жизни и заниматься физкультурой, это жизнь продлевает.
Марко сплюнул промеж башмаков.
— Кому нужна физкультура, пускай сзывает народ на собрание! Еще неизвестно, захочет ли он, чтоб его снова обдирали!
Как и всякая бездельная делегация, и эта точила лясы. Я хотел было съязвить: что, мол, без приказа председателя не могли прийти? Но передумал. Ведь встреча вышла такой сердечной и искренней, как если бы и не по приказу.
Когда солнце уставилось в окно и в комнате стало жарко и душно, Дойчин приступил к заключительной части.
— Чего тебе надо? — спросил он меня.
— Ничего!
— Что значит — ничего? Говори, не стесняйся!
— Ничего.
— Ладно, не дури! — встрял Марко. — Как ничего, когда одну рубаху вижу на тебе целый год. Люди и то смеются, что все жалованье отдаешь кооперативу на мелкие нужды. А я намедни заглянул в ведомость, так ты меньше дворника получаешь. Эх, голова садовая! Миша, вытаскивай эту чертову бумагу и карандаш! Пиши!
Они написали все, начиная с исподников и кончая новой фуражкой. Марко вытащил из сумки картонную коробку и, как роженице, поставил в изголовье. И щелкнул меня по лбу.
— Кабы ты женился, было б кому теперича ходить за тобой. А вот поди ж, не женился. Хотя, как знать, может, уж давно б окочурился. Налетел бы на какую фурию, сожрала бы с потрохами.
— Подъем! — объявил Дойчин. — Дане, послезавтра заседание совета. Хоть на карачках, но приползи. Надо решать с племенной фермой.
Все встали.
— У тебя членские взносы не уплочены! — сказал Марко. — Хоть бы вы, сознательные, так вашу мать, не подводили меня. К послезавтрему приготовь семьдесят динаров! Ну, прощай, Дане, и береги свою чертову печенку!
Ушли.
Затем делегация из трех женщин принесла две кошелки разной снеди, противень с пирогом, две тарелки пирожных, пижаму из бумазеи, бутылку молока (без соски). А до вечера меня посетили делегация молодежи, школьники, трое директоров, все управляющие и еще несколько досужих лабудовчан. При последних посетителях я зажег свет, хотя июньский день тянулся, как сырая халва. Когда и они ушли, я встал. В комнате была грязища, как на покинутом солдатском привале. Тряпки, бумаги, окурки, пустые спичечные коробки, пачки из-под сигарет, газеты, забытый блокнот, развалившийся опанок, крошки, детская шапка, но мой жилет и авторучка с подоконника исчезли бесследно.
Завечерело. Время, когда крестьянин почесывается и позевывает у очага на сон грядущий, когда старые выпивохи, пряча под пиджаком и в карманах немудрящую закусь, собираются по темным углам, когда пенсионеры и несостоявшиеся политики надевают очки, чтоб прочесть в газетах и то, что написано между строк, когда сознательные граждане за плотно занавешенными окнами помогают своим женам стряпать и стирать пеленки, когда молодожены нетерпеливо ходят взад-вперед по спальне, кляня в душе стариков, которым невдомек, что им давно пора на боковую, когда в кофейню валом валят служащие, завмаги; мелкий городской люд и неторопливо приступают к вечернему обряду пития, когда товарищи из комитета и совета идут друг к другу в гости — пить в кофейне, на глазах у народных масс, неудобно, положение не позволяет, а так, что ни случись, все будет шито-крыто.
Ночь прилепилась к открытому окну и обдает меня свежестью, как сквозняк на церковном дворе покойника. Две телеги прогромыхали под окнами. Семберские извозчики везут в город овощи. Проскрипели жалюзи. По звуку узнаю: магазин тканей возле рынка. Завмаг припозднился, пересчитывая выручку. Теперь завернет в кофейню, выпьет семь маленьких и домой.
Я прислушался к дыханию своего города перед отходом ко сну. Никогда мне не приходилось слышать его так хорошо. Видно, оттого, что со слухом у меня неважно, хотя большинство инструментов в этом оркестре жизни я создал своими руками.
Ухо уловило странный шум. В комнату кто-то вошел. Я выпрямился. У дверного косяка стояла Йованка.
— Ого!
— Выйди! — грубо приказала она. — Зачем?
— Выйди, я приберусь!
— Не надо, иди сюда!
— Выйди! Ежели не можешь, вынесу.
Я оделся, набросил на плечи пиджак. Она все ждет. Строгая и оскорбленная. Поравнявшись с ней, я протянул руки, чтобы обнять ее. Она увернулась и закатила мне такую пощечину, что я подумал, будто подле меня взорвалась водородная бомба. Она же невозмутимо ждала новой атаки, чтоб съездить мне по второй щеке; видно, для восстановления равновесия в моем котелке.
Я благоразумно вышел в коридор. Через час она появилась в дверях.
— Входи!
Я вошел.
— Переодевайся!
Я переоделся.
— Ложись!
Я лег. Я лег и уже лежа схватил ее за руку и потянул к себе. Она вырвалась и снова — жиг! — по той же щеке. Ей-ей, чуть глаз не выскочил.
— Бабья твоя голова, моя щека не окошечко в собесе, чтоб по ней так колотить!
— А я не шлюха.
— Разумеется…
— Завтра принесу чистое белье.
— Эй, погоди! Сколько мы с тобой не виделись?
— Шесть лет, четыре месяца и два дня тебя не было. Довольно?
— Слушай, Йованка, давай разберемся!
— Ни к чему. Я пришла как на безвозмездный субботник.
Смотрю я на нее и не верю, что когда-то мы были едины и душой и телом. Она все еще пышет здоровьем. Силища, что у твоего лесоруба, но по лицу словно бы прошелся колорадский жук. Годы съели свежесть, поклевали зернышки смеха. Кто-то чужой поселился в ее глазах.
— Йованка, может, еще не поздно?
— Я давно тебе сказала: не нужен мне муж-развалина, что ковыляет по дому в исподниках. Прощай!
Ушла.
— О, будь проклят ваш милостивый бог! — вопил я, наспех одеваясь. — Я вам покажу развалину. Заживо хотите завалить меня подарками, вниманием, милосердием и насмешками? Нет уж, не позволю вычеркнуть себя из списков народонаселения! Вперед, пока на ногах стоишь!
Сам я ничего не помню. Говорят, что я повесил над стойкой свои ордена, подтащил к ней стол, сел и всю ночь пил и орал, пел и плакал, плясал и катался по полу, выгонял и загонял посетителей, музыкантам часами не давал дух перевести, строчил приветственные телеграммы в Сараево и Белград и при этом никак не мог понять, для чего я все это делаю.
В ту ночь я спустил хороший кус отцовской земли.
Солнце уже взошло, когда меня, точно зверя, опутали веревками и отнесли в постель. Где-то после полудня я продрал глаза. Голова трещала с перепоя. Конторщица меняла у меня на лбу и затылке мокрые полотенца.
Так закончилась моя первая болезнь, оплатил ее я сам, а не соцстрах.
Все в жизни меняется. Порой даже председатели уездных советов. Известно, что каждой перемене предшествует длительный период подготовки и созревания, поэтому и приход нового председателя нового укрупненного уезда не был простой сменой руководителя.
Новый председатель приехал тихо. Впрочем, его «пакард» вообще неслышно скользит по шоссе. Самый высокий руководитель в уезде созвал всех нас — исполнителей — не сразу, и при этом не провозгласил никакой «переломной» реорганизации.
На первом заседании совета, которое проходило под его председательством, он ограничился лишь частными замечаниями о порядке ведения заседания. Не заигрывал с нами, членами совета, в стремлении завоевать дешевую популярность гибкого руководителя. Ничего не записывал в блокнот, отдавая дань нашей болтологии в прениях. Не поглядывал на часы, дабы поторопить нас, не потирал лоб и глаза, дабы мы прониклись уважением к его святой государственной усталости. Он сидел за столом и слушал, как самый обыкновенный смертный. Но я-то понял, что этот человек — на две головы выше нас, что он все помнит, видит, слышит, делает выводы, сравнивает, соизмеряет ораторов с какими-то одному ему известными фактами. Этот человек знает, что хочет, и в один прекрасный день спокойно и неторопливо, но вместе с тем твердо и, как время, неумолимо начнет проводить свою линию. Он принадлежал к тому типу худых невозмутимых людей, чей взгляд отлит из холодной стали, а малейшее движение, миг и жест находятся под неукоснительным контролем всемогущего хозяина — мозга.
Мы думали, что под конец он хотя бы украдкой зевнет и закончит собрание какой-нибудь коротенькой фразой. А он встал, глянул нам в глаза и ошарашил неожиданным выводом:
— Товарищи, каковы вы, таковы и дела в уезде. На следующее заседание всем прийти в костюмах, чистых рубашках и аккуратно завязанных галстуках. Иначе не пущу. Война закончилась больше десяти лет назад. Это уездный парламент, а не деревенские посиделки. Предлагаю на секретаря комитета наложить штраф в размере двадцати процентов месячного жалованья за то, что не подготовил заседание должным образом. В следующий раз чтоб в зале было чисто, все члены совета за минуту до начала были на своих местах и каждый имел бы на руках все нужные материалы, отпечатанные на машинке. Затем, никакого курения во время заседания, мы не на революционном митинге моряков. Ясно? Объявляю заседание закрытым!
Ну и ну!
Что же будет с бюджетом, если он так придирается к мелочам, вроде одежды и курения, — думал я, не зная еще, что готовит мне этот день. Я уже слышал, что он знакомится с предприятиями и кооперативами и вызывает к себе по очереди директоров и начальников. Люди входят к нему румяные, выходят зеленые. По уезду закружились финансовые, санитарные, инвентарные и прочие ревизии и комиссии. Прокурор уже двадцать дней и ночей кряду за зашторенными окнами диктует что-то машинистке. Хозяйственные тузы притихли, забыли про кофейни и пивные, а мелкая сошка посмеивается да перемигивается:
— Ага, грянул гром и над директорами!
Дойчин и Марко Охальник ждут меня на улице.
— Господи помилуй, да как же я завяжу галстук на свою зобастую шею? — недоумевает Марко.
— Завяжи под зобом, — советую я.
Дойчин мрачно глядит на кончики башмаков.
— Продам телку, куплю костюм.
— Прощайте, опанки, — вздыхает Марко. — Прощай, сумка через плечо! Америка, так твою мать, теперича ты увидишь, что такое илихантность, дай только Марко разнарядиться. А уж как надухонюсь, от вдов отбою не будет. Правда, прежде отмыться придется. С позапрошлого года хожу немытый. Вот оно и выходит, нет худа без добра. Жисть, она меня всяко трепала, а вот же выдюжил.
Мы и не заметили, как перед нами вырос председатель совета. Палец его указал на меня.
— Ты Данила?
— Он самый, товарищ председатель.
— Жду тебя в семь вечера. Приготовься к долгому разговору.
— О, разговаривать я могу хоть два дня.
— Думаю, что сегодня тебе хватит и двух часов. Пожалуй, даже многовато будет.
Когда он ушел, Марко и Дойчин обратили на меня сочувственные взгляды.
— Провинился в чем? — спросил Марко.
— Может, он прослышал про ту пьянку? — предположил Дойчин.
— Ни в чем я не провинился! — озабоченно сказал я. — Вы сейчас прямо на автобус и дуйте в Лабудовац, ну а ежели я до завтрашнего утра не вернусь, выбирайте на мое место другого руководителя кооператива.
— Ладно, шутки в сторону! — шумнул Марко. — Что там на твоей грешной душе?
— Двадцать семь немцев, девять усташей и…
— Пошел к черту. Я дело спрашиваю.
Ровно в семь я сидел в кресле в кабинете председателя. Вокруг тишина, обложенная коврами и тяжелыми шторами. На столах ни клочка бумаги. Председатель проглотил пилюлю, запер на ключ ящик стола и сел рядом со мной за круглый стол. Я разыгрывал незыблемое спокойствие — будто пришел к товарищу председателю на чашку кофе. Но по коже подирал мороз. Не люблю я эти разговоры с глазу на глаз с более сильным противником. И хотя я не знаю за собой ничего такого, из-за чего председатель мог схватить меня за грудки, я все же цепенею и покрываюсь испариной. И на всякий случай складываю губы трубочкой, словно вот-вот начну потихоньку посвистывать.
Председатель сел и поглядел мне в глаза.
— Привет тебе от Народного банка, Данила!
Это был намек на некоторые мои махинации с долгами разным предприятиям. Но я как ни в чем не бывало простодушно улыбнулся.
— Да пошлет ему бог здоровья, товарищ председатель!
— Выпьешь стопочку, Данила?
— Спасибо, в кабинетах не пью!
— Да, в Лабудоваце куда удобнее, ордена — над головой, бутылку — перед собой, и это после того, как мы организовали тебе помощь, как больному!
— А сколько стоили ваши гостинцы и помощь? Я заплачу, — сказал я, вытаскивая бумажник.
— Кооперативными деньгами? — съязвил бледнолицый наглец.
Такого подозрения, поклепа и оскорбления я никак не ожидал! Чего-чего, но потребительских склонностей, за которые, вообще-то говоря, можно угодить за решетку, во мне нет. Не иначе, кто-то поторопился очернить меня в глазах председателя. Я чуть не разразился негодованием и ругательствами. Но сдержался, заставив себя сначала поразмыслить о новом председателе, попытаться понять его и, может быть, оправдать.
С виду хилый интеллигент, которого я одной рукой мог бы выбросить в окно или подвесить к люстре. Слышал я, что он воевал в Испании, а в сорок шестом снял полковничьи погоны и всерьез занялся экономикой. Экономика и политика были его ремеслом. Говорили о его волшебных руках — с первого прикосновения всюду воцарялся порядок.
С недавних пор я стал замечать постепенное внедрение подобных людей в общество, людей, предварительно хорошо переваривших философию динара и гармонию общественного оркестра. Молчаливые, хладнокровные и непоколебимые, они не умеют зажигать и покорять сердца на митингах, зато в состоянии обкатать огромнейший комбинат и заставить его маршировать под дирижерскую палочку закона. Конкретный порядок они предпочитают абстрактной сознательности. Ненавидят шум и красивые жесты и скорее простят снобизм, нежели анархию. Больше доверяют контракту, чем честному слову. Теплые слова оставляют на особо важные случаи, а гуманизм прогоняют сквозь строй экономической рентабельности и эффективной расстановки кадров. Эти люди способны внедрить у нас шведский порядок, но кому-то все же придется вносить и югославскую страсть. Боюсь, как бы не опоздать со вторым. Если верить слухам, равнодушие стало национальной болезнью скандинавов.
Похоже, время залощенной шапки и широкой партизанской души прошло.
Прощайте, заплаты на штанах секретаря укома! Прощайте, митинги, громкие слова, бескорыстная простота, прощайте, дружеское «тыканье» и даровая работа на одном энтузиазме, прощайте, трудовой подъем масс и парад стихийной радости! Прощайте, открытая касса и пуля за украденную сливу! Ваше время скончалось под скальпелями арифметики и дисциплины. Похороны происходят постепенно согласно церемониалу смены эпох.
Операция удалась, пациент скончался.
Один из членов консилиума, способствовавшего смерти пациента и констатировавшего ее, сидит сейчас передо мной, буравя меня ядовитым взглядом. Я дисциплинированный гражданин своей страны и по призыву ЦК и военкомов вынес бы еще раз все семь вражеских наступлений. Но позволено же мне, черт возьми, не выносить одного председателя уездного совета, ненавидеть его всеми фибрами души. И уж коли я вынужден ему подчиняться, то делать это, стиснув зубы.
— Данила! — снова говорит председатель. — Я вызвал тебя затем, чтоб обратить твое внимание на кое-какие вещи. Начнем с личного. Почему ты не надел выданный тебе костюм? А впрочем, мог бы и сам купить, жалованье ведь получаешь?
— А мне нечего прятать под внешним лоском.
— Но ты же своим неряшеством мараешь и внутренний облик. Твой внешний вид тянет тебя назад.
— А руки — вперед! — огрызнулся я, заметив, что мой тощий хозяин начинает приходить в раздражение. Он явно не ожидал от меня такой прыти, тем более разговора на равных. Чтобы доказать, что дело не в похвальбе, я воскликнул: — К примеру, Лабудовац! Он лучшее доказательство тому, как я надрывался и сколько времени у меня оставалось на внешний лоск!
— Хвалиться тут нечем. Твой Лабудовац — топором срублен.
— Неправда.
— Вскоре мы по плану реконструкции кое-что снимем. А попутно произведем перестановку кадров. Дома-то ты понастроил, а нужники — в огородах, согласно твоей концепции агротехники. На лесопилке никто и понятия не имеет о самоуправлении. Когда я спросил рабочих, что они об этом думают, они только глазами захлопали. Только мужичок с пилорамы подал голос: «Главное — здоровье беречь!»
— Я не агитатор!
— Твоя ошибка в неправильных основах. Возьмем, к примеру, экономику. Чистую арифметику. Я просмотрел дела твоего кооператива с первого дня. Там сам черт ногу сломит. А сколько фальшивок, подписанных твоей рукой. Составлял акты о подарках, обманывал людей, на сборку оборудования израсходовал в семь раз больше, чем следовало, потому что работал без специалистов, сами, мол, с усами. Ты отучил народ влиять на совет, заменив его собственной персоной. Ты создал предприятия, которые в новых условиях не могут существовать без дотаций. Если ты отдашь им и последнюю рубаху с себя, ты все равно не возместишь того, что у них отобрал. Люди боялись тебя и потому не перечили. Ты лез во все дырки, пуская в ход грубость и примитивизм.
— Товарищ председатель…
— Выслушай меня до конца! Ты способный человек, ты мог бы горы своротить, если б тобой управляла твердая рука. Я бы не променял тебя на сотню других. Так вот мы тут решили перевести тебя в город. Приоденешься, отмоешься, подрежешь ногти, каждое утро будешь брить свою щетину и работать под строгим контролем совета. Словом, мы из тебя вытравим примитивизм, заниматься политикой не позволим. Будешь исполнителем. Дисциплинированным коммунистом. Современным гражданином и хозяйственником. А на твой кооператив наложим арест. Чтоб расплатиться с теми, кого ты обокрал… Около ста шестнадцати миллионов. Другого за такие грехи я бы отдал под суд. Тебя не могу, ты был ослеплен фанатизмом. Время дерзких и всемогущих фанатиков прошло. Верховный властитель должен стать так называемым рядовым гражданином и свои личные интересы подчинять общегосударственным. Сейчас отправляйся в Лабудовац, по всей форме сдай дела, приведи в порядок свои личные, а в следующий понедельник явишься ко мне. Ясно? И чтоб я тебя больше не видел в таком виде…
О, небо!
Когда-то на фронте я спокойно выкурил две сигареты, пока над нами с грохотом пролетали немецкие снаряды. Не раз я схватывался врукопашную с солдатом в каске, и мы оба вгрызались зубами друг другу в глотку. Стаи «юнкерсов» целых два часа бомбили нас, четверых, на какой-то безымянной высоте в Сербии. И ни разу я не терял головы. Сейчас я сидел оторопелый, трахнутый лесоломным топором, расколовшим мне череп. Я точно ослеп. Окаменел от неожиданности.
— Можешь идти! — сказал председатель, но я был не в силах подняться.
Сначала на глазах закипели слезы. Неодолимые горючие слезы. Я боялся произнести слово, потому что они хлынули бы из меня неудержимым потоком. Неужели я заслужил такой конец? Ради этого горел на работе? Дрался, голодал, отказывал себе во всем, даже в простом человеческом тепле? Бичевал себя, чтоб закалить для службы людям. Неужто этот человек уполномочен от лица народа с такой легкостью выносить мне приговор?
Гнев вспыхнул во мне.
— Слушай, ты, философ! — процедил я сквозь зубы. — Откуда ты взялся? Наживал в мягком кресле геморрой и хороший оклад, а теперь пришел сказать мне, как мы тут без тебя вкалывали! А где ты был, когда надо было поддерживать энтузиазм в людях, получавших в месяц шесть килограмм кукурузы на всю семью? Где ты был тогда? Писал доклады о высокой сознательности народных масс?
— Данила, ты в своем уме?
— Где ты был, когда женщины впрягались в плуг и проводили первые борозды? Когда надо было перевязывать раны недорезанным детям? Когда все надо было начинать на пустом месте? Когда мы одним топором строили села, а машины существовали только на бумаге? Где ты был, когда мы на госпоставки отбирали последнюю горсть зерна и все же получали голоса на выборах? Все здесь — и этот твой стул — мы сделали своими руками, как сумели… Отчего вы тогда не рассуждали о культуре и бескультурье? Все вы кричали: «Давай, Рамо, давай, сокол!» А теперь… Нет чтобы сказать: «Спасибо, товарищи, не подвели! Тогда иначе нельзя было, но отныне будем работать по-другому!» — вы гремите: «Вахлаки! Невежды! Всех бы вас под суд, одно вас спасает от кары — законы вы нарушали не в корыстных интересах!» Не-ет, не удастся вам меня покарать! И прощать мне решительно нечего. А тебя, драный кот, я хорошо запомню.
— Вон!
— Это я-то? Ха-ха! А ну-ка сам вон отсюда!
В жизни я никого не ударял сильнее.
Уже совсем стемнело, когда меня развязали и выпустили из тюрьмы. Начальник велел мне сразу же отправляться в Лабудовац и там тихо-мирно ждать суда. Переступив порог тюрьмы, я двинулся по шоссе…
Душная темная ночь не давала мне думать ни о чем, кроме как о самом себе. Ходьба постепенно приводила меня в чувство, усугубляя мои страдания, потому что я все острее сознавал, что́ с собой сделал.
Так кто же я
и
что же я в сущности?
«Хе-хе-хе!» — улыбнулся я Даниле Лисичичу, комбату, который с автоматом в руках в четвертый раз пытается бросить в атаку стрелковую цепь. Бойцы, не успев встать, снова падают, и всякий раз двое-трое бьются в конвульсиях, со стонами рвут на себе одежду или скулят, свившись в клубок. А Данила Лисичич стоит, и молит, и просит, и, наконец, приказывает подняться, не жалеть своей головы за свободу, и стоя показывает, что он своей не жалеет…
«Хе-хе-хе!» — улыбнулся я Даниле Лисичичу, который, скорчившись на доске подле бревен для лесопилки, ждет, когда на черном небе прорежется заря, чтоб тут же вскочить и погнать на работу сонных людей. А ведь Данила Лисичич мог тогда лежать на мягком тюфяке подле жены и, обхватив рукой ее стан, предаваться волшебным снам счастливого семьянина, непогрешимого праведника.
«Ха-ха-ха!» — вырвался из меня гогот. Стон. Смешной грязный старик с начальной школой и убогим багажом знаний, духа и вкуса хотел не только шагать в ногу со временем, но еще и дирижировать им, считая, что достаточно уметь махать хворостиной за коровами, чтобы дирижировать симфоническим оркестром.
Так я оплакивал, отмеряя в полночь двадцатый с чем-то километр, какого-то там старика Данилу Лисичича из боснийского захолустья, не сумевшего оседлать славу, потому что он никогда по-настоящему не думал и не заботился об этом. Временами я старался разобраться в этом кошмаре, составить мало-мальски толковый обвинительный акт, но мне это не удавалось. Да и кого, собственно, обвинять? У меня не было высокой ставки, не было никаких доплат, и потому я не чувствовал себя обобранным. Семьи я не завел, и потому мне не придется грустить по хорошей квартире, а несуществующей жене отвыкать от роскоши. Я не теряю никаких льгот и привилегий, так как у меня их нет. Я теряю самого себя. Да еще веру в нашу способность ценить достоинства, что гораздо гуманнее и выгоднее, чем шельмовать недостатки.
Я знаю, как практически выглядит падение, могу представить себе все до мельчайших подробностей — от злорадных ухмылок тех, кого я не жаловал, до дружного равнодушия тех, кто надоедал мне своими заверениями в любви и преданности.
Пятый день сидел я у своего дома, пялясь на пик горы, вонзившийся в солнечное небо. Я все еще был глух и нем ко всему вокруг. Плыл, как труп, по свинцово-белому озеру дня.
У калитки взметнулось какое-то пестрое облако. У меня не было ни сил, ни желания повернуть голову. Я ждал. Вот в поле зрения вошла туфелька. Я сразу узнал гибкие суставы и веретенообразные икры. Моя конторщица села подле меня на траву.
— Товарищ Данила, я пришла проститься.
— Да?
— Выхожу замуж.
Слова ее безучастно прозвенели во мне, как в пустом зале.
— …он судья в городе. Да вы его знаете, Косанчич. Я ему про вас рассказывала. Он говорит, что очень уважает вас и что ваша выходка с юридической точки зрения не такое уж большое преступление, если принять во внимание всю вашу жизнь. — Я и ухом не повел. Она стала закругляться: — А еще я хотела спросить вас… Только не обижайтесь! Вы сейчас в беде. Вам нужны деньги? Я копила для брата, он был в заключении. Но два года назад он погиб. Я могу дать вам, товарищ Данила, шестьдесят тысяч. И пусть вас не заботит, когда вы сможете вернуть…
— Ступай, — сказал я, показав на калитку. — Ступай, мне ничего не надо.
— Товарищ Данила, мне нечем больше отблагодарить вас…
— Ступай! — взревел я.
Она ушла, как и многое другое, что я гнал от себя, стараясь не запятнать отворотов своей совести.
Значит, так,
я, Данила Лисичич,
гражданин своей страны и Организации Объединенных Наций, руководящий работник по профессии, неожиданно скатился к подножию своей служебной спирали. Я не Сизиф, и напасти мои ничтожны в сравнении с тем, что легенды и мифы приписывают этому бедолаге. Я простой смертный, который с верха биографического минарета грохнулся на мостовую. И на старости лет, усталый и разбитый, оказался не у дел и без гроша за душой.
Солдат во мне всегда одерживал победу, крестьянин терпел поражения. Да вот только шкура у них, на мою беду, одна.
Сижу я неприкаянно у своего дома, на пустоши под Лабудовацем. И от нечего делать разговариваю с каждой травинкой. Подмигиваю небу, которое, не узнавая, пялится на меня, ровно дурашливый баран. Почесываю икры, подставляю солнцу спину и изо всех сил пытаюсь превратиться в деревце или в жердину штакетника и — существовать вне времени или уж хотя бы не замечать его. Но оно напомнило о себе, кольнув меня своим жалом. Солнце всадило в череп отвертку и с хрустом и хрясканьем стало ее поворачивать. Я убежал в тень.
И окончательно вернулся в невыносимо тягучее время.
Сплю.
Ем.
Молчу.
Сплю.
И снова сплю.
Спустилась ночь, я сижу у дома, смотрю на проплывающие надо мной созвездия и зову… зову живых и мертвых, просто чтоб убедиться, что я жив и не сошел с ума, я скликаю их, живые приходят, обращают ко мне свои живые лица, иной и сплюнет, и уходят, а мертвые, мои коноводы, пулеметчики, командиры отделений, взводные, серые и безмолвные, проходят мимо меня колонной по одному, совершая свои бесконечные круги в вечности и моей памяти, и только единственный раз вдруг вижу, один из них — забыл, как его имя, —
повис на плетне из романийских сучьев, из раны на груди хлещет кровь, стекает по рукавам, по пальцам, словно хочет напоить постную землю, я кинулся к нему, а он слегка повернулся, озабоченный такой, и сказал:
— Не надо. В мешке запасные башмаки, отдайте Василии… —
и сполз мертвый.
Вот он идет впереди меня, спокойный, усталый и чуть синеватый от холодного ночного неба, а с пальцев его капает кровь, и кажется, будто она струится из-под ногтей. Неожиданно он спрашивает:
— Который час, товарищ Данила?
Я побежал в дом за часами. Когда вернулся, его уже не было, только живая изгородь за плетнем играла при луне своими покрытыми листвой пальцами да издали набегали тихие волны леса. Шепчет ли это Зеленая, или ожили вдруг кроны на умытой ночной свежестью горе, или бессчетная мертвая пехота отбивает шаг на пути к нам, несчастным, — не знаю.
Утро я встретил, все так же сидя на пороге с затекшими коленями, обалделый от бессонной ночи и молчания. Я встал, искупался, побрился, выфрантился, словно на уездное заседание, и заходил вокруг дома, считая шаги вдоль ограды… А потом снова сел на порог. И снова отправился по белу свету.
Сижу.
Какой сегодня день? Понятия не имею.
Насчитал семь тысяч девятьсот сорок один удар ногтем по доске. Жду, когда люди встанут с ног на головы и когда я, совсем обезумев, стану скалиться, как идиот, или выть, словно меня лупцуют призраки. Но вместо всего этого совершенно неожиданно и безболезненно появилась моя конторщица и звонко крикнула:
— Добрый вечер, товарищ Данила!
Внутри у меня все похолодело от страха. Значит, началось.
— Вы что, не узнаете меня, товарищ Данила?
Она подошла ближе, в руках ее была большая дорожная сумка, и я вспомнил, что эту самую сумку она купила в кредит в нашем магазине незадолго до отъезда в город, к своему мужу, и белую блузку, и брошку помню, а вот туфли новые, их не помню. В самом деле это она, милая моя конторщица. Подошла с улыбкой, спокойно встала подле меня; тянет низовым ветром, и он то открывает линии ее бедер, то прячет их… Тьфу, да ведь это и впрямь она.
— Как вы похудели, товарищ Данила!
— Эх!
— Можно присесть?..
Вижу — гора надкусывает кромку солнца, с долин, словно опара, поднимается сумрак. Я весь день просидел одетый, как на парад, выкурил, будто в зале ожидания, три пачки «Моравы», на губах и языке горечь отравы, в спину бьет холодом пустой отчий дом. А рядышком сидит прелестная гостья, чуточку бледнее, чем прежде, мужняя жена; судья — старый холостяк, а ночи долгие… Но, что ни говори, к ее милой простоте прибавились серьезность и спокойствие зрелости, — словом, прекрасный цветок распустился сполна.
Я бегу в дом, выношу подушки, коврик, усаживаю ее, опускаюсь перед ней на колени, разуваю ее, убеждаюсь, что туфли не натерли ей ноги, и снова в дом — ищу, чем бы ее попотчевать… Как на грех, ничего нет! Кроме свежей воды и сигарет. Она засмеялась было над этой разительной переменой во мне, но вдруг осеклась и торопливо сказала — какая жалость, что я собрался уходить. Я тут же успокоил ее, что могу и не уходить.
Она приехала в Лабудовац за справкой.
— …о трудовом стаже, товарищ Данила!
А я должен ее подписать. Роясь в архивах, она опоздала на автобус, придется теперь ночевать в Лабудоваце.
— Ночуй у меня! — говорю я по-отечески строго.
Она мудро прищурила один глаз:
— Вы забываете, что я замужняя женщина!
И давай щебетать о своем добром муже, он, правда, немного скучноват, что поделаешь, замучили собрания да заседания, но, как бы там ни было, он дивный человек, едет скоро лечиться, что-то у него, извините, с простатой, а я на это время поеду к его родным, в Банат, там у него мать — уже слепая старушка, и сестра-вековуха, обе — чистые ангелы, сноху разве что на руках не носят…
Муж, знаете, не пьет, не курит, мебель купили, словом, устроились отлично…
Мы оба служим, работаем с семи до двух, он после обеда опять уходит, видимся только вечером, я ему готовлю чай, он читает, я вяжу, все молчком да молчком, иногда только переглянемся,
вот, собственно, и все…
— А вы подпишите мне справку? Ах, нет авторучки? У меня есть. Жаль, надо возвращаться, темно уже, а здесь так чудесно… пахнет золототысячник…
— Никуда ты не поедешь на ночь глядя. Вон комната. В нише чистое белье, перестели постель, одеяло новое, еще непользованное, ложись, пожалуйста, а я пойду… в клеть или к соседям.
— Не важно, где вы будете, со мной или в клети, все равно пойдут пересуды, а муж у меня ужасно ревнивый… Я уж не раз ревела из-за этого.
— Не беспокойся! С тех пор как меня сместили, кошки и те обходят мой дом стороной.
— Я вам привезла настоящую сливянку. А курицу я изжарила на дорогу, но даже не притронулась к ней… Можем вместе поужинать, а два яблока вам на утро… Хотела подарить вам галстук, но ведь вы не любите, когда вас что-то душит, вот я и купила запонки… Нет, не отказывайтесь, ведь у меня нет никого, кому я могла бы что-нибудь подарить. Пожалуйста!
Она пошла в дом, сказав, что хочет умыться. Я слышал шлепанье ее пяток в прихожей и в комнате, а в ушах звенели слова: «Я купила вам запонки… Нет, не отказывайтесь», потом из дому донесся шум и звон, и меня ожег невыразимый стыд. Что она подумает, увидев мой холостяцкий свинарник, крошки, грязную посуду, непроветренную постель, разбросанное повсюду белье, кучу золы возле холодной печи!
Она долго не возвращалась… словно не решаясь выйти. Наконец встала на пороге, за моей спиной.
— Ужин готов! Прошу к столу!
Она была прелестней света и тепла, которыми наполнила комнату, и я ел и пил, не сводя с нее глаз, умирая от страха, что она уйдет и во мне и в моей унылой берлоге снова воцарится пустота. Она не захотела сесть напротив, а села плечом к плечу со мной, благоухающая, добрая и простодушная. Плечо мое цепенело и сладко ныло от боязни потерять близость ее плеча. Ловко орудуя ножом и вилкой, она расправлялась с куриной ногой. Я нагнулся, поцеловал ей руку и поднес к ее губам стакан. Она не хотела пить, две-три капли упали ей на блузку, но я не сдавался… Она отхлебнула. И даже не поперхнулась. Будто глотнула простой воды. Я налил еще. Половину выпил я, половину — она. Потом она выпила сама, быстро и спокойно, словно молоко.
Пустую литровую бутылку я вышвырнул в окно.
Спотыкаясь, нетвердым шагом она прошлась по комнате.
— Я, пожалуй, лягу… устала. А вы не уходите, умоляю вас, я ночью просыпаюсь от собственного крика, кошмары мучают, я одна боюсь… Не знаю, отчего это, но с тех пор, как я вышла замуж, по ночам на меня находит безумие. Я погашу свет — переоденусь, или… пускай горит, какая разница!
Она раздевалась, небрежно бросая на стул свою одежду. Раздевшись, накинула на себя что-то легкое и воздушное, как дыхание, не глядя подпоясалась белым шнурком и встала передо мной. Босая. Хмельные ноги заносят ее то туда, то сюда, и кто-то невидимый так и тщится подогнуть ей колени. Медленно, несмело запустила пальцы в мои волосы и шепнула:
— Добрая душа!
Она приняла меня с недоумением, стараясь, однако, привыкнуть к моим бокам и плечам и защищаясь от их грубости нежными стенками ладоней, сдерживающих мое нетерпение. Больше, чем во мне, она нуждалась во внимании и защите, и я извивался и съеживался, только б не обмануть ее надежд и своего отцовства, пусть грешного и названого. Она дышала у меня под подбородком, наши ноги сплелись,
я терял рассудок,
дрожал, как побитая собака,
я помнил, как однажды на грузовике среди воняющих нафталином тюков с одеждой для неимущих, я лежал подле этой самой женщины и тогда едва усмирил в себе быка, не позволив ему порвать рогами шелковые нити нежности и скатиться в горячие долины плоти. И тогда она звала, правда, по-другому. Сейчас, пьяная, она не дыша слушала наше молчание, ладони ее прошлись по моим ребрам… Я заранее угадывал начало каждого ее движения. Вот она соскользнула с моей груди, легла навзничь и выдохнула:
— Ведь я ради тебя приехала!
Я пошел по ровному полю на женский зов, удивляясь отсутствию препятствий как во мне, так и вне меня.
Она молчала, пока не убедилась, что я, несмотря на свои внушительные мускулы, нежный и деликатный ухажер и что даже в самые самозабвенные минуты любовной игры ей нечего бояться грубой силы, о которой говорит вся моя наружность. Губы ее убежали куда-то за мое ухо. Хрупкое тело, выйдя из безмолвной настороженности, пришло в движение и принялось за шалости, которые людская злоба назвала бы ремеслом, но я объяснял их детской непосредственностью, с какой этот мудрый ребенок ищет новых форм игры…
…а губы за моим ухом тем временем шептали:
— я врала,
я наложу на себя руки,
он, негодяй, сразу после свадьбы стал мучить меня, несколько невест с досады, что я отбила у них жениха, начали рыться в моем прошлом и распустили про меня слухи… а он все пристает ко мне, допытывается…
а с октября сорок второго до мая сорок четвертого?
а с мая до освобождения Белграда?
а где ты была, когда Данила Лисичич подобрал тебя на Башчаршии?
Данила, милый, сил моих больше нет, он заставляет меня пить, а потом, пьяную, допрашивает, хочет, чтоб я призналась, что была проституткой, что отдавалась всякому, за деньги,
мама у меня была официанткой, а брат торговал опиумом при немцах, ну и, не скрою от тебя, продолжал это дело и после войны, но его посадили… и, я уже говорила, убили при попытке к бегству. …у меня никого нет, а ты знаешь, каково это, когда нет никого близких, а чужим довериться боишься, боишься козней, гадостей, подвохов,
мама умерла, а я поступила на работу,
и попалась на воровстве,
да, я украла, не важно — что, надо было жить, содержать брата, потому что у него дела не всегда шли гладко,
и меня отдали под суд,
я отсидела срок,
и, клянусь покойной матерью, столько раз мне потом хотелось бросить все и вернуться в тюрьму, благо помощник начальника, седой лейтенант, теперь, наверное, майор, прямо расстилался передо мной, уговаривал поступить к ним в управление бухгалтером…
Я уже совсем собралась, я ведь знала, что людское злопамятство настигнет меня в самую трудную минуту… Люди не могут мне простить. Что? Мою вину? Данила, милый, ну так ли уж я виновата? Когда ты в Сараеве на автобусной станции позвал меня в Лабудовац, я по твоим глазам поняла, что ты видишь меня насквозь, знаешь всю мою подноготную и тем не менее говоришь: «И что из того, подумаешь!» Я поверила тебе, и не думай, что я кривлю душой, мне незачем кривить душой, если я потеряю последнее прибежище, мне некуда деваться, кроме как к тебе или к тому лейтенанту, может, уже и майору, некуда идти, пойми! Будь я дурнушкой, будь дурехой, то, поверь, меня жалели бы, и никто не проявлял бы излишнего любопытства. Но ведь они видят, что я хороша собой, что знаю цену и себе и другим, видят, что я не дам поставить себя на колени, я не прошу милости… Нет у меня выхода, Данила! Что делать,
о, что мне делать!
Нет, нет, не вставай, лежи,
муж мой в глубине своей серой души добряк, но он ослеплен ревностью, спаивает меня, бьет, топчет, а потом плачет и целует мне ноги, а потом снова приходит в ярость и начинает душить меня, а раз даже крикнул: «Данила, верно, тоже спал с тобой?»
Тут мое терпенье лопнуло, и в ту самую минуту я решила — буду твоей, умолю тебя пустить к себе в постель, только б отомстить этому негодяю,
даже если Данила плюнет мне в лицо и втопчет ногами в землю,
Данила, что же делать, ведь до сих пор я защищалась, отрицала, оскорблялась, когда меня попрекали ошибками молодости,
а как быть теперь?
Или он убьет и меня и себя, или я раньше сама отравлюсь?!
Брошу его — он станет мстить, распускать обо мне грязные сплетни, как поступают все ревнивцы, и тогда мне конец… И мне, и моим отчаянным попыткам устоять на ногах.
Я пообещал ей, что до утра мы что-нибудь придумаем.
Она успокоилась, обняла меня руками и ногами, ласковая и нежная.
Она то плакала где-то за моим ухом, то всхлипывала от наслаждения и ловко и неприметно учила меня искусству любви, о каком я не мог подумать даже в самых жарких своих крестьянских мечтах, и снова стихала и молила спасти ее. Успокоенная новым обещанием, она вытягивалась на мне во весь рост, а потом, быстро, как собачонка, опрокидывалась на спину и привлекала меня к себе.
Только теперь понял я всю глубину пословицы, что только женщина способна мстить до конца. В особенности своему мужу.
В полном изнеможении она кусала мою руку и лепетала,
Данила,
милый Данила,
как хорошо, меня тошнит от грубости, от страха сойти с ума, когда я вижу руки как волчьи клыки, готовые разорвать меня на куски, а ты… ты такой нежный, такой милый, Данила…
Еще затемно прокрались мы мимо заборов и полевыми тропинками, через сады и кукурузу вышли к центру. Утро застало нас за столиком в кофейне. У обоих был вид отъезжающих, которые в ожидании первого автобуса время от времени перекидываются словечком о плохих дорогах и очередях возле билетных касс. Я сидел спиной к залу, по голосу узнавая всякого, кто, входя, говорил: «Доброе утро!» — или: «Сабах хайросум!»[16] Но я не оборачивался, а входившие не узнавали меня со спины да еще в новом костюме. И только Рамо, подавший нам сначала чай, а потом кофе, нагнулся ко мне и тихонько спросил:
— Как дела, дружище?
Боже упаси, услышит кто… чего доброго, скажет, что вот, мол, Рамо опять якшается с Данилой, кем бы он теперь ни был… Ведь сняли, выгнали и, как знать, может статься, завтра под конвоем поведут через весь Лабудовац в кутузку!
В ожидании автобуса я написал ей справку и заверил кооперативной печатью. Дескать, знаю ее с довоенных времен, как очень… из очень хорошей семьи и т. д. и т. п., и пока я диктовал (заплатил служащему вперед триста динаров), моя бывшая конторщица оторопело слушала мое вранье. Когда я проставил еще и номер своей медали первоборца, она стыдливо опустила глаза. Такой жертвы она от меня не ожидала.
Справку я положил в конверт и сунул ей в сумку.
У автобуса она украдкой всплакнула и, договаривая остальное глазами, твердо сказала:
— Если я вам понадоблюсь, товарищ Данила, только напишите!
Уехала.
С шапкой в руке иду серединой улицы, справа и слева ползет, бежит, кричит, переговаривается и матюкается мой Лабудовац, я иду по колее, проложенной в пыли коваными колесами телег, и меня ест стыд, мне стыдно, люди, что я сотворил его таким, не поселил в нем никого, кто хотя бы сквозь зубы процедил: «Доброе утро, товарищ Данила!»,
никого, кроме милой, несчастной конторщицы. Но последняя ночь заронила в меня такое сомнение, что я в сердцах срываю и эту тряпицу нежного бальзама и спрашиваю: а может, она с кем хочешь переспит ради подобных документов?! Я гоню сомнение, но оно стоит во мне, как незыблемый черный пик, источающий яд и отраву.
Вконец отравленный, подошел я к дому и, чтоб глаза мои не видели неба, сел на порог и захрустел пальцами.
Придет ли конец моим мукам?
Шарац стал спотыкаться. Пора Марко двинуться на Ровины[17].
В утробе что-то гниет и болит, хотя пищеварение у меня, слава богу, в порядке. Чуть бы постонать! Много нельзя, не позволю себе, было бы бесчеловечно еще и мне перегружать мембраны ближних. Да и смысла нет. Ведь мембраны у них такие толстые, что их ничем не проймешь, и потом ближние умеют просто затыкать уши пальцами.
Я жду повестку из укома. Надо подвести черту под последней главой моей биографии, биографии Данилы Лисичича. Короче говоря, жду вызова на парткомиссию. Слишком громкий скандал, чтоб пройти мимо такого факта. Что ж, мне это не впервой. Уж я-то видал виды! И все же, согласитесь, дело дрянь, когда на вас взвалят мешок грехов, а заслуги сведут к размерам просяного зернышка.
Сколько уж дней сижу один! С тех пор как меня сняли, друзья куда-то запропастились. Умирая, я не скажу: «Берегите Югославию!» Последними моими словами будут: «Товарищи, не допускайте, чтоб вас сняли! Вооружайтесь добродетелями, в первую очередь терпением, если дело дойдет до резкого спора с председателем уездного совета. Раз не принято, чтоб председатель давал пощечины избирателям, так тем более нельзя избирателю давать пощечину председателю. Я сделал это. Поэтому меня и сняли. Итак, товарищи, не позволяйте себе такой роскоши, за которой следует смещение. Останетесь без друзей. И без почитателей. В один прекрасный весенний или летний день окажетесь, как и я, на лугу у своего дома и станете беседовать с муравьем, с травинкой или с глухим небом, а от вопроса, что лучше — пуля, стрихнин или омут на Зеленой, к вечеру у вас ум за разум зайдет. Потому как меня не просто сняли, нет, после полного курса архитектурной академии жизни меня низвели до степени сопляка, не знающего даже того, что оплеуха законом исключена из правил поведения. Даже если речь идет о щеке председателя уездного совета».
Обязанности более живучи, чем справедливость.
Вместо повестки из укома я получил записку от доброго, вечно хмурого Дойчина, председателя общины, написанную огромными буквами-растопырами, что твои рваные опанки:
«Дорогой Дане,
я, слава богу, жив-здоров, а как ты? Вчера звонили из укома, велели тебе прийти, хотят поговорить с тобой о том, ну да ты сам лучше знаешь — о чем. Только прошу тебя, старый мой боевой товарищ, пожалуйста, не распускай язык. Тихо, смирно выслушай, что скажут тебе товарищи, скажи «понял» и налево кругом марш. Молчи и делай так, как положено по директиве, а не как тебе хочется, дурачина ты старый. И как это тебя угораздило ударить хорошего человека и руководителя? А тебе бы понравилось, если б лысый Сима с пилорамы дал тебе по зубам? Я говорил товарищам, что ты ужасно переживаешь, и они это примут во внимание, а ты не бунтуй, государство не твоя вотчина, ты солдат единой армии и должен стоять пятки вместе, носки врозь и слушать приказ, а ежели в чем не согласен, на то есть конференции и собрания. А теперь давай умойся, оденься и причешись, знаешь ведь, что председатель не любит, когда к нему в уезд являются небритыми. Ежели денег нет, приходи в совет, выпишем тебе дня на два, на три командировочные, на табак и харчи хватит, а ночевать можешь у моего брата, его взяли в наставники к допризывникам, хотя я так думаю, что он и разграфить бумагу путем не умеет. Так вот, завтра к девятичасовому автобусу чтоб был вылощен и подстрижен. Не вздумай увильнуть, не то пошлю к чертовой матери и тебя, и всю нашу старую, закаленную в боях дружбу. С товарищеским приветом. Дойчин».
В восемь я был уже в Лабудоваце.
Из кооперативной сапожной мастерской вынес треногую табуретку, сел и застыл, чтоб, чего доброго, не измять отутюженные брюки. Снует по своим делам на улице население моего города. Кто здоровается, кто так проходит. Но все без изъятья через несколько шагов оборачиваются взглянуть еще разок на невиданное чудо:
Данила Лисичич расселся, что твой господин турист на площади, и ждет автобус. Что-то это значит? Может, ему простили оплеуху председателю? Да еще повысили в должности? Или он просто выдрючивается перед тем, как сесть за решетку?!
Я наглухо закрыл все окна в своей душе, а на дверях своей совести написал: «Закрыто на учет!» — как-никак еду на парткомиссию. Подождут. Вот вернусь из города, тогда и посмотрим, как и что. А до тех пор — никаких заявлений. Только попрошу кого-нибудь принести мне стакан воды с куском сахара. Всю ночь я пробродил по полям и лугам вокруг Зеленой, курил и сам с собой рассуждал о себе и о предстоящей комиссии.
Стакан воды с куском сахара от Лабудоваца за десять стаканов моей крови и десять лучших лет жизни!
Но Лабудовац проходит мимо меня с таким же равнодушием, с каким немка-туристка проходит мимо партизанского кладбища. Ни на одном лице не вижу я готовности принести мне стакан воды с куском сахара. И это в городе Лабудоваце, в фундамент и стены которого я вложил свое здоровье и десять горячих, страстных лет.
По тротуару запылил мусорщик. Попросить его перестать? Но он меня видит. Видит, что облака пыли приближаются ко мне. Подумаешь! Он уже слышал, что его жалованье от меня больше не зависит. И мстит за то, что он мусорщик. И потому, что мусорщик.
Он подходит, взмахивая метлой равномерно, словно косарь на пожне.
Я подозвал его. Он подошел. В глазах лютая ненависть.
— Слушай! — говорю я. — Ты что, не видишь, что я здесь сижу?
— Вижу.
— Ну?
— А ты не видишь, что я на работе?
— Браво, работничек! — воскликнул я и перешел на другую сторону.
Он победоносно ухмыльнулся, разом отомстив за все обиды, какие принесла ему жизнь. А вечером еще и напьется, прославляя свой подвиг — свой запоздалый бунт. Но я-то помню, как, вернувшись из тюрьмы, где просидел целых семь лет за ограбление мусульманских беженцев в сорок втором году, он целовал мне руку, обильно поливая ее слезами, — только б я взял его на работу. Я едва упросил Дойчина поставить его туда, где он был и до войны, и при усташах, и при четниках. То есть опять сделать мусорщиком.
Стакан воды и кусок сахара!
Он с удовольствием бросил бы мне в рот горсть стрихнина.
Итак, сижу я на корточках подле магазина, каждый кирпич которого прошел через мои руки. Вдруг из дверей высунулась голова с карандашом за ухом.
— Отойди от витрины, Данила! Тут тебе не автобусная станция.
Прежде, когда, бывало, я вот так же присаживался, он выбегал составить мне компанию. Даже кофеек заказывал. И все твердил, как, мол, приятно посидеть у нашей лавки, выпить кофейку с хорошим человеком и руководителем и потолковать об умных вещах.
— Ладно, ладно, — прошу я прощения. — Ухожу.
А он щерится мне вслед. И с порога говорит кому-то внутри:
— Нашему крестьянину хоть кол на голове теши, все одно будет сидеть на улице.
Стакан воды и кусочек сахара!
Только этого я, Данила, который всю свою кровь до последней капли отдал этому анемичному захолустью, прошу от него. Теперь оно рассчитывается со мной. Спасибо! Платит черной неблагодарностью за свое счастье, памятуя лишь о том, как я бичевал его ради того, чтоб оно перестало быть захолустьем. Так дети помнят отцовскую порку, напрочь забывая обеды, ужины, одежду, обужу и проведенные в заботах о них бессонные ночи.
Мир движется не по кругу, а по краям треугольника. На углах сидят святые, родители и избранные руководители. Я из тех, кто срывается на поворотах, подчиняясь какой-то внутренней силе движения или просто чьему-то мощному пинку, отбрасывающему меня с перспективной прямой.
— Пишите, товарищ Сека, заголовок: «Протокол: слушали дело Данилы Лисичича, члена Союза Коммунистов с…» Данила, с какого ты года в партии?
— С сорок первого, если не считать два исключения во время войны, за которые передо мной тут же извинялись и снова принимали, товарищ секретарь!
— …Итак, «члена СК с сорок первого, месяца…». С какого месяца, Данила?
— Э э, товарищ секретарь, было это во время нашей первой атаки на Чаниче, это я хорошо помню, я приказал отделению отдохнуть за домом твоего отца, а сам себе разговариваю и курю со стариком, ты же, товарищ секретарь, босой и безусый, трясешь орехи и косишься на нас, вооруженных усачей. А комиссар позвал меня и говорит: «Давай-ка, Данила, примем тебя!» Должно быть, ноябрь стоял.
— …товарищ Сека, итак, в неустановленный день, в ноябре месяце тысяча девятьсот сорок первого года, в скобках пометьте: приблизительно. Так! Что ты уже записала? «Протокол: слушали дело Данилы Лисичича, члена Союза Коммунистов с ноября тысяча девятьсот сорок первого, который, находясь на посту руководителя земледельческого кооператива в Лабудоваце, община Лабудовац, занимался спекуляциями и незаконными делами, а также ударил (в скобках — дал пощечину) члена укома, председателя Народного совета уезда, товарища Н. Н. Присутствуют: обвиняемый Данила Лисичич, два члена укома, оргсекретарь и пострадавший. Примечание: поскольку вышеупомянутый Лисичич является членом общинного комитета партии, он обязан отвечать перед уездным комитетом, который предложит на обсуждение его первичной организации меру наказания. Первый вопрос: товарищ Данила, расскажите, как и почему вы обманули министерство… в сорок пятом году в связи с приобретением машин для лесопилки?»
— Послушай-ка, товарищ, в комитетах обычно предлагают стул и тем, кого принимают, и тем, кого исключают.
— Замечание уместно, но тон недопустимый. Садись, Данила.
— Спасибо, могу и постоять.
— Садись!
— А ты, друг, не кричи на меня, я не со вчерашнего дня ношу под мышкой партийные прописи. А если б и со вчерашнего дня, все равно не имеешь права!
— Ладно, ладно, ты будешь отвечать?
— Товарищи, лесопилка работает, и того, кто посмел бы ее стереть с лица земли, сочли бы вредителем и, наверное, расстреляли. Так неужели теперь я должен быть наказан за то, что ее построил? Она существует уже целое десятилетие, значит, ее признали все выше- и нижестоящие организации. Десять лет ее вносили и в союзные статистические отчеты, у нее брали и ей давали. И никому не приходило в голову задавать такие вопросы, товарищ секретарь. А ты раздуваешь дело из-за оплеухи ради того только, чтоб набить цену себе и всему разбирательству, чтоб показать свою бдительность, чтоб представить эту оплеуху закономерным следствием моей политической незрелости и взвалить на меня все смертные грехи. Пойми, в свое время за создание лесопилки я был награжден, а за находчивость, которую ты сейчас окрестил спекуляцией, меня премировали и хлопали по плечу чины повыше вашего. Не с того ты начал, товарищ оргсекретарь!
Будь я сейчас на твоем месте, я подошел бы с другой стороны. Скажем, я спросил бы тебя — как можешь ты присваивать себе право называться борцом за нового человека, когда сам ты отнюдь не идеальная личность? Дома нет, жены нет, детей нет. Как можешь ты понять людей, которыми руководишь? Так бы я начал… Правда, товарищ секретарь, в настоящий момент мы оба без кола, без двора. И одному богу известно, как люди слушают нас, если мы не понимаем того, что ближе всего человеку в мирное время: семья и дети! Как можем мы управлять обществом, когда в сердцах наших нет места для его основной ячейки! В этом смысле оба мы одного поля ягода. Поэтому я, как старший и более опытный, дружески советую тебе начать расследование с какой-нибудь другой стороны. Иначе, боюсь, тебе самому плохо придется. Ты еще молод и не очень-то опытен по части допросов. А ведь мы уж не раз отвечали перед парткомиссиями, так что собаку съели в подобных разбирательствах…
Товарищ председатель улыбнулся, наверняка язва или катар желудка не позволили ему от души расхохотаться, погасив его смех в самом зачатке.
— Хорошо, Данила, а ты знаешь, где находишься? — спросил он, прижав кулак к животу.
— В уездном комитете.
— А знаешь, почему?
— Ну, я слышал заглавие протокола. Однако я, товарищ председатель, должен заметить, что прежде всего следовало бы спросить с тебя, почему ты мой десятилетний каторжный труд на благо родины назвал примитивизмом, запугиваньем, тиранией. Тогда бы и пощечина, за которую я, вовсе не из страха, извиняюсь, объяснилась бы. Я заранее знал, что встречу здесь враждебность и полную непримиримость к моим делам и поступкам, и потому заявляю: я пришел не ответ держать, а поговорить о себе. Если, конечно, вы согласны. И когда мы таким путем установим мою вину, ну, тогда бог с вами, делайте, что хотите. В противном случае — нет! И не трудитесь сбить меня с толку громкими словами о требованиях времени… Я стал коммунистом не в угоду обстоятельствам и тогда, когда это было абсолютно нерентабельно. И сидел я, бог мне свидетель, перед комиссиями, у которых из кобуры торчали дула, готовые по-солдатски наложить партвзыскание. А вы по сравнению с ними божьи одуванчики, такие нежные и душевные, что так бы вот и задушил вас в объятиях…
— Товарищ Сека, на сегодня вы свободны, можете идти! Протокол вести не будем. Садись, Данила! Та-ак! Ну а теперь, Данила, скажи честно, как ты мог позволить себе такую выходку?
— Можно закурить?
— Кури. Хочешь нишскую, с фильтром?
Закурили. Товарищ секретарь сделал затяжку, медленно выпустил синий дым и вслед за ним пошел вить нескончаемую нить из обкатанных слов обо мне и о нас, о нем и о товарищах, о товарище председателе и моем земледельческом кооперативе, о моей бороде и грязных рубашках, о моих прегрешениях перед народными массами — с одной стороны, и вышестоящими организациями — с другой. Счастье еще, что товарищ секретарь не начал с первого вражеского наступления, так как в партизанах был лишь с третьего, да и вообще не страдает нашими незаживающими ранами.
Затем завел волынку о нашей социалистической законности и облике коммуниста — современного хозяйственника,
а я все это знаю,
и все мы это знаем,
и все знаем, что все знаем,
и все же говорим. Иную истину, как видно, надо без конца повторять, хотя бы ради тех, кто из ослиного упрямства бравирует короткой памятью. Голосовые связки секретаря жужжат, как далекий пропеллер, нагоняя дремоту; жаль мне его, просто из кожи вон лезет человек, стараясь мое щербатое сознание обогатить логикой и облагородить принципиальной самокритикой. Но я быстро понял, что мы бесконечно далеки друг от друга, что нас разделяет река лет, через которую нам никогда не перекинуть словесный мост, траверс взаимопонимания, по крайней мере на сегодняшний день мне это не под силу,
и я прерываю водопад слов в ушные раковины и пускаюсь бродить по своему духовному муравейнику,
и вдруг —
вот так-так —
утром, проходя по главной улице, в сквере перед гостиницей я увидел женщину… Коричневая дорожная кофта, два чемодана, пухлая дорожная сумка, на голове белградский платок, до боли знакомый профиль. У меня даже под ложечкой заныло.
Кто она?
Неужели?
Да нет же, у моей маленькой конторщицы светлые волосы, она ростом пониже, да и живет здесь, в городе, чего ей стоять с вещами в гостиничном сквере?
Неужели?
Нет, Дара шире в бедрах, да и те двое суток, когда я гулял по Илидже и Паламам и спустил двадцать тысяч кооперативных динаров на позор себе и своим сединам, эти двое суток не только не отшибли у меня памяти, а, наоборот, настолько обострили ее, что я бы вздрогнул, как кассир, услышавший во сне звон тюремных ключей. Значит, не Дара.
И не Даница.
Даница ведь черноволосая и высокая, мне под стать, ой-ей-ей, где она сейчас, муж — аппаратчик, дети пошли, как муравьи…
— …я думаю, товарищ Данила…
а я как раз ничего не думаю, товарищ секретарь, я только слушаю, как капают минуты, горячие, словно вар, я знаю, чем все это кончится, и уж думать про вас забыл. А та женщина сидит у меня где-то под ложечкой…
— Извини, товарищ Данила, но ты должен понять, что твоя выходка имела и политические последствия, не говоря уж…
Да, товарищ секретарь, лучше уж не говорить, лучше, благо все мы без шапок, минутой молчания почтить мое членство и разойтись. А то и раздавить бутылочку — по нашему доброму старому поминальному обычаю! Ладно, расстанемся по-хорошему; при встрече будем дружески здороваться, не важно, что сквозь зубы, ведь справедливость превыше всего! Даже если протокол вопиет раньше осужденного. Вот что я сказал бы напоследок…
— Итак, товарищ Данила? — спрашивает секретарь.
— Итак, Данила? — спрашивает второй член комиссии.
— Итак? — спрашивает третий член комиссии.
— Итак, товарищи…. дайте, пожалуйста, стакан воды!
— Та-ак! Ты слышал наше мнение. Что скажешь?
— Ничего!
— Как это ничего?
— Вы же, товарищи, подробно и основательно разобрали мое дело. Спасибо вам. Мне нечего добавить.
— В таком случае…
— В таком случае…
— Ну?
— В таком случае можно на этом закончить! — вздохнул с облегчением секретарь. — Мы предложим твоей организации обсудить твое поведение, а наша позиция такова — исключить из партии с правом вступить вновь, поскольку у тебя имеются все возможности для дальнейшего роста. А теперь о твоем новом месте работы…
Так организационно мы и расстались — я и КПЮ. Через четырнадцать лет сосуществования ее железных принципов и моей полной неспособности держать руки по швам даже тогда, когда это лучше и для меня и для других.
Клянусь жизнью, что касается меня, то я расстался с ней только организационно!
Но ведь я не радикал и не щенок, забывший материнскую титьку, чтоб равнодушно отойти от КПЮ!
А плакать не позволяет мой гордый крестьянский хребет.
Раздираемый самыми противоречивыми чувствами — горный вол и тот бы ноги протянул от таких терзаний, я все же украдкой плачу. По себе. По тому Даниле, каким я был прежде. Я был шариком, устремленным к звездам. Но от спешки и трения перегрелся, шлепнулся в слякоть и погас.
Так!
Опять один.
На сей раз — тотально.
Томлюсь на базарной площади, подпираю спиной фонарный столб, который стоит здесь, как говорят, еще с турецких времен. Смехота — люди поставили его, чтоб светил, а он всегда только и делал, что подпирал разных горемык, которые, не будь здесь фонаря, валялись бы на мостовой. Поддерживая людей, сам он малость скособочился. Теперь я знаю. Вижу. Те, кто искал в нем опору, устраивались так, чтоб видеть всю улицу, со всеми ее входами и выходами. За спиной у них была серая стена бывшего суда, ныне — отдела социального обеспечения.
Надо было подойти к гостиничному скверу. Увидеть эту загадочную женщину. Мое сердце никогда не екает от третьеразрядных воспоминаний. А сегодня утром оно взвизгнуло, как стреноженный жеребенок. Надо идти. Но я все еще никак не могу привыкнуть к своей новой роли. Да и ноги мои не внушают доверия, — того гляди, перестанут быть гибкими, послушными вертикалями.
Из кофейни, на которой начертано «Буффет», вывалился крестьянин, без шапки, всклокоченный, расхристанный, и крикнул в небо:
— Эй, господи, сойди, померяемся силой!
Пошатываясь, вошел я в «буффет», чтоб заменить приятеля, вызывавшего бога на единоборство. Из второй стопки выплыла женщина в гостиничном сквере. Выплыла, улыбнулась и спросила:
— Ну как ты, бедный мой Данила?
Я проглотил ее вместе с ракией. Но она появилась и с третьей стопкой.
Качаюсь, как Тихий океан, в калитке летнего сада «Рахат-лукум». Я сказал себе: «Стоп!» — и тут же остановился, вспомнив, что надо войти прилично… Это вам не шуточки — войти так, чтоб себя не уронить. И я начал читать себе нотацию: если ты тот Данила, старый волк и гайдук, который… который…
Гей, вы, молодая поросль, на колени, я буду перечислять свои подвиги!
Итак, если ты тот самый, то выше голову, глаза наполни тьмой невысказанных бед, наклони молодецкие плечи, будто они держат на себе хотя бы один столп из тех, на которых покоятся небеса нашего будущего, одари этот мелкий мирный люд за столиками царственным взглядом, полным сочувствия и презрения, и крикни с порога:
— Где министр общественного питания? Ну-ка обслужи меня!
И потребуй, чтоб официант составил два столика. За одним ты будешь пить, на другом пусть отдыхает твоя шапка. Она это заслужила, принимая во внимание, какую она голову покрывает.
Если ты не этот, а другой Данила,
тот, что возвращается из укома, где его, старого партийца, из-за паршивой оплеухи торжественно объявили вне партии, наперед заготовив рекомендацию первичной организации в Лабудоваце, которую она, безусловно, примет единодушно, да еще с аплодисментами, итак, если ты этот Данила, то переступи порог, пройди, ни на кого не глядя, в угол, сядь, спроси литр ракии и запиской заказывай цыганам песни, и каждая третья будет:
Моя дроля беспартийная, жду тебя я каждый день…Эту песню в Подринье поют и партийные и беспартийные, когда немножко захмелеют,
и помалкивай о том, что тебя вышибли из строя, ибо в утешители к тебе набьются те, кого ты, подметая в конце войны персональные дороги наши, чуть было не расстрелял. Да и теперь вздернул бы на казенных орехах вдоль дороги, если б не директива — не копать дел, не отдающих кровью. И когда ты, дролечка моя беспартийная, напьешься до бесчувствия, официант оттащит тебя за стойку, где свалены бутылки из-под пива, ящики и мокрые тряпки, и здесь ты проспишься. Встанешь ни свет ни заря, спустишься на Зеленую, и на ее берегу выплачешь и похмелье, и тоску. День будет улыбаться все шире своей светлой улыбкой, превращая все вокруг в пустынное белое море форм и очертаний, а ты снимешь свою медаль и спрячешь ее в карман, чтоб злые языки не говорили, что ты хочешь напакостить властям, выбросившим тебя из партии.
Если ты не этот, а другой Данила,
рано поседевший Данила Лисичич, с ломотой в костях, по профессии землепашец, который чист перед богом, царем и всем светом и под конец молчит, не поминая о том, что он отдал им и чего не сумел взять взамен,
войди, прошмыгни незаметно,
поздоровайся с официантом, спроси вон того вкушающего господина, свободен ли третий от него столик, выпей чаю, вытащи из-за пазухи затерханную десятку, отдай ее официанту, а потом ускользни из кофейни, и дуй к шлагбауму, и жди там попутку, — может, какой шофер и пустит тебя на верхотуру — на бревна или доски, все подешевле, чем билет на автобус.
Если ты не этот, а другой Данила,
в котором вся троица вместе,
тогда входи, черт тебя подери, чего стоишь, как истукан, входи смелей, товарищ сложный гражданин бедняцко-крестьянского происхождения, сядь как положено, закажи три бутылки минеральной воды, выпей и спокойно и культурно вернись в Лабудовац, собери свои пожитки и — айда на новую работу, как предписывает директива. А ну входи, чего качаешься тут людям на смех — уж сотни глаз за столиками глядят на тебя…
Входи!
Я иду, но бетонированная дорожка в саду, ведущая к столикам, у́же каната покойного канатоходца Арифа Тамбурии, и я то и дело топчу шелковую траву, выросшую и подстриженную точно по ранжиру. Стало быть, трава эта не югославского роду-племени, делаю я на этом основании вывод, и потому ее не грех и помять. Иностранцы нас больше топтали.
Я брякнулся за стол и крикнул официанту:
— Позови-ка моего коллегу, беспартийного директора! — и принялся втолковывать ему, что ежели мы с его директором оба беспартийные, это еще не значит, что я забыл, как он со своим зеленым легионом устраивал нам засады, и что я и сейчас еще, если только выложу прокурору все, что знаю, могу отправить его лет на десять для моральной и идеологической переподготовки в какую-нибудь обнесенную каменной стеной колонию. Но сегодня я добрый и раскисший от слез и потому всем беспартийным на белом свете прощаю все грехи, за исключением, разумеется, лиц, повинных в прошлых и будущих войнах и резне.
Официант терпеливо выслушал, потрепал меня по плечу, должно быть, он тоже принадлежал к числу тех, кому я что-то простил, удалился и ровно через минуту принес мне жаркое, литр воды и две пачки «Моравы».
— Вот, братишка, тут все, что ты заказывал!
— Разве? — удивился я и взял вилку. Но только я откусил хлеба, как увидел ту женщину,
и, о, господи, уж не галлюцинация ли это? Женщина, которую я видел утром, все еще сидит. Не отрывая глаз от привидения, я проглотил неразжеванный кусок хлеба и выпил полстакана воды в надежде, что оно исчезнет, как только утроба моя начнет переваривать еду. Однако привидение и не подумало развеяться или исчезнуть. Ничего подобного, оно все больше сгущалось, превращаясь в милый, давно забытый образ.
Женщина некоторое время выдерживала мой взгляд и вдруг отвернулась. Я заметил, что привел ее в волнение. Вот она снова взглянула на меня и, видно, неприятно пораженная тем, что я по-прежнему пялюсь на нее, опять отвернулась, задвигала под столом ногами и забарабанила пальцами по скатерти.
Я бросил свой обед, вскочил и — вытянулся перед ней.
— Малинка! — тихо сказал я.
Она посмотрела на меня, как на бессовестного наглеца — с беспокойством, недоумением и неприязнью. И огляделась по сторонам, как бы взывая о помощи к трезвым. Однако все же постепенно возобладало любопытство — откуда я знаю, как ее зовут? Она мучительно старалась узнать меня или придумать какой-нибудь способ вежливо прогнать меня от столика.
— Скажи мне только, ты Малинка? Больше мне ничего от тебя не надо.
— Да, я Зора Максимович, прозванная Малинкой когда-то давно… в одном батальоне.
Я повернулся и потопал к музыкантам. В этот воскресный день они нежились на солнышке и только временами брались за инструменты — лишь бы не говорили, что они ни за что получают жалованье да еще даровой стол и квартиру в придачу. Я схватил за пиджак аккордеониста, скрипача — за жиденькие бицепсы и потащил их… опрокидывая на пути столики… Ну и пусть летят, сейчас мне не до них! Я приволок музыкантов к столику Малинки и крикнул:
— Для этой дамы, в честь ее приезда в наш вшивый и занюханный уезд, сыграйте «Гей, славяне!».
Капельмейстер заартачился, аккордеонист пригрозил сделать из меня отбивную, я кого-то саданул, прибежал официант и, не решаясь вступать в неравный бой, залебезил передо мной — сядь, мол, ради бога, он сам упросит их сыграть. Откуда-то появилась чернявая женщина с мешками под глазами, вероятно, от застарелого сифилиса, зашипела мне в ус, дескать, я не знаю, как это мне дорого обойдется… В конце концов я вышел из себя, схватил стул, поднял его и крикнул:
— Будете играть наш и польский гимн, свинячьи рожи? Хотел бы я посмотреть, родился ли на сербской земле такой, кто не послушается моего приказа!
Вижу, по саду бежит официант, за ним — два милиционера, один — в чинах, второй — с резиновой дубинкой, официант на бегу распаляет их служебный гнев, милиционеры приближаются, я готовлюсь к кулачному бою.
И вдруг один из них, тот, кто в чинах, раскинул руки и бросился целовать меня — ну точь-в-точь как мы обнимались и целовались в сорок пятом, разумеется, те, кто, благодарение богу, остались целы и невредимы. Старшина Стаменко, коновод в моем батальоне, лучший и храбрейший коновод на свете, хлопал меня по плечам и что-то кричал. Я стал разбирать слова, только когда он перешел к делу.
— Что случилось, товарищ командир? Что за нелады у тебя с общественным порядком?
— Смотри, Стаменко! — кричу я. — Ты узнаешь эту женщину?
— Не-ет… Имею честь представиться, старшина Стаменко Митрович, начальник здешнего отделения милиции.
— Это Малинка из третьей роты!
— Малинка? Неужто ты?..
— Она самая. И я приказал этому собачьему отродью в честь Малинки сыграть «Гей, славяне!», а они, видите ли, не желают!
— Зачем же, дружище, гимн? Гимн исполняют на высшем уровне!
— Стаменко, а бывает уровень выше ротной санитарки? Той, что шла вместе с нами на фашистские бункеры, перевязывала раны, поддерживала нас, мужиков, когда мы падали от усталости на дорогах, по которым она, кстати, шла вместе с нами! И опять же, иногда рожала в лесу будущих героев… И никому не жаловалась. Ни парткомиссии, учинявшей ей допрос, когда она была в тягости, ни комиссарам — ведь о любви на войне говорили мало, ни собесу — тогда его еще не придумали. А теперь скажи мне положа руку на сердце, есть уровень выше ротной санитарки?
— Между нами говоря, товарищ командир, нет! Нет, черт подери, ничего выше наших женщин на всем белом свете нет…
— Так почему они не играют?
— Ты не заплатил, — вякнул капельмейстер.
— Врешь! — вскипел я. Маленький цыган, испугавшись моих кулаков, потемнел в лице и отскочил в сторону. — И представь себе, Стаменко, они хотели избить меня. Скажи-ка им, Стаменко, какой у меня удар. Помнишь, как я воеводу огрел оглоблей промеж лопаток? Доктор так и щелкнул пальцами. Каюк! Так-то, брат. Лучше пусть сыграют!
Стаменко повернулся к музыкантам, заложил руки за спину, прочистил горло двумя-тремя «гм-гм» и начал речь:
— Товарищи музыканты, что за паника? Панике не должно быть места в нашей стране. Никто не посягает на вашу гражданскую свободу и неприкосновенность. Но уж коли вы по забегаловкам бренчите всякую мещанскую белиберду для разных подонков, то отчего бы вам не сыграть «Гей, славяне!»? Сыграйте, от души вам советую, не выводите меня из терпения, не то не придется вам больше пропагандировать ваши отсталые песенки из репертуара вчерашних буржуев и бегов, которых вы тут по вечерам ублажаете. Играйте! Играйте, или я попрошу предъявить разрешение на июль месяц сего года!
Мы прослушали гимн, вытянувшись по стойке «смирно».
Малинка — растерянная, в полном отчаянии. Никак не поймет, что же тут происходит.
— Свободно? — спросил я.
И пока Стаменко выпроваживал музыкантов, успокаивал официанта и исчезал из моих органов чувств, я как можно учтивее сел за Малинкин столик.
— Вы мне объясните наконец!.. — сердито прошептала она.
— Позвольте представиться. Данила Лисичич.
— Что-о? Данила, так это ты? Данила, дорогой, это просто невероятно!
И Малинка заплакала. Слезы текли все сильнее, она зарыдала в голос. Я глажу ладонью ее белую рученьку. Она смеется, всхлипывает, слезы льются, как ручейки дождя по оконному стеклу, уже и я, старый, линялый деревенщина, ширкаю носом, не в силах совладать со своим сердцем. Слова не можем сказать. Да и что скажешь? Четырнадцать лет не виделись — две стрелы, летевшие когда-то к солнцу, опьяненные близостью звезд. Там, в заоблачной вышине, пути их скрестились, а потом они рухнули, вонзились в землю, заржавели, и вот снова встретились.
Волнение отрезвило меня. Все лучше вижу я Малинку… Из больших черных глаз вытекла молодость. Погасли искристые огоньки. Смотрю я на них сквозь слезы и согреваю душу свою подле этих теплых милых очагов. Кое-что все же осталось от прежней Малинки. Узнаю ее говор, слова так и бегают по плотным рядам зубов. И беспокойные ресницы, перед которыми
батальон парней, волков солдатских,
стыдливо опускал глаза,
узнаю ее крепкую высокую грудь, которую каждый солдат дважды за ночь видел во сне, а утром испуганно озирался вокруг — не разгадал ли кто его сон, он бы скорее умер, чем осрамился на собрании батальона.
Малинка, веселая непоседа, после знамени лучшее украшение и кумир батальона, увяла, как вянет все, на что обрушивается непогодь или косит под корень мороз. Так мне, по крайней мере, казалось…
Спрашиваю, где она жила после войны. Она приминает пальцами крошку на столе:
— Ты же знаешь, Данила, как все началось,
гимназистка, скоевка, в альпийских башмаках и спортивных брюках ушла к партизанам с папиным рюкзаком на спине, термосом и зубной щеткой. И, конечно, появился Он. Он, идеал девичьих грез, уже через месяц стал беречь ее от колючей проволоки и торчащих из бункеров дул, оставляя позади стрелковой цепи, а от своих охранял приказ — относиться к девушкам как к сестрам, иначе расстрел!
И Он, командир, твердо убежденный в том, что она и в самом деле прелестнейшее создание передового человечества, поклялся, что женится на ней и будет верен ей до гроба — честное слово, товарищ Малинка, не сойти мне с этого места, если я тебя обману!
И они поженились, хотя партийная ячейка дала согласие со скрипом, а комиссар, благословляя их, пригрозил — только, чур, без детей!
Малинка говорит, а я припоминаю:
трое мальчишек из второго взвода стали после этой невеселой свадьбы еще молчаливее и на бункеры бросались еще яростнее. Приносили жене командира разные трофейные вещицы — пускай выберет себе часики, какие ей нравятся, пистолет, какой ей больше подходит. А однажды, после налета на окраину города, притащили целый мешок женского белья. По ротам шептались, что убили вполне лояльно настроенного торговца, но командир счел это несчастным случаем, что на войне не редкость,
не можем же мы, черт возьми, оберегать от пуль всякую шушеру, на войне как на войне, лес рубят, щепки летят.
За мародерство я самолично расстрелял двоих солдат. Трем мальчишкам дал возможность самым жестоким образом доказать свою любовь к Малинке. Все трое погибли, подбирая раненых товарищей под носом у врага, у только что отбитых окопов. Они носили раненых на перевязочный пункт, стараясь отличиться перед ней, перед Малинкой…
— Как тебе, Данила, известно, он стал командиром батальона. Ты его сменил, когда он ушел в бригаду…
Знаю, молодая жена с каждым днем все больше бледнела и слабела, и вдобавок в суматохе шестого вражеского наступления ее ранило в голову, а Он, командир, уехал на высшие военные курсы.
— Помнишь, я пришла в себя под орехом, ты сидишь у меня в изголовье и разговариваешь с Милкой, и первое, что я почувствовала, был стыд и страх: а вдруг уже все известно, и еще: а если меня ранило в бедро или под ребра и ты присутствовал при перевязке…
Не успела она встать на ноги, как сразу со своей санитарной сумкой и шестимесячным ребенком под сердцем попала в пекло у Врчког. Недобитый усташ неожиданно выстрелил. Он целился в живот, но слабеющая рука дрогнула, дуло дернулось, и свинец зарылся чуть сбоку, под ребро. Санитарка без единого стона доползла до перевязочного пункта, куда непрерывно прибывали раненые, легла с краешку и пальцем подозвала товарку, руки у которой были по локоть в крови. Показала ей рану и посинелыми губами шепнула на ухо, что у нее, похоже, начинаются преждевременные роды, так пусть сначала займется этим, а рана подождет.
А что было дальше…
вместо семьи, детей, тихого семейного счастья, вместо лепета в колыбели и крутого, но верного мужа,
размолвки, измены, глупые попреки в бездетности, развод, одиночество, мытарства из-за того, что у нее нет никакого диплома, а где она могла его получить? В стрелковом батальоне или на носилках с ребенком под сердцем?
И вот уже десять лет — провинция, местные советы, отделы народного образования, бессонница, депрессия, годы, она уже привыкла к тому, что все человечество общается с ней посредством магнитофонной ленты, языком докладов и тоном председателя какой-нибудь сельской общины.
— И вдруг ты, Данила, будто с неба упал, с государственным гимном и такой встречей! Мне приходилось встречать после войны боевых друзей, но между нами уже пролегла холодная река непонимания. Стараемся быть сердечными, как и прежде. Но это плохо получается. Каждый думает о своем. Для дружбы нужны общие беды и общие радости. А мы сейчас живем уж очень обособленно.
— А Он?
— …а Он? Красивый, здоровый крестьянин дорвался до столицы; улицы, кафе — глаза разбегаются, ну и попал в первую же засаду. Сейчас — пенсионер, в грязной рубашке и неглаженых брюках. Разодетая в шелка волшебная горожанка, на которую он меня променял, оказалась серой, невоспитанной неряхой. Всего бюджета ФНРЮ ей не хватило бы на то, чтоб удовлетворить свои прихоти, прокормить бездельников родителей, снабдить куревом лодыря брата и дать образование трем сестрам, одна из которых еще в седьмом классе гимназии хвасталась абортом. Он, с двумя кавернами, открывающимися каждую весну, клянет теперь и небо и землю, мечтает разойтись, да они грозят бросить его под трамвай. Он пьет и опускается все ниже.
— А ты?
— …а я, как видишь, с семи до двух на службе, с двух до семи дома, сама готовлю, потом запрусь у себя в комнате и молчу, читаю, шью, молчу, иногда плачу. Так и проходят годы.
— А сейчас куда?
— Назначена заведовать просвещением в Виленицу.
— А меня посылают в Орахово. Четыре часа назад получил назначение. Опять, наверное, какое-нибудь производство.
Я рассказал ей про все свои дела без утайки. Она утешала меня, улыбалась, а когда с губ ее сорвалась фраза, что у меня есть еще все возможности для роста, мы оба от души расхохотались. Она стала поглядывать на часы. Скоро будет автобус. Еще двадцать с лишним километров, и конец. Приедет на место и тогда уж отдохнет от всех дорог — очень утомительны эти переезды. Я спросил ее — могла бы она сейчас пробежать четыре километра с ящиком боеприпасов и санитарной сумкой. Малинка вспомнила, как однажды утром она бежала за ротой, снова прослезилась и, поглаживая мою грязную лапу, промолвила:
— Конечно, если б бежала за Данилой Лисичичем.
И испуганно отпрянула — потому как я вскочил и в два прыжка очутился перед музыкантами.
— Играйте, играйте, черт вас раздери, вот деньги, эй, горбун, марш «Дрина» давай. Официант! Официант, неси ракию!
— Не надо ракию, Данила, — взмолилась Малинка.
— Официант, не надо ракии — вылью ее тебе за шиворот, на кой ляд ракия в такую жару? А тебе чего?
— Стакан воды.
— Воды, эй, бутылку воды, подыхаем от жажды. Малинка, я тут помозговал и решил… Не поеду я в Орахово. Поеду с тобой в Виленицу. И к чему нам жариться в автобусе? Сейчас я найму фаэтон, и мы с тобой с ветерком… Прокатимся, как боги и беги.
— А ты все такой же. Как тогда, в Гучеве, когда говорил перед строем: «Армия, теперь ешь и на боковую! И ни о чем не думай! Пятое вражеское наступление позади. Дотемна поспим, а там потихоньку двинемся дальше. Широка гора Романия». Помнишь?
— Как не помнить? Эй, черномазый, давай-ка «Идет наша дивизия!..».
Старая беговская Босния примостилась на струнах мандолины и отправилась на тот свет в фаэтоне.
После немецкой пехоты я бы с наибольшим удовольствием воевал с каким-нибудь хорошо обученным войском бега. Здесь бы наверняка были и Косово и Куманово[18]. Только не дай бог, чтоб это войско обучалось в Штоккерау. Я бился с боснийскими эсэсовцами. Злые и недалекие бедолаги, которые, продрав хорошенько глаза и увидев, где они и что с ними происходит, мигом разбежались кто куда. Если б этому воинству дали предварительно поездить в фаэтонах и хоть слегка вкусить беговской благодати, чтоб ему было что защищать от народа, вот тогда, кто знает, может, нам еще и пятнадцатого мая не пришлось бы праздновать День победы.
Развалившись на мягких, как пуховики, сиденьях, мы с Малинкой поплыли по городу. Фаэтон сделан уже после войны. Собственность одного уездного учреждения. Надо сказать, что фаэтон нисколько не мешает социализму и отнюдь не способствует возрождению феодализма. Просто кто-то воспользовался мастерством предков. В том, что и здесь предпочтение отдано удобству, повинен, вероятно, наш боснийский климат, а также и тот немаловажный факт, что кровь бегов постоянно вливалась в жилы представителей всех четырех вероисповеданий Боснии.
Малинка безумно счастлива, что ей не надо трястись в жарком автобусе. Цокают копыта по твердой царской дороге, гора, у подножья которой мы едем, остывает в первых сумерках, возница, чуть склонившись набок, напевает дорожную песню, прерывая ее временами, чтоб поговорить с лошадьми, а я смотрю на свою сгорбившуюся и поникшую вдруг спутницу и говорю:
— Все женщины мира воевали — письмами мужьям на фронт, или суетились в Красном Кресте, или обслуживали прожектора противовоздушной артиллерии; все девушки мира думали о парнях, которые где-то там воюют, и при этом исправно жевали гарантированный паек и в лучшем случае, преисполнившись патриотических чувств, ложились в постель с иностранным разведчиком. А ты в это время шагала в армейском строю, а наверно, ни одна армия на земном шаре не действовала так много и не отдыхала так мало, как наша, таскала на себе бинты и лекарства, а подчас и боевые припасы. И вместе со мной ползла к окопу, а когда я стонал от раны, тащила меня своими слабыми руками с поля боя. И когда я лез на стену от головной боли или метался в жару, ты поддерживала меня, ибо у тебя не было права уставать и болеть.
Помнишь, какая ты была в батальоне?
Я, в общем-то равнодушный к женским прелестям, готов был очертя голову броситься к тебе, когда ты летом сорок четвертого купалась в Кривае. Батальон расположился в лесу, я видел, как ты пошла на реку, и двинулся за тобой — просто так, без всякой задней мысли… Может, хотел попросить постирать мне рубашку, ну и немножко поболтать. Я смотрел на тебя сквозь ветви. Голубая вода плескалась о твои колени, а ты стояла, белая и тонкая, и, зачерпывая полные пригоршни, лила себе на грудь.
Знаешь, что меня остановило?
Нет, не страх перед возмездием. За тебя я мог принять его спокойно. Когда я уже раздвинул ветки, собираясь шагнуть к тебе, я увидел свои руки — черные, волосатые руки, годные разве что на мордобой, ногти с иссиня-черными полукружьями застарелой грязи, черные ладони, в которые въелись земля и смазочное масло… И я запретил этим рукам касаться тебя.
Я смотрел, как ты одевалась, долго подпрыгивала на одной ноге, пока, наконец, просунула мокрую ступню, как мучилась, пока застегнула лифчик между лопатками. Я весь взмок, глядя на твои усилия, так хотелось помочь тебе, да не хватило духу!
И тут я поздравил себя. Ну, говорю, Данила, садовая твоя башка, браво!
Ведь ревнивый батальон разорвал бы меня на части. А уж Он-то и подавно!
Все дороги подставляли тебе свои добрые и надежные спины. Только ступи! Над тобой раздвигались учтивые тучи. Человечество, выстроившись шпалерами, уже поднимало руку, чтобы снять шапку и смиренно преклониться перед тобой — женщиной-солдатом. Все мужчины мира закручивали ус и колесом выпячивали грудь, чтоб начать ухаживать за тобой… И если все это мой пьяный бред, если ничего такого не было, ты, по крайней мере, получила ЕГО… Но об этом в другой раз, в этот фаэтон не втиснуть воспоминание о третьем, тем более о НЕМ.
Теперь ты сникла и увяла. Почему?
Нет, и слушать не хочу,
знаю я, что такое страдание, но ведь отстрадаешь с помощью ракии, слез, воя или молчания, и снова — нос морковкой и — жив курилка! Ты не старуха, ты просто махнула на себя рукой, а посему
приказываю
завтра же сделать девичью прическу, надушиться, накрасить губы, надеть нарядное веселое платье с большим вырезом, елки-палки, ведь у тебя грудь… слов нет, затем — туфли на высоких каблуках, чтобы стучали по дороге и чтоб все оборачивались тебе вслед,
приказываю влюбить в себя всех, от председателя общины и секретаря комитета до последнего официанта в трактире, ведь ты такая красивая, только скинь с себя эту паутину! Сними жакет, так, расстегни две пуговки, зачем ты носишь этот мрачный коричневый цвет? Взбей волосы, так! Если б не кучер, я бы сорвал с тебя все твои тряпки и одел бы во все светлое и сверкающее или… будь я помоложе, я бы, ой-ей-ей, прости меня, фаэтон затрясся б от веселья, и как знать, дотянули бы рессоры до города? Знаешь, пшеничинка моя налитая, ракия все еще тянет меня за язык, но ведь с сегодняшнего дня я беспартийный элемент, кое-какие гайки во мне развинтились, вот я и несу всякий вздор с полной безответственностью — ну какой теперь с меня спрос? Да только каждое слово горячей плотью моей вскормлено, каждой жилкой моей напоено, да, клянусь тебе своими глазами, побелевшими от неустанных трудов и постнятины по части удовольствий!
Малинка шмыгает носом, вижу — годами никто за ней не ухаживал. Забыла даже, что это такое. Загрустила по своей ушедшей молодости. Но грусть-тоску скоро побороло любопытство, растревоженное женским тщеславием. Она жмурилась, выпрямлялась, искала все новые и новые подтверждения моим словам, с особым тщанием проверяла, правду ли я говорю: может, надежда, какую я в ней заронил, всего лишь выдумка учтивого спутника, милосердие старого боевого товарища или обычная лесть завзятого бабника. Она беспрекословно выполнила все мои указания, посмотрелась в зеркальце и в мои глаза. И — поверила.
Довольная первым успехом, она прислонилась головой к моей груди. Я продел руку у нее за спиной и поцеловал ее в темя. В мягкие и густые волосы, пахнувшие хорошим мылом и свежими садовыми цветами.
— Данила, а я-то думала, что все кончено.
— Душа моя батальонная, будь я помоложе, то уж сумел бы тебя убедить, что все только начинается.
Она взглянула на меня снизу. В крупинках смеха показалось юное создание, бабочка и чаровница.
— А ты не боишься, что кучер обернется?
— С божьего благословения и с твоего соизволения я бы не стал обращать на него внимания. Помнишь длинного Радивоя? Он как-то рассказывал — гулял он раз по Яхорине с одной девушкой из конвойного батальона при штабе дивизии. Всю ночь бродили и все умные разговоры разговаривали — революция, государство, колхозы, качество и количество. Начало светать… Тут мой Радивой не вытерпел… «Слушай, — говорит девушке, — хватит с меня теории, давай-ка к делу!..» А она смеется: «Наконец-то, а то уж я думала, тебя ранило куда-нибудь пониже живота!»
— Чепуха, Данила, все это ты сам придумал!
— Ей-богу, нет!
— Погоди, я сяду поудобней. Так! Знаешь, мне так сейчас хорошо… Данила, давай немножко помолчим. Слова мешают…
Дорога поднималась в гору. Лошади шли шагом. Темень накрывала нас словно черным плащом. Я попросил кучера остановиться у трактира на перевале. Умоемся, мол, и отдохнем у источника. Пусть задаст лошадям корм и подождет нас. Когда мы вышли из фаэтона, я сунул ему в руку двести динаров:
— Ты уж не подгоняй нас, обожди, пока сами придем.
На это он, видно умудренный опытом, обретенным в разъездах с работниками учреждения, которому принадлежал фаэтон, деловито сказал:
— Гуляйте хоть до утра, товарищ Данила. А хотите, отведу вас к одному приятелю, комната чистая, и сама сыра земля ничего не узнает!
Я ласково похлопал его по плечу:
— Молчи, старый греховодник!
Он накрыл лошадей попонами и отправился в трактир.
Я взял Малинку за руку и повел по дороге к источнику. Она посетовала на свои замлевшие ноги. Я, как человек учтивый, к тому же старый друг, взял ее в охапку и понес, она обвила мне шею руками. Подле шумной струи я опустил ее. Она сняла жакет и стала умываться, стараясь не замочить ног, а я смеялся — забыла наша партизанка, как умывалась в горных ключах. Она наскоро причесалась, накинула на плечи жакет и, вся дрожа, приникла ко мне.
— Ой, как свежо в горах!
Я вывел ее на лужайку над источником.
Сидим мы и слушаем, как бежит по жилам кровь и как рождается в горах ночь. Разогретые сосны заливают нас морем запахов. Сквозь клейкий смолистый воздух пробивается ветерок. Малинка прильнула ко мне. Молчим… Я опасливо откидываю ей голову и медленно и нежно целую ее. Губы ее встретили меня с непреклонной твердостью сопротивления. Затем дрогнули, раскрылись и задвигались призывно.
Я шептал ей все ласковые слова, которые хотел и не сказал мой батальон во главе со своим командиром, целовал ее за всех, кто погиб, так и не дождавшись желанного поцелуя. Прижимал ладони к твердой и гладкой груди и, не дыша, следил за тем, как ее спокойное и словно бы удивленное тело постепенно оживает, сбрасывает с себя спячку и начинает взволнованно метаться и вздрагивать. Пробуждается жизнь под пеплом печали а забвения.
Я потянулся к застежке на ее поясе. Она прижалась ко мне и зарыдала. Я, добрая душа, сел, держа ее на руках. Она все еще плачет, дрожит всем телом и все теснее приникает ко мне. Я ласкаю ее, утешаю безмолвными речами. Она рыдает, стараясь увернуться от моих рук, хочет что-то сказать, но рыдания заглушают слова.
Я быстро встал. Хоть я и беспартийный.
Надел пиджак, помог встать Малинке. Надо спускаться на дорогу, но обоим не хочется уходить отсюда. Мать-гора под бескрайним покрывалом мрака, на все четыре стороны распахнувшая в ночь свои окна, шептала нам: останьтесь, ведь нескоро выпадет другой случай так чудесно помолчать вдвоем.
У меня не хватило духу снова усадить ее.
Так мы и стояли, обнявшись в темноте, над усыпальницей сладчайшей возможности. Я взял ее за руку и вывел на дорогу, глупый и гордый, как, впрочем, все болваны, которые сначала откажут себе, а потом кусают локти — вспять уж при всем желании не повернешь!
Оставшиеся десять километров под гору мы проехали довольно быстро. Все же я успел повторить Малинке прежние свои распоряжения, правда, уже в сжатой форме. И должен сказать, упали они на благодатную почву: в Малинке проклюнулось женское тщеславие, которое, разрастаясь, изнутри разорвет все оболочки и она зацветет, как и прежде. А напоследок пообещал больше не приглашать ее кататься в фаэтоне — найдутся пригожие парни или еще бодрые вдовцы без единой сединки в голове. Не все же ведь до потери сознания заняты перековкой наших старых югославских драндулетов в современные транспортные средства, способные умчать нас в будущее. Иные благоразумно оставили потомству немалую толику национальных забот. Сегодняшний вечер не в счет,
это, милая,
я так, по-товарищески,
чтоб немножко развеять тебя. А что мы чуть не скатились в пропасть, не наша вина. Так уж вышло.
А если и в окружении многочисленных красавцев вспомнишь вдруг своего старого друга Данилу и захочешь посидеть с ним, тряхнуть стариной, пройтись по нашим партизанским дорогам, только глазом моргни, и твой Данила встретит тебя с распростертыми объятьями и со всеми подобающими почестями, включая и «Гей, славяне!». Не бойся, я не стану докучать тебе, как сейчас, к тому времени и я, наверное, как-нибудь устроюсь. Поищу тихую, скромную пристань, без особых затей. Может, иной раз нам и захочется укрыться от глаз людских, аскетически строгих, когда дело касается других, вот тогда и закатимся в разгул, как два старых тоскующих холостяка.
Я замолчал.
Испугавшись тишины, которая могла бы свести на нет нашу попытку вырваться из одиночества, она стала гладить мою руку, лежавшую у нее на поясе, и наугад ворошить былое: когда и где мы встречались, как смотрели друг на друга и о чем разговаривали. Когда показались желтые точечки огней в Виленице, она торопливо досказала остальное:
— Дане, а ты стал теперь такой нежный и сильный. О, какая надежная у тебя рука! В следующий раз ты меня не узнаешь. Для тебя я верну молодость и свежесть, для тебя одного, потому что ты такой…
Я сразу вырос в собственных глазах.
Слушай-ка, борода твоя беспартийная,
а ты, оказывается, рыцарь и можешь еще покорять сердца! Без проволочки приступай к выполнению директив уездных товарищей: еще один новый костюм, ворох белья, чтоб все было в тон — костюм, рубашки и галстуки, купи еще пару легких ботинок,
руки надрай щеткой
и отмойся, ведь ты с юрьева дня путем не мылся!
Уверенно шагай в Завтра, элегантный и полный достоинства, как тебе и предписано. А ежели снова в голову полезут твои крестьянские или партизанские комплексы, ступай наверх, в лес, налакайся, наревись, выспись и вернись на люди зрелым и галантным господином, излучающим улыбки и учтивость, элегантным товарищем Данилой, надевшим крестьянину в себе намордник и посадившим его на три толстые цепи, на каких держат медведей и племенных быков.
Фаэтон привез нас в городок, умытых любовью и окрыленных надеждой.
Я долго втолковывал потерпевшему от меня товарищу председателю уездного совета (с партийным комитетом я больше не связан организационно): не хочу в Орахово, хочу в Виленицу. Председатель умело прощупывал, зачем мне вдруг понадобилась Виленица! Я столь же умело избегал поминать Малинку. Наконец он пообещал рекомендовать товарищам в Виленице взять меня (печально, но факт, меня уже надо «рекомендовать!»). В полдень я снова позвонил председателю. Он сказал, что товарищи в Виленице удовлетворили его просьбу. И еще раз повторил директиву:
Данила,
надеюсь, ты всегда будешь вести себя достойно и учтиво, будешь одеваться как подобает современному человеку и руководителю, превзойдешь других вежливостью и вниманием, не будешь раздавать людям оплеухи, и тем паче председателям, ибо, как ты убедился, от этого один вред тебе, свою трудовую энергию будешь проявлять строго в рамках закона и возможностей коммуны и
постараешься жениться.
Так я остался в Малинкиной Виленице.
В кабинете председателя общины, точно в засаде, меня ждали три человека: председатель, его заместитель и агроном. Когда я показался в дверях, все трое схватились за подлокотники кресел, готовые то ли ринуться в бой, то ли драпануть. Стало быть, уже наслышаны обо мне. Три пары глаз вонзились в меня, как копья стражи. Стой! Погоди, посмотрим, каков ты есть! Дурачье, вы и не знали, что я учтивейший из людей. Учтивейший и внимательнейший товарищ и господин югослав. Венская дипломатическая школа в общинно-провинциальном варианте.
Я с ходу принялся разоружать их.
— Добрый день, товарищ председатель! — сказал я голосом, каким говорят секретарши в первый год службы, гимназисты, приходящие в совет выбивать стипендию, и старые герои-аппаратчики предпенсионного возраста. Прибавьте к этому задумчивый вид и чуть склоненную набок голову — и вы увидите, что достоинство я сохранил. Добрый день, Никола Евджевич, говорю я про себя, добрый день, старая тля, знаю я тебя аж с сорок первого, когда ты удрал домой будто бы переодеться, а через десять дней вдруг захороводился с четниками, хотя, не возьму грех на душу, как только началась перестрелка, опять перебежал к нам. Добрый день, председатель, славно ты устроился в этом кресле, побегал, видно, на задних лапках, прежде чем сесть в него. Знаю, как ты лип к начальству, стрелял только в дни революционных праздников. Ну чего ты на меня уставился? Не видишь, что я смеюсь над тобой? Впрочем, тебе это не понять. Где тебе знать, как богата гамма улыбок! В нее ныне, как в кулек целлофановый, можно все вложить, вплоть до блевотины. Она становится уже родовым признаком. Лет через сто дети будут рождаться с улыбкой: «Простите, мама, так уж получилось!»
— Добрый день, товарищ заместитель председателя!
Сдается мне, мы где-то встречались? Скоевец с сорок шестого, мусульманский бедолага, которого кто-то из жалости пристроил в Красный Крест. А бедолага дважды в день плотно обедал и быстренько прозрел. Сухопарый желтокожий человек с классовым сознанием, отточившимся на первой же политической хрестоматии, обладал острым взглядом. Нет, не похож ты на здешних Муйо и Мухаммедов, медлительных и добродушных, пока их не заведет какой-нибудь газават. Как-то ты по-османски затаился. Какие такие достоинства позволили тебе прыгнуть выше собственной головы? Слышал я, что сербы любят тебя больше, чем мусульмане, и что ты знаешь на память, кто сколько платит налогу. И что тишина, сопутствующая каждому твоему слову и недоброму взгляду, открывает перед тобой все пути-дороги. Впрочем, как бы там ни было, боснийские аджамиогланы и соколовичи[19] смогли укатать Оттоманскую империю, чего Оттоманская империя так и не смогла учинить со своей крошечной Боснией.
Ну что ты так испытующе смотришь на меня, будто царская казна ограблена и Данила на подозрении? Ну да шут с тобой, смотри, коли охота, только уж смотри открытыми глазами и с умом, тогда увидишь, что я самый обыкновенный босниец, которому приказано влезть в шкуру понежнее и в одежду поэлегантнее.
— Добрый день, товарищ агроном!
Знамя науки в этом девственном лесу сельскохозяйственной отсталости, знамя, которое, если что-либо не изменится в масштабах всей страны, эти горе-специалисты скатают и забросят на чердак. Я не знаю тебя, но читаю, как учебник по введению в политическую экономию. При одном взгляда на тебя черная зависть вонзила в мое сердце свои клыки. Молодой, косая сажень в плечах, сложенный по всем канонам ваяния, прекраснее наипрекраснейшей девушки, какая у тебя только была, а ручищи — ну просто богатырские, о симпатичный щенок, хотел бы я знать, кто тебя вылепил! Только вот что-то уже туманятся твои глаза. Неужели канцелярщина начала делать свое дело? Или ты пристрастился к рюмке, как обыкновенно бывает с чувствительными, душевными интеллигентами в этих маленьких и захудалых местечках? Ладно, увидим…
Улыбкой и самым сердечным тоном, каким я поздоровался, я разоружил их, как говорится, до гачника. Председатель вскочил, обнял меня и поцеловал. Потому, кстати, что только у нас с ним в этой компании были медали первоборцев. Как-никак боевые товарищи. Исключая, разумеется, те два месяца, что он провел с четниками. Но поскольку он опустил сей факт из своей партийной и военной биографии, я тоже опускаю его — чего там мелочиться!
Заместитель стоя ждал, когда закончится первый номер церемониала. Потом он протянул руку и, даром что тощ, так крепко стиснул мою, что я немало удивился, откуда в этой желтой осе такая силища.
Агроном поздоровался, словно мы капитаны футбольных команд, которые через минуту-другую начнут матч на первенство страны. Сели улыбающиеся. Счастливые, что судьба свела нас. Растроганные — я оттого, что обрел таких замечательных и умных товарищей, с которыми буду работать, они — что заполучили в свою общину знаменитого Данилу Лисичича.
О лицемерие, что бы мы без тебя делали!
Разговор пошел о хорошей погоде и положении на Ближнем Востоке. Они быстро сообразили, что я ни капельки не похож на того типа, которого им, вероятно, описали перед моим приходом, опустили копья внимания к ноге и предались милой привычке покейфовать на таких вот посиделках,
примерно с половины девятого до девяти,
когда рано еще пить кофе второй раз, когда не начали еще приходить посетители, а референты еще не подготовили документы на подпись. Хотя и слепому было ясно, что для меня уже уготовлен род занятий, они, однако ж, любезно поинтересовались, чем бы я хотел заняться. Я сразу внес в дело приятную для них определенность:
— Дорогие товарищи, я человек торговый. Так используйте меня по торговой части!
— То, что нам нужно! — опрометчиво выдал себя председатель.
— Я в принципе согласен! — сказал его желтый заместитель.
Агроном, занятый собственными мыслями, молчал. В глазах его, устремленных к окнам, вовсю трубили трубы молодости. На плечах, томившихся по девичьим рукам, могли бы уместиться две Албании. Красавец атлет явно скучал.
Решив, что со мной все ясно, председатель заерзал: чего ради сидеть в четырех стенах?
Я все еще тщательно копался в нем, добираясь до самых лимфатических узлов… Когда-то у него были красивые глаза, живые и чуточку злые. Сейчас их обволакивала нездоровая белизна от табака и протоколов, от подремыванья на собраниях, от бумаг и решений, проведенных или отмененных, — словом, теперь это были глаза, убитые плесневеющим духом, угасающим года за три, за четыре до пенсии. Все острые углы в себе Евджевич залил толстым слоем сала, того конторского сала, вместе с которым приходят изжога, расширение сердца, язва двенадцатиперстной кишки, мигрени, отек печени, ревматизм, фланелевые исподники, шерстяной пояс на бедрах, чтоб поберечь подозрительно ведущие себя почки, затем — рыбалка, шприцер, реноме заслуженного бойца на боевом и трудовом фронте, почетное место в президиуме на торжествах общинного или уездного значения, сын Растислав, студент, гордость и надежда отца, склонность к философским размышлениям — о небе и земле, о революции и внешней политике и — о, господи, что будет, если вдруг наверху, в Старом граде, взорвется водородная бомба — ведь все торговые ряды полетят к черту!..
Я похвалил город за чистоту, на что все трое довольно улыбнулись. Сделал я это из чистой вежливости, так сказать, погладил их по шерстке. Строгая санинспекция отобрала бы у них ключи от города и месяца на два закрыла бы его на карантин. Затем похвалил их успехи в строительстве — тут было десятка три новых зданий и четыре новых улицы. Хотя построили все это еще до них, однако все трое приняли мои похвалы на свой счет и каким-то извиняющимся тоном стали уверять меня в том, что можно бы сделать и больше, если б государство не скупилось на дотации. А под конец я похвалил скромный, но со вкусом обставленный кабинет председателя, после чего он крикнул служителя, который, как ему было известно, уже стоял под дверью,
чтоб тот подал нам кофе с рахат-лукумом.
Аудиенция окончена.
В коридоре меня догнал агроном. Я смерил его: ростом с меня, только стройнее, прямее и руки тоньше.
— Товарищ Данила, — заговорил он, беря меня под руку, — можно задать вам один нескромный вопрос?
— Пожалуйста, дорогой друг.
— Вы всегда такой вежливый?
— Осла не учат реветь по-ослиному.
— А та оплеуха — это правда?
— Молодой человек, чрезмерное любопытство никому не делает чести.
— Товарищ Данила, ты, конечно, молодчага, только пощечину ты дал зря.
— Молодой человек, я начальную школу окончил несколько десятилетий назад.
— Не сердись! Я о тебе слышал столько хорошего! И представлял тебя совсем другим. Собственно, только это я и хотел сказать. Ну, а здесь ты думаешь что-нибудь заварить? Какую-нибудь бучу, строительство, чтоб дым коромыслом? А то я уж совсем закис от здешней тишины…
— Имей терпение! Это все, что я могу тебе сейчас посоветовать.
— Ясно! А что за женщина с тобой приехала?
— Хороша, а?
— Лучше не бывает.
— Имей в виду, в сумке у нее пистолет.
— Данила, честь тебе и хвала! А ты с ней никак не связан?
— Нет. Мы боевые друзья.
— Ясно! До свидания, товарищ Данила!
Я пошатался по городу, по-крестьянски примечая по пути все закоулки, лавки и пивные, прикидывая на глазок, далеко ли отсюда до гребня горы и можно ли в случае нужды прыгнуть с моста в реку и удрать по руслу, если тебя, скажем, усташи из общинной тюрьмы ведут в лес на расстрел. Старая партизанская привычка.
Однако вид у меня элегантный, подтянутый. Старые знакомцы с трудом узнали бы во мне прежнего Данилушку, замурзанного крестьянина и почтенного афериста, вполне заслужившего, чтоб Лабудовац переименовали в Даниловград, — да только вот указ вышел, запрещающий называть города и улицы именами живых. Ведь живые всегда могут утратить доверие тех, кто дает названия.
Исходив весь город из конца в конец, обозрев его со стороны шоссе, я наконец очутился в кофейне.
Малинки нет.
В совете о ней ничего не знают. Доложилась секретарю и исчезла.
Не стану искать ее. Подумает еще: привез, дескать, в город и уже возомнил своей собственностью. Ну конечно же я приехал сюда ради нее. Это факт. Такой же бесспорный, как и то, что взыгравшие было во мне мечты этим ясным утром обернулись холодным и трезвым выводом: ей нужен спутник, по крайней мере, лет на тридцать. Я могу оказывать разве что мелкие услуги — поразвлечь в пути, поддержать добрым словом.
В общине чувствуется, что секретарь комитета давно болен. Отсюда настроение ничегонеделанья. Желтый заместитель посоветовал мне навестить больного. Пожалуй, так и сделаю. Если он меня не знает — представлюсь. Если мы с ним когда-то встречались, возобновлю и закреплю знакомство.
— Он тебе лучше всего объяснит твой статус здесь! — сказал в заключение заместитель.
— А что… у меня такой вид, что мой статус мне неясен?
— Да.
— ?!
— Ты согнул плечи, словно подпираешь все человечество, в глазах у тебя мрак со всего света, а скалишься, будто вот-вот заржешь. У тебя, Данила, вид усталого и оскорбленного титана.
Мы стояли в коридоре. Два неустрашимых глаза так и буравили меня. Мне хотелось повысить температуру ответа. Но каждую минуту скрипела какая-нибудь дверь. Зевая или насвистывая, выходили служащие, но, увидев зама, сразу подтягивались и деловито куда-то бежали. Ссору затевать нельзя. И часу не пройдет, как уж весь городок из уст в уста облетит весть: Данила и заместитель подрались. В кровь.
— Товарищ заместитель, это оскорбительное преувеличение.
— Вовсе нет! Ты просто не замечаешь. Я слышал, ты превыше всего ставишь откровенность. Чем ты недоволен?
— Неучтиво…
— Ха-ха-ха! Я тебе добра желаю, а ты ищешь ссоры. Не будь ребенком, Данила! Значит, кругом марш и к больному! Знаешь, где он живет? Отлично. Любопытно, что тебе скажет секретарь. Может, закурим на дорожку? Что? Еще сердишься? А я хотел анекдот тебе рассказать. Один босниец попал к марсианам…
— Спасибо. Слышал.
Я постучал робко, как и всякий беспартийный в партийную дверь: извините, пожалуйста, я знаю, здесь конспирация, всякой там шушере не след совать свой нос в ваши дела, но ведь я из тех беспартийных патриотов, на которых партия может положиться… Постучал. Никто не отозвался. Я открыл дверь и в одних носках, подобно опоздавшему в мечеть на молитву мусульманину, бесшумно вошел. Кухня только что прибрана. На линолеуме сырые разводы. На оттоманке, застланной черно-красным крестьянским ковром, дремлет огромный кот, такой раскормленный, что мяса его хватило бы на всю зиму целой итальянской семье. Он скосил на меня один глаз, шевельнул усом и снова погрузился в дрему. Словно бы сказал: проходи, ты свой в доску!
Светловолосый, иссиня-белый человек громко дышит. Он спит, а под ребрами у него так шипит, будто там уместилось с десяток кузнечных мехов. Э, мой секретарь, вздохнул я, похоже, что и для тебя каждая драхма воздуха на вес золота. Одеяло по грудь. На нем костлявая крестьянская рука, которая помнит еще и мотыгу и колья, — правда, граненый карандаш уже набил мозоль на среднем пальце. Болезнь высушила тело, подточила крепкое мужицкое здоровье. И рука лежит на одеяле, словно немощная, хворая баба. Под рукой — раскрытый учебник. География. Глава — Полинезия.
На столике — куча книг. Наверху — партийные журналы. Из-под кровати выглядывает ворох газет килограммов этак на шесть-семь. И пара длинных шерстяных носков.
Я потихоньку уселся в кресло, повернутое к больному. Ну и положеньице! Будить его нельзя. А сам проснется, что подумает о таком нахальном госте? В комнате мертвая тишина, я боюсь и пальцем пошевельнуть. А вот на буйную головушку мою надежда плохая. От нее всего можно ждать. Как пойдут мысли бушевать да колотить в черепную коробку, больной сразу и проснется. Потому я и выпустил всего несколько невинных мыслишек — пускай себе полегоньку ползают туда-сюда.
Тишина и равномерное хриплое дыхание секретаря нагнали на меня дрему.
И лишь потом, когда уж было поздно что-либо изменить, я понял, что заснул.
Заячье мое ухо уловило подозрительный шорох и напряженную неестественную тишину. И пока оно дало знать разуму, я снова провалился в полынью сна. Когда я выныривал, ухо мое громко колотило в окошко разума: «Вставай, а то проспишь все на свете! Не слышишь, что ли, скрип кровати и шепот?!»
Я продрал глаза.
Секретарь смотрит на меня с подушки и смеется. Жена его стоит у изголовья. И тоже смеется.
— Данила, дружище, жив-здоров? — Секретарь протянул мне большую влажную руку. Справились о здоровье друг друга. Он задал веселый и сердечный тон, словно я партийный инструктор сверху, завалившийся к нему на ужин с ночевкой, — дела, мол, подождут до завтра. За сухими тонкими губами теснятся потускневшие зубы, сквозь которые с трудом пробиваются слова. Они с шипением вырываются из вязкой жижи разлагающейся плоти со дна легких.
— А мы смотрим: что это за усач к нам припожаловал?! Поначалу я не на шутку испугался, уж не Сама ли явилась, с папкой, элегантная и степенная, чтоб отправить мою коммунистическую душу в бессрочный отпуск. Потом уж Милка узнала тебя — господи, да ведь это Данила Лисичич! Милка, свари-ка ему кофейку покрепче!
— Спасибо, не надо. Пока все здешнее начальство обошел, налился кофе, как цистерна. Я пришел, товарищ секретарь, проведать тебя, ну и доложиться заодно… Хоть я, как ты, конечно, знаешь, вылетел из партии…
Он смеется.
— Я все знаю. Мерзко, да?
— Мерзко.
— Кризис?
— Кризис.
— Не спился?
— Почти.
— Жаловаться не собираешься?
— Нет.
— О самоубийстве не думал?
— Сперва было. Но, знаешь, под старость жизнь слаще.
— Партизанскую пенсию не хочешь? Причитающиеся награды все получил?
— Все.
— Тогда кризис быстро пройдет, не волнуйся.
— Быстрее бы прошел, если б заняться каким-нибудь большим делом. Ну, скажем, я бы предложил построить…
— Нет, нет! Пока сиди тихо.
У меня потемнело в глазах. Значит, я был прав, — это начало большого заговора против меня. Неужто и он туда же? Такой знаток кризисов! Опытный кадровик, он сразу понял, что значит мое внезапное молчание, повернулся ко мне всем телом и вонзил в мое колено сплющенный указательный палец:
— Слушай, до весны никаких затей.
— Боюсь, что не выдержу. Нервы…
— Нервы нервами, но ты забыл… забыл, что коммунист в первую очередь должен быть хозяином времени. Время надо брать за рога. Когда я два года назад узнал, как ты работаешь, я сказал товарищам: или его хватит удар, или в конце концов он расплюется со всем светом, включая и партию. У меня и свидетели есть, могут подтвердить. Я и в войну замечал у тебя такую прыть. Помнишь Красные скалы зимой сорок четвертого?
— Да…
— Я был комиссар роты в шестнадцатой мусульманской бригаде. Вы после кривайской катастрофы бредете оборванные, молчаливые, угрюмые. Бойцы едва на ногах держатся. А ты, как бешеная собака, носишься взад-вперед вдоль колонны, кричишь на бойцов, подгоняешь, помнится, даже толкнул одного командира отделения. А что толку? Люди еще больше помрачнели и ушли в себя. А умный командир поступил бы иначе. Он бы подбодрил бойцов песней или шуткой. Погоди, не прерывай! Я знаю, бывают ситуации, когда лучше всего прикрикнуть. Но время… время надо знать и средства и силы соразмерять со временем. Поверь мне, такие неумолимые подгонялы сплошь и рядом оказываются там же, где и любители все откладывать на завтра. Во всяком случае, результаты их деятельности совершенно равны. Дай-ка мне полотенце со спинки. Чистое, не бойся! Много говорил, опять першит в горле. Вот что я хотел тебе сказать. Ну… ты доволен работой и окладом?
— Доволен.
— Ты приехал с какой-то женщиной?
— Воевали вместе.
— Женись! Ох, подступает… Отвернись-ка, не очень-то приятно смотреть, как я харкаю кровью…
Последние слова его едва просочились сквозь пену и сукровицу. Страшный кашель свил в клубок огромное тело и тут же стал разматывать, дергая и швыряя его во все стороны. Вбежала жена. Я вышел на кухню, а затем — в коридор. Не знаю, сколько прошло времени, когда передо мной вдруг выросла девочка с длинными русыми косами. Она поздоровалась, переобулась, положила портфель на столик в прихожей, шагнула было в кухню, но, видно передумав, остановилась в дверях и спросила:
— Папа кашляет?
— Да.
— Наверное, много говорил?
— Да.
Девочка подняла сжатые кулачки.
— Вот вы как? Со всеми болячками к нему. Не видите разве, как он болен? Стыдно! В школе мы таких зовем трусами.
В синеве по-отцовски посаженных глаз блеснула слезинка. Еще раз окатив меня гневом и ненавистью, она на цыпочках вошла в кухню.
Обалделый и оплеванный, спустился я по ступенькам.
Теплый вечер ползет по улицам города.
Под липами перед гостиницей сидят за столиками первые посетители. Еще не время для ракии. Жаровня только разогревается. А пока можно выпить кофе или пива. Все ждут автобуса. Тогда можно будет почитать газеты, обсудить все новости — здешние и в мировом масштабе, и, наконец, помаленьку, с божьей помощью: «Твое здоровье, приятель! Налей-ка еще одну!»
По политой улице идут первые гуляющие. Молодые матери с детскими колясками — показать новое платье и туфли или новую кофточку на ребенке, две-три стайки девиц, недавно окончивших восьмилетку и, на свое счастье и несчастье государства, уже работающих в лавках и конторах или еще ожидающих, пока какой-нибудь родич или папашин приятель пристроит либо в кооперативный магазин, либо в стройуправление, либо на предприятие общественного питания. Ну а сейчас, под вечер, следуя моде, захватившей, кстати сказать, и большие города, вышли «прогуляться», а заодно и посмотреть, кто приехал, кто прошел, кто как одет, кто как сказал: «Добрый вечер», кто с кем повздорил или подрался, что поделывает папаша, с кем лясы точит… Дома сердитая мать с кучей детей, ревущих в сумерках без всякой причины, подгорающий ужин на плите, пустые ведра — вода из колонки не принесена, скоро отец семейства заглянет на минутку, изматерится: когда же будет порядок в доме, и, воспользовавшись столь прекрасным поводом для гнева и возмущения, уйдет в пивную, где, как и каждый вечер, налижется, приползет домой на четвереньках и прямо в башмаках завалится на постель.
Малинки нет.
Три перезрелые девицы, на одну из которых еще, пожалуй, можно бы польститься, идут под ручку. Все три глубоко «разочарованы» после двух-трех сбежавших кавалеров. Каждая из них поклялась, что уж никогда, помилуй бог, никогда в жизни не поверит этим проклятым мужчинам, матерью клянусь, и во сне их не увижу, пусть только сунется какой проходимец, сразу получит от ворот поворот.
Но
весь город знает, что любая из этих трех девиц пошла бы за первого встречного — только помани,
не важно, если жених
будет лыс,
подумаешь,
волос маловато — экая важность, ему это даже к лицу, а мне никогда и не нравились вороньи гнезда на голове,
не важно, если жених
и увечный будет,
он, милочка, на войне воевал, а если и сломал ногу после войны, так что ж, я и такого любить стану, с лица не воду пить, был бы человек хороший,
не важно, если жених
с каторги вернется, без гроша за душой,
что поделаешь, милочка, от сумы да от тюрьмы не отрекайся, тем более что он пострадал за чужие грехи, сослуживец, такой-сякой, все на него свалил, но он уж подал на пересуд — выведет его, подлеца, на чистую воду. Ну а барахло — дело наживное, руки у него золотые, на первое время я сама кое-что подкопила, за такого мужа и жизнь отдать не жалко.
Но даже такие женихи почему-то не появляются, и вот они гуляют втроем, тесно прижавшись друг к дружке, нога к ноге, все видят, все слышат, все клеймят где глазами, где колкими словечками, их послушать — нет человека без греха и порока, только они сейчас,
естественно,
без сучка и задоринки.
Малинки нет.
По двое, по трое прохаживаются парни в свежеотглаженных брюках и белых рубашках, в новых ботинках со скрипом, со следами умывания на висках. Весь день в поте лица трудились на стройке, в лавке, в мастерской, а может, в какой конторе глаза посерели от усталости. На променад, однако ж, надо явиться во всей красе,
пусть у девушек сердечки запрыгают,
пора бы уж выбрать одну и хоть немножко поволочиться до армии, а там видно будет — отдаст отец, женюсь, мы займем комнату, старики пускай спят в общей, а мелюзга в кухне.
Возьмем кредит,
из восьми с половиной вычесть две с половиной, остается шесть тысяч, и ежели еще выколочу тысчонки три в месяц, на двоих за глаза хватит.
Шагают парни. Вразвалочку, как ковбои. Кулаки в карманах. Ногами подбрасывают камушки, подражая знаменитым футболистам. На столетие обогнали своих отцов. И на полстолетья ребячливее погибших на войне ровесников. Шагают себе…
Малинки нет.
Прошли два школьных учителя, обоим под тридцать,
к одному раз в месяц то ли из Шабаца, то ли из Богатича приезжает девушка, нагруженная пакетами в огромными бутылями ракии.
Ну и ну! Еще и плати за любовь.
Второй был женат, развелся на третий день и теперь как огня боится женщин, бежит от них, как от чумы.
Потому-то, видать, оба и не смотрят на дамскую часть променада.
Малинки нет.
Стою я на обочине тротуара и наблюдаю за гуляющими, которые меряют свою главную улицу с таким упорством, словно чего-то ищут, а находят лишь самих себя в своих тесных рубашках, твердую землю и знакомые, до отчаяния знакомые лица. Правда, ни на ком не увидишь ни малейшего следа повседневных забот. На этот вечерний обряд не берут с собой домашнее меню и папку с долговыми расписками и кредитными квитанциями.
Вот идет ветеринар с женой. Он толкает впереди себя коляску, у нее на одной руке висит жакет, в другой — то ли дорожная, то ли хозяйственная поливиниловая сумка, в которой спокойно уместилось бы килограммов пятнадцать гороха. Но сейчас там вязанье, запасные пеленки для спящего в коляске младенца, губная помада, пудреница, зеркальце с порнографической сценкой в гареме, мужнина трубка и кисет, кошелек с тремястами динарами, ассигнованными на вечерний кофе для себя, на шприцер мужу и, если будет желание, на две половинных порции чезапчичей.
Эта семейная идиллия напомнила мне мудрое пророчество одного образцово-показательного семьянина: если какой-нибудь взрыв не расшвыряет нас всех по вселенной, то уж, будьте уверены, скоро у нас наступит матриархат.
Господи, пошли мне удушье или удар еще в этом дивном мужском переходном периоде!
Малинки нет.
Проходит налоговый инспектор. В пятьдесят с гаком он женился лет шесть назад на женщине втрое крупнее себя, дочери местного пекаря Димитрия. Он ведет двоих детей. Одного жена везет в коляске. Еще двое держатся за юбку. А старший сын бегает вокруг с обручем. Обрывки его сочных ругательств долетают до счастливых родителей. Но пекарская дочка шагает с гордо поднятой головой.
Она принесла мужу в приданое больше полумиллиона динаров, триста аров земли и старую довоенную мебель. Об этом говорят ее осанка и полная зависимость от нее всего семейного древа, на котором господин Илия Матияшевич, архивный червь и гордый отец семейства, лишь живое напоминание, что все мы однажды приблизимся к могиле. Наперекор биологии, старикашка еще бодрится, и кто знает — не чувствует ли дочка пекаря снова глухие толчки под сердцем?
Малинки нет.
Там и сям у дверей сидят пожилые женщины, а также те, кому тучность, строгий муж или скудость гардероба не позволяют отправиться на променад. В руках неизменное вязанье. Провожают глазами каждого, кто идет мимо. Страстно ищут чего-то диковинного. Ловят. Жадно ловят мелочи, ибо на крупное здесь рассчитывать не приходится. До мельчайших деталей обсуждают рецепты заготовки черники, шиповника, малины, ранних яблок. В девять идут подогревать ужин. А затем, перекрестившись или отбив поклоны аллаху, ложатся, предоставив грубым рукам мужа свои натруженные ноги и отяжелевшие груди.
Автобус пришел. Газеты проданы. Начальник почты, подготовив к утреннему автобусу отправления в город, встал на приступки, сложил руки за спиной и посмотрел на часы,
нет,
еще рано пропустить пару стопок и сразиться в картишки, жена его облокотилась на подоконник, подложила под локти вышитую подушку, про которую весь город знает, как и когда куплен для нее материал, как она вышивалась и набивалась,
и по водосточной трубе из окна принялась спускать угрозы мужу:
— Если опять весь вечер проторчишь в своем кабаке, берегись!
Почтарь знай себе позевывает и, не поднимая головы, бурчит:
— Ну чего раскудахталась, старая дура!
Наконец перебранка ему наскучила. Он медленно сошел с приступок и, по-прежнему держа руки за спиной, зашагал по улице, оставив жену в окошке без собеседника.
Малинки нет.
Прошли трое служащих в наброшенных на плечи пальто. Под ними — бутылки, закусь, кошмы — постелить на траву, а может, кто еще и домру держит за гриф. На нашей земле всегда находилось достаточно поводов для выпивки. И все же тихие выпивохи вроде этой троицы почти повывелись. Они прошли потупившись, бесшумно, ни с кем не здороваясь, явно опасаясь встретить какого-нибудь дружка, которому, чего доброго, вздумается пристать к ним. Да, такие выпивохи нынче редкость. О душевных муках теперь не молчат. Сейчас принято кричать о них. Все меньше людей умирает гордо и неслышно, без жалоб и стонов, сохраняя свое достоинство. Взять хотя бы меня. Не могу я стать безгласным алкоголиком, бегущим от людей и медленно угасающим в горьком и прекрасном озере обманов и иллюзий. Стоит мне подумать о такой смерти, как я впадаю в панику. Нет, я должен по крайней мере одну гору своротить. Чтоб оставить память потомкам!
Идут два пенсионера. Бывший управляющий дорог и бывший начальник налогового управления. Чопорные, одышливые старики с подрезанными усами. Большие умельцы по части карт и домино, мастаки порисоваться перед простым народом. Серые развалины. «Политику» прочитали от первой до последней страницы. Идут молча. Вроде бы никого не трогают. Зато глаза их тараторят без умолку:
— Ага, видел?
— Взял ее под ручку! Что я тебе говорил?! Ох, и куда мы катимся! В какую пропасть? Где оно, наше доброе старое время?
— Да, так-то оно нынче!
Как же, помню я этих субчиков еще с довоенных времен, помню по их наездам в Лабудовац. Господа из себя были, ничего не скажешь, да только такое вытворяли, что черту тошно делалось. Закатятся, бывало, в трактир, наведут туда проституток и музыкантов, запрутся на все замки и не вылазят по двое суток. Верующие, да и все честные люди стороной обходили трактир, а из него неслись и визг, и лай, и пьяные песни, и стоны, и дикий хохот.
Оба любезно поздоровались со мной — как бы приглашая присоединиться к ним. Я учтиво снял шапку. И отвернулся.
Шествует в сумерках передо мной двуногий город. В который уже раз проходят три старые девы. Вот они обогнали ветеринара и налогового инспектора с пекарской дочкой, окруженной выводком… Мясник Рахман заковылял домой, в цыганский квартал, с огромным легким и висящим на кровавом пищеводе ливером. Поджарый крестьянин тянет непривычную к городской сутолоке перегруженную клячу, которая испуганно прядает ушами и натягивает оброть. Громыхая деревянными сандалиями, учитель медресе отправился в мечеть — творить вечернюю молитву. Столики под липами заняты. Музыканты настраивают скрипки и контрабас.
Ничего не происходит. Или я просто не улавливаю происходящего.
Малинки нет.
Стою на обочине тротуара. Слушаю — не слышу. Смотрю — не вижу. Стою, а сам катаюсь в пыли и плачу. Улыбаюсь прохожим, здороваюсь и плачу, ибо все нутро мое переворачивается от боли, от тишины, от тягучего времени, от страха, что так будет всегда, до гробовой доски.
Смотрю, не появится ли моя Малинка. Она нужна мне. Нужна позарез. Именно сейчас, сию минуту — не то я рухну и рассыплюсь в прах. Какой-то омерзительный зуд так и подмывает меня поднять шум, гром, ведь только они и могут отмести от меня враждебные силы, злобно ощерившиеся над моей головой.
Но ведь тебе, Данила Лисичич, наказано хранить достоинство, быть серьезным, аккуратным и подтянутым, чем-то вроде тех, про кого говорят: «Он из бывших, но наш». Держаться просто и естественно, улыбаться даже тогда, когда твой котелок лопается по швам.
Жду Малинку, умоляю ее прийти, только бы она села за столик напротив меня, только бы смотреть на нее.
Нет ее.
Променад окончен. Темно.
Нет ее.
Ночь. Запели первые пьяницы.
Нет моей Малинки.
Я опустил голову и пошел. Нет. Пополз. Вервие печали все туже стягивало мне горло.
Мой хозяин, у которого я стою на квартире, хаджи, сидит на скамье.
Он видел, как я в одних носках на цыпочках пытался проскользнуть в свою комнату. Гибкий, как ягуар, несмотря на свои жирные телеса, он вскочил и, преградив мне дорогу, молча втолкнул в кухню. На столе ракия, разломанная лепешка, яичница на топленом масле, голубцы с бараниной и мелко нарезанная брынза. Моя рюмка ждет меня полнехонькая. Хаджи пьет из кофейной чашечки.
Сели,
Хаджи косится на меня. Так бы вот и врезал ему промеж этих сметливых глаз, искрящихся здоровьем и насмешкой сквозь серебристые ветви ресниц. И обрубил бы большие и по-мужски красивые руки, лежащие на коленях с таким же спокойствием, с каким, вероятно, и душа его почиет на нескольких удобных жизненных принципах. Он улыбается. С каким удовольствием я пресек бы его улыбку острой, как нож, бранью. Но приказ есть приказ — я должен хорошо себя вести. И, повинуясь ему, я тоже силюсь улыбнуться, справляюсь о его здоровье и самым учтивейшим образом отказываюсь от ракии. Мол, голова болит. И с желудком что-то неладно. Зуб разнылся. Ухо стреляет.
— Врешь, побратим! — как отрезал паломник.
И я выпил первую.
Жил в этом городе когда-то торговец зерном. Однажды весной с ним что-то попритчилось: послал единственного сына учиться в Стамбул. Старик умер. Родичи промотали все, кроме земли. Мать скончалась. А сын затерялся на Востоке. И только в тридцатом году объявился в городе за сто с лишним километров от Виленицы.
Весть об этом пронеслась со скоростью тревоги.
Едет!
Будет с минуты на минуту!
Хаджи, муллы и набожные старухи говорили, что он окончил все духовные семинарии, какие только можно окончить, изучил все святые книги, какие только можно изучить, что целых два года молча простоял на коленях у гроба пророка, что где-то, то ли в Сирии, то ли в Египте, оставил мечеть из чистого золота, в которой служил имамом. И только некий Авди-бег, человек мрачный и ядовитый, по причине своего человеконенавистничества больше двадцати лет не выходивший в город, услышав о его возвращении, съязвил:
— От добра добра не ищут. Видать, не сладко ему там жилось, коли в нашу убогую Боснию вернулся.
Все, кто верил в аллаха и пророка Магомета, высыпали на луга за околицу встречать хаджи.
Народ ожидал увидеть святого.
А увидел красивого горца в расцвете лет, чуточку чернее своих земляков — наверное, от жаркого солнца, и малость пообтесаннее — влияние османской школы ложного пафоса и славословия. Все городские вдовицы издали вздох изумления при виде его. Пока женщины и девушки прикладывались к его руке, он другой рукой благословлял их, поглаживая им волосы, шею, грудь. Учитель медресе впоследствии клялся, что его едва не стошнило, когда он лобызался с хаджи. Так, мол, разило от него ракией и чесноком.
Через два дня приехала и его жена со скарбом, затейливость и необычность расцветок которого затеняли его скудость и дешевизну. Не было в городе мусульманина, который бы в те дни по крайней мере трижды не заглянул в окна хаджи, чтоб подивиться на чудо чудное: на высокую темнокожую женщину, тут же прозванную Арабкой, хотя всего лишь двум-трем женщинам посчастливилось увидеть ее лицо. Соседки одна за другой забегали к ней, будто бы услужить в чем, пока она осмотрится и обвыкнет, а на деле — чтоб поднабраться впечатлений для дальнейших пересудов. Хаджи, застав на другой день толпу женщин вокруг смущенной и растерянной Арабки, немедленно навел порядок, действуя попеременно ногой и чубуком.
Вскоре все узнали, что хаджи сидит дома и пьет. Жена сидит у его ног, молчит или поет. Они никого к себе не звали. И сами ни к кому не набивались. Хаджи пренебрегал городом. Город оставил его в покое, приняв его таким, каков он есть. Он был скор на расправу и к тому же так богат, что мог купить любого торговца со всеми его потрохами.
— Данила, ты плоть от плоти этого государства? — спросил он после того, как мы для порядка поболтали о том о сем. — Или так, сбоку припека?
— До мозга костей!
Он глядит на меня своими проницательными глазами и легонько касается моего колена.
— Какая-то смута у тебя на душе. А квартирой доволен?
— Вполне. А что?
— Дом старый, червями источен, маслом пропах, и мыши есть, да и за молитвой ты заставал меня раза два, а это вы, коммунисты, не любите.
— Давай-ка лучше выпьем! Ну, будь здоров!
Так ловко и учтиво уклоняюсь я от разговора о том, что я люблю и чего не люблю. Выпил вторую. Сладостный туман заклубился в голове. Тело погрузилось в сладостные воды безмятежного ничегонеделанья. Люди стали казаться лучше и пригляднее.
Мои сербские ноги с непривычки сидеть по-турецки совсем онемели. Попробовал изменить позу. Хаджи ручкой ножа два раза стукнул по полу. На пороге появилась девушка, которую я видел раза два с тех пор, как тут поселился. Хаджи распорядился глазами. Она принесла мне подушку.
Из соседней комнаты — через открытую дверь — донесся голос его больной жены, Арабки:
— Хаджи! — Он и бровью не повел. — О хаджи, — простонала жена, — где мой Сулейман? Куда ты его дел, хаджи?!
— Ну, будет тебе! — прикрикнул хаджи. — Видишь, гость у меня.
Жена умолкла.
Девушка хотела пойти к больной. Хаджи остановил ее взглядом. Она стала у него за спиной, лицом ко мне. В первое мгновенье она показалась мне некрасивой и дикой. Как бы ненавидящей нас за то, что должна нам прислуживать. Но когда она чуть склонила голову и луч света упал ей на лицо, по моей спине пробежали мурашки. Не иначе, среди ее предков был калмык или татарин. А долото белого человека пригладило скулы и подправило челюсти. Из-за таких вот султаны теряли свою империю. А наши председатели, секретари и директора слепли и, ко всеобщему удивлению, отправлялись на каторгу.
И мертвого бы разбередила!
«Марш назад!» —
гаркнул я на себя. Да, девушка прекрасная и дерзкая, живая и гибкая тростиночка, чуть-чуть колышутся ее бедра в лад какому-то внутреннему ритму. Да, это живое существо, способное привести в изумление даже самого тонкого ценителя женской красоты. Однако рот на замок, ты гость, к тому же дряхлый старик, ты ей в деды годишься. А хозяин здесь — хаджи, он быстр и ловок, как леопард. И нож всегда за поясом.
Итак, прикрой глаза веками.
— Дочка слушается? — спросил я.
— Она не дочка.
— Внучка?
— И не внучка.
В сорок втором хаджи бежал от четников. Бежал с единственным сыном Сулейманом, отстреливаясь из хорошего кавалерийского карабина, но на одной косе, когда они перебирались через высокий сугроб снега, пуля размозжила мальчику голову. Хаджи зарыл его в снег и стал пробираться дальше по горам к Сараеву. Под вечер, в ущелье за Мокрым, набрел он на разбитый лагерь беженцев — там и сям валялись узлы, ковры, брошенная навьюченная лошадь, перевернутые котлы. Из кучи тряпья выбивался детский плач.
Согревал ее своим теплом. Сквозь тьму и пургу нес, ровно родное дитя, прижимая к груди, а в другой руке держал карабин со спущенным предохранителем.
В сорок пятом привел девочку домой. Жена повредилась в уме от одиночества, страха, от побоев четников, от жизни в сыром, заплесневелом доме. Веник и тот не могла поднять. И двух слов связать тоже. Хаджи сам выкормил приемную дочь, первые косы ей заплел и первые сандалики на ножки надел.
Девушка глухонемая. Но понимает все. Надо только два-три раза стукнуть чем-нибудь по полу. Она, как выразился хаджи, слышит подошвами ног.
Поскольку речь шла о ней, я считал себя вправе рассмотреть девушку получше. Видимо, понимая, что говорят о ней, и зная, что худого о ней не скажут, она беспечно смотрела в мои глупые зенки и по-прежнему едва заметно покачивала бедрами. Длинные пальцы левой руки играли складками шальвар, превосходно сшитых из старого шелка, какого я не видел в витринах наших магазинов. Подумаешь! Я бы окутал ее тончайшим шелковым облаком, лишь бы уберечь от грубой руки и недоброго взгляда! Тщетно стараюсь я опустить глаза. Они так и зыркают по ней, забираясь под прозрачный шелк.
Назад!
Назад, Данила, кричу я себе, да что толку!
Старость, страшная старость подтачивает не только кости и силу. Нарушилось химическое равновесие, вот и сцепились идиот, циник и святой. Кто кого одолеет — неизвестно. Лишь после надгробной речи или залпа узнается, кому из них удалось сесть противникам на закорки.
Хаджи чуть повел головой.
Девушка вышла,
оставив за собой холодное море молчания.
— Слышал я, т в о и прогнали тебя? — шутливо спросил хаджи.
— Взашей.
— Ха-ха-ха, люблю, когда выгоняют таких вот ретивцев. Ну хоть ты ему здорово врезал?
— Сказать по правде, жалко мне его.
— Эх ты, бедолага! А ну-ка тяпни! Заешь яишенкой! Та-ак! Послушай, что я тебе скажу! Председатель хороший человек. Но будь он даже ангелом, и виду не подавай, что раскаиваешься. Публичное покаяние — это что дырка в твоем заборе. Любая скотина залезет и испоганит тебе сад. Храни гордость даже и согрешив. Люди меньше будут толкать на новые грехи. И еще один совет — и за добро и за зло плати всегда сторицей. И тогда умрешь окруженный всеобщим уважением и любовью. Если ты, конечно, к этому стремишься.
Белый жирный дьявол, прищурившись, изучает меня. Зрачки-сверла буравят до боли. И вдруг, словно луна в ветвях деревьев, на лице его проглянула улыбка.
— Смотрю я на тебя, Данила, и думаю: живи ты в турецкие времена, визири встречали бы тебя стоя… А может, посадили бы на кол на самой высокой городской стене в Стамбуле.
— К счастью, меня тогда не было на свете.
— И я то же говорю. Ну, будь здоров!
— Спасибо, хаджи, за угощенье! — поблагодарил я и быстро встал.
— Посиди еще!
— Надо… найти председателя, забыл сказать про одно важное дело.
И я смылся.
Переулками дошел я до лесного управления, а там зашагал полегоньку в гору, по дороге, по которой горцы по пятницам спускаются на базар. Вокруг — молоко лунного света, густо испятнанное тенями. Я прибавил шагу, хотя в душе сам над собой, дураком, смеюсь: и куда пустился в такой час!
Весь взмокший, остановился я у развалин турецкой крепости. Подо мной — желтые глаза городка разрывают тьму. Немного успокоенный быстрой ходьбой, подставляю ветру лоб и грудь.
Лес и долина молчат. Будто немые.
Монотонный дождь тишины приносит море вопросов. Опустив руки, отдаюсь ливню. И улыбаюсь. Ну разве не правду говорят — на вопросы одного дурня сотне умников не ответить! Даже если и дурень и умники сидят во мне.
Снизу подмигивает своими огоньками город:
— Ступай-ка, милок, спать. Нашел время строить из себя святого на горе! Не иначе как белены в хлеб подмешали.
Нет, Виленица,
нет, точечка на географической карте ФНРЮ, не белены мне подмешали, просто от всяких неурядиц голова кругом пошла. Видишь ли, я приехал сюда ради Малинки. И тут вдруг понял, что не имею на нее права. Даже если она будет настаивать на своих правах на меня и я запрыгаю от радости. Значит, уснувший мой городок, мне суждено быть прикованным здесь к стене молчания, а твоя тишина станет жиреть, питаться моей утробой. Будь я верующим, я молил бы бога сровнять тебя с землей, — разумеется, без радиоактивных последствий, чтоб я мог поднять тебя из руин, но уже другим, с горячей кровью в жилах. Ибо людям моего склада привито то беспокойство, от которого раньше умирают, но зато дольше живут после смерти.
Виленица мигает своими огнями.
— Брось, Данила, не распускай нюни! Дуй домой и ложись спать! Нечего шляться по ночам. Не то еще в яму оступишься или злым духам на перекрестке попадешься. Ступай, ложись, брат, спать! Все равно ничего умного не придумаешь, сколько ни пялься мне в темя.
Я стал спускаться.
И шепчу,
спокойной ночи, граждане городка-недоноска! Постараюсь придумать, как нам друг от друга избавиться. На сей раз я сделаю это тихо и благородно, никого не оскорбляя. Просто неслышно выскользну. Если, конечно, мой разум, комиссар сознания, будет служить мне верой и правдой.
Я жалею, что приехал. Жалею, что пустился за тобой, Малинка. Показал, как ты дорога мне. А теперь вижу, что надо отсюда скорее бежать. Потому что, если пробуду здесь еще две-три ночи, побегу к тебе. От себя. И тебе волей-неволей придется быть со мной — даже если будет противно и мерзко. А вот этого я боюсь больше, чем завтрашнего одиночества.
Триста миллионов цивилизованных жителей земли страдает от желудочных болезней. Кровавые поносы у бедняков не в счет. Одышливые большие города вопиют по простому, дешевому целебному чаю, который прочищает дыхательное горло и бронхи. Нервы рядового горожанина не выдерживают нагрузки на органы чувств. Страх уже не временное состояние души, а хроническая болезнь. Современная индустрия лекарств напоминает мне холодного сапожника — сегодня он тебе подлатает подметки, завтра — на несгибаемых подошвах лопнет рант. А мать-земля ежегодно выращивает миллионы тонн лекарств, и никто их не берет.
Я подсчитал: если б городской сельскохозяйственный кооператив ежегодно вывозил лекарственных трав столько, сколько позволяют его складские помещения и транспортные возможности, Виленица на вырученную за травы валюту уже на третий год смогла бы построить атомную электростанцию или, на худой конец, обеспечить все свои села необходимыми школьными зданиями. И первая из всех коммун ФНРЮ спросила бы:
— Товарищи союзные органы, вам нужны деньги?
Итак, да здравствуют лекарственные растения! Засучивай рукава, Данила! Лечить одышливую и малокровную цивилизацию продуктами матери-земли — это подвиг несравненно выше, чем строительство Лабудоваца. Мир на своих знаменах изобразит липовый цвет и бузину, ромашку и мяту, шалфей, душистую руту и подорожник. А золотая валюта хлынет в Виленицу, разумеется, за вычетом того, что банк возьмет себе.
Только б утрясти все с Николой.
— Добрый день, товарищ председатель! Как дела, Никола?
Я ослепил его самой обворожительной улыбкой, братски обнял и буквально замучил дотошными расспросами о здоровье. Но когда я попытался вложить ему в голову идею о миллионах, которые так и потекут в коммуну, если я брошусь на сбор и закупку лекарственных трав, он вздрогнул…
— Нет. Сначала спросим уезд.
— Тогда пиши пропало.
— Дались тебе лекарственные травы! Обойди-ка лучше торговые точки, а потом ступай к врачу!
— Зачем?
— Ты ж болен.
— Дорогой мой председатель, я не болен.
— Болен, если я говорю… А впрочем, так мне сказали в уезде. Но у тебя и в самом деле глаза какие-то мутные, руки дрожат. Сейчас же ступай к врачу. А я позвоню в больницу, чтоб тебя приняли без всякой канители. На работу успеешь.
— Спасибо. Пойду посмотрю магазины.
Выходя, я заметил, как осклабился председатель: погоди, мол, братец, мы тебе крылья пообломаем, тут тебе не Лабудовац. Хозяйничать не дадим. Мало у меня своих забот, не хватает еще с тобой возиться.
Я любезно попрощался, хотя весь кипел от гнева. Но уже в коридоре поднял палец: спокойно, старина! Вспомни — трезвый, обходительный, сдержанный господин, излучающий умиротворение и уверенность в будущем. А ну-ка растяни пасть и улыбнись! Не съехал ли случаем набок галстук? Так!
И какое тебе дело до желудочных, нервных и прочих заболеваний человечества! Не Думай о нем, как оно о тебе не думает. Завари-ка себе в горшочке мяту или ромашку и оставь проблему смертности в мире в покое! Одышливая цивилизация, не обессудь! Виноват Никола-председатель!
О, горестные дни, отравленные капающим с небес ядом!
Если б хоть Малинка была рядом!
Дай-ка поищу ее. Может быть…
И я, забыв про все на свете, забегал по учреждениям, заставая служащих за самыми разнообразными занятьями — кто завтракал, кто глазел в окошко, иные играли в пуговки или дремали. Но в конце концов я застыл в дверях. Малинка сидела за столом. На краешке стола покачивался молодой агроном. Малинка вскочила, повисла у меня на шее и чмокнула меня в подбородок.
— О! — ревниво произнес агроном.
Она ухватила меня за лацканы пиджака.
— У, бессовестный! Столько времени… а ты даже не спросил про меня.
— Погоди, я же…
— Ни слова! Не видишь? — Малинка отскочила в сторону, расправила юбку и завертелась на месте. — Смотри!
Я даже протер глаза, потому что все еще не верил им. Передо мной порхала другая Малинка, скинувшая с себя, вчерашней, лет пятнадцать. Белая нейлоновая кофточка, сквозь которую просвечивают плечи и руки, юбка с таким обилием складок и красок, словно это знамя еще не существующего государства Красоты, высокие каблуки, прическа расцветающей юной девушки, длинное изящное ожерелье, искусно завязанное на груди. Я просто ошалел. Вдоволь накружившись, она вдруг замерла на месте и спросила:
— Ну как?
— Великолепно.
— Миле, выйди! — сказала она агроному, ровно ребенку. — Мне нужно поговорить с Данилой.
— О! — снова произнес агроном и попятился к двери.
Малинка прикрыла за ним дверь, подбежала ко мне и опять повисла у меня на шее.
— Я уж заждалась! Скажи, я такая, как ты хотел?
— Ага! Дай… посмотрю!
— Э, нет. Руки убери!
— Да, здорово.
— А теперь скажи, почему ты не приходил. Знаешь ведь, где я живу. Сегодня вечером?
— Да ну! — Я озадаченно почесал за ухом. — Значит, к тебе домой? Прекрасно. Ужинать? Можно. И ночевать? Ласочка моя, но ведь тот, кто только что вышел, лучше меня. Ну зачем пощечина? Смотри-ка! Я пошутил, а она уж и в слезы. Ладно, ладно, приду. Конечно, ни одна живая душа не увидит. Погоди! Пройдись к окну и обратно! Нет, не надо меня обнимать, а то эти добропорядочные граждане бог знает что вообразят. И усы я еще не подкоротил. Значит, до вечера. Эх, брат, а ведь я уж чуть было не убился с тоски.
Я вышел на улицу. Вернее, выскочил на одной ножке, подобно мальчишке, получившему неожиданно двадцать динаров. А там день раскинул свое белое полотно, промыл людям глаза и сердца, наново покрасил горы, разбросав там и сям красные крапинки, за каким-то забором вызвал детский смех, подмел и вымыл небо и лишь по краям оторочил его прозрачным шелком, сотканным из легкого тумана. День — благословение небес!
Я остановился.
Смеюсь.
— Милок, а вчерашняя ночь?
Что вчерашняя ночь? Брось философствовать! Ночь как ночь! Ну нашло на человека отчаянье. Будто уж современному гражданину и потужить чуток нельзя да подумать о свинце или каустике. А теперь все устроилось. Я живу в городке, осветившем мою жизнь радостью, в тихом боснийском поселке, общинном центре, можно сказать; живут здесь и другие граждане, все они пьют, едят, спят, целуются, дерутся, кой-чего делают, о них уже два раза в газетах писали; есть здесь школа, читальня, дважды в день приходит автобус, жители читают газеты и слушают радио и на всех выборах до скончания века будут голосовать за нас.
Итак, день, как видишь, из важнейших нитей соткан, весь в серебре и в светлом бархате.
Будь счастлив!
Вечером — к Малинке.
А сейчас — в лавки, как тебе приказано. Лавки, товарищ Данила, дело нешуточное. И ты обязан их ценить, хотя, говоря по правде, ты бы все их, не задумываясь, сжег. В них по старинке вытягивают у граждан то, что им же потом возвращают в виде различных подачек. Дашь, к примеру, рукав, а получишь пальто. А если директор — торговец старого закала, то дашь пальто, а получишь рукав! Итак, кадры решают все. Или так все запутают, что сам бог не разберет, что к чему.
Вечером к Малинке.
Первая лавка.
Жил-был на свете деревенский паренек, который до армии ел отцовский хлеб и исполнял обязанности секретаря молодежной организации в своем селе. Из армии вернулся в чине старшины запаса. На строительстве железной дороги стал командиром стройотряда. Бывшему отличнику боевой и политической подготовки, отличному скоевцу и отличному строителю надо было подыскать работу. Не отсылать же такого парня назад к мотыге и выпасу, от которых проклюнувшие было в нем гражданские доблести мигом зачахнут. И —
а что, если ты, друг, станешь завмагом!
Парень крутой и недобрый. Тип билетера, блюстителя порядка на провинциальных стадионах, дежурного у дверей какого-нибудь закрытого совещания, ревностного слуги, готового в своем усердии спалить дом, лишь бы клопы не кусали жирное тело хозяина… Он встретил меня с недоверием. Ледяным вопрошающим молчанием. Справедливости ради замечу, он попытался улыбнуться, когда я назвал себя. Да только цветы на морозе не распускаются.
Будь моя воля, я бы выгнал его из магазина и поставил сторожем на пороховой склад. Но мне приказано быть кротким и внимательным. То есть молчать. Или, в лучшем случае, выражать свои мысли тихо и спокойно, не оскорбляя ни единого волоска в ухе сего гражданина.
Он ждал аплодисментов — вперед, классовый топор!
Я изобразил улыбку, в глаза напихал бумажной мишуры снисходительности старшего к младшему и начал издалека, стараясь размягчить его и изогнуть его прямолинейные мозги для более гибкого мироощущения.
Он слушал, глядя на меня исподлобья, как жеребец, ожидающий моего приближения, чтоб лягнуть копытом. Прямой. Настороженный. Ощетинившийся.
— Данила, тебя исключили за правый и за левый уклон? Так что ты можешь мне сказать?
— Браво! — воскликнул я и повернулся к двери. — Браво, осел, молодцы и ты, и тот, кто тебя сюда поставил!
А про себя
приставил палец к губам:
молчок!
Никаких слез! Ни гнева! Ни печальных умствований на тему: жил-был на свете товарищ, который сворачивал то вправо, то влево. И если желчь, вернувшись назад, в утробу, вызовет язву двенадцатиперстной кишки или цирроз печени, то утешай себя тем, что ты уж и так зажился на свете, а ведь давно бы мог протянуть свои беспокойные копыта от какой-нибудь подобной хвори.
А правда, почему ты не сдох несколько лет назад? Огромная процессия за гробом. Совет и комитет в первых рядах. Самая красивая девушка — первая невеста, несет на подушечке твои ордена. Опечаленные аппаратчики в черных костюмах и с поникшими головами. Школьники, до смерти обрадованные тем, что умер какой-то тип — не то сидеть бы им сейчас за партами. Директор школы с надгробной речью в кармане, коллективно отредактированной два-три часа тому назад и почти целиком посвященной нашим успехам, а не твоим заслугам. О них лишь несколько слов, в высшей степени эмоциональных. Затем трудящиеся массы и трудовое крестьянство, равнодушное ко всему, кроме церемониала — ну-ка, поглядим, как хоронят безбожников! А ты в гробу расплакался бы от умиления и поскорбел бы о том, почему люди умирают только единожды — ведь похороны так трогательны и величественны!
А теперь вот умрешь рядовым членом профсоюза административных работников, которому ты задолжал взносы не меньше чем за год. Проводят тебя одна-две женщины, несколько пьянчужек и пенсионеров и, может, еще и хаджи, который попросит аллаха в виде исключения принять тебя, гяура, в исламский рай. Оставишь на земле проблему — как официально уведомить, что тебя уже нет, и как тебе, освобожденному от работы, вручить экземпляр решения.
Тут я обнаружил, что стою под вывеской магазина номер семь. То есть перед старым турецким лабазом с выгнутым дугой сводом, как над вратами мечети, со стенами, могущими выдержать, любой артобстрел, со створками дверей, поперечинами и висячим замком, которые не сокрушить никакому гангстеру. Я знаю, что здесь работает товарищ Авдан. Двенадцать лет — ни недостач, ни лишку. Оборот знатный. Очередей никаких.
Я пригнул голову и вплыл в темноту.
Кашель справа свидетельствовал, что в этом отдающем плесенью мраке есть живое существо.
Глаза быстро привыкли к темноте.
Старый босниец в феске, скрестив ноги на овечьей шкуре, смотрит на меня.
— Буйрум[20], товарищ!
— Селям алейкум! — сказал я вполголоса, а то еще, чего доброго, занесут в мою беспартийную характеристику, что я, серб, не покончил с исламским вероисповеданием.
— Алейкум селям. Дай-ка, детка, стул!
Я сел перед ним. Отрекомендовался.
— Знаю я тебя, Данила. Сбегай-ка, детка, к Мушану, принеси два кофе покрепче. Привелось-таки свидеться, Данила!
В этой дыре наживал добро богатый ага. Но воды дней и лет унесли и хозяина, и все нажитое. С сорок пятого здесь сидит Авдан. И терпением и порядочностью упорно сопротивляется каким бы то ни было нововведениям. И молчанием — там, где его не спрашивают.
— Ну как идут дела? — спросил я его.
— Идут.
— Мальчик — ученик?
— Ученик. И прислуживает. Кофе приносит, открывает и закрывает лавку. А ты у хаджи живешь? Хороший человек, только далек от бога и истинной веры…
— Да-а.
— Что ж, время такое. Скажи-ка лучше, отчего тебя здешние власти не жалуют?
Я объяснил ему в двух словах, виня главным образом свой строптивый характер. Авдан молчит.
Задумался.
Не чувствует даже, как муха утоляет жажду капелькой пота над его правой бровью.
— Ну и ну! Покойный отец частенько говаривал: «В Боснии, сынок, не взлетай высоко, от дома не уходи далеко, о мире не думай глубоко. В Боснии — будь то турок или иноверец — никто никогда не умирал наверху, и никто благодарности не дождался за дела свои». И это святая правда, не то разве начертал бы Хусрев-бег на дверях своей мечети — не могу вспомнить в точности его слова, но смысл таков — я, твой господин, сотворил столько добра и чудес и все же умер, отравленный ненавистью и завистью. А уж что говорить про тебя, человека бедного и необразованного! Верь моему слову, здесь самый поганый воздух на земле. Здесь ненависть слаще баклавы, а поганое слово быстрее пули. И так и будет, если молодежь не сбросит с себя отрепья приданого!
У Авдана никогда не было ни недостач, ни лишку. И все же он построил себе дом и купил двести аров земли. Учил двоих сыновей. Сберег здоровье. И счастлив, что кормушка его тесна, что другому к ней при всем желании не подойти. И дышит легко и свободно, хотя здесь самый поганый воздух на земле… Видно, печень у него в полном порядке и желчь не отравляет нервные волокна. Или мозговые ливады густо поросли травой. Либо он, как и я, мучится по ночам на жаркой подушке, только не в пример мне в совершенстве постиг великую науку предков: обноси свой двор высокой стеной, а ворота замыкай железом молчания. Наука эта до тонкости разработана в боснийских городишках. Потому что до сих пор вместе с чужими глазами в дом всегда входили злоба или алчность.
А если любовь постучится в ворота, стены, видно, сами рушатся.
— До свидания, Авдан!
— Эйсахадиле[21], товарищ Данила!
Вечером к Малинке.
По улице течет паркий день, предвещающий дождь.
Полдень.
Я предложил председателю общины Николе Евджевичу основать транспортное агентство. Не успел я закончить вступление, как он стал убеждать меня, что я болен и что с меня хватит одной торговли. Я направился было в пивную — напиться, но в дверях совета меня резанула струя света и зноя.
Я вернулся в канцелярию, встал у окна и прилип носом к стеклу. Старый Антонович, несмотря на новые пишущие машинки, каллиграфически размножал документы, какой-то глупый циркуляр магазинам. Перо его скрипит по моей хребтине. Надо бежать отсюда. Но куда?
Правда, что под старость становишься кретином.
Мать рассказывала мне,
когда я родился, и стар и млад привалили поглядеть на чудо-ребенка: лоб спокойный и чистый, глаза смотрят пронзительным взглядом, ручонки сжаты в кулачки. Старики наперебой толковали приметы, да так и не сошлись во мнении… И только когда заявился отец Ташко, самый горький пьяница в приходе, и принялся истолковывать приметы, все согласно закивали головами. А отец Ташко изрек:
— Этот житель высоко взлетит. А для раба божьего есть две вершины — титул или виселица.
Что касается титула, я пехотный капитан первого ранга в запасе. Значит, первый вариант отпадает. О втором тоже говорить не приходится. На преступление, достойное виселицы, я уже не способен.
Что же мне остается?
Тот, кого пробивали горячие пули, кого хлестали дожди и метели, кому сыра земля хребет и почки разрушала, тот может рассчитывать на одну только глину. Несправедливо было бы корить других за равнодушие. Наш славный собес взял на себя все сентиментальные обязанности нации, позволяя ей таким образом полностью отдаться текущим делам. Правда, у окошечек нет сердец и слезных желез. За ними сидят существа со здоровыми органами пищеварения и благословенно слабым слухом к чужим несчастьям.
Вечером к Малинке.
Ухвачусь за веревку, брошенную с берега мне, утопающему.
На любовное свидание я пошел так, как с незапамятных времен заведено нашими достославными предками.
Под вечер я отправился в кофейню побритый, наглаженный, отмытый — любо-дорого посмотреть. Все на мне — от шляпы до резиновых набоек — сделано настоящими мастерами. Один мой отец, похоже, не обладал достаточной квалификацией.
Вечером я к Малинке,
начальник хозотдела к вдове Рагиба Мандрича, сапожник Коста — к жене столяра Йоцы, поскольку Йоца сейчас в отъезде — перестилает полы в построенных после войны школах, где уже гниют половицы, на которые пошли сырые доски; Вехид, бухгалтер кооператива, тяпнет свою норму — двести граммов и прямиком на окраину города к жене санитара Муйо, у которого сегодня ночное дежурство в больнице. Так мы, соседи и друзья, к радости наших жен и к своему собственному удовольствию, оказываем друг другу мелкие услуги.
Пока я потягивал кофеек, в кофейню вошло человек шесть-семь почтенных горожан. Наконец в дверях появился агроном, который вполне мог сойти за троих.
— Сервус, Дане!
— Привет!
— Что это ты вырядился, словно на банкет?
— Так, со скуки!
— Дане, а бывший Малинкин муж жив?
— Жив. А что?
— Да так… Знаешь, надоело жить одному. Всерьез подумываю остепениться. Сватаюсь к Малинке, а она хохочет и говорит мне, словно ребенку: «К сожалению, я скоро буду женой другого». Наверное, муж снова зовет ее.
— Возможно.
Смотрю на него поверх чашечки и думаю про себя: «Нет, не жалко мне тебя, голубчик. Даже ревность чувствую. Самому нужна Малинка».
— Ищи, сынок, по возрасту!
— Ее люблю.
— Что поделаешь!
Мы простились. Уже в дверях я услышал, как агроном заказывает ракию.
Во двор к Малинке я пробрался, ровно кот в кладовку. Поступью всех досточтимых и образцовых граждан, которые столетьями делают одно и то же, заквашивая в добродетельных и набожных соседках потомство, которое под фамилией хозяина дома вырастает на счастье и радость официального отца и родной матери. Поступью тех, кому тесна супружеская постель и кто живет в твердом убеждении, что их собственным женам никто другой бока не гладит.
Я пробрался на веранду и, слившись с собственной тенью, положил ладонь на ручку двери. Дверь тихо скрипнула.
Малинка тотчас впустила меня. И заперла дверь.
Посреди комнаты стол, покрытый белой скатертью. Цветы, тарелки, вино. Две рюмки. Прибранная кровать. По высокому изголовью понимаю — подушки на двоих.
Выпили до дна по рюмке крепкой. Она поперхнулась. Кашляет и смеется. Глаза залиты маслом смеха.
Я молча пожираю ее глазами.
Потом сказал здравицу в честь ее красоты и наших общих воспоминаний, указательным пальцем поднял ее подбородок и слегка коснулся усами живых беспокойных губ.
Она отпрянула.
«Ой, что-то подгорает!»
Зашлепала пятками по комнате. Я, как пес, вожу за ней глазами.
Должен признаться, что в своем знании женщин я где-то на уровне неграмотного чернорабочего. И тем не менее я готов биться об заклад, что наряд ее — образец меры, прелестной элегантности, знания себя — явный признак трезвого ума и утонченного вкуса. На груди ослепительно белая скромная блузка с высоким воротником и вырезом, с каким не ходят на собрания общественных организаций, но со спокойной душой входят к начальнику — с документами на подпись. Блузка — шелковая занавеска — вся в обещаниях. Талия перетянута широким черным поясом, на котором как раз под грудью поблескивают жемчужинки на старинной серебряной пряжке. Живой роскошный водопад юбки. Ножки, за которые сластолюбивый араб отдал бы и шатер и верблюда, своей легкой, упругой поступью говорят о сохраненной молодости.
Мои голодные глаза чуть ли не с рычанием крадутся за ней, того гляди, настигнут. А я сижу одеревенелый, элегантный, верный, преданный добряк, который только и умеет, что посылать нежные взгляды.
Да, положение — глупее не придумаешь,
потому что,
после того как молодость моя была израсходована наподобие боеприпасов на скудном пикнике тела, судьба послала мне дар, достойный двадцатилетнего удальца.
Нет, я не просто влюблен, я и впрямь впадаю в детство, я, матерый волк и гайдук, который во исполнение приказа изо всех сил старается быть пристойным и обходительным!
Я забыл Лабудовац, пощечину, парткомиссию, гимн в честь нашей встречи, городишко, торговлю и обнявшую нас ночь. Я, крестьянин, бобыль, стою у озера красоты в тополиной роще, готовый очертя голову броситься в него — на съедение рыбам последствий, даже если у меня не хватит сил выбраться на берег.
Мы выпили.
Я посадил ее на колени.
Она дернула меня за ус.
— Знаю я, толстая Милка говорила, как ты однажды цапнул ее за ногу.
— Мы поднимались по скользкому склону. Я пополз и, вместо папоротника, ухватился нечаянно за ее ногу.
— Ладно, а почему ты подсматривал, когда я купалась в Кривае?
— Боялся, что утонешь.
— Еще что! Боялся! Дане, кроме шуток… ты был какой-то непонятный, большой, страшный и… ужасно наивный. Помнишь, как мы после Зеленгоры сидели у костров над Папрачей? А когда легли… я прижалась к тебе. Ты думал — кто-то из ребят. И спросил: боеприпасов хватит? Я чуть не прыснула. А когда пропищала что-то в ответ, ты вскочил и умчался — будто бы по делу. И на другой день так странно смотрел на меня…
— Это был для тебя, малютка, критический момент!
— Ха-ха-ха, а что?
— Погоди немного, увидишь!
— Молчи!
— Ты меня не знаешь, красавица!
— Я не знаю? Три раза ты был у меня в руках нагишом. Помнишь, тебя ранило на Спрече? Мы с Милкой тебя искупали и перевязали. Ты без памяти лежишь, стонешь, Милка бранится: быстрей, Малинка, чего засмотрелась. Мужик как мужик. Видишь, какой мускулистый и жилистый, выкарабкается, не бойся!
— К сожалению, выкарабкался.
— Что? Тебе со мной плохо?
— Сейчас хорошо.
— Перейдем на диван?
Отодвинули стол с вином. Я сложа руки встал посреди комнаты — жду, когда она сядет. Наконец она убрала посуду и шагнула ко мне. Встала на цыпочки и обняла меня.
— Мой золотой командир! Такая ли я, какую ты хочешь?
Я схватил ее в охапку и понес, она всхлипывает, смеется, плачет, ее пальцы впились в мои плечи, она вся страсть и пламень, жадные губы ищут моих, я бросаюсь за нею на верную погибель в кипящий колодец,
и снова,
о, будь проклято то, чему я не могу найти названия, снова память холодным клинком рубит этот зной, прокладывает в нем ясный ледяной путь, ох уж эта неотвязная память, что служит мне верой и правдой, когда надо и когда не надо. Исключение — первые мгновенья вчерашней встречи с ней. Я помню все, в моей памяти — настоящая свалка фактов, и вымести их из котелка может только сквозняк от девятимиллиметровой пули.
Малинка,
целуя твои колени, боги нажили б горбы, твоя жаркая плоть, как живая ртуть, переливается под шелком,
я должен бы любить тебя до беспамятства, принадлежать тебе до кончиков ногтей, до корней волос, но — убей его бог, этот проклятый луч холодного света, в котором появляется вдруг человек и говорит резко и ехидно:
«…Все, что ты построил, топором сбито, в каждый кирпич, в каждый взмах мастерка вносил ты нечеловеческую суровость…»
а я, милая моя Малинка, в каждый кирпич, в каждый взмах мастерка кровь свою подливал, штукатурку дыханием своим замешивал, теребил свой ленивый плутоватый народ, выгонял его из берлоги и бранью и кулаком, заставлял его себе же кровать вытесать, подушку сшить и металлическую ложку купить, чтоб у детей не было заедов от деревянных поварешек, черт подери их деревянного бога!
Но что это со мной,
о, небо,
к счастью, ты не замечаешь, что со мной происходит, ты, рыбка, ослепшая от любовной страсти, не смотри, не думай ни о чем, не оглядывайся, вот и я попытаюсь ни о чем не думать,
погоди,
кроме одной ядреной крестьянки, я никогда еще по-настоящему не владел женщиной,
встань,
я хочу видеть тебя всю,
сними это,
и это, погоди, я сам.
и это, та-а-ак!
(ой-ей-ей, несчастный Данила, вахлак паршивый, ты, оказывается, еще и развратник;
послушай, ты, святой богоугодник, чеши отсюда, полюбуйтесь-ка на него, явился — не запылился, а ну убирайся, пока я не…)
Я отключил тормоза.
Сладкая моя Малинка, яблочко садовое, румяное, нетронутое, дай-ка твой старый командир и боевой товарищ, хоть и разнесчастный, но вежливый и элегантный, покажет тебе, что такое мужчина и мужская любовь, а не какие-то там фигли-мигли,
потому что земля наша называется Боснией,
и пусть воздух в ней самый поганый на свете,
предки наши со славой возвращались из любых походов, а за любовь нередко клали головы на плаху, так неужели ж я не пожертвую каким-то там гражданским покоем и, как говорится, личной свободой?
Я пришел в себя, руки наши дрожат от усталости и сладкого смущения. Пьем молча. Без единого слова она, как пантера, прыгнула мне на грудь и начала кусать мои губы, норовя проникнуть в самое мое нутро, потом свернулась калачиком у меня на коленях, бесслезно всхлипывая.
Я пустил руки гулять по белым лугам ее тела и снова стал думать, ибо не могу не думать,
бог мой,
не удивительно, что иные царства гибли независимо от роста производительных сил и борьбы производственных отношений. Удивительно, что иные болваны, вроде меня, всю жизнь держат себя в узде и натягивают ее до тех пор, пока из морды не закапает кровь, и все ради того, чтоб не упасть в собственных глазах. Правда, люди набожные таких прославляют, мудрые — хулят, веселые — жалеют, а бесстыжие обзывают дураками. Все это чушь. Глумление над самим собой и над всем родом мужским. Да, Малинка, клянусь твоими губами!
— Полвторого! — спохватилась она и вскочила. — Быстро в постель! — И затетешкала меня, ровно усатого младенца. Потом погасила свет и пришлепала босыми ногами к кровати. И тут же рванулась ко мне. А я тем временем в глубине своей горемычной души успел пожалеть о том, что в закисшей вековухе зажег женщину — к чему, коли не можешь испепелить ее дотла.
Но вот я ощутил под ладонями шелк и округлости, и трусливого сожаления моего как не бывало, я прижался к ней еще тесней и чуть не закричал,
только подай мне знак, душа моя, я еще мужик хоть куда, силен и крепок, а духовные недуги мы побоку, есть еще порох в пороховницах — ведь вскормили меня и напоили силой не клеклый молочный хлеб, диетический супчик и печенье, а ломоть пресного каравая и добрый кус солонины да баранины, чеснок и каймак и другая пища богатырская. Коли уж сама начала, давай доводи до конца, а устанешь, скажи — я как-никак обязан беречь тебя, жена моя и воспоминание мое народно-освободительное!
Первые петухи запели.
— Малинка, пора уходить.
— Полежи еще немножко! И поцелуй меня! Сюда!..
Локтем я растворил окно. В кронах в саду сонно шелестел дождичек.
— Осень! — вздохнула Малинка.
Луна, старая полуночница! Единственный фонарь на небесной площади! Открой пошире глаза, пошарь по Югославии да подмигни мне, ежели увидишь где-нибудь нарождающуюся коммуну, ежели где-то целина расчерчена котлованами под будущие заводские фундаменты, ежели где-нибудь тянет сыростью и глиной от новой шахты в богатых рудами горах, ежели какой председатель ищет человека из моих краев и с моим характером! Я дышу полной грудью только на быстринах больших задач и строительства. А так — сознание мое плесневеет и тухнет на спертом воздухе свершенного. Скажи мне, луна, ведь только твой свет еще не охвачен всякой там аккумуляцией и прочими затеями, скажи: есть ли где-нибудь место для моей души?.. А я, как аллах в Коране, клянусь смоквой, маслиной и горой Синаем, что не стану ни на кого сердиться и подымать руку. Скорее устрою себе логово на том свете.
Что с тобой подеялось?
Ведь ты всегда умела приголубить меня и успокоить! А сейчас и сама нюни распустила. Льешь какую-то иссиня-белую световую сыворотку на черное брюхо глухой ночи. Уж не свалились ли и на тебя какие-нибудь личные проблемы?
Скажи, я так больше не могу.
Надо решать — уезжать из Виленицы или оставаться. Будучи демократом, я призвал все свои мысли на совет. Они прибывали в опанках и в сапогах, с револьверами на ремне, в длинных крестьянских портах и в отутюженных брюках, мудрые, глупые, расплывчатые, идейно выдержанные и реакционные, улыбчивые и слезливые, партийные и беспартийные, подходили, выстраивались, ускользали, проходили, исчезали и снова — бесплотные, как призраки, подавали голос из подполья сознания… Я кричал на этот тихий содом:
— Стой, дурачье! Разве так приходят, когда я играю сбор! Эй, меня еще не объявили в газетах врагом народа, и вы не мои друзья, чтоб в таком случае отвернуться от меня! Сбор, стройся по значимости и идейной чистоте! Эй, куда вы?
Разбежались.
Девятая ночь, как я не был у Малинки. Она звала меня, искала по конторам. Но я ускользал. Хоть убей, не знаю почему. С ума схожу по ней, но что-то удерживает. Нежелание ли привязывать ее к своей старости? Или колдовская страсть к самоотречению? Или тошнота при мысли, что меня засосет это обывательское болото?
С горы, где я разговаривал с луной, я спустился в город. В кофейне — полупьяный агроном пригласил меня за свой стол.
— Дане, посоветуй!
— Что?
— Она не прочь выйти замуж, да только не за меня.
— Я, сынок, в этой игре ни бум-бум.
— Она все сводит к дружбе. Я знаю женщин, Данила, но это что-то слишком сложное. Никак не раскусить.
— Плюнь на них, женщины любят водить за нос.
Зачем я сел?
Зачем говорю ему это? Зачем упиваюсь собственной мукой, позволяя ему продолжать осаду? Или я нищий, не привыкший к владениям и отдающий царство за рядно, чтоб им покрыться? Или я просто из хаоса решений выхватываю то, для которого не потребуется особых усилий? Я готов разорвать пария на куски, однако… о, людское лицемерие… однако я улыбаюсь и словно бы поддразниваю его: э, зелен ты еще покорять женщин! На язык так и рвется совет: ступай к ней домой, а уж я постараюсь прибыть пораньше и, как ты заявишься, покажу тебе в окошко язык. И я уже положил ладонь на стол, собираясь встать и осуществить свой замысел, но тут во мне вздыбилась непрошеная нравственность:
— Назад! Пойдешь вечером, завтра, послезавтра… и когда она решит, вот оно наконец, счастье, ты — одышливый старик! Камень у нее на шее. Комок горечи в горле! Назад!
Я помчался домой.
В народных былинах Королевич Марко — самый быстрый бегун.
Лошадь моя трусит по мокрому темному лесу, в седле сижу, сгорбленный и печальный, словно возвращаюсь с убогих деревенских похорон. Вокруг тянутся к небу промокшие насквозь деревья, с листьев падает вода.
Руки прижаты к животу. Мокрые усы обвисли. Колени затекли от коротких стремян. И конь мой, обычно шустрый горец, развесил уши, опустил голову и тупо и горестно выполняет приказ.
В лесу ни души.
Хоть бы волк выскочил, чтоб немножко развеяться и пострелять. Впрочем, их тоже поубавилось в этих местах. Говорят, поголовно переселяются в края, где есть современные госхозы. А с тех пор как цена на них поднялась до пятнадцати тысяч (раньше платили десять), они совсем загордились и считают ниже своего достоинства даже лапу поднять у заборов экономически отсталых хозяйств.
Мука моя,
стоит мне подумать, кем я был и кем буду завтра, что жизнь моя стала серой, ровно собрания, на которых от повестки дня до решения все наперед известно, так впору спешиться, лечь под буком и — биться лбом о прелую землю.
За три дня объехал я четыре села, где имеются магазины уездного торгового объединения. Завмаги все как на подбор:
один привязал в углу стельную корову, ждет, когда придет срок, и то и дело сует ей шоколад или кусочек сахару и ласково так приговаривает: «Ешь, милая, теперь мы хозяева в своей стране!» Недостача — сто три тысячи;
другой подложил под весы камешек и за два года построил дом и купил две пары волов и двух лошадей. Недостача — четыреста тридцать восемь тысяч;
третий прикарманил пятнадцатидневную выручку, купил сыну аккордеон, себе — лошадь, кожанку и сапоги, а как напьется — материт все и вся — пусть кто-нибудь хоть слово против него скажет;
четвертый открыл в государственном магазине частную пивнушку. В магазине недостача двести семьдесят одна тысяча. В пивной — месячный доход сорок шесть тысяч.
Выговоров я им не стал делать.
Мне приказано быть вежливым и обходительным.
Они, полагая, что я ничего не заметил, набивали мои седельные сумки жареными курами и бутылями ракии и — приглашали приезжать почаще. Вот и не строй тюрем и не производи карающего оружия!
Заночевать я решил в Фрковичах. В войну я их трижды занимал. Легион в войлочных фесках и в белых портах умело защищался. С десяток солдат потерял я в этом селе, которое не стоит и партизанской выварки для вшивых шмоток.
Вышли мы с моим добрым гнедым из леса. Дорога повела нас по-над заборами и плетнями. Из-за косы выглядывали черные крыши Беговины, первого фрковического хутора. Кучка домов. Нищета и лютая нужда. Муторно мне стало. Подумать только — провести вечер и ночь в таком медвежьем углу!
— А если всю жизнь, дорогой товарищ? — прозвучал во мне беспристрастный голос. А чем лучше у меня? Отрекусь от Малинки и — разом окажусь в ледяной пустыне одиночества. И ни теплое дыхание, ни нежный зов не дойдут до меня через эту пустыню. Один! Господи, и кто это выдумал одиночество! Будь он проклят!
Гнедой вдруг запрядал ушами, как-то странно дернулся и встал. Я легонько коснулся его пятками. Но он только попятился. Я сдвинул на затылок шапку. Вместе с шумом запоздалого послеполуденного ветра, влажного и ослабшего, уши мои уловили тоненькую ниточку плача. Кто-то впереди тихо плакал. Я приподнялся в седле, но ничего не увидел.
Тогда я спешился и привязал лошадь к забору.
За скалой, которую огибает дорога, лежит мальчик. Подле него — коромысло и два огромных медных котла с водой. В лохмотьях, нечесаный, позеленелый, он то стонет, то плачет. Я поднял его и спросил: кто он, откуда, что с ним. Он отвел от себя мои руки.
— Ступай, — говорит, — своей дорогой. Не до тебя мне.
— Говори, что с тобой?
— Ай-яй-яй, пусти меня!
— Да что с тобой?
Молчит.
И тут я увидел!..
Ноги!
О, небо, неужто ноги ребенка могут быть такими черными и опухшими? Темные гнилые чурбаки. Жуткие засохшие раны возле пальцев.
Я поднял его, отнес к лошади и посадил в седло.
— Здесь! — сказал он, когда мы подъехали к четвертому дому. Его коромыслом я стукнул в дверь. Вышел Мурадиф Фркович, командир роты в легионе, брат Эшо Фрковича, усташского главаря, которого поймали и судили уже после войны. Мурадиф, рыжий мужик, настоящая горилла, раскормленный, грязный, в феске и льняной рубахе и портах.
— Мурадиф, чей это мальчик?
— Да вот у меня служит.
— До чего ты его довел! Подыхает у дороги…
— Уходи-ка ты, Данила, с миром, не твоя это забота. Знаешь ведь, в Беговине лучше не затевать свары.
Что было силы хватил я его коромыслом по ключице. Коромысло сломалось. Мурадиф не шелохнулся. Лишь глазами моргает. Даже улыбается.
— Теперь моя очередь, Данила?
Я потянулся к висевшей сзади кобуре.
Мурадиф застыл на месте.
— Ну, товарищ Данила, раз такое дело, спрашивай, брат, что хочешь, только верни руку, где была! Может, закурим, брат Данила?
— Чей мальчик?
Мурадиф словно сейчас увидел в седле парнишку.
— Этот? — удивился он.
— Да, этот, Мурадиф!
— …Осенью, когда вы нас гнали до самой Тузлы, ушел отсюда Латиф Голяк, видно, чтоб провести какой-то ваш батальон через Радуше. И больше не вернулся. Садись, боевой мой товарищ Данила! Ханифа, свари-ка нам кофейку покрепче!
Латиф Голяк! Латиф Голяк!
— Молодой был, ростом с меня, а уж силищей бог наградил — груженую лошадь одним пинком сваливал.
Латиф Голяк! О память чертова, выручай!
— …осталась у него молодая жена с этим парнишкой под сердцем. Умерла, бедняжка, сразу после войны от какой-то горячки. За ночь сгорела.
Латиф Голяк!
Я подскочил на месте.
— Мурадиф, тащи шерстяные носки и козье одеяло. Да поживее!
И завел его ногой.
— А ну, вражья нечисть, сию минуту одеяло, носки!
Он все еще недоумевал.
— Кому говорят? Живо!
Рука потянулась к кобуре.
Он, словно дикий козел, поскакал в дом. Я за ним.
— Скорее, Мурадиф, если мальчик не выживет, разряжу револьвер в твои буркалы.
Жена с перепугу запричитала. Мурадиф дал ей по зубам и рявкнул:
— А ну пошевеливайся, видишь, человек спешит!
Мальчика завернули в одеяло.
Мурадифу и двоим его соседям я сказал, что везу мальчика в больницу. И если кто из Фрковичей попадется мне на глаза внизу, в городе, то пусть прощается и с домом, и с родней, и со своей дурьей башкой.
Затем спросил прямую дорогу через горы и, не попрощавшись, дернул поводья.
Лошадь я повел совсем по другой дороге. Здешние жители и в кромешной тьме научились бить без промаха. Как знать, под какой крышей дремлет смазанный карабин.
Латиф Голяк!
Беговина четырнадцать лет назад.
Восемь утра. Перед домом Эшо сидят по-турецки комиссар Селим и Латиф в крестьянских портах и белой рубахе. Оба курят и о чем-то балакают. Десять утра. Все еще сидят. Говорит Селим. Латиф слушает. В одиннадцать — то же самое. В двенадцать выступаем! Селим сказал мне, что Латиф идет с нами. А чтоб усташи не расправились с его женой, крестьянам объявим, будто бы забираем его в проводники.
В ту ночь мы разбили отряд домобранов[22]. Утром Латиф получил военную форму и винтовку.
Я — командир третьей роты.
Он — боец второй.
На одиннадцатый день комбриг построил все три батальона и приказал Латифу сделать шаг вперед. Обнял его, расцеловал в обе щеки и подарил свой автомат. А комиссар по этому случаю произнес длинную речь.
Латиф Голяк!
На двадцатую ночь мы брали Цапарде. Я видел Латифа перед тем, как стемнело. Он шагал в колонне — красивый, сильный, стройный, удивительно опрятный и без улыбки улыбающийся. Утром — лежит красавец Латиф на бруствере окопа. Автомат разбит. Лоб рассечен. Подле него четыре немца. У одного в руке лопата с налипшими на нее мозгами и прядями светлых волос.
Латиф Голяк, батрак Эшо и Мурадифа!
Дождь припустил, темнота становится гуще. Я оглядываюсь. На седле покачивается белая пирамида. Вот досада, не взял электрический фонарик! Сейчас мог бы увидеть его лицо. Может быть, у него глаза и лоб Латифа? Я замедлил шаг. Лошадь дышит мне в лопатки. Я закурил и, не останавливаясь, спросил:
— Держишься, друг?
— Держусь.
— Не холодно?
— Нет. Вспотел.
— А ноги болят?
— Онемели.
— Скоро приедем. Потерпи!
— Ты иди, я-то выдюжу. Молчу.
Выбираю тропу помягче.
— Тебя как зовут?
— Ибрагим. А тебя?
— Данила. Ты сын Латифа?
— Латифа Абасовича. Я его не помню. Говорят, умер где-то в горах.
— А у тебя есть какая-нибудь родня, Ибрагим?
— Никого.
— И у меня никого.
— Видать, доля нам такая выпала.
— А ты, Ибрагим, знаешь, что твой отец был героем?
— Не может быть!
— Почему?
— Все бы знали. О героях по всем селам слава идет. Вот, сказывают, и Эшо был герой, только, пожалуйста, не говори никому, ведь он воевал против теперешнего государства. А Мурадиф, говорят, был как Муйо Хрница.
— Твой отец был герой почище Мурадифа и Эшо. Я своими глазами видел.
— А почему никто про него не знает?
— И я, Ибрагим, хотел бы это знать.
— Данила, а можно, я расскажу про отца, когда вернусь в село?
— Ты в село не вернешься.
— А у кого же я буду служить?
— Ни у кого.
— А что я буду есть?
— То же, что и я.
— У тебя, поди, свои дети есть?
— Нет у меня детей.
— А жена?
— И жены нет.
— Выходит, мы с тобой одного роду-племени.
— А сколько тебе лет?
— Зимой двенадцать будет.
— Так-то вот, Ибрагим!
— Что поделаешь! А мы скоро приедем?
— Скоро, Ибрагим.
Про войну вроде уже забыли. Но все еще спускаем с гор раненых.
Сырая тьма колеблется на ветру. Лошадь за мной осторожно выбирает место, где ступить. Мною овладевает нетерпение, так бы и схватил мальчонку в охапку и помчался бы с ним скорей в город. Словно внизу меня ждал Латиф Голяк, чтоб спросить… Неужто только меня?
Вот оно как, сын мой Ибрагим!
В приемном покое у меня его отобрали. Санитар Муйо отнес мальчика в ванную. Докторша, стоя спиной ко мне, смотрит в черные проемы окон. Слышу — зевает. Потом тихо приказывает:
— А ты уходи отсюда!
— Как это?
— Пошел вон!
Обернулась. В белый халат вырядился длинноволосый унтер, артиллерист, боксер. Мощная фигура с копной рыжих волос и ногами, которым под силу пнуть заурядного супруга так, что он полетит вверх тормашками.
— Товарищ доктор, скажите, пожалуйста, что с парнишкой? Есть надежда?
— Кажется, я тебе ясно сказала — пошел вон!
— Да, большое спасибо, только скажите мне словечко, и я тут же удалюсь.
— Вон!
— Когда можно навестить его?
— Ты еще здесь?
— Большое спасибо. До свидания!
Помянуть ее родню до седьмого колена, пожалуй, не стоит. Еще завтра не пустит. Впрочем, я принципиально никогда не сержусь на врачей. В одной игле их шприца человеколюбия куда больше, чем в иной широкой груди.
Попытался было пробиться в ванную, но санитар Муйо, слышавший слова докторши, взялся меня громко наставлять, чтоб дошло до ее ушей:
— Ступай, товарищ Данила, посторонним лицам не положено находиться во внутренних помещениях медицинского учреждения. — И шепотом добавил: — Лучше уйди, Данила. Приходи завтра к десяти. Жандарм еще спит.
Мой Ибрагим вылез из ванны. Ни дать ни взять — длинный брусок свежего сыра. Ноги до колен черные, будто сапоги обул.
— Завтра, друг, приду к тебе.
Он мужественно попытался улыбнуться, но из глаз хлынули слезы.
— Не оставляй меня надолго, товарищ Данила, если знаешь, что такое беда для юнака!
Из приемного покоя донесся окрик унтера:
— Этот идиот еще здесь?
— Беги от греха подальше! — посоветовал санитар Муйо.
Идиот, то есть я, на цыпочках удалился.
Когда я вошел, Малинка вешала мокрое пальто на спинку стула, поставленного к печке. За дверью грязные туфли. Волосы свисают мокрыми прядями.
Половина двенадцатого ночи.
Она спешила лечь, но во всех ее торопливых движениях сквозило плохо скрываемое волнение. Она посмеивалась, заставляя меня раздеться, но глаза прятала. Уж не боится ли вопроса — где пропадала до сих пор? Что-то скрывает. Я застал ее врасплох. Сегодня я ей в тягость. И опасаясь, как бы я этого не заметил, она неловко убеждает меня в обратном.
Или и впрямь торопится лечь?
Сижу у печки, босой, в одной рубашке.
Рассказал ей об Ибрагиме.
— А что, если его усыновить? — спрашиваю.
— Как хочешь! Снимай рубашку и в постель! Как ты оброс! И небритый!
— Превосходная комбинация: я — нянька и кухарка, он — сын, иждивенец, школьник. А, Малинка?
— Попробуй! Сварить тебе ракии? Или, может, поешь? Есть холодная телятина.
— Я не хочу есть. А может, парень не примет меня в отцы?
— Спроси его. Смотри, рукав под мышкой распоролся. Посиди здесь, я зашью!
Нет, даже Ибрагим не помог мне прорваться сквозь ее холодность и равнодушие. Я лег, полный острого раздражения, готового в любую минуту излиться ссорой. Она вскипятила ракию, зажгла ночник, придвинула к кровати столик с рюмками, разделась и легла.
Пьем.
Молчим.
Вдруг Малинка отодвинула столик и бух ко мне в объятья — целует мне подбородок и шею, трется щекой о мою грудь… Потом взяла мои руки, положила их на свои бока и тесно прижалась ко мне, словно от своей спины хочет убежать. Но все равно не можем преодолеть возникшей между нами преграды. Ласки холодны. Вот-вот оборвутся и из глаз ее хлынут слезы.
— Почему ты не приходил, когда я тебя звала? — спросила она.
— Мне казалось, что агроном по тебе сохнет больше, чем я. А он парень стоящий. Ты, Малинка, подумай немного вперед, ну, скажем, на двадцать лет вперед! Я не стану мешать вам!
— Данила, ты просто грубиян.
— Положим.
Она вонзила ногти в мои ребра.
— Ну а если мне в самом деле кто-нибудь сделает предложение? Как ты к этому отнесешься?
— Я спокойно приму любое твое решение.
— Совсем-совсем спокойно?
— Ну…
— И ни чуточки не горевал бы?
— Горевал бы, если б ты получила не то, что искала.
— Врешь. Кривишь душой. Думаешь таким образом скрыть свое равнодушие ко мне. Если б ты хотел жениться на мне, то говорил бы не так. Надулся? А ну-ка поцелуй меня! Ты у меня на первом месте. А с замужеством можно подождать…
Я встал и потянулся за одеждой. Она вскочила за мной.
— Данила, куда ты?
— Забыл оставить Ибрагиму денег.
— Неправда.
— Будь умницей!
— Дане, останься!
Сначала нерешительно, а потом все сильнее, словно борясь за жизнь или за грудного ребенка, она стала вырывать у меня одежду.
— Не уходи, пожалуйста! Не сейчас! Побудь еще! Данила, оставь все это, я больше не буду, никогда не буду, никого мне не надо, я одного тебя люблю, я, дура, врала тебе, Данила!
И она сползла вниз — по моей груди, ногам. Я оставил ее на полу, с протянутыми ко мне руками.
Нет,
не хочу, чтобы она угасла и увяла от моей старости, чтоб мой несносный характер отравил ее, чтоб грядущие двадцать весен она встречала с проклятиями и горьким сознанием, что обманулась во мне.
Не хочу, чтоб Ибрагим хоть раз подумал: она ему дороже, а я-то, дурак, решил, что я. Нет,
у Данилы еще достанет силушки, чтоб у своих неутоленных желаний выбить зубы и втоптать их в землю тяжелым сапогом. И, странное дело, горюя о Малинке, я, Ибрагим, думаю о тебе, здесь, под ребрами, теплится что-то живое и дорогое… Знай я, какое это счастье иметь сына, я бы еще двадцать лет назад завел по меньшей мере девятерых, и старый Юг Богдан Лисичич просто безумел бы от гордости, глядя, как его Юговичи расшвыривают во все стороны оккупантов. А если б они погибли где-нибудь на зеленгорских или сремских полях сражений, старик завел бы еще девятерых, и с легкой душой отдал бы жизнь перед бункером или на какой-нибудь высотке, прикрывая отход раненых Юговичей — своих и чужих, рожденных на этой земле. Нужды нет, что не моя жена носила тебя под сердцем и кормила грудью, что не я учил тебя смалу держать плуг и сбивать на лету ястреба, все равно, милый мой Ибрагим, я глупею при одной мысли, что буду держать тебя за руку и оберегать твой сон. И вот я бегу к тебе. Я должен увидеть тебя до рассвета…
Клянусь, что свою подмоченную биографию я заставлю выдержать все, пока ты, набравшись силы, здоровья и ума, не сможешь сладить с этой суровой жизнью. При этом дядюшка еще снабдит тебя всевозможными справками, столь необходимыми в сложной гражданской жизни, дабы подлость людская не встала тебе поперек дороги, дабы люди добротой возместили тебе свое небрежение к памяти храброго отца твоего — Латифа Абасовича-Голяка.
Я мчусь по кругам света, вписанным в уличную грязь и слякоть. В ушах снова зазвучал запоздалый плач Малинки, и травинки сомнений стали путаться под ногами. Тогда я призвал на помощь ясную, как полная луна, улыбку Ибрагима, и сомнения исчезли, словно обнаруженные засады.
Сын Ибрагим!
В третий раз я пляшу вокруг больничного здания. Все двери заперты. Черные квадраты окон, и только в одном — на первом этаже — прямой луч света между приоткрытых ставен. Я встал на цыпочки. Ничего. Тогда я тихонько влез на стоявшую неподалеку поленницу. Теперь сосна застит мне свет в окошке. Спустился. Встал у кладбища. Вокруг меня спокойно лежат сотни Муйо, Йованов, Салко и Владиславов, погибших из-за межи, дерева, кур, женщин, из-за худого слова и хмурого взгляда, в пьяной драке и не в пьяной, лежат целые поколения, которые слопал сифилис, разъела сибирская язва или задушила горячка. Безымянные, словно на смертных муках не захотели оставить в этом полном страданий мире даже имен своих. Шум дождичка в листве деревьев выдает их дыхание, несет от него — карболкой.
Ладони мои покрылись испариной. Я бросился бежать. У больничных дверей остановился. Ждать — чего и сам не знаю? Ибрагим, наверное, заснул, сморенный лекарствами и мягкой постелью. Санитар Муйо не пустит меня ни за какие коврижки. А может быть, в этом кабинете с освещенным окном сидит он? Повалился на стол, забрызганный кровью и гноем, и спит себе сном праведника и добродетеля, пока кто-нибудь из палат не завопит: «Помогите!»
Муйо, друг,
прошу его из темноты,
ты лучший на свете санитар, пусти хоть на минутку своего старого приятеля Данилу, дай хоть одним глазком взглянуть на Ибрагима.
Муйо, Муяга, шеф, самый великий санитар среди всех санитаров, открой, впусти меня, я только посмотрю на Ибрагима, я дам тебе тысячу динаров и помогу оформить пенсию ровно за неделю, так что не придется тебе, как всем, год, а то и два обивать пороги. Мне надо, Муйо, очень надо!
Я ухватился за карниз окна. Ногами уперся в выступ фундамента. И, ровно извивающийся стебелек ползучий, гибко и бесшумно подтянулся кверху. Взглянул в луч света…
И чуть не отпрянул.
Удержало простое любопытство. Я пригнулся, зацепившись носом за жестяной навес на карнизе.
Что заставило рыжеволосого взводного в юбке сидеть ночью за столом, обхватив руками плечи? И с таким лицом, будто ей положено страдать за всех уснувших больных, потонувших во мраке и карболке. Причем в самую глухую пору ночи, когда не спят только кормящие матери, воры, ночные сторожа и председатели экономически отсталых общин! Бедный мой унтер, как позвать тебя, чтоб ты не вскрикнула со страха или не вернула меня кулаком на черную землю? Мимо патруля с автоматом на изготовку я бы прошел неслышнее парящего в воздухе лепестка. Но ты, мать, живое воплощение страшной, сокрушительной силы докторской любви. Нет, боюсь, боюсь…
Провисел я на карнизе, пока не заныли пальцы, и тенью соскользнул вниз. Понуро добрел до калитки и помахал черноглазым окнам.
Спокойной ночи, Ибрагим,
спи крепко, и пусть тебе снятся конструктивные сны, и не думай о своих грядущих месяцах и годах. Завтра я проведаю тебя, затем договорюсь, с кем надо, обо всем, что тебе необходимо, а с тобой решим, чего ты хочешь. И выбрось из головы свои родные Фрковичи, плюнь на них и разотри, с сегодняшнего вечера ты житель этого города, а ежели кто спросит про родителей, скажи: вон тот усатый и малость чокнутый Данила повелел мне быть его сыном. Вот так! Ну еще раз спокойной ночи, сынок!
Спокойной ночи и тебе, докторша,
и какого бы свойства ни была твоя боль — медицинского или общечеловеческого, — мне тебя искренне жаль.
Спокойной ночи вам, все прочие обитатели этого дома, стоящего на крови, стонах и мутной моче в пробирках, и вам, застрахованные, и вам, кто из собственного кармана платит за лечение, знать бы мне, откуда у вас такие деньги?
На площади мне повстречался дряхлый хромой пес. Не поздоровались. Свернув в переулок, я увидел освещенное окно Малинки. Я и с ней попрощался,
спокойной ночи и тебе, шептала моя расцветшая,
и прощай,
прощай, женщина, поспевшая для здоровых зубов, как наливное яблочко, поплачь, поплачь немножко и не беспокойся, у слез век недолог. Любовь не ожерелье из недозрелых виноградин, надев которое стоишь на лугу с холодными глазами, вопрошая немое небо. Любовь — это песня опьянелой крови. На опохмелку лучшее средство — кислая капуста, а тут — болтовня о том о сем, глядишь, рана и затянется. А там — новая песня на новом пиру.
Шесть дней кряду атаковал я больницу. Четыре раза мне удалось пробиться к кровати Ибрагима, но меня тут же стремительной контратакой отбрасывали на исходные рубежи.
Но все-таки я его видел. Отеки меньше. В голубизну глаз вселилась солнечная радость дня.
Ест, как пахарь. По два завтрака, по два обеда. Уписал все, что хаджи послал ему с немой девушкой. Смолотил миску халвы — подарок Авдана. Умял все конфеты, какие принес ему агроном. От лепешек с каймаком, которые я ему притащил утром, не осталось ни крошки. Банку с медом вылизал дочиста.
Ибрагим поправлялся быстрее, чем предусмотрено низшей тарифной ставкой в профсоюзном доме отдыха.
Когда белые жандармы выгоняют меня, я не сержусь. В моем отцовском сердце нет места недобрым чувствам. И сами жандармы кажутся мне большими детьми, с увлечением играющими в какие-то свои особые медицинские игры. И я, заразившись их увлеченностью, превосходно изображаю выгнанного в шею посетителя. После смещения в Лабудоваце эта роль мне дается без труда.
— Добрый день, товарищ председатель! Как поживаешь, мой старый боевой товарищ? Хороший ли сон тебе приснился?
— М-м-м.
— А я вот без жены сына заимел. Сесть можно? Хочу рассказать тебе…
— Я слышал.
— Дорогой мой товарищ Евджевич, ведь я вообще не знал, что это такое — иметь сына! Хо-хо! Представь себе, и по сей день еще не установлено, кем был отец мальчика. Но я-то помню, и свидетели у меня есть. Латиф Абасович, по прозванию Голяк, пал смертью храбрых на Цепардах.
— М-м-м.
— Усыновлю парнишку. Что ты на это скажешь?
— Посмотрим.
— А чего тут смотреть?
— Посмотрим. Займись сначала дирекцией торгового управления. Отчет ревизионной комиссии вместе с твоими материалами обследования сельских магазинов составят единое целое…
— Ах да. Прости. Совсем забыл про это на радостях отцовства.
— М-м-м…
— Тотчас же займусь делом, товарищ председатель. До свидания, товарищ председатель!
— М-м-м…
Пень бесчувственный.
Ревизия грянула, как гром среди ясного неба. За бетонированным фасадом наружности директора оказался жалкий трус. Человек, видевший в государстве дойную корову и научившийся одной рукой поглаживать ее, а другой — доить, совсем растерялся. Бросил коллектив на поиски документов. Честил на все корки акты и накладные. Накладные забили источенные червем ящики. Захватили два стеллажа. Акты нагло вцепились ему в патлы и грозили кое-кому рассказать, как тот-то и тот-то вел здесь дела. Дочь начальника почты притянула за уши молодую сотрудницу — куда, мол, дела то-то и то-то! А девушка клялась, что то-то и то-то в глаза не видела. Один старый полуслепой Спиридон, у которого глаза, как две капли постного масла, вот-вот вытекут, вздохнул:
— Эх, государство, опять реорганизация!
Вокруг меня столпотворение. Я непроницаем, как мудрый минарет, смотрю себе в небо и жду.
К одному акту приклеена записка: «Миле, так твою… хочешь, чтоб мне голову сняли из-за кадушек? Срочно высылай деньги, а ты там выкручивайся, как знаешь. С приветом, твой братан». На обороне накладной, долго пролежавшей в кармане: «Влада, после собрания дуй к Байре. Жаркое готово. Выпивку принесет Среле. Если метишь на В., захвати капрон».
У меня нет предубеждения к директорам. Директор — неизбежное зло на определенном этапе нашего развития. Он фокус, концентрирующий директивы сверху, возмущение — снизу. Громоотвод, который не отводит, а притягивает его к себе. И сам он иной раз не прочь, подобно Илье-громовержцу, погромыхать на ясном небе. Он принимает награды за успехи своего коллектива. И сидит в тюрьме за неуспехи свои и чужие. Он стал категорией и мифом. Хотя создатели этого поста имели в виду всего лишь рабочее место и обязанности. Директор балансирует между женой и предприятием. Если он нарушит баланс, то никакими ухищрениями его не восстановишь.
В десять директор принял две таблетки аспирина. В двенадцать блевал зеленью. В два его под руки отвели домой.
Все завмаги забегали. В три часа один Авдан со спокойной совестью закрыл лавку, прошептал молитву против воров и пожаров и вышел на улицу.
— Гром поразил директора? — спросил он, встретив меня на углу.
— Да.
— Что поделаешь, время такое! — сказал он и пошел своей дорогой.
У дома хаджи немая вручила мне записку. Малинка писала: «Если твой поступок не означает, что я тебе надоела, приходи в то же время. Жду».
Не пообедав, я помчался к Ибрагиму.
— Добрый день, товарищ председатель! Вызывали, товарищ председатель?
— М-м-м… Слушай, Данила!
— Слушаю, мой дорогой.
— К чему выносить сор из избы?
— Не понимаю.
— Из торгуправления. Я же запретил тебе вмешиваться в дела моей общины!
— Но, дорогой мой, ты сам велел создать комиссию…
— Да, велел, но только чтоб тебя там не было… Мне надо спокойное и профессиональное обследование, без всякого шума, понимаешь?
— Я тут ни при чем, товарищ председатель. Они сами раззвонили по всему городу. А директор говорит еще о лесе на дом твоему отцу в Церовах. И о том, что у тебя кредит в лавках.
— Пошел вон!
— До свидания, товарищ председатель.
Пес шелудивый!
Я пошел к желтому заму. Выложил ему все. Мудрый визирь мудро от меня отделался:
— Товарищ председатель уже получил выговор за подобные фортели с магазинами. Собственно, я помог ему удержаться на поверхности. А ты, Данила, заканчивай обследование и не спорь с товарищем Николой. Всему свое время.
— Есть!
— Извини, мне пора на собрание.
— До свидания!
Я опрометью бросился вниз по лестнице. Малинка кричит мне вслед. Хочет понять, почему я не пришел. И, конечно, решит, что я удираю от нее. Но это не так. Просто я мчусь к секретарю комитета, чтоб он спас меня, пока я не наложил на себя руки.
Из спальни вышла заплаканная жена. В руках у нее таз с кровавыми платками и полотенцами.
— Чуть живой! — говорит она сквозь слезы.
— А где все? — вскричал я. — Почему не везут в больницу? Где это наша медицинская служба, которая излечивает всякую потаскуху и всякого урку, а секретаря не может… — Я и забыл, ради чего пришел. — Почему ты сама не требуешь?
— Да ведь обещали… договориться в Белграде.
— Давай телеграмму!
— Кому?
Да. В самом деле, кому? Погоди!
Я поднял на ноги совет и комитет. Раздувая ноздри, примчались четыре члена комитета. Спустя четверть часа я вошел в кухню. Из спальни доносились напряженные голоса…
— Нет, не согласен. Шоссе должно пройти под косой, а затем — по долине. А мост — через поток.
— Ни в коем случае! — кричит секретарь. — Шоссе пойдет через горы, свернет на Вршане, а оттуда мы поведем его к месту, где будет строиться мост. Ведь наши плантации раскинутся восточнее Вршане… Ей-богу, вы ничего не смыслите в комплексном решении проблемы. Есть же и политический аспект… О-ох, хоть бы немножко подлечиться!
Тут я, Данила, бессилен. Тут бы надо появиться светловолосой девочке с косичками. И прогнать их от имени всех детей, чьи отцы сгорели на работе. Сгорели дотла, и их никто детям не заменит.
Собес?
Внимание общества?
Ерунда! Даже самой благородной администрации недостает таинственных нервных центров отцовской любви. Не было еще случая, чтоб хоть один ребенок назвал папой какой-нибудь протокол или приходо-расходную книгу.
Секретарь партийного комитета настоял на том, чтоб принародно обсудить работу торгуправления. Зам. председателя взялся вести собрание. Председатель ушел на больничный.
Спортивный зал стал наполняться за час до собрания.
Люди, право, забавнее повестки дня.
Молодой завмаг!
Товарищи,
я признаю,
я не проявил должной бдительности, позволил тем самым контрреволюции запустить лапу в народное достояние. Я признаю свою вину и требую принять ко мне строжайшие меры. Мне бы хотелось поподробнее остановиться на этом вопросе, чтоб это было занесено в протокол. Я считаю, что проверенные незапятнанные кадры надо учить, чтоб они во всем превосходили классового врага.
Он прекрасен в своем гневе. В химии его ума бушуют ураганы перемен. Огромный опыт сжимает кулаки.
Авдан!
Неподвижный профиль с огромной массой носа, устремленного вперед.
Эхма.
Так-то оно.
Чудно́ скроен и сшит этот свет. Сегодня человек наверху, завтра — внизу. И каждая ночь жереба, только не знаешь — чем. А утром слышишь, как глашатай кричит — у того-то и того-то погасла свеча жизни. И сколько еще в этой убогой Виленице переменится директоров и начальников, боже правый, и найдется ли среди них хоть один, кто просидит хотя бы пятилетку у государственной кормушки! И долго ли нас здесь продержат? Не дали вздремнуть после обеда, а мне грош цена, ежели я не сосну, грош цена, и все тут!
Светозар Светозаревич, третий завмаг, которого сегодня не склоняют.
Румяный гражданин в расцвете сил, брат двух погибших партизан, он выполняет двенадцать общественных нагрузок, начиная с секретаря общества «Друзья детей» и кончая председателем добровольного общества пожарников. Чистое воплощение здоровья. Счет дружбе не мешает. Уважение каждому, кредит — никому. «Добрый день!» — и председателю и живодеру Смайлу.
И сон, полный конструктивных сновидений.
Профиль его не говорит ни о чем. Он знает порядок и терпеливо ждет, когда ему дадут слово.
Так молчание рисует характеры.
Те, кого сегодня склоняют, прячут лица. Их молчание совсем иного свойства.
Малинка повернулась правой щекой. Потом — левой. Ищет меня. Я согнулся — будто под тяжестью проблем. Не нашла. Как только затылок ее успокоился, я встал и, ввинчиваясь в плотные ряды тел, выбрался из зала.
Первого часового у двери больницы, санитара Муйо, я подкупил блоком «Моравы». Утинообразной санитарке с засученными рукавами и с галунами вздувшихся вен на ногах — послал нежнейший взгляд. Она старая, я старый. Наше поколение всегда договорится. Где глазами, где усами. Можно и не сразу. Главное, мы поняли друг друга. Подождем удобного случая. Она пропустила, задев меня боком. И тут же взглядом обвинила в настырности. Старая гвардия!
В три прыжка я одолел лестницу.
Ибрагим в больничной пижаме, по-турецки сидит на кровати. Ступни по-прежнему в бинтах, но слой их заметно убавился. Увидев меня, он отложил книгу и протянул ко мне обе руки. Право, он краше молодого месяца среди звездных гирлянд.
— Здравствуй, товарищ дядя!
Я сунул под подушку гостинцы и сел напротив него. Потом пощупал ему икры и опавшие отеки на лодыжках.
— Для иноходи в самый раз! — сказал Ибрагим и залился смехом.
— Не понял.
— Знаешь, у Мурадифа была одна лошадка — серая в яблоках. Он, бывало, подойдет к ней, пощупает над копытом и скажет: «Для иноходи в самый раз!» От него и пошло по селу — ухватит парень девушку за ногу и кричит: «Для иноходи в самый раз!» Вот и я вспомнил…
— Из Фрковичей никто не приходил?
— Нет. А кому приходить-то?
— Если кто придет, гони прочь… Скажи: если тут же не уберется, я сделаю из него лепешку.
— Не беспокойся, у меня есть перочинный нож.
— Гм! Лучше его не трогай, а то хлопот не оберешься. Ну а как дела с чтением? Вижу — растешь…
Ибрагим схватил открытую книгу и равнодушно пихнул ее в ящик тумбочки.
— Знаешь, принеси мне, если можешь, что-нибудь другое. Здесь все одни киски да мышки. Медвежата и зайчата. А я в Фрковичах ни разу не видел таких кошек, медвежат и зайчат. У соседа был огромный кот. Он крал у Мурадифа цыплят. А мне за каждого цыпленка — колом по спине. Обозлился я, подкараулил его утречком, посадил в мешок, привязал камень и в омут. И часок-другой посидел, пока котина не остыл. А что до медведя, и сам знаешь…
Я как-то не обратил внимания, кто еще лежит в палате. Вдруг в тишине из-под одеяла послышался кашель… Ибрагим шепотом объяснил мне, что тут уже два дня как привезли крестьян — соседей из Дураковичей. Подрались из-за сливы. Оба покрылись с головой и даже носа не высовывают, чтоб не видеть друг друга. Не то — опять кулаки в ход пустят. Вечером один встает и до полуночи курит. Ровно в двенадцать начинает кашлять второй. Тогда первый ложится, а второй встает. Сходит в уборную, сядет и курит до зари. Это его время. Такой у них молчаливый уговор.
В коридоре рыкнул доктор, обозвав кого-то ослом. К счастью, к нам не зашел. Я, как у нас повелось, попрощался с Ибрагимом за руку и вихрем слетел с лестницы. Перчатки в левой руке — элегантнее самого доктора. Из приемного покоя вышла докторша, хлопая по ноге измятым кровавым фартуком.
— Опять ты? — спросила она, выкатив на меня глетчеры своих глаз.
— Целую ручки!
— Пошел вон!
— Кланяюсь, мадмуазель докторша! Можно вас спросить?
— Я сказала — пошел вон!
— Пожалуйста, ухожу! До свидания, мадмуазель докторша!
— Идиот!
Элегантностью я превзошел любого преуспевающего служащего в городе. Со своими манерами и несколькими «целую ручки» я дам фору любому продавцу на Теразиях.
А эта докторша на меня ноль внимания, а вот гунь и опанки ее не трогают. Не пойму я ее. Неужели это профессия из сентиментальной девицы сделала унтера? Или чувство показного равноправия с мужчиной мстит за какие-то давние невысказанные муки? Или жернова жизни оставили в ней одну только злобность?
В сумраке пустой кофейни желтый заместитель председателя в зимнем пальто потягивал кофе и болтал с сонным официантом. День клонился к вечеру, наводя на вялые размышления: зажигать свет или еще рано? Время, когда хорошо молчать.
Зампред придвинул стул для меня.
— Чем занимаешься, Данила?
— Ничем… Отдыхаю от биографии.
— Что ж, до весны можно.
— Как это?
— Товарищ секретарь привет тебе передает. В клинике Мишовича ему удалили одно легкое. Утром получил письмо. Пишет санитарка под его диктовку. Не велел отпускать тебя. Из-за гор катятся большие дотации…
— Боюсь, я уже стар для этого.
— Велю жене спросить Малинку.
— Что, что?
— Не сердись. Уж и пошутить нельзя.
— Гм!
— А Малинка и в самом деле какая-то бледная, неспокойная. Данила, когда на свадьбу позовешь?
— Я ее недели три не видел.
— Тем желанней будет. Я тоже иногда удираю от жены. Поездишь по селам, а как вернешься, вроде только вчера поженились. Как парнишка?
— Отлично.
— Никола говорит, ты в Фрковичах кашу заварил. Даже до пистолета дошло…
— Пусть Никола не лезет не в свое дело. Не то я материал о лавках передам в прокуратуру… Официант, счет! До свидания, товарищ зампред!
— Погоди, куда ты так скоро?
— Дела…
Однажды ночью хаджи сказал мне:
«Данила, старина, запомни хорошенько! Мирному человеку никогда с миром не выпить кофе или ракии. Или кто-нибудь заглянет к нему в чашку или в рюмку, или кто-нибудь присоседится, от чего кофе бедняге покажется горьким, или наговорят такого, что годами тошно будет».
Так вот, с какой стороны товарищ Никола под меня подкапывается. Про пистолет слышал… Ладно, товарищ председатель, все стерплю, только Ибрагима не задевай, не то берегись! Будем биться не на живот, а на смерть, даю тебе честное слово. Пусть и беспартийное!
День прошел, как трепаное облако но небу. Ночь надавила на темя, как рука палача:
— Что делать?
Лег в восемь. А в одиннадцать удрал и от постели и от стен.
К первому перекрестку улеглись страх и тяжесть на душе, ко второму совсем отлегло, словно испил целительного бальзама, и тут же, будто на дрожжах, стала во мне расти какая-то красота. Дойдя до лесного управления, я придумал для сына дивную сказку. И заспешил к больнице, чтоб немедля рассказать ему. Только пропустила бы белая жандармерия.
Мокрый снег с дождем яростно сечет лицо. Я показал ему язык, как некомпетентной комиссии. Несчастный, он тихонько тает на живом трепетном теле. И я говорю ему: брысь, старый дурак, некогда мне с тобой валандаться, к сыну спешу.
Больница,
тюрьма для больных,
заперта на все замки. Врачи боятся, как бы не совершили побег несколько беременных женщин и калек. Нажимаю на все ручки — не поддаются. Потоптавшись у больницы, я отошел к забору и уставился на окна палаты Ибрагима. Будь то окна обыкновенного дома, они сами бы растворились на мой горячий призыв. Но эти окна подчиняются лишь законам внутреннего распорядка данного медицинского учреждения. Они открываются только на время уборки. Или когда доктор в кабинете учует вонь от гниющей плоти или желудочного расстройства.
В приемном покое засветились квадраты оконного переплета.
Я рванулся, как волк, узревший лаз в загоне. Тише змеи подполз к окну и заглянул внутрь. Молодая докторша, войдя в комнату, на ходу сбросила пальто, плюхнулась на стул и, словно защищая голову от нависшего кулака или сильного шума, обхватила ее руками.
В дверях вырос доктор. В пижаме. Поверх наспех наброшен домашний халат. Тучный, большой, с всклокоченными волосами, он неслышно подошел к свояченице и кончиками пальцев приподнял ей подбородок. Она отбежала на середину комнаты.
— Я сказала — хватит!
— Тончи, не дури.
— Уйди! Я закричу.
— Тончи, будь умницей!
— Ты мне противен.
— Однако же я тебе не был противен, когда платил за твое учение двенадцать тысяч в месяц!
— Я верну деньги.
— Тончи, не будь ребенком!
— Влада, пойми!.. Я не могу. Штефа больна, дети больны, а я тут с тобой… Я просто задыхаюсь. Грязь это.
— Ерунда. Провинциальные комплексы. Тончи, пройдет плохое настроение, и все опять наладится. Полюбуйтесь-ка на эту маленькую упрямицу! А к чему слезы? Солнышко мое! — И воспользовавшись тем, что она, утирая глаза, не видит его, он подошел ближе и обхватил ее за талию. Но тут же его отбросил мощный удар. Весь подобравшись, он сжал кулаки и двинулся на нее. Халат путался в ногах.
Я развел ставни и до пояса появился в окне.
— Извините, я с дороги услышал шум в приемном покое, дай, думаю, загляну. Добрый вечер, товарищ доктор! Ах, очень приятно видеть и нашу дорогую барышню. Добрый вечер, мадмуазель! Простите за бесцеремонность. Вы откроете мне дверь?
Оба ни с места.
Явно напуганы.
— Вы откроете мне? — повысил я тон.
— Тончи, открой ему! — сказал доктор.
Девушка провела меня по коридору в приемный покой. Доктора там уже не было. Сбежал.
Она села на низкую больничную кушетку. Я — рядом.
Молчу.
Молчу и курю.
Капли в водосточной трубе отсчитывают время.
Час.
Полвторого.
Два.
Молчим, я курю.
Полтретьего.
Она встала, пересекла, словно лунатик, комнату и закрыла дверь. Опустила синюю занавеску. Встала передо мной и каким-то замогильным голосом спросила:
— Ваша цена молчания?
— О чем ты, девочка? Садись!
— Не кривите душой! Предисловия излишни.
Я посмотрел на нее. Стоит в шаге от меня. Черная узкая юбка смирила бедра. Я машинально потер лоб. Она поняла это по-своему.
— Идет! — сказала она, сняла через голову юбку и легла за моей спиной на кушетку. Пальцем коснулась плеча.
— Пожалуйста. Пальто повесьте на стул!
Я сижу, с трудом удерживая разгневанные руки — они так и чешутся отколошматить ее как следует. Сжал зубы, чтоб не разразиться бранью
Курю.
Три.
Полчетвертого.
Вопрос в затылок:
— Мало?
Отвечаю, не оборачиваясь:
— Вставай, мать твою за ногу, доктор тебе зять, а мне он никто. Вставай, пока я не задушил тебя!
Она встала. Тем же манером надела юбку и села рядом со мной.
— Хотите навестить мальчика? Идите, только наденьте тапочки, чтоб не греметь башмаками по коридору… Вот эти вам, пожалуй, подойдут. Что? Почему вы молчите? Слушайте, не надо меня убеждать в том, что у вас язык от изумления отнялся. Вид у вас вполне нормальный. И бы не из тех, кто легко падает в обморок. Вас удивляет то, что вы видели? Вы поражены? Или стараетесь придумать такой вид выкупа, чтоб не выглядеть шантажистом? Вы до смешного лицемерны! Более десятка лет получаете жалованье, и за это время зрение у вас здорово упало. Не различаете нюансов. Социальный дальтонизм. Глупый бык, перед которым вдруг помахали красной тряпкой. Говорите же, что вы хотите! Или я вас выставлю вон, и болтайте по городу, что хотите. Плевать! Ну?
Четыре.
Она все еще сидит рядом со мной. И плачет.
Пятнадцать минут пятого.
— Умоляю вас, не молчите, это ужасно. Ну хотя бы обзовите меня шлюхой или скотиной! Ну, пожалуйста. Хотите, я отведу вас к мальчику?
— До свидания, мадмуазель! Примите таблетку успокоительного и ложитесь! Я не социальный дальтоник. Я отец.
— Постойте, куда вы? Постойте!
— До свидания!
Разбудила меня волна света, пробившаяся сквозь лес ресниц.
День.
Полдень.
Дочка хаджи на большом круглом подносе принесла кислое молоко с каймаком, стакан воды, вишневое варенье и пачку «Моравы» со спичками. Придвинула ко мне столик с подносом и смотрит, как я завтракаю. Свет улыбки все шире разливается вокруг ее губ. Наверняка думает, что я всю ночь где-то шлялся, как бы одобряет мои похождения и обещает хранить тайну. Жестом спросила про Ибрагима и принялась показывать, как я утром на цыпочках прокрался в свою комнату. Она разводила огонь на кухне и отлично видела меня.
Она не просто изображает мой приход, она играет мою роль. Выкинет вперед стройную ножку, коснется пальцами пола, потом слегка отпрянет назад и медленно и плавно выносит другую ногу. Снова бросок назад — и снова первая нога ступает вперед. Руки чуть вытянуты, согнутые ладони смотрят вниз, и кажется, будто она в кончиках пальцев держит туфли. Вдруг она остановилась, жестом велела мне ждать и быстро убежала. Вернулась с новым платьем в руках, объяснив, что хаджи подарил его ей дня два назад. Она положила обнову и стала расстегивать блузку, чтоб показать мне, как ей идет платье. Первое в жизни, потому что до сих пор она носила только шальвары.
Я крикнул ей, чтоб она не делала этого. Она обиделась. Почему? Ведь она всегда все примеряет при хаджи, а он делает разные замечания, говорит, где надо забрать, где выпустить, куда подвинуть бляху на поясе, а то и монисто застегнет — самой неудобно застегивать, не видно… А я большой друг хаджи, и такой же старый, как он, и в этом доме не чужой, чтоб прятать от меня руки по самую кисть и ноги до лодыжек. Так что же тут особенного?
Как быть? Настою на своем — она расплачется, а тогда — прощай, дружба! Позволю — тоже плохо!
И я принялся внушать ей, что лучше переодеться на кухне, в холодной комнате ведь и простудиться недолго.
Она послушалась.
Зашел к Авдану выпить чашку кофе. Поделился с ним своими бедами, разумеется, даже не намекнув, о ком речь. Авдан глубокомысленно выдохнул:
— Да!
Перед нами полноводная река тишины, мы выпили горячий кофе, и он снова вздохнул:
— Да! В молодости нам ничего не стоило изменить вере ради женской ножки. А теперь, когда, прости меня, сами вешаются на шею, нас одолевают страхи. То грех, то срам, то белой бороды стесняемся! Когда надо, получаешь шиш! Одеяло грызешь с тоски! А когда нельзя или не можешь, так бери не хочу. Сама себя предлагает да еще поддразнивает. Так оно, брат, рабу божьему на роду написано. Ты как следует и полакомиться не успел, а годы уж прошли. Зубы выпали, язык стал шершавым, в горле прогоркло. И давай руками и ногами отпихивать от себя божьи дары — где со страху, где со стыда. А еще, видать, не знаешь, что с собой делать, если примет тебя такого, каков ты есть. Эхма, вернуть бы мне мои сорок.
В больничном коридоре санитар Муйо кричал на двух крестьянок-рожениц, не умевших пользоваться унитазом. Меня он встретил радостной вестью:
— Товарищ Данила, докторша разрешила тебе приходить в любое время. Только — в тапочках!
— Спасибо, братец, спасибо!
— Иди, милок, ты свой человек. Докторша расспрашивала про тебя. Ну я и выложил, что знаю. Всему поверила, одному не верит, что у тебя только четыре класса. А когда я ей во всех подробностях описал, как тебя выгнали за то… ну знаешь, за историю с председателем, так она аж в ладоши захлопала да как закричит: «Молодец! Вот здорово!» Вот она, бабья вредность, Данила. Тебя загнали в эту дыру и жалованье меньше положили, а она: «Здорово!» Проходи, Данила, дружище, проведай своего Ибрагима!
Стою, прилепившись лбом к холодному стеклу.
Снег за окном упрямо расстилает белые покровы. Слышу, как он бесшумно сходит с небес, наподобие длинного полотнища с заветом, которое мы тщетно стараемся прочесть.
Белое море накатывает сверху на земную тишь.
Ибрагим еще пишет за своим столом.
— Почему ты зачеркнул? — спросил я, склонившись над его тетрадкой.
— Я написал: «Mein Vater ist Bauer»[23]. А ты служащий. Вот я и исправил: «Mein Vater ist Beamte».
— Да, сынок, кому-то надо быть и служащим.
— Ага!
Ибрагим выводит красивые круглые буквы, ровные, с явной тягой к украшательству. Меня бесит этот гладенький покой и правильность в его почерке. Будь у него угловатый, острый почерк с переходами от буквы к букве в виде стрел или волчьих клыков, я был бы спокойнее за его будущее.
Наконец он поставил точку, промокнул написанное, закрыл тетрадь, сложил книжки и встал. Взглянул на часы.
— Пора идти гулять, как доктора велели.
— …а потом на ужин в гостиницу!
— Ну уж нет, там сегодня танцы, народу будет тьма. Я все равно не буду есть, потому что плохо сплю после ресторанного ужина. У нас есть молоко и полбулки. А сколько немецких слов ты сегодня выучил?
— Четыре.
— Ты не выполнил норму. Как по-немецки конь?
— Погоди, сынок, конь… Конь, говоришь? Ага, das Pferd.
— Так не годится, ты подглядел в учебник!
— Клянусь, не подглядывал. А теперь ты мне скажи, как по-немецки кобыла?
— Этого нет в учебнике.
— Пфердиха, сынок.
— Ха-ха-ха! Вот насмешил… Ну, кто кому первый польет?
— Давай, что ли, я тебе.
Он разделся до пояса и стал мыться, под кожей так и переливаются плотные желваки мускулов. Поднабрался он жирку в больнице, а уж про дом что и говорить. Окреп, посвежел. Ему надо учиться, и потому мы составили строгий распорядок дня, от которого он не отступает ни на йоту. Подъем в шесть, умывание и завтрак до семи, затем я — на работу, он — за стол, в час вместе обедаем, после обеда я ложусь соснуть, он с дочкой хаджи бежит играть с соседскими ребятами, в четыре он снова садится за стол, я слоняюсь по комнате или коротаю время с хаджи, потом — сборы к ужину, в девять — желаем друг другу спокойной ночи, он засыпает, а я читаю газеты или часами смотрю, как он спит.
— За ухом!
— Теперь на шею немножко!
— Слушай, завтра обязательно постригись.
— Ох! — вздыхаю я.
Он быстро одевается. В зимнем пальто, горных башмачках и куньей шапке — ну прямо с шоколадной обертки.
— Поправь-ка шарф! Так! Ну зачем ты надвинул шапку на самые глаза? Ты же не крестьянин. Du bist Beamte, как сказал бы шваб.
Город умер под белым покрывалом.
Мы бодро шагаем по улице.
Загулявшийся пацан тащит сломанные санки и говорит нам: «Добрый вечер!» Две мусульманки ведут за собой целый караван. Отправились на посиделки. Первая несет старинный фонарь в форме пирамиды со свечой. В охотничьей кофейне запотелые стекла. Слышно, как там хлопают по столу картами. Табачный дым, конечно, до потолка. За окном приземистого домика — стук зыбки по голому полу и в лад ему — песня усталой женщины. Колыбельная. А ребенок заливается, словно его распиливают песней.
Зимний вечер посеребрен снегом.
Ибрагим, не поспевая за мной, бежит вприпрыжку. Я вижу лишь кусочек его щеки. Обнял его и увидел все лицо. Он повернулся ко мне и моргает, когда в глаза залетают редкие снежинки. Смеется. Кабы знать, что он не рассердится, так бы и расцеловал его.
Мимо нас проплыли три силуэта.
Ибрагим звонко поздоровался. Все трое приветливо ответили.
— Дядь, а почему ты не поздоровался? Это доктор с женой и свояченицей, тоже докторшей.
— Я плохо вижу.
— Они идут в гостиницу на танцы.
— Наверное.
Чем ближе к окраине, тем протопка становится уже. Ибрагим ухватил меня за руку и забегает вперед, подбрасывая ногой легкий, как пепел, снег. Вдруг он замедлил шаг, задумался и спросил:
— Дядь, а как же вы, партизаны, спали, когда все было под снегом?
— А так — на одно ухо ляжешь, другим накроешься. Бук — крыша, земля — подстилка. Ну а если повезет, набивались в убогие лачуги в каком-нибудь нищем селении.
— Ясно! Дядь, а товарищи тебя любили?
— Ну это кто как!
— А расстрелять они тебя хотели когда-нибудь?
— Гм! С чего это ты взял?..
— Скажи, дядь!
— Да они просто хотели пошутить. Я и сам охоч был до шуток. От кого ты услышал?
— От Малинки.
— Вот как!
— Я два раза ходил к ней на работу. И тот товарищ из совета приходил, ну тот, с которым она иногда сидит в ресторане. Рассказывала-то она не мне, а ему, но я слушал. Один раз они говорили про войну и про тебя, и вдруг Малинка заплакала. Мы заволновались, спрашиваем: что такое? Знаешь, дядь, как неприятно, когда женщина заширкает носом, а ты не можешь ее утешить. Она долго молчала, а потом сказала: вспомнила товарищей, которых больше нет на свете. Дядь, а ты мне так и не ответил, почему тебя хотели к стенке поставить!..
— Сынок, может, ты многого и не поймешь, но я все равно расскажу тебе все, как было. Мы отступали через Звезду. Я был ранен. Под мышкой у меня костыль. На груди — автомат. Полевой госпиталь. И кого там, братец ты мой, только нет! Безусые мальчишки, гимназисты, разные тыловые крысы, пенкосниматели, как мы их прозвали, старики патриоты, и вся эта шатия-братия отирается подле раненых и тифозных как негодные к строю. Оружие у них, однако ж, отменное, обидно даже, что зря пропадает. И тянется это охвостье за госпиталем, и надо отрывать у раненых последний кусок, чтобы их тоже накормить. Охраняла нас рота шестой восточно-боснийской бригады, я знал кое-кого из них, сплошь бедняки бирчанские, с первого дня восстания в партизанах. Парни измотаны, от усталости да голодухи еле на ногах стоят, хлеба не видели целую неделю. И у нас, как назло, ни крошки. Все скормили этим, с позволения сказать, патриотам, которые только и знают, что по тылам околачиваются в ожидании собраний и культурно-массовой работы на освобожденной территории. Тогда, мол, они себя и проявят.
На поляне измочаленный отряд напоролся на немцев. Бойцы залегли и приняли бой. Я своими глазами видел, как командир отделения сделал два выстрела и заснул. А эти прихлебатели бросились бежать, кидая лошадей, оружие и раненых. Тут уж я не выдержал. Скинул автомат, взял в руки костыль да как закричу им. Одному врезал по спине, другому, третьему, кого-то ногой пнул и дал очередь в воздух.
Словом, собрал почти два батальона,
произнес перед ними пламенную речь и приказал:
всем немедля в стрелковую цепь, чума вас разнеси, командовать буду я, а кто вздумает увильнуть, укокошу на месте, как изменника и дезертира. Эй, ты, толстый, на правый фланг, и чтоб твой пулемет строчил без передышки два часа, а ты, с золотым зубом, будешь командовать участком от этого камня до потока, и всем стрелять, черт бы побрал ваш патриотизм и культурно-массовую работу, борьба с фашизмом — это вам не загородная прогулка на каникулах и не традиционный пикник какой-никакой буржуазной партии!
Значит, выступаем!
И повел я их, а за нами бредут повеселевшие раненые. И поторапливают горе-патриотов:
— А ну, тыл, наддай!
Взбодрилась рота из шестой бригады, ну и погнали мы немцев, любо-дорого было смотреть, как они драпали да носами в зеленую траву-мураву зарывались. Оставил я эту шатию-братию на передовой, а командиру роты велел отвести своих на базу, пускай, мол, ребята подчистят все, что найдут съестного, и отоспятся. Дал им двадцать четыре часа под свою ответственность… Только один господин с пятиконечной звездой на шляпе и огромным пистолетом на ремне поверх драпового пальто закричал:
— Товарищ, я не могу позволить так со мной обращаться!
— Какое еще вам обращение? Разве я к вам обращаюсь? — удивился я.
— Этот крик… Мы не…
— Послушай, шляпа, заткнись, пожалуйста!
— Что? Ты с кем разговаривать?
И пошел изрыгать ругательства, конца-края не видать. Обозлился я да как хвачу дубиной этого патриота из какой-то там буржуазной партии. Он мигом вспомнил про дисциплину. На четвертый день вызывают меня в штаб дивизии. Хотят расстрелять за избиение видного буржуазного деятеля и члена ЗАВНОБиГа[24]. Мало того, по его навету обвинили меня в том, что я нарушил принцип братства, единства и национального самоопределения, а у меня, клянусь, сынок, и в мыслях такого не было, все он, мерзавец, придумал и сумел убедить товарищей. Приговор — расстрел!
К счастью, подоспел командир роты из шестой бригады, а он земляк комдива, и как увидел меня связанного, во грустях, и как услышал, что и почему мне уготовано, бросился со всех ног к командующему. Ротный не верховодил ни в какой буржуазной партии, и был он не «патриотом», а простым крестьянином, партизаном, коммунистом, вот он и доложил там все, как было на самом деле. А в заключение сказал:
— Я хотел бы, товарищи, чтоб товарищ Данила, когда поправится от ранения, принял у нас батальон. Комбат погиб. Заменил его один парнишка, да только по молодости лет трудно ему, а Данила еще в прошлом году командовал батальоном…
Меня отпустили.
После войны встретил я этого «патриота». Отсидел срок за какую-то подрывную деятельность, разошелся с ЗАВНОБиГом. Но тепленькое местечко все же нашел. Устроился заведовать просвещением в одном уезде. Зять у него руководитель местного масштаба. Ну и помогает ему заметать грязные следы.
Вот и вся история, Ибрагим!
— Дядь, а у тебя тоже горячая голова!
— Что поделаешь, сынок. Мы ведь уходили воевать без серебряных султанов на папахах и без серебряных блях на груди, без зурны, без бубнов и шумных проводов толпы. Голодные, босые, ожесточенные бедами. Ели, когда удавалось отбить у врага готовый обед. А если он нас отбрасывал, то бишь если мы всю ночь безуспешно атаковали город, а на заре из последних сил удирали обратно в лес, то не было ни обеда, ни одежды. Лежали мы тогда на мокрых листьях или на снегу, тяжело дышали в красно-синих туманах и ждали, когда прикажут брать другой город или высоту. И у каждого своих горестей хоть отбавляй. И все же, сынок, знаешь, как звонко и задорно мы пели «Роди, год, уродись пшеницей!». А сколько было шуток и смеха! И цветок не забывали вдеть в петлицу, когда проходили через село, где много девушек и где устраивались танцульки. Ведь у смелого человека, когда он, подводя итоги жизни, на одну чашу весов кладет беды и страданья, а на другую — причины для бодрости и веселья, вторая всегда перевешивает, хотя с виду положено на нее меньше. Вот сколько, сынок, я тебе сегодня наговорил…
— Всегда бы так!
— Нельзя, Ибрагим. Привыкнешь видеть одно прошлое, глаза ослепнут. Воспоминания надо держать в дальнем уголке мозгов, чтоб они не мешали видеть завтрашний день. Ну а время от времени извлекай, прочисть свои молодецкие очи… Тогда будет полный порядок.
— Верно!
По нашим лицам скользит мокрый ветер без снега. Ибрагим, понурив голову, держит меня за руку.
Только я отворил дверь, как в набитом зале что-то переменилось. Гул голосов утих. В легкое жужжанье времени врывалась выжидательная тишина. Прожекторы многочисленных глаз направляли на нас малоприятные слепящие снопы любопытства. Мы с Ибрагимом все еще вызывали в городе оживленные толки и пересуды.
Мы быстро протиснулись меж столиков. За нами, выгнувшись дугой, под скрип стульев тянулись взгляды. Когда мы сели, они, точно голодное воронье, набросились на наши лбы, руки, грудь.
Сын замечает, как нас захлестывают грязные воды сплетен, но он привык держать себя в руках. А мне так и хочется покрутить стулом над головой:
— Какого черта пялитесь, так вашу!..
А Ибрагим невозмутимо смотрит им прямо в глаза, и все взгляды один за другим опускаются, отступают, перебираются на другие пастбища, где есть пища для глаз.
Я учтиво поклонился ветеринару и его супруге. Судье и его семейству. Зампреду и его ханум. Доктору и обеим его дамам. Крикнул «Привет!» начальнику милиции, поздоровался с его женой, самым сердечным образом раскланялся с налоговым инспектором господином Матией и огромной его половиной, улыбнулся и поклонился всем, кого мог узнать в клубах табачного дыма… И мне все кланяются и улыбаются. И не знай я нас всех как облупленных, я воскликнул бы от полноты души: «Боже милостивый, до чего добрый и культурный народ! Только что не падают друг другу в объятья!»
Ибрагим четко, без запинки продиктовал официанту наш заказ. Я очень опасался, как бы на нас снова не налетело воронье любопытства. А то ведь кусок застревает в горле. И соус брызжет на одежду. Но тут заверещал аккордеон, точно стая гомонящих соек кинулась на ястреба.
Интерес к нам на время пропал.
Ибрагим пил молоко. Вдруг он нагнулся ко мне.
— Дядь, ты поздоровался со всеми, кроме Малинки и агронома.
— Я их не видел, сынок.
— Третий стол справа. За докторским. Не оборачивайся! Малинка посмотрела на нас и что-то сердито сказала агроному, а он пожал плечами.
— Ну и мы пожмем плечами!
— Как хочешь.
Дважды музыканты пытались вытащить посетителей из-за столиков. Какое там! Никто не желал выходить первым. Первого все меряют глазами с головы до пят, упрекают в нетерпении, невоспитанности, обсуждают, как он одет, как ходит, подмечают изъяны, не видя достоинств, раздевают до последнего.
Аккордеон заливается вхолостую. Всем хочется танцевать, но никто не решается сделать первый шаг. Барышни перемигиваются. Парни потирают вспотевшие ладони. Безразличные ко всему пожилые женщины со скуки дуют губы.
Как всегда,
дочь начальника почты, выпив две рюмки коньяку, вскочила и потянула за собой прилизанного парня с тонкими, как скалки, ногами. Жены и вековухи переглянулись: вот бесстыдница! Первая выскочила! А ведь ей на суд идти да в тюрьму за шахеры-махеры в магазинах. Срамница!
Парень, тощий, как селедка, ловко обхватил ее за талию и облапил спину. Большой палец под лопаткой. Мизинец играет где-то на пояснице. Томно положив завитую голову ему на плечо, она податливо сделала первое решительное па.
Теперь повставали и остальные.
Сын мясника Омера своими могучими мясницкими руками подхватил Пембу, служанку судьи. Красивый, гибкий цыган так сноровисто работает ногами, словно отбивает чечетку, а Пемба, широкобедрая, могучая девица, старательно вертит задом, ровно итальянским рюкзаком, гордая своей белой блузкой со старинной брошью, которую судьиха дала ей первого числа вместо жалованья. Потому что у судьихи просто не нашлось трех тысяч… Квартира, молоко, долг лавочнику, долг в кассу взаимопомощи, ребятам башмаки и зимняя одежда, а жалованье судьи — смех один!
Огромная, аляповато разряженная дочка пекаря, вся в складках жира и с тройным подбородком, прижала к животу своего мужа, маленького, сухонького налогового инспектора. Отрываемый поминутно от пола, он делает вокруг нее полный оборот, крепко держась одной рукой за ее пояс, другой — за рукав, но всякий раз, точно искусный борец, благополучно приземляется. Человек, в здешних местах новый, наверняка поклялся бы, что старичок вот-вот испустит дух, задавленный жирной тушей, и супруге придется на руках нести домой мертвого мужа. Однако на его лице, словно бы вырезанном из мореного бука, не дрогнула ни одна жилка, а с жены ручьями струился пот, смывая по пути пудру и румяна. Она танцует, выпучив глаза и пыхтя, шумно шаркая слоновьими ногами, и, наподобие разъяренного слона, расталкивает плечами танцующих — разумеется, без всяких извинений.
Танаско, шофер из каменоломни, целый месяц ходивший в полушубке, резиновых сапогах и сопревшем белье, наконец отмылся и переоделся, отдавшись в плен душившему его галстуку, из-за которого он про себя не перестает чертыхаться, запонкам, отутюженному костюму и новым, сшитым на заказ ботинкам на толстой подошве. Подхватив санитарку Персиду, разводку, он прижал ее к себе, жмурится, стервец, как кот на сало, и что-то шепчет ей в волосы,
вероятно:
ох, и исцеловал бы твой сладкий живот и бока, что так и играют подле моих, только не торопись, душа моя, не отрывай от меня своих твердых, соблазнительных грудок. Я шофер, ложусь и встаю ровно пес, сам Иисус Христос не мучился так, как мучается наш брат шофер на старой трехтонке, на которой ему надо вывезти из карьера четыре тонны и отмахать по шоссе сорок семь километров в один конец по три раза на дню, будь проклят тот, кто придумал эту работку!
И не сердись, душа моя, ежели я тебя прижму покрепче, больно истосковалось мое шоферское сердце!
Персида, санитарка и разводка, при всей своей некрасивости ангел во плоти, на которую господь не поскупился, покорно склонила голову на плечо Танаско и плывет по сладчайшим водам грез, не замечая, что ее партнер изогнулся, ровно бык, и, того гляди, подомнет ее под себя.
Да и кому какое дело, как мы обнялись. Танаско обещал, что мы поженимся, когда он сдаст экзамен на первый класс, и я ему верю, у меня на книжке триста тысяч с лишком. Потанцуем вот, потом Танаско выпьет вина, и мы пойдем домой, то есть на его грузовике поедем ко мне, ляжем и будем миловаться, сколько душа пожелает. А утром вместе позавтракаем, вместе разведем костер под замерзшим мотором, и я буду крутить ручку…
— Дядь, а почему ты никого не приглашаешь? — спросил Ибрагим.
— Э, сынок, плясать смолоду учись, под старость не научишься!
— Скоро и мне придется.
— Знаешь, Ибрагим, я тебе дам один совет: особенно не старайся. Оно, конечно, хорошо танцевать, но если взглянуть на дело конкретнее — танцами сыт не будешь. Хотя рано тебе еще об этом думать. Придет время — сам разберешься.
— Конечно, и без танцев забот хватает. Одна школа чего стоит.
— Правильно, сынок. Пошли домой?
— Посидим еще немножко. Не люблю я толчею, но здесь интересно.
— Что ж, смотри и размышляй!
Старшина, заместитель начальника отделения милиции, повел в танцующую толпу свояченицу председателя общины. Та постоянно живет в селе, а по субботам приезжает в город, чтобы культурно развлечься. Старшина излучает готовность самоотверженно охранять общественный порядок и покой горожан, строго блюсти законы и в то же время понять человеческие слабости, разумеется если они не противоречат такому-то и такому-то параграфу и такой-то и такой-то статье. Весь он как будто разграфлен по линеечке. Но в руке, обхватившей свояченицу председателя, в шее, в толстых губах и серых коварных глазах живет его дед Стоял, по прозванию Топор, переживший восемь жен и похороненный девятой. Он умудрялся разоружить и избить нескольких жандармов, а потом покорно шел в участок, сдавал оружие и шапки да еще выставлял их в таком виде, что начальник, как правило, вместо того чтоб Стояна упечь в тюрьму, делал разнос своим жандармам. Как-то он отвозил в Рогатицу жену попа Ташко, и попадья после того родила тройню, хотя всем было известно, что от пьяницы и добряка Ташко она никак не могла понести. Он был уже полуслепым стариком, когда сюда в конце сорок четвертого из Сербии нагрянули полки Дражи[25]. Один бородач позарился на его циновку. Стоян схватил топор да как ахнет его обухом по башке. Полевой суд четников приговорил его к виселице. Этот факт до сих пор значится в служебной характеристике внука, как доказательство исконной антифашистской настроенности его семьи. Правда, в той же характеристике почему-то не упоминается, как тот же самый Стоян за два года до этого отдубасил и партийного работника, не сойдясь с ним во взглядах на роль воеводы Вука в прорыве Салоникского фронта, — партиец стоял за Дринскую дивизию, а дядюшка Стоян воевал в отряде Вука[26].
Как бы там ни было, дядюшка Стоян и из могилы поддерживал своего внука — и чертами характера, переданными по наследству, и самим именем в его служебной биографии.
Старшина и свояченица председателя, прильнув друг к другу, маршируют… строго по правилам!
— Дядь, вон Малинка…
Агроном вывел Малинку, нежно, точно хрупкий бокал, оградил ее от всех ладонями и медленно вошел с ней в круг танцующих. Голова его возвышается над ее теменем, она склонилась ему на плечо, и они движутся, покачиваясь, словно скорбные друзья по несчастью.
Я погасил фары зрения.
И стал ковыряться где-то на дне души, где скапливается неведомый ил, питающий корни ревности. Но, увы, ничего не нашел. Только почувствовал, как снизу, из этого подполья, в половицы сознания впиваются, причиняя боль, острые шипы.
Я одернул себя.
«Эх ты, голова садовая! — крикнул я. — Выдерни разом все ошметки зубов и вставь искусственные, легче будет пережевывать время и воспоминания».
— А кого бы ты выбрал для меня, Ибрагим?
— Вон ту, толстую. Большая, правда, но как раз для тебя.
— Она меня задушит, сынок.
— Тогда пригласи свояченицу доктора. Она весь вечер только на тебя и смотрит. Вон и Малинка заприметила, как она стреляет в тебя глазами, и что-то шепнула агроному. В докторше, правда, тоже весу хватает…
— Боюсь, сынок. Не дай бог, чихну или кашляну, она начнет колоть меня шприцами и поить противными микстурами.
— Ну и бояка ты!
— Пуганая ворона куста боится.
— Тогда давай расплачиваться, и пойдем домой.
Мы оба вытащили бумажники. В его бумажнике я увидел несколько бумажек по тысяче и пятьсот динаров. Когда официант отошел, я глазами спросил, откуда они у него.
— Ты мне шесть раз давал деньги. А я их складываю на всякий случай, мало ли что!
Надо было пройти мимо докторши. Черная юбка соблазнительно обтягивает бедра… В памяти встает вопрос: «Цена молчания?» И под конец слезы. Удастся ли мне спрятать все это под маской учтивого поклона? Не лучше ли предпринять обходный маневр — пройти вдоль стойки, оставив в стороне их стол и еще две-три компании, которым следует отвесить поклон. Но не тут-то было. Докторша, не спускавшая с нас глаз, перехватила мой взгляд и поманила меня рукой. И чтоб сестра с зятем не слышали, откинулась назад:
— Проводите мальчика и возвращайтесь! Мне надо с вами поговорить.
— Будет сделано! — послушно сказал я жандарму, хотя сейчас она меньше всего походила на жандарма. В ярко-красной блузке, с копной огненных волос, она напоминала пышных, сдобных и легко воспламеняющихся австриячек, которых с невероятной легкостью покоряли полки боснийцев, самых невзыскательных и самых пылких венских любовников. И если б не тайна между нами, а также между ней и доктором, она бы сейчас танцевала и смеялась. Но груз памяти сдвинул морщинки вокруг глаз и твердых, крупных губ в выражение тревоги и озабоченности.
Я уложил сына, ласково попрощался с ним.
— Дядь, ты приходи побыстрей. А то опять голова разболится.
— Не волнуйся, я давно уж не полуношничаю!
В носках прошел я через прихожую, чтоб не разбудить хаджи и его дочку.
Я поймал себя на том, что спешу. Подгоняло меня любопытство и страх опоздать. Но где-то на полдороге в грудь мне ударило сомнение. Я остановился… Куда я иду? Зачем? Слушать историю ее отношений с доктором? Но это мне меньше всего хотелось слышать и из-за этого больше всего не хотелось оставаться с ней наедине.
И все же надо идти!
Хотя бы из благодарности за заботу об Ибрагиме. Недаром говорят: негоже терять друга доктора, в дороге спутника палку и кассира родича! Они всегда пригодятся.
Я видел, как она вышла из тени гостиничного подъезда и, пронзая каблуками снег, зашагала по улице.
— Проводите меня домой!
— Будет сделано!
Мы вошли в серую тьму переулка. Полусельская окраина города встретила нас мелким снегом и холодом, предвестником ветра с гор. Докторша шла с трудом, снег все время набивался в туфли. Когда последние дома остались позади, она взяла меня под руку. Расчет верный — до больницы вряд ли нас кто-нибудь увидит! Мало того, она сунула ко мне в карман свой холодный кулак и вложила в мою ладонь. Так мы и шли.
— Понимаете, мне трудно идти без опоры.
— Пожалуйста, пожалуйста! Я могу и понести вас, если хотите.
— Не нужно!
— Как желаете!
Спасаясь от ветра, она наполовину спряталась за мое плечо. Я выше ее на полторы головы, грудь колесом, силушкой бог не обидел. Я крепко держу ее руку. Сейчас она мне кажется хрупкой и не привыкшей к метелям девушкой. Рядом с ней я чувствую себя рыцарем, мне жаль ее, и я готов нести ее на руках. Но поскольку с первой минуты нашей встречи она захватила бразды правления в свои руки и всем своим видом призывала к молчанию, я и не заговариваю. Ведь мы, крестьяне, умеем держать язык за зубами и когда надо и когда не надо. Три четверти жизни крестьянин проводит сжав зубы. А ежели среди нас и появится какой говорун, у кого слова обгоняют мысли, то так и знай — папенька его во время какой-нибудь инспекционной поездки, ревизии или после собрания прижал его маменьку где-нибудь в клети или за стогом сена. Или же крестьянин от долгого молчания повредился в уме и мелет всякий вздор, тараторит от страха перед тишиной, которая снова сомкнется над ним, если он перестанет.
До больницы я не услышал даже вздоха. Только раз она шевельнула кулаком в моей руке в кармане… Легкое движение, и снова покой. И тепло ее тела, спрятавшегося за меня.
В дверях больницы я остановился, изготовившись пробормотать слова прощания.
— Войдите! — приказала она.
— Есть войти!
Я вошел.
Она пропустила меня первого в свою комнату. Задвинула занавески. Бросила на стул пальто и шарф.
— Садитесь, я сварю вам кофе.
— Есть садиться!
Она вышла.
Белая кровать с веселым пестрым покрывалом. Круглый стол с кружевной скатертью. Три кожаных кресла. Довоенная комната. Старинный гардероб с наполовину застекленными дверцами. Рядом — две полки с книгами. В углу — железная жардиньерка с горшком. Цветы однотонные, с плотными листьями. Топится печь. Свет не белый, в нем много здоровой красноты. От вещей и пола пахнет дешевым одеколоном.
Я перебрал в памяти все, что прочно и неколебимо лежит в основании дружбы, привлекательности и всяких сантиментов, чем продиктованы поздравления, приглашения и гостеприимство. Может быть, она все еще старается оплатить мое молчание? Или грубое высокомерие по каким-то неведомым мне причинам вдруг перешло в горячую симпатию? И милая докторша спешит возместить мне те прискорбные дни, когда она выгоняла меня и обзывала идиотом? А может, мне готовится что-то такое, для меня пока неясное, после чего я должен буду публично признать себя идиотом!
Я уж начал было взвешивать все «за» и «против», когда она вошла с подносом, на котором звенели чашки, рюмки, вилки и пузатая стеклянная и фарфоровая посуда. Обслуживание, прямо скажем, господское: много блеска, а не разъешься. Расставила на столе рюмки, холодную, тонко нарезанную телятину, хлеб, положила две пачки сигарет, каких мне еще и видеть не приходилось. А я, простак простаком, сижу как чурбан, сложив руки на коленях, смотрю и не смотрю, жду и не жду, когда она начнет. Она поставила кофейную чашечку и смерила меня с головы до пят. Поставила вторую, и снова хлестанула меня насмешливым взглядом. Наполнила рюмки, и снова — смотрит, оценивает. Поставила кофе на огонь, вернулась и, пристально вглядываясь в мое лицо, точно следователь перед тем, как начать допрос, взяла рюмку.
— Пейте!
Я чуть не вскочил и не грянул: «Есть пить!»
— Пейте еще!
Выпили по второй.
— Не хотите сказать тост?
— По какому случаю?
— Ну хотя бы… в честь нашей дружбы!
— Да пошлет нам бог здоровья!
— Ну, будем здоровы! Кофе потом. Ракия хорошая?
— Хорошая, товарищ доктор!
— Берите мясо!
— Спасибо, уже взял. Хотите «Мораву»?
— Я не курю. Хотя дайте! Сегодня я буду пить и курить.
— Пожалуйста!
— А как чувствует себя Ибрагим?
— Спасибо, доктор, хорошо!
— Ага!
Я с мудрым видом смотрю на свои волосатые руки, не осмеливаясь поднять глаза на нее. Вижу ее только до пояса. Она сидит напротив, нога на ногу, мне видны голые колени, белая опушка комбинации и полумрак полуоткрытых бедер, все жилы во мне бьют тревогу, хребет сгибается, я бы поднял очи молодецкие, чтоб увидеть ее всю, но
она смотрит на меня,
смотрит упорно и нахально, держит рюмку у губ, поверх нее пронзает меня синими стрелами глаз, сверлит лоб, так что череп мой уже скрипит, играет кинжалами вокруг моей шеи, сделает затяжку-другую — и снова за свое, по лбу моему скользит капелька пота, огибает бровь и скатывается по щеке в уголок рта. Я украдкой слизываю ее. Меня тошнит от омерзения. И я молю бога: «Господи, помоги рабу своему, ведь я же беспартийный!»
Вдруг она захохотала, разъединив нас лавиной смеха и задорных выкриков.
— Мошенник, — ласково бросила она и осушила еще одну рюмку. — Ну и хитрюга! Мне двадцать восьмой год. Кажется, я всего насмотрелась, но такого притворщика еще не видела!
— Хе-хе-хе!
— На таких женщины сами вешаются.
— Любопытно, но так оно и было…
— Притвора! Слушайте же вы, Данила Лисичич, Малинка была у меня на приеме. Я знаю про вас все. С самого начала войны.
— Право, не стоит перегружать свою память!
— Ха-ха-ха! Такого лицемера я еще не встречала.
— Это смешно?
— Еще бы!
— А когда я не смешной, то какой же, товарищ доктор?
— Страшный. Пей!
— Спасибо. И до свидания. Сын у меня дома один…
— Ни в коем случае! Сиди!
— Есть сидеть!
— Ха-ха-ха! Я рассказала Малинке, как ты меня отделал.
— Я? Вас?
— Той ночью… Я ошиблась. Думала, ты обыкновенный обыватель и пойдешь на сделку. А надо бы часами изводить тебя нытьем о своем несчастье, о зяте-шантажисте, о нашем мерзком треугольнике, где мы с сестрой жалкие жертвы. Вот тогда бы ты стал меня утешать, не испытывая никакого смущения! Правда ведь! С присущей тебе смелостью… словно совершаешь благородный поступок. Вернул бы мне, как говорится, веру в прекрасное, веру в людей. Правда ведь, седовласый хитрый господин? Что было бы, если б тогда я вся в слезах села к тебе на колени?
— Несчастным я никогда ни в чем не отказывал.
— Гм! Значит, кроме несчастья, во мне не было ничего привлекательного?
— Давным-давно, в молодые годы, мне случалось залезать в чужие сады. Теперь, когда я стал серьезным человеком, я меньше всего хотел бы оскорбить чувство собственности доктора.
— Перестань! Давай без оскорблений. Еще одно гнусное слово, и я всю посуду разобью о твою голову. Пей, мне охота с тобой напиться. Пей, раз я велю!
— Боюсь, что вы напьетесь, а я, вопреки нашему общему желанию, останусь трезвым.
— Не важно! Пей!
— Будем здоровы! Слушайте, зачем вы меня привели к себе?
— Чтоб осмотреть. Ха-ха-ха! Может, у тебя слабое сердце или печень не в порядке. Ха-ха-ха! Пей, что ты на меня смотришь! Скажи-ка лучше, ты видел всю сцену между мной и мужем сестры?
— Да.
— Ну и как? Противно?
— Грустно. Но меня не удивляет. Вы…
— Хороша собой?
— Да.
— Смотри-ка, какой отменный господин. Как ловко вывернулся!
— Доктор, вы совершенно белая. Перестаньте пить, вам будет плохо.
— Пустяки! Меня только немного качает…
Я не люблю пьяных разговоров. Все силятся быть остроумными, ничего вокруг не уважая, и себя роняют, и другим действуют на нервы. Мы и так погрязли в житейских буднях по пояс, а то и по самую грудь. Малую толику духа надо держать над головой, как пехота — оружие при переходе через реку. Лучше сохранить дивный напиток для редких праздников.
— Доктор, зачем вы меня позвали?
— Смотреть на тебя, дурак! — крикнула она.
Я схватил пальто и кинулся вон.
Сын Ибрагим спал, подложив под щеку ладонь. Я стоял над ним, а в сердце росла тревога.
Сынок, что же с тобой будет, когда тебя станут завлекать, пуская в ход и прелести и слезы, а ты хоть и смог бы, да не захочешь, а потом захочешь, да не сможешь и будешь локти кусать? С какими только проблемами не столкнешься ты, зеленый, как зеленая трава, слабый всадник на хитрых клячонках, оставлявших в дураках самого Джерджелеза[27]. Сколько подвигов и добрых дел совершил он, а люди и по сей день вспоминают беднягу с насмешкой и сожалением.
Постараюсь подготовить тебя к этой жизни-поединку. Под одну руку сошью тебе амулет из корана Маркса, под другую — из фактов какой-нибудь точной науки. В подкладку шапки зашью горсть нашей крестьянской земли, чтоб тебя не оставили здоровье и разум. Все это охранит тебя от сглаза, от немощи и угодливости, от горького подхалимского куска, от узды, а также и от высокомерия, ну и, конечно же, от низкой ставки в штатном расписании.
Лишь против одного мне не снабдить тебя амулетом — против жаркого кипения крови, которая годами течет спокойно и вдруг взыграет, зашумит, потечет по жилам палящим огнем. Многие умные головы она под топор подводила, имения расшвыривала, точно камушки, детей на улицу выбрасывала,
против злого удела, когда женщины вешаются тебе на шею и тебе не остается ничего другого, кроме как лезть в петлю или вступать в брак.
Я, сынок, до своих пятидесяти с гаком лет еще как-то удержался, хотя не раз висел над пропастью и с трудом выкарабкивался весь в крови и ссадинах. И это не бог весть какое счастье, но когда я вижу, как живут люди, которые в какой-то безумный миг поверили, что обрели счастье, я бываю доволен своей судьбой.
Есть, сынок, два пути.
Или подними знамя повыше, и размахивай им направо и налево, и пользуйся всеми, кто на тебя клюнет, покуда сможешь. Или замкни на замок свои порывы и встреть девятый десяток в мире и спокойном сознании, что ты все посты отговел, все молитвы сотворил, потому и вознесся в высшие сферы, где обретаются святые или скопцы, мнящие себя святыми. Одного я тебе не желаю — жалкой середины, когда женятся, приняв минутную вспышку за любовь, живут со своей благоверной лет сорок — пятьдесят, облысеют до времени и ослепнут, прирабатывая по ночам, чтоб свести концы с концами.
Может быть, я ошибаюсь. Может, я, старый вдовец, не слышу мелодий, которые выводит перо регистратора. Я только вижу — стоит человеку жениться, как у него начинают гнуться плечи и выпадать волосы. От радости такого не бывает.
К счастью председателя, меня надолго посадили на больничный. Теперь он спокоен, что я не поднесу ему новых сюрпризов. Счастлив и доктор, полагающий, что он расплатился со мной за молчание о том, что я видел однажды вечером. Докторшу я за три недели встретил всего один раз, да и то мимоходом в коридоре совета. Она остановилась, несколько секунд смотрела на меня с удивлением, как на неизвестное медицине явление, — и прошла мимо. Может быть, она бы и сказала что-нибудь, не появись на горизонте две служащие — они жевали бутерброды и облизывали нас сгорающими от любопытства глазами.
Я обленился, как кот, которому не надо ловить мышей. Сижу, лежу, стою у окна, гляжу, как стрижет крыши мелкий снег, читаю или разгоняю грозовые тучи на небосводе памяти.
Ибрагим, не разгибая спины, учится. Зубрит наизусть. У бедняги нет времени, чтоб, как другие дети, в придуманных учителем играх и забавах постигать школьные премудрости, все эти зайны, хабены, фатеры и мутеры, разные там партиципы активные и пассивные. Эх, если б я мог заменить его — я бы разом проглотил все тетрадки и хрестоматии и даже циркуль с треугольником уж как-нибудь пропихнул бы в себя. Чего только не проглатывает живой человек за свою жизнь, так неужели же не пройдет в пищевод самый обыкновенный циркуль за шестьдесят динаров!
В час обедаем. В семь ужинаем. А до ужина гуляем — разминаем затекшие ноги. По вечерам я иду посидеть к хаджи. Не пью, ссылаюсь на катар, который мне придумал верный друг доктор. Слушаю рассказы хаджи и, грешным делом, поглядываю на его дочку. Она с каждым днем все пышнее расцветает дикой и страшной красотой. И. неизменно сидит у ног хаджи, готовая по первому его знаку прислужить нам. В девять говорю старику «алахиманет!»[28], отрываю сына от стола и ученья, и мы ложимся. Он засыпает. Я всю ночь не смыкаю глаз — частью от бессонницы, частью от страха, как бы Ибрагим не раскрылся во сне и не простудился.
Утром поднимаем друг друга:
— Эгей, товарищ, подъем!
Убегаю от мыслей о Малинке в чтение. Глаза от непрестанного скольжения по мелким строчкам с болью выкатываются из орбит. Сегодня я одолел полкниги. Сыт по горло и чтением, и самой книгой. А ведь я взял ее, соблазнившись названием, — надеялся найти там что-нибудь о нас и о наших сражениях. Странные ребята пишут о войне. То мы у них этакие здоровяки и паиньки, то все сплошь валяемся в тифу, от чего самые окаменелые офицерские сердца пускают слезу. И ни слова нет о пехоте, о той усталой и преданной до конца партизанской пехоте, серой и спокойной на марше и опасной в деле, о пехоте, которая кричала только в атаке, а в атаку шла по приказу командира, когда же его не было, по приказу того, кто шагал впереди, о пехоте, которая, что греха таить, порой и отступала, рассыпаясь по долам, а потом, вновь крича и улюлюкая не хуже турок, снова кидалась в бой и отбивала потерянные позиции. О той пехоте, что молча умирала на полях, в кустах, во рвах и всевозможных других местах, о пехоте, которая, к сожалению, не значилась ни в каких списках — ни живых, ни мертвых! Нет той пехоты, вымокшей до нитки, отчаявшейся, безотказной, а как соберешь, бывало, политический актив — железно сознательной. Не пахнет по́том, обгорелыми шинелями, немытыми ногами и жилистым телом. Не услышишь песен, топота и звяканья пустых котелков.
Я бросил книгу.
Ибрагим услышал шум и обернулся.
— Устал?
— Запыхался, сынок, пока поднялся с писателем на одну высотку, а ведь я и через девять гор пройду — не задохнусь.
— Спроси меня последний урок.
— Знаешь что, иди-ка ты лучше покатайся… Все ребята сейчас на улице… А я немножко сосну.
— А на чем мне кататься?
— Одолжи у кого-нибудь до завтра. А завтра купим.
— А если сломаю?
— Береги себя! Все остальное возместим.
Сын ушел. Шелковые нити сладкого дневного сна стали нежно меня обволакивать. Я обрадовался — вот хорошо-то! Задам храпака аж до пяти. Пораньше поужинаем. А то опять с Малинкой встретимся… Нога ее прорвала черные завесы забытья. Я узнал ее по тонкому белому рубцу, проложенному на коже осколком снаряда. Нужно ли что-нибудь сказать… ерунда, об этом не говорят. Иди же ко мне, шептала моя, никто не увидит и не услышит. Я поцелую твое белое колено! Дивный сон, ты даешь все, ни к чему не обязывая!
Из глубин горла несется мужской зов.
Малинка еще распускает волосы.
Зов все настойчивей.
Малинка — привидение, превзошедшая красотой самое себя, жестом приказывает мне отвернуться, дать ей раздеться.
Данила,
кто-то упорно зовет меня, а я знай себе тороплю Малинку, и только я обнял ее и втащил к себе под одеяло, как вдруг этот настырный голос наконец проник в мое сознание, уютно умостившееся в самой отдаленной извилине.
— Проснись немедленно!
Я вскочил, взбешенный из-за сорванного свидания.
Санитар Муйо щурится от снега и кричит мне в окно:
— Беги скорей в больницу! Ей плохо. Зовет тебя.
— Кто? Докторша?
— Да нет же! Малинка…
Ноги мои подкосились, чуть не сложившись гармошкой. Я в ужасе вспомнил сон. Уж не начал ли я предчувствовать, как корова дождь, а овца — резню в загоне?
Хаджи с дочкой выбежали в коридор.
— Что случилось? — шепчет хаджи таким голосом, как если бы сгорела Мекка. — Что сказал Муйо? Уж не с Ибрагимом ли что стряслось?
Я их успокоил и вырвался из их рук. В больничном коридоре стоит докторша, холодное надменное лицо обрамлено факелом огненных волос.
— На втором этаже, четырнадцатая палата. Пыталась сама сделать выкидыш. Внушите ей, что она будет жить. А потом зайдите ко мне!
— Есть зайти к вам!
Я робко постучался в дверь.
На кровати сидит толстая старая ханум с четками в руках. Мертвыми заплывшими глазами, которые едва видят в узкие щелочки, она показала мне на соседнюю койку и снова предалась молитве.
Среди множества подушек лежит женщина. Рука на одеяле задвигалась, два пальца поманили меня и, словно два стебелька, снова легли. Малинка! Осунулась. Истаяла. Огромные глаза. Подурнела. Постарела за четыре дня на двадцать лет. Опустошенная — хоть плачь.
— Видишь, что со мной стало?
— Вижу.
— Доктор сказала тебе?
— Сказала.
— Знаем только она и я. Данила, я умру. Хотела под конец сказать тебе…
— Чепуха! Через неделю выйдешь.
— Нет. Я чувствую…
— Обычное женское паникерство. Через неделю будешь дома, даю честное слово, Малинка, знаешь, я, конечно, не ожидал, но… как выйдешь, мы сразу поженимся и… делу конец!
По лицу ее прошла черная тень гнева.
— Уходи! Я тебя не для этого звала.
— Хорошо, хорошо, успокойся, может, тебе что-нибудь принести?
— Уходи!
— Апельсин, лимон, инжиру?
— Уходи! — крикнула она и потеряла сознание. Толстая ханум повернула свои сто килограммов больного разбухшего тела и глазами приказала — вон!
С шапкой в руке, как побитая собака, как последний дурак, я вышел на снег.
— Я же велела вам зайти! — догнал меня голос.
— Ах да, извините!
Я встал посреди комнаты, как преступник, струхнувший перед грозным полицейским следователем. Докторша подошла ко мне.
— Почему вы тогда убежали?
— Не понимаю. Когда?
— Когда я была пьяна.
— Ах, вот вы о чем… Слушайте, товарищ доктор, бросьте чепухой заниматься. У меня нет времени на чужие истерики и обмороки.
— Вот вы как?
— Да, так.
— Опустите руки!
— Что? Не понял!
— Руки вниз. Вот так.
И она влепила мне такую пощечину, что я покачнулся. А потом, заложив руки за спину, отошла к окну.
— Для этого я вас, собственно, и позвала. Чтобы расквитаться за оскорбление. В меня вы плюнули, святоша и чистюля. А Малинке, как простой смертный, сделали ребенка и бросили без всяких причин. Я была о вас лучшего мнения. А на поверку вы ничем не отличаетесь от других. Даже хуже. Ваше лицемерие ни с чем не сравнимо. Грязь еще можно стерпеть, когда она на виду. А вы завернули ее в целлофан, в какой заворачивают лекарства и сладости. А теперь вон!
— Я хочу вам только объяснить…
— Вон! Или я позову доктора!
— Целую ручки, мадмуазель!
— Идиот! — Я был уже в коридоре, когда меня, словно гладиаторская сеть или ковбойское лассо, снова настиг голос: — Постойте! Я разрешаю вам каждые два часа навещать Малинку. Она все еще верит только в вас. Но при одном условии — не вздумайте ей ничего обещать. Замужество, помощь, совместный отъезд и так далее.
— Я уже…
— И что?
— Она прогнала меня.
— Правильно. Вы забыли, что и женщины умеют быть гордыми. Можете идти!
— Целую ручки, мадмуазель.
И уже на лестнице я услышал за собой гневный возглас:
— Деревенщина!
Сыну я, пожалуй, дам еще один совет: сынок, старайся обойтись без пощечин. И не заводи себе другую даму сердца, пока не разберешься с первой. С двумя сразу — запутаешься. Даже гении, что нашли средство летать к звездам, являются одноженцами. Только дикари с лопушиными мозгами да равнодушные турки пускались в такие авантюры. Всех прочих ударяли по зубам, по карману или — по биографии.
Хаджи с дочкой прикладывают ко лбу Ибрагима мокрые полотенца. С трясущимися от страха руками я присел на корточки подле него. Сын стянул полотенца и приветствовал меня синей шишкой над правым глазом.
— Дядь, не волнуйся, одна только.
— Ладно, сынок, на то и дана человеку голова, чтоб было где сажать шишки. Упал?
— Нет. Налетел на лыжах на забор хаджи. Видел пролом?
Хаджи похлопал его по плечу.
— Молодец, парняга, свалить такой забор только богатырю под силу. Эх, будь я помоложе, встал бы я на эти, прости господи, лыжи и к последней молитве поспел бы в Сараево.
Сын заснул раньше обычного, я сделал ему холодный компресс и вышел на кухню.
Хаджи в своей белой чалме был сегодня особенно разговорчив. Прислуживала, как всегда, дочка. Временами из комнаты напротив кричала безумная Арабка:
— О хаджи, где мой сын Сулейман?
При каждом крике мы вздрагивали. Немая порывалась встать, но хаджи снова сажал ее взглядом. После сегодняшних событий я позволил себе выпить. Пряча глаза в чащобе бровей и ресниц, облизываясь и лязгая зубами, я волчьей поступью ходил вокруг девушки. Она смиренно сидела у ног хаджи, а мне чудилось, что швы смирения вот-вот лопнут под напором внутреннего волнения, она вскочит и закружится в колдовском танце, о каких мне рассказывал паломник — он видел их, когда в медресе постигал науки, а вместе с ним — азартные игры, песни, танцы и разврат. Сквозь шелк опять проглядывали белые ноги.
Я пытался понять, почему на ней этот грешный наряд и зачем она сидит у ног хаджи, но ракия уже утопила вопросы в теплом колышущемся мареве. Дикая козочка хаджи примешалась к Малинке, агроному, докторше, к каким-то другим людям, которые толпами ломились в память, словно на дверях ее висела табличка: «Народный цирк. Вход бесплатный».
Щека еще горела от пощечины докторши, уличая ракию во лжи. Жизнь все же не так проста. Оплеух в ней предостаточно. Влепишь одну — получишь десять. А если увидят, что ты и одной дать не способен, дело твое дрянь. Щеки твои станут тренировочной площадкой для любителей такого рода упражнений.
Хаджи долго со смаком рассказывал похабную историю про жену какого-то стамбульского трактирщика, которая целый год, к их обоюдной радости, кормила его как на убой. Дело кончилось тем, что трактирщик прижал было крепкого и здорового подмастерья, а тот, только теперь уразумев, почему стамбулец был равнодушен к своей жене и почему закрывал глаза на его прогулки в ее покои, с такой силой дал ему кулаком по макушке, что тот так и сел на свои противни и сковородки.
В дверях кухни мы с хаджи простились по полному церемониалу старых выпивох, пожелав друг другу здоровья и удовольствий, а если кто отдаст концы ночью, то — божью милость и райские кущи. Осторожно, чтоб не разбудить сына, я сменил ему компресс и сел у его ног. Спать не хотелось, а от долгих разговоров с самим собой делается страшно. С радостью я отложил бы саморазнос, по крайней мере за прошедший день. Как белесая травка из-под камня, робко возникла надежда, что утро, чистое и студеное, вдохнет в меня мужество и представит вещи в их истинном свете. В одном я не сомневаюсь и сейчас — к Малинке пойду непременно. Как вернуть ей поколебленное жизнелюбие и при этом избежать непрошеного великодушия? Тем более что великодушия никакого и нет. Ведь я… я вправду люблю ее, но… господи, через три года ишиас согнет меня в три погибели, от грудной жабы глаза начнут вылезать из орбит, каждый шрам, каждый желвак, довоенный и военный, завопит от боли. Я превращусь в дряхлого старика со множеством неизлечимых хворей, буду слоняться по дому во фланелевых кальсонах и шерстяных носках, ночью — обматывать голову нагретыми полотенцами, а бока обматывать поясом, чтоб унять ноющие почки. Через три, через пять лет. Как раз тогда, когда Малинке нужен будет здоровый и неутомимый муж, который с первыми сумерками поспешит задвинуть плотные шторы, которому достаточно будет увидеть коленку жены, чтоб схватить ее в охапку и бросить на кровать. А меня в это время Муйо и другие санитары будут носить по больничным коридорам.
Я сжал кулаками голову, пытаясь из этой пересохшей колоды выдавить хоть одну умную мысль. Пустое. Из горячечной сумятицы торчит, подобно белому минарету, острие непреложного вопроса: как быть? Пожертвовать Малинкой и тем соблюсти шаткие принципы общепринятой морали? Или замарать себя всеобщим презрением и дать возможность Малинке через несколько месяцев все же увидеть мою правоту?
Не знаю. Не знаю.
Меньше всего меня заботит гнев Малинки, когда я попытался ее утешить обещанием жениться. Обычные женские штучки. Как представит себе свадебную фату, кухню и детей в колыбели, ночи любви и возможность пройтись по улице под руку с собственным мужем, от гордости и следа не останется, будет сгорать от нетерпения перейти к делу — поскорее выполнить все формальности.
Так и случилось.
Когда я после бессонной ночи, проведенной у постели сына, вошел на цыпочках в палату, Малинка уже полулежала причесанная, со слегка подкрашенными губами, в белой прозрачной блузке, сквозь которую была видна комбинация с тонкими, причудливыми, как иней, кружевами. Улыбка ее говорила, что вчерашнее забыто.
— Я знала, что ты придешь! — тихо прошептала она, чтоб не слышала толстая разбухшая ханум с четками в руках. — Почему без галстука?
— Забыл. Да и пуговица на воротничке оторвалась.
— Сейчас попрошу Драгицу пришить.
— Не стоит. Ну как тебе? Лучше?
— Намного. Только еще нельзя вставать. Но доктор говорит, что к субботе встану. Данила, хочешь шоколаду? С работы принесли вчера… А мне нельзя. Вот сигареты, ты ведь куришь нишские. Кури, а как услышишь в коридоре шаги, сразу погасишь. — Она медленно завела руки за затылок. Это движение, приподнявшее грудь и натянувшее мышцы на руках, столь привлекательных своей белизной, было скорее движением женщины, которая отдыхает или готовится пококетничать, нежели движением больной, желающей просто изменить положение онемевших членов. Под иссиня-белый бархат кожи начала приливать кровь, румяня щеки, таинственными путями возвращая глазам блеск здоровья, погашенный отчаянием и болезнью.
Сгустившиеся было над ней грозные тучи расходятся, и я от радости готов был прыгать, как козел. Вспомнился дед. Сидит у очага и наставляет меня, молодожена: «Жену, внучек, береги, но не верь, когда она заохает или заведет глаза, словно с душой расстается. Перво-наперво пообещай ей купить в лавке новый платок или ботинки. Ежели через два часа не встанет, тогда только зови доктора. Дело серьезное. А ежели встанет, купи обещанное, да только смотри, не допускай, чтоб это часто повторялось».
Малинка еще очень слаба. Она потеряла много крови, и должно пройти время, чтоб все вошло в норму. Я не чувствую к ней физического влечения, только под ложечкой шевелится какое-то сладостное ощущение, точно такое же бывало в детстве, когда я носил на груди прелестного котенка. Правда, потом котенок этот вырос в огромного кота, с которым не могла справиться даже местная жандармерия, не говоря уж про сельчан.
— Данила, я на днях видела и тебя и Ибрагима в грязных башмаках.
— Душа моя, живем как два бобыля! Без женской руки.
— При чем тут женская рука? Сами должны чистить.
— Конечно, конечно. Я хотел сказать — нет женского руководства. Дисциплина упала. Ждем, когда ты выйдешь из больницы.
— Думаю, денька через три-четыре.
От вчерашней «гордости» не осталось и следа. И все же, несмотря на наш молчаливый уговор не поминать старые размолвки, я не сомневался, что объяснения не миновать. Стало быть, надо готовиться к литру слез, к двухчасовым уверениям в своей невиновности, вернее в желании не быть виноватым в том, что может произойти в будущем, — словом, тут пойдет в ход более тонкая материя, чем болтовня на больничной койке во время второго посещения.
Или же купить ей туфли и платок по рецепту деда?
— Чтоб был у меня завтра ровно в восемь! — приказал председатель Никола. — Предстоит важный разговор.
После скандала, вызванного ревизией торгуправления, мы не только не искали повода для разговоров, но даже не здоровались. Правда, он долго отсутствовал. На всякий случай взял больничный — не ровен час, всплывет наружу лес на дом отцу и кредит в лавках. Когда страсти улеглись, не задев его имени, он вернулся. Однако с тех пор стал частенько прихварывать. День на работе, два — дома.
Он ненавидел меня, как ненавидят тещу, директора, неприятного свидетеля или подчиненного, с которым ничего нельзя сделать. Конечно, он мог бы найти способ выдворить меня из этой общины, но я чувствовал, что он сам собирается ее покинуть. Комитетчики и члены совета до того уже издергались, что с нетерпением ждали удобного случая и благословения сверху, чтоб на торжественном заседании совета вручить ему благодарность за полбиографии, потраченной на сегодняшние нужды, и пожелать счастья и светлого будущего — пенсии.
Я его не боялся, и тем не менее вызов ровно в восемь меня озадачил. Что за важный разговор? Это угроза. Наверняка приготовил какую-нибудь пакость. Впрочем, он принадлежал к той категории руководителей, которые любят напускать на себя такой вид, будто готовятся сообщить про божию кару, не иначе, а наступит утро, глядь, мы уж несколько дней назад все из газет знаем. Хотя, повторяю, он любит стрелять из пугача, возможность помучить меня у него была.
Может быть, это просто игра высокопоставленного чиновника с ненавистным подчиненным. Извести, отравить страхом перед неизвестностью, капля за каплей — в мозг, в нутро. Сегодня, завтра, послезавтра, пока не начнешь сгибаться перед последним пожарником. И хотя наутро не происходит ничего страшного, где-то на дне души появляется язва, а в хребте — страх перед человеком, который всегда имеет право вызвать тебя на завтра, утаив сегодня причину вызова. Запугивание — один из способов добиться почитания. К нему прибегают люди, неспособные заслужить любовь. Эта старая истина ведет свое начало со времен первых выборов старейшин на первой ступени развития первобытного общества.
Я не боюсь волка, для него у меня есть топор. Не боюсь банды, уж мне ли не знать, что такое лес и как выхватить оружие, когда дело решают доли секунды. Не боюсь я ни чахотки, ни белокровия — человек я не городской, да и вообще не слишком современный. Но председателя, который боится меня, побаиваюсь.
Утром без двух минут восемь я подошел к его кабинету. И кого, вы думаете, я там застал? Мурадифа Фрковича. Сидит на корточках у стены, курит. В новом суконном костюме и солдатских башмаках. На голове, ровно красный обруч, красный шарф. За таким же поясом нож с перламутровым черенком и широким лезвием — каким режут волов. Меня кольнуло подозрение. Не иначе, дело в Ибрагиме.
— Зачем пожаловал, Мурадиф?
— Да так, добрый человек, по своей надобности…
И, пряча от меня глаза, снова задымил самокруткой.
— Уж не ради ли Ибрагима пришел?
— Ибрагима? Нет, зачем он мне? Слышал я, хорошо ему у тебя. Сыт, обут, одет. А как ты, мой дорогой боевой товарищ?
В любом другом случае я не выдал бы своего страха. Но сейчас речь шла об Ибрагиме, и у меня задрожали руки. С дурными предчувствиями, с натянутыми, как струна, нервами вошел я к председателю.
Ровно в восемь.
— Доброе утро, товарищ Никола. Как спал? Как почки? Выглядишь совсем неплохо…
— М-м-м… Здравствуй! Садись!
— О, спасибо, что-то у меня с самого утра слабость в ногах.
— Значит, Данила…
— Слушаю, товарищ председатель!
— Что это за мальчик ходит с тобой по городу?
Весь город знал про Ибрагима. И он узнал на третий день, как тот появился в Виленице. Сейчас ему нужен зачин. Заведомой ложью, что он ничего не знает, он лишал меня права обвинить его, что все заранее подстроено.
— Это мой мальчик, товарищ председатель.
— Не твой. В его метриках ты не значишься. Это сын некоего Латифа Голяка.
— Верно. А я его усыновил. Сегодня же оформлю.
— Не успеешь.
— Что? Успею, товарищ председатель.
— Не успеешь. Я отдал приказ — или вернуть его в село родственникам, или определить в детский дом. Как положено по закону. Ты не в состоянии его содержать, и потом, какой из тебя воспитатель? Ты пьешь, этим ты еще в Лабудоваце прославился, да и по ночам любишь пошляться. Ты понятия не имеешь о родительских обязанностях. Кроме того, ты утратил доверие уездного руководства, теперь хочешь вернуть с помощью мальчишки — смотрите, мол, братство-единство, ребенок павшего борца, товарища по оружию. Ерунда все это! Уж не собираешься ли ты выставить свою кандидатуру на следующих выборах? Я предупреждал тебя — никаких художеств в пределах моей общины! Не знал я, что ты и на такое способен. Ребенка у тебя отберем… Впрочем, реакционно настроенные слои в мусульманских селах распространяют слух, что ты взял его, чтоб окрестить, воспользоваться его пенсией и всем, что причитается ему, как сыну погибшего партизана.
— Вот как?
— Да, так. Я уже отдал распоряжение сотруднику собеса…
— Ну а теперь послушай ты меня. Не бойся, пистолет я не выхвачу. Во-первых, боеприпасы нынче дороги, а во-вторых, у меня есть средство получше. Хотя я с удовольствием задушил бы тебя или свалил тебе на башку вот этот шкаф с архивами. Ты человек умный, товарищ председатель. Деловой, так сказать. Результаты обследования торгового управления еще не сданы в архив. Давай договоримся: оставь меня в покое, и я не вытащу на свет божий лес для дома твоего отца и долги твоей жены по лавкам. И не поставлю вопрос о незаконности твоей медали первоборца и про два месяца, которые ты провел с четниками. Услуга за услугу. В противном случае на твою голову падут три партийных, шесть финансовых и сколько пожелаешь республиканских комиссий. Прежде всего тебе придется расстаться с медалью, ибо у меня есть восемь живых свидетелей по другим общинам, которые помнят про твои шуры-муры с четниками. Затем, помимо дел в торговом управлении, мне известно, как вместо школы строили мост в твоем избирательном округе, известно про деньги, пошедшие на ремонт машины, которую ты разбил, когда учился крутить баранку, известно, что ты вписал в трудовую книжку четыре года, якобы проработанные до войны на пеновацкой лесопильне, а на деле ты работал там шесть с половиной месяцев, известно, что ты устроил стипендии своим племянникам, лоботрясам и разгильдяям, вычеркнув из списка стипендиатов сына увечного Мехмедовича из каменоломни… И вообще, мне много чего известно, — чтоб все перечислить, потребуется машинистка и несколько килограммов тонкой бумаги. Так вот, товарищ председатель, предлагаю тебе мировую! Конечно, с моей стороны нечестно таить от общественности твои подвиги. Но мне тебя жаль. Что и говорить, в военных интендантствах и тыловых командах тоже было нелегко. Нужна была смелость и для того, чтоб пересидеть на базе, пока кончится очередное вражеское наступление. Ты уже порядком сдал. У тебя дети. Надо выслужить хорошую пенсию. На чашах весов добрые твои дела все же перетянут. Поэтому я тешу себя мыслью, что не слишком обременю свою совесть, если предложу тебе мировую. Итак, решайся, товарищ председатель.
— Вон! — простонал председатель.
— До свидания, товарищ председатель!
Мурадифа у дверей уже не было.
С половины девятого до трех я побывал у зампреда, у заведующего собесом, у председателя общества «Друзья детей», у председательницы комитета женщин, у секретаря молодежного комитета, у прокурора, у председателя суда, у трех членов партийного комитета общины, а секретарю партийного комитета послал в Белград, в клинику, срочное письмо. Всех обошел, всем объяснил, всем дал понять, что за мальчика я буду стоять насмерть. Все нам с Ибрагимом обещали поддержку, а председательница комитета женщин, после того как мы всласть надулись кофе, сказала:
— Поскорей устраивай свои дела с Малинкой. Ты мужчина интересный, и хоть волосы посеребрил, еще роту пионеров можешь завести. А уж про Малинку что и говорить! Агроном тоже завидная партия, но я сказала Малинке: «Если еще раз увижу тебя с этим чубатым сопляком, я тебя знать больше не хочу». А она мне: «Все зависит от Данилы». Так вот, поторапливайся! А что касается мальчика, я все устрою. Уж если я возьмусь за Николу, узнает он, почем фунт лиха. Два года просим совет выделить нам помещение… А он, стервец, только смеется. Дождется, что я отряжу к нему делегацию!
В три часа, пьяный от разговоров, волнений, выпитого кофе и ракии, тайком хранимой в ящиках служебных столов, я пошел домой. Я решил не выпускать Ибрагима на улицу, пока не минует опасность, пусть даже целую неделю. А впрочем, вряд ли Никола предпримет действия после моих угроз.
Проходя по своему двору, я услышал доносившиеся из сарая стоны и придушенные крики. Рванул огромную дубовую дверь и чуть не сел на снег у порога. В прямоугольнике дневного света, прорезавшего заплесневелый мрак, открылась презабавная сценка… Мурадиф со спущенными штанами был привязан к яслям, а хаджи и Авдан с усердием лупцевали его палками. Увидев меня, хаджи бросил палку и вышел. Сел на порог, из глубин лоснящихся штанов извлек пачку сигарет и спокойно сказал:
— Не бойся, в совет Мурадиф больше не пойдет! — и так же спокойно зажег сигарету. На страшных руках его не дрогнул ни один волосок, ни одна жилка.
Раскатывая засученные рукава, вышел Авдан. Присев рядом с хаджи, он озабоченно вздохнул:
— Эхма, вот он, раб божий. Никак за ум не возьмется. Хаджи-эфенди, добавим ему горяченьких?
— Сиди, отдыхай. Успеем.
— Какие палки поломали! — посетовал Авдан.
Я шепотом высказал опасение, как бы Мурадиф не пошел жаловаться.
— Не бойся, приятель! — подмигнул мне хаджи. — И не пикнет. Нам известны такие его подвиги в войну, за которые он пятнадцать рамазанов пропостился б в тюрьме в Митровице. Он на седьмом небе от счастья, что так дело обошлось. Приложит к заднице кочан квашеной капусты, и делу конец. Оно, конечно, не по закону, зато по старым исламским обычаям. Он мусульманин, обычаи знает. Да и сам посуди, где это видано, чтоб жаловаться на такое? Впрочем, если потребуется, мы до Судного дня готовы таскаться по судам ради тебя и мальчика. Не тревожься. Подопрем тебя своими плечами. А они, ей-ей, еще крепкие.
— Спасибо, дорогой друг, зачем такие жертвы? Чем я заслужил?..
Хитрый седобородый дьявол в чалме взглянул на меня и прикрыл глаза ресницами.
— У нас с Авданом своя коммуна. Мы не кладем поклонов и от плотских утех не зарекаемся. Кроме того, он своего сына давно послал в бригаду, а я голосую за вас с первого дня АВНОЮ[29]. Краснее людей не бывает! И вернее друзей! Садись, кури!
Я вошел в сарай.
Мурадиф, согнувшись, зарыл голову в ясли. Задница вся в кровавых рубцах.
— Здорово тебя избили? — спросил я.
— А тебе какое дело? — взревел он.
— Я им скажу, они тебя сейчас развяжут и отпустят!
— Ох-ох, гяур проклятый, и почему я не укокошил тебя, пока винтовка в руках была?
— Плохо целился! Да и давал драпу, стоило мне с батальоном показаться под Фрковичами. Так-то вот, друг любезный.
— Эх, если б Эшо послушался меня, ты б сейчас по-другому пел!
— А как?
— Валяй отсюда, не тяни душу, не то как лягну, мокро будет.
— Ты, конечно, в своем праве! Только я тебе советую взяться за ум и не показываться в городе без особой надобности!
— Чтоб ему сгореть! И тебе с ним вместе, свинья!
— Чего он лает? — спросил хаджи, когда я вышел. — Ему мало? Авдан, друг, дадим-ка ему еще по пятку ударов, да и отпустим. Фрковичи далеко, а у него скот не кормлен…
— Давай!
На всякий случай я послал жалобу на самый верх, жалобу на злоупотребление властью председателем общины в Виленице. Теперь жду ответа. За эти несколько дней меня приняли:
секретарь молодежного комитета,
чтоб сказать мне, что они «на секретариате» обсудили мое дело и решили ходатайствовать перед укомом, чтоб Ибрагима оставили мне;
председательница комитета женщин,
чтоб подробнейшим образом поведать о своей встрече с Николой, о том, как она отчитала его за то, что он не дает помещения комитету женщин, за мизерные дотации совета вышеупомянутому комитету, ну и за всю эту историю с Ибрагимом;
господин доктор,
чтоб сказать мне, как на заседании опекунского совета он заявил, что не к лицу председателю общины сводить личные счеты и самоуправствовать и что он, доктор, подпишет любую официальную бумагу, необходимую для того, чтоб оставить ребенка почтенному гражданину и честному человеку, к тому же на редкость обходительному господину, каким являетесь вы, товарищ Данила.
Прокурор зашел к хаджи и ко мне просто в гости. Позднее я узнал, что хаджи подстроил это свидание, на котором товарищ прокурор, где-то после третьей стопки, признался, что, исследовав дело с юридической точки зрения, он пришел к заключению, что право на моей стороне, и пообещал в самое ближайшее время познакомить товарища председателя с результатами своих изысканий.
Зампред, три раза встретив Ибрагима на улице, всякий раз хлопал его по плечу и справлялся о здоровье и учении, а его ханум прислала нам миску фиников.
А хаджи,
который десятилетиями обливал город презрением и редко, да и то скрепя сердце, выбирался в кофейню или в лавку, начал ходить по улицам, останавливаться на углах и всякого встречного-поперечного, всякого, кто присаживался возле него выпить чаю, кофе или ракии, заставлял подтверждать, что лучшего отца для сына павшего бойца Латифа Абасовича-Голяка, чем Данила Лисичич, не найти.
Авдан регулярно сообщал мне, что говорят в народе, кто как мигнул, когда услышал разговор про нас с сыном, кто как махнул рукой, что сказал Мехо и что, по словам Хусы, говорит Алё.
Письмо я отправил на самый верх, и по городу поползли слухи, что я накатал целую книгу, в которой прописал про мелкие обиды, нанесенные каждому жителю в отдельности службистами, референтами, сборщиками налогов и самим председателем, и что теперь надо ждать высокую комиссию, которая во всем разберется и надолго устранит малейшие причины для споров, зависти, раздоров, критики и принужденья. Тут я должен напомнить, что весь здешний народ во время войны жил в затишке и потому не научился сам, вооружившись законом, бороться с чужими грехами. И уж тем более — со своими.
Стоит в нашем переулке появиться почтальону, как ко крайней мере две пары глаз с любопытством смотрят, не зайдет ли он ко мне.
Я жду исхода великой битвы за сына. Два раза в день — утром и пополудни — навещаю Малинку, чтоб, обменявшись несколькими нежными словами, выслушать наставления, что делать с галстуком и рубашкой, как носить шляпу на голове и как держать ее в руке, доложить, как прошли день и ночь, было ли Ибрагиму молоко на ужин, выдал ли я ему чистую смену белья и берегу ли его от простуды и зимнего авитаминоза. Она всерьез готовится к своей будущей роли. Видит — нелегко будет носить титул моей супруги.
Изредка я встречаю докторшу. На мой учтивейший поклон она бурчит что-то невнятное, а однажды спросила, что там за история с Ибрагимом. Я сказал, какую пакость задумал председатель. На что последовало лаконичное:
— Идиот!
Я так и не понял, кого она имела в виду — меня или председателя.
Я почти всегда дома. Часами смотрю на сына, склоненного над книгой. Благодаря ему и о нем я разговариваю со всей ФНРЮ.
Дорогая держава,
нет, я обращаюсь не к тебе, вертикально сверху вниз организованная машина принуждения,
я обращаюсь к тебе, свободная и равноправная ассоциация производителей, как говорят наши товарищи. Тебе придется вычеркнуть меня из списков действующего состава мирного времени, похоже, я отходил на собрания. Но пройдет несколько лет, и ты увидишь, какого я тебе вырастил парня. И тогда ты простишь мне все неявки на собрания и неуплаченные членские взносы. Я выращу мудрого богатыря, который будет служить тебе верой и правдой, никогда не станет тебе кадить, какой бы церковью в тебе ни запахло, не станет льстить безразлично чему — добру или злу! Аминь! Так будет, помоги нам троим марксизм! Аминь!
Ну а ежели загремит набат, я тут как тут со смазанным автоматом и сухим пайком на три дня. Явлюсь, клянусь тебе всеми своими потрохами, отданными за твое здоровье в семижды семи вражеских наступлениях, и своей головой, побелевшей от своих и твоих забот!
В разговорах с Малинкой иногда поминался молодой агроном. Имя его вызывало у нас улыбку взрослых людей, снисходительных к наивности и безгрешным заблуждениям. Однако на дне моего умственного рюкзака таилось предчувствие, что объяснения с ним не избежать и что ничего хорошего оно не сулит. Правда, за эти десять дней мы с ним не раз встречались на лестнице совета, он здоровался с напускной сердечностью и убегал. Опасаясь, вероятно, не столько меня самого, сколько неминуемого объяснения.
Докторша, то и дело откладывая выписку, продержала Малинку в больнице восемнадцать дней — до полного выздоровления. Накануне выписки я возвращался из больницы. Разгоряченный быстрой ходьбой, я остановился, чтоб закурить. Жмурясь от сверкающего белизною снега, который под солнцем ясного зимнего неба горел ослепительно белым огнем, я закурил и пошел дальше. И через несколько шагов увидел направляющегося ко мне агронома, видно, он только что вышел из кофейни.
«Вот оно!» — подумал я.
Я видел, с каким усилием расстилает он передо мной кошму вежливой улыбки, и хотел было помочь ему, но в сведенных судорогой губах его и в напряженности пек сквозила такая ненависть, что мой благой порыв остался втуне. Все. Мы на разных берегах. Студеная вода непонимания разорвала тонкие нити близости.
— Вчера я был у Малинки! — выпалил он. — Говорит, ты женишься на ней.
— Обещал. Что поделаешь!
— Конечно. Самое время!
До меня не сразу дошла злорадность этой шпильки.
— А Малинка мне не сказала, что ты приходил.
— Не волнуйся! Тебе нечего бояться. Сам знаешь… Я пытался, но она не позволяла даже прикоснуться к ней. Так ты ее околдовал. Просто представить себе не мог, какой ты лицемер.
— Молодой человек!
— Не перебивай. Это наш последний разговор. Ты прячешь свои карты, ловко таишь свою связь с Малинкой. И вдруг — ребенок… Предоставил ей решать самой, обрек ее на такие муки, из-за которых она все еще лежит в больнице. А теперь строишь из себя героя, великодушного спасителя, готового пожертвовать личной свободой ради того, чтоб вдохнуть в нее жизнь. Это что — добрая старая школа провинциальных любовников, о которой, сдается мне, сам же ты и рассказывал?
— Да, только я рассказывал по-другому.
Он говорил сквозь зубы, но я чувствовал, порох ревности вот-вот разнесет их тесные ряды и он шарахнет в меня трехэтажным матом. Вокруг нас лежал тихий город, выстланный белыми, как кипень, коврами. Мы смотрим друг на друга, его глаза мечут громы и молнии, мои полны искреннего огорчения.
— Извини, если я причинил тебе боль, — начал я как можно сердечнее. — Однако решает Малинка…
Он шибанул меня сверху плетью ненависти.
— Данила, брось притворяться. Я знаю, что мне далеко до стариков с их умением и ловкостью. И не одной Малинки я лишился по вашей милости. Несправедливость гораздо шире и глубже. Вы… настоящие консервы, в которых хранят драгоценный продукт, вы ходите по земле с таким видом, словно вобрали в себя всю премудрость прошлого и будущего. Но вам и этого мало! Вам подай и женщин, что по возрасту предназначены нашему поколению! Государство создавали люди от семнадцати до тридцати лет. А какой теперь средний возраст государственного аппарата? Мой старший брат в девятнадцать лет был комбригом. А я в свои двадцать восемь лет не имею права подписать рядовую бумагу. И это из-за вас — Николы, Данилы и прочих мудрецов, которым пора уже занять свою пенсионную скамью в парке. Сколько раз ЦК настаивал и требовал допустить молодежь если не на посты с высокими окладами, то хотя бы к самостоятельной работе. Вы, конечно, лицемерно соглашаетесь с ЦК, но как дело доходит до конкретных имен и фамилий, сразу в кусты — молод, мол, безответствен. А как я могу быть ответственным, если мне не за что отвечать? Твоя женитьба на Малинке — это, собственно, частный случай. Звяканьем своих медалей и хорошо рассчитанным поведением человека, пользующегося в городе популярностью, ты убедил Малинку, что ты для нее более надежная опора, чем я. А принимая во внимание ее биографию, она склонна считать, что опора ей нужнее истинной любви и верности. Ты мне нравился, но теперь я тебя ненавижу. Впрочем, все вы мне надоели до чертиков. И пусть наша добрая пресса не удивляется, что в Белграде растет число таксистов с институтским дипломом в кармане. Так далеко я не побегу, но от вас постараюсь отделаться поскорее. Вот что я давно хотел тебе сказать. А теперь лучше уйди с моих глаз.
Смотрю я на него и глазам своим не верю. Мне случалось видеть, как ревность размахивает топором или сверкающим ножом вспарывает брюхо сопернику. Но такое вижу впервые.
— Сынок, ты что — пьян или рехнулся? Давай-ка сядем где-нибудь да поговорим по-людски.
— Я сказал тебе — уйди лучше с моих глаз!
Он сжал кулаки, примеряясь, куда бы вдарить. А на меня вдруг нашло спасительное спокойствие. Здравый смысл взял бразды правления.
— Милый юноша, от возможного физического столкновения плохо будет одному тебе. Гарантирую, что ровно через секунду ты будешь валяться в снегу с выбитыми зубами и во мраке глубочайшего беспамятства. Так что лучше не заводись! Лучше послушай, что я тебе скажу…
И я сказал ему, как, видя его намеренья, избегал Малинки. Поскольку Ибрагим мне все-таки дороже, я боялся, да и сейчас боюсь, как бы между ними не возникли трения, и тогда в любом случае, кто бы там ни был виноват, я приму сторону Ибрагима. Даже и сейчас, если Малинка откажет мне, я ничем не покажу своего горя. Я многое в жизни потерял. И потерю Малинки, в особенности теперь, когда у меня есть Ибрагим, я перенесу стойко.
Ненависть его затухала. Веки подрагивали, скрывая слезы.
— И потом, дорогой мой, ты зря свой упрек старикам, что заступают дорогу молодым, относишь ко мне. Я ни у кого не стою на пути, да и нет у меня такой власти, чтоб кого-то продвигать или преследовать. А если хочешь знать мое мнение, так я могу тебе сказать: среди вас много честолюбцев, желающих говорить от имени поколения. Какого поколения?
Я знаю многих твоих сверстников, работающих на производстве, и часто слышал от них: «Освободите нас от обязанностей, мы хотим учиться!» Поколений нет. Есть те, кто борется, и те, кто свою лень прикрывает одобрительной улыбкой или ехидным смешком.
Я и не заметил, как и почему разошелся.
— А знаешь, кто ты? Ты один из тех приехавших из города в провинцию благодетелей, которые свое дезертирство оправдывают плохим полем боя и не тем боем, какого бы им хотелось. Ты ждешь, когда тебе предложат пост председателя общины или уезда? Нет, дорогой мой, он добывается иначе. Прежде чем народ кому-либо поверит, он долго проверяет его — иногда до седых волос, до нервного истощения, до туберкулеза. Ты недоволен засильем стариков. А какому старику ты когда-либо и в чем-либо возразил? Напротив, я слышал, что в совете ты первый подпевала. А мы, так называемые старики, до сих пор способны хвататься за грудки, когда в чем-либо не согласны. Кому ты в глаза резанул то, что думаешь? Разве что наговорил кучу глупостей Даниле Лисичичу? И то потому, что знаешь: я не городская шишка и твой карман и красная книжица не пострадают. Кому? А мои сверстники побелели, отстаивая каждый государственный динар, каждый грамм государственного добра, чтоб какое-то там «поколение» могло учиться, придя на готовенькое, исподволь брать судьбу страны и собственную судьбу в свои руки. Власть, управление — это, дорогой мой, не эстафета… которую передают в спортивных трусиках под аплодисменты празднично настроенной публики. Для этой обязанности надо созреть, и она связана таким множеством дел, что подчас и не замечаешь, как она оказалась возложенной на тебя.
Ты сегодня вон как на меня навалился из-за Малинки. Взялся даже острить на мой счет, вспомнил про мои пять десятков. Что ж, в таком случае я тоже могу не стесняться. Тем более что нас никто не слышит. Это верно, я немолод, много чего перевидал на своем веку. Но если есть у тебя молодая тетка, пришли ее ко мне, а потом спроси, как дело было… Малинка видит во мне не одну опору. Малинка выросла среди таких, как я. А такие женщины ищут в мужчине не только кобеля и тонконогого фата, а чуть больше. Так-то, дорогой мой! А теперь возьми себя в руки, ступай домой и хорошенько выспись, а завтра утречком вместе кофейку выпьем. Ступай!
Он ни с места.
Я повысил тон:
— Я кому сказал? Ступай!
Он опустил голову и одиноко побрел по убийственно сверкающей снежной равнине.
Нет, я больше не сердился на него. Какая-то неведомая сила толкала меня догнать его, обнять и просить не держать на меня зла,
утешить его:
так уж, милок, жизнь устроена, такие фортели выкидывает, что только и остается диву даваться или отчаиваться. Конечно, если не видеть и все прочее, что она приносит. Распрями спину, сожми кулаки и борись! Все вокруг нас родилось в спорах зодчих. Другого не дано. И выбрось из головы Данилу, который не сделал тебе ничего худого. Сейчас это просто вежливый и вынужденно элегантный служащий на больничном, женившийся благодаря стечению обстоятельств, благо им, этим обстоятельствам, кабы знать, я бы давно погнал их себе навстречу. Одно меня тревожит — сможет ли Малинка, сможет ли даже моя безумная любовь к синеокому сыну заглушить во мне мою извечную тоску по чему-то такому, чего я то ли никогда не имел, то ли лишь начинал обретать. Не станет ли она со временем исподтишка меня грызть и лишать почвы под ногами.
Ведь иногда и подле них я не нахожу себе места и не знаю, чем занять пустые руки!
Еще до того, как пришел ответ из верхов, случилась беда. За ужином председатель получил письмо от декана факультета, в котором сообщалось, что сын его Растислав Евджевич, студент третьего курса, вместе с двумя дружками — такими же авантюристами, сбежал за границу, ограбив кассу сельскохозяйственного кооператива в окрестностях Белграда.
Никола прочел письмо до конца, вложил обратно в конверт, встал, потянулся к графину с водой и рухнул замертво. Похоронили его на государственный счет. Я присоединил свой голос к скорбному хору провожающих: «Вечная ему память!»
Больше мне сказать по этому поводу нечего.
Секретарь укома позвонил по телефону и успокоил меня — ответ пришел положительный. Вскоре я получил это короткое и теплое письмо:
после беседы с товарищами из уездного комитета им было предложено помочь мне в благополучном решении моего вопроса.
В тот вечер, когда сын заснул на одной кровати, а Малинка — на другой, я сел и мелким почерком старательно написал благодарственное письмо, которое решил послать завтра с первым автобусом.
«Дорогой мой товарищ могущественный Верх!
Я познакомился с Тобой в первые месяцы нашей народно-освободительной борьбы. С тех пор на мою русую и порой шалую крестьянскую голову сваливались всякие авторитетные комиссии, сердитые или просто чересчур ретивые товарищи. И не будь у Тебя точных аптекарских весов для правды и справедливости, я бы давно, и притом, честное слово, совершенно безвинно, оставил по себе одно лишь дурное воспоминание!
По совести говоря, я знал, что Тебе надо повиноваться даже тогда, когда не понимал Тебя. Тогда я был солдатом. Ведь колеблешься лишь раз: вставать под ружье или не вставать. А как встанешь — все! У Великой цели не всегда есть время объяснить себя тем, кто встал под ее знамена. Если я иногда в глубине души идейно оступался, если крестьянский подкожный червь начинал подтачивать мои нравственные устои, то, не находя другой поддержки, я слышал Твое: «Данила, вперед шагом марш!» А выйдя из кризиса, я не нуждался в приказах. Нередко я получал нагоняи за то, что лез поперед батьки в пекло. Но и опережая приказы я оставался незапятнанным и перед Тобой, и в собственных глазах, и в глазах других. А вот в мирное время я в одночасье нарушил и принцип демократизма, и закон централизма.
Я горжусь, что принадлежу к тому сорту людей, которые слишком любят ФНРЮ, чтоб досаждать ей своими мелкими невзгодами, больной печенью, изнемогшими от усталости ногами — словом, всем тем малоприятным грузом, который мужественный человек уносит с собой в могилу, оставляя в назидание потомству лишь неиссякающий оптимизм и высоко поднятую голову.
Дорогой мой Верх, я Тебя понял именно так, когда вступал в партию. Организационный разрыв ничего во мне не изменил.
Верю, Ты понимаешь, что у нас, рядовых граждан, все не так просто, чтоб объясниться в одном письме. Ведь мы все еще судорожно ищем и на провозглашенной линии, и рядом с ней, и под ней, и над ней, пытаемся распутать хитросплетение вопросов и ответов. И в этом нам могут только позавидовать те, кто делает вид, будто у них сплошная тишь да гладь и все проблемы решены. Мы все еще ищем, а это во сто крат лучше, чем найти: айн, цвай, все по ранжиру, выдуманному бог весть какой тщеславной головой. И пока мы идем, спотыкаясь, падая, руководствуясь законами более высокими, чем ранжир, дубинка и ограда, мы будем верны Тебе и, как один, убеждены в том, что на новой Сутеске[30] соотношение будет 1 000 : 1 в нашу пользу, хоть бы нам пришлось пережить еще девять Сутесок, притом с прежней расстановкой сил.
Если мы порой бранимся, то виноваты в том фольклор и плохое преподавание языка в школах, где дети обогащаются знанием грамматики и скудеют словами. Не обижайся на нас, режущих правду-матку в глаза. Мы, Твоя верная непоколебимая гвардия, и прежде любили поругивать интендантов и костить командиров, частью от любви, частью со скуки. Берегись подпевал и любезно улыбающихся молчальников!
Только сейчас я понял, как нелепо с моей стороны наставлять Тебя. Хотел одного, а вышло другое. Извини! Просто потянуло поговорить по душам! Итак, перехожу к тому, ради чего я начал писать это письмо.
Я благодарю Тебя, товарищ Верх, услышишь ты меня или не услышишь. И желаю Тебе крепкого здоровья, чтоб Ты и дальше был там, где Ты есть. И оставайся таким же, какой Ты есть. И может быть, волею судьбы, разумеется, с помощью наших идейно-политических и культурно-просветительных планов, которые мы хорошо составляем, а выполняем бог знает как, мы когда-нибудь превратимся в стопроцентный сознательный народ, завершим наконец эту фазу строительства базы и надстройки, так что Твои поредевшие волосы перестанут седеть от наших мелких безобразий, местнических и прочих плутней, и нам не придется жаловаться снизу, а Тебе отвечать сверху, а всякое дело будет разрешаться само собой. Правда, этой баклавы отведают, наверное, лишь наши правнуки. Ну а если в пирамиде наших биографий какой-нибудь шов между блоками отсырел и отдает плесенью, беспокоиться нечего. Фундамент подведен широкий и глубокий, да и само строение достаточно прочно, чтоб бросить вызов хищным столетьям, а на вершине его сверкают гордость и незапятнанная честь.
Благодарю Тебя за заботу, за Твою позицию в деле моего сына Ибрагима. Прими привет от меня, от моей супруги Зоры Максимович, по прозванию Малинка, и моего сына Ибрагима Абасовича-Лисичича.
Твой Данила Лисичич, бывший крестьянин, бывший партизан, бывший председатель, а ныне беспартийный служащий и счастливый родитель.
Смерть фашизму! Свобода народу!»
Утром я показал письмо Малинке. Она так и села от страха.
— И ты собирался его посылать?
— А что?
— Данила?
— А что такое?
— Ни в коем случае.
Я разорвал письмо. На словах поблагодарю секретаря укома, а он, если сочтет нужным, передаст мою благодарность дальше. Так распорядилась жена. Ей лучше знать — за ее спиной десять лет работы в госучреждениях.
Я съехал от паломника.
Нашей маленькой квартирки нам троим вполне хватает. Ибрагим занимается и спит в спальне. Мы — в кухне. Я все еще на больничном, его мне постоянно продлевает великодушный доктор, озабоченный состоянием моего сердца куда больше, нежели судьбой колониальных народов. Стало быть, я самый свободный член коллектива, и потому, проводив утром сына и жену, беру веник, подметаю кухню, мою кастрюли с остывшими остатками ужина, проветриваю постели, ставлю вариться обед и выхожу на порог — сижу курю. Жду своих. Малинка прибегает, сбрасывает впопыхах пальто и засучивает рукава, чтоб приняться за стряпню, глядь, а обед готов. Сунется в спальню — там полный порядок. Тут, раскинув руки, она летит ко мне и виснет у меня на шее, а я, отдохнувший и обрадованный ее радостью, прижимаю ее к себе и шепчу:
Душа моя,
иди скорей ко мне, пока сына нет.
Приходит сын. Деловито, что твой отец семейства, переодевается, моет руки и садится за стол. А меня так и подмывает вскочить, схватить его и подбросить вверх — от радости, что люблю его без памяти, что он мой сын, что зовут его Ибрагим, что он сидит за столом с видом начальника производства, который через минуту-другую подпишет инвестиции на несколько миллиардов. Обедаем втроем. Я выпиваю стакан вина и утираю усы. Малинка моет посуду. Сын идет в свою комнату учить уроки. Я ложусь на тахту и набрасываю на себя легкое одеяло. Малинка на цыпочках ходит по кухне. Переделав все дела, она снимает платье и, словно кошка, юрк ко мне под одеяло.
В четыре сын стучит в дверь:
— Подъем!
Пока я мелю кофе, Малинка чистит мои и свои туфли, утюжит мне брюки, которые все время пузырятся на коленях.
Потом идем гулять. Ужинаем, болтаем, читаем газеты.
— Спокойной ночи, дядь! Спокойной ночи, теть!
— Спокойной ночи, сынок!
Тишина.
Зевая и потягиваясь, ложимся спать.
— Душа моя, я люблю тебя!
— Ой, щекотно!
— Ну вот!
— Негодник! Завтра чтоб побрился. Жуткая щетина.
— Только слово скажи, шептала моя!
Дочка хаджи вышла замуж за столяра Мехмеда Капковича, коммуниста и непьющего. О нем и раньше шла добрая молва как о человеке, меряющем все свои поступки верным и надежным аршином ума и порядочности, но верхом благоразумия город счел его женитьбу на девушке, не умеющей говорить. Дочка хаджи вошла в почтенный и чистый дом, где двери всегда открыты гостю, а окна — солнцу, где все дышало здоровьем, несмотря на скудность убранства. Зарегистрировались и сыграли свадьбу по гражданским обычаям.
Свадьба подкосила хаджи под корень. Он заперся в своей комнате. Двое суток не выходил, пил и горланил песни, то заунывные восточные, то старинные боснийские; два-три раза я подходил к дверям, запомнились мне такие слова:
…вот и цвет опадает, ох, бедная Хана, пора и с яблонькой прощаться…На третье утро он вышел вымытым, побритым и удивительно спокойным. Разговор велся о делах обыкновенных.
Однако от удара он так и не оправился. И четырех недель не прошло, как он истаял и ослаб. На живых мощах болтались мертвая оливковая кожа да засаленные штаны и антерия.
Сидя по-турецки у окна, он покачивался взад-вперед, как будто внутри у него запрятана пружина, и шевелил большими синими губами. Видно, шептал молитву. А может быть, и проклятья. Желтый, словно погасшая свеча, он или не слышал, или не обращал внимания на стоны Арабки:
— Хаджи, где мой Сулейман?
И вовсю старался развеселить и себя и меня, но получалось у него плохо.
— Я, как удалой жеребец, залетал на чужие ливады. На плече у меня рубец от сабли, на боку — от ножа, О синяках и шишках уж и не говорю. Живота не щадил ради наслаждений. Красоту божью загребал полными горстями. А что под конец? Ничего. Старый, облезлый босниец, который скоро отправится навечно в мрачное узилище. Может, надо было не за тем гоняться?
Дочку я не решался поминать, он — не хотел. И только когда мы надолго замолкали, всматриваясь в игру красок на ковре там, где она обычно сидела, ожидая его знака, мы понимали, откуда тишь и тоска в этом доме.
Но однажды, когда из комнаты донесся стон: «О хаджи, где мой сын Сулейман?» — хаджи взглянул на свои бескровные худющие руки и заговорил:
— Перед ней, перед женой, я больше всего виноват. Обещал ей солнце жарче и воду чище, чем у нее на Востоке. А сам завез ее в эту Боснию, к черту на кулички, в город, над которым солнце всходит только к полудню, а с третьей молитвой спешит назад. Если б хоть Сулейман был жив! Она никогда не упрекала меня, что провела жизнь в этой суровой и немилой стране. Но в глубине души надеялась, что сын Сулейман, когда вырастет, увезет ее к солнцу, к раскаленному добела песку. Но Сулейману пуля размозжила череп… А я не в силах уехать отсюда, слишком люблю эти горы и это студеное небо над головой. Да и поздно уже пускаться в дорогу. Я уже качусь под откос…
Я и сам не знаю, как слетело у меня с языка:
— Хаджи, ты и впрямь таешь, как дочка ушла! Что с тобой?
— Много хочешь знать, товарищ комиссар! — И, испугавшись, что обидел меня, он поспешно и натужно улыбнулся и похлопал меня по колену. — Данила, лист желтеет от сотни бед. Придет последняя — легкий ветерок — и сорвет его.
Некоторое время он смотрел в окно невидящими глазами. Мне показалось, что за серебристыми ресницами собираются слезы.
Вдруг он поднялся, рукой велел мне сидеть на месте и исчез. Вернулся со старинной шкатулкой из какого-то неизвестного мне дерева, украшенной серебряной филигранью. Благоговейно открыл ее и показал мне две нитки дукатов, серебряные браслеты с драгоценными каменьями, восемь двойных дукатов, два перстня, которые ни одному нашему средних размеров предприятию были бы не по карману, и часы в золотом медальоне на цепочке.
— Сегодня же сходи с женой и отдай ей от меня. И скажи им обоим, чтоб сюда ни ногой. Даже на улице не хочу их видеть. Не то быть беде. Вот так! А теперь, Данила, старый мой друг и приятель, прости, мне пора в мечеть. В конечном счете после всех подвигов ждет страх перед концом.
Малинка, напевая, носится по дому, двигает мебель, переставляет, отойдет от тахты, окинет взглядом пестрое покрывало, — в согласии ли с веселой кошмой на стене? — подвинет кошму на сантиметр вправо, прибьет и снова примеряется… И вдруг все бросила и, словно на крыльях, полетела в другую комнату. Я слышу, как распахнулся шкаф, потом с треском захлопнулся, и вот уже она стоит передо мной с платьем в руках — красные и зеленые цветы по белому полю.
— Это, что ли, надеть? — спросила себя и стала торопливо переодеваться, а я себе почесываюсь
и так и порываюсь сказать ей,
однако ж не смею, а сказать хочется: не раздевайся, женушка, перед мужем, ведь и белье у тебя не очень свежее, и коленки не такие уж круглые и белые, и платье надо носить-то подлиннее, — а ниже колен набухла синяя сеточка вен, да и годы мои не те, когда слепнут от желания, напротив!
Она прошлась в новом платье, покрутилась перед зеркалом,
и вдруг снова сбросила платье и принялась подпарывать с левого боку. А сама поет. И подмигивает мне, старому хрычу…
— Ну как, старина, нравится?
— Ага.
Она снова надела платье, оглядела его со всех сторон, а потом как налетит на меня, опрокинула и давай кататься по мне… Я озабоченно взглянул через ее плечо на настенный календарь.
Апрель!
Вот в чем дело! Весна! Так и скажи!
И только я собрался по-мужски расправиться с нею, как она взвизгнула — и была такова. И уже из другой комнаты строит мне рожи и смеется:
— Старина, пойдем вечером на танцы?
Весна!
С трудом вступаю я в эту игру, резвлюсь по-петушиному. А с чего это ее в последнее время вроде бы подташнивает? Что говорит доктор? Похоже… под сердцем шевелится, а? Стало быть, жди прибавления? Она верит, что растормошила меня, в общем-то, может, оно и так, а может, и не так, одно вижу — охота ей сегодня где-нибудь покутить, а потом
в постель, и держись, сукин сын, до первых петухов!
Так обстоит дело с ней,
а у меня мозжит в пояснице, проклятый апрель, давным-давно покойный муж моей старой зазнобы — Йованки огрел меня колом, а сейчас вот сказалось… правый висок гудит и под лопаткой печет, словно от раскаленного железа, и к ногам прилила усталая кровь, вены вот-вот полопаются от сражений, радость моя, от жизни! Конечно, я еще не совсем развалина, я, пожалуй, и на коня еще сяду и поскачу, ты, душа моя, и не подозреваешь, что я могу, если захочу, но… и тебе не мешало бы быть чуточку проницательнее и понять, что сейчас не до плясок и что барабан, под который я плясал, продрался с обеих сторон — и от времени, и от неумелых ударов!
Однако делать нечего! Если все в жене кричит: — весна, старина! — старине ничего не остается, как собирать подснежники и примулу, хоть бы они потом три года кряду прыгали и расплывались у него в глазах!
Весна подействовала и на сына. Несколько раз я поймал его на том, как он одевается, начищает ботинки, поправляет перед зеркалом воротник и словно бы оправдывается:
— В школе сегодня собрание!
…а во дворе разувается, прячет ботинки под порог и босиком мчится по улице. Утром я осторожно приподымаю его одеяло — ноги, разумеется, вымыты, но колени в синяках и ссадинах, местами — корочки спекшейся крови, на пальцах обломаны ногти, а ранки посыпаны табачной пылью.
Ага, постреленок,
хохочу я,
значит, собрание? Да?
Вывертываю карманы: рогатка, мелочь — грязные монетки, наверняка играл в орлянку, перочинный ножик, фантик с шоколадки, все снова возвращаю в карманы, а когда сын просыпается, не спускаю с него полицейских глаз!
А он, врунишка, даже ухом не ведет!
Как всегда, мудрый, степенный хозяин, одевается с такой тщательностью, словно собирается в совет на торжественное заседание. Малинка не нарадуется — какой воспитанный ребенок, завязывает ему галстук, сдувает с него пылинки, а он молчит за троих и стоит с достоинством великого визиря. Я про себя посмеиваюсь над наивной супругой: погоди денек-другой, увидишь!
Я бы так и запрыгал от радости,
чтоб ты, сын, арбуз мой крепкий и спелый, забыл все фрковичские горести. Обломай хоть все ногти на ногах, смети хоть полгорода, возьми то, чем тебя судьба обделила, я готов за все заплатить,
и не только заплатить,
если б я мог, сынок, я б с тобой вместе помчался по улице, чтоб тебе веселее было, чтоб ты рос и играл, сколько твоей душе угодно,
для того мы, сынок, воевали, для того я и надрывался на работе, для чего же еще?
А если ты с Малинкой чинишься и напускаешь на себя важность, это тоже нелишне, видишь, я и сам притворяюсь, правда по другой линии, но некоторое лукавство никогда не мешает, особливо когда речь о женщинах!
Случилось то, чего я и ожидал, — к ужасу Малинки и к моей великой радости.
Малинка подметала в прихожей, напевая в лад взмахам веника. Я дремал после обеда, погрузившись в какие-то партизанские сновидения: эх, если б перемахнуть через мост да ударить батальоном по эсэсовцам, но весь луг перед ним был усеян синими фесками и башмаками на шипах! Но увалень Илия, упокой господь его душу, смелый был человек, но страсть до чего медлительный да тяжелый, тяжелее своего тяжелого пулемета, не успел пустить на мост свои змеиные очереди, и эсэсовцы смылись,
батальон лишился трофеев,
а я, быть может, — ордена! Эх, Илия, стыдобушка тебе на том свете!
Я как раз кончал стратегический разбор сражения, когда возле дома что-то грохнуло, и одышливый старческий голос прерывисто прокричал:
— Будь ты сыном самого бога, а не Данилы, я те покажу, жулик… где раки зимуют, и тетке Малинке, и тому, кто научил тебя брать чужое!
Оглушительный гул прокатился вокруг дома раз-другой… потом хлопнула входная дверь и в прихожую влетел Ибрагим. Повернув за собой ключ, он кинулся ко мне — грязный, потный, босой.
Малинка застыла в дверях, от страха у нее зуб на зуб не попадал.
Я со смехом обошел сына. Сильные ноги в свежих ссадинах и царапинах, одна штанина разодрана, рубашка изгваздана. Обошел его второй раз и подмигнул:
— Удрал?
— Как видишь.
— Молодец! Не поддавайся!
— Ибрагим! — говорит Малинка тоном старой учительницы. — Что у тебя за вид?!
— Жена, это не твоя забота!
— Помолчи лучше, это ты его распустил.
— Жена, ни слова больше!
— Разве не видишь, какой он?
— Сын, быстро в ванну мыться!
Он ушмыгнул, зыркая на руки Малинки, а я встал перед ней, широко расставив ноги:
— Послушай, сударыня,
дискуссий разводить не будем, а потому прими это без рассуждений: для меня нет большей радости, когда он играет, это доказывает, что он вышел из кризиса, а ты вынуждаешь его лгать и мне и себе, пойми! Мне не нужны дети, которые всего боятся и к пятнадцати годам сереют от оглядок и хороших манер, я хочу, чтоб они были сорванцами. Поняла? Пусть кричит на бога и дерется со всем городом! Хочу, чтоб мой сын каждому мог сказать — нет, если совесть ему так подскажет, а что до совести — у него она будет, частью от меня, частью от покойного отца Латифа Абасовича-Голяка.
Малинка, полагая, что я разозлился на нее, гневно сжала кулаки. А я — не будь дурак — подошел к ней, обнял и, предупреждая слезы и протесты, зашептал:
— Еще бы мне не злиться, я лежу, жду тебя, а ты взялась подметать. Почему не пришла, куропаточка моя милая, давай скорей, сын нескоро вылезет из ванны.
Жена, глупышка, поверила, да еще, поди, в душе упрекнула себя — сама виновата, за веник схватилась, а ведь мы привыкли вместе полежать после обеда.
Так я спас сына от Малинкиных высокопарных педагогических наставлений, которые у любого юнца отобьют охоту к пристойному поведению.
Под вечер Малинка надела платье — красные и зеленые цветы по белому полю, я — новый костюм и накрахмаленную рубашку, разумеется, с галстуком, сын — длинные брюки и туфли с бантиками, и мы пошли по улице, являя собой пример счастливой, благополучной семьи. Я приподнимаю шляпу и с достоинством бормочу: «Добрый вечер!» Малинка любезно, но свысока здоровается со знакомыми, продолжая гордо висеть на моей руке, а мы с сыном перемигиваемся,
смеемся над ритуальными приветствиями, над Малинкой, усердно играющей роль супруги видного человека, показываем язык вслед всем этим начальникам, директорам и важным персонам, и обоим нам хорошо, ведь мы с ним поклонники радости жизни и противники грустного и омерзительного этикета.
На четвертый день после этого
читаю газеты на скамейке перед домом, Малинка вяжет чепчик младенцу, который зашевелился у нее под сердцем, потягиваем кофе — словом, провожаем свежий и сухой апрельский день,
как вдруг Малинка вскрикнула:
— Смотри!
По улице во весь дух несется босоногая ватага. У кого в руках камень, у кого — палка, чертыхаются и улюлюкают, ровно легион, преследующий подпольщика. Ибрагим, на бегу протирая глаза, — кровь заливала ему лицо и грудь — бежит к нашей калитке. Малинка бросила вязанье и кинулась было наперерез погоне, я остановил ее:
— Погоди, посмотрим, что будет делать сын!
— Они его убьют, Данила!
— Не волнуйся, он в меня пошел! Гляди, что будет делать!
Я боялся одного: чтоб Ибрагим, как последний трус, не влетел в открытую калитку, а затем — в дом, и чтоб другому, то есть мне, не пришлось вместо него сражаться с отрядом сорванцов.
Сын добежал до нашего забора, схватился за кол, дернул — не поддается, второй — тоже, а самый разъяренный враг уже подбегал с жердью в руках. Тогда сын взялся за третий кол, поднатужился, выгнулся в дугу и сломал кол! Видя такое дело, орава мальчишек готова была дать стрекача, но где там! Попробуй повернуть обратно с такого разгону!
И разгорелся жаркий бой.
Малинка кричит и вырывается, я крепко держу ее за плечи, а сам подначиваю:
— Так, сокол, в нашем роду все держались до последнего, а ну хвати толстозадого, он, мерзавец, больше всех ярится на тебя,
по голове не бей — опасно, затаскают в милицию, винтовка моя скорострельная,
ой-ей-ей, силен!
Ватага умчалась. Предводитель спотыкался и стонал, прикрывая руками голову. Ибрагим еще раз пнул его ногой в зад, швырнул кол и, по-бойцовски выпрямив спину, вошел во двор. Весь в крови, еще не остыв от гнева, он сиганул мимо нас, я услышал только:
— Я вам покажу, как играть в шарики.
Малинка без чувств упала мне на руки.
В тот вечер я приказал открыть настежь все двери и окна, Малинку нарядил в самое лучшее, что у нее было, сына посадил в передний угол, чтоб он, как сабля у юнака, был на виду, а сам пил и плясал, дурачился, городил всякий вздор, целовал их и таскал на руках… Малинка пила со мной, сперва нехотя, голова, мол, болит, а ближе к полуночи смеялась до слез моим дурачествам и валилась от смеха на тахту, а я умолял ее не брыкаться, не то мы с Ибрагимом останемся без глаз,
сын краснел и отворачивался, но все же признал, что у него самая красивая на свете тетя.
Так весна захлестнула всех троих. Или, может быть, только двоих, а что до меня… кто знает!
Прижимаясь ко мне в постели, Малинка шептала, что я самый пылкий любовник, какого можно себе вообразить, что я… козел старый, мошенник, и откуда во мне столько молодости да силы.
А я постепенно трезвел и с ужасом думал о завтрашнем похмелье, о мучительном безделье и о долгом дне без всякой цели.
Утро я начал супружеской ложью.
— Мне надо по делу, — сказал я Малинке и удалился, избавив ее от многочисленных забот, вроде приготовления завтрака, кофе и тому подобного, которые она сама на себя взвалила в благородном стремлении сделать из меня добронравного и довольного отца семейства. Я уселся перед кофейней, где пенсионеры уже глодали газеты, пожилые служащие, сидя подле пустых чашек, с минуты на минуту оттягивали уход в конторы, а крестьяне, первыми спустившиеся с гор, опасливо присаживались в уголку, ставя у ног свои торбы, чтоб выпить чайку до того, как откроются лавки и учреждения.
— Стакан чаю, любезный!
Я поджидаю Ибрагима.
Наконец он появляется, опрятный и чистый, с портфелем в руках. Проходя мимо кофейни, громко говорит всем:
— Доброе утро!
— Счастливо, сынок, — отвечаю я своему благовоспитанному притворяшке.
Убедившись, что на него, кроме меня, никто не смотрит, он подмигивает мне, а уж я этот наш язык знаю, как старый стишок из букваря:
— Дядя, опять я ее бутерброды с маргарином и джемом бросил коту, а сам поел ветчины… и учтиво сказал ей: до свидания, теть! Сегодня у нас только три урока, но приду я к часу, не такой я дурак, чтоб вешать на стенку расписание. Вижу я… вижу, куда ты так торопился утром. Надоело, брат, дома сидеть, да?
Сын прошел. Дождавшись, пока он отойдет подальше, я двинулся за ним. У лесоуправления я притаился за каким-то сараем и стал высматривать в бурлящей толпе светлый хохолок. Я болею за его команду.
— Гей, спина, спину береги! — так и рвется из меня.
Однако я молчу, не хочу компрометировать себя перед ним. Но когда он обругал чужого защитника, подставившего ему ножку, я не выдержал и тоже потихоньку выругался. Матч, по обыкновению, быстро кончается, и светлый чуб вместе с ребятней вплывает в школьные двери. Я выхожу из-за сарая и иду по улице с таким видом, будто возвращаюсь с ответственного задания, но в душе все еще бранюсь, сбрасываю с небес всех защитников и нападающих, потом перехожу к городским властям, не убирающим с улиц камни, о которые я то и дело спотыкаюсь, список виновных адресатов продолжается и, наконец, доходит до меня…
…в голову твою дурацкую!
…сопливец несчастный!
Весна. И в каменных сердцах просыпается жажда обновления. А у тебя руки болтаются, ровно досужие битюги по отаве!
— Что — у меня?
Молчи себе! Приказано — отдыхай, лечись, придет время, скажем…
Какое время? Кто распоряжается моим временем? Друг, лень уже въелась в твои мышцы, все это одни отговорки… отдыхай и жди своего часа! Почему не уматываешь отсюда? Крека давно могла бы тебя выписать, надо только пойти к ней. А тебе, похоже, не хочется…
Да, мне хочется остаться здесь.
Тогда сиди и не рыпайся!
Беги домой, готовь обед, уберись, ты уж приучил к этому жену, и не удивляйся, ежели в один прекрасный день вместо благодарности она угостит тебя жалостью. А когда родная жена начинает жалеть, тут уж один шаг и до презрения… Полегоньку облизываю дуло пистолета, не то еще перегреется, и, чего доброго, загорится одеяло, когда он выпадет из твоей мертвой руки.
Руки мои за спиной. Поступь неторопливая, как у важного городского бездельника. Хозяйки, вытряхивающие в окнах простыни и половики, пережидают, пока я пройду, и долго провожают меня глазами. Виданное ли дело — здоровенный мужчина середь бела дня расхаживает по городу, сложа руки за спиной. Срамотища! Лучше уж забивать козла в кофейне!
Городок словно отрекся от меня.
Я брожу по пустынным улицам…
Никчемный день оставляет во мне еще один слой отчаяния, и я успокаиваюсь лишь после Малинкиного равнодушного: «Спокойной ночи!» Ночью раза три встаю, курю, выглядываю в окошко в ожидании рассвета, покрываю разметавшегося во сне сына и молчу возле холодной печки. Я пролистал все строительные бюллетени, специальные и неспециальные, просмотрел все уездные и общинные материалы о строительстве, построил в общине все башни и павильоны и вдосталь набарахтался в черных водах зависти к тем, кто может работать, но не хочет, или не хочет, когда, по моему разумению, должен был бы хотеть.
Я заболел от сидения на больничном.
За два дня до первомайских праздников Малинка начала стряпать, печь, гладить и скоблить с таким пылом и жаром, что, будь я моложе, плюнул бы и на семью, и на Малинку, и на дом со всем, что в нем есть, и удрал бы с Ибрагимом в какую-нибудь горную хижину, скажем, на вершину Белашницы, где подметает ветер, а моют косые ливни. Но я солидный семьянин, так мне приказано, я уважаемый работник на больничном, еще не раздалась команда: на месте вольно! Я придумываю все новые и все более убедительные похвалы кулинарным талантам жены, вырываю у нее веник — сам-де подмету, — а то она до локтей в тесте, которое падает на пол. Приглядываю за жарким в духовке, нюхаю, прищелкиваю языком:
— Ну, женушка, ты просто чародейка!
А в душе ежусь и чуть не кричу: «Люди добрые, помогите!»
Учусь обходительности, но как подумаю, что за иллюзию домашнего покоя приходится расплачиваться гордостью и печенкой, становится муторно. Однако, обнаружив у себя несомненный талант подлизы и пожав первые успехи на этом поприще, я на радостях улыбаюсь и корчу самому себе рожи, вместо того чтоб вырвать свой язычище, который в ловкости и проворстве даст сто очков вперед уму и совести.
Моя дорогая Малинка угадывает кризис во мне и педагогично меня поддерживает:
— А ты в самом деле здорово обтесался.
Обтесался?! Как это прикажете понимать? Лучше не ломать себе голову, не то еще свихнешься.
Жена нагрузила меня корзинами и послала занимать место на плато на Кадииной воде, где спокон веку проводятся народные гуляния. Столы, стойку, бочки, бутылки, вертелы и палатки обеспечивают предприятия общественного питания, об остальном должны позаботиться сами горожане… До сорок пятого эти гуляния назывались молитвой на Кадииной воде, теперь — празднованием Первого мая. Правда, новый праздник справляют чуть пораньше, обслуживание чуть похуже, но участники в основном те же, кроме нескольких приезжих служащих.
Когда я пришел, здесь уже сидели Антонович и ветеринар, занявшие столики для своих семей, служитель из совета — для председателя и зампреда с семьями, конюх лесоуправления — для начальника и его семейства, санитар Муйо — для доктора, его жены и свояченицы, один милиционер — для всего отделения с чадами и домочадцами. Компания городских пьяниц, праздновавшая Первое мая с двадцать восьмого апреля, захватила сразу три стола. На семьи им плевать. Впрочем, наевшись и напившись задолго до общего сбора, они хотели было ретироваться, но официант напомнил им, что сегодня Первое мая. Они хором прокричали:
— Да ну! — и снова уселись. И все началось сначала.
Я пью кофе.
Болтливый птичий народец, зазябший в росистой предутренней свежести, шумно пререкается в кронах деревьев. Струи воздуха текут по горлу, смывая все хрипы и дымы. От буков исходит глухой, крепкий запах векового леса, запах, дурманящий влюбленных, лесорубов, пастухов и потомков гайдуков. Этот жестокий целебный запах загоняет в барсучьи норы все нежные фиалки и душистые васильки. А соки под корой буков и мощные их корни источают такой сильный аромат, что я как бы ощущаю его на своих руках, на лбу и шее. Кровь за ухом стучит, как топор браконьера.
У ног моих — пирожные, мясо, сдобы, салфетки, запасные чулки, туфли для всех троих, платки носовые и питьевая сода… На всякий случай два зонтика, так как жена не верит синоптикам. Эхма, удрать бы сейчас в лес, аукаться в сумрачных ущельях, меряться силой с грабами… состязаться в пении с крикливым дятлом, но я сегодня сторожевой пес и должен охранять стол и корзинки, а в случае чего рычать, лаять и даже укусить того, кто посягнет на достояние моей жены. Убежать бы в буковый лес, в старый и добрый лес-кормилец, и бродить там до темноты, а вместо этого я сижу, распрямив спину, попиваю кофеек и элегантным движением, открывающим серебряные запонки на манжетах, гашу окурок в пепельнице, хотя рядом столько земли, алчущей никотиновой кислоты. Весь свой протест я могу выразить лишь в том, что повернусь спиной к дороге, ведущей на плато, и уставлюсь в пустой, полуразвалившийся загон, как в пособие по изучению собственной биографии.
Молчу.
Спина прислушивается и быстро различает
стайку девчушек, идущих босиком, с туфлями под мышкой. Они не сели за столы — все равно сгонят или, в лучшем случае, любезно попросят уступить место старшим. За спиной послышались молодые, горячие голоса, легконогий топот, шуршанье шелковых шальвар. Я встрепенулся и уже хотел было обернуться, дабы попасти свои глаза на лугах красоты и беспечности, как вдруг…
— Идиот!
— Ради бога, не будем же мы сидеть на дороге?
— Господин доктор, лучше места не найти.
— Нет.
— Уверяю вас, господин доктор, место что надо.
— Чушь!
Я втягиваю голову в плечи, чтоб освободить себя от обязанности обмениваться ритуальными любезностями. Спина прислушивается и тотчас докладывает о прибытии шумной компании нагловатых молодых людей, прихвативших с собой и музыкантов, какого-то семейства с ревущими детьми, грохочущей телеги, груженной бутылками с содовой и фруктовой водой… Мясник материт сына, принесшего не тот топор, семейство доктора с кем-то высокомерно здоровается, тяжело топая, идут парни в обнимку, видно, шофер Танаско с рабочими из каменоломни.
Река Дрина, берега крутые, кто войдет в тебя, домой не придет…И тут же голос жены:
— А, вон Данила!
Малинка, вся распаренная, садится против меня, жадно пьет лесной воздух, свежий, как холодная сыворотка из подпола, и заглушает птиц:
— Как здесь чудесно, Данила, и место ты выбрал отличное, отсюда прекрасный вид! Закажем кофеек? А тебе, Ибрагим, лимонаду? Данила, ты мне даже не сказал, что здесь так прекрасно… Ах, чудо как хорошо! Каждое утро будем ходить сюда. К шести — домой. Доброе утро, господин доктор! Доброе утро, доброе утро! Как вы, моя дорогая? Какое прелестное на вас платье! Вы сегодня будете королевой бала. Надо же, какой сюрприз приготовили к празднику! Данила, умоляю тебя, повернись, поздоровайся, поговори!
— Пошли они к черту!
— Данила, я надеюсь, ты не будешь устраивать мне сцены в общественном месте?
— О, доброе утро, доброе утро, мадмуазель! Спасибо… спасибо! Малинка, если ты меня заставишь еще с кем-нибудь здороваться, останешься за столом одна, а я пойду домой.
— Что с тобой?
Мы смотрим друг на друга. Я сжимаю зубы. Малинка чуть не плачет, почувствовав себя жертвой неблагодарности и обиды. Наконец принимаю решение, галантность открывает путь лжи. Ай да я, ловко же я вывернулся.
— Какого дьявола я должен смотреть по сторонам, когда я нарочно сел так, чтоб видеть тебя одну?
Она побледнела, как педагог, на которого его любимчик замахнулся палкой. И вдруг слезы потекли по ее щекам от нежданного счастья.
— Бедный, милый мой Данила, ты и впрямь удивительный человек! Кто бы подумал, что ты и в самом деле так любишь меня, знаешь, мне иногда кажется… ведь ты и любовь свою проявляешь так странно, всегда насупленный, о чем-то думаешь, нет, я плохой психолог… Ты, наверное, запарился с этими корзинами? Хочешь выпить ракии?
— Сегодня я бы не пил, душа моя.
— Весь день так и просидишь?
— Весь день. А Ибрагим пускай идет играть.
— Конечно. Ибрагим, поди сюда! Послушай, сынок, ты ступай, поищи себе компанию, играй, только… смотри! Веди себя хорошо, погоди, я поправлю тебе галстук! Так!
Уходя, сын подмигнул мне:
— Ну я пошел, дядь, а тебя мне жаль… Ничего не попишешь, такая уж твоя планида!
Не сомневаясь в том, что я только на нее смотрю и только о ней думаю, словом, что я всецело поглощен ею, Малинка с особым усердием принялась рисовать мне окружающие нас картины. Она быстро перебрала все оттенки небесной лазури, обнаружив при этом крайнюю ненаблюдательность, языком хрестоматии для четвертого класса описала мне лес с туристической, медицинской, индустриальной, военной и прочих точек зрения, умудряясь в свой рассказ ввернуть короткие беглые суждения обо всем, что происходило за моей спиной…
Драгица напялила сестрино платье, а на шею повесила невесткин жемчуг. А шея как у буйвола. Фу! Уму непостижимо, не люди, а набитые кадушки с зимними припасами в подполе, еле-еле двигаются. Данила, не оборачивайся!.. Этот начальник и впрямь с приветом. Подумай, праздник, а он в бриджах и гольфах. Охотничья шляпа. Ужас! А вот и табор пекаря. Двенадцать человек! О, господи! Доктор и его дамы все поглядывают на нас. Данила, может, предложим им составить столы? Не надо? Ну как хочешь. А знаешь, этот доктор с каждым днем все больше раскрывается, как…
— Идиот?
— Да. Это я и хотела сказать.
— Конечно.
Минута благословенного молчания.
Все горожане от мала до велика выползли на Кадиину воду. Мою спину захлестнул ливень впечатлений. Хребет оглох, привыкнув к кошмарам. Я по-прежнему смотрю на Малинку, приступающую к торжественному ритуалу разбора корзинок и сервировки стола. Где-то далеко за моей спиной кто-то громко произнес мое имя. Взглянув через руки с холодной запеченной бараниной, Малинка
вскочила:
— О, пожалуйста, товарищ председатель! Есть… есть место, как раз на двоих. Нам будет очень приятно.
Дорогая Малинка сверлит меня глазами и шипит:
— Встань, Данила, ради бога, председатель с женой!
Он два месяца в Виленице, и мы два раза виделись. На улице. Председатель пригласил меня выпить кофе таким тоном, каким приглашают только ради приличия. И соучастнически похлопал по плечу — будто он тоже исключен, так что надо вместе обмозговать, как выкручиваться. Я в его похлопыванье по плечу не нуждаюсь. Ничем не хочу быть обязанным милостям председателей общины и уж тем более виленицких. Такой роскоши я не могу им позволить. Не на того напали.
Я встал.
Маленькая жена председателя смеется и заглядывает снизу мне под брови, потом глазами спрашивает мужа:
— Так это и есть Данила?!
Малинка торопливо накрывает на стол, будто принимает гостей у себя дома. Председатель повернулся спиной к обеим женщинам. Похоже, бедолага тоже истосковался по разговору с умным человеком. Пропустив мимо ушей четыре вопроса своей жены, он обратился ко мне:
— Почему не заходишь?
— Я на больничном.
— Послать послезавтра за тобой машину?
— Спасибо, такого рода тщеславием я не страдаю.
— Не сердишься, что я так нахально уселся за твой стол?
— Напротив. Только вот другие задеты за живое, что ты не удостоил их чести.
— Брось шутки шутить! Между прочим я твой должник и расплатиться могу только транспортным средством.
— Не понял…
— Я должен тебе лошадь. Когда мы в сорок третьем пошли из освобожденной Тузлы в Романию, я…
да, нас, бывших партизан, только заведи, стоит начать разговор, помянуть какое-нибудь вражеское наступление, и все другое разом исчезает. Мира больше не существует, остается лишь то, что видно из-за дула винтовки или с земли, когда лежишь за минометом… К черту все, дай только придвинуться к тебе и чокнуться с прикладом! Мы чокнулись, дав своим женам понять, что нам сейчас не до них, есть дела и поважнее, так пусть нам не мешают, и по новой — ну, будь здоров, с праздником! И пошел я, значит, в завьюженные горы…
В сорок втором году усташи зарубили служителя виленицкой гимназии, а его шестнадцатилетнему сыну, гимназисту, удалось бежать со связанными на животе руками. В сорок третьем он был связным в бригаде. Как-то, ковыляя на подбитых ногах мимо моего штаба где-то над Тузлой, увидел он оседланного коня… Зная, что я в городе, соврал бойцам, будто я разрешил ему взять коня, вскочил в седло и был таков!
— Эх, Данила, какой Серко был! Убили его немцы подо мной на Кривае. Пей!
— Будем здоровы!
Я пью, но тошнота разбавляет ракию, и пряди хмельного тумана расходятся, так и не дойдя до мозга. Постепенно председатель становится вполне сносным и даже приятным человеком. Простой, симпатичный, улыбчивый говорун… Вспоминаю, в прошлом учитель истории, директор уездной партшколы, член укома, медаль первоборца, исключался из партии в сорок шестом за связь с женой какого-то высокопоставленного деятеля, но вскоре восстановлен. Желтый зампред сказал мне доверительно о новом председателе:
это человек дела,
один из тех тихих председателей, за которыми следуют не грузовики с собаками, конурами, бездельницами свояченицами и взятой в три кредита мебелью, не подмоченная репутация нерасторопного хозяйственника, а — комбинаты, специалисты, ревизии, кампании борьбы с уличной грязью, порядок и дисциплина, причину которой не очень-то и понимаешь, однако помнишь о ней даже во сне. Родичи таких, как он, бранят и поносят, город относится к ним с молчаливым почтением, доктор с ними первый здоровается, а жены с детьми не шастают к ним на работу. Это спокойные, расчетливые трудяги, враги шума и показухи, народ их быстро забывает, хотя именно благодаря им сегодняшний день оставляет след в его памяти.
Худой, с подкупающей хитрецой и с длинным тонким, чуть искривленным носом. Слетающие с сухих губ слова похожи на камушки, исподтишка пущенные из рогатки. До конца прошел высшую боснийскую школу — речь плавная, лицо спокойное: поди угадай, когда говорит серьезно, а когда пыль в глаза пускает.
Должно быть, обо мне он получил неправильную информацию. Похлопывает меня и силится выражаться с натужной крестьянской грубоватостью. Похоже, ждет, что я пульну в него цитатой из «Капитала» или «Анти-Дюринга». Я, мол, тоже не лыком шит. Но я этих книг еще не читал и потому молчу. Малинка с напряженным вниманием следит за отношением ко мне председателя, и по мере того, как сердечность его растет, она становится все сердечнее к председательше.
Моя спина, прислушавшись, доносит мне:
подошел какой-то неприятный тип, явно тут лишний, но настырный. По взгляду председателя поверх меня заключаю: ему он тоже неприятен, но так просто от него не отделаешься. Новый директор торгуправления с супругой раскланивается с нами и протягивает руку с заученной учтивостью среднеобразованного завмага. Краем глаза я сидел, как он поманил пальцем супругу и свояченицу. Тут же нашелся столик с тремя стульями, который без промедленья приставили к нашему.
Высокая строгая стрижка, физиономия высокомерная и недалекая, сверкающий перстень на мизинце. Твердый воротничок. Красный галстук — под стать его красной физиономии, разумеется, красной не от стыда, а от здоровья и любви к питью. У нас с председателем лица синие, будто с горя. Директор проявил большую идейность, чем мы. Он с ходу поздравил нас с революционным праздником: меня как равного — легким прикосновением пухлой руки, председателя — крепким рукопожатием и легким поклоном. Его жена облобызалась с нашими супругами, внеся в поздравление очаровательное женское кокетство. Она перезрела, как айва на шкафу, но сохранилась еще неплохо. Один завмаг с упоением говорил мне о ее несравненных бедрах и привычке кусать любовника в плечо. Укусит и замрет в истоме.
Пока директор торгуправления располагался за столом, директор комбината общественного питания вертелся вокруг нас, окликая ленивых, нерасторопных официантов, и, так и не дождавшись их, сам бежал за тарелками и кофе для нас. Незаметно и он с семьей втерся в нашу компанию.
Начальник лесоуправления, задетый за живое успехом двоих директоров, подошел к председателю, обдал всех нас запахом рома из гнилой утробы и завел про лесные массивы, целлюлозу, лесопосадки, кубометры, лесные массивы, целлюлозу, посадки… Наконец председатель не выдержал и сказал:
— Садись!
Тот немедленно махнул рукой, и его многочисленное семейство на рысях доставило столы и стулья… Рукопожатия, перемещения, улыбки, локтями в каймак, пальцами в тарелки, о, извините, Мара, дай платок, ничего страшного, вечером почищу бензином!
Тихая воркотня женщин…
Следом за начальником лесоуправления и его семьей к нашему столу присоседились начальник финансового отдела совета — дальний родственник председателя, председатель общества офицеров запаса — связной председателя в сорок пятом, замзав собеса… Составились в ряд десять столов. Председатель со всеми держится вежливо и обходительно, и только я вижу, что он умирает со смеху… прежде всего над самим собой! Нет-нет да и поднесет свои тонкие сухие губы к моему уху:
— Не бросай меня!
С ходу меня раскусил.
Одурманенный ракией, я молчу над обглоданной бараньей костью и стопкой, на дне которой мокнет крошка. Вокруг меня жужжит рой слов, директора выхваляются перед председателем своим знанием дела,
остается лишь диву даваться — где же коммунизм, если все у нас так хорошо, как они представляют!
Начальник лесоуправления, инженер, одичалый от леса, рома и жизненных промахов, и впрямь такой разнесчастный, что ему уж ничем не помочь, разве что его отпрыскам, без конца говорит и говорит с пеной у рта про участки, целлюлозу, лесопосадки, кубометры, но все это одни слова, за которыми отчетливо проступают огромные масленые глаза с отчаянной жаждой какой-нибудь сатисфакции, хотя бы в виде внимания начальства.
Но запасы его не беспредельны. Председатель обернулся ко мне, спросил, как у меня с сердцем, по-прежнему ли я много курю, инженер через стол схватил его руку в намеренье вновь завладеть им — ведь ему еще так много надо сказать, но молчаливая жена его, мрачная и тяжелая, как все терпеливые супруги хронических алкоголиков, осторожно, двумя пальцами потянула мужа за рукав:
— Карл, Брацо хочет по-маленькому, отведи его за дерево!
Директор торгуправления зашептал что-то доверительно на ухо председателю, потом откачнулся, громко проскандировал: «Скан-дал, товарищ председатель», — и стал смотреть, какое действие произвели его слова. Но тут подоспел директор комбината общественного питания с двумя индюшачьими ножками — для меня и председателя… наполнил нам стопки и произнес полинялый официантский тост. Замзав собеса вскочил и прокричал:
— Товарищ председатель, товарищи, с праздником вас!
Все обернулись к нему. Все обязаны с ним чокнуться. Он сел совершенно счастливый. На сегодня славы достаточно. Любопытно, начальник лесоуправления, оба директора и этот — из собеса, поздравивший нас с праздником, уже побывали в тюрьме. Не уверен, что кто-то из них не сядет снова. Я вижу их насквозь — старая школа подхалимов, в которых главное — страх, как бы не распознали их никчемности. Они не имеют ничего общего с нами. Они трутся подле нас, всеми правдами и неправдами добиваясь признания своей незаменимости.
Я начинал клокотать от ярости, вот-вот она хлынет наружу и обернется грозным окриком:
— Эй вы, заячьи души, в две шеренги становись, шагом марш по домам!
И дайте нам, черт вас раздери, спокойно отпраздновать это весеннее утро, оставьте хоть меня в покое, я-то не председатель и вовсе не обязан оказывать вам внимание. Впрочем…
— Председатель, извини! Малинка, собирай манатки!
— Данила?!
— Собирай!
Мы поднялись на край луговины. Малинка сидит бледная и сердитая: не может простить, что я увел ее от председателя и его жены. Я лежу на спине, посмеиваюсь, глазею в синее небо и спрашиваю дорогую мою Малинку:
— Нравится тебе здесь, душа моя?
Ближе к полудню вижу: по луговине, пошатываясь, идет председатель с бутылкой в руке, за ним — музыканты, за музыкантами рысит председательша с корзинками. Расположились подле нас. Поблизости оказался милиционер. Председатель взмолился:
— Будь другом, ежели кто сунется к нам, даже с малюсенькой проблемкой, отвадь его любыми средствами силы и закона. Спаси от погибели.
— Не беспокойтесь! Все будет в лучшем порядке…
Председатель трезв как стеклышко. Бутылка и неверная походка были для отвода глаз. Предпочел стать мишенью для насмешек, лишь бы избавиться от этого кошмара.
Я налил ему.
Он выпил до дна.
Потом — еще одну со мной. Затем с Малинкой. И наконец — с музыкантами. Потом заплатил им и попросил оставить нас в покое, что они и сделали с превеликим удовольствием. Ну какой им резон торчать здесь? Председатели и повеселиться толком не умеют и не слишком-то щедры, а для музыканта хуже нет, чем играть трезвому председателю. Мало того что с него не сорвешь по сотняге за песню, так еще и улыбайся, словно это большая честь — играть и петь для председателя, которому, может, медведь на ухо наступил.
Мы снова остались вчетвером.
Женщины взялись судачить. Я сам, не знаю почему, рассказал председателю свою версию скандала с председателем укома.
— Жаль мне тебя, — посочувствовал он, — сами довели, а тебе и так досталось в жизни немало…
Большей обиды для меня и быть не могло. Сочувствие — последняя ступенька, на которую меня можно сбросить. Ух, как мне хотелось крикнуть ему:
— Эгей, брат, для этого ты со мной водишься? Я в жалости не нуждаюсь. Прибереги свое сочувствие для тех, кто видит цель жизни в восхождении по служебно-платежной лестнице.
Но я не взорвался. Пороху, что ли, не хватило? Только дергаю травинки у колена да поддакиваю:
— Да, товарищ председатель…
Что это? Трусость? Или просто дисциплинированность? Или я так преуспел в науке проглатывать обиду ради укрепления рентабельной симпатии? Но как бы там ни было, сочувствие председателя отнюдь не продиктовано снисходительностью человека с положением к жалкому отверженному еретику. Есть в нем благородное стремление относиться ко мне как к равному. И все же это излишне. Не знаю, откуда в нем это раздражающее меня стремление. Я никогда не жаловался. Разве что Малинка?
На солнечной ливаде под нами бьют барабаны, аккомпанируя скрипкам и аккордеону. В быстрых хороводах звенят ослепительно белые и красные мониста девушек. Аккордеон умолк. Вот уже только барабаны бьют медленно и торжественно, будто сзывая башибузуков под зеленое знамя в поход на Вену. И вдруг заунывная, протяжная песня жнецов:
Уродился мелкий боярышник…И снова раскаты аккордеона, гиканье и пестрые ожерелья хороводов, кружащиеся на яркой зелени луга. Солнце остановилось… По небу стыдливо колышется белый шелк.
С праздником вас, граждане!
Вечером моя обожаемая Малинка лежит посреди комнаты, пьяная от восторга, от леса, от неба и солнца, а еще, наверное, от радости, что провела день в высоком обществе. Я развожу огонь, чтоб подогреть ужин, слушаю ее восторженные возгласы и усердно заверяю ее в том, что она, моя прекрасная супруга, была само очарование и что я тоже очень доволен. Она обозвала меня котом мартовским и принялась обольщать. Я тишком плюнул в огонь и, бросив печку холодной, вышел, сел на порог, закурил и спросил себя:
— До каких пор? И как?
Я начинаю походить на обыкновенного жителя маленького городка. Предпочитаю покой кипучей деятельности. Мои кости и задубелые артерии наполнило тепло — два дорогих и преданных мне человека самим своим существованием питают бодрость в моей душе. Я, черная, вздыбленная почва, слеживаюсь в спокойную, глухую и добрую пашню.
Не без сопротивления.
Где-то во мне или надо мной сидит, звеня оковами, Данила Лисичич, шальной зодчий с длинным языком. С пьедестала дурманящей неукротимости смеется надо мной щербатым ртом и подбитыми глазами — пришлось-таки с ним повозиться, пока я его одолел, связал и посадил, — сиди, мол, и не рыпайся. А он, стервец, смеется и вызывает меня на спор. Все мои доводы, основанные на твердых, неколебимых принципах общепринятого здравого смысла, разбиты в пух и прах. Этот циник без единого козыря в руках подымает на смех меня, солидного человека и примерного семьянина. Дело дошло до того, что мне уж стыдно показаться ему на глаза. Свои мучительные препирательства с ним я таю даже от Малинки. Боюсь, усомнится в прочности нашего союза и обвинит меня в том, что я нарочно придумал третьего. А сомнение — это трещина, способная пропустить лавину разрушителей.
Я числюсь на службе. Но делать ничего не делаю. Все чаще ловлю себя на том, что как неприкаянный слоняюсь по дому: «Куда идти? Что делать?» Временами успокаиваю себя: потерплю, пока сын Ибрагим не подрастет и не сможет выслушать мою исповедь и заветы. А до той поры смиренно буду снимать шляпу, улыбаться, жевать котлеты, пить шприцер, исправно выполнять дневной и ночной распорядок, не спрашивая о цели. Знаю, мой узник загремит цепями и крикнет:
— Га, Данила, трус, лизоблюд и подпевала!
А что, если показать ему дулю? Побренчать у него перед носом честно заработанными орденами и вполне официальным правом на ничегонеделанье? Назло пощекотать ему ноздри ароматными котлетами? Пусть сдохнет от зависти, голодный шакал. А станет глумиться надо мной этот ехидный непризнанный святой, отвечу ему сытыми остротами довольного жизнью человека.
Я по горло увяз в обкатанных днях.
Сидим с Малинкой за столиком перед кафе.
До этого прошлись в длинной веренице гуляющих, возглавляемой теми самыми девицами, которых я заприметил еще в прошлом году на таком же вечернем променаде по главной улице города. С тех пор мало что изменилось. Низкорослый налоговый инспектор с великаншей женой, дочкой пекаря, и с новым младенцем, ветеринар и его супруга с поливиниловой сумкой, в которой поместился бы пуд картошки, парни с еще не просохшими чубами, девушки из контор и магазинов, кандидатки на будущие вакансии, там же и прочие горожане, которые теплым вечером выползают погулять и подышать воздухом.
Мы с Малинкой, исполненные достоинства и пользующиеся уважением сограждан, прошлись под руку где-то между компанией ветеринара и тремя парнями в белых рубашках и туфлях со скрипом.
Вдруг, видно от отчаянья, в глазах у меня потемнело, и я предложил Малинке сесть у кафе: мол, боюсь за нее — ведь она на четвертом месяце, как бы не устала. К счастью, она сразу согласилась.
Я заказал шприцер и две порции шашлыка.
Молчим. Малинка ерзает на стуле. Смотрит на гуляющих. Подмечает малейший непорядок в туалетах женщин и девушек. И тут же дергает меня, сдувает волоски, смахивает ладонью соринки, болтает о рубашках, поступивших вчера в магазины.
Я люблю свою жену. Но от ее чрезмерного внимания я сойду с ума. И от вынужденного покоя.
Связанный и избитый Данила Лисичич кричит сверху:
— Ха-ха, Данила, товарищ гражданин, лошак бессовестный, для того ли тебя мать родила?!
Я выпил шприцер и стал ласково потчевать свою супругу горячим шашлыком.
Из вереницы гуляющих вышел новый директор торгуправления со своей пышной женой, сбитой из здоровья и дерзкой, глуповатой красоты. Они сели за соседний столик. Мы с Малинкой, прожевав очередной кусок, вежливо поздоровались с ними.
— Более красивой женщины я еще не видела! — сказала моя Малинка.
— Да ну!
Малинка радуется моему равнодушию к прелестям других женщин. И, желая лишний раз убедиться в том, восклицает:
— Ноги просто точеные!
— Ерунда! Если меня не обманывает зрение, корова коровой!
А про себя думаю:
«Дорогая моя Малинка, ласточка моя наивная, если б ты только знала, сколько я выдержал следствий и каких ловкачей обводил вокруг пальца, от волнения пульс у тебя подскочил бы сразу до ста сорока, так мне ли не понять, чего ты добиваешься?»
— Я просила ее приберечь дочку для нашего Ибрагима. Она согласилась.
Запиваю мясо шприцером и кисло улыбаюсь.
Малинка отхлебнула из моего стакана. Уговариваю ее допить весь. Она отказывается — мол, не положено ей. Снова молчим и скучаем. Чтоб немножко разговорить ее, я спрашиваю, как это она, гимназисточка, отважилась пойти в лес. Вспоминать о той поре ей куда приятнее, чем есть шашлык. Этот ее рассказ я слышал уже раза три и все равно делаю вид, что мне ужасно интересно… Смотрю на ее ровные зубы и почти вижу, как губы одно за другим пропускают звонкую цепь слов. И не будь здесь посетителей и прохожих, я бы поцеловал ее… Крепко-крепко.
Но ведь это так немного.
Стемнело. Директор и его красивая жена раскланялись и ушли. Я вытащил бумажник. Надо уходить. Не потому, что хочется, а потому, что неприлично уходить последними.
Внезапно за спиной официанта вырос Ибрагим. Вежливо поздоровавшись, он сел рядом с Малинкой и положил передо мной конверт.
— Служитель принес. Говорит, срочно.
Пишет председатель уезда:
«Данила,
завтра утром приезжай ко мне! Поскольку ты будешь строить в Виленице деревообрабатывающий комбинат, надо обсудить проект и смету. Жду тебя с тремя инженерами. Деньги есть. Побрейся и вели Малинке отутюжить тебе брюки. Ты назначен начальником строительства. Получишь во временное пользование общинную машину, пока не прибудет твоя. Итак, завтра в десять у меня. Сообщи об этом товарищам в общине. И скажи им, что будешь держать прямую связь с нами. Не забудь про бритье и галстук!»
— Что с тобой, Данила? — спросила Малинка, удивленная тем, что я хохочу, обнимаю официанта и прошу принести нам два литра вина. — Что с тобой, ради бога?
Когда официант ушел, я принялся обнимать их обоих.
— Ну что с тобой?
Ибрагим сдавил мне плечи и приказал:
— Ну, дядь, говори, в чем дело!
Я засучиваю рукава, поднимаю палец и начинаю речь:
— Сын Ибрагим!
И снова победно кривляюсь и дурачусь. Наливаю нам по стакану вина, сыну — стакан лимонада. Жена прочла письмо и радостно воскликнула:
— Назначили начальником! И машина?! Господи!
Сын прочел и поздравил:
— Как раз вовремя! Поздравляю!
— И машина! — радуется Малинка. — Наконец я перестану трястись в этих жутких автобусах!
— Дядь, значит, ты мне купишь бутсы?
— Гм! Хе-хе!
— Данила, Ибрагим серьезно спрашивает тебя…
— Хе-хе-хе!
— Данила, ради бога, как ты ведешь себя, ведь люди смотрят!
— Ха-ха-ха!
— Не будь невежей, Данила. Вместо того чтоб извлечь мораль: ты ударил человека, а он тебя реабилитирует…
— Мораль? Ха-ха-ха… Хо-хо-хо!
— Ибрагим, оставь нас на минутку. Так! Данила, ты перестанешь паясничать?
— Отстань, жена, мне хорошо… и смешно… ха-ха-ха! Мораль!
— Данила, вместо того чтоб поблагодарить меня, ты треплешь мне нервы.
— А за что я должен благодарить тебя, курочка моя, ты же не отдел кадров! Официант, подай вина!|
— Нет, ты меня должен благодарить.
— А почему тебя, яблочко мое наливное? Хе-хе-хе!
— Меня. Это письмо… дело моих рук. Пока ты с видом оскорбленного величия слонялся по дому и по канцелярии, я… я ходила по начальству, упорно, почти каждый день, надоедала им своими просьбами, говорила, как ты переживаешь из-за того прискорбного случая, объясняла, что ты давно уже понял свою неправоту, что много брал на себя, что больше этого не будет, что ты согласен на любую работу, лишь бы товарищи не думали о тебе плохо… что жизнь без настоящего дела тебе в тягость… от твоего имени я писала письма, которых ты в своей гордыне никогда бы не написал. Они поверили мне, а не тебе, запомни! Хотя бы поэтому ты должен молчать и вести себя пристойно!
— Да ты свихнулась!
— Можешь проверить! Только не падай в обморок, когда услышишь, что я говорила и писала, чтоб только вытащить тебя. Я… я не хочу быть женой неудачника, который…
— Жена, домой!
— Что? Данила, что с тобой?
— Домой! Вы с Ибрагимом начинайте укладываться, а я пойду за грузовиком. Едем в другой уезд.
— Ты в своем уме?
— Сударыня, ежели через полминуты вы еще будете здесь, я перестану принимать во внимание, что вы мой супруга и в интересном положении. Не уверен только, что рука моя достаточно тяжела, чтоб отплатить за оскорбление. Домой! Ибрагим, поди сюда! Отведи, сынок, тетю домой. Ей нехорошо. И помоги ей уложить вещи. Мне оставьте буфет, кровати и шкафы. И поторопитесь, я не намерен встречать утро на территории этого уезда.
Прощай, неразвитая община, горное сельское хозяйство, сельская торговля, большие планы и крохотные возможности, бурные потоки и скудные водохранилища! Прощай и ты, психология, верная их спутница! Я думаю, что мы сыты друг другом!
Прощай, персональная машина и оклад начальника строительства! Моя гордость возвысилась над вами еще до того, как вас придумали.
Если б я только знал, если б я знал! Я бы со стыда сгорел, с десятью Малинками расстался бы, не задумываясь!
— Официант, еще литр вина! И слушай, браток! Вот тебе мой галстук, видишь, он не из дешевых, у моей супруги есть вкус. Поймай, браток, за кухней самую большую дворнягу, приведи ее сюда и привяжи к ножке стола. Но только галстуком! Подбери мне отечественную дворняжку, не могу я пить один… Чего зенки выкатил? Получишь пять сотен. Понял?
Лакаю вино в ожидании официанта.
Наконец он вернулся.
— Есть одна, да только ее и сам господь бог не изловит. Вот ваш галстук.
— Спасибо, отдай его своему директору! И пошли сейчас же за шофером Андрией… Чтоб живой ногой сюда! Скажи: Данила куда-то переезжает, ночью, в Тузлу или Зеницу, не все ли равно, впрочем, тебя это не касается! Чтоб Андрия немедленно был здесь!.. Не то… не то я вам всем повяжу галстуки, да так, что у вас глаза повылезут. А ну ступай! И по пути налей вина в этот графин! Жажда одолела.
Сударыня,
товарищи,
ой-ей, Малинка, безрассудная, что ты со мной сделала!
Ведь я же не горный рюкзак твоего папы, который ты взяла с собой, уходя в партизаны. Меня не возьмешь с собой в жизнь, как зубную щетку, маникюрный прибор и разные там побрякушки-финтифлюшки, и вообще распоряжаться мужем по своему усмотрению, завязывать его и развязывать и под голову и под задницу класть тебе не удастся. Я к тебе со всей душой, но под твою дудку плясать не стану! Кто уполномочил тебя так оскорбительно толковать другим мое молчание? И то, что я стою по стойке «смирно»? Или твои твердые принципы времен войны и восстановления уничтожила довоенная гимназистка, разумная девица на выданье из хорошей семьи, для которой супруг всего лишь часть мебели, красивый выходной башмачок.
Официант, еще вина! И почему не идет шофер Андрия, он должен увезти меня… ой-ей, увезти до того, как жена реабилитирует меня своими жалкими взглядами на реабилитацию. Увезти, пока я не повесился на ближайшем телеграфном столбе. На галстуке, который выбрала для меня по своему вкусу моя супруга.
Когда я ввалился в квартиру, было уже пятнадцать минут третьего, супруга моя подметала. Подметать в такое время может только оскорбленная женщина, которая веником выражает свой гнев не хуже, чем языком, в особенности если она вообще редко подметает.
Делаю вид, что не вижу, как она негодующе метет. Думаешь, упаду перед тобой на колени и стану громко каяться? Ошибаешься, моя милая. И, разыгрывая мужа, вернувшегося с трудовой вахты, я крикнул:
— Сухое белье, горячую ванну, крепкий кофе!
Она заколебалась. Покорится — значит, признает свою неправоту решительно во всем, даже в распре по поводу того, из-за чего мы уже так злобно шипели друг на друга у кофейни. Если бросит веник и уляжется в постель, я все сделаю сам. В этом случае через час-другой она рискует найти расшвыренную посуду, прожженную скатерть и разбитую ванну. Но моя Малинка за последнее время так горячо привязалась к вещам, что за одну скатерку, какой нет у соседки, повесит двух Данил, не то что одного, да к тому же изрядно потрепанного. И вдобавок на его же ремне, потому как бельевые веревки понадобятся и после похорон. А будет по-прежнему дуться, я смогу напропалую играть в повредившегося от алкоголя неудачника, бьющего по чем попало. Но, видно, побои ей не улыбаются,
вот и не знает, как быть.
Некоторое время она пристально смотрит на меня и вдруг без единого слова начинает доказывать, что она умная женщина. Мигом подала белье, нагрела воду в ванной, сварила кофе и налила в парадную чашку, из которой поит лишь жен председателя и секретаря. Но во всех ее движениях сквозит плохо скрываемая досада. Это она мягко, чтоб я не дал воли рукам, доводит до моего сознания, как я не прав.
Синева в окнах бледнеет и исчезает. Склонившись над столом, я пью горячий кофе и чувствую, как тело горит и покрывается испариной после купанья. Хаос в голове слеживается в ноющую головную боль. В двух шагах за моей спиной супруга гладит мои брюки и долбит мой больной затылок нескончаемым потоком слов:
— Целый год не был на людях,
и ты не грузчик, чтоб таскаться по кабакам, мог бы прийти домой, выпить, закусить и лечь в десять, как все нормальные люди…
— Но, сударыня, я не желаю быть нормальным!
— …надо было сказать мне об этом до свадьбы, а не теперь. Чего доброго, от всех переживаний рожу недоноска… еще убьешь меня… а впрочем, если тебе нравится, продолжай в том же духе! Я сделала, что могла… думаешь, в наше время легко стать начальником? Это будет огромный комбинат, одних рабочих полторы тысячи. Получал бы тысяч семьдесят, разумеется, первое время… наволочки уже светятся, зимнее пальто на будущий год надеть стыдно, и ты скатишься на ширпотреб, а как начальник…
— Но я не хочу быть начальником!
— …а станешь начальником, сам знаешь, ответственная работа влечет за собой разные привилегии. Ты воевал с первого дня, да и я не дожидалась капитуляции Италии, пора уже хотя бы под старость получить от этого какие-то преимущества, ты просто разиня, люди зубами вырывают малейшее повышение, а ты…
— Не надо мне никакого повышения!
— …а ты пытаешься обедать иллюзиями, а ужинать убеждениями.
— Я не ем свои убеждения.
— Когда ты наконец спустишься с этих своих примитивных аскетических облаков и обеими ногами встанешь на землю, признаешь, что лучше иметь перед домом машину с шофером, чем брать билет у замурзанного кондуктора и быть на седьмом небе от счастья, если удастся занять заднее сиденье в вонючем автобусе. Ты заслужил машину, тебе ее дают, а ты…
— А я не хочу.
— Смешно и глупо.
— Жена, если б все мы были чуточку смешными и чуточку глупыми, предприятие не просило бы у совета санации, совет у уезда — дотации, уезд у республики — аванса, республика у федерации опять санации. Директора не отдавали б свою совесть динару внаем, и нам не приходилось бы просить за границей заем.
— Прекрати, пожалуйста, свое крестьянское рифмоплетство!
— Жена, не кипятись. Я еще не совсем протрезвел. К вечеру надеюсь вернуться из уезда. О своем решении сообщу, но без права обсуждения. Ясно?
— С твоей стороны весьма нескромно размахивать своим патриотизмом. В сущности, тебе ни до чего нет дела, ты занят лишь честолюбивыми суждениями о собственной персоне. Надуманная забота о судьбе Югославии лишь благовидный предлог, чтоб отказаться от поста начальника. Тебя попросту задело за живое, что этот пост вручен тебе не на митинге, как орден, а выбит мной…
— Замолчи, тысячу чертей! Потому и не хочу…
— Ладно хоть признал, что только поэтому не хочешь.
— … мать вашу мещанскую, этот наш социализм еще мясом не оброс, еще ребра наперечет, а вы уже накинулись обгладывать его. Ужас какой-то… Я предложу создать союзную комиссию по расследованию посягательства на убийство социализма с целью ограбления. Из засады личных аппетитов. Назло всем вам, не буду начальником!
Председатель уезда ходит вокруг меня.
— Значит, не хочешь?
— Не хочу.
— А если мы прикажем?
— Тогда — не могу.
Он ходит вокруг меня, как вокруг отловленного зверя, который не отмечен ни в одной зоологии, пронзая меня то одним, то другим глазом, потом вдруг оба лезвия своих зрачков опускает на мой лоб.
— Неужели в этой стране есть человек, не желающий стать начальником?
— Как видишь, есть.
— Не хочешь?
— Нет.
— Гм!
Ну что может быть приятнее, чем смутить человека, глубоко убежденного в том, что его никто не может смутить, — ведь он руководитель, проработавший всю, какая есть, марксистскую литературу вплоть до тонюсенькой брошюрки, ведь то, что происходит в мире, ему ясно и понятно, словно идет по его, председательским, предначертаниям. До него наконец дошло, что я упиваюсь его растерянностью.
— Какого рожна тебе надо? — взорвался он.
— Не знаю.
— Гм!
Председатель, когда приехал в наш уезд, всегда знал, чего хотел, решения принимал быстро и бесповоротно, а короткие его распоряжения звучали энергично и весомо. Но со временем он как-то размяк, былая категоричность исчезла, заменившись осторожным сомнением, разными «гм», «да, да» и «посмотрим»! Неминуемая участь всех, кто думает, что экономику и политику выучил раз и навсегда, а жизнь то и дело преподносит новенькое, чего не было в учебниках. Председатель держался на нескольких старых революционных ориентирах и периодических обзорах референтов. Он был на той стадии развития, когда опыт и интуиция оберегают от серьезных ошибок, а усталость, нехватка свободного времени и самодовольство не позволяют делать смелых, созидательных шагов. К тому же принимать в наше время отважные самостоятельные решения стало проявлением чистого авантюризма. Кроме разве случаев, когда дело касается судьбы какого-то там Данилы Лисичича или другой, подобной ему микроличности.
Гм!
Хе-хе-хе!
— Данила, сколько лет ты еще сможешь работать?
— Ежели без частых дискуссий с председателем уезда, думаю… лет этак тридцать.
— Ого!
— Я высокого мнения о своем здоровье!
— Гм! Ты уверен?
— Ежели не возражаешь, товарищ председатель, давай проверим. Я сейчас возьму твой письменный стол со всеми решенными и нерешенными проблемами в нем и с тобой на нем, пронесу по городу, потом верну на место и даже не запыхаюсь. Подумаешь, председатель уезда со своим столом! Пустяки!
— Брось свои шуточки. Итак, тридцать?! Ладно. А теперь скажи мне: что такое национальный доход?
— Хе! Это… это… А что?
— Давай определение!
— Э, что касается определения… извини…
— А валовая продукция?
— Валовая, она валовая и есть.
— Я хочу услышать определение!
— Это, брат, все, что производится…. да, верно?
— Этак любой дурак объяснит. Значит, не знаешь определения. Скажи, кто написал «Мост на Дрине»?[31]
— Спроси чего-нибудь полегче. Мостам на Дрине счету нет. Я сам на Зеленой построил два, а про тот… про который спрашиваешь… не слыхал.
— Да ну!
— Не слыхал.
— Скажи мне, что такое подлежащее в предложении?
— В каком предложении?
— Да в любом.
— Подлежащее? Что-то мы проходили в начальной школе. Черт подери… хе, подлежащее! Подлежащее, говоришь, товарищ председатель?
— Понятия не имеешь?
— А, вспомнил, подлежащее и сказуемое. Но убей меня бог, не помню, что это такое.
— И ты строил Лабудовац? Просто поразительно.
— Да ведь города строят не подлежащее и сказуемое… а люди.
— Значение подлежащего и сказуемого и всех прочих форм и определений — показатель общей подготовки руководителя, показатель его экономической культуры, товарищ Данила…
И пошел председатель читать лекцию… А я рву на себе волосы — как же я так оплошал, не спросил Ибрагима, что такое подлежащее, чтоб ему пусто было! Потом сдвинул колени, положил на них руки, словно провалился на переэкзаменовке и выслушиваю рекомендацию прийти через год.
— Данила, надо учиться!
— Мне? Учиться?
— Узнаешь, что такое подлежащее и сказуемое и что на Дрине есть только один мост, представляющий общекультурный интерес, а все остальные имеют лишь экономическое, военное и туристическое значения. Выучишь экономические и политические понятия, которые отшлифуют твой полуграмотный опыт.. Учиться!
— Может, купить короткие штанишки?
— Не надо. Пойдешь в школу для взрослых. А закончишь, поедешь поднимать Лабудовац.
— Вот как!
— Зайди в отдел кадров и кланяйся Малинке! А подлежащее — это то, о чем говорится в предложении. Через два года снова тебя проэкзаменую. До свидания!
Хе-хе, через два года! Да за такое время чего только не случится. Председателя, к примеру, могут дважды проэкзаменовать. Председатель общины может стать председателем уезда и сразу потребовать экзамена для своего предшественника. И наконец, самого председателя уезда, если сочтут необходимым, могут послать в школу взрослых. Ведь если человек засиживается в кресле председателя общины или уезда, он неминуемо заболевает манией величия. Маркс для него лишь справочная литература, Энгельс — революционный публицист и друг Маркса, а вот его доклад на скупщине — верх учености.
Мудрость страны не в определении, а в движении.
Опять я на площади у фонаря, как год назад, когда меня вышвырнули из партии. Но теперь я не прислоняюсь к его скособоченному столбу, не ищу в нем опоры, напротив, меня, как мальчишку, охватывает озорное желание помочиться подле него и непременно пустить струю на другую сторону. А потом оседлать жердь и со свистом и гиком проскакать под окнами общины. Я так разволновался, что решил выпить стопку-другую ракии — для успокоения. Но только я об этом подумал, как по спине побежали мурашки: а что, если трактирщик протянет из-за стойки руку, дернет меня за ухо и крикнет:
— Ах ты, сопляк, еще за партой сидишь, а уже водку лакаешь! А ну вон отсюда, не то скажу директору школы! Ну и молодежь нынче пошла! В наше-то время…
Я облизнулся и проглотил слюну. Трезвый и здравомыслящий школьник, иду в книжный магазин и вежливо говорю: «Добрый день!» — в надежде, что дородная тетя за прилавком ответит: «Здравствуй, малец! Чего тебе, родимый?!»
Но продавщица, до вчерашнего дня работавшая в овощном магазине самообслуживания, вылупила на меня глаза, как бы я чего не стащил. А рот на замке.
Нужных мне книг здесь не оказалось, и я вышел из магазина с несколькими фотографиями голозадых артисток и с хорошей домрой в руках. Честное слово, я тут ни при чем, все это мне всучили! На улице я в утешение себе вел мысленную беседу с Ибрагимом: «Домра, сынок, пригодится, помнишь, как в песне поется: «Иль жени меня, отец, иль купи мне домру, чтоб хоть побренчать со скуки».
Моя умница супруга быстро примирилась с тем, что я не буду директором. Дабы остудить свое распаленное честолюбие, она распространила слух, что я начал учиться. Я и впрямь сижу дома на диване, листаю захватанные пособия, одолженные у одного референта, который несколько лет кряду проваливался на экзаменах, но благодаря своей отменной дисциплинированности все же оставался референтом, а Малинка кричит на резвящуюся под окном детвору:
— …вот я вам покажу, как шуметь под чужими окнами! Господи, из-за этих бесенят нельзя сосредоточиться!
Это она говорит для соседей и для себя. А я самым бессовестным образом отлыниваю от ученья. Почесываю промеж пальцев на ногах и диву даюсь — не пальцы, а расплющенные уродцы на огромной крестьянской ступне. Задубевшие загнутые ногти вросли в мясо. Копыта, да и только. Оборотясь ко мне, супруга озабоченно спрашивает, сколько я выучил. Я ей показываю ногу:
— Принимая во внимание пройденный путь, ногам моим стоит посвятить хотя бы одну отрасль науки.
— Не паясничай! Падежи выучил? Что изменяется по падежам?
— Да все, если надо.
— Я имею в виду слова. Данила, я тебя серьезно спрашиваю!
— Ну-у, склоняются существительные, местоимения, глаголы…
— И глаголы склоняются?
— Если нужда заставит.
— Ну так назови мне глагол «слушать» в звательном падеже.
— Эй, слушать!
— Разве можно глагол позвать?
— Позвать-то я могу, не знаю только, откликнется ли.
Мою супругу обуял святой педагогический гнев. Она согнула указательный палец и принялась стучать по моему лбу, вбивая в него склонение, а я в душе молю бога: «Господи, если ты когда надумаешь вернуться на эту грешную землю, отмени падежи — и грамматические, и все прочие, через которые вынужден продираться человеческий ум, и укажи нам путь к умножению красоты, вместо беспощадного опутыванья правилами. Люди придумали язык для освобождения, а вовсе не ради того, чтоб те, кто у власти, козыряя разными там языковыми нормами, укорачивали нам язык или вообще затыкали глотку. Пошли им, господи, в горло рак, а в досье — низкие ставки. Тому, кто придумает новое прекрасное слово, усыпь розами путь к старости. А в того, кто выдумает правило, брось, господи, камень!»
Дойчин прослышал, что мне приказали учиться, дабы, выучившись, я впрягся в лабудовацкую экономику, и послал за мной машину — чтоб повидаться и, как я думаю, прочесть мне одну из вступительных лекций.
Я гордо восседал в машине, корча из себя специалиста, за которым Лабудовац послал бы и реактивный самолет, не токмо что задрипанный «фиат». Руки шофера, словно отдыхая, покоятся на руле и лишь временами, будто прогуливающиеся на солнышке молодки, тихо и плавно ходят туда-сюда. Я раскурил две сигареты и протянул одну ему, надеясь вызвать его на разговор. И заодно умаслить. Ведь в машине шофер — премьер-министр, а в случае нужды — по совместительству министр общественной безопасности. Так что подольститься к нему не мешает.
— Дойчина возишь, приятель? — спросил я снисходительно.
— Всякий сброд вожу.
— Ого! Неужто и Дойчин сброд?
— Дойчин дурак, а вся его компания — дерьмо.
— И в глаза ему скажешь?
— Говорил. Он подумал, подумал и промолчал. Жил бы ты, Данила Лисичич, в Лабудоваце, ты бы со мной согласился…
— Ты меня знаешь? Чей же ты будешь?
— Мичун я. Забыл, как ты сидел на отчем пороге в тот самый день, как с войны воротился? Еще шею мне перевязывал… Гляди! — Указательным пальцем он отвернул высокий ворот водолазки. Тоненький рубец от уха к уху мигом вернул меня на порог дома: снимаю засохшие струпья и перевязываю рану солдатским бинтом, а из крупных глаз, полных дерзкого смеха детского бесстрашия, капают слезы, самые горячие слезы, какие я когда-либо ощущал на своих руках. Теперь у него запущенная шевелюра, в глазах, замутненных ракией, ожесточение.
— Мичун, неужели ты?
— Я самый! После армии я работал в транспортном, оклад шестнадцать тысяч двести, будь ты сам бог, будь ты… чтобы им огнем гореть на том свете… Только и знают собрания, накопления, дотация, амортизация, валюта, трали-вали, а на машины им плевать, лежат, как дохлые волы. Господи, что станется с нашим государством? Данила, ведь сожрут его крысы, и будем мы побираться — подайте, добрые люди, пшенички и машин. Попомни мои слова. На одном собрании я взял да вдарил по ним… ну и выгнали, подвели под сокращение! Избыток рабочей силы, видишь ли. Ну, навострил я нож, выпил для храбрости и пошел. Думаю, меня бандиты резали, а теперь я зарежу кого-нибудь из этих экономических бандитов…
— И что?
— А ничего. Четыре месяца тюрьмы. Знать, выпил лишнего и проговорился раньше времени. А как освободили, взял меня к себе Дойчин. Вози, говорит. Вот я и вожу.
— Сколько тебе платят?
— Деньги что? Туды их в качель! — взъярился Мичун и пошел рубить сплеча, каждое слово будто собака, с цепи спущенная. Как ни странно, но его руки, тяжелые, сильные, крестьянские руки, будто независимо от него, как ни в чем не бывало, крутили баранку, а правая к тому же мягко и спокойно поворачивала ручку переключателя. — Я свое жалованье проедаю, а оно — меня. Заявляется к Дойчину какой-нибудь деятель, удружи, мол, дай машину, а этот безотказный болван кивает мне: «Поезжай, Мичун!» Вот и везу деятеля и его курву за тридцать километров к Цице-трактирщице, они там проведут в номере несколько часов, возвращаются пьяные… Ему идет зарплата, мне идет зарплата… Другому опять же отца на курорт свези — ему зарплата, мне зарплата… Вот и ты небось решил прокатиться… побывать в родных местах, на дом взглянуть… И что ж… ты получишь свое, я — свое… даю голову на отсечение, что годика через два с сумой пойдем. А ведь пятнадцать лет уже тянем лямку. Наработаем на год, разворуем на четыре.
К горлу моему подкатил комок. Потные ладони заныли. Мичун, говорю ему, вот Данила приедет через два года в Лабудовац, увидишь тогда, и тут же сам вижу, что ничего глупее я придумать не мог, потому как в правое плечо мое тут же ударили слова:
— Ворон ворону глаз не выклюнет. А эти свои басни… расскажи кому другому. Все вы на слова горазды. Вот такие, как ты, и обглодали Югославию. Спроси людей! Скажи, не так, что ли?
— Мичун, я не виню тебя в том, что ты себе взял монополию на честность. Но если у тебя самого что-то не ладится…
— Старая песня — у другого что-то неладно. А с вами, начальниками, все ладно? Меня резали финкой. Вы режете страну тупым ножом. А что такое страна? Это я. Это ты. И горло каждого — горло страны. Ежели меня занесет когда в Белград, я скажу там во всеуслышание: «Товарищи, большая лажа все эти наши сводки, доклады, собрания». И ты врешь… Скажи, не так, что ли? Молчишь? Твое счастье. Не то вышвырнул бы тебя из машины. Позавчера заведующего столярной мастерской вышвырнул.
Возле совета он резко затормозил. Меня бросило вперед, но я еще не успел откинуться назад, как он толкнул меня локтем и открыл дверцу:
— Выходи, начальник!
Я пожал его мощную шоферскую руку.
— Мичун, встретимся вечером в кофейне. Поужинаем вместе.
— Я? С тобой?
— А что?
— Это не в привычках начальников.
— Слушай, я тебя однажды перевязал, иначе сгнило бы твое горло вконец. Так что теперь изволь слушаться. А будешь и дальше разыгрывать удивление, отколочу. Напьемся вместе, и все.
Я уже двадцать минут разговаривал с Дойчином в его кабинете, а Мичун все не отъезжал и не выходил ив машины. Сквозь стекло я смутно видел тяжелые руки на баранке и уткнувшуюся в кулаки голову.
В Виленице я поклялся вернуться в свои Лабудовац сдержанным и строгим руководителем, который, силой закона свернет шею стихии. Однако, глядя на Мичуна, оцепеневшего в своей машине, я чуть было не заплакал. И уж совсем заныло под ложечкой, когда Дойчин замогильным голосом запричитал про засухи, ливни, обвалы на дорогах, снесенные мосты, спаленные на корню урожаи, бесконечные убытки, мелкие хищения, поглощающие и без того хилые доходы, никто ничего не бережет, все только едят, ума не приложу, за что хвататься… а печень разрушается… рвота зеленью, только что на ногах держусь, может, пообедаешь с нами… Дойчин встал, но в дверях его качнуло, он прислонился к косяку и засмеялся: «В отпуск пора, с каких пор печенка гонит».
Ватага худосочных ребятишек, простая жена, смущенная моим приходом, пеленки, рев, лапша без мяса… Дойчин потчует меня, а сам держится за голову, не ест, все равно стошнит.
Обещаю зайти еще и — удираю. Брожу по Лабудовацу, кого обхожу, кому кидаюсь навстречу, с кем здороваюсь, от кого отворачиваюсь. За лесопилкой попался мне Панта Куль, старая тля и неистребимый клоп, сторожит склад досок, а заодно и приворовывает, хе, что поделаешь, Данила, так вот и живем божьей милостью, а новостей никаких, разве что Марко Охальник влежку лежит, от пролежней мается, а конторщица, которую ты когда-то привез сюда и которая потом вышла замуж за судью из уезда, отравилась… Говорят, с мужем не ужилась… поди пойми этих женщин, она с судьей не ужилась, а я, выходит, уживаюсь с такой державой и с таким директором… я, так сказать, частник, а служу стражем государственного добра… хе! Расстроенный, брожу я по Лабудовацу, не пропуская ни одной лачуги, ни одного камня, стороной обхожу дом Йованки, говорят, она по десять дней не выходит, пьет в одиночестве, ходит в черном и лишь раз в месяц, когда надо на почте получить небольшую военную пенсию, появляется на людях, исхудалая, с нездоровыми отеками на лице…
На улице еще было светло, когда в перестроенной кофейне загремела музыка. Сплошь незнакомые люди смеялись, пели, фланировали по главной улице; народ все больше праздный, здоровый и беспечный — такое чувство, будто я попал в другую страну, в город, в котором никогда не бывал и из которого удеру с первым же поездом или автобусом, так мне все здесь показалось чуждо и безразлично.
Какой прок от сознания, что я первым начал дело, так сказать, первым развел пары, что каждая улочка — артерия и моего кровотока и что почти каждый житель привезен и определен на место моей рукой, все равно, хоть на голову стань, как говорят товарищи мусульмане, в тебе сидят два человека, одного живо волнуют эти кучи камня и кирпича, быстрый топот бесшабашной молодежи и нестройный хор третьей смены начальной школы, обед и ужин каждого жителя в Лабудоваце, а второй — победитель и побежденный одновременно — бродит по нему, как неприкаянный. Потому что Дойчину тяжко, он тут один-одинешенек. Марко заживо гниет, милая маленькая конторщица… не могу поверить, о, господи! А ведь еще надо идти в кофейню, отбыть каторгу с Мичуном, только, между прочим, не забудь, ты здесь чужой, приезжий, и, как войдешь, вежливо поздоровайся: «Добрый вечер!»
— Добрый вечер! — крикнул пьяный Мичун от стойки, лишь только я показался в дверях, и все, кто был здесь, повернули головы и ахнули, как ахают при виде медведя, доблестного героя, небывалой красавицы или гонца с дурной вестью.
И сразу замолчали. Прохожу сквозь строй многочисленных глаз, они обыщут меня, прощупают, обследуют, вывернут, как карман, в который народным массам позволено запускать пятерню. Служащие контор из окрестных сел, которые по субботам ходят домой, чтоб помыться и переодеться в чистое, и которых я брал на работу, не спрашивая, знают ли они азбуку, рабочие в резиновых опанках и крестьянских домотканых рубахах под синими затертыми комбинезонами, официанты, возницы, два кузнеца, четыре машиниста с лесопилки, шоферня, учителя, продавцы,
мой ненавистный и милый Лабудовац,
проводил меня к столику с удивлением и любопытством,
а пьяный Мичун разоряется:
— Ну чего, чего рты поразинули? Я же вам говорил, что приведу Данилу Лисичича! Ну скажите, не так, что ли? Я сам привез его, так вешу мать… погодите, вот пройдет курс наук, возьмет вас в такой оборот, что искры из глаз посыпятся! Данила, друг, пей из моей бутылки, официант, стакан для Данилы, я сам обслужу его, ты, сволочь, не достоин такой чести! Что, Лопух, не согласен? На себя погляди! Лесничий называется, ворует казенную древесину, продает, а денежки кладет в свой карман! Давай ешь — и сыпь отсюда, чтоб и духу твоего здесь не было. Не хочу сидеть с ворьем. Скажи, не так, что ли? Молчишь. Конечно. Сказать-то тебе нечего. Дуб я возил, а ты мне дал двадцать кусков, чтоб помалкивал. Официант, нарежь сыру и колбасы а стакан принеси Даниле, да в ножки ему поклонись и руку поцелуй… ведь ты из тех самых паршивых Ногановичей, что всегда в работниках околачивались, недотепь и ослы, а теперь ты… воровством занялся. Ну чего уставился? Измолотить хочешь? Знать, забыл, как я бью? Давай, зови милицию… я ей покажу одно письмецо… Знаешь какое… Триста две тысячи! Ну чего тянешь? Зови!
Мичун выплескивает из себя веселенькие подробности,
они ударяют меня прямо по мозжечку, остриями слов пробивают барабанные перепонки, однако ж… что я наделал, что я наделал!
Из чистых глаз недорезанного парнишки капают на мои руки слезы, а я по пояс, по самое горло увязаю в неразберихе нашей действительности, самонадеянно убежденный, что будь у нас порядок и изобилие, этого было бы достаточно, чтоб Мичун вознесся по всем возможным вертикалям подъема. Только потому, что он, Мичун, такой, каков он есть.
Чего стоит этот новый Лабудовац, если в нем лютует хотя бы один Мичун? Знаю, знаю, я бы ничего не добился, если б даже отпустил бороду святого и пошел просить людей любить друг друга. Я чувствую законы, по которым развивается история, но… я вижу, Мичун — мое большое упущение и неискупимый грех. Ибрагим не искупление, а всего лишь свидетельство того, что где-то в подсознании я понимал свой долг перед Мичунами и Ибрагимами, однако с ловкостью опытного жулика пускал пыль в глаза своей совести половинчатыми решениями.
Мичун, Мичо, душа моя гневная, клянусь тебе, в ближайшие тридцать лет я сделаю все, чтоб в Лабудоваце честная мысль и правдивое слово обрели права гражданства и во сне и наяву. А тех, кто не пойдет на это добровольно, я найду способ научить, что динаром определяют меру труда, а не достоинство человека, что служебное положение — это обязанность, а не сумка, набитая правами. Так будет, Мичо, клянусь тебе своей красной книжкой, которую мне наконец вернули, засчитав партийный стаж с сорок первого года!
— …а мне снится, как вы меня динаром режете, господа и товарищи, а ведь я одиннадцатилетним пацаном был связным у Раде Билеговича, по прозванию Раде Власть… а ты, Абдуллах, привел в наше село усташей… когда и меня… ну да ладно, не жалуюсь, война была… а вот откуда у тебя столько лесу… что поле свое огораживаешь, ровно царский сад?! Воруешь? С Пантой спелся… шкура! Режете страну… и меня… ох, держ…
Что это?
Мичун!
Кофейня замерла и затаила дыхание, горло Мичуна перехватила судорога, руки его закорежило и повело к голове, бутылка в полной тишине со звоном брякнулась на пол, ноги застыли, и он рухнул навзничь, на столы, на стаканы и тарелки. Только сейчас я вспомнил предостережение Дойчина не позволять Мичуну пить, так как с ним случаются тяжелые нервные припадки.
Шоферы вынесли несчастного парня в полном беспамятстве с пеной на губах.
И тут-то, дружище, сердце меня окончательно предало. Я кинулся за шоферами и бесчувственным Мичуном, но на ступеньках небо вдруг опустилось мне на плечи, воздух отказался входить в мой широко открытый рот, в голове с треском лопнуло что-то белое, ноги сами собой разъехались. С тех пор два-три раза на дню мне делается плохо.
Послезавтра операция. Я не из тех, кто пишет завещания. С меня достаточно сказать другу теплые, бодрые слова. И знать, что несколько дорогих мне людей не будут поминать меня лихом: мой сын Ибрагим, несчастный Мичун, Дойчин, Йованка, моя бедная жена Малинка. И что Авдан и хаджи, невзирая на мое безбожие, попросят аллаха без всякой волокиты благоприятным образом решить на том свете мой жилищный вопрос.
С Дойчином я договорился о Мичуне. Его направят на лечение и учебу. Все, что у меня было, — клочок земли, дом, сбережения, — я отписал Ибрагиму… Все положенные пошлины и налоги заплатил. До армии будет жить с Малинкой, а там… нет, нет, не спорь, я в самом деле прощаюсь, знаю, что сердце не выдержит. Эка важность! Если вспомнить, через что только я не прошел и с кем только не вынужден был расстаться… эхма, это расставание с самим собой — сущий пустяк. Разве что немножко погрустить, что молодости не увидел, что девичьих губ и грудей не нацеловался, как мог бы, но… мрак погасит и эту грусть. А что касается моего последнего наказа, я бы написал письмо…
но…
ох,
придется отложить, опять душит. Я уж почти вижу, как Она, гундосая, оскалив зубы, медленно спускается с потолка прямо мне на грудь, чтоб до времени выпустить из меня мою коммунистическую душу и развеять ее ветрами небытия… Вот она, совсем рядом, уже протягивает к моему горлу острые когти, знаешь, мы, крестьяне, всегда видим перед смертью смерть…
Ну иди же, иди, черная сношенька, поборемся малость! Я ведь не стану, как другие, клянчить у тебя еще денек или хотя бы час. Со мной нелегко сладить. Ага, зубами лязгаешь! А ну подойди, курва, встань поближе, я из тебя котлету сделаю, узнаешь, как вытряхивать душу из крестьянина, который кое-чему в жизни научился и кое-что за свою жизнь сделал! Подойти, ежели смеешь. Ну?!
…ох, мама родная!
Примечания
1
ЮНРРА — Организация Объединенных Наций помощи и восстановления, сформированная в 1943 г., населению стран, пострадавших от оккупации.
(обратно)2
Коча Попович — член КПЮ с 1933 г., участник гражданский войны в Испании, один из организаторов народно-освободительной борьбы против фашистских захватчиков в Сербии, командир крупных партизанских соединений.
(обратно)3
Сергие Михайлович — капитан армии Дражи Михайловича, участвовал в переговорах о совместных действиях четнических и партизанских отрядов.
(обратно)4
Юре Францетич — предводитель «Черного легиона» усташей — хорватских фашистов, действовавшего в Восточной Боснии.
(обратно)5
АФЖ — Антифашистский Фронт Женщин.
(обратно)6
Скоевец — член СКОЙ, Союза Коммунистической молодежи Югославии.
(обратно)7
Косовская битва между османами и войсками сербских князей, возглавляемых сербским царем Лазарем, произошла в 1389 г. Одной из причин поражения сербов было отсутствие согласия среди сербских князей.
(обратно)8
Девять братьев Юговичей, согласно преданию, пали в сражении на Косовом поле.
(обратно)9
Калемегдан — средневековая крепость у впадения Савы в Дунай, исторический центр Белграда.
(обратно)10
«Албания», «Славия», «Лондон», «Балканы» — названия белградских гостиниц.
(обратно)11
Теразии — центр Белграда.
(обратно)12
Машаллах — мусульманское приветствие, выражающее удивление, восторг и пожелание благополучия (тур.).
(обратно)13
Имеется в виду член АФЖ — Антифашистского Фронта Женщин.
(обратно)14
Башчаршия — торговый центр Сараева.
(обратно)15
Главняча — тюрьма при главном управлении полиции в королевской Югославии.
(обратно)16
Доброе утро! (тур.)
(обратно)17
Имеется в виду эпический персонаж Марко Королевич и его волшебный конь Шарац, предсказавший ему смерть. При Ровинах в 1395 г. в стычке с валахами погиб исторический прототип Марко.
(обратно)18
Куманово — место битвы сербской и турецкой армий в ходе первой Балканской войны, в которой сербы одержали победу.
(обратно)19
Аджамиогланы (тур.; букв.: чужие дети) — боснийские мальчики из христианских семей, увезенные насильно в Оттоманскую империю, обращенные в ислам и взятые на военную службу. Многие из них стали видными государственными деятелями. Например, великий визирь Мехмед-паша Соколович (ок. 1505—1579).
(обратно)20
Пожалуйте (тур.).
(обратно)21
В добрый час (тур.).
(обратно)22
Домобраны — солдаты и офицеры, служившие в правительственных воинских частях.
(обратно)23
Мой отец крестьянин (нем.).
(обратно)24
ЗАВНОБиГ — Государственное антифашистское вече народного освобождения Боснии и Герцеговины.
(обратно)25
Имеется в виду Дража Михайлович (1893—1946) — сербский генерал, глава профашистских военных формирований четников, военный министр югославского эмигрантского правительства. Казнен как военный преступник.
(обратно)26
Имеется в виду операция на Салоникском фронте в ходе первой мировой войны, когда соединенные силы Антанты прорвали оборону противника. В результате этого поражения (1918 г.) Болгария вышла из войны. В операции принимала участие Дринская сербская дивизия.
(обратно)27
Джерджелез — легендарный персонаж народных песен и преданий боснийских мусульман, прославившийся своими подвигами и неудачами на любовном поприще.
(обратно)28
С богом! (тур.)
(обратно)29
АВНОЮ — Антифашистское вече народного освобождения Югославии.
(обратно)30
В мае 1943 г. в ущелье, по которому протекает река Сутеска, проходили кровопролитные бои частей Народно-освободительной армии, вырывавшейся из фашистского окружения. Противник обладал шестикратным численным перевесом.
(обратно)31
«Мост на Дрине» — роман известного югославского писателя Иво Андрича (1892—1975).
(обратно)



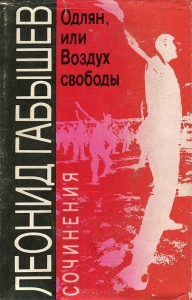





Комментарии к книге «Я, Данила», Дервиш Сушич
Всего 0 комментариев