День Святого Соловья Иронический детектив Виктор Иванович Песиголовец
© Виктор Иванович Песиголовец, 2018
ISBN 978-5-4490-6133-1
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Глава 1
За пыльными окнами низенького домишки лишь начинала редеть зимняя мгла, а его хозяин — разнорабочий агрофирмы «Куличковская» Федька Самопалов по прозвищу Святой Соловей — уже задумчиво почесывал свою златокудрую, похожую на копну соломы голову. Она гудела после вчерашнего, как новое ведро, и этот гул здорово мешал Федьке привести в порядок изрядно запутавшиеся мысли. Ко всему, у него жутко ныло нутро и нестерпимо саднило ободранные колени. Впрочем, не взирая на все эти неприятности, Соловей пребывал в приподнятом настроении духа. Да и понятно, сегодня ведь его именины, сегодня ему — гармонисту и кутиле, душе компании и любимцу села — исполняется аккурат тридцать годков. А тридцать годков — это тебе не хрен собачий, это что ни на есть полный расцвет сил. И отметить сей полный расцвет Соловушка собирался с размахом.
Свесив ноги с замызганного топчана, покрытого дырявой занавеской, Федька любовно обвел взглядом свои праздничные припасы, выставленные под одним из двух окон кухни-прихожей, в которой имел обыкновение почивать. Все четыре бидона бражки и десять трехлитровых бутылей мечтательно голубеющего самогона были на месте. «Молодец! — мысленно похвалил себя Соловей. — А ведь вчера, когда завелся, мог и того, прикончить какой-нибудь из бутыльков. Удержался!»
Облизнув истосковавшиеся по влаге губы, Федька потянулся, зевнул чернозубым ртом и встал на ноги. Поискал глазами галоши. Они валялись там, где и положено, — у самого порога, возле стопки немытых тарелок и закопченной до ужаса кастрюли с остатками позавчерашней пшенки. Федька постоял, почесал огрубевшей пятерней свой выпирающий, заросший колючей щетиной кадык и решительно сунул ступни в галоши. У него и на этот раз хватило силы воли отложить дегустацию праздничных припасов до того времени, пока не управится по хозяйству.
Борясь с тошнотой и туманом в голове, Соловей накинул поверх майки потрепанную фуфайку и, как был в засаленных, с желтыми пятнами кальсонах, так и вышел из хаты.
Наперед всего споро надергал сена из стожка для телки Лолиты, отнес в сарай и бросил в ясли. Лолита покосилась на хозяина печальным карим оком и, вздохнув, принялась лениво пожевывать прелые стебли. Соловей похлопал ее по красной шелковистой шее и направился в дальний угол сарая к большому оцинкованному чану. Нагреб из него в ведро пшеницы, смешанной с ячменем и кукурузой, вынес во двор и высыпал на подтаявший снег. Через мгновение сбежались продрогшие, изголодавшиеся куры, которых он вчера по пьяни забыл закрыть в курятнике. Пришлепал и единственный Федькин гусь Сильвестр, чинно осмотрелся и принялся выискивать зернышки, грузно переступая с лапки на лапку и виляя задом, как директор агрофирмы Митро Баянчик под конец рабочего дня.
— Ну вот, кажись, управился, — пробормотал Соловей и, помочившись у колодца на кучу хвороста, поплелся в дровятню, чтобы прихватить там десяток поленьев.
В маленькой веранде зацепился о горку мяса и сала, кое-как прикрытую прогнившей клеенкой, и больно ударился лбом о косяк двери. Матерясь и охая, вошел в хату, бросил дрова у плиты. Потом смачно высморкался и, задымив «Примой», присел на топчан поразмыслить, хватит ли спиртного, чтобы как следует попотчевать гостей, которых привалит, конечно, до фига и больше.
Сколько же их может быть? Тридцать? Сорок? Полсотни? Соловей-то, собственно, никого и не приглашал, но селяне на его именины всегда сами сходятся. День его рождения в Куличках знают все от мала до велика. Да и без именин в хлебосольной Федькиной хате часто негде яблоку упасть. Люди давно полюбили здесь гостевать, а когда Зинаида, мать Соловья померла, то еще чаще стали захаживать.
Прикинув в уме вероятное количество народа, именинник понял, что тридцати литров самогона надолго не хватит. Ну, от силы до вечера. А что пить ночью, чем опохмелять гостей завтра и послезавтра? Есть еще, конечно, брага, но она — это так, для больных и непьющих. Одна надежда на то, что не все придут на именины с пустыми руками: кто-то винища домашнего притащит, кто-то самоката, выменянного на картошку и яйца у заезжих торгашей, а кто-то, как, допустим, Тайка Мандрючка, и самогончика.
Докурив, Соловей погасил «бычок» о потрескавшуюся пятку и швырнул под плитку. Потом взял кружку и, по-молодецки играя мышцами, как тяжеловес к штанге, подошел к первому бидону. Зачерпнул.
Брага оказалась отменной — выстоянной, крепкой и пахучей. Во втором, третьем и четвертом бидонах качество напитка было нисколько не хуже.
— Хороша! — удовлетворенно крякнул хлопец, и его рот непроизвольно растянулся до ушей. — Не подкачала Степанида.
Не теряя драгоценного времени, Федор приступил к дегустации короля стола — самогона. Предстояло по чуть-чуть отпить из каждой банки, потому как, бывало, Степанида иногда халтурила: в одной емкости косорыловка могла иметь пятидесятиградусную крепость, а в другой — и до сорокаградусной не дотягивать. И хотя парень был уверен, что на сей раз старая бестия все сделала чин-чинарем, ибо, отвалив ей полтуши годовалого кабанчика и двести сорок гривен, просил выдержать марку, все же необходимо было удостовериться.
Соловей наливал в кружку то из одной, то из другой банки, сперва нюхал небесно-голубую жидкость, а затем уже, смакуя, неспешно пил. Претензий к качеству не было. Но вот на десятом, последнем бутыльке Федька споткнулся: чего-то вроде не то! Он плеснул себе еще. Вылил в рот, подержал. Хрен его знает! Закурил и накапал себе снова. Понюхал, пригубил — ничего. Выпил залпом и прилег, опершись на локоть, помечтать.
Через две минуты он уже блаженно посапывал, растянувшись во весь свой не куцый рост на замызганной рогожке посреди кухни.
Над Куличками занималась алая заря.
Юго-западный ветерок дохнул на полную грудь, и отступил морозец, который покусывал за нос с вечера. В воздухе запахло сыростью, туманом, смешанным с парами свежего коровьего навоза. Под ногами зашуршала жидкая снежная каша. Оттепель! Давно пора, надоела уже стужа.
Дед Лука Кукуйко вышел на крыльцо хаты в одних подштанниках и вельветовой душегрейке. Потянул носом воздух, посмотрел на светлеющее небо.
— Не, не буду я сегодня ватные штаны надевать! — сказал он, воротясь в светелку, жене, тетке Лизавете. — А то запарюсь.
— Не глупи, Лука! — отозвалась старая Кукуйчиха, взгромождая на стол сковородку с румяными ломтиками сала. — Ты чего же, о своем радикулите забыл?
— Дак запрею же, мать!
— Пар костей не ломит! — рассудительно заметила Лизавета.
— Оно так, — согласился Кукуйко, присаживаясь на табурет у стола. — Рюмку подай, Лизонька!
Выпив сто граммов и перекусив, дед отчалил на ферму, где занимал ответственную и калымную должность старшего фуражира.
Пришлепав, забрел в первый от села коровник. Там возле своей группы уже управлялась Валька Замумурка — молодка-разводяга, которая как-то на гулянке, раззадорившись, подмигнула Луке. Баба она была осанистая, дородная и свежая, что тебе кровь с молоком. Старый еще тогда положил на нее глаз, но все выжидал, размышляя, на какой же козе к ней подъехать. Теперь вот, в это утро, решился — пора брать быка за рога!
Кроме Вальки, в коровнике не было еще никого.
Склонившись, она возилась с доильным аппаратом. Лука тихо подкрался сзади и обхватил молодку своими лапищами.
— Ой! — взвизгнула она и от неожиданности подпрыгнула.
— Не боись, красавица! Это я! — хрипло рассмеялся старик, пытаясь просунуть руку под Валькину фуфайку.
— Не балуйтесь, Игнатьич! — задорно хохотнула молодка, отступая на шаг.
— Дай чуток подержаться! — сдавленно промямлил Лука и начал лапать ее сквозь толстые гамаши за задницу. — Что тебе, жалко?
— Куды?! Нельзя! — прикрикнула ошалевшая от такого напора Валька.
Старик вдруг неровно задышал, засопел, порывисто поглаживая ее крутые бедра.
— Валенька… Ох, Валенька… — он ухватил ее за руку и потянул к охапке соломы, под грязную стену коровника. — Я тебе и силоса домой завезу, и зерна пару мешков…
— Игнатьич, да вы спятили! — опять прикрикнула молодка.
Но Кукуйко не унимался.
— Красавица моя! — хрипел он, шаря руками под ее фуфайкой.
— Нельзя же, говорю вам! У меня критические дни! — она уже начинала сердиться.
— Ну, может, все-таки как-нибудь? — заканючил дед.
— Не-а! — решительно замотала головой женщина.
— Ну, хоть поцелую дай! — и приник липким ртом к ее теплым губам, заелозил по ним языком, одновременно просовывая руку под резинку гамаш.
— Игнатьич! Ох, прыткий какой! — завопила оторопевшая бабенка, но он уже проник под гамаши и начал поглаживать низ ее живота.
Она с силой оттолкнула Луку. Взглянула на него не то с опаской, не то с осуждением.
— Игнатьич, ну как вам не совестно? Вам же, кажись, уже под семьдесят, а туда же…
Он хлопнул себя в тощую грудь ладонью:
— Эх, Валечка! Да разве ж такая как ты не распалит? Попробуй вот, что ты со мной сделала, — старик проворно схватил женщину за руку, потянул и приставил ее ладонь к своему паху. — Пощупай! Разбудила ты моего орла.
Хохоча, Валька отошла от Луки. Подхватила с бидона тряпку, присела возле пестрой коровки и принялась вытирать ей вымя.
— Зоренька моя, ну, дай хоть поглажу! — никак не мог успокоиться Кукуйко и лихо, как молодой жеребчик, подскочил к девахе.
— Да нельзя! — отрубила она уже грубо. — Отстаньте! Привезите лучше соломы на подстилку скотине.
Лука что-то недовольно промычал, махнул рукой рассержено и пошел запрягать Карого и Спикера. Но потом вдруг передумал и направился к стойлу кобылы Губернаторши.
Глава 2
Водитель первого класса Степка Барбацуца по привычке проснулся ни свет, ни заря. Хотя можно было безмятежно поспать, ведь на работу идти не нужно — он взял на три дня отгул, дабы как следует подготовиться к предстоящей в субботу свадьбе. Избранница его — Натали — писаная красавица, между прочим, инженерша и единственная дочь зажиточных родителей — пожелала, чтобы нареченный эти три дня неотлучно находился при ней. Зачем? Она пояснила так: «Женихи за несколько дней до регистрации брака, бывает, настолько теряют голову от счастья, что сбегают». В общем, бабья блажь.
Степка валялся на широком ложе в роскошно обставленной спальне их двухкомнатной квартиры в центре Мурдянска, которую, кстати, оставила его невесте бабушка, вовремя отдав Богу душу. А Натали в это время сидела на пуфике перед трюмо. Она одновременно делала три дела: расчесывала свои пышные белокурые локоны, протирала лицо лосьоном и (уже, наверное, в сотый раз) расписывала порядок посадки гостей за столом на свадьбе.
Так продолжалось довольно долго. Степка уже начал скучать и подумывал, не подремать ли еще, как вдруг зазвонил телефон. Натали подняла трубку и недовольно буркнула:
— Алле! — затем повернулась к жениху: — Тебя!
Он сполз с высокой кровати, сладко потянулся и рявкнул в трубку:
— Слушаю!
— Барбацуца? Не спишь? — послышался густой бас заместителя начальника автопредприятия Дерипаски. — Выручай, брат!
— А че случилось-то, Ефимыч? — разыгрывая раздражение, поинтересовался Степка.
— Нужно срочно оттарабанить в Новозаводск цистерну с вином. Она со вчерашнего дня на территории АТП стоит. Кроме тебя, некому.
— А Колька Крупин? — удивился Барбацуца. — Он же должен был ехать…
— Вчера не получилось отправить. А сегодня Николай что-то прихворал, — пояснил Дерипаска. И уже почти приказным тоном произнес: — Давай, не задерживайся! Вино уже к обеду должно находиться у получателя в Новозаводске.
Степка бросил трубку на рычаг аппарата и, пожав плечами, виновато произнес:
— Нужно везти цистерну в Новозаводск…
— Вот суки! И здесь нашли! — по-змеиному прошипела Натали, с подозрением и недовольством поглядывая на жениха. — Послал бы их на фиг!
— Нельзя! — покачал головой Барбацуца. — Мне же там работать. Да и машину новую обещали…
Его невеста только люто стукнула кулаком о кулак и, что-то мыча, пошлепала на кухню готовить кофе и бутерброды.
Степка ухмыльнулся ей вслед. Он, конечно, мог отбрыкаться, сказал бы, например, что уже принял на грудь, но зачем? Глупо ведь потерять возможность улизнуть на целый день из-под чересчур уютного крылышка будущей женушки.
Барбацуца быстро собрался, быстро похлебал кофейку. Затем, потупив взор, чмокнул Натали в сморщенный от досады носик и выскочил за порог квартиры.
— Смотри, чтобы к шести вечера был дома! — бросила ему вдогонку невеста. — Мои родители придут!
В семь тридцать синий МАЗ с грязно-зеленой цистерной уже несся пустынной трассой, оставив позади мутные огни курортного города Мурдянска.
С неба сыпался мелкий снежок, стелилась под колесами поземка. Небо, как лист холодной стали, тяжело висело над заснеженной пахотой полей и чахлыми всходами озимых. «К вечеру и дороги замести может», — равнодушно подумал Барбацуца, вглядываясь в черно-белый пунктир трассы.
Рядом на сидении грузно развалился Дерипаска и безмятежно посапывал. Его большая седеющая голова качалась из стороны в сторону, как маятник. Степан бросил взгляд на заместителя начальника и невольно улыбнулся: этот симпатичный, добродушный толстячок всю жизнь, наверное, только и занимался тем, что спал да гонял чаи. И чего ему вздумалось тащиться сегодня в Новозаводск, что за нужда такая возникла? Сидел бы себе в своем ободранном, но теплом кабинетике и хлебал бы чаек. Но, видать, приспичило. Может, купить чего надо — в Новозаводске ведь базары куда как побогаче мурдянских.
За Кукумаковкой скорость пришлось поубавить — на трассе начали появляться заносы. Снегопад усилился, поземка стала круче.
На повороте Барбацуца вдруг увидел припорошенную снегом невысокую фигурку человека. Он отчаянно махал руками, призывая остановиться. Степан осторожно нажал на тормоз.
Дверь стремительно открылась, в кабину заглянул паренек в солдатской шапке-ушанке. Его веснушчатое лицо, раскрасневшееся и мокрое, выражало какую-то решимость и было удрученным.
— Землячок, подбрось! — осипшим голосом попросил он. — А то я уж окоченел совсем.
— Залазь! — кивнул Степка. И хлопнул Дерипаску по плечу. — Ефимыч! Подвинься, у нас пассажир.
— А? Что? — заместитель встрепенулся, мотнул головой и с недоумением взглянул на парня. Но тут же успокоился, пододвинулся к Барбацуце и опять опустил свою балду на грудь.
Хлопец уселся, бросил под ноги продолговатый сверток и снял шапку.
— Вроде и мороза-то нет, — проговорил он, вытирая влагу с лица рукавом ветхого ватника. — А продрог до костей. Ветер…
Степан мельком взглянул на прикид неожиданного попутчика и, трогая, полюбопытствовал:
— На дембель, что ли, солдатик?
— Не-а! — замотал стриженой головой тот. — Я еще в ноябре дембельнулся… А что одет так, по-армейски, то оно сейчас в самый раз. Да и не успел я, честно говоря, обзавестись гражданской одеждой… Работы в селе нет…
— Я сам после армии еще полгода в форме ходил, — весело заметил Барбацуца, радуясь неожиданному собеседнику. — А сейчас ты куда?
— Да решил вот сеструху проведать, она в Новозаводске живет, — пояснил парень, уставившись на пачку «Святого Георгия», подпрыгивающую на панели приборов. — Закурить можно, землячок?
— Бери, бери! — разрешил Степка, и сам потянулся за сигаретой.
Покуривая, он крепко держал баранку и зорко следил за дорогой. Видимость пока была более-менее сносной, но постепенно ухудшалась.
— А вот и Кулички! — машинально констатировал он, заметив впереди белесые шапки приземистых хат. — Треть пути проделана.
Барбацуца покрутил настройку радиоприемника, кабину заполнило хриплое и гнусавое рычание известного украинского исполнителя.
— Вот припадочный! — тряхнул кудрявой головой Степка, однако частоту менять не стал — эти жалящие уши вопли ему нравились.
Между тем, Кулички остались позади. На бугорке за речушкой показались горбатые корпуса фермы. За ними — плоская крыша тока. Потом посадка, дальше — длинная скирда соломы.
— О! А это что?! — удивленно воскликнул пассажир, подавшись всем корпусом к лобовому стеклу и вовсю тараща глаза.
Барбацуца резко повернул голову. И от изумления открыл рот, на мгновение позабыв даже, что находится за рулем мчащегося «МАЗа». У скирды чернели ребра телеги, впряженная в нее краснобокая лошадка топталась на месте, застенчиво опустив голову. А между ее задом и передним бортом на оглоблях стоял щуплый мужичок со спущенными до колен штанами. Одной рукой он придерживал конский хвост, другой держался за круп животного и подергивался, будто попал под высокое напряжение. Его разрумяненная тощая задница мелькала с быстротой проблескового маячка на милицейской машине.
— Итит твою мать! — ошалело пролепетал Степка.
И в этот миг машину занесло, развернуло на девяносто градусов и бросило в сторону. Вылетев сначала на обочину, «МАЗ» юзом пошел по откосу, а затем, громыхая и скрежеща, покатился вниз с насыпи на замерзшие комья пахоты.
Увлеченный Лука в эту минуту был ослеплен и оглушен надвигающейся кульминацией нехитрого действа и вряд ли сразу заметил бы факт аварии. Но Губернаторша, напуганная страшным лязгом, со всей дури шарахнулась в сторону. Старика бросило на телегу, он шлепнулся голой задницей на мокрую солому, высоко задрав ноги и разбрызгивая семя.
Кукуйко опомнился лишь у первого коровника. И стал впопыхах натягивать штаны.
Глава 3
Барбацуца не помнил, как он выбрался из искореженной кабины «МАЗа», как на четвереньках полз по заснеженной пахоте к трассе.
Пошатываясь, он стоял на краю поля, растерянно потирал ушибленное плечо и тупо наблюдал, как из щелей в расплющенной цистерне тонкими струйками вытекает золотисто-розовое вино. Рядом, поскуливая, на корточках сидел солдатик. Его лицо и руки были окровавлены. Степан хотел закурить и запустил свои дрожащие, все в ссадинах пальцы в карман куртки, но сигарет там не оказалось. В этот момент у него кругом пошла голова, и он отключился.
А с фермы уже бежали доярки, скотник Михайло, ветфельдшер Гриць Горелый и старый Кукуйко. Впереди всех неслась Валька Замумурка.
— Вон, люди на поле! — закричала она, издалека заметив сидящего на корточках парня и лежащего с раскинутыми в стороны руками Степку.
Подбежав, Валька бросилась к распростертому телу и, упав перед ним на колени, приложила ухо к его груди.
— Дышит! Живой! — завопила она и начала хлестать Барбацуцу по щекам.
— В кабине еще один человек! — закричал кто-то, и доярки дружно кинулись вытаскивать окровавленное тело Дерипаски из сплюснутого грузовика.
Вытащив, положили прямо на снег. Ветфельдшер Горелый бегло осмотрел раненного, ощупал его руки, ноги, грудь, приоткрыл веки.
— Контуженный! — констатировал он. — Получил множественные ушибы и, кажись, левая рука сломана.
— В больницу надо, — подал голос Кукуйко.
— До больницы, дед, далеко. Пока найдем транспорт да пока отвезем, много времени пройдет. — Грицько тщательно ощупывал голову раненного. Не отрываясь от этого занятия, бросил сгрудившимся вокруг дояркам: — Девчата, мне нужна ровная палка с полметра длиной.
Валька тут же подобрала валяющийся под ногами обрубок акациевой ветки и протянула ветфельдшеру:
— Это пойдет?
— Пойдет! — кивнул он, взял чурку и приложил к руке неподвижно лежащего человека. Затем скомандовал, обращаясь к Луке: — Игнатич, сымай с меня сапоги, раскрути с ноги портянку!
Пока Грицько при помощи палки и онучи фиксировал перелом на руке Дерипаски, пришел в себя Степка. Он приподнялся, оперся на локоть и, обведя мутным взглядом людей, хриплым полушепотом спросил:
— Живы пассажиры?
— Живы, живы! — дружно загалдели доярки.
И тут раздался писклявый голосок подменной Соньки Бублик:
— А че это течет?
Животноводы вмиг повернули головы туда, куда указывал грязный перст Соньки, — на цистерну, из которой в нескольких местах стекала, хлестала, журчала и капала жидкость, похожая на мочу только что абортировавшей больной коровы.
— Бляха! Да ведь это, кажись, вино! — первым догадался скотник Михайло, поведя крючкастым носом. И тут же бесстрашно ринулся в разведку — подскочил и, свалившись, как куль, на бок, приник потрескавшимися губами к самой большой пробоине в емкости.
— Вино! — восхищенно воскликнула охрипшим от волнения голосом пожилая доярка Дуня Матюк и, шмякнувшись коленями в снег, тоже припала ртом к искореженному металлу цистерны.
Животноводы, загалдев, как гуси на толоке, словно по команде, стремглав понеслись на ферму. Через несколько минут наиболее прыткие бабенки уже подставляли под растекающиеся струи молочные бидоны, ведра, пластиковые бутылки и даже голенища резиновых сапог. Еще через десять минут о слетевшем с трассы виновозе самым непостижимым образом узнало все село. На место аварии стали толпами прибывать люди, и очень скоро здесь собралась добрая половина Куличков.
Вином наполняли, кто что принес, не забывая, прежде всего о собственных желудках. Пили с жаждой, в захлеб и тут же косели.
Мероприятие было в самом разгаре, когда к виновозу подкатил на мотоцикле местный жила Ефрем Цуцик с сыном Кузькой. К их «Днепру» были прицеплены два бочонка, в коих в страдную пору вывозят работникам в поле воду. В переделанной для перевозки крупногабаритных грузов коляске мотоцикла покоились двухсотлитровая жестяная бочка и пяток канистр. Растолкав хмельных мужиков и баб, отец и сын по-деловому осмотрели покоцанную цистерну. Затем с помощью огромного зубила, кувалды и титановой монтировки увеличили дырку в верхней части емкости настолько, чтобы туда можно было беспрепятственно залезть большим, литров на семь-восемь, черпаком. И, матерясь на путающихся под ногами сельчан, стали споро наполнять вином свои бочки и канистры.
Барбацуца сидел на снегу, пытаясь бороться с тошнотой и головокружением, и равнодушно взирал на происходящее. Ноябрьский дембель стоял, опираясь о переднее колесо машины, и наблюдал за людьми более осмысленным и, пожалуй, даже опасливым взглядом. У ног паренька валялся сверток — какие-то тряпки, стянутые куском бельевого шнура. Дерипаска все так же лежал на снегу без сознания. Он тяжело, со свистом дышал, его грудь высоко и часто вздымалась.
О водителе и его пассажирах куликовцы вспомнили лишь тогда, когда цистерна перестала мироточить, а ведра, бидоны, бутылки и сапоги были до краев наполнены жидкостью, распространяющей оптимистичный, жизнеутверждающий аромат. Вспомнили, собственно говоря, далеко не все, потому как многие были заняты делом: одни все еще утоляли жажду — лакали пролитое вино из образовавшихся двух огромных луж, другие, пошатываясь, размахивали руками и галдели, что-то кому-то доказывая, третьи — смеялись, пели и матерились.
А метель, между тем, разыгралась нешуточная.
— Ты водитель? — возле Степки остановился изрядно хмельной мужичок с седыми усами. — Я — бригадир фермы Семен Дыба, местное начальство.
Барбацуца слегка кивнул головой, боясь, как бы утихающая под черепной коробкой боль не нахлынула с новой силой.
— Этого, — бригадир ткнул пальцем в запорошенное снегом тело Дерипаски, — надо бы свести в больницу. Но боюсь, не получится. Вишь, какой снегопад! Через полчаса все дороги будут завалены. А до райцентра двадцать пять километров. В общем, братуха, заберем мы вас пока в село, накормим да обогреем, а там видно будет. Сейчас Лука подаст телегу и отвезет вас.
Через двадцать минут Барбацуца и дембель оказались в хате Соловья, сюда же сгрузили и литров сто пятьдесят вина. Заместителя начальника АТП, уже пришедшего в себя, стонущего и охающего, повезли дальше — к ветфельдшеру Горелому.
Глава 4
В жарко натопленной хате Федьки Самопалова вовсю шло приготовление к предстоящему пиру. Несколько упревших молодок проворно готовили закусь. Сам Соловей, с пепельно-сизым лицом, но веселый, носил воду и дрова, рубил мясо, мыл в большом котле посуду, а затем, напевая что-то разудалое, принялся сооружать из длинных нетесаных досок праздничные столы и лавки для гостей.
Для сугреву Степке и солдатику сразу же поднесли по полчашки самогона и куску отварной свинины. Выпив и перекусив, они приободрились и, сверкая зенками, начали помогать Соловью.
Часов около одиннадцати в хату именинника начали сходиться гости. Но их было явно меньше, чем он ожидал. Видимо, кое-кто из куличковцев, запасшись дармовым вином, принял лишку и теперь почивал.
Пока стекалась в дом в основном молодежь. Но были, конечно, и те, кто под эту возрастную категорию явно не подходил. Например, те же Лука Кукуйко, скотник Михайло, а также механизатор Толик Пипетко и сорокалетний Юрась Вездеходов, которого называли Холявой — из-за того, что он исправно получал в сельсовете свои полставки завклубом, хотя клуб в Куличках уже лет пять, как разобрали прыткие мужики. При всем желании трудно было бы назвать молодыми и Ксеньку Муху, Верку Рябчиху и Ганзю Перчик, которые потеряли невинность, пожалуй, еще во времена Хрущевской «оттепели».
Гости уселись за праздничные столы, выстроенные в одну линию — комод, тумбочку, перевернутый шифоньер и доски. Все это сооружение начиналось в прихожей и заканчивалось пыльным подоконником смежной комнаты, служившей Федьке чем-то вроде кладовки. Здесь он хранил картошку, лук, капусту и запчасти от старого мотоцикла.
В милицию о случившемся на трассе позвонил Семен Дыба. Но снегу уже навалило столько, что стражи порядка даже пробовать не стали пробиваться в Кулички. Об этом и сообщил гостям Соловья хмельной бригадир, втащив свое непослушное тело в переполненную людьми хату.
— Садись, дядя Сеня, да выпей за мое здоровьице! — пригласил его Самопалов, уступая свое место за столом. Он как раз сидел возле учетчицы фермы Зинки Курносой, к которой Дыба питал слабость.
— Благодарю! — нисколько не стал ломаться тот. И, с достоинством шаркая калошами по выскобленному полу, подошел к своей симпатии. С трудом перебросил ногу через табурет и завис над Зинкой.
— Садитесь, садитесь, Петрович! — засуетилась она, вскочив. — Сейчас я вам помогу.
Наконец Дыба уселся. И сразу потянулся к кружке с брагой.
— Пить охота, как перед смертью, — вяло пояснил он. — Видать, упарился.
Гости сначала чинно пили самогон, запивая брагой. Потом начали, щадя организм, больше налегать на вино, обильно закусывать. Но вскоре все равно многие захмелели, пошли шутки-прибаутки, а там и песни с пляской. Гарцевали сперва в третьей, самой просторной комнате Федькиной хаты, совершенно пустой и, видимо, от того самой светлой.
Валька Замумурка ни на минуту не отходила от Степки Барбацуцы. То поглаживала по руке, то в глаза заглядывала, то о здоровье спрашивала. Нравился ей хлопец — симпатичный, улыбчивый и совсем не заносчивый, хоть и городской. Он сначала благодарно улыбался молодке да все больше помалкивал, потом стал робко обнимать за плечи. А позже, кажись, после четвертого или пятого стопаря уже не стеснялся вовсю целовать и тискать, что неприятно задевало Луку Кукуйко, сидевшего напротив.
Солдатик пил небольшими порциями, чокаясь с ветфельдшером и старой Рябчихой. Но вскоре и эта троица изрядно захмелела и начала оживленно трепаться, перебивая и не слушая друг друга. Особенно старалась пьяная Рябчиха, кудахтала громче всех и размахивала толстыми руками так, что в доме гулял ветер.
Медленно, но неуклонно хата Соловья превращалась в гудящий, роящийся улей.
А в это время жена ветфельдшера Грицька Горелого потчевала с ложечки наваристым бульоном бледного Дерипаску. Он лежал на кушетке в светелке и, блаженно улыбаясь, чамкал своей вставной челюстью. Благоверная супружница Грицька — дородная, сорокалетняя Оксана — была приятной собеседницей.
— Болит рука, Ляксей Ефимыч? — спрашивала она, взирая на раненого с сочувствием и лаской.
— Не сильно, — отвечал он, украдкой поглядывая на красивое лицо женщины из-под рыжих лохматых бровей.
— А больше ничего вас не беспокоит? Голова или ребра? — допытывалась она с пристрастием сестры милосердия.
— Да нет! — молодцевато встряхивал головой Дерипаска и с благодарностью улыбался своей сиделке.
Досыта накормив подопечного, Оксана включила телевизор и присела на стульчик, стоящий рядом с кушеткой.
Дерипаска лежал, прислушиваясь к дыханию дивной женщины, и хмелел от тепла и ее присутствия.
В хате Соловья шел пир горой. Мужики и бабы, уже крепко упившиеся, гарцевали, как молодые жеребцы в стойле. Сам Федька, косой и ухмыляющийся, залихватски растягивал меха старенькой гармошки, наяривая что-то из народных мотивов.
Валька, сидевшая до того с задумчивым видом возле Степки, не выдержала и тоже пошла в пляс, потянув за собой кавалера. Тот, сначала поддавшись, вдруг заартачился, сник и сел на свое место. Валька досадливо махнула рукой и, задорно виляя бедрами, пошла выбрасывать легкомысленные коленца. К ней тут же подкатил раздухарившийся от хмеля Кукуйко. Обхватил лапами молодку за стан и закружил.
— Ой, гоп та и все, кума паску несе! — орал он неистово.
— Вот тебе и старик, едрена корень! — закричал в самое ухо Барбацуце завклубом. — Смотри, хлопец, уведет у тебя девку!
Степка неопределенно пожал плечами, не зная, что ответить. Но отвечать и не пришлось — Вездеходов вдруг, как ошалелый, подпрыгнул и, сорвавшись с места, пошел в присядку. За ним, подхватив подол широкой картатой юбки, понеслась Ксенька Муха.
— Куды тебе, бабуся?! — рявкнул ей вдогонку хохочущий Грицько.
— Да яка ж я бабуся, коли я ще кручуся! — ответила ему речетативом Ксенька и хотела сделать какой-то умопомрачительный пируэт, но не устояла на ногах и грохнулась среди пляшущих, зацепив локтем Соловья. Ей помогли подняться и хотели подвести к скамейке. Но старая вырвалась и опять пошла притопывать и подпрыгивать.
— Эге, кума! — загорланил ей Лука. — Зайду как-нибудь к тебе вечерком, проверю, так ли ты горяча и в другом деле.
— Никто не обижался! — хихикнула Ксенька, но уже было видно, что она умаялась.
Проскакав еще один круг, старая плюхнулась на лавку и принялась заправлять под платок свои разметавшиеся седые космы.
Немыслимый тарарам стоял в хате Соловья. Самогон, брага и вино лились рекой. Гости все больше хмелели. Вот уже один, икнув, понес чепуху. Другой, дернувшись, сполз под стол. Третий, чумной и ничего не видящий, завалился под печку. Но это были слабаки, коих пока насчитывались единицы. Основная масса Федькиных гостей еще и не думала сдаваться.
— Ты чего не захотел со мной танцевать? — спросила Валька у Барбацуцы, когда музыка, наконец, стихла. В игривом вроде бы тоне молодки чувствовались нотки обиды.
— Да постеснялся я, — криво ухмыльнулся Степка. — Не умею я так…
— Пообещай, что больше не будешь стесняться, — попросила Валька, поглаживая колено парня.
— Обещаю! — ответил он и с наслаждением провел рукой по ее пышному бедру.
Молодка поймала Степанову руку и прижала к своему боку. В этот миг Барбацуца передумал идти искать телефон, чтобы позвонить в Мурдянск и рассказать Натали об аварии, хотя только что собирался это сделать.
После непродолжительного застолья опять начались пляски. Только Соловей растянул меха своей гармошки, как к Вальке тут же подскочил, будто молодой козлик, старый Кукуйко. Но она, горделиво смерив его взглядом, подхватилась и потянула танцевать Степку.
Лука кисло осклабился и загреб с собой Ксеньку.
Гарцевали, словно взбесившиеся лошади, все. Кроме дембеля. Тот сидел за столом и, с явным удовольствием попивая компот, принесенный кем-то из гостей, наблюдал за танцующими.
— Солдатик, не скучай! — окликнула его хмельная Сонька Бублик и потянулась к нему через стол целоваться.
Снегопад продолжался.
Глава 5
Уже хромовые шоры ночи скрыли небесный свет, когда ветфельдшер Гриць Горелый причалил к родному очагу. Хлюпая носом, что-то напевая и матерясь, он долго возился в сенцах, скидывал свой куцый кожух, джинсовые штаны на вате и разбитые валенки. Затем, путаясь в кальсонах, возник в дверях прихожей и затуманенным взглядом стал выискивать жену. Та выглянула из кухни.
— Явился, красавчик?
— Да-с! Доплыл! — отчеканил он и двинулся в светелку.
Но в его состоянии попасть в проем двери было непросто. Грицька повело то в одну, то в другую стороны, ударило сначала о грубу, потом о платяной шкаф. Подоспевшая Оксана подхватила мужа, уберегши его от неминуемого падения.
— Зачем же ты так нажрался? — корила она Грицька, волоча его в спальню. — Уже вроде бы и не пацан, меру знать должен бы!
Дотащив, бросила обмякшее тело на кровать и начала стаскивать с него подштанники, а потом — и провонявшийся сивухой свитер. Гриць все пытался поймать Оксану за руку. И, наконец, поймав, со смехом потянул к себе.
— Иди сюда, сударушка, приласкаю!
— Куда тебе! — засмеялась и она. — Ты и трезвый-то не больно силен, а уж в таком состоянии и подавно.
— Это я не силен? — обиделся Горелый, силясь приподняться и опереться на локоть.
— Ладно, ладно, я пошутила! — успокоила мужа Оксана и, выдернув свою руку из его руки, присела на краешек кровати. — Тебе нужно отоспаться.
— А как наш раненный? — вдруг вспомнил Гриць.
— Да нормально, — ответила женщина, прикрывая пьяного одеялом. — Я покормила его бульоном, и он уснул.
— Надо бы как-нибудь отправить его в больницу, — пролепетал Горелый, уже засыпая.
— Как? Снега ведь вон столько намело…
На улице послышался натужный рокот трактора. Это бригадир послал на расчистку улицы кого-то из самых трезвых трактористов.
А в хате Соловья бушевало веселье. Несмотря на то, что треть гостей выбыла из строя. Это, впрочем, не ощущалось, потому как время от времени подходили все новые люди.
Табачный дым висел в комнатах коромыслом. Воздух — спертый, пропитанный кислыми парами грязных онуч и спиртного, дурманил, кружил головы похлеще самогона. Кто-то в конце концов додумался открыть входную дверь хаты и дверь веранды. Открыть окна было нельзя — чтобы в дом не поникал зимний холод, Федька еще с осени оббил снаружи рамы полиэтиленовой пленкой.
Почти в полночь, позже многих в хату Соловья пришла куличковская знаменитость — комбайнер Филипп Дрючковский — кавалер орденов Ленина, Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени, в прошлом депутат облсовета, член бюро райкома партии, новатор и передовик, ударник и запевала социалистического соревнования. Пришел, снял потрепанную фуфайку и, умостив свою тощую задницу между доярками Тонькой Бездольной и Веркой Гнидозвездовой, начал их шутя пощипывать да тискать. И лишь опосля, отведя душу, отер свой слюнявый, тонкогубый рот и предложил тост за людей труда.
Уважив знаменитость, все выпили.
— Теперь я скажу! — заревел Вездеходов, вспомнив, что он еще не толкал речь. — Выпьем же, товарищи, за Святого Соловья!
Тот сидел и безучастно смотрел поперед себя посоловелыми глазами. Но, услышав слова завклубом, оживился, закивал лохматой головой.
— За тебя! — рявкнул Вездеходов и, вылив в рот полстакана самогона, квакнул, сник и тихо сполз под стол.
Там уже находилось довольно изрядное количество гостей. Некоторые также спали по углам, у порога, у плиты, а скотник Михайло, растянувшись, похрапывал на топчане. Никто из еще державшихся не обращал внимания на то, что их ряды неуклонно редели. Тосты продолжали следовать один за другим.
Дембель, бодрый, хоть и пьяненький, покуривал и молча посматривал на пирующих. Сонька Бублик, которая прежде забавляла его разговорами, давно дрыхла, скрутившись калачиком у плиты. Солдатик откровенно скучал. Но тут сзади к нему подплыла Тонька Бездольная, навалилась могучей грудью и обхватила руками за шею.
— Что пригорюнился, касатик?
— Да так вот, сижу… — промямлил хлопец, стараясь освободить затиснутую промеж Тонькиных грудей голову.
— Давай выпьем, поболтаем, — предложила Бездольная, отпуская шею парня.
Он кивнул. Крупная, улыбчивая молодка ему нравилась.
Немного побеседовав, они включили магнитофон и, не обращая внимания на пьяных гостей Соловья, стали танцевать.
А Валька все обхаживала Степку. Подливала винца, трепала волосы, лизалась, как кошка к кувшину со сметаной, шептала на ухо ласковые слова. Старый Кукуйко махнул на нее рукой, смирившись с поражением, и переключил внимание на Ленку Говоруху — сорокапятилетнюю вдовушку, работающую у местного фермера Юрика Кваши то ли бухгалтером, то ли уборщицей.
Кое-кто из гостей присоединился к дембелю и Тоньке, начал кружиться и топтаться под пронзительные вопли какого-то попсового идиота. Но танцы продолжались недолго. Мужики и бабы вновь расположились за столом. Опять пошли галдеж, взаимные заигрывания, хмельные и от того жгучие, страстные поцелуи.
Пили уже без тостов и каждый сам по себе. Все это не понравилось Дрючковскому, и он, поднявшись на дрожащих ногах, решил восстановить прежний порядок.
— Тост! — выкрикнул Филипп, рубанув рукой воздух, как Котовский саблей голову помещика.
На оратора зыркнули несколько пар посоловевших глаз, но галдеж не прекратился. Тогда решила вмешаться еще соображающая Верка Гнидозвездова — она очень уважала Дрючковского, считая его большим человеком.
— Цыц, цыц, пьянь болотная! — пронзительно завопила молодка, и гости враз притихли.
Филипп тряхнул головой и начал:
— Я — простой труженик, но был хозяином бескрайних полей родины. А теперь я кто? Батрак! Наймит! Да еще и радуюсь этому. Потому, что батрак хоть имеет работу… Товарищи, ленинские идеи живы! Товарищи, я…
Но эту пламенную речь никто не слушал. Поняв это, орденоносец, ударник, бывший депутат и член обвел всех мутным взглядом, медленно опустил тощую задницу на скамейку и смахнул со щеки скупую коммунистическую слезу.
— Эх, товарищи! — сокрушенно вздохнул он и потянулся к стакану с вином. — Почему же вы?..
Было уже полвторого ночи, когда выразить почтение имениннику прибыла веселая компания в составе отставной продавщицы закрытого сельмага Женьки Гусаченко, заместителя директора агрофирмы по хозчасти Витьки Кусайко, директора школы Пал Саныча Байстрюковского, сельского головы Нестора Мотузки и его жены Любушки. Сельсовет находился в соседнем, более крупном селе Грязелюбовка, но голова жил в Куличках, и за это его крепко уважали.
Они минут десять тормошили очумелого Соловья. И хоть их усилия оказались тщетными, долго обнимали и лобызали его, осыпая поздравлениями.
Попойка возобновилась с новой силой. Послышались гиканье и смех, визг и рев. Около двух десятков людей с просветленными, пусть и опухшими ликами, ликовали, источая со своих душ великое братолюбие и умиротворение.
Жестоко пили в хате Соловья. Пили уже не за него, не за хозяина гостеприимной обители, пили — каждый за свое. Старшие запивали проклятое прошлое с его трудоднями да беспаспортным рабством. Молодые — тоскливую, никчемную, поруганную крестьянскую жизнь. А все вместе — позорное вчера и безнадежное завтра. Пили самозабвенно, как перед плахой.
К половине третьего уцелевших в неравном бою с зеленым змием оставалось в хате Самопалова немного — Барбацуца, Валька, дембель, Тонька, Дрючковский, Мотузка с Любушкой да Байстрюковский…
Уцелевшие, пошатываясь и спотыкаясь, начали расходиться по домам. Валька потянула Степку за собой. Дембель, подхватив свой сверток, поплелся, как телок за коровой, за Тонькой. Дрючковского поволокли Мотузка с Любушкой. А Пал Саныч Байстрюковский, засунув за пояс бутылку с самогоном, не разбирая дороги, по сугробам, бодро зашагал на край Куличков — к своему двухкомнатному глинобитному «особняку».
Глава 6
Жены Гальки дома не оказалось. «Вот стерва, — без злобы и досады подумал Байстрюковский, — видать, у кумы засиделась». Он хотел снять свой куртец да прилечь на диван, как вдруг вспомнил о муже своей соседки Фенечки Петре: тот ведь еще в десятом часу вечера был уже невменяемым. Значит, сейчас, судя по всему, дрыхнет где-нибудь под печкой. «А Феня-то хорошая бабенка, ох, хорошая! — мысленно заулыбался Пал Саныч. — И сговорчивая».
Даже не запирая входную дверь, лишь прикрыв ее, директор школы рванул к соседней хате.
В окнах было темно. Прислушиваясь к неровному дыханию ночи, он потоптался с минуту у порога. А потом взялся за ручку двери. Нажал, осторожно толкнул — не заперто! В кромешной тьме Байстрюковский медленно двинулся через сени к светелке.
В маленькой прихожей слабо горела голубая лампочка. В ее мертвенном свете он разглядел чью-то одежду, кучей валяющуюся в углу. Дальше — прямо у входа в светелку Пал Саныч увидел распластанную на полу мужскую фигуру. Она посвистывала и похрапывала — Петро. Остановившись возле спящего, директор заглянул в светелку. В полутьме узрел контуры серванта и шифоньера, потом широкую тахту, а на ней — полуголую Фенечку, которая безмятежно спала, завалившись на бочок. От вида ее шикарного, объемистого таза у Пал Саныча сперва перехватило дыхание, затем запершило в горле, и он едва удержался, чтобы не закашляться.
На всякий случай Байстрюковский пнул носком ботинка дрыхнущего Петра, но тот лишь что-то замычал и захрапел пуще прежнего. Сбросив с плеч куртку, пиджак и футболку, директор переступил через спящего. Потом сдернул ботинки и, роняя штаны вместе с кальсонами и трусами, опустился на тахту позади Фенечки. Какое-то мгновение полежал, вслушиваясь в храп Петра, и осторожно, дабы не испугать, стал поглаживать вмиг вспотевшей ладонью горячие бедра женщины. Она задергалась, перестала сопеть. «Это я, котеночек!» — жарко зашептал ей на ушко Байстрюковский, сдавливая тугие, сулящие неземное блаженство, ягодицы, Ох, как она сладка, эта Фенечка! Он поцеловал ее в плечико, в шею, не переставая нашептывать слова ласки и нежности.
Женщина дернулась, привстала, опираясь на локоть, и резко повернулась к Пал Санычу. Взглянув ей в лицо, он обмер. Это была… его Галька! Тело Байстрюковского вмиг обдало гробовым холодом. Ловя перекошенным ртом сухой воздух, он вскочил, будто ошпаренный, и, как был в одних носках, так и рванул со светелки.
Через пять секунд оттуда вылетела разъяренная и полуголая Галька.
С бешено колотящимся сердцем, в полуобморочном состоянии, Пал Саныч уходил от погони. Сначала он заскочил в сарай и спрятался за яслями. Корова Зорька, лениво жевавшая сено, увидев хозяина, радостно замычала.
Осознав, что сарай — убежище ненадежное, Байстрюковский, как уж, выскользнул во двор и бросился к спасительной двери погреба. Неудачливый гуляка знал, что она не заперта, замок висит только для виду, зато изнутри есть чем ее забаррикадировать. Залетев в погреб, он в темноте быстро спустился по сходням на дно, нащупал возле бурта картошки тяпку и быстрокрылой ласточкой взвился вверх. Подпер дверь. Но тут же усомнился в надежности такого запора и опять порхнул вниз. Подхватил четырехведерную кадку с соленой капустой и, тужась, вытянул ее на гору. Подставил под дверь. И только потом стал горячечно шарить рукой по бетонной стене, ища включатель света. Щелкнул и присел на корточки отдышаться и упорядочить мысли.
Но не успел. Дверь заскрипела, затем застонала, заухала под обрушившимися на нее ударами. Объятый ужасом, Пал Саныч оцепенел.
— Открывай! Открывай, котяра блудливый, сейчас же! — пронзительный визг Гальки, будто острая бритва, резанул бедного директора по сердцу, рассекая его пополам. Он скорчился, застонал и, не устояв на ногах, грохнулся на колени.
На дверь обрушился град мощных ударов. Насмерть перепуганный Байстрюковский уперся трясущимися руками в кадку, не давая ей ссунуться с места и загреметь вниз по бетонным сходням.
— Паскудник! Фенечки ему, гультяю, захотелось! — неистовствовала по ту сторону хлипкого, малонадежного барьера Галька. — Я тебе задам! Я тебе покажу, кобель сухоребрый!
От ужаса, осознания неотвратимости расплаты, Пал Саныча трясло, как осокорь в бурю. Из последних сил, уже ни на что не надеясь, он сдерживал бешеный натиск шестипудовой фурии и громко шептал слова единственной, выученной еще в детстве молитвы:
— Верую во единого Бога Отца Вседержителя…
Но тяжелые удары и злобное сопение вдруг прекратились. Послышался хруст снега, — похоже, Галька уходила. Наверное, продрогла, ведь, выскочив из хаты соседей, вряд ли успела что-нибудь на себя набросить.
Затаив дыхание, Байстрюковский с минуту напряженно вслушивался в зловещую тишину. Затем, не теряя ни минуты, ринулся на дно погреба, подхватил вторую кадку — с огурцами, вынес ее наверх и подставил под дверь. И сам навалился на нее грудью, ожидая новой атаки.
Ее не последовало.
Минут через пятнадцать Пал Саныч понял, что окоченел. Он спустился вниз, сгреб старое одеяло, прикрывавшее бурт картофеля, и стал заворачиваться. Но одеяло было сырым и совсем не согревало. Тогда Байстрюковский поплелся в угол погреба, где стояла, затянутая паутиной, двадцатилитровая бутыль. Присел возле нее, вытянул из горлышка резиновую затычку, наклонил посудину к себе. Все еще трясущимися губами припал к пыльному стеклу и большими глотками стал пить терпко-сладкую жидкость. Это была терновая наливка.
Тиски страха, крепко сжимавшие сердце Байстрюковского, начали слабеть. На душе у него потеплело, а вскоре там даже тихонько запели соловьи.
Глухой ночью Гриць Горелый проснулся от страшной сухости во рту и жгучего желания опорожнить мочевой пузырь. С трудом ссунувшись с кровати, непрохмеленный ветеринар пошлепал в сени. Нащупал выключатель, щелкнул. Ни сапог, ни штанов нигде не было видно. Пришлось сунуть ноги в Оксанины галоши. Выскочив на крыльцо, Гриць прямо тут и справил малую нужду. Но даже этих, каких-нибудь тридцати секунд, ему с лихвой хватило, чтобы продрогнуть до костей — к утру заснеженные Кулички накрыл своей трескучей полой мороз.
Залетев в хату, Горелый хотел было сунуться в другую — маленькую спальню, где спала жена, но передумал и вместо этого побрел на кухню. Там быстро сориентировался и выудил из-за холодильника почти полную бутылку самогона. Несколько раз глотнул и, удовлетворенно крякнув, отправился досыпать.
Только растянулся на своем ложе, как дремота тут же стала сковывать его ослабевшее, измученное пьянкой тело. Грицько сладко зевнул, натягивая на себя одеяло. В этот миг ему показалось, что скрипнула входная дверь, и, прежде чем провалиться в теплую трясину сна, он еще успел мысленно посочувствовать Оксане, вынужденной из-за домашнего хозяйства подниматься ни свет, ни заря.
Глава 7
Тускнели редкие звезды. Медленно спадала с зимнего лика неба тяжелая пелена ночной тоски, нехотя таял липкий кисель сумерек.
Начинался новый день. То тут, то там забрехали, харькая злобой, писклявоголосые псы, загогоготали, как подвыпившие кумушки, гуси, заревела простуженная и хмельная от голода скотина.
В хате Соловья, будто медведи по весне, больные, раздраженные и обессилевшие, пробуждались от спячки гости. Позевывая, матерясь полушепотом, хмуро почесывая раскалывающиеся головы, они сползались к неубранному столу. Зазвенели стаканы, забулькала жидкость. Потянулся к потолку сизый табачный дымок. А вместе с ним стали заполнять хату уют и бодрые, жизнерадостные разговоры. Уже через полчаса в жилище безраздельно царило веселье — веселье от коллективного осознания того, что праздник еще не кончился.
Здоровье, сила тела и духа неуклонно возвращались к людям. В них закипала энергия, жажда жизни и творчества, их умы светлели, их души наливались теплом и нежностью к ближнему и всякой твари.
Компания в доме Самопалова с каждой минутой становилась все больше. Помаленьку подтягивались те из гостей, кто ночевал дома. Больные, помятые, однако не шибко грустные, они вваливались в хату и, бодренько здороваясь, присаживались за стол. Но самогон и вино уже были на исходе. А те несколько жалких ведер браги погоды, как говорится, не делали, потому как не могли оказать действенного благотворного влияния на отравленные алкоголем организмы.
— Ну, что будем делать, Соловушка? — мрачно поинтересовался Вездеходов у почерневшего лицом хозяина шумной обители.
— Ага, что? — подала голос и себе растрепанная и запухшая Верка Гнидозвездова.
— Что, что! — рявкнул злой Соловей, передразнивая Верку. Затем опрокинул в себе очередной стакан браги и, скривившись, добавил: — Тебе на ферму надо!
— Какая на фиг ферма, Федя? — удивилась Гнидозвездова и смахнула с лица прядь слипшихся выкрашенных в рыжий цвет волос. — На ферму — потом. Сейчас нужно о собственном здоровье позаботиться.
— Ой, Господи! Ой, матушка родненькая! — послышался надтреснутый писк из-под печки. Это проснулась Сонька Бублик.
Все повернули головы в ее сторону. На молодку было страшно смотреть: ее мутные глаза лихорадочно бегали, синие, как васильки, губы дрожали, припухшие, черные, будто намазанные смолой, веки подергивались, а весь облик выражал крайнюю степень страдания.
Самопалов, сидевший ближе всех к печке, плеснул из банки остатки самогона в залапанный стакан и протянул девке:
— На, сестра, подлечись!
Закрыв глаза, вздрагивая всем телом, та выпила. И энергично замотала головой.
— Долго спишь, красавица! — упрекнул ее скотник Михайло, беззаботно посасывая помятую цигарку. Ему уже явно было хорошо. — Так и счастье свое проспишь.
Сонька протянула руку со стаканом Соловью и, заискивающе ухмыляясь, заканючила:
— Плесни, Соловеюшко, еще! Плохо мне!
— А нету! — развел он руками. — Ни самогончика, ни винища! Брага только и осталась.
Деваха, подобрав колени, уселась и, опершись спиной о грубу, откинула голову назад.
— Лей хоть ее, родимую!
Федька подхватил банку с мутным, сероватым пойлом и, проливая его на пол, наполнил Сонькин стакан.
Опорожнив его, она тяжело поднялась на нетвердых ногах и сразу блеснула идеей:
— Вино есть у Ефрема Цуцика! Он вчера его добрых полтонны взял. Нужно к нему на поклон идти.
— Так он тебе и даст! — крякнул Вездеходов. — Это такой…
— А я ему дам на дам предложу! — перебила его Сонька. — Он до баб охоч. Уговорим!
Соловей задумчиво почесал ложкой за ухом.
— Если что, — молвил он, как бы размышляя, — я ему свою телку в замен предложу.
— Да ну! — засомневался только что появившийся Кукуйко. — Не дело это — скотину на пойло менять! Не по-хозяйски.
— А что делать, дед? — вздыхая, спросил Самопалов.
Лука промолчал.
На том и порешили. Четверо из компании — Соловей, Вездеходов, Сонька Бублик и Верка Гнидозвездова — отправились на поклон к Ефрему Цуцику.
Снега на улице было много. Со двора выходили долго, брели, проваливаясь чуть ли не по пояс.
Пробудившись, Степка Барбацуца обнаружил, что его голова покоится на роскошной женской груди. Он осторожно оторвал щеку от нежного, источавшего аромат парного молока, тела и взглянул на Валентину — спит или нет? И в тот же миг шею парня крепко обхватили ее руки и он опять упал головой на шелковистую, мягкую грудь.
— Ну, ты и соня! — весело смеясь, прощебетала Валька. — Я уже часа два жду, когда ты наконец проснешься.
— А который час? — пытаясь скрыть охватившую его робость, спросил Барбацуца.
— Да часов восемь уже! — ответила молодка и, приподняв его голову, змеей юркнула под одеяло. Затем стала целовать лицо парня, тыкаясь губами то в его губы, то в нос, то в подбородок.
— Мне бы позвонить! — слабо пролепетал ошарашенный таким напором Степан. — Дома ведь переживают, небось, думают, что со мной что-то серьезное стряслось…
— Потом, потом обязательно позвонишь! — успокоила его Валька. — А сейчас у тебя много дел!
— Угу! — согласился он и, охваченный порывом в миг пробудившейся неистовой страсти, присосался губами к женской шее.
Валентина звонко рассмеялась, поощряя Барбацуцу лаской жарких, пылких и требовательных рук.
Их сердца, исполненные нахлынувшим чувством раньше неведомой безмятежной радости, застучали в унисон. Их души, озаренные неожиданным взрывом дивной, невесть откуда взявшейся трепетной любви, закипели от непередаваемого счастья.
Да, так бывает. И блажен тот, кому на веку довелось хоть раз пережить такие минуты.
…Вальке уже приходилось переживать подобную любовь. Втюрилась как-то в одного мужичка по самые уши, просто сердцем прикипела. И пострадала…
А дело было так. Года три назад по весне в Кулички прибыл молодой мужик Василий Червоненко. Чего его сюда занесло — один Бог ведал. Знал, конечно, и Василий, но об этом помалкивал. Отшучивался, дескать, сельской кашицы хлебнуть захотелось.
Василий был мужиком видным, веселым и работящим. Одинокие женщины сразу же обратили на него свои взоры. Но он поселился на постой к одинокой древней старушке Матроне, сейчас ее уже и в живых нету, царствие ей небесное! Сразу же устроился на работу в местную агрофирму. Взяли Василия кем-то вроде снабженца. Буквально с первых дней он проявил себя как находчивый и предприимчивый работник, что сразу же оценило начальство. В скором времени Васю начали считать незаменимым человеком. Да и посудите: всех селян обеспечил топливом, выгодно обменяв живность на новошахтинский уголек, дорого реализовал цистерну подсолнечного масла и тысячу тонн пшеницы четвертого класса. В хозяйстве с «живыми» деньгами была большая напряженка, их толком не видели уже несколько лет, а тут кругленькая сумма. Червоненко чуть ли не на руках носили.
Полюбила постояльца и баба Матрена, почитала как родного сына. За постой деньги брать перестала. Несмотря на свои хвори, целый день крутилась возле печки — готовила Васе его любимые кушанья. Он тоже развил бурную деятельность. Отремонтировал дом и сарай, завел несколько поросят, пару сотен кур да уток, поставил тепличку. Старушка не могла нарадоваться. И так как наследников у нее не было, то вскоре сделала завещание своего имущества на Васино имя.
Через несколько месяцев агрофирма выделила ему, как лучшему работнику, просторный дом. Его освободил главный агроном, который рассчитался и уехал из села в поисках лучшей доли. Вася хату сразу же приватизировал, однако переезжать от бабки Матрены не стал. Сделал это только тогда, когда женился на молодой кладовщице хозяйства Валентине Замумурке. Правда, перебравшись в дом жены, почти сразу забрал с собой и старушку. Валька удивилась этой прихоти, но была не против.
Как-то раз Вася подал директору идейку: открыть на рынке областного центра свой павильончик и продавать там продукцию, произведенную в хозяйстве. Баянчику идея понравилась, тем более, что Вася брался все организовать сам. Вскоре он доложил: павильончик есть, реализатор — надежный, опытный человек — найден, пора везти продукцию. И дело пошло. В Новозаводск раз в неделю Вася отвозил подсолнечное масло, мясо, овощи, муку, крупы, мед, а оттуда привозил деньги и отчет реализатора. Директор так полюбил Васю, что стал доверять ему как самому себе. Червоненко самолично распоряжался на ферме, давал указания, сколько бычков и свиней забить, сам взвешивал мясо. Сколько хотел, столько и брал продуктов — кладовщица его не контролировала, да и чего контролировать жене собственного мужа? Она только «подмахивала» задним числом накладные, которые он ей подсовывал.
Как-то раз Вася усадил возле себя свой возлюбленный Валяночек (он называл ее только так и не иначе) и попросил совета: я, дескать, хотел бы купить машину, как ты на это смотришь? Жена была в восторге. Нашли покупателя на его дом, продали, сами переехали в Валькину хату. Деньги получили неплохие, но Вася не хотел покупать дешевую «тачку», замахнулся, как минимум, на новенькую машину южнокорейского производства. Где взять нужную сумму? Дело уладила Валька. Намекнула бабке Матроне о семейных проблемах, и та с радостью согласилась помочь, попросила продать ее хату и отдать деньги Васе на автомобиль.
Так и сделали. Расстаться пришлось и с большей частью своего подсобного хозяйства: под нож пошли корова, бычок, два поросенка и несколько десятков гусей. Две тысячи долларов, которых все еще не хватало на «Шкоду» (теперь Васе уже хотелось «Шкоду»), Валентина заняла в бухгалтерии агрофирмы и у своей подруги — местной бизнесменши. Семья готовилась к радостному событию: вот-вот во дворе появится новенькая легковушка.
И вдруг однажды Вася не пришел домой ночевать. В конторе, куда наутро пошла Валька, никто ничего не знал. Не появился он и на другой день, и на третий, и через неделю. Как раз в это время бухгалтерия хозяйства обнаружила много «липы» в Васиных отчетах, было еще и серьезное подозрение, что он сильно занижал вес мяса и других продуктов, которые отвозил на реализацию в областной центр. Кинулись туда — павильон закрыт, реализатора никто из хозяйства, кроме Васи, в глаза не видел и не имел понятия, где его искать.
Валентина поехала в тот город, откуда Вася прибыл в село. Адрес его прежнего места проживания имелся, тем более, что муженек даже не удосужился прихватить с собой паспорт — он остался у Валентины.
На ее звонок дверь открыл симпатичный молодой мужчина.
— Кого вам?
— Где Вася Червоненко? — спросила она, забыв даже поздороваться.
— Я — Вася Червоненко, а что? — ответил мужчина, сладко улыбаясь. Сероглазая, курносенькая женщина ему понравилась.
Валька оторопело смотрела на хозяина квартиры и ничего не могла понять. Потом, кое-как овладев собой, протянула ему паспорт. Мужчина взял, полистал.
— Да, это моя «ксива». Только фотография чужая. Я потерял паспорт несколько лет назад. Уже давно новый получил.
Через пару месяцев Вася дал-таки о себе знать — прислал письмо своей «жене». «Извини за шутку, — писал он. — Я с радостью вспоминаю нашу совместную жизнь, ты была чудесной супругой. Директору вашему Митру Петровичу низко кланяйся от меня. Так же и бабке Матрене, дай ей Бог здоровья. Реализатора не ищите, то была моя настоящая жена, мы сейчас находимся с ней далеко, аж в Средней Азии. Спасибо, Валеночек, за все. Боже, как ты тогда, на нашей свадьбе, хорошо танцевала…»
Вот такая была у Вальки любовь. Дорого она обошлась ей — с работы выгнали, два с половиной года гнула спину за долги. Да еще и бабка Матрена от переживания вскоре отдала Богу душу, пришлось хоронить. А сколько сил и нервов потратила, чтобы восстановить свою девичью фамилию и отвадить настоящего Василия Червоненко, который считал, что коль они расписаны, то и должны жить одной семьей…
Глава 8
Весь остаток ночи Пал Саныч Байстрюковский тщетно пытался согреться, вливая в свое продрогшее нутро липкую наливку и носясь, как угорелый, из угла в угол сырого погреба. Он был близок к панике и не знал, что делать. Единственный путь к спасению — сдаться на милость Гальки — казался ему совершенно не приемлемым. Он считал, что лучше умереть, лучше быть заживо похороненным в этой холодной могиле, чем попасться в руки разъяренной жены.
Пал Саныч внутренне уже смирился с мыслью о скором и мучительном конце, как вдруг в дверь негромко постучали. Инстинктивно Байстрюковский бросился в угол погреба, чтобы спрятаться за банками с морсом. Но тут опять послышался стук, а затем кто-то сдавленным шепотом произнес:
— Пашка, это я! Слышь? Открой!
Директор затаил дыхание: кто же это мог быть? Голос знакомый, очень знакомый…
— Пашка, да открывай же ты! Галька в хате!
— Петро, ты, что ли? — откликнулся Байстрюковский со своего схрона.
— А кто же еще! Быстрее открывай!
Пал Саныч сделал несколько неуверенных шагов к лестнице. И, не решаясь идти дальше, остановился.
— Петро, это точно ты? — переспросил он, прислушиваясь к хриплому дыханию соседа на верху.
— Да я, я! Бегом давай, а то Галька увидит, — раздраженно прошептал Петро.
— Сейчас!
Байстрюковский, превозмогая дрожь в коленях и озноб во всем теле, взбежал по лестнице и стал оттаскивать от двери кадки с солениями. Затем боязливо приоткрыл дверь:
— Заходи! Быстрее!
Сосед протиснулся в щель и тут же принялся помогать Байстрюковскому надежно забаррикадировать свое убежище.
Когда с этим было покончено, мужики сошли вниз.
— Да ты совсем голый! — удивленно воскликнул Петро, оглядывая посиневшее тело соседа. Он мигом снял из себя тулуп и набросил ему на плечи. — Ну и дела! А что собственно произошло? Твоя Галька только что заходила ко мне и сказала, что ты, наверное, уже умер, спрятавшись от нее в погребе.
— Ну, понимаешь… — замялся Пал Саныч, не зная, что говорить соседу. — Вчера я…
— Ох, и ведьма, твоя Галька! — перебил его Петро, доставая из кармана штанов бутылку. — Настоящая кобра! Если бы моя Фенька такое вытворяла, я бы ее в бараний рог скрутил.
Байстрюковский взял предложенную соседом бутылку с самогоном и, вытянув зубами затычку, припал губами к горлышку. Отпив едва ли не половину, перевел дыхание и поинтересовался:
— А твоя знает, что я тут прячусь? Еще разляпает кому-нибудь…
— Не боись! — успокоил Петро, принимая из рук Байстрюковского бутылку. — Ее нет дома. Она позавчера еще поехала в Голодрабовку батьку проведать, захворал он.
— Ясно, — облегченно вздохнул директор. — А у меня тут наливка есть!
— Хорошая?
— Угу!
Мужики подошли к емкости с синевато-бордовой жидкостью и опустились на корточки.
— Погуляем! — мечтательно улыбнулся Петро. — Я вчера, между прочим, здорово набрался.
— Я тоже хорош был, — поддакнул Пал Саныч, прикрывая ноги полой тулупа. И вдруг встрепенулся, потом застыл, о чем-то задумавшись.
Петро смотрел на него в недоумении.
— Слушай, ты помнишь, что вчера делал вечером? — ни с того ни с сего и уже другим тоном спросил его директор.
— Ну, кое-что помню, — протянул Петро, не понимая, к чему клонит сосед.
— Тогда скажи, дружок, — в голосе Байстрюковского зазвенел металл, — что у тебя делала моя Галька?!
— Когда? — встрепенулся тот, в один миг сделавшись красным, как свекольный квас.
— Вчера! Вечером! — печатая слова, угрожающе произнес Пал Саныч. — И почему она была голая?!
— Ну… в общем… — начал было Петро.
Однако Байстрюковский не дал ему договорить. Подхватившись, он широко размахнулся и заехал соседу промеж глаз. Тот пошатнулся, оторопело заморгал глазами и хотел что-то пролепетать. Но крепкий кулак директора закрыл ему рот.
— Так, значит, рога мне наставляете с Галькой! — яростно прошипел Пал Саныч и бросился к Петру, целясь растопыренными пальцами ему в глотку. — Задушу, паразита!
Трудно даже предположить, чем бы все это кончилось, если бы бедному Петру не удалось увернуться от взбесившегося Байстрюковского. Он пулей вылетел наверх, сбросил вниз кадки и метнулся за дверь. Хотел рвануть в сторону огорода, но, сделав несколько шагов, по пояс увяз в снегу. В этот момент в дверях, как неотвратимый рок, показался голый Пал Саныч. Глаза его метали молнии, от нахлынувшей ярости грудь ходила ходуном, из горла вырывался хрип, похожий на стон смертельно раненного вепря. Откуда-то, из-за надстройки погреба выскочила бледная Галька и кинулась к мужу, преграждая ему путь к беспомощному, на смерть перепуганному соседу. Но Байстрюковский одним движением плеча смел ее в сторону, успел наградить увесистым тумаком и, злобно матерясь, пошел на Петра. Галька успела ухватить мужа за руку, подскочила к нему и повисла на шее.
— Вон, сучка поганая! — взревел Пал Саныч, стряхнул ее с себя, как моль, и, проваливаясь в снег по чресла, двинулся вдогонку за еле ковыляющим Петром. — Разорву, падлу!
Разбрызгивая пену, суровый палач настигал свою жертву. Понимая, что ей не уйти от возмездия, она упала на колени и воздела трясущиеся руки к небу.
Во дворе Байстрюковских сходил с ума старый пес Кутька. А над Куличками, сбившись в стаи, сновало воронье и каркало, каркало, как на погибель.
Было уже три часа ночи, когда Тонька Бездольная и солдатик, барахтаясь в скрипучем снегу, добрались, наконец, к приземистой хате на краю села. В окне прихожей горел неяркий свет, — наверное, Тонькина мать, ложась почивать, специально оставила его включенным для удобства загулявшей дочери.
Молодка и дембель, стараясь не шуметь, ввалились в прихожую, поскидывали обувь и верхнюю одежду и тихо пробрались через светелку в крошечную Тонькину комнатушку, где, кроме узкой железной кровати и шифоньера, ничего больше не было. Бездольная быстро постелила постель, приказала дембелю укладываться и, выключив свет, юркнула и себе под теплое стеганое одеяло. Прыткий солдатик тут же набросился на деваху, стал ее горячо целовать и обнимать. Однако, уставший и хмельной, вскоре уснул, так и не доведя свои притязания до логического конца.
Тоньке тоже очень хотелось спать. Но позволить себе отключиться она не могла. Через час-полтора нужно было отправляться на ферму. Поэтому, полежав, молодка поднялась, плотно прикрыла одеялом парня, чтобы не мерз в нетопленой еще хате, и стала собираться.
— Мне показалось, что ты вроде не одна домой воротилась, — сказала ей мать — тетка Груня, когда Бездольная зашла на кухню попить чайку перед уходом на работу. — Кто это с тобой, никак Самопалов?
— Какой Самопалов, мама? — пожала плечами Тонька. — Он нажрался еще с вечера. Это я солдатика привела, он в качестве пассажира ехал в том «МАЗе», который с трассы слетел.
— А-а! — понимающе протянула мать. — Хороший хлопец? Приглянулся тебе?
— Приглянулся, — кивнула головой Тонька.
Почаевничав, она ушла на ферму, а мать принялась растапливать плитку.
Кроме бригадира Семена Дыбы, учетчицы Зинки Курносой да трех доярок на утреннюю дойку коров больше никто не явился.
— Хоть как-нибудь подоите, девочки, буренок! — просил Семен, по привычке приглаживая жесткие усы. — Чтобы не мучилась скотинка.
— Дядя Сеня, а как молоко собираетесь на завод отправлять? — поинтересовалась Тонька.
— Никуда я его не буду отправлять! — вздохнул бригадир. — Разве ж молоковоз поедет по такому снегу? Я звонил директору, он скомандовал весь удой в чан слить и так оставить. Потом, когда дороги расчистят, его на свиноферму в Грязелюбовку отвезут.
— Ну и ну! — покачала головой Курносая. — Баянчик что, совсем рехнулся — молоко свиньям скармливать?
— А что прикажешь с ним делать? — отмахнулся Дыба. — Ладно, кукушечки-потешечки, за работу! На вас родина смотрит.
С дойкой одиннадцати групп коров они впятером управились за три с небольшим часа. Было ясно, что буренки не выдоены, как следует, но этому никто не придавал значения — молоко ведь все равно пойдет свиньям.
В восемь вялая, сонная, как муха на Спаса, Бездольная пришлепала домой. Солдатик еще спал.
— Буди своего хахаля! — буркнула ей мать. — Я тут на завтрак лапшу с курятиной приготовила. И по чарке налью.
Дочка только отрицательно качнула головой и устало присела на табурет у кухонного стола.
— Спать хочется, аж глаза слипаются, — зевая и потягиваясь, молвила она. — Я, наверно, сперва немного покемарю у тебя в комнате. А через часик…
— Иди уж, спи! — незлобиво проворчала тетка Груня. — Шляться по ночам надо меньше! И вообще, пора себе мужа нормального найти, слава Богу, уже двадцать шесть годков за плечами.
— Я подумаю, — пообещала молодка, уходя с кухни.
Она уснула мгновенно. Приснился ей бывший ее муж Андрюшка. Вроде идет он по селу и улыбается всем встречным женщинам. А сам одет с иголочки — в новых серых штанах и пиджаке малиновом, сапоги на нем хромовые гармошкой. Тонька бежит за ним, со всех ног несется, да догнать не может, ускользает муженек.
Эх, Андрюшка… Красавец был, умница, но бабник и подлец. Два года совместной жизни с ним оставили в душе Бездольной неизгладимый след. Брак их закончился крайне плачевно.
…Когда за особые заслуги на аграрном поприще Баянчик поставил двадцатисемилетнего Андрюшку заведующим фермой, Тонька сильно расстроилась и сразу бросила мужу в лицо, что он пошел на эту должность для того, дабы крутить шашни с одинокими доярками. Андрюшка тогда страшно оскорбился и наговорил ей кучу неприятных слов. Его душу, казалось, просто обжигала обида на супругу, пару дней он даже не разговаривал с ней. Но она, конечно, была совершенно права.
До этого Андрюшка работал заведующим автогаражом фирмы и довольствовался только диспетчером Лидочкой. Этого ему, пышущему здоровьем и обладающему недюжинной мужской силой, явно было мало. Но оторваться «на славу» он мог только изредка, когда директор посылал его за запчастями в райагроснаб, где голодных на мужиков баб было хоть пруд пруди.
И вот — это назначение на ферму. Молодой мужик сразу прикинул, сколько здесь незамужних, вдов и гулящих, то есть потенциальных любовниц. Насчитал таких немало. И начал осторожно вести с ними «разъяснительную» работу: мол, годы идут, а вы, девчата, все необласканные и нецелованные ходите. Короче, талдычил, талдычил и уговорил. Пошли на ферме пиры, которые неизменно заканчивались оргиями, а точнее — диким развратом. На все эти гулянки Андрюшка брал своего брата Руслана (тоже, между прочим, женатого человека) и своих друзей, а иногда — и малознакомых типов.
В тот злополучный день заведующий хорошо провернул дельце с продажей двух неучтенных молодых буренок и получил неплохие деньги. Купюры горели в руках, настойчиво призывая Андрюшку немедленно устроить сабантуй. Он «сел» на телефон и начал вызванивать друзей. Было единственное условие: мужчины допускались без жен и не должны были им говорить, куда идут.
На огонек, помимо восьми доярок и самого Андрюшки, пришло больше десяти человек. Гулянку, как всегда, устроили в просторной бытовке, которая соседствовала с кабинетом завфермой.
Первые несколько часов основные события разворачивались вокруг стола, на котором лежали разные закуски и стояли несколько десятков бутылок добротного самогона. По мере их опорожнения менялась обстановка. Сперва приличная часть гулянки перешла в менее приличную, потом плавно превратилась в совсем неприличную, а затем приобрела характер пьяной оргии времен заката Римской империи. Обо всем этом Тоньке потом рассказали сами участники того сабантуйчика.
Андрюшка развлекался в одном из углов бытовки сразу с двумя доярками. Он любил так — сразу с двумя: и разнообразнее, и веселее.
Самая молодая доярка — девятнадцатилетняя Люся — обнаженная танцевала перед пожилым мужчиной кавказской наружности — одним из тех, кто постоянно покупал у Андрюшки неучтенный скот. Его пригласили из уважения. Отправив туши коров на рынок, он возвратился на ферму, где принял участие в увеселительном мероприятии. Пьяно взирая на Люсю, кавказец время от времени делал большие глотки прямо из горлышка бутылки.
На исходе второго часа ночи на ферму явилась Тонька. Первое, что она увидела, была пьяная доярка Аня, сидящая верхом на ее муже. Аня посмотрела мутными глазами на жену завфермой, и ее стошнило. Андрюшка брезгливо сбросил с себя перепившую даму, и ее место тут же заняла другая — толстушка Клавка Мирошник.
Крик возмущения так и застрял в горле обалдевшей от увиденного Тоньки, не вырвавшись наружу. Кто-то вдруг цепко схватил ее за талию, толкнул к столу, а затем одним рывком разорвал юбку и то, что было под ней. Через мгновение бедная женщина оказалась под огромной тушей, дико воняющей сырым мясом и перегаром. Мужчина-кавказец быстро подавил ее сопротивление, затем, управившись, молча застегнул брюки и ушел.
На следующий день, с утра помятая компания, забыв о произошедшем, начала опохмеляться. Но это приятное и необходимое занятие прервал наряд милиции, во главе которого шествовала бледная, как полотно, Тонька. Насильника среди гостей не оказалось. Никто из присутствующих его не сдал: не знаем, дескать, кто и как тут оказался. Разборка с милицией, длившаяся пару часов, закончилась тем, что гостеприимного завфермой повязали и отправили в райотдел.
Вскоре вскрылись Андрюшкины махинации, его предали суду и впаяли немалый срок. А вот кавказца милиция так и не нашла. Известно только, что звали его Мустафой. Вот уже больше четырех лет он числится в розыске.
Тоньке тогда довелось вволю настрадаться — мало того, что над ней потешались все Кулички и соседняя Грязелюбовка, так еще и милиция допросами замучила, расскажи, мол, как у тебя дело было с тем кавказцем да с подробностями, с подробностями!
Глава 9
Собравшиеся в хате Самопалова изнывали в ожидании своих посланцев к Ефрему Цуцику. Многим не верилось, что его удастся раскрутить на столь благородный поступок, коим является удовлетворение страждущих. Но были и оптимисты, которые считали иначе. В их рядах пребывал старый Кукуйко.
— Сонька и Верка уболтают Ефрема, — потягивая бражку из луженой щербатой кружки, выражал он уверенность. — Они из тех, которые свое возьмут. И за ценой не постоят.
— Не базарь, дед! — перечил ему взъерошенный и уже захмелевший скотник Михайло. — Ты разве слышал когда-нибудь, чтобы Цуцик хоть что-то дал кому-нибудь задаром? Или даже взаймы?
— Так не задаром же и не взаймы! — убеждал Лука. — Девчата говорили, что рассчитаются.
— И ты их слова всерьез принял?! — не унимался Михайло. — Болтать они мастерицы, а коли до дела дойдет, то…
— Будет вино, помянешь мое слово! — доказывал Кукуйко, теряя терпение. Ему уже надоело бесцельно пререкаться с пьяным Михайлом, но и отступать не хотелось.
В веранде вдруг что-то затарахтело, зазвенело, затем, издав пронзительный скрип, похожий на стон недорезанного, теряющего силы борова, отворилась дверь прихожей.
— Привет честной компании! — на пороге, опоясанный потертой портупеей, стоял раскрасневшийся участковый Микола Наливайко.
Все посмотрели на него с недоумением.
— Ты как же тут оказался? — спросил Михайло, уставившись на неожиданного гостя посоловелыми зенками. — Что, уже дорогу на Грязелюбовку расчистили?
— Дождетесь! — махнул рукой Микола, озабоченно рассматривая собравшихся в хате. — Я на лыжах пришел.
— О! — только и молвил Михайло. И потянулся к банке с мутной жижей. — Садись, товарищ участковый, хлебни бражки с морозца, подкрепи силы.
— Да нет, — отрицательно покачал головой Микола, подсаживаясь однако к столу. — Тут у вас вчера грузовик с трассы слетел. Мне нужно допросить водителя. Хлопцы с автоинспекции просили протокол составить.
— Придет, придет водитель, — проворчал Кукуйко. И злорадно прибавил: — Он сейчас у Вальки Замумурки. Она его к себе ночевать забрала. Не рекомендую тревожить, они, небось, шибко заняты.
Наливайко недовольно поджал губы, зыркнул на старого и опустил голову.
Михайло до краев наполнил стакан бражкой и поставил перед участковым.
Выпей за здоровье Соловья. Именины у него.
— А сам-то он где? — поднимая стакан, поинтересовался Наливайко.
— К Цуцику пошел на поклон, — пояснил Лука. — Тот грузовик, который вчера с трассы слетел, вино перевозил. Ефрем его три бочки взял да еще не меньше пяти штук канистр заправил. Вот и подался к нему Соловей вместе с девчатами и Вездеходовым-Холявой просить, чтобы выручил, дал винца на опохмел.
— Понятно! — процедил Микола, размышляя о чем-то своем. Потом, будто опомнившись, встрепенулся, опрокинул в себя стакан с бражкой, крякнул. — Доброе пойло! Степанида делала?
— Она, — кивнул Кукуйко, наливая и себе бражки.
— Значит, говоришь, дядя Лука, водилу Валька к себе ночевать забрала? — спросил вдруг участковый, кивая головой в сторону Михайла. Тот понял намек, взял банку с бражкой и наполнил пустую посудину перед Миколой.
— Ага! — ответил Кукуйко как можно более безразличным тоном, прекрасно понимая, каково сейчас на душе у Наливайка — ведь о том, что он неравнодушен к Валентине, знали все.
Тот тяжело вздохнул и, подхватив стакан, одним духом опорожнил его. Потом порылся в кармане тулупа, ища сигареты. Задымил.
— Что ж, подождем водилу…
Эти слова еще не успели вылететь из уст участкового, как резко отворилась дверь, и на пороге возникли бледные, как полотно, перепуганные Сонька Бублик и Верка Гнидозвездова.
— Там такое, там такое! — затарахтели они, перебивая друг дружку.
— Что там еще произошло? — повернул к ним свое хмурое лицо участковый.
— Ой, Микола! В хате Цуцика такое, такое страшное! — опять наперебой загалдели молодки. — Ефрем в прихожей в луже крови лежит, горло от уха до уха перерезано. А Кузька неживой к кровати привязанный, все тело исполосовано и в синяках!
— Что?! — рявкнул Наливайко, выскакивая из-за стола.
— А хлопцы, хлопцы где? Соловей и Вездеходов? — пролепетал еще ничего не понявший и оттого растерянный Михайло, подлетев к девчатам и чуть не сбив их с ног.
— Они еще идут, — бросила, отступая Сонька. — Они четыре канистры вина несут…
— Так, дядя Лука, Михайло! За мной! — выкрикнул участковый и побежал из хаты на улицу.
За ним, сбиваясь в дверях прихожей, ринулись все присутствующие.
Проснувшись, Гриць Горелый первым делом наведался на кухню. Хлебнул немного самогона, дабы укрепить свою решимость провести начавшийся день в трезвости. Затем, покашливая, пошлепал в гостиную навестить увечного Дерипаску. Тот, бледный, сидел с кислым видом на кровати, откинувшись на подушку.
— Как дела? — спросил его ветфельдшер.
— Да все нормально, — ответил Дерипаска, вымученно улыбнувшись. — Только вот рука, зараза, болит!
Грицько лениво почесал за ухом и, подойдя к кровати, положил руку травмированному на лоб. Подержал, затем озабоченно констатировал:
— Температура!
— Наверно, есть, — согласился Дерипаска. — Знобит меня слегка.
— Тебе нужно выпить чуток, — вздыхая, обронил Горелый.
— Нет, нет! — замахал здоровой рукой гость. — Не полезет мне водка.
Хозяин хаты недоуменно пожал плечами.
— Тогда я тебе принесу анальгинчика, — развел он руками и удалился на кухню. Там в одной из тумбочек хранились лекарства.
Через минуту, еще раз укрепив свою силу воли глотком из полупустой бутылки и найдя упаковку анальгина, вернулся в гостиную.
— Вот! — протянул он лекарство Дерипаске. — Глотни, не разжевывая.
Пострадавший бросил в рот сразу две таблетки и потянулся к табурету — на нем стоял стакан с водой.
Потом они немного побеседовали, и Гриць нехотя поплелся в сени — нужно было одеться и помочь Оксане управиться по хозяйству. Штаны, свитер и все остальное кучей валялось в углу, за мешками с углем.
— Надо же, куда забросил! — хмыкнул про себя ветеринар. — Перебрал я вчера основательно.
То же самое сказала мужу и Оксана, которую он нашел в хлеву возле коровы Марты.
А во дворе Байстрюковских стоял немыслимый тарарам. Благим матом, будто пьяный военком на сборах, орал сам Пал Саныч; вопила, как резанная, его жена; натужно мычал и хрипел, словно бугай после кастрации, Петро; отчаянно заливался лаем плешивый Кутька, не понимая, что происходит на подведомственной ему территории.
У калитки нервно переминались с ноги на ногу несколько старушек и механизатор Толик Пипетко, сбежавшиеся на шум. Они во все глаза взирали на происходящее во дворе Байстрюковских, опасаясь вмешиваться. Картина же была презанятнейшая. Голый, как Тарзан, посиневший от холода и злости директор школы одной рукой держал соседа за шиворот пиджачка, другой — за русые растрепанные кудри, и пытался утопить его в снегу. Петро не хотел сдаваться и отчаянно вырывался. Но руки у Пал Саныча — бывшего участника районных соревнований по легкой атлетике — были крепкими, к тому же он прижал соседа всем свои весом, навалившись острыми коленями ему на грудь. Распатешенная, почерневшая ликом Галька стояла на коленях возле Кутькиной конуры и, бьючись в истерике, чуть ли не рвала на себе волосы.
Когда жертва Байстрюковского издала протяжный, истошный вой, похожий на гудок приближающегося к станции тепловоза, Толик Пипетко понял, что его невмешательство, его пассивность, позиция постороннего наблюдателя могут привести к смертоубийству. Он с силой рванул на себя калитку, до половины засыпанную снегом, оторвал ее вместе с петлями и пулей влетел во двор.
Галька, завидев Толика, бросилась к нему с мольбой.
— Спасай! Спасай! — заблеяла она сорвавшимся голосом прямо в лицо решительному механизатору, разбрызгивая слюну и слезы.
Пипетко твердой рукой сгреб Байстрюковского за плечи, пытаясь оторвать от отчаянно брыкающегося Петра. Но не тут-то было! Пал Саныч, не глядя, пнул Толика кулаком под ребро и насел на соседа пуще прежнего. От этого тумака Пипетко задохнулся, переломился пополам и, шатаясь, отошел в сторону.
— Ой, Толечка! Спасай! Спасай, умоляю тебя! — канючила Галька, сменив фальцет на хриплый рык изголодавшегося бычка-недоростка.
Она стремительно приблизилась к барахтающимся в снегу мужикам. Обхватила за шею мужа, прижала его к своей мощной груди и затопила слезами. Пал Саныч дернулся раз-другой, замотал головой, как чумная собачонка, и обмяк, отпуская Петра. Но Галька, намертво сцепив посиневшие руки вокруг шеи Байстрюковского и сжав мокрые, почти черные веки, продолжала твердить, как заведенная:
— Ой, спасай, Толечка, спасай! Ой, спасай, спасай!
— Заткнись! — вдруг рявкнул Пал Саныч, тяжело поднимаясь с колен. Затем приказал: — Сбегай в хату! Там я вчера вечером где-то бутылку припрятал. Найди и накрывай на стол!
Галька со всех ног бросилась исполнять мужнино приказание. А он, с оцарапанным лицом и остывающей белой пеной на губах, уже подходил к Толику, протягивая руку для приветствия. Через двадцать секунд, тяжело дыша и отирая от запекшейся крови подбородок, к Пипетко приковылял и Петро.
— Вот денек сегодня выдался, бляха медная! — пожаловался он. — Ну, надо же! Собственный сосед чуть не убил!
Пал Саныч бросил на него исподлобья грозный взгляд, но промолчал, только презрительно чвиркнул сквозь зубы.
Минут через десять они втроем уже сидели в уютной хатенке Байстрюковских за накрытым столом, пили самогон и, перебивая друг друга, о чем-то дружески гутарили.
Глава 10
До половины десятого Валька Замумурка и Степка Барбацуца валялись в постели, нежась под взаимными ласками. Валькино же хозяйство, между тем, ревело, кудахтало и визжало от удивления и голода. Прежде никогда не бывало случая, чтобы скотина и птица оставались в такое время не кормленными. Вспомнив, наконец, о живности, молодка вскочила с постели, набросила на себя халат и фуфайку, сунула ноги в кирзовые сапоги и побежала во двор. А Степка, блаженно потягиваясь и сладко зевая, принялся разыскивать свою куда-то запропастившуюся одежду.
Вдруг с улицы послышался чей-то сухой, трескучий голос. Барбацуца выглянул в окно спальни и увидел Ксеньку Муху, которая стояла у калитки, навалившись на нее грудью, и что-то кричала, обращаясь, видимо, к Вальке, находящейся где-то в глубине двора. Слов было не разобрать.
Вскоре в хату влетела запыхавшаяся молодка с округленными от ужаса глазами.
— Степа, слышь, че старая Ксенька сказала?! Ефрема Цуцика и его Кузю зарезали!
— Где? — только и вымолвил опешивший Барбацуца.
— Дома! — выдохнула Валька, впопыхах поправляя выбившиеся из-под платка волосы. — Ксенька говорит, кровищи в хате — река!
— Ну, дела… — промямлил Степан, натягивая штаны. — А может, наврала старая?
Молодка неуверенно покачала головой:
— Зачем ей такое врать?
Когда очумелая от дикого известия орава во главе с Миколой Наливайко выскочила за порог хаты, Самопалов и Вездеходов, упревшие и сгорбившиеся под тяжестью булькающего груза, как раз подбирались к крыльцу.
— У Цуцика на веранде осталась еще одна канистра, заберите! — крикнул Соловей вдогонку Луке и Михайлу.
Те только раздраженно отмахнулись.
— Хоть бы не забыли, — озабоченно пролепетал Вездеходов, осторожно опуская канистры на облупившийся бетон крыльца и тяжело отдуваясь.
— Не забудут! — успокоил его Федька, утомленно смахивая с раскрасневшегося лица обильную влагу. — Не идиоты же они.
Картина, представившаяся взору испуганных людей в передней дома Цуцика, была ужасающей. В луже застывшей крови, среди битой посуды и разбросанного барахла, раскинув руки и поджав под себя ноги, на спине лежал Ефрем. Его лицо, покрытое черно-бордовой коркой, походило на нелепую маску-страшилку. Из широко разинутого рта торчали неровные пеньки зубов. Желтые белки выпученных глаз зловеще блестели. А из огромной раны под подбородком сочилась бледно-розовая жидкость.
— Всем оставаться у порога! Ничего не трогать! — хрипло распорядился участковый. И, осторожно обойдя труп, двинулся в гостиную.
За Миколой, не взирая на запрет, потянулись Кукуйко и Михайло. Остальные, бледные и подавленные, тихо галдели у порога.
На железной кровати навзничь, с запрокинутой головой лежал голый Кузька. Его руки и ноги, в ссадинах, порезах и кроводтеках, обрывками простыни были привязаны к спинкам. На вспухшем от побоев перекошенном лице застыло выражение неимоверного страдания. На подушке, у стены валялась скомканная грязная портянка. Видимо, парню во время истязания затыкали ею рот, чтобы соседи не услышали криков. Худое тело было буквально истерзано: его кололи, резали, рвали, били и жгли раскаленной в плите кочергой…
Все в доме кто-то перевернул вверх дном. Содержимое шкафов, комода и тумбочек было вывалено на пол и разбросано. Кругом белели черепки битых чашек, тарелок и мисок.
— Деньги искали, — почему-то шепотом выразил предположение Наливайко, окидывая взглядом гостиную. — Того, что нашли, наверно, показалось мало. Вот и принялись за Кузю, стали пытать, чтобы выдал место, где хранятся ценности… А Ефрема, кажись, укокошили сразу…
Лука, крестясь и стараясь не смотреть на труп в передней, поспешил к выходу. За ним, осторожно ступая, двинулся Михайло с посеревшим лицом, который, между тем, выходя, не забыл прихватить в веранде канистру.
Когда все вышли во двор, участковый плотно закрыл дверь и подпер ее лавкой, стоявшей до этого под стеной хаты.
— Сейчас все — к Соловью! — приказал он. — А я схожу к Дыбе, позвоню в райотдел, сообщу о случившемся.
Прибыв в хату Самопалова, присмиревшая и встревоженная компания молча расселась за столом и уже без прежних азарта, задора и веселости продолжила процесс опохмеления. Зазвенели стаканы, зазвякали кружки, забулькала жидкость. Лениво заструился под потолок табачный дым.
Разговоры пошли позже, когда опустела первая канистра. Все они, конечно, касались убийства.
— Кто же мог замочить Ефрема и Кузьку? — нервно покуривая, гадал Вездеходов.
— Убийцы действовали хладнокровно, но, кажись, в спешке, — размышлял в голос Лука. — И это видно по их небрежности. Искали-то в самых доступных местах. А ведь Цуцик не тот человек, который хранит ценности кое-как, на виду… Нет, не наши это злодейство учинили.
— Да ясно, что не наши! — убеждала присутствующих и Сонька, старательно массируя почерневшие скулы. — Чужие убили Ефрема и Кузю, чужие!
Скотник Михайло имел на этот счет свое мнение.
— Откуда было взяться чужакам? — резонно вопрошал он, в очередной раз наполняя вином свою щербатую чашку. — Снегу же вон столько намело — ни проехать, ни пройти!
— Собаку бы! — сокрушенно вздыхала Гнидозвездова и деловито копалась гнутой вилкой в тарелке с объедками вчерашнего жаркого. — Собака враз найдет убийцу.
Вскоре появился озабоченный Наливайко. Зашел в дом, расстегнул тулуп, присел у стола и только потом доложил:
— Дозвонился! В райотделе сказали, что опера попробуют прорваться в Кулички на тракторах. Сейчас поднимают дорожников.
Соловей наполнил вином стакан и поставил перед участковым. Тот жадно выпил. Потом, вдруг вроде как бы опомнился, обвел всех присутствующих пристальным взглядом и прикрикнул:
— Вы тут не шибко пейте! Вам же еще показания нужно будет давать.
— Еще этого не хватало! — недовольно пробормотала Сонька, с отвращением принимая из рук Самопалова полную кружку.
— Ничего не поделаешь! — буркнул Микола. — Порядок есть порядок.
Скрипнула дверь.
— Продолжаете? — на пороге выросла костлявая фигура взбудораженного Дрючковского. — Неужели вам до этого?
Он несколько раз притопнул, сбивая с сапог налипшие комья снега, и поковылял к столу. Верка тут же цыкнула на опьяневшего Михайла, обнимающего ее за талию. Тот, вздохнув, пересел на стоящий рядом табурет, освобождая место Филиппу.
— Во дела творятся! — поднял тот палец назидательно, усевшись возле ожившей девахи. — Разве было такое при партии, разве убивали вот так людей? Вот тебе и демократия, в три дивизии мать!
Спорить с Дрючковским никто не стал. Вездеходов подал ему чашку с вином. Бывший новатор поднял ее и хотел еще что-то сказать, но не успел. В хату вошли румяные с морозца Валька и Степан. Поздоровались.
Наливайко взглянул на них через плечо, отставил стакан и медленно поднялся с места.
— Ага! — промолвил он тоном, не сулящим ничего хорошего. Затем не спеша приблизился к застывшему в недоумении Барбацуце и, ткнув ему пальцем в грудь, поинтересовался: — Ты — водитель виновоза?
— Да, я водитель, — промямлил Степан, не понимая в чем дело.
Микола, как бычок, наклонил голову, исподлобья пристально вглядываясь в глаза парня. Цедя слова, спросил:
— Где ты был ночью?
Валька небрежным жестом отбросила руку участкового и, выступив наперед, прикрывая собой Степана, выдала:
— У меня он спал! Чего пристаешь к человеку?
— Здесь вопросы задаю я! — рявкнул Наливайко.
Но молодка не обратила на это ни малейшего внимания, оттолкнула его плечом и пошла к столу, ведя за собой растерянного Барбацуцу. Затем обернулась к участковому и миролюбиво произнесла:
— Со мной он был, Николаша, со мной! Никого он не убивал, из хаты ночью не выходил. Я ручаюсь!
Микола сник. Молча сел на прежнее место. Но, опрокинув стакан, опять поднял глаза на Степана:
— Как ты вообще с трассы-то слетел? Гнал, небось, как малохольный?
Барбацуца как-то нелепо ухмыльнулся, пожал плечами.
— Отвлекся я от руля, — проговорил он неуверенно. — На краю села, у скирды увидел такое… Смотрю, мужик стоит на оглоблях телеги без…
— Нечего здесь хлопцу допрос учинять! — вдруг резко вскричал покрасневший Кукуйко. — Разве не ясно, что в такую погоду попасть в аварию проще простого?
Наливайко равнодушно махнул рукой и отвернулся от все еще топчущихся посреди прихожей Вальки и Степана. Затем, ни к кому не обращаясь, брякнул:
— Сейчас опера прибудут, разберутся!
Молодка и Барбацуца наконец подошли к столу и уселись возле Вездеходова. Тот, приветливо улыбаясь, немедленно налил им по кружке вина.
Вскоре в хату Самопалова пожаловали Тонька с дембелем. Изрядно хмельной участковый смерил их подозрительным взглядом и спросил то ли у Луки, то ли у Соловья:
— Это второй? А где третий? Их же, говорят, трое было.
— У Грицька он, — пояснил Кукуйко. — Лежит с поломанной рукой.
Микола задумчиво почесал кончик носа и, недовольно поморщившись, показал пальцем сначала в сторону Степана, потом, через плечо, — в сторону солдатика.
— С хаты ни ногой! — вяло приказал он. — Ясно?
Хлопцы покорно закивали головами.
На топчане, разметав свои большущие, как лопаты-грабарки, руки, безмятежно храпел скотник Михайло. А Сонька все терла свои скулы, пытаясь избавиться от головной боли.
Глава 11
Оперативно-следственная бригада добралась в Кулички во втором часу дня. После осмотра места преступления прибывшие — пятеро человек — и присоединившийся к ним подвыпивший Наливайко заявились сначала к Соловью. Оттуда, прихватив с собой Барбацуцу, дембеля и еще нескольких Федькиных гостей, направились, было, в бригадную контору — ветхое, неотапливаемое помещение, расположенное неподалеку от дома убитых Ефрема Цуцика и его сына. Но по дороге оперов перехватил Семен Дыба.
— В бригадной хате, хлопцы, такая холодрыга, что пять минут не высидишь, — сказал он, поздоровавшись. — Идемте ко мне. Приглашаю!
— Нет, батя, — возразил ему молодой долговязый следователь прокураторы Парасочка, — нам в конторе будет сподручней показания снимать.
— Да ты сейчас уже синий от холода! — раздраженно заметил на эти слова тучный, как фермерский боров, начальник райотдела милиции Федоренко. И, обращаясь уже к Семену, спросил: — Слушай, а мы не шибко тебя стесним? Нам ведь нужно многих допросить, засидимся мы у тебя.
— Не стесните! — махнул рукой Дыба. — Мы живем вдвоем с жинкой, а хата у нас большая. Так что, милости просим!
— Тогда пошли! — Федоренко кивнул остальным, как бы приглашая их за собой, и зашагал рядом с бригадиром.
В просторной хате Семена, жарко натопленной и от того уютной, остро пахло свежим борщом и жареным луком. В прихожей неожиданных гостей встретила хозяйка — тетка Маня — женщина крупногабаритная, объемистая, но на удивление приветливая и радушная.
— Проходите, проходите, уважаемые товарищи! — закудахтала она, проворно отбирая у прибывших верхнюю одежду и складируя ее на топчане. — Идите в светелку, присаживайтесь за стол. Кто хочет помыть руки — рукомойник и полотенце на кухне.
Следователь прокуратуры Парасочка, а за ним районный патологоанатом, он же — судмедэксперт, Кицятник, переступив порог гостиной, изумленно открыли рты.
— О! — только и смог вымолвить следователь.
— Чего там? — поинтересовался Федоренко, входя и себе в гостиную.
— Да вот, Никитич, угощение, — промямлил Кицятник, облизывая синюшние губы профессионального дегустатора спирта. — Эка снедь!
Посреди комнаты стоял широкий стол, уставленный тарелками, мисками, блюдцами, графинами, стаканами и рюмками. Вся эта посуда была уже наполнена и заполнена. Красный, источающий аромат чрезмерной сытности борщ; томно вздыхающие паром вареники; призывно завалившиеся на бочок молодые курочки с золотистой корочкой; хрупкие, в пупырышках, будто зреющие юнцы, малосольные огурчики; обильно покрытые испариной бледные ломтики сала; белая, как полевой нетронутый снег, сметанка…
— Прошу! Прошу, уважаемые товарищи, отобедать! — тетка Маня, суетясь и робко улыбаясь, взяла под руку замешкавшегося у порога Федоренко и самолично препроводила во главу стола. — Садитесь! Как ни как, с дороги, проголодались, небось…
— Так, оно как-то вроде не совсем это… — неуверенно пролепетал начальник райотдела, грузно опуская на стул свои телеса.
— Успеете еще дела сделать! — ласково проворковала тетка Маня ему в ответ, учтиво рассаживая гостей. — Нужно сначала голод утолить, иначе какая работа, когда в животе урчит?
— Резонно говорите! — весело заметил патологоанатом, поглядывая то на хозяйку — с благодарностью, то на накрытый стол — с вожделением. — Вы, я вижу, прекрасная женщина, повезло вашему мужу, ох, повезло!
— Да уж! — весело поддакнул Семен, тоже подсаживаясь к столу.
Тетка Маня, непривыкшая к комплиментам таких важных людей, стыдливо опустила карие глаза.
— Ленчик! — Федоренко обратился к милиционеру средних лет со старшинскими погонами на мятом кителе. — Скажи свидетелям, пусть на улице подождут.
Тот кивнул и вышел со светелки.
— Подождите во дворе! — гаркнул он мужикам, молчаливо топтавшимся у порога. — Вас позовут.
Закрыв дверь, старшина вернулся в светелку и сел за стол. Важный, надутый, как старый индюк, Дыба уже с пафосом произносил первый тост.
Ждать вызова на допрос Барбацуце, дембелю, Вездеходову, Луке и Самопалову пришлось часа два. С приходом сумерек, мороз, более-менее щадящий засветло, раздурелся не на шутку и пробирал до костей. Если бы не тетка Маня, дважды тайком выскакивавшая на улицу с бутылкой первача и закуской, задержанным пришлось бы очень туго.
Наконец их позвали в хату. Там во всю витал табачный дым, со светелки неслись пьяные выкрики, смех, звон посуды. Скоро они несколько поутихли, и мужики решили, что теперь начнется допрос. Но вместо этого на пороге гостиной вдруг возник пошатывающийся патологоанатом со сверкающими глазами и что есть мочи затянул:
— А где-то уж кони проносятся к яру! Вы что загрустили, мой юный корнет?..
— Кларне-е-ет! — попытался подпевать показавшийся из светелки красный, как помидор, Семен.
Смеющийся Кицятник дружески обнял его за плечи и игриво погрозил пальцем:
— Молчи, Сеня, ты слов не знаешь! — И фальцетом продолжил: — А в комнатах наших сидят комиссары.. ик.. и девочек наших… ик… ведут в кабинет!..
Вокальным искусством патологоанатома прибывшим на допрос, наверное, довелось бы наслаждаться еще очень долго, но тут в прихожую вышел Федоренко. Упревший, сопящий, в распахнутом кителе, он затолкал обратно в светелку брыкающегося коллегу вместе с его краснорожим подпевалой, и, устало опустившись на топчан, хмуро спросил:
— Чего скажете, мужики?
— А говорить нечего, товарищ начальник, — ответил за всех Кукуйко. — Мы знаем то же, что и вы.
— Соображения какие-нибудь есть? Подозрения? — Федоренко тщательно вытер обильный пот со лба и щек рукавом кителя. Затем поднял припухшие глаза на задержанных.
Лука неопределенно пожал плечами.
— Не наши это! — неторопливо, как бы размышляя, молвил он. — Наши на такое не способны.
Остальные, потупившись, молча топтались у порога. Не отрывая от них взгляда, начальник райотдела поднялся и, не спеша, прошелся по комнате.
— Так! Интересно! — процедил он. Потом, скосив глаза на Луку, переспросил: — Не ваши, говоришь?
— Не, — замахал головой старик. — Не наши, точно!
— Но чужие-то в село попасть не могли! — почему-то полушепотом заметил Федоренко. — Верно, дедуля?
— Кажись, так! — согласился тот.
— Значит…
Лука пролепетал что-то маловразумительное и обессилено прислонился к косяку двери.
Начальник райотдела почти вплотную подошел к Барбацуце, с нарочитой пристальностью взглянул ему в глаза:
— Вас трое было в виновозе? — спросил, щурясь.
— Трое, — подтвердил Степка.
— Один, который повредил руку и теперь отлеживается, отпадает, — продолжил Федоренко. — Под подозрением только ты и второй… Где он?
— Я здесь, — тихо подал голос дембель из-за Степановой спины.
— Кто таков? — переключился на него начальник. — Как звать? Откуда?
— Я… из… — испуганно замямлил солдатик.
Федоренко, набычившись, смотрел на него недобрыми глазами.
— Документы! Оба! Живо! — заорал он, наливаясь румянцем.
Барбацуца порылся в кармане куртки, достал водительское удостоверение и молча протянул милиционеру. Тот выхватил его, мельком взглянул и резко ткнул пальцем в грудь дембелю: — Твои!
— У меня с собой нет, — испуганно проговорил тот и попытался сделать шаг назад, но наткнулся на дверь.
— Как так — нет?! — взревел Федоренко. — Почему нет?
— Это парень из Кукумаковки! Недавно дембельнулся, — вмешался, было, Барбацуца. Но старый Кукуйко дернул его за рукав и он умолк.
— Мне плевать, что он дембельнутый из Кукумаковки! — грозно зарычал милиционер. — Мне документики нужны!
Бледный, как полотно, солдатик низко опустил голову, поник, съежился, будто ожидал удара в лицо.
Начальник райотдела смерил его недобрым взглядом и, повернувшись в сторону светелки, отрывисто бросил через плечо:
— Ленчик! Давай наручники! — затем, раскачиваясь с пяток на носки, официальным тоном обратился к дембелю: — Как главного подозреваемого я вынужден вас задержать!
Из гостиной бодро вышел подтянутый старшина. Отцепил наручники с пояса и, поигрывая ими, вопросительно посмотрел на начальника. Тот неотрывно следил за дембелем.
— Итак, как ваша фамилия, задержанный?
— Ры.. Ры.. баков… — запинаясь, промямлил солдатик и затравленно блеснул зенками.
Старшина вдруг резко подался вперед. Но сделал лишь пару шагов, потом, будто споткнувшись, качнулся и застыл.
— Рыбаков? — переспросил он сухим, приглушенным голосом. — Рыбаков? А может, Рычагов?! Солдат, сбежавший позавчера с боевым оружием из воинской части в Мурдянске?! Дезертир, которого ищет пол Украины!
Со светелки выглянул слегка хмельной Парасочка:
— Что тут происходит? — поинтересовался он вяло.
Но на него никто не обратил внимания.
— Шеф, это он! Это точно Рычагов! Его фото показывали по телевизору! — закричал старшина и бросился вперед.
Дембель со всей силы толкнул навстречу милиционеру Степана и, крутнувшись на пятках, пулей вылетел в сени.
— За ним! — заорал Федоренко.
Но никто не кинулся за убегающим — разутым по снегу не побежишь.
Только через минуту, натянув на ноги сапоги, несколько оперативников выскочили на улицу.
— Куда он мог побежать? — начальник райотдела крутился у калитки, как юла, напрасно всматриваясь в густые сумерки.
— Найдем, товарищ майор! — заверил капитан милиции Гнедой, пьяно размахивая пистолетом. — Далеко не убежит. Главное, куда он спрятал автомат?
— Ленчик! — Федоренко подскочил к старшине, торчащему с разинутым ртом у калитки. — Где Наливайко?
— Спит! — доложил тот, запахивая тулуп.
— Твою мать! — злобно выругался начальник райотдела. — Тогда действуем так! Звони в Мурдянск, скажи: дезертир обнаружен! Понял? А мы поищем его.
С хаты, заливаясь хохотом и громко переговариваясь, вышли Кицятник и Дыба. Посреди двора остановились, начали обнимать друг друга и страстно лобызать.
— Хозяин! — окликнул Федоренко.
Семен отпустил патологоанатома и сделал несколько неуверенных шагов в сторону начальника райотдела.
Тот смерил его гневным взглядом, сплюнул в снег.
— У кого ночевал солдат? — спросил, почти вплотную приблизившись к бригадиру.
— Ась?! К-какой солдат?
— Ну, этот, с виновоза!
Дыба вздохнул и обессилено уронил голову на грудь.
— Соображай, соображай быстрее! — раздраженно прикрикнул Федоренко.
— К-кажись, у Тоньки Б-бездольной, — выдохнул Семен и, пытаясь устоять на ногах, ухватился рукой за плечо начальника.
— Где она живет?
— Кто?
Тонька, Тонька! — теряя терпение, зарычал Федоренко.
Семен неопределенно пожал плечами.
— Где живет?.. Да рядом тута.
— Где именно? Укажи!
— Через три… четыре дома. Он там! — повел рукой Дыба в сторону заброшенной соседней хаты, почти засыпанной снегом.
— Гнедой! Пошли! — начальник райотдела оглянулся на Парасочку. — Ты с нами?
— Конечно! — отозвался тот.
Троица быстрым шагом, почти бегом, двинулась вдоль улицы.
А во дворе Семена, раздирая вечернюю мглу и будоража собак из близлежащих дворов, разнесся надтреснутый голос Кицятника:
— Раздайте патроны, поручик Голицин! Корнет Оболенский, налейте вина!!!
Тем временем дембель влетел в прихожую Тонькиной хаты, оттолкнул плечом тетку Груню и рванул в спаленку. Там, упав на колени, вытянул из-под кровати сверток, подхватился и тут же бросился обратно к двери. Как вихрь, пронесся мимо оторопевшей женщины, на ходу разрывая веревки со своей ноши. Во дворе, наконец, освободил оружие из плена тряпок, разбросал их в стороны и, подобрав со снега упавшие автоматные рожки, стремглав побежал к калитке. Но на полпути резко остановился, постоял несколько мгновений, как бы размышляя, и повернул в сад.
Глава 12
Свидетели, послонявшись у двора Семена добрых полчаса, решили больше не мерзнуть и возвращаться в хату Соловья.
Еще на подходе к ней услышали разудалые аккорды, пьяные вопли и визг.
— Кто-то наяривает на моей гармошке, — озадаченно обронил Самопалов, прислушиваясь. — Кто бы это мог быть?
Оказалось, незнакомый краснощекий мужик с пшеничными усами. Он сидел на табуретке у стола, закинув ногу за ногу, дико вращал зенками и залихватски растягивал меха инструмента. Второй незнакомец — куцый мужичок лет сорока пяти, совершенно косой, тупо ухмыляясь, полулежал на топчане.
— Ой, гоп! Ой, гоп! — выкрикивал он, как заведенный, и время от времени тряс большой плешивой головой.
С полтора десятка мужиков и баб, среди которых были запухший скотник Михайло, взъерошенный Дрючковский, взмокшая от пота Тайка Мандрючка в засаленной кацавейке и посиневшая Верка Гнидозвездова, толкаясь и спотыкаясь, лихо выплясывали и орали во всю мочь легких.
— Отпустили вас? Все хорошо? — пытаясь перекричать невероятный гвалт, стала допытываться Валька Замумурка, подлетев к обалдевшим Луке, Степке, Вездеходову и Федьке, как только они возникли на пороге.
— Что это за кент?! — вместо ответа не совсем миролюбиво рыкнул Соловей, указывая глазами на гармониста. Затем перевел взгляд на куцего. — И вон тот! Кто?
Это трактористы, доставившие оперов в Кулички, — растолковала покрасневшая от надрывного крика Валька. — Они замерзали, бедолаги, в своих тракторах. Так мы их пригласили.
Наконец, гармонист заметил вошедших в хату, прекратил играть и с нескрываемым интересом вылупил на них свои кроличьи глазки. Однако вместе с музыкой галдеж не смолк. Компания продолжала гарцевать и орать.
— А это что такое? — Кукуйко постучал носком валенка по бочке, поставленной на-попа у самого порога.
Хлопцы от Цуцика прикатили, — пояснила подошедшая Сонька, пьяно щурясь. — Она в летней кухне стояла… В гараже там еще две есть. Но те литров по сто всего…
Через пять минут, познакомившись с трактористами, Соловей и его друзья-свидетели присоединились к компании. А еще через полчаса пьянючий в стельку Везхдеходов пытался танцевать и одновременно целовался с одуревшей Сонькой Бублик. Она выбрыкивала и ржала, как лошадь. Барбацуца, тоже изрядно поддатый, лизался к Вальке и жевал хлеб со смальцем, которым она его кормила с рук, как ребенка. Лука приставал к Тайке Мандрючке: то хватал ее за коленки, то поглаживал по спине, то нашептывал на ухо скарбезности. Лишь один Самопалов сидел в сторонке, хмуро пил вино и о чем-то размышлял.
Часа полтора злые и продрогшие оперативники рыскали по притихшему селу, ища беглеца. Выходили то на один, то на другой край Куличков. Везде в чахлом свете запухшей луны простиралась взбитая ветром нетронутая перина снега.
Обнаружили солдатика случайно. В который раз ковыляя по улице, продрогший Парасочка возле хаты старого Кукуйко услышал приглушенное, еле уловимое ухом покашливание.
— Кто там? — отозвался следователь, неуверенно и с боязнью приближаясь к покосившемуся забору.
Ответа не последовало.
Ретивый Парасочка, заподозрив, что это не спроста, поборол страх, осторожно отворил калитку и, крадучись, прошел вглубь двора.
Конуры нигде не было видно, похоже, хозяева обходились без собаки. Парасочка облегченно вздохнул — псов он боялся до умопомрачения. Теперь оставалась лишь одна проблема — предстояло выяснить, кто же кашлял. И если это тот, кого искали оперативники, то он, вооруженный «калашом», пожалуй, был пострашнее любой собаки. Следователь поежился. Затем, прижавшись спиной к стене хаты, осторожно заглянул в незанавешенное окно прихожей, залитое лимонным светом маломощной лампочки. У грубки, на маленьком стульчике сидела, напялив на нос очки, старая Лизавета и увлеченно читала то ли книжку, то ли журнал.
У угла хаты, напротив сеновала Парасочка опять остановился. Прислушался. Ни шороха.
И вдруг чуткое ухо молодого сыскаря уловило легкий вздох, будто неокрепший майский ветерок с разбегу наткнулся на гибкую макушку юной вербы.
Парасочка застыл. Он растерялся и не знал, как быть: окликнуть вздохнувшего, промолчать, отступить или бросится на сеновал?
Простояв минуту в нерешительности, следователь уже готов был поверить, что тот неясный вздох — плод его воображения, что он ему лишь почудился. Но тут, где-то на самой макушке стожка, зашуршало сено.
Интуитивно Парасочка сначала пригнулся, потом присел. А дальше, неожиданно даже для самого себя, ринулся вперед, как бык на красную тряпку, и упал грудью на податливые, пружинистые, однако колючие, стебли.
В этот миг тишину расколола короткая автоматная очередь. Стреляли совсем рядом, за два шага и явно в сторону. Иначе с такого близкого расстояния не попасть в распластанного следователя не мог бы даже дилетант.
Отпрянув, будто перепуганный котенок, долговязый следопыт в мгновение ока оказался за калиткой, на улице. Там заскочил за бетонную опору электропередачи и залег в снегу.
По всему селу то тут, то там залаяли псы, послышались чьи-то громкие встревоженные голоса. К Парасочке со всех ног несся неведомо откуда взявшийся Федоренко.
— Где дезертир? — закричал он издали, непослушными, озябшими руками вытаскивая из кобуры пистолет.
— Т-там! — пропищал следователь слабым голоском, показывая рукой в глубину двора.
Укрывшись за стволом старого клена, начальник райотдела набрал побольше воздуха в легкие и выкрикнул:
— Рычагов, ты окружен! Бросай автомат и выходи!
— Не выйду! — не сразу откликнулся солдат. — До последнего патрона буду отстреливаться! А у меня два рожка…
— Сдавайся по доброму! — опять закричал в темноту Федоренко, пытаясь определить, на каком расстоянии от него находится вооруженный дезертир.
— Не вздумайте подходить! — предупредил тот. В сиплом голосе улавливались плаксивые нотки. — Буду стрелять на поражение!
— Не глупи! Ты что, идиот?
Но с сеновала ответа не последовало.
Федоренко тихо подозвал к себе Парасочку.
— Беги к Дыбе! Разбуди Налийвайко! Он знает, у кого в селе есть ружья, пусть позаимствует себе и тебе.
В этот момент появились запыхавшиеся капитан и старшина.
— Оставайся здесь! — приказал начальник райотдела Гнедому. — А мы с Ленчиком попробуем зайти с двух сторон: я — с огорода, а он — с сада.
Глава 13
Когда в хату Соловья возвратилась отлучавшаяся к соседям-старикам встревоженная Тонька, большинство пирующих уже были изрядно навеселе. А некоторые — лысый тракторист, Сонька, Вездеходов, Гнидозвездова и еще трое-четверо — во всю храпели, расположившись кто где. Лысый и Сонька спали в обнимку на топчане. Вездеходов валялся под столом. Верка Гнидозвездова дрыхла, плюхнувшись синим лицом в тарелку с объедками. А потерявшая стойкость и оптимизм, но еще слегка в сознании Ксенька Муха почивала на фуфайке у нетопленой плиты и о чем-то сокрушенно вздыхала.
— Феденька, Соловушка! Как же так? Как так случилось? Почему вы за него не заступились? — побивалась Бездольная, засыпая вопросами Самопалова.
— Что мы могли поделать? — оправдывался он, без энтузиазма роясь пальцами в остатках закуски. — Солдат-то из части убег, оказывается! Менты думают, что это он укокошил Ефрема и Кузьку…
— Феденька, никого он не убивал! — стала горячо убеждать Соловья молодка. — Он со мной был. Поверь, Феденька, голубчик!
Тот тяжело вздохнул, участливо похлопал Тоньку по спине и рассудительно заметил:
— Ты не мне, ты это ментам расскажи.
Тонька дрожащей рукой взяла стакан вина, предложенный ей Лукой, одним махом вылила его в себя. Затем грустно заглянула в глаза Самопалову.
— Разве меня опера послушают, — молвила она, вытирая рот тыльной стороной ладони. И скорбно вздохнула: — Эх, такого хлопца встретила! И вот — на тебе — потеряла. Засудят ведь его, как пить дать, засудят!
— По любому засудят, — мрачно прибавил Кукуйко, опуская голову на плечо Тайке. — Он ведь с оружием с части сбежал…
Услыхав автоматную трель, Лизавета испуганно бросилась к окну и застыла, всматриваясь в вечернюю мглу. Капитан Гнедой, торчащий с пистолетом в руке неподалеку от калитки за стволом явора, хорошо видел скуластое лицо Кукуйчихи, прильнувшее к стеклу.
— Хоть бы не вздумала, старая дура, на улицу выйти! — пробурчал он себе под нос, напряженно вслушиваясь в отдаляющийся хруст снега — это Федоренко и Ленчик пробирались окольными путями поближе к сеновалу.
Вскоре Лизавета отошла от окна. Над входной дверью хаты вспыхнула лампочка, залив мертвенно-восковым светом заснеженный двор. Капитан с тревогой ожидал появления старой на пороге и уже набрал в легкие побольше воздуха, чтобы как следует прикрикнуть на нее и тем самым загнать обратно в дом. Однако Лизавета не вышла.
Потянулись томительные минуты ожидания.
Через четверть часа Гнедого кто-то негромко окликнул. Тот быстро огляделся по сторонам, но никого не увидел.
— Капитан! Слышь, капитан! — снова послышался приглушенный полушепот. — Я это.
Опер растерянно замотал головой сюда-туда и, наконец, разглядел тощий силуэт следователя прокуратуры, прислонившегося к столбу электропередачи.
— Парасочка, ешкин кот! Ты, что ли?
— А кто же еще! — раздраженно отозвался тот, пытаясь совладать с длинноствольной берданкой, выприскивающей из озябших рук.
— Где Наливайко?
— Он ружье себе ищет, — пояснил следователь. — Сейчас прибежит.
Вскоре с ружьем наперевес явился непрохмеленный участковый.
— Взяли гада? — поинтересовался он с ходу, заметив съежившуюся фигурку Парасочки, освещенную чахоточными бликами света.
— Не стой посреди улицы, спрячься! — вместо ответа посоветовал следователь.
Микола, постояв пару секунд в раздумье, двинулся к явору.
— О, мое почтение! — обрадовано воскликнул он, разглядев капитана, слившегося со стволом дерева. — Где дезертир?
Гнедой указал пистолетом в сторону хаты Луки:
— Там, на сеновале засел. Никитич и Ленчик пошли в обход, чтобы не ускользнул, паршивец!
— Ага! — кивнул Наливайко. И тихо спросил, пристраиваясь за деревом позади капитана. — А ты, небось, замерз?
— Есть маленько, — оживился тот, нутром почуяв, что участковый неспроста задал этот вопрос.
И не ошибся. Микола рывком извлек из кармана тулупа бутылку, протянул:
— На, хлебни! Согреешься.
Время тянулось медленно. Все было тихо. Вдруг где-то из глубины двора, скорее всего — из-за хлева послышался глухой голос Федоренко:
— Рычагов! Предлагаю в последний раз — сдавайся! Бросай автомат и выходи с поднятыми руками.
На сеновале зашуршало, однако ответа не последовало.
— Рычагов, не усугубляй свое положение! — громче выкрикнул начальник райотдела. — Я ведь имею полное право не брать тебя живым!
— Убьете? — нарочито равнодушным голосом спросил погодя дембель.
— А ты как думал? — уверенно пробасил Федоренко. — Ты вооружен и на твоей совести два трупа.
— Я не убивал! — дрогнувшим голосом выкрикнул солдат.
— Вот и потолкуем об этом, — миролюбиво молвил начальник райотдела. — Выходи, пацан!
— Нет!
— Ну, как хочешь! Не обижайся потом, я тебе предлагал жизнь!
Наступила зловещая тишина. Но не надолго. На улице послышались хмельные голоса. Несколько человек остановились напротив дома Луки. Это были Толик Пипетко, Петро и Пал Саныч Байстрюковский. Они узрели Парасочку, притаившегося за фонарным столбом.
— Эй! — окликнули они его. — Чего ошиваешься здесь? Пьяный, что ли? Замерзнешь к такой матери!
— Идите, идите своей дорогой! — раздраженно молвил Наливайко, выйдя на свет из-за своего укрытия и направляясь к возбужденным мужикам. — Здесь проводится спецоперация по захвату особо опасного преступника.
— Ты че, Микола, совсем пьяный? — Пипетко сделал несколько шагов в сторону участкового, но тут раздался злобный окрик Гнедого:
— Вы что, козлы, приказа не поняли? Бегом отсюда! Здесь сейчас будут задерживать вооруженного убийцу.
Пипетко хотел что-то возразить, но Петро и Пал Саныч подхватили его под руки и быстро потащили вдоль улицы.
Через несколько минут они уже сидели за столом в хате Соловья и наперебой рассказывали о том, что возле дома старого Кукуйко проводится особая операция. Услышав такое, Лука, набросил на плечи тулуп и юркнул за порог. За ним побежали Соловей, Тонька Бездольная, Валька Замумурка, Степка и Пал Саныч Байстрюковский.
У дома Кукуйко их встретил матерными словами Наливайко и отогнал подальше. Войти в хату после долгих пререканий разрешили только Луке, посоветовав быть предельно осторожным.
Когда Кукуйко отворил калитку и зашел во двор, Микола не выдержал, закричал во все горло:
— Солдат, слышишь? Хозяин хаты, дядя Лука, пошел домой. Не вздумай стрелять!
— Да вижу! — отозвался дембель осипшим от холода и страха голосом. — Пусть идет.
Старик сначала пошлепал к окну, легонько постучал, затем уже подошел к порогу. Лизавета открыла. Нырнув в сенцы, Кукуйко неспеша закрыл за собой дверь.
То начальник райотдела, то Гнедой, то Наливайко еще не раз пытались уговорить дезертира сдаться. Только эти попытки не увенчались успехом — дембель или посылал их подальше, или отмалчивался, грозно лязгая затвором автомата. Опера, перешептываясь между собой, по очереди хлебали из горла самогон и не знали, что предпринять.
В два часа ночи с жутким ревом в Кулички ворвались два бронетранспортера.
Глава 14
Вскоре Федоренко уже обрисовывал ситуацию приземистому, коренастому, чем-то похожему на речного рака, подполковнику Бабодаву, которому командование поручило возглавить операцию по задержанию вооруженного дезертира. Подполковник стоял, расслаблено упершись спиной о бок транспортера, свысока поглядывал на начальника райотдела и все сплевывал тому под ноги.
— Возле перевернувшегося виновоза прошлой ночью кто-то разрыл снег, — продолжал доклад слегка смущенный Федоренко. — Рычагов, наверно, искал оружие, которое сразу после аварии забрать не смог, ввиду большого скопления народа. Поиск ничего не дал, автомата на месте не оказалось. Тогда дезертир отправился к Ефрему и Кузьме Цуцикам, почему-то решив, что оружие взяли именно они…
— Меня интересует, майор, пробовали ли вы вести переговоры с Рычаговым? — резко перебил Бабодав доклад начальника райотдела вопросом.
Тот кивнул и хотел продолжить изложение своей версии убийства отца и сына. Но подполковник отрывистым взмахом руки остановил его:
— Что тут натворил Рычагов, это выяснит военная прокуратура! Моя задача — задержать его. Или, если возникнет необходимость, обезвредить.
— Понятно, — сник Федоренко и с кислой физиономией отошел в сторону.
По распоряжению Бабодава оба транспортера были подогнаны вплотную ко двору. Белый свет фар осветил хлипкий шиферный навес сеновала и сам стожок. Солдаты, выполняя приказ, оцепили усадьбу и залегли в снегу.
Сыскарей во главе с Федоренко оттеснили подальше от подворья, и они стояли, обиженные и набычившиеся, метров за пятьдесят от хаты Луки, возле группы тихо галдящих селян.
— Рычагов! — заорал Бабодав из-за бронемашины. — У тебя минута на размышления. Выходи с поднятыми руками.
Солдат не отозвался.
— Рычагов! Минута на исходе! — крикнул опять подполковник.
Ответа не было.
Бабодав надрывался еще минут пятнадцать. Но безрезультатно — солдат молчал. Распалившись, подполковник изо всех сил рявкнул:
— Рычагов, я отдаю приказ на захват! Жизнь тебе не гарантирую!
Он едва успел договорить последнюю фразу, как со стожка ударила автоматная очередь. Несколько пуль, звякнув о броню транспортеров, срикошетили и просвистели над головой Бабодава.
— Капитан Малосольный! — сипло завопил он. — Очистить улицу от посторонних!
Щуплый военный, низко пригибаясь к земле, выскочил из-под прикрытия БТРа, и засеменил на кривых ножках к толпе куличковцев.
— Бегом отсюда! Уходите! Подальше! — по-бабьи завизжал он, затем, круто развернувшись, бросился снова под прикрытие брони.
Жители села и оперативники нехотя отошли на десяток шагов от опасного подворья и притаились у полуразобранного здания бывшего клуба. Вскоре они опять загалдели, наперебой обсуждая действия военных.
Тонька Бездольная носилась между собравшимися и с тревогой вопрошала то у одного, то у другого:
— Они могут убить солдатика? Могут?
Девахе не отвечали, предпочитая отойти или отвернуться. Лишь Пал Саныч Байстрюковский со знанием дела произнес:
— Если бы он сейчас сдался, то выжил бы. А так — застрелят!
Услышав эти слова, Тонька стала побиваться пуще прежнего. Тогда Пал Саныч, видимо, чтобы приободрить ее, выразил другую мысль:
— Но вполне возможно, что и не застрелят… Им проще гранатой…
— О Боже! О Господи! — охая и причитая, Бездольная вдруг бросилась к бронемашинам. Но на полпути ее перехватил один из военных и, не обращая внимания на мольбы и просьбы, силой препроводил к остальным куличковцам.
— Не отпускайте от себя эту придурошную! — недовольно пробасил он. — Под пули же может попасть.
Соловей крепко взял Тоньку за плечо и отвел в сторону.
— Стой возле меня и никуда не ходи! — приказным тоном молвил он. — Ясно?
Бездольная утвердительно покачала головой, вытирая мокрые глаза и хлюпая носом.
Валька, стоявшая до этого возле Барбацуцы с отрешенным видом, вдруг ухватила его за полу куртки и стала вытаскивать из толпы.
— Куда ты меня тащищь? — растерянно спросил парень, пытаясь освободиться от цепких рук.
— Нечего здесь торчать! — сурово бросила молодка, удваивая свои усилия. — Спать надо идти!
— Да какой спать?! — Степка остановился, как вкопанный. — Тут такое происходит! Посмотрим, что будет дальше.
— Чует мое сердце, сейчас стрелять начнут! Пули будут летать, — зашептала ему на ухо Валька. — Уходить надо!
Но Барбацуца только поморщился и не сделал больше ни шагу. Тогда она прильнула к его груди и опять с жаром зашептала:
— Прошу тебя, поберегись, не высовывайся! Ладно? Не хочу, чтобы тебя убили!
Степка благодарно чмокнул свою спутницу в нос и обнял за плечи.
— Ладно!
Между покосившейся стеной клуба и забором, ограждающим двор Тайки Мандрючки, несколько мужиков пили вино прямо с пятилитровой банки, которую прихватили, видимо, из хаты Соловья. С каждой минутой им становилось все веселее, они болтали о каких-то своих делах, позабыв о происходящем рядом.
А там, задетый за живое несговорчивостью дезертира, бесился подполковник. Он отрывисто отдавал какие-то приказы суетящимся возле него военным, размахивал пистолетом, люто топал ногами и дико матерился. Остановился, только вдоволь набегавшись.
— Рычагов, сейчас сеновал забросают гранатами, а потом по нему откроют шквальный огонь! — злобно выплюнул он свой последний аргумент из-за брони транспортеров. — Я не допущу, чтобы ты кого-нибудь убил!
И тут послышалась какая-то возня, захрустел снег, затрещали латы забора. Затем, из сада, расположенного справа от двора, вышел не ведомо откуда взявшийся Кукуйко. Оттолкнув капитана Малосольного, он подошел к Бабодаву.
— Ты это серьезно? — сердитым тоном спросил он, останавливаясь и тяжело переводя дыхание.
— Кто его сюда пустил?! Убрать! — гаркнул тот что есть мочи, невольно пятясь от старика.
— А ты на меня не кричи, сопляк! — неожиданно взревел Лука. — Это мой двор, моя хата! Я тут хозяин!
Бабодав, никак не ожидавший от хлипкого дедули таких напора и ярости, опешил.
— Я обязан, — промямлил он, — взять вооруженного…
— Молчать! — рыкнул Кукуйко. — Ты потом мне развороченную гранатами хату ремонтировать будешь? И хоронить убитую твоими головорезами старуху?
— Но что делать? — окончательно растерялся Бабодав.
Лука смерил его презрительным взглядом.
— Что делать? Что делать? — передразнил он. — Где вас берут таких, безмозглых?! Я пойду к солдату и уговорю его сдаться.
— Но я зап…
— Я достаточно пожил, и терять мне нечего!
— Но…
— Я пойду!
— Но…
— Не нокай, я не лошадь! — опять взъерепенился Лука и злобно плюнул подполковнику под ноги. Потом не спеша вышел на улицу и закричал, обращаясь к толпе: — У кого-нибудь есть выпить?
К нему подлетел Байстрюковский, протянул банку с остатками вина:
— Вот! Маловато, конечно, но все же…
— Хватит! — Лука подхватил банку и поковылял к калитке.
— Назад! Назад, дед! — послышались со всех сторон возгласы.
Но тот и ухом не повел.
— Старик! Я приказываю! — высунул нос из-за брони и Бабодав.
Не оглядываясь, Кукуйко бросил:
— Ты мне не командир! И нечего мной командовать!
Войдя в калитку, Лука остановился.
— Солдатик! — позвал он. — Ты слышишь меня?
— Слышу, дядя Лука! — отозвался дембель негромко.
— Я хочу с тобой поговорить! Не стреляй!
И неторопливо пошел через двор к сеновалу. Приблизившись, повернулся лицом к калитке и, заслоняя ладонью глаза от слепящего света, крикнул:
— Не мешайте нам!
Кряхтя, Кукуйко стал взбираться на стожок. Послышалось шуршание сена. Звякнула, стукнувшись обо что-то железное, банка. Потом все стихло.
Потянулись минуты. За бронетранспортерами метался подполковник, нервно дымя сигаретой. Через некоторое время он не выдержал и робко окликнул Луку:
— Старик, долго ты там?
— Подождь! — раздалось в ответ.
Нескоро опять зашуршало сено, и Кукуйко медленно сполз со стожка. В ярком свете было хорошо видно, что у него в руках автомат. С другой стороны сеновала показался солдат. Боязливо покосился в сторону улицы, провел ладонью под носом и низко опустил голову. Лука, как несмышленыша, взял его за руку и потянул за собой. У калитки к ним бросились несколько военных — двое бежали с огорода, трое — с улицы.
— Обождите! — властным окриком остановил их Кукуйко.
Он вывел дембеля за калитку. В этот миг из-за транспортеров пулей вылетел капитан Малосольный и с ходу ударил парня прикладом автомата в грудь. Тот, охнул, и мгновенно осел на снег.
— Ты что делаешь, сволочь?! — завопил старик, пытаясь оттолкнуть жестокого офицера. — Зачем бьешь пацана?
Но его больше не били. Двое солдат связали ему за спиной запястья, помогли подняться на ноги и поволокли к стоявшему неподалеку подполковнику. Он с презрением посмотрел на перепуганного и оглушенного дезертира и сквозь зубы процедил:
— В БТР его!
— Нам необходимо допросить Рычагова! — вмешался было подошедший Федоренко.
Бабодав проигнорировал его слова и даже не удостоил взглядом. Зато несколько смущенно козырнул Луке:
— Спасибо, отец!
Дембеля втащили в транспортер.
Через пару минут бронемашины, поднимая столбы снега, с диким ревом понеслись по улице.
Кукуйко грустно проводил их взглядом, вздохнул, затем молча повернулся и побрел в свой двор. Стали расходится и остальные.
— Ну, вот и все! Увезли мою долю, — вытирая глаза замызганным рукавом драпового пальтишка, скорбно молвила Тонька.
Самопалов обнял ее за плечи и потащил с собой.
— Идем, посидишь с нами! — предложил он девахе, простужено шмыгая носом. — Выпьешь, развеешься…
Она покорно зашагала рядом с Федькой. За ними, громко и злобно матерясь, двинулись опера.
— Ленчик! Сходи за Кицятником, мы уезжаем! — отдал приказ Федоренко, вспомнив о патологоанатоме.
Старшина развернулся и побежал к дому бригадира Дыбы.
Низко над Куличками, на землисто-сером одеяле неба почивала толстомордая луна и самодовольно поглядывала на копошащихся в снегу людей. Мороз, похоже, немного ослабел. А может, так лишь казалось от того, что северо-восточный ветер сменился на юго-западный.
Было около половины пятого утра. Удивительное дело — куличковские собаки, обычно гавкучие, шумные, почему-то молчали…
Глава 15
Проводив оперативников, Наливайко, едва передвигающий от усталости ноги, с двумя берданками за плечом завалился в гостеприимную хату Семена Дыбы. Того дома уже не было — ушел на ферму. Тетка Маня с беспокойством посмотрела на осунувшийся лик Миколы и сразу заохала:
— Не жалеешь ты себя, Сидорович! Вон как извелся весь, побледнел! Поесть тебе надобно. И хорошенько отдохнуть, выспаться.
Участковый устало опустился на топчан в прихожей и отрицательно замотал головой:
— Есть не хочу, тетя Маня! А вот отдохнуть действительно нужно. Я бы с вашего позволения покемарил немножко. А то не дойду в Грязелюбовку, с ног валюсь.
— Поспишь, поспишь! — затарахтела сердобольная женщина. — Но перед этим непременно похлебай горяченького. Я как раз на завтрак куриную лапшу приготовила. И рюмочку выпей, чтобы головушка не болела.
Пока Наливайко нехотя хлебал лапшу, тетка Маня приготовила ему в маленькой спаленке постель.
Растянувшись на мягкой перине, взбитой заботливыми руками хозяйки дома, Микола мгновенно уснул. Тетка Маня прикрыла его верблюжьим одеялом и на цыпочках вышла из комнаты, тихо прикрыв за собой дверь.
В это самое время после непродолжительной трапезы, состоящей из вина и жаренного сала, большинство гостей Соловья разбрелись по домам отсыпаться. А сам Самопалов, Вездеходов и еще несколько мужиков и баб расположились кто где подремать.
Но уже в половине одиннадцатого их разбудили скотник Михайло, Толик Пипетко и Сонька Бублик. С гаража покойных Ефрема и Кузьки они приволокли в корыте столитровую бочку вина
Вскоре в хату Соловья опять потянулись гости. Из остатков мяса и сала Сонька и Верка принялись на скорую руку стряпать жаркое. Хотя еды и без него на столе было предостаточно — почти каждый из пришедших принес с собой что-нибудь поесть.
В хате Самопалова снова зазвучали бодрые голоса, зазвенел девичий смех. Праздник, уже, конечно, без прежних энтузиазма и шика, продолжился.
Участковый пробудился от громких возгласов в хате. Он перевернулся на спину, потянулся и, морщась от резкой боли в висках, открыл глаза, осмотрелся. На пороге спальни стояла взбудораженная Тонька Бездольная. За ее спиной виднелись запухшие физиономии Самопалова, Вездеходова и скотника Михайла. Наливайко с трудом спустил ноги с ложа, сел и отрешенно уставился на пришедших.
— Микола, Микола! Слышь, че мы обнаружили в бочке с вином! — затараторила Тонька, захлебываясь от возбуждения.
— Ну? — зевнул участковый.
Молодка стремительно приблизилась к Наливайко и бросила ему под ноги увесистый сверток. Он, грязный и мокрый, глухо звякнул, ударившись об пол
— Что это? — вяло поинтересовался Микола, потирая виски ладонями.
— А ты разверни да посмотри! — предложила Бездольная. И, не дожидаясь, пока участковый проявит интерес к свертку, наклонилась и сама стала его разворачивать и вытряхивать. На пол посыпались кольца, перстни, браслеты, кулоны, серьги…
— Откуда эта дребедень?! — встрепенулся Микола. Затем, зачерпнув горсть украшений, стал их горячечно разглядывать.
— Да говорю же: в бочке с вином было! — живо пояснила Тонька. — Мы черпаком…
— Не уж то все это настоящее?! — перебил ее Наливайко, подхватываясь с кровати.
— Понятное дело! — хмыкнула деваха. — Думаю, за эти побрякушки и убили Ефрема с Кузькой.
— Но как ювелирные украшения оказались в бочке с вином? — недоуменно спросил Микола, ошарашенно зыркая то на Бездольную, то на мужиков, все еще торчащих за порогом спальни.
— Нам-то откуда знать? — пожал плечами Вездеходов, ступая в комнату. — Пусть милиция разбирается. Ясно одно — не могло это добро принадлежать Ефрему. Денежки, конечно, у него водились, но такая уйма золота ему и присниться не могла.
Наливайко опустился на краешек кровати, вздохнул, как бы собираясь с мыслями.
— Значит, так! — распорядился он, обращаясь к Тоньке. — Идите к Соловью и оставайтесь там. А я позвоню в райотдел, сообщу о находке.
Бездольная согласно кивнула и вышла из спальни, уводя за собой компанию хмурых мужиков.
— Подождите! — остановил их участковый. — Где водитель виновоза?
— У Вальки. Но он тут при чем? — удивленно спросил Вездеходов, повернувшись к Миколе. — Или ты думаешь, что это он запихнул золото в бочку с вином?
— Я не знаю, кто его туда запихивал, — мрачно процедил Микола. — Но думаю, что ювелирные изделия появились у Ефрема и Кузьки благодаря аварии, случившейся с виновозом.
— Глупости! — возразил завклубом. — Какая может быть связь между золотом и грузовиком?
— Не знаю! — выдохнул Наливайко. — Но нутром чую, что она есть.
Через час он — озабоченный и невеселый — появился в доме Самопалова. Там по-прежнему кутили.
— Дозвонился я в райотдел, — сообщил он, присаживаясь к столу. — Начальник на работе еще не появлялся, видимо, отдыхает. Заместитель пообещал организовать приезд оперативников. Но боюсь, что появятся они только завтра. Мне приказано позаботится о сохранности находки.
— Ты золото с собой принес, что ли? — поинтересовался Кукуйко, который в это время уже находился в рядах пирующих.
— Нет, — покачал головой Микола. — Оно в надежном месте.
Провонявшуюся винными парами и табачным дымом хату Соловья участковый оставил почти в полночь. Не смотря на дневной отдых и умеренный опохмел, его голова нестерпимо болела, а в груди пекло так, будто изнутри ее жгли раскаленным железом. Отмахнувшись от назойливых просьб пьяной Соньки остаться, Наливайко с нескрываемым беспокойством посмотрел на Барбацуцу и вышел из дома.
В окнах хаты Семена Дыбы горел свет. «Не спят хозяева, меня ожидают, — подумал Микола. — Надо хоть извиниться перед ними, ведь столько хлопот доставляю».
С этой мыслью он вошел в неосвещенную веранду и направился к двери в прихожую. Но вдруг перецепился о что-то и чуть не упал, больно стукнувшись о стену и без того гудящей головой.
— Мать твою за ногу! — тихо выругался участковый, склоняясь, чтобы рассмотреть предмет преткновения. И тут же отпрянул, подскочил к двери и стал горячечно шарить рукой по стене в поисках электровключателя. Наконец нашел, щелкнул — яркий свет мощной лампочки осветил веранду. Чувствуя, как холодеет душа, Наливайко резко оглянулся, быстрым взглядом окинул пол позади себя и помимо воли застонал: посреди веранды лицом вниз в лужице крови лежал в одних подштанниках Семен Дыба.
Проверять, жив тот или нет, участковый не стал. Он подхватил железный совок, валяющийся у порога прихожей, и, прижавшись плечом к стене, левой рукой стал медленно открывать дверь. Приоткрыв, несколько мгновений постоял, раздумывая. Затем рывком распахнул ее полностью и влетел в комнату. Никого.
Оглядевшись по сторонам, Микола совершенно бесшумно двинулся в сторону гостиной. Осторожно раздвинул шторы, прикрывавшие дверной проем, заглянул. На полу в разодранной ночной рубашке лежала тетка Маня. Ее руки и ноги были связаны обрывками простыни, из окровавленного рта торчал тряпичный кляп. Грудь женщины высоко и тяжело вздымалась. Глаза были плотно закрыты почерневшими веками. «Без памяти», — мелькнуло в голове участкового. И в этот миг тяжелый удар обрушился ему на спину. Сознание Наливайко враз помутилось. Пошатнувшись, он рухнул на одно колено. Второй удар, — видимо, ногой, — перебросил его через порог гостиной. Милиционер распластался на полу, уткнувшись носом в пятки тетки Мани. Третий удар пришелся по левому бедру. Острая боль, как ни странно, освежила затуманенную голову Миколы, и он, осознав вдруг, что все еще сжимает в руке совок, с силой взмахнул им. Раздался резкий вскрик. Еще взмах — опять вскрик и глухой шлепок о пол. В один миг вскочив на колени, Наливайко увидел перед собой выпученные глаза и перекошенный от ярости рот пытающегося встать на четвереньки крупного мужчины. Не раздумывая и не целясь, дважды ударил его совком.
Через минуту, крепко связанный по рукам и ногам шторами, нападавший лежал у двери гостиной и глухо стонал, а бледный, как полотно, участковый приводил в себя хозяйку дома. Когда она, наконец, очухалась и открыла глаза, он, измученный борьбой и болью, упал возле нее и отключился.
Рано утром в Кулички в том же составе опять прибыла опергруппа. Правда, на этот раз она долго не задержалась. Допросив тетку Маню, чудом выжившего Семена и еще нескольких человек, милиционеры уже через пару часов отправились обратно в райцентр.
Когда из хаты бригадира выводили в наручниках и с разбитым лицом Дерипаску, Лука вышел из толпы селян, собравшихся возле тракторов, доставивших оперативников в Кулички, и обратился к Федоренко:
— Хоть в двух словах объясните людям, что произошло. Успокойте нас, чтобы мы не боялись выходить по вечерам на улицу.
— Преступлений больше не будет! — бодро заверил начальник райотдела, улыбнувшись старику. И хотел, видимо, закончить на этом свое объяснение, зашагал было прочь, но Кукуйко догнал его и попридержал за рукав тулупа.
— Значит, то, что случилось у нас, это его рук дело? — спросил, кивая в сторону Дерипаски, стоявшего поодаль в окружении милиционеров.
— Его, — согласился Федоренко. — Версия такова: втайне от шофера задержанный Дерипаска спрятал в грузовике золотые изделия, хотел переправить их в Новозаводск. По дороге, как вы знаете, случилась авария, машина слетела с трассы. Ночью Дерипаска пошел к виновозу, чтобы забрать спрятанное. Но на месте его не оказалось. Тогда он заподозрил, что золото взяли отец и сын Цуцики. Ну, а дальше вы все знаете…
— Как же этот бандит смог столько беды натворить с одной рукой? — подал голос из толпы Гриць Горелый. — Ведь вторая-то у него сломана…
— Наскоком брал, неожиданностью, — пожимая плечами, молвил Федоренко. — Заходил в дом и сразу оглушал жертву, ударив чем-нибудь тяжелым по голове.
— Но откуда же у злодея столько золота? — не удержался от вопроса и скотник Михайло.
Начальник райотдела загадочно ухмыльнулся и, уже шагая к тракторам, на ходу бросил:
— Помните, как два месяца назад в Мурдянске ограбили ювелирный? — Затем, встав ногой на подножку одной из машин, прибавил: — Больше я вам ничего не скажу. Расходитесь по домам!
— Зачем забираете в райотдел водителя виновоза? — тихо спросила Валька Замумурка, выходя наперед из-за спин куличковцев.
Федоренко расслышал ее вопрос. Прежде, чем спрятаться в кабине трактора, он озорным глазом оглядел дородную молодку с ног до головы и, скаля зубы, пояснил:
— Мы не думаем, что водитель причастен к преступлениям, но задержать обязаны. Не волнуйтесь! Следствие все расставит по своим местам.
Эпилог
Гладко выбритый Лука в новом пиджаке, купленном прошлой осенью у заезжих торгашей, сидел у окна светелки и сквозь мутное стекло с оптимизмом глядел на Божий свет. На душе у старика пели соловьи. Пели звонко и разудало. И было от чего. Во-первых, час назад он выгодно продал новошахтинским заготовителям годовалого кабанчика, и теперь имел деньги, чтобы, наконец, купить телевизор взамен старого, с едва светящимся экраном. Во-вторых, сегодня с двенадцати часов дня в Куличках начинается праздник — Валька Замумурка и Степка Барбацуца по поводу заключения брака устраивают гулянку.
— Лизонька! — обратился Кукуйко к жене, с упоением копошащейся в старом шифоньере. — Поторопись, рассолодушка! Не то опоздаем.
— Лучше опоздать, чем пойти на смех людям! — отмахнулась Лизавета.
— Но ты уже три платья перемеряла — и все не так! — благодушно заметил Лука. — Чем тебе они не нравятся? Например, зеленое, которые ты в позапрошлом году у Ксеньки Мухи перекупила?
Лизавета от нахлынувшего на нее раздражения выронила из рук свою любимую васильковую кофту и, с силой хлопнув себя по широким, как у откормленной кобылы, бедрам, выдала:
— Ты, верно, сдурел, Лука! Куда ж то платье годится? Я же в нем толстая, как корова. Оно совсем талию скрывает!
— Талию скрывает! — незлобиво передразнил Лука свою старуху. И рявкнул: — Надевай, что Бог послал да пошли скоренько! Там уж, небось, за столы сели.
— Успеем! — отрезала Лизавета. — Пока не оденусь по-людски, никуда не пойдем!
Кукуйко только сокрушенно вздохнул.
А в Валькиной хате уже собралась изрядная компания. Мужики курили, сгрудившись в тесных сенцах, и весело болтали. Женщины носились из кухни в светелку — накрывали на столы. Сама Валька, нарядная, как королева, сидела перед трюмо и обновляла сносившийся за полдня макияж. В длинном кремовом платье, с высокой прической, она казалась неотразимой прелестницей. Даже скотник Михайло, признанный в Куличках ценитель женской красоты, увидев молодку, поцокал языком и восхищенно молвил:
— Телка, что надо, аппетитная!
А Соловей, зайдя в хату, остановился и, окинув взглядом Вальку с ног до головы, изрек:
— Ух ты! Какая мадам!
Счастливый Барбацуца, теперь уже супруг и глава семьи, обнимая свою мать, приехавшую ради такого дела из Мурдянска, во все глаза смотрел на жену и широко улыбался.
— Вишь, матушка, какую я себе красавицу нашел! — шепнул он ей и прибавил уже громко: — Валька у меня краше всех!
Жизнь продолжалась.
В небе над Куличками вовсю играло солнце, шаловливо разбрызгивая золотые струи. По улице с хрустальным звоном неслись ручейки талой воды. Кое-где под заборами и плетнями робко пробивались кустики изумрудной травы. Пахло парным молоком и теплым коровьим навозом.
Молодая весна хрупкой березкой стояла у Валькиного подворья и, воздев руки-ветви к солнцу, обласканная тихим южным ветерком, набиралась силы и зеленой радости. Покровительственно и величаво ей кивал своей большой черной головой старый клен, тихо нашептывая слова напутствия. Переполненные предчувствием праздника и счастья, взахлеб чирикали взволнованные воробьи.
Да здравствует весна! Да здравствует новая жизнь!
В Куличках начинался новый долгоиграющий праздник.
2004 год


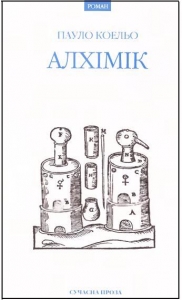

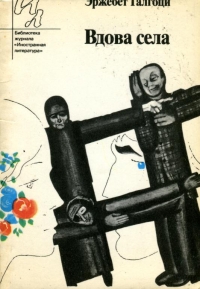


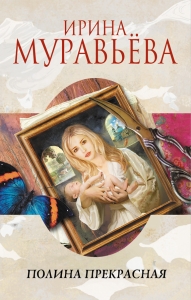


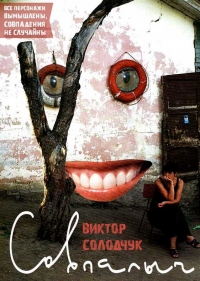
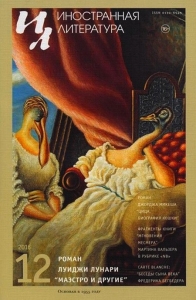
Комментарии к книге «День Святого Соловья», Виктор Иванович Песиголовец
Всего 0 комментариев