Луиза Эрдрич Круглый дом
Louise Erdrich
The round house
Copyright © 2012, Louise Erdrich
© О. Алякринский, перевод на русский язык, 2019
© Оформление. ООО «Издательствво „Эксмо“», 2019
Посвящается Паллас
Глава 1 1988 год[1]
Маленькие деревца атаковали родительский дом, прорастая прямо из фундамента. Это были тоненькие побеги с парой крепких здоровых листочков. Тем не менее юные стволы – а вернее сказать, стебли – умудрились пробиться сквозь узенькие прорехи между коричневыми дощечками декоративной обшивки шлакоблоков. Они превратились в незримую стену, и теперь их было трудно выкорчевать. Отец отер ладонью лоб и сквозь зубы костерил их упрямую живучесть. Я орудовал ржавой садовой вилкой с растрескавшейся ручкой, а он – длинной каминной кочергой, от которой вреда было, пожалуй, больше, чем пользы. Наобум взрыхляя землю в тех местах, где, по его разумению, могли таиться разросшиеся корневища, отец невольно пробивал удобные лазы для будущей поросли.
Когда мне удавалось выдрать из почвы тоненькое деревце, я клал его осторожно, точно военный трофей, на узкую бетонную дорожку, опоясывавшую дом. Среди моих трофеев были побеги ясеня, вяза, клена и даже разросшийся побег катальпы, который отец поставил в ведерко из-под мороженого и наполнил его водой в надежде, что позднее найдет, куда пересадить саженец. Мне казалось чудом, что этим деревцам удалось пережить суровую зиму Северной Дакоты. Воды им было, наверное, вдосталь, но вот света явно не хватало, да и почвы тоже. И все же каждое семечко умудрилось пустить вглубь густые корни и вытолкнуть на поверхность бесстрашный росток.
Отец выпрямился и потянулся, массируя затекшую спину.
– Ну, хватит, – произнес он, хотя обыкновенно старался добиваться в любом деле безукоризненного результата.
Мне же не хотелось останавливаться, и когда он ушел в дом, чтобы позвонить маме, которая уехала к себе в офис за какой-то папкой, я продолжал искать спрятавшиеся под землей корни. Отец долго не появлялся, и я уже решил, что он по привычке прилег вздремнуть. Вы, наверное, решили, что я бросил копаться в земле – ведь у тринадцатилетнего мальчишки есть дела и поважнее, но как бы не так. Солнце уже начало клониться к горизонту, и всю резервацию объяли тишина и покой, а я только-только проникся важностью задачи изничтожить всех без исключения непрошеных гостей и выдрать каждого с корнем, где скопилась их жизненная сила. И, кроме того, мне казалось важным как можно тщательнее сделать эту работу – в отличие от прочих своих домашних обязанностей, которые я выполнял спустя рукава. Даже сейчас меня поражает степень моего усердия. Я всаживал вилку в землю как можно ближе к тоненькому побегу. Каждое деревце требовало особого обращения: нельзя было сломать растение в процессе извлечения его корневища, крепко засевшего в подземном убежище и не желавшего поддаваться.
Наконец я закончил, тихонько зашел в дом и проскользнул в отцовский кабинет. Взял с полки книгу по юриспруденции, которую отец именовал не иначе как «библией»: «Справочник федерального законодательства об индейцах» Феликса С. Коэна. Моему отцу эту книгу подарил его отец. Рыже-красный переплет был весь исцарапан, длинный корешок потрескался, и все страницы испещрены рукописными пометками. Я читал ее, стараясь привыкнуть к старомодному языку и нескончаемым сноскам. На странице 38 то ли отец, то ли дедушка поставил большой восклицательный знак около выделенного курсивом описания дела, которое, естественно, и меня заинтересовало: «Соединенные Штаты против сорока трех галлонов виски». Наверное, кому-то из них такое название показалось забавным – и мне тоже! Тем не менее я задумался над мыслью, высказанной в других тяжбах и особенно ярко прозвучавшей именно в этом деле: что все наши договоры с правительством похожи на договоры с иностранными государствами. И что величие и сила, о которых мне говорил мой дед Мушум[2], не совсем утрачены, поскольку, пускай и в некоторой степени, они все еще находятся под защитой закона.
Я сидел на кухне, читал и потягивал холодную воду из стакана, когда еще не вполне проснувшийся отец вошел, зевнул и сонно поглядел на меня. При всей своей важности «Справочник» Коэна был не слишком тяжелым, и когда отец подошел поближе, я быстренько убрал книгу под стол и положил на колени. Отец облизнул пересохшие губы и стал озираться то ли в поисках чего-то съестного, то ли надеясь услышать звяканье чайника, или звон стаканов, или звук шагов. Меня удивил его вопрос, хотя, на первый взгляд, ничего в нем не было необычного.
– А где мама? – как бы невзначай произнес он севшим голосом.
Я переложил книгу на соседний стул, встал и дал ему стакан воды. Отец в один присест его выпил. Он не повторил свой вопрос, но мы стояли и, мне показалось, смотрели друг на друга как двое взрослых – словно он вдруг понял, что, читая его справочник по законодательству, я приобщился к его миру. Он сверлил меня взглядом, пока я не отвел глаза. Мне вообще-то уже исполнилось тринадцать. А две недели назад было только двенадцать.
– Может, на работе? – сказал я, стараясь не смотреть на него. Я предположил, что ему прекрасно известно, где мама, что он это выяснил, когда позвонил ей. Я знал, что она поехала к себе в офис, но не поработать. Поговорив с кем-то по телефону, она сказала, что ей нужно съездить забрать какие-то папки. Мама была специалистом по вопросам членства в племени[3] и сейчас, скорее всего, корпела над какой-то петицией, которую ей передали. Вообще-то она возглавляла управление, в котором была единственным сотрудником. В тот день было воскресенье – вот почему в резервации стояла такая тишина. Обычно по воскресеньям ближе к вечеру жизнь у нас замирала. Даже если бы мама из офиса отправилась в гости к своей сестре Клеменс, она бы давно уже вернулась домой готовить ужин. Мы с отцом это знали. Женщины и не догадываются, как много мужчины узнают о них из регулярности их привычек. Мы автоматически фиксируем их приходы и уходы, настраиваемся на их ритмы. Наш пульс синхронизируется с их пульсом, и вот теперь, как и всегда днем по выходным, мы с отцом уже настроились на то, что по маминой отмашке наши внутренние часы начнут отмерять наступление вечера.
То есть, сами понимаете, ее отсутствие остановило бег времени.
– И что же нам делать? – не сговариваясь, одновременно произнесли мы, и мне стало тревожно. По крайней мере, отец, видя, как я оробел, взял инициативу на себя.
– Надо ее найти, – сказал он.
Надевая куртку, я радовался, что он проявил такую решительность: «найти», а не просто «поискать». Поедем и найдем ее!
– У нее лопнула шина, – объявил он. – Скорее всего, мама решила кого-то подбросить до дома и напоролась на гвоздь. Дурацкие дороги! Пошли, одолжим у дяди машину и найдем ее.
Вот опять – «найдем ее». Я еле поспевал за ним. Он двигался быстро, и в нем снова ощущалась сила.
Отец в жизни все делал с опозданием – стал адвокатом, потом судьей, потом женился, уже будучи в летах. Думаю, для мамы было неожиданностью, что я появился на свет. Мой старый дед Мушум называл меня Упс. Такое он для меня придумал прозвище. К сожалению, все в нашей большой семье считали это прозвище смешным. И до сих пор меня иногда называют Упс. Мы спустились с холма к дому моих тети и дяди – бледно-зеленому коттеджу, построенному в рамках государственной жилищной программы. Коттедж был обсажен тополями и тремя голубыми елочками, придававшими ему благообразный вид. Там же обитал и Мушум, словно в тумане безвременья. Мы все гордились его рекордным долголетием. Он был хоть и древний, но еще вовсю обихаживал дворик перед коттеджем. Каждый день, покончив с физическими упражнениями на воздухе, он располагался отдохнуть на раскладушке под окном в гостиной и лежал на ней как бревно, подремывая и временами издавая короткое тарахтение – наверное, смешок.
Когда отец сообщил тете Клеменс и дяде Эдварду, что мама проколола шину и нам нужна их машина, – причем таким тоном, как будто обладал точной информацией об этой мифической проколотой шине, – я чуть не расхохотался. Он, похоже, убедил себя в правдивости своей выдумки.
В дядином «шевроле» мы вернулись по проселочной дороге на шоссе и поехали прямиком к зданию администрации племени. Объехали вокруг парковки. Пусто. В здании все окна темные. Отъехав от администрации, свернули направо.
– Уверен: она поехала в Хупдэнс, – заявил отец. – Купить в супермаркете чего-нибудь на ужин. Может, она решила нам сделать сюрприз, а, Джо?
Я в семье второй Энтон Бэзил Куттс, но я бы дал в глаз любому, кто бы добавил к моему имени «младший», или порядковый номер, или назвал бы меня Бэзилом. Когда мне исполнилось шесть лет, я решил, что буду Джо. А в восемь осознал, что выбрал имя своего прадеда Джозефа. О нем я знал главным образом то, что он делал пометки на полях книг с янтарными страницами и иссохшими кожаными переплетами. После него сохранилось несколько полок с этими древними изданиями. Мне было неприятно, что я не обладаю нестандартным именем, которое как-то выделяло бы меня в скучной череде Куттсов – ответственных, бесстрашных, можно даже сказать, беспечно героических мужчин, которые втихаря выпивали, но без разгула, выкуривали сигару-другую, ездили на надежных автомобилях и выказывали свой норов, беря замуж женщин смышленее себя. Я же в собственном представлении был совсем иным, хотя и не понимал до конца, в чем именно. Даже когда, смиряя тревогу, мы поехали искать маму, вероятно, поехавшую в местный супермаркет – ну а куда же еще она могла деться? – я понимал, что все происходящее относится к разряду чего-то нестандартного. Пропавшая мать. Такое не может произойти с сыном судьи, даже если он живет в индейской резервации. Во мне теплилась смутная надежда, что должно случиться нечто необычное.
Я был мальчишкой, который весь воскресный день провел, выкорчевывая молодые деревца из фундамента родительского дома. И мне следовало смириться с очевидной истиной: вот кем мне, в итоге, и суждено стать, но я не хотел смиряться. Я сопротивлялся, как мог. И все же, хоть мне и хотелось тогда, чтобы произошло нечто необычное, я не имею в виду ничего плохого – просто что-то непредвиденное! Редкое событие. Никогда ранее не наблюдавшееся. Типа выигрыша в лото, хотя по воскресеньям у нас в лото не играют, да и не в мамином характере было играть в лото. Но именно чего-то такого мне и хотелось – чего-то из ряда вон выходящего. Не более того.
На полпути к Хупдэнсу мне пришло в голову, что супермаркет по воскресеньям закрыт.
Ну, конечно! Отцовский подбородок закаменел, руки крепко сжимали руль. В профиль он был вылитый индеец с киноафиши или отчеканенный на древней монете римский император. Его тяжелый, похожий на клюв нос и выпяченный подбородок излучали классический стоицизм. Он поехал прямиком в город, потому что, по его словам, она попросту могла забыть, что сегодня воскресенье. И тут мы заметили ее машину на шоссе. А за рулем – мама! Она мчалась по встречной полосе, явно превышая лимит скорости, торопясь поскорее вернуться домой, к нам. Но вот же мы! Мы засмеялись при виде ее напряженного лица, развернулись и устремились за ней вдогонку, глотая пыль из-под ее колес.
– Да она не в себе! – смеясь, сказал отец. У него явно отлегло от сердца. – Ну, видишь, что я тебе говорил! Она просто забыла! Поехала в магазин, позабыв, что он сегодня закрыт. Вот и осерчала, что зря потратила бензин. Ох, Джеральдин!
В его голосе, когда он это произнес: «Ох, Джеральдин!» – слышались радость, любовь и изумление. Вот из этих двух слов сразу становилось понятно, что мой отец всегда любил маму и сейчас любит. Он никогда не переставал испытывать к ней чувство благодарности за то, что она вышла за него, а потом еще и подарила ему сына, когда он уже не сомневался, что на нем завершится его род.
«Ох, Джеральдин!»
Он всю дорогу мотал головой и улыбался, радуясь, что все в порядке, даже больше, чем просто в порядке. Но теперь-то мы могли признаться себе, что нас сильно встревожило необъяснимое мамино исчезновение. С ней такого никогда не случалось. Эти переживания заставили нас по-новому осознать всю, можно сказать, святую ценность повседневных ритуалов нашей жизни. И хотя в боковом зеркале отражалось лицо паренька, мечтающего вырваться из оков родительской опеки, в глубине души он, то есть я, тоже ценил эти простые удовольствия.
Теперь настал наш черед заставить ее всполошиться. Ну хотя бы чуточку, заметил отец, просто чтобы она сама почувствовала горечь наших треволнений. Мы не спеша доехали до дома тети Клеменс, оставили машину и зашагали вверх по холму, предвкушая раздраженный мамин вопрос:
– Ну и где вас носило?
Я прямо представил себе, как она стоит, уперев руки в боки, но за ее хмурым взглядом таится улыбка, готовая вот-вот озарить лицо. Конечно, она посмеется, услышав от нас всю историю с самого начала.
Мы шли по щебеночной дорожке к дому. Рядом с ней мама высадила ровным рядком анютины глазки, которые выращивала в картонных коробках из-под молока. Она высадила их ранней весной. Это были единственные цветы, способные выдержать заморозки. Подойдя к дому, мы увидели, что мама так и сидит в машине перед закрытой гаражной дверью. По положению ее тела я сразу понял: что-то с ней не так – она сидела неподвижно, точно закаменела на водительском сиденье. И тут отец побежал. Добежав до машины, он распахнул левую переднюю дверцу. Ее руки сжимали руль, и она смотрела прямо перед собой невидящим взглядом – тот же взгляд я заметил на ее лице, когда она промчалась мимо нас на шоссе в противоположную от города сторону. Тогда, заметив ее застывшее лицо, мы рассмеялись. Ну, ясное дело: она злилась, что зря сожгла бензин!
Я поспешил за отцом. Осторожно ступая, чтобы не помять фигурные листочки и бутончики анютиных глазок, отец взял маму за руки и, осторожно разжав ее пальцы, отнял от руля. Потом обнял за локти, помог подняться с сиденья и поддержал, а она подалась к нему, полусогнувшись в поясе, в той же позе, в какой сидела за рулем. Мама бессильно припала к нему на грудь, не глядя на меня. Верх ее платья был запачкан блевотиной, а по всей юбке и по серой обивке сиденья расползлась ее темная кровь.
– Беги к Клеменс, – велел отец. – Беги к ним и скажи, что я везу мать в город, в отделение скорой помощи. Пусть они едут в больницу!
Одной рукой он открыл заднюю дверцу, а потом, словно двигаясь в каком-то жутком танце, подвел маму к заднему сиденью и бережно положил на спину. Потом помог ей повернуться на бок. Она не проронила ни звука, только облизнула кончиком языка потрескавшиеся окровавленные губы. Я видел, как она моргнула, потом нахмурилась. Ее лицо начало опухать. Я обошел машину вокруг и сел на заднее сиденье рядом. Я приподнял ее голову и опустил себе на колено. Я положил руку ей на плечо. Ее мерно потрясывало, словно где-то в глубине ее тела был включен крохотный моторчик. От нее сильно пахло – блевотиной и чем-то еще, не то бензином, не то керосином.
– Я тебя высажу около их дома, – проговорил отец, резко сдавая назад, так что шины завизжали.
– Нет, я поеду с вами. Мне надо ее держать. Мы им позвоним из больницы.
До этого дня я почти никогда не возражал отцу, ни словом, ни делом. И мы даже не заметили, что я сейчас его ослушался. Мы уже смотрели друг на друга этим странным взглядом, словно двое взрослых мужчин, к чему я еще не совсем был готов. Но в тот момент это не имело значения. Я крепко обнимал маму, и ее кровь струилась по моей коже. Я дотянулся до багажной полки под задним окном и сдернул оттуда старенькое лоскутное одеяло, которое всегда там лежало. Маму так трясло, что я даже испугался, как бы она не рассыпалась.
– Скорее, пап!
– Да, – кивнул он.
И мы понеслись. Стрелка спидометра доползла до девяноста миль. Мы буквально летели.
Иногда голос моего отца гремел как гром. Знавшие его вспоминали, что он специально тренировался, чтобы говорить так громоподобно. В юности у него был совсем не такой голос, но ведь ему приходилось выступать в зале суда. И вот теперь его громоподобный голос заставил дрожать стекла в приемном покое. Как только санитары положили маму на каталку, отец отправил меня звонить тете Клеменс и ждать ее в холле. Теперь, когда его гнев заполнил все пространство отделения скорой помощи, а его голос звучал оглушительно и четко, я успокоился. Что бы ни произошло с мамой, все можно будет исправить. Потому что отец был разъярен. Он редко проявлял ярость – но всегда с нужным ему результатом. Он держал маму за руку, когда ее везли на каталке в отделение скорой помощи. За ними закрылись двери.
Я сидел в кресле из гнутого оранжевого пластика. Тощая беременная прошла мимо распахнутой дверцы нашей машины, с любопытством проводила взглядом каталку с мамой, потом записалась у дежурной сестры, плюхнулась напротив меня рядом с молчаливой старушкой со спицами и схватила со столика зачитанный журнал «Пипл».
– Разве у вас, индейцев, тут нет своей больницы? – сварливо спросила она. – Вы же вроде строите новую?
– Отделение скорой помощи еще не закончено, – объяснил я.
– И все же… – начала она.
– Все же что? – Я постарался произнести эти слова с вызовом и издевкой.
Я никогда не вел себя как другие индейские мальчишки, которые даже в гневе опускали глаза и затыкались. Но мама научила меня вести себя иначе.
Беременная поджала губы и уткнулась в свой журнал.
Старушка молча вывязывала большой палец варежки. Я подошел к телефону-автомату, но денег у меня не оказалось, и я, отправившись к стойке дежурной сестры, попросил разрешения позвонить с ее телефона. Мы все жили недалеко от больницы, и звонок был местный, поэтому сестра разрешила. Но трубку в доме тети Клеменс никто не взял. Я понял, что она потащила дядю Эдварда в церковь к святому причастию, как это обыкновенно бывало в воскресные вечера. По его словам, пока Клеменс причащалась, он медитировал о том, как же так получилось, что процесс превращения обезьян в людей завершился ритуалом, в котором люди разевали рты, чтобы откусить кусок белого крекера. Дядя Эдвард преподавал естествознание.
Я вернулся в приемный покой и сел как можно дальше от беременной тетки, но помещение было слишком маленьким, так что отдалиться от нее мне не удалось. Она листала журнал. На обложке была фотография Шер. Я смог прочитать слова под подбородком у Шер: «Благодаря ей „Во власти луны“[4] стала мегахитом, ее любовнику 23 года, и она настолько крута, что может сказать: „Свяжешься со мной – и я тебя убью!“» Но Шер вовсе не выглядела крутой. Она была похожа на удивленную целлулоидную куклу. Костлявая брюхатая тетка скользнула взглядом по Шер и обратилась к старушке с вязанием:
– Похоже, у этой бедняжки был выкидыш, а может… – тут она добавила насмешливую интонацию, – …ее изнасиловали?
Она взглянула на меня, и ее губа вздернулась вверх, обнажив кроличьи зубы. Ее немытые соломенные волосы качнулись. Я поглядел на нее в упор, прямо в ее карие глаза без малейшего намека на ресницы. И потом я вдруг инстинктивно совершил нечто странное. Я встал, подошел к ней и вырвал из рук журнал. Не сводя с нее глаз, я отодрал обложку и бросил журнал на столик. Я разорвал обложку пополам, разделив симметричные брови Шер. Старушка с вязанием сморщила губы, считая про себя петли. Я отдал беременной разорванную обложку. Она ее безропотно взяла. Потом мне вдруг стало жалко Шер. Что плохого она мне сделала? Я встал и вышел за дверь.
Я стоял на улице. Сюда доносился голос беременной – громкий, торжествующий: она жаловалась сестре. Солнце почти село, стало прохладно. С наступлением сумерек и меня незаметно охватил холодок. Я начал подпрыгивать и размахивать руками. Мне было все равно. Я не собирался туда возвращаться, пока там сидела беременная или пока не вышел отец и не сказал, что с мамой все в порядке. Но я не мог не думать о том, что сказала эта тетка. Произнесенные ею два слова больно ранили мои мысли, чего она и добивалась.
Выкидыш. Слово, значение которого я не вполне понимал, но знал, что оно имеет отношение к младенцам. Но это, я знал, было невозможно. Мама сказала мне еще шесть лет назад, когда я донимал ее просьбами о братике, что врач сделал так, что после меня у нее никогда бы не было детей. Этого просто не могло быть, так что оставалось второе слово.
Через некоторое время я увидел, как дежурная сестра заводит беременную тетку в отделение скорой помощи. Я понадеялся, что ее не положат рядом с мамой. Я вернулся в помещение и снова набрал номер тети. Она сняла трубку и сказала, что оставит Эдварда присмотреть за Мушумом, а сама приедет в больницу. И еще она спросила, что случилось, – и зря.
– У мамы кровотечение, – ответил я. Тут у меня возник комок в горле, и я не смог больше сказать ни слова.
– Она ранена? Она попала в аварию?
Я с трудом выдавил, что не знаю, и тетя Клеменс дала отбой. Из отделения скорой помощи вышла медсестра и с бесстрастным лицом пригласила меня к маме. Сестра явно не одобряла желание мамы повидаться со мной. Она настаивает, уточнила сестра. Мне захотелось броситься туда бегом, но я сдержался и проследовал за ней через ярко освещенный холл в бокс – комнатушку без окон, заставленную металлическими зелеными шкафами со стеклянными дверцами. В боксе царил полумрак. Маму переодели в тонкий больничный халат. Ноги обернуты простыней. Крови не видно. Отец стоял у кровати, положив руку на металлическую перекладину изголовья. Сначала я на него даже не взглянул – я смотрел на нее. Моя мама была красивая женщина – это я всегда знал. Это считалось неоспоримым фактом и среди родственников, и среди чужих. У нее, как и у тети Клеменс, кожа была цвета кофе со сливками, блестящие черные локоны. Обе они не располнели даже после родов. Обе были спокойные и сердобольные, у обеих были внимательные глаза и пухлые голливудские губы. Но когда им в рот попадала смешинка, с них спадала пелена благородной серьезности, и они начинали хохотать, как безумные, прихрюкивая, икая и фыркая, даже попукивая, что вызывало у них просто истерические приступы смеха. Они любили доводить друг дружку до таких припадков, но иногда и отец мог насмешить их до колик. Даже в такие минуты они все равно оставались красавицами.
Теперь я увидел, что мамино лицо все исцарапано и раздулось, превратившись в уродливую маску. Она смотрела на меня сквозь щелочки опухших век.
– Что случилось? – задал я дурацкий вопрос.
Мама не ответила. Из уголков ее глаз текли слезы, и она утирала их перебинтованным кулаком.
– Я в порядке, Джо. Сам погляди. Видишь?
И я поглядел на нее. Но она совсем была не в порядке. Ее лицо, покрытое ссадинами от ударов, было жутко перекошенным. Кожа утратила обычный смуглый цвет, стала пепельно-серой. На губах запеклась кровь. Вошла сестра и рычагом подняла изножье кровати. Положила на маму еще одно одеяло. Я склонил голову и подался к ней. Я попытался было погладить ее перебинтованную руку и холодные сухие пальцы. Мамина реакция меня ужаснула. Она вскрикнула и отдернула руку, словно я мог сделать ей больно, потом замерла и прикрыла глаза.
Я взглянул на отца – тот поманил меня к себе. Он обнял меня и выпроводил из комнатушки в коридор.
– Мама не в порядке, – заметил я.
Он посмотрел сначала на часы, затем на меня. На его лице застыло выражение скрытой ярости – как у человека, который слишком медленно соображал.
– Она не в порядке, – повторил я, словно хотел донести до него сделанное мной тревожное открытие. И в какое-то мгновение мне почудилось, что его сейчас прорвет. Я увидел, как что-то набрякает, поднимается в его душе, но он сдержался, глубоко выдохнул и взял себя в руки.
– Джо… – Он снова украдкой бросил взгляд на часы. – Джо, мама подверглась нападению.
Мы стояли в коридоре под зудящими и подмигивающими лампами дневного света. И я выговорил первое, что пришло мне в голову:
– Кто? Кто подвергнул ее нападению?
Чудно, мы оба осознали, что в другой ситуации первой реакцией отца было бы поправить мою грамматику. Мы глядели друг на друга, но он ничего не сказал.
У моего отца голова, шея и плечи высокого сильного мужчины, а все остальное тело – самое обыкновенное. Даже можно сказать, немного неуклюжее и вялое. Но если подумать, то такое телосложение вполне подходит судье. Восседая на скамье, он выглядел весьма импозантно, зато когда беседовал у себя в судейской комнате (вернее, в облагороженном чулане), то совсем не казался грозным, и люди ему верили. Его голос мог не только греметь как гром, но и выражать разные нюансы эмоций, а порой мог быть очень мягким и тихим. И вот теперь меня испугал этот его мягкий тихий голос – почти шепот.
– Она не знает, кто на нее напал, Джо.
– Но мы же его найдем? – Я тоже перешел на шепот.
– Мы его найдем, – сказал отец.
– И что потом?
Отец никогда не брился по воскресеньям, и к концу дня у него на подбородке всегда вылезала поросль седых щетинок. И я заметил, как в нем опять что-то заклокотало, готовое вот-вот вырваться наружу. Но вместо этого он положил мне руки на плечи и произнес тем же сдавленным шепотом, который так меня напугал.
– Сейчас я не могу так далеко загадывать.
Я положил ладони на его руки и заглянул ему в глаза. В его умиротворяющие карие глаза. Мне хотелось быть уверенным, что, кто бы ни напал на маму, его обязательно найдут, осудят и убьют. Отец прочитал это желание в моем взгляде. Его пальцы впились в мои плечи.
– Мы поймаем его, – быстро произнес я. И когда я это выговорил, меня объял страх, голова закружилась.
– Да!
Он убрал руки с моих плеч.
– Да, – повторил он. Потом постучал ногтем по циферблату часов и закусил губу. – Теперь, если приедет полиция, им потребуется заявление. Они уже, наверное, приехали.
Он повернулся с намерением вернуться в бокс.
– А какая полиция? – спросил я.
– То-то и оно! – отозвался он.
Сестра не хотела впускать нас в бокс, и пока мы стояли под дверью, приехали полицейские. Их было трое. Они вошли в двери отделения скорой помощи и молча встали в холле. Один был из полиции штата, другой – из городской полиции Хупдэнса, и еще Винс Мэдвезин, из полиции племени. Отец настоял, чтобы каждый взял у мамы заявление, потому что было не совсем ясно, в какой юрисдикции совершено преступление: на земле штата или на земле племени, – и кто его совершил: индеец или нет. Я уже примерно знал, что такие вопросы будут крутиться вокруг фактов. И еще я знал, что эти вопросы не изменят фактов. Но они непременно изменят тактику наших усилий в поисках правосудия. Отец сжал мое плечо и направился к полицейским. Я остался у стены. Все полицейские были выше отца. Но они его знали и чуть нагнулись, чтобы получше расслышать его слова. Они слушали его очень внимательно, не спуская с него глаз. Он говорил, сцепив руки за спиной и время от времени глядя себе под ноги. Он бросал на каждого из них взгляд исподлобья и снова смотрел в пол.
Каждый полицейский входил в бокс с записной книжкой и ручкой и выходил оттуда минут через пятнадцать с ничего не выражающим лицом. Потом они пожали отцу руку и быстро удалились.
В тот день дежурил молодой доктор по фамилии Эгги. Это он осматривал маму. Когда мы с отцом вошли к маме в бокс, доктор Эгги уже был там.
– Я бы не рекомендовал мальчику… – начал доктор.
Мне показалось забавным, что его лысеющая округлая голова напоминала яйцо, словно оправдывая его фамилию[5]. Его овальное лицо, спрятанное за черными колесиками очков, выглядело знакомым, и я вспомнил, что именно такие смешные лица мама обычно рисовала на скорлупе вареных яиц, заставляя меня их есть.
– Моя жена снова хочет видеть Джо, – объяснил отец доктору Эгги. – Ей хочется, чтобы он убедился, что она в порядке.
Доктор Эгги молчал. Он только бросил на отца пронзительный строгий взгляд. Отец отступил от доктора Эгги и попросил меня сходить в приемный покой посмотреть, не подъехала ли тетя Клеменс.
– Я бы хотел повидать маму.
– Я за тобой приду, – строго ответил отец. – Иди!
Доктор Эгги смотрел на отца еще более суровым взглядом. Я отвернулся от них, сгорая от строптивого нежелания уходить. Доктор Эгги и отец, тихо переговариваясь, пошли прочь. Мне жутко не хотелось никуда идти, поэтому я стоял и смотрел им вслед. Они остановились перед дверью в мамин бокс. Доктор Эгги перестал говорить и пальцем поднял съехавшие очки на переносицу. Отец шагнул к стене с таким видом, словно собрался пройти сквозь нее. Он прижал лоб и ладони к стене и замер, закрыв глаза.
Доктор Эгги обернулся и заметил меня в дверях. Он молча ткнул пальцем в сторону приемного покоя. Ты еще слишком мал, говорил его жест, чтобы лицезреть переживания отца. Но в последние несколько часов я все упрямее противился авторитету взрослых. Вместо того, чтобы вежливо скрыться с глаз долой, я подбежал к отцу, отстранив доктора Эгги. Я сунул руки под пиджак отца и обхватил руками его мягкий торс, сильно прижался к нему, да так и остался стоять молча, дыша в унисон с ним, всхлипывая и ловя губами большие глотки воздуха.
Много позднее, когда я уже сам стал юристом, вернулся в родной город и изучил все документы, какие только смог найти, каждое заявление и заново пережил каждый момент того дня и последующих дней, я понял: вот когда доктор Эгги рассказал отцу во всех подробностях о серьезности увечий, нанесенных маме. Но после того, как тетя Клеменс отвела меня в сторону, мое внимание привлек только заметный уклон пола в холле. Я вышел за двери отделения скорой помощи, оставив тетю Клеменс наедине с отцом. После того, как я просидел полчаса, не меньше, в приемном покое, пришла тетя Клеменс и сообщила, что маму повезли на операцию. Она взяла меня за руку. Мы сидели вместе, глазея на картину, изображающую женщину времен освоения Дикого Запада на склоне холма под палящим солнцем и лежащего рядом с ней под черным зонтиком младенца. Мы с тетей пришли к выводу, что картина – дурацкая, и мы ее теперь активно ненавидели, хотя картина была в этом не виновата.
– Я тебя заберу к нам, поспишь в комнате Джозефа, – сказала тетя Клеменс. – И в школу завтра поедешь от нас. А я сюда вернусь и подожду результатов.
Я был вымотан, голова раскалывалась, но я поглядел на нее, как будто она спятила. Потому что только спятившая могла подумать, что я завтра отправлюсь в школу. Теперь о нормальной жизни можно было забыть. И коридор отделения скорой помощи, который шел под уклон, утыкался в приемный покой, где я и буду ждать.
– Ну хоть тут поспи, – сказала тетя Клеменс. – Тебе не повредит немного поспать. Так и время пройдет, и не надо будет пялиться на эту дурацкую картину.
– Это было изнасилование? – спросил я.
– Да, – коротко ответила она.
– Было еще что-то, – сказал я.
В нашей семье ничего не скрывали. Будучи католичкой, моя тетя была не из тех, кто изъяснялся эвфемизмами. Отвечая на мой вопрос, она заговорила спокойно и торопливо.
– Изнасилование – это принуждение к сексу. Мужчина может принудить женщину к сексу. Вот это и произошло.
Я кивнул. Но мне хотелось узнать еще кое-что.
– А она умрет от этого?
– Нет, – не задумываясь, ответила тетя Клеменс. – Она не умрет. Но иногда… – Она закусила губы, так что они вытянулись в скорбную линию, и покосилась на картину. -…возникают осложнения, – подумав, закончила она фразу. – Ты же видел, что ей плохо? Ей очень больно. – Тетя Клеменс тронула свою щеку, слегка подрумяненную и напудренную перед походом в церковь.
– Да, видел.
Наши глаза наполнились слезами, и мы отвернулись друг от друга, и я стал смотреть на ее сумочку, куда она сунула руку в поисках бумажной салфетки. Мы поплакали немного, потом она достала упаковку салфеток. Ну наконец-то… Мы утерли слезы, и тетя Клеменс продолжала:
– Иногда это бывает очень жестоко, с применением физической силы.
«Жестоко изнасиловали», – подумал я.
Я знал, что эти два слова часто употребляют вместе. Наверное, я их видел в каком-то отчете о судебном процессе, прочитанном мной в одной из отцовских книг, или в газетной статье, или в дешевом детективчике, который я нашел у дяди Уайти на его самодельной книжной полке.
– Бензин, – сказал я. – Я его учуял. Почему от нее пахло бензином? Она что, ездила на заправку дяди Уайти?
Тетя Клеменс вытаращилась на меня. Бумажная салфетка застыла около ее носа, и ее кожа стала цвета застарелого снега. Она вдруг согнулась и ткнулась головой в свои колени.
– Со мной все хорошо, – произнесла она сквозь бумажную салфетку. Ее голос звучал нормально, даже равнодушно. – Не беспокойся, Джо. Мне показалось, что я вот-вот упаду в обморок. Но все прошло.
Собравшись с силами, она встала и похлопала меня по руке. Больше я ее о бензине не спрашивал.
Я заснул на пластиковой кушетке, и кто-то укрыл меня больничным одеялом. Во сне я вспотел, и, когда проснулся, моя щека и локоть приклеились к пластику. Я с трудом отклеился – этот процесс сопровождался неприятными ощущениями, – и привстал на локте.
В противоположном углу доктор Эгги беседовал с тетей Клеменс. Я сразу понял, что дела идут неплохо, что мама пошла на поправку, что операция прошла успешно, и как бы ужасно ни было то, что случилось, теперь-то хуже не будет. Поэтому я прижал лицо к липкому зеленому пластику кушетки, который уже не вызывал у меня неприятного ощущения, и снова уснул.
Глава 2 Одинокие среди нас
В детстве у меня было три друга. С двумя я до сих пор дружу. А от третьего остался белый крест на шоссе у границы штата Монтана. То есть я хочу сказать, там место его физической кончины, а что касается его духа, то я ношу его с собой в виде черного круглого камешка. Он подарил его мне, когда узнал, что произошло с мамой. Его звали Верджил Лафурнэ, или Каппи. Он уверял меня, что нашел этот камешек на земле возле ствола расщепленного молнией дерева и что этот камень – священный. Он называл его яйцом буревестника. Каппи дал его мне в тот день, когда я вернулся в школу. И всякий раз, ловя на себе сочувственный или любопытствующий взгляд одноклассника или учителя, я трогал подарок Каппи.
Прошло пять дней с тех пор, как мы нашли маму в машине на подъездной дорожке. Я отказывался ходить в школу, пока она не вернется из больницы. А она торопилась выписаться и обрадовалась, оказавшись дома. В то утро она попрощалась со мной из кровати в их с отцом спальне на втором этаже.
– Каппи и другие друзья тебя уж заждались, – заметила она.
Мне пришлось снова пойти в школу, хотя до летних каникул оставалось всего две недели с небольшим.
«Когда мне станет получше, – пообещала мама, – я испеку пирог и сделаю вам сэндвичи с мясным фаршем». Ей всегда нравилось нас кормить.
Другими моими школьными друзьями были Зак Пис и Энгус Кэшпо. В те дни мы четверо старались почаще держаться вместе, хотя все знали, что мы с Каппи неразлейвода. Мать Каппи умерла, когда он еще был маленьким, и обрекла его старшего брата Рэндалла и их отца Доу Лафурнэ на новую жизнь, которая быстро превратилась в неуютное существование в холостяцком доме без женского пригляда. Хотя Доу время от времени заводил себе подружек, второй раз он так и не женился. Он работал уборщиком в управлении резервации, иногда выполняя обязанности председателя племени. Когда его первый раз выбрали на эту должность в 1960-х, он стал получать приличное жалованье, что позволило ему продолжать работать уборщиком на полставки. А когда ему надоело быть председателем, он решил не переизбираться и стал подрабатывать еще и ночным сторожем. В семидесятые годы федеральное правительство начало финансировать органы индейского самоуправления, и наше племя самостоятельно занялось организацией повседневной жизни. Доу по-прежнему время от времени выполнял обязанности председателя. То есть люди избирали Доу председателем, когда им надоедал бывший на тот момент председатель. Но как только Доу вступал в должность, начинались дрязги, обмен жалобами, на полную катушку запускалась машина сплетен – словом, вся та неизбежная возня, без которой не обходится политическая жизнь резервации и которая всегда является уделом каждого, кто возносится слишком высоко и привлекает слишком пристальное общественное внимание. Когда Доу от интриг становилось совсем невмоготу, он отказывался баллотироваться на новый срок. Он собирал в офисе председателя личные вещи, включая официальные бланки и конверты, которые он заказывал в типографии за свой счет: Доу Лафурнэ, председатель племени. В течение многих лет в доме у Каппи не переводилась бумага для рисования. Но преемник Доу предсказуемо становился жертвой точно такого же обращения. И, разумеется, рано или поздно, жалобщики и интриганы из числа избирателей Доу обрабатывали его так, что он терял терпение и снова выставлял свою кандидатуру на очередных выборах. В 1988 году Доу как раз находился в добровольной отставке и частенько рыбачил с нами. Мы половину зимы проводили в рыбацкой хижине у Доу, скрываясь от северного ветра и тайком попивая пивко.
В тот год родители Зака Писа расстались во второй раз. Его отец Корвин Пис был музыкантом и вечно пропадал на гастролях. Его мать Карлин Тандер издавала газету племени. А отчим Винс Мэдвезин служил в полиции племени, и именно он опрашивал маму после изнасилования. Зак был почти на десять лет старше своих младших братишки и сестренки, потому что его родители первый раз поженились в совсем юном возрасте, потом развелись, а потом решили предпринять новую попытку создать семью и быстро поняли, что правильно сделали, когда развелись в первый раз. У Зака был музыкальный талант, в этом он пошел в отца, и он нередко приносил в хижину гитару. Он уверял, что знает тысячу песен.
Что до Энгуса, то он родился в той части резервации, где обитали потомственные нищие. Племя получило деньги на финансирование государственного проекта жилищного строительства – это были многоэтажки приятного коричневого цвета на окраине Хупдэнса. Дома были окружены пустырями, сплошь заросшими травой, – ни деревца, ни кустика вокруг. Когда возвели коробки домов, деньги закончились, на входные лестницы средств не осталось, поэтому новоселы были вынуждены пользоваться фанерными настилами, чтобы входить и выходить, или попросту запрыгивали в подъезды с земли и так же выпрыгивали. Стар, тетка Энгуса, перевезла в новую четырехкомнатную квартиру племянника, и его двух братишек, и двух детей своего бойфренда, и целый выводок (чей состав постоянно менялся) вечно беременных сестер и кузин, то беспрерывно пьющих, то бросающих пить. Тетя Стар лихо управляла этим сумасшедшим домом. Помимо отсутствующего крыльца, сам дом был тот еще кошмар и ужас. Подрядчик сэкономил на утеплении стен, так что зимой тете Стар приходилось всю ночь держать духовку включенной, а кухонную дверь – нараспашку, и не открывать кран горячей воды в кухне, иначе вода в трубах отопления замерзла бы на морозе. Зияющие щели между стенами и оконными рамами с сетками приходилось затыкать тряпьем, потому что гипсокартон, на котором держались дешевенькие алюминиевые каркасы рам, рассохся и истончился. Вскоре после заселения окна стали просто выпадать из проемов, кое-как приделанные сетки отлетели. В квартире все разваливалось. Водопроводные краны и трубы текли. Я даже навострился как заправский слесарь заклеивать трубу вечно протекающего унитаза клейкой лентой и воском. Тетя Стар постоянно угощала нас жаренными в масле лепешками, и мы взамен были готовы то сделать какой-то мелкий ремонт в доме, то из помятого колпака от автомобильного колеса смастерить спутниковую антенну для телевизора.
Кстати, когда она закрутила роман с Элвином, любовью всей своей жизни, мы и впрямь наладили спутниковую антенну. У тети Стар был огромный телевизор, который она купила на выигрыш в лото – то было единственный раз в ее жизни, когда ей удалось сорвать солидный куш. Так вот мы с помощью Элвина использовали какое-то старенькое оборудование и поймали телевизионные сигналы из Фарго, Миннеаполиса и даже из Чикаго и Денвера. Спутниковая антенна заработала в сентябре 1987 года – как раз мы успели к началу сезонных премьер телешоу на разных общенациональных каналах. Мы так здорово настроили антенну на прием, что иногда она ловила даже передачи из определенных городов, и нам все время приходилось перенастраивать ее в зависимости от смены погодных условий и магнитного поля Земли. Наша охота на ту или иную передачу не всегда увенчивалась успехом, но зато не пропустили ни одной серии «Звездного пути». Не старого сериала, а нового – «Следующее поколение». Мы обожали «Звездные войны», у нас были там любимые реплики, но жили мы среди героев «Следующего поколения».
Естественно, каждый из нас хотел быть Уорфом. Каждый хотел принадлежать к расе клингонов. В любой опасной ситуации у Уорфа было всегда одно решение: атаковать! В эпизоде «Правосудие» мы узнали, что Уорфу не нравился секс с земными женщинами, потому что они были слишком хрупкими, и ему приходилось умерять свой пыл. И мы, оказываясь среди симпатичных девчонок, шутили так: «Эй, умерь-ка свой пыл!» В эпизоде «Игра в прятки с Кью» идеальная девушка-клингонка набросилась на Уорфа – такая горячая была штучка, просто ухохочешься! А Уорф был легковозбудимый, благородный и красивый – даже с черепашьим панцирем на лбу. После Уорфа нам нравился Дейта, потому что он копировал повадки белых членов экипажа, проявляя любопытство к глупостям, которые те говорили или совершали, а еще потому, что, когда красавица Яр напилась, он объявил, что у него все системы функционируют нормально, и занялся с ней сексом. Уэсли, с кем, как вы могли бы подумать, мы все себя ассоциировали, ведь этот гений был нашего возраста и у него была безалаберная мамаша, из-за которой он вечно попадал во всякие передряги, нас совершенно не интересовал, потому что это был высокомерный слюнтяй, щеголявший в дурацких свитерах. Мы, конечно, все были влюблены в чуткую полубетазоидку Диану Трой, особенно когда она по ходу сериала отрастила себе длинные вьющиеся локоны. У ее комбинезонов был низкий вырез на груди, стрела на ее красном поясе указывала сами-знаете-куда, и ее большая голова и короткое тело с откровенными выпуклостями приводили нас в экстаз. Коммандер Райкер, по сценарию, был от нее без ума, но нам он казался скованным и неправдоподобным. Ему стало лучше с бородой, скрывшей его детские щечки. Но все равно мы представляли себя Уорфом. Что касается капитана Пикара, то он же был стариком, правда, стариком-французом, и поэтому он нам нравился. Еще нам нравился Джорди, ведь, как оказалось, ему постоянно было больно, потому что он носил на глазах визор, что делало его внешность благообразной.
Я почему обо всем этом рассказываю – потому что из-за этого сериала наша четверка и держалась особняком в школе. Мы делали раскадровки, рисовали комиксы и даже попытались сами написать сценарий одного эпизода. Мы вообразили, будто обладаем каким-то особым знанием. Мы только начали взрослеть и уже задумывались над тем, кем станем. Воображая себя персонажами «Следующего поколения», мы забывали о своей нищете, своих страхах и обидах, о том, что кто-то из нас рос без матери. Мы были крутыми, потому что никто не понимал, о чем это мы толкуем.
В первый день, как я вернулся в школу, Каппи проводил меня до дома. Сегодня странно видеть людей на территории резервации, если они ходят не по специальным дорожкам, протоптанным любителями бега. Но в конце восьмидесятых молодежь еще разгуливала по местности в свое удовольствие, и поскольку мы с Каппи жили почти в миле от школы, мы частенько подбрасывали монетку, чтобы выяснить, кто к кому идет в гости. У Каппи дома всегда стоял галдеж, потому что Рэндалл частенько зазывал к себе друзей, а в моем доме был телевизор с игровой приставкой, и мы могли сражаться в «Бионических коммандос» – от этой игры мы фанатели.
В школьном коридоре Каппи дал мне яйцо буревестника и рассказал о нем по дороге домой. Он уверял, что, когда нашел его, расщепленное молнией дерево еще дымилось. Я сделал вид, будто поверил ему. И без всяких слов было понятно, что Каппи решил просто проводить меня до дома и не собирался заходить. Да я бы ему и не позволил. Маме не хотелось никого видеть. Хотя отец намеревался взять отпуск и уже договорился с другим судьей, ушедшим в отставку, чтобы тот временно его заменил, он все еще работал с бумагами в своем кабинете. Он заранее предупредил, что весь день будет проведывать маму в спальне, добавив, что она обрадуется, когда я вернусь домой. Когда мы притопали к дому, на крыльце показалась тетя Клеменс и сообщила, что ей только что позвонил сосед и сказал, что Мушум вышел во двор. По тому, как она суетилась, я сделал вывод, что старик, наверное, забыл надеть штаны. Она села в свою машину и укатила. Доведя меня до моего дома, Каппи развернулся и побрел к своему, а я пошел к задней двери. Завернув за угол, я заметил, что выдранные мной чахлые деревца с пожухлыми листочками так и лежат рядком на бетонной дорожке и умирают. Я положил сумку с учебниками, сгреб их в охапку и осторожно положил на кромку газона. В этот момент я пожалел эти погибшие деревца и понял, что мне страшно войти в дом. Такого чувства я не ощущал никогда раньше. Потом я дернул дверь, но обнаружил, что она заперта.
Сначала я очень удивился и даже поддал дверь ногой, думая, что ее заклинило. Но нет, задняя дверь была заперта. А наша входная дверь захлопывалась автоматически – тетя Клеменс, наверное, просто забыла об этом. Я достал запасной ключ из нашего тайничка, отпер дверь и медленно вошел в дом, стараясь двигаться как можно тише, не хлопать дверью и не бросать с грохотом сумку с книгами на кухонный стол, как я это обычно делал. В любой другой день мамы бы еще не было дома, и я бы ощутил ту самую приятную легкость, которую ощущает любой подросток, вернувшись домой и зная, что на пару часов весь дом в его полном распоряжении. Что можно самому сделать сэндвич так, как хочется. Что если антенна принимает нормально, можно поймать какой-нибудь дневной сериал и посмотреть. Что в шкафу найдется печенье или еще какие-то вкусности, припрятанные мамой, но не так, чтобы их нельзя было обнаружить. Что можно порыться в книгах на полке в родительской спальне и найти увлекательный роман вроде «Гавайев» Джеймса Миченера, из которого я узнал массу занятных, но совершенно бесполезных сведений о сексуальной жизни полинезийцев, – но сегодня возвращение домой меня не обрадовало. Впервые на моей памяти задняя дверь оказалась запертой, и мне пришлось выуживать запасной ключ из-под крыльца, где он висел на гвоздике – им пользовались родители, только когда мы всей семьей уезжали далеко и надолго.
И вот какое у меня возникло ощущение: обычный поход в школу сегодня был долгим-долгим путешествием – и вот теперь я вернулся.
Воздух в доме казался непривычно мертвым, спертым, каким-то безвкусным. И тут я понял: это оттого, что с того дня, как мы нашли маму в машине перед гаражом, никто в доме не пек, не жарил, не варил и никаким другим образом не готовил еду. Отец только варил кофе, который пил с утра до вечера. Тетя Клеменс приносила нам жаркое в формах для запекания, и эти запеканки, недоеденные или нетронутые, громоздились в холодильнике. Я тихо позвал маму и начал подниматься по лестнице на второй этаж, как вдруг заметил, что дверь в родительскую спальню плотно закрыта. Тогда я вернулся и зашел в кухню. Открыл холодильник, налил холодного молока в стакан и сделал большой глоток. Молоко оказалось прокисшим. Я вылил его в раковину, вымыл стакан, наполнил из-под крана и стал медленно пить железистую воду, добытую из недр земли нашей резервации, пока не смыл с языка противный кислый привкус. Потом постоял с пустым стаканом в руке. Сквозь открытую дверь виднелась часть обеденного гарнитура: овальный стол из массива клена и шесть стульев вокруг него. Гостиная отделялась от столовой рядом низких полок. Вход в небольшую комнатушку, окаймленную книжными стеллажами – это был кабинет отца, – загораживала кушетка. Сжимая стакан, я поймал себя на том, что в нашем небольшом доме стоит странная гробовая тишина, какая обычно наступает после мощного взрыва. Все стихло, даже тиканье настенных часов. Отец отключил их, когда мы вернулись домой из больницы. «Я хочу новые часы», – заявил он. А я стоял и смотрел на наши старые часы, чьи стрелки бессмысленно замерли на двадцати минутах двенадцатого. Солнечный свет рассыпался по полу кухни золотыми лужицами, но это было грозное сияние, точно световой луч, пронзивший западную тучу. Меня охватил неодолимый страх, я ощутил вкус смерти, похожий на вкус скисшего молока. Я поставил стакан на стол и пулей метнулся вверх по лестнице. Влетел в родительскую спальню. Мама спала так глубоко, что, когда я подскочил к краю кровати и бухнулся на колени, она спросонья ударила меня по лицу. Она хватанула меня локтем прямо по челюсти так, что я чуть не отлетел в сторону.
– Джо, – проговорила она, вся дрожа. – Джо…
Я решил не подавать вида, что она сделала мне больно.
– Мам… молоко скисло.
Она опустила руку и села в постели.
– Скисло?
Раньше у нее молоко в холодильнике никогда не скисало. В ее детстве холодильников не знали, и мама всегда гордилась, в какой чистоте содержится ее любимый «ледовый шкаф». Она всегда очень щепетильно относилась к свежести хранимых там продуктов. Даже обзавелась пластиковой посудой «Тапервер» на выставке-продаже. Как же молоко могло скиснуть?
– Ну да, – повторил я. – Скисло.
– Надо сходить в магазин!
Ее безмятежное спокойствие улетучилось – нервный ужас исказил черты ее лица, отчего проявились синяки и черные круги вокруг глаз, как у опоссума. У нее запульсировали на висках жилки нездорового зеленоватого оттенка. Челюсть у нее была фиолетовая. А брови, всегда такие выразительные, способные передать иронию и любовь, теперь сошлись на переносице знаком боли и страдания. Две вертикальные морщинки, черные, словно проведенные маркером, прорезали ее лоб. Пальцы вцепились в краешек одеяла. Скисло!
– Мам, у дяди Уайти на заправке теперь продается молоко. Я могу сгонять туда на велике!
– Точно продается? – Она взглянула на меня так, словно я героически спас ей жизнь.
Я принес ей сумочку. Она вынула оттуда пятидолларовую бумажку и дала мне.
– Купи еще какой-нибудь еды, – сказала она. – Чего хочешь. Вкусненького. – Она с трудом ворочала языком, и я сообразил, что ей, наверное, дали какое-то успокоительное, чтобы она могла заснуть.
Наш дом выстроили в 1940-е годы – это была крепкая постройка в стиле бунгало. В нем когда-то до нас жил руководитель управления по делам индейцев, надменный и щеголеватый коротышка, бюрократ до мозга костей, которого все у нас ненавидели. Дом продали племени в 1969 году и использовали как офисное здание вплоть до того момента, как он попал в список под снос. На его месте должны были возвести новое административное здание. Отец его тогда выкупил и перевез на крохотный земельный участок за городом, которым владел покойный мамин дядя Шаменгва, – если судить по старой фотокарточке в рамке, красивый был мужчина. Мама часто вспоминала, как он чудесно играл на скрипке, но его инструмент похоронили вместе с ним. А на оставшейся части земли, что принадлежала Шаменгве на противоположной окраине города, дядя Уайти выстроил АЗС. Дедушка Мушум владел старой делянкой в четырех милях оттуда, где и жил теперь Уайти. Уайти женился на молодухе – потрепанной жизнью высокой блондинке, бывшей стриптизерше, которая теперь сидела за кассой на его заправке. Уайти заливал бензин, менял масло, накачивал шины и делал мелкий ремонт – прямо скажем, его ремонт был так себе. Его супруга вела бухгалтерию, закупала для бакалейной лавчонки при заправке орешки и чипсы и рассказывала клиентам о правилах продажи бензина в розницу. Недавно она приобрела большой холодильник для молочных продуктов. И еще у нее был холодильник поменьше, где стояли бутылочки с апельсиновым и виноградным нектаром «Краш». Звали ее Соня. И я любил ее, как любой мальчишка может любить тетю. Вот только ее груди вызывали у меня несколько иные чувства – они действовали на меня, можно сказать, со «Краш» ительно, оставаясь предметом моего безнадежного вожделения.
Я взял велик и рюкзак. У меня тогда был видавший виды полуспортивный пятискоростник с горными шинами, клипсой для бутылки с водой и размашистой надписью краской-серебрянкой на раме «Сторм-райдер». Я выбрал раздолбанный проселок, пересек главное шоссе, проехался разок вокруг заправки и лихо затормозил, развернув велосипед поперек дороги, в надежде, что Соня смотрит на меня в окно. Но я ошибся: она сидела в магазине и пересчитывала сухие колбаски в обертках. У нее была потрясающая улыбка – сияющая белозубая, от уха до уха. Когда я вошел, она подняла голову и улыбнулась мне. Точно мое лицо осветила лампа солярия. Ее похожие на сахарную вату волосы были взбиты в корону, и из рыжей копны ей на спину ниспадал лоснящийся конский хвост в полметра длиной. Как всегда, она была расфуфырена будьте-нате: сегодня на ней был голубой спортивный комбинезон в обтяжку, с блестками по краям, причем молния спереди была расстегнута чуть ли не до пупка. У меня перехватило дыхание при виде ее майчушки из тонкого и почти прозрачного трикотажа. Еще на ней были безупречно белые беговые кроссовки на пружинистой подошве, а в ушах сверкали большие, как головки канцелярских кнопок, хрустальные серьги. Когда она появлялась вся в голубом, что бывало довольно часто, ее голубые глаза, казалось, искрились загадочным электричеством.
– Миленький, – проворковала она, отложив в сторону пачку сухих колбасок и обняв меня. В этот момент ни возле бензоколонки, ни в магазине никого не было. От нее пахло «мальборо», мускусными духами и ее первым за этот день виски со льдом.
Мне везло. Женщины меня обожали. Я тут был ни при чем, но это обстоятельство, сказать по правде, беспокоило моего отца. Он предпринимал отважные попытки противостоять женским чарам, стараясь приучить меня ко всяким мужским радостям: мы играли с ним в бейсбол, в футбол, ходили в походы с палаткой, рыбачили. Рыбачили часто. Едва мне исполнилось восемь, он научил меня водить машину. Отец боялся, что все эти телячьи нежности, которыми осыпали меня женщины, сделают из меня маменькина сынка, хотя и его женщины никогда не обходили вниманием, я же видел: моя бабушка, например, всю жизнь обращалась с ним (да и со мной) невероятно нежно. Но тут свою роль сыграло то, что мое рождение пришлось на бездетный период нашей семейной истории. Когда я появился на свет, Джозеф и Эвелина, мои двоюродные брат и сестра, учились в колледже. Сыновья дяди Уайти от первого брака были совсем взрослые, а отношения Сони с ее дочкой Ландон складывались так напряженно и конфликтно, что, по ее словам, она свое отрожала. И внуки ни у кого у нас еще не появились (пока нет – и слава богу, говорила Соня). Как уже замечено, я был поздним ребенком, запоздалым потомством стареющего поколения нашей семьи, и нередко моих родителей принимали за моих дедушку и бабушку. Ну и еще нельзя забывать, что я, помимо того, что стал полным сюрпризом для мамы и отца, еще был источником их радужных надежд. Так что в детстве на мою долю выпало все – и хорошее, и плохое. Но одним из главных моих преимуществ, которое я особенно ценил, была дозволенная мне близость к грудям Сони.
Когда тетушка заключала меня в свои объятия, я мог прижиматься к ним сколь угодно долго. Правда я никогда не рисковал злоупотреблять своим везением, хотя шаловливые мои руки так и чесались. Полные, податливые, упругие и округлые, груди Сони могли разбить мальчугану сердце. Она гордо носила их, слегка пряча под тонкие футболки с низким вырезом. Талия у нее была все еще тонкая, а бедра призывно выпирали, обтянутые застиранными джинсами. Соня умащала свою кожу детским маслом, но при этом всегда очень быстро ловила загар, и ее миленький шведский носик вечно краснел от солнечных ожогов. Она обожала лошадей, и они с Уайти держали норовистую старую кобылу, быстроногую метиску с кровями арабских скакунов, чалую одноглазую аппалузу по кличке Невидимка и пони. Так что вместе с ароматом виски, духов и табачного дыма от нее частенько пахло сеном, пылью, лошадьми, а если вам хоть раз в жизни довелось вдохнуть этот аромат, потом вы постоянно скучали по нему. Ведь человеку на роду написано жить рядом с лошадьми. У них было еще три собаки – свирепые суки с кличками, придуманными в честь Джэнис Джоплин.
Наша собака подохла за два месяца до того, и мы еще не купили новую. Я раскрыл рюкзак, и Соня положила в него молоко и всякую всячину, которую я взял с полок. Она оттолкнула протянутую мной пятерку и бросила на меня взгляд из-под тонко выщипанных светло-коричневых бровей. Ее глаза наполнились слезами.
– Черт, – пробормотала она. – Оставь меня наедине с пареньком, и я его погублю.
Я не знал, что сказать. Сонины груди выпихнули все мысли из моей головы.
– Как там мама? – спросила она, тряхнув копной волос и смахнув слезы со щек.
Я постарался сосредоточиться. Мама была не очень, и я не мог ответить: «Все хорошо!» Как не мог признаться Соне, как каких-нибудь полчаса назад я испугался, что мама умерла, и как я подбежал к ней, а она ударила меня – первый раз в жизни. Соня закурила и протянула мне пластинку жвачки.
– Да так себе, – сказал я. – Нервозная.
Соня кивнула.
– Мы приведем ей Пёрл.
Пёрл была поджарой длинноногой собаченцией с широкой головой бультерьера и крепкими, как тиски, челюстями. Окрас у нее был как у добермана, густая, как у овчарки, шерсть, а в характере что-то волчье. Пёрл редко лаяла, но если подавала голос, то распалялась не на шутку. Когда кто-то нарушал незримые границы ее территории, она начинала беспокойно бегать и клацать зубами. Пёрл была совсем не компанейской собакой, и мне не хотелось видеть ее у нас дома, но отец не возражал.
– Она же старая, ее уже не приучишь приносить нужные вещи, – уверял я его, когда он вернулся тем вечером с работы.
Мы сидели на кухне и доедали запеканку из сковородки, которую несколько дней назад принесла тетя Клеменс. Отец, по своему обыкновению, сварил в кофейнике некрепкий кофе, который пил как воду. Мама осталась в спальне, от еды она отказалась. Отец положил вилку на стол. По тому, как он это сделал (а отец любил поесть, и если прерывал трапезу, то для него это было равнозначно отказу от любимого обычая, правда, в те печальные дни он ел мало), я понял, что он зол. И хотя в последнее время его жесты стали довольно резкими, и он частенько сжимал кулаки, но вот голос никогда не повышал. Говорил он тихо, рассудительно, доказывая, зачем нам в доме Пёрл.
– Джо, нам нужна собака для охраны. Есть некий мужчина, которого мы подозреваем. Но ему удалось скрыться. А это значит, что он может быть где угодно. Или же, если это не он, настоящий преступник до сих пор остается где-то поблизости.
Я задал вопрос, который обычно задают полицейские в телесериалах:
– А какие улики указывают на то, что это сделал кто-то определенный?
Уверяю вас: отец сначала решил не отвечать. Но в конце концов ответил.
– Правонарушитель, или подозреваемый… кто совершил нападение… – запинаясь, проговорил он, – обронил там спичечный коробок. Судя по этикетке, это коробок из нашего гольф-клуба. Эти спички лежат там на ресепшене, и любой их может взять.
– Поэтому начали проверку с членов гольф-клуба? – спросил я.
Это означало, что напасть на маму мог и индеец, и белый. Наше поле для гольфа всех притягивало как магнитом, гольф в наших краях был своего рода массовым увлечением. Считается, что гольф – забава для богатых, но наша площадка для гольфа заросла косматой травой, а водяными преградами служили обычные лужи. При вступлении в клуб требовалось сделать вступительный взнос. Люди обменивались клюшками, и все кому не лень ими пользовались – кроме отца.
– Да, с членов гольф-клуба.
– А почему он обронил спички?
Отец провел ладонью по глазам и снова стал запинаться:
– Он хотел… он пытался… ему не удалось зажечь спичку.
– Спичку из коробка?
– Да.
– Ясно. А он ее зажег?
– Нет, спички были мокрые.
– Тогда что же произошло?
Внезапно ощутив, как мои глаза увлажнились, я склонился над тарелкой.
Отец снова поднял вилку и принялся торопливо набивать рот макаронами-болоньезе в томатном соусе – фирменным блюдом тети Клеменс. Отец заметил, что я перестал есть, и ждал, что он скажет, и откинулся на спинку стула. Выпил одним глотком кофе из своей любимой белой фарфоровой кружки. Потом промокнул губы салфеткой, закрыл глаза, открыл их и устремил на меня тяжелый взгляд.
– Ладно, Джо, ты задаешь массу вопросов. Ты мысленно выстраиваешь цепочку событий. Ты это обдумываешь. И я тоже. Джо, преступник не смог зажечь отсыревшую спичку и пошел искать другой коробок. Что-нибудь, чем можно разжечь огонь. И пока он отсутствовал, маме удалось убежать.
– Как?
И впервые с того воскресенья, когда мы выкорчевывали деревца из фундамента, отец улыбнулся, точнее, я бы сказал, попытался изобразить улыбку. Она была совсем невеселая. Позднее, если мне нужно было описать его улыбку, я называл ее улыбкой Мушума. Улыбкой человека в поисках утраченного времени.
– Джо, ты помнишь, как я всегда негодовал, когда мама захлопывала дверцу машины? У нее была – и до сих пор есть – привычка оставлять ключи от машины на приборной доске. Когда она паркуется, она обычно забирает с пассажирского места свои бумаги и пакеты с покупками, потом кладет связку ключей на приборную доску, выходит и машинально захлопывает дверцу. Она вспоминает об оставленных в машине ключах, только когда ей нужно ехать домой. Она начинает рыться в сумочке и не может их там найти. «О нет! – восклицает она. – Неужели опять?» Идет к машине и видит ключи на приборной доске, а машина-то заперта, и тогда она звонит мне. Помнишь?
– Ага! – Я чуть не улыбнулся, когда он описывал ее забывчивость и последующую кутерьму. – Да, папа, она звонит тебе, ты произносишь не очень грубое проклятье, потом берешь запасные ключи и пешком проделываешь неблизкий путь от дома к управлению резервации.
– Не очень грубое проклятье? Откуда ты это взял?
– Черт, да кто ж его знает?
Он снова улыбнулся, протянул руку к моему лицу и ткнул костяшками пальцев мне в щеку.
– Мне же не трудно, – продолжал он. – Но как-то я подумал, а что она будет делать, если меня не окажется дома? Мы вообще-то домоседы. Наша повседневная жизнь довольно однообразна. Но если меня или тебя не окажется дома, кто сможет подскочить к ней на работу на велосипеде и привезти запасные ключи?
– Но такого же еще никогда не было.
– Да, но ты можешь уйти гулять. Или не услышать телефон. И я подумал: «А что, если она где-нибудь вот так окажется перед запертой машиной и без ключей?» И подумав об этом, месяца два назад я приклеил магнитик к днищу жестянки, в которых Уайти продает леденцы. Я положил запасные ключи от машины в эту жестянку и прикрепил ее изнутри к кузову над задним левым колесом. Я видел у кого-то такую же ключницу. Вот как ей удалось убежать.
– Что? – переспросил я. – И как же?
– Она залезла под машину. Нашла там ключи. Он погнался за ней. А она заперлась в машине. Потом включила зажигание и уехала.
Я глубоко вздохнул. Я не мог побороть охватившего меня страха – она испытывала такой же! – и от страха почувствовал жуткую слабость.
Отец снова стал есть, и на сей раз явно решил доесть все до конца. Тема происшествия с мамой была закрыта. И я вернулся к теме собаки.
– Перл кусается! – заметил я.
– Вот и хорошо! – отозвался отец.
– Значит, тот человек все еще представляет для мамы опасность.
– Этого мы не знаем, – сказал отец. – Любой мог взять эти спички. Индеец. Белый. Любой мог их обронить. Но возможно, это кто-то из местных.
Нельзя по отпечаткам пальцев определить, что тот или иной человек – индеец. И по имени нельзя. И даже по рапорту местной полиции. Нельзя определить по фотографии. По фото из полицейской картотеки. По номеру телефона.
С точки зрения властей, единственная возможность определить, что индеец является индейцем, это изучить его генеалогию. У него должны быть далекие предки, которые когда-то давно подписали некий документ или были записаны в каком-то реестре правительства США как индейцы, кто был официально признан членом того или иного племени. А потом, установив эти факты, надо определить долю крови[6] этого человека, то есть сколько в его жилах течет индейской крови одного племени. В большинстве случаев американские власти считают индейцами тех, в ком четверть индейской крови – и обычно это должна быть кровь одного племени. Но это племя должно быть признано федеральным законодательством. Другими словами, стать индейцем в каком-то смысле можно только в результате жуткой бюрократической волокиты. С другой же стороны, сами индейцы отлично знают, кто индеец, а кто нет, без всякой необходимости федерального подтверждения данного факта, и это знание – как любовь, секс, материнство и отцовство – не имеет никакого отношения к правительству.
А еще через день я узнал, что все уже знают о подозреваемых – им мог стать любой, кто вел себя странно, или кто внезапно исчез из города, или кого видели выходящим под покровом ночи из своего дома с большими черными мешками мусора.
Все это я узнал, когда в субботу после обеда отправился в дом к тете и дяде за пирогом. Мама сказала отцу, что ей, наверное, лучше уже встать с кровати, принять ванну, одеться. Она все еще принимала обезболивающие, но доктор Эгги предупредил ее, что если лежать все время в кровати, состояние не улучшится. Ей требовалось хоть чем-то себя занять. Отец заявил, что собирается приготовить ужин по рецепту. Вот только ему никак не давался десерт.
Дядя Уайти сидел за столом, вертя в руках стакан с холодным чаем. Напротив, нахохлившись и чуть покачиваясь, как травинка на ветру, сидел Мушум в длинной майке цвета слоновой кости и в клетчатом халате поверх кальсон. Он отказывался надевать уличную одежду по субботам, потому что, по его заверениям, ему требовался хотя бы один день отдыха, чтобы подготовиться к воскресенью, когда тетя Клеменс заставляла его облачаться в костюмные брюки, наглаженную белую сорочку, а иногда и галстук. Ему тоже налили стакан холодного чая, но он только злобно пялился на него.
– Заячья моча! – проворчал он.
– Вот именно, папа! – произнесла тетя Клеменс. – Это напиток для стариков. Он тебе полезен.
– Ах, чудный настой багульника! – похвалил Уайти, одобрительно вертя стакан в пальцах. – Излечит любую твою хворь, папа!
– И старость? – спросил Мушум. – Смоет все прожитые годы?
– Почти! – отозвался Уайти. Он знал, что сможет выпить бутылочку пива, как только вернется домой и перестанет сосать эту бурду вместе с Мушумом, который скучал по прежним денькам, когда Клеменс наливала ему отменного виски. Кто-то ей внушил, что спиртное ему вредно, и теперь она старалась ограничить его тягу к бутылке.
– Эта бурда камнем падает в желудок, дочь моя! – пожаловался старик тете Клеменс.
– Зато хорошо чистит твою печень, – заметил Уайти. – Ну-ка, Клеменс, налей Джо настоя багульника.
Тетя Клеменс налила мне стакан холодного чая и пошла к зазвонившему телефону.
Ей часто звонили узнать последние новости – точнее, сплетни, – о состоянии ее сестры.
– Может, этот извращенец и впрямь индеец, – предположил Уайти. – У него был индейский чемодан.
– Что за индейский чемодан? – спросил я.
– Пластиковые мешки для мусора.
Я подался вперед.
– Так он уехал? Но откуда он? И кто? Как его зовут?
Вернулась тетя Клеменс и бросила на брата свирепый взгляд.
– Фу ты, ну ты, – пробурчал Уайти. – Похоже, мне запрещено открывать рот.
– И стаканчика виски нельзя! И не писать в раковину, а это я буду делать постоянно, пока она не перестанет поить меня настоем из багульника. У меня мочевой пузырь им переполнен, – ворчал Мушум.
– Ты писаешь в раковину? – удивился я.
– Когда мне дают этот настой – всегда!
Тетя Клеменс ушла на кухню и вернулась с бутылкой виски и тремя стопками, вставленными одна в другую. Она расставила их на столе и наполнила две до краев, а третью – до половины, которую сразу опрокинула себе в рот. Я остолбенел. Никогда еще я не видел, чтобы тетя Клеменс по-мужски пила виски. Она аккуратно подержала пустую стопку, глядя на нас, потом со стуком поставила ее на стол и вышла.
– Что это было? – спросил Уайти.
– Это была моя дочь, хватившая через край, – ответил Мушум. – Мне жаль Эдварда. Когда он вернется, виски как раз возымеет действие.
– Иногда виски оказывает действие и на Соню, – заметил Уайти, – но у меня есть свои способы.
– И какие же способы? – поинтересовался Мушум.
– Старые индейские штучки!
– А ты научи им Эдварда, а? А то он сдает позиции.
В воздухе уже витали сладкие ароматы пирога. Мне оставалось надеяться, что тетя Клеменс не настолько рассердилась, чтобы забыть о пироге в духовке.
– Площадка для гольфа. Это там все случилось? – Я поглядел в упор на дядю Уайти, но тот опустил глаза и молча выпил виски.
– Нет, не там.
– А где?
Дядя Уайти поднял на меня печальные и вечно налитые кровью глаза. Он и не собирался ничего мне говорить. А я не смог выдержать его взгляд.
Пальцы Мушума, до этого сжимавшие стакан с холодным чаем так нетвердо, что жидкость из него расплескалась по столу, теперь окрепли. Он поднял наполненную стопку и врастяжку выпил. Его глаза сразу заблестели. Он пропустил мимо ушей наш разговор с Уайти. Его мозг по-прежнему был заточен на женскую тему.
– Так, сын мой, расскажи-ка Упсу и мне заодно про свою красотку-жену. Рыжую Соню. Нарисуй картину маслом. Чем она занята в данный момент?
Уайти отвел от меня взгляд. Когда он осклабился, стала видна широкая щель между его передними зубами. Еще не так давно Рыжую Соню[7] изображала тетя Клеменс на танцевальных вечерах. Она надевала экзотический наряд: откровенные варварские доспехи из усеянного шипами пластика. Вокруг ее бедер развевались изодранные в клочья шарфы. А прозрачная ткань наряда выглядела так, как если бы ее жевали и драли когтями озверевшие мужчины или дрессированные волки. Зак нашел изображение Рыжей Сони в каком-то миннеаполисском журнале и подарил мне. Я хранил журнал в кладовке, в специальной папке, на которую я наклеил бумажку с надписью «Домашние задания».
– Сейчас Соня работает за кассой, – сообщил мой дядя, посверкивая глазами. – Она мастерица складывать числа и сегодня подсчитывает, что нам надо заказать в магазин на следующей неделе.
Удерживая виски во рту, Мушум закрыл глаза и кивнул, вероятно, представив себе Соню, склонившуюся над счетами. И я ее тоже вдруг представил – с ее грудями, парящими, точно пушистые облака над аккуратными столбиками цифр.
– А чем она займется, – продолжал сонно Мушум, – когда сложит все числа и все подсчитает? Когда закончит работу?
– Она встанет из-за стола и выйдет наружу, с полным ведром воды и окномойкой на длинной палке. Каждую неделю она моет окна.
Сегодня Мушум не надел свой ослепительно-белый зубной протез, и его сморщенная улыбка растянулась до ушей. Я зажмурился и вообразил, как средство для мытья капает с краев розовой губки на конце палки-окномойки и стекает по стеклу вниз. А Соня стоит на цыпочках и изо всех сил тянется вверх. Старший брат Каппи Рэндалл сказал, что девчонки выглядят особенно соблазнительно, когда, стоя на цыпочках, тянутся вверх, и что он любит наблюдать за ними в школьной библиотеке. Рэндалл специально ставил самые интересные книги на верхние полки. Мушум шумно вздохнул. А я представил, как Соня сильно прижимает резиновое лезвие окномойки к стеклу, стирая грязные потеки от средства для мытья, после чего стекло сияет безукоризненной чистотой.
Тетя Клеменс встала из-за стола и ушла, разбив возникшую в моем воображении картину, и я услышал скрип дверцы духовки. Потом шум выдвигаемого противня: она вынимала два пирога из духовки. Я услышал, как она поставила пироги остывать. Стукнула дверца духовки, потом сетчатая входная дверь со скрипом распахнулась и с хлопком закрылась. Через мгновение сквозь дверную сетку слегка потянуло душистым дымком от зажженной сигареты. Насколько мне известно, раньше моя тетя не курила, но она начала – после посещения мамы в больнице.
Запах сигареты вмиг протрезвил обоих мужчин, для которых курящая тетя Клеменс тоже была в новинку. Они повернулись ко мне, и дядя Уайти с серьезным выражением лица спросил, как мама.
– Сегодня она решила выйти из спальни, – сообщил я. – Мне нужно отнести домой пирог. Папа готовит ужин.
Мушум вытаращился на меня понимающим взглядом, и мне стало ясно, что ему, по крайней мере, в общих чертах рассказали о том, что случилось.
– Это хорошо, – сказал он. – Послушай, Упс, ей уже надо выходить. Не позволяйте ей все время сидеть. И не оставляйте одну надолго.
Весенние четкие тени, точно вода, растеклись по дороге. Над тихим болотцем слышалось урчание автомобилей, то и дело останавливающихся у распахнутого окошка винной лавки, через которое торговали спиртным навынос. Со стороны далеких дворов, невидимых за сплошной стеной ив и черемух, звенели короткие зычные крики женщин, звавших детей домой. Рядом со мной притормозила машина, и Доу Лафурнэ жестом пригласил меня сесть рядом с ним. У Доу было безмятежное лицо, искривленный нос, добрые глаза. Этот силач никогда не гнушался тяжелой физической работы – помимо того, что он был председателем совета и уборщиком в управлении племени, он своими руками по досочкам построил собственный дом на ровном месте. И он же со своими сыновьями привел его в полную негодность – тоже на ровном месте. Теперь там повсюду лежали горы хлама. Я помотал головой, и Доу уехал, бросив на прощанье «увидимся!» – тем вечером я должен был прийти к ним помочь Рэндаллу совершить обряд очищения в парильне.
Тетя Клеменс положила пирог на дно неглубокой картонной коробки. Мои ноздри щекотал аппетитный аромат печеных яблок, проникавший сквозь лопнувшую корочку сверху. Вечер не принес прохлады, но меня это не парило. Мне не терпелось поесть пирога. Я свернул к подъездной дорожке к дому, и из кустов сирени навстречу мне выбежала Перл. Узнав меня, она добродушно тявкнула, обнюхала воздух вокруг и побежала следом, держась на почтительном расстоянии, до самой задней двери дома. Там она отстала и вернулась на свое лежбище под сиреневым кустом.
Меня впустил отец. В кухне было жарко, витали запахи его очередного кулинарного эксперимента.
– Ты вовремя! – заметил он и поставил пирог на кухонную стойку. – Давай сделаем ей сюрприз, Джо. Пусть это будет гвоздем нашей программы. Она сейчас спустится. Вымой руки!
Стоя в крохотном санузле рядом с отцовским кабинетом, я услышал скрип лестничных ступенек. Я не спешил, медленно вымыл руки, медленно их вытер. Мне не хотелось видеть маму. Ужасно, но это правда. Хотя я прекрасно понимал, отчего она меня ударила, мне было противно делать вид, будто ничего не случилось или что это неважно. Удар не оставил на моей коже синяка и челюсть только слегка побаливала, но я то и дело дотрагивался до нее и по новой ощущал боль. После мытья я сложил полотенце – наверное, впервые в жизни – и аккуратно повесил на сушилку.
В столовой мама стояла позади своего стула, нервно вцепившись руками в спинку. Работал вентилятор, и полы ее платья мягко вздымались. Она любовалась едой в тарелках на зеленой клетчатой скатерти. Я поглядел на маму, и мне сразу стало стыдно за свою обиду на нее: на ее лице все еще виднелись следы нападения. Я занял себя какой-то ерундой.
Отец сделал жаркое. Когда я вошел в кухню, мне в нос ударила смесь запахов: лежалой репы и консервированных томатов, свеклы и кукурузы, пригоревшего чеснока, какого-то неведомого мяса и подгнившего лука. Отец жестом пригласил нас за стол, над которым витало неаппетитное амбре от его ведьмина варева. Еще на столе стояла кастрюля с водой, из которой торчала картошка, явно переваренная, развалившаяся и почти остывшая. Он церемонно наполнил наши плошки. Мы молча сидели и смотрели на еду. Мы не стали молиться, впервые в жизни отступив от привычного ритуала. Но я не мог вот так молча приступить к еде. Отец это понял и, оглядев нас, произнес прочувствованно:
– Как мало нужно для счастливой жизни!
Мама шумно вздохнула и нахмурилась. Ее буквально передернуло от его слов, как будто они рассердили ее. Думаю, она уже слышала от него эту цитату из Марка Аврелия, но теперь, задним числом, мне кажется, она просто пыталась загородиться неким щитом. Чтобы ни о чем не думать. Не вспоминать о том, что с ней случилось. А прочувствованные слова отца ее ранили.
Мама равнодушно взяла ложку и ткнула ею в жаркое. Отправив первую порцию в рот, она чуть не подавилась. Я сидел ни жив ни мертв. Мы оба смотрели на отца.
– Я добавил тмин, – смиренно сказал он. – Что скажешь?
Мама взяла салфетку из стопки, которую отец положил на середину стола, и прижала ее к губам. Ее лицо все еще было покрыто фиолетовыми царапинами и желтоватыми пятнами от рассасывающихся синяков. Белок ее левого глаза был алым от кровоизлияния, а веко, все еще опухшее, слегка обвисло. Впоследствии оно таким и осталось, потому что у нее был поврежден нерв.
– Что скажешь? – повторил отец.
Мы с мамой молчали, в ужасе глядя на кушанье, которое мы только что отведали.
– Думаю, – наконец проговорила она, – что мне надо самой готовить.
Отец опустил глаза и положил на стол руки ладонями вверх – всем своим видом говоря: я сделал все, что в моих силах! Он обиженно надул губы и с наигранной жадностью зачерпнул жаркое. Отправил ложку в рот раз, другой. Проглотил. Я был поражен его упрямой решимостью, а сам стал налегать на хлеб. Движения его ложки замедлились. Мама и я, должно быть, одновременно поняли, что отец, который много лет ухаживал за дедушкой и, конечно же, умел готовить, просто-напросто симулировал свою кулинарную безнадежность. Но его жаркое, с тошнотворным запахом сгнившего лука, оказалось так удачно испорчено, что мы даже повеселели, к тому же и мама заявила, что готова вернуться к своим обязанностям на кухне. Когда я убрал со стола объедки ужасного жаркого и выставил тетин пирог, мама улыбнулась, чуть приподняв уголки губ. Отец разрезал пирог на три равные части и положил на каждый кусок изрядную порцию ванильного мороженого. Мне даже пришлось доедать за мамой. А она начала подтрунивать над отцом из-за его жаркого.
– Скажи, сколько лет было этой репе?
– Она старше Джо.
– Где ты откопал такой лук?
– Это мой маленький секрет!
– А что за мясо? Сбитый на шоссе боров?
– Да нет же! Он умер своей смертью в хлеву.
* * *
Что я пропущу ужин в тот вечер, меня особенно не беспокоило. Ведь я знал, что после парильни Рэндалла Каппи и его верный друг, то есть я, наедятся до отвала. Нам поручалось следить за костром. Тетки Рэндалла, Сюзетта и Джози, которые превратили сыновей Доу в своих послушных собачек, всегда обеспечивали еду. В ритуальные ночи они обычно наготавливали на целый полк и складывали все в два пластиковых кулера возле гаража. Далеко за домом, уже почти в самом лесу, высилась куполообразная крыша парильни, которую Рэндалл сложил из гнутых веток, связанных между собой и накрытых армейским брезентом. Вокруг нее во влажном воздухе роились тучи комаров. Каппи уже развел огонь. Большие камни, «деды», в центре кострища раскалились докрасна. Нашей обязанностью было поддерживать огонь, вручать священные трубки и снадобья, подносить раскаленные камни на лопатах с длинными черенками, закрывать и открывать полог парильни. Еще мы по просьбе кого-то из находившихся в парильне кидали в огонь табак, чтобы придать действенность какой-то особой молитве или мольбе. В ясные ночи это была приятная обязанность – мы сидели вокруг огня и болтали о то о сем, и нам было тепло.
Иногда мы тайком поджаривали на пламени хот-доги или зефир на палочке, невзирая на то, что это был священный огонь, и однажды Рэндалл застукал нас. Он заорал, что из-за своих дурацких хот-догов мы лишили огонь святости. А Каппи поглядел на него и заявил, что же это за священный огонь такой, если его можно лишить святости, сунув в него наши тощие сосиски! Я захохотал, а Рэндалл молча воздел руки к небу и ушел.
Сейчас же камни раскалились слишком сильно, чтобы на них можно было что-то зажарить или испечь, кроме того, мы знали, что в конце ритуала нам закатят пир горой. Еда была вознаграждением за наши труды. И еще иногда нам позволяли поездить на стареньком красном «олдсмобиле» Рэндалла. Вообще-то нам эта работа нравилась. Но в тот вечер мало того, что не попрохладнело, так еще и навалилась влажная духота. Не было ни ветерка. Даже на закате нас окружали зудящие тучи комарья. Из-за их налетов мы были вынуждены сидеть вплотную к огню, чтобы воспользоваться дымовой завесой, отчего мы еще больше потели. А комары продолжали жалить нас сквозь соленую от пота, продымленную одежду, на которую мы вылили чуть не весь репеллент из бутылки.
Заявились, похохатывая, друзья Рэндалла, которые, как и он, на народных сходах – пау-вау – били в ритуальные барабаны или участвовали вместе с Рэндаллом в плясках. Двое из них были под кайфом, но Рэндалл и ухом не повел. Он был целиком поглощен правильным обустройством обряда очищения – расстелил перед входом в парильню одеяло из лоскутов в форме звезд, установил подставку для священных трубок, раковину для воскурений шалфея, стеклянные банки для порошкообразного снадобья, ведро и ковшик. У него словно в голове была спрятана мерная рейка, которой он измерял расстояния между этими священными предметами. Каппи все это выводило из себя. Но другим подход Рэндалла импонировал, вот почему у него было полно друзей на разных индейских территориях – как раз в тот день он получил в посылке от друга из племени пуэбло банку снадобья, теперь стоявшую радом с другими такими же банками. Он напевал себе под нос песню про набивание священной трубки и подготавливал к ритуалу свою трубку, и так был этим поглощен, что даже не замечал прожорливых комаров, плотно облепивших его шею сзади. Я их начал отгонять.
– Спасибо, – буркнул он рассеянно. – Я помолюсь за твою семью.
– Круто, – отозвался я, хотя от его слов мне стало неловко. Мне не нравилось, когда за меня молились. Отвернувшись, я буквально кожей ощутил, как его молитвы ползут по позвоночнику. Но в этом был весь Рэндалл, всегда готовый заставить тебя почувствовать неловкость из-за явного превосходства всех тех премудростей, которые он узнал от стариков, в том числе и от стариков в твоей семье, потому что пекся о твоем же благе. Мушум проинструктировал Доу, как правильно выстроить эту парильню, а уж Доу передал это знание Рэндаллу. Каппи поймал мой взгляд.
– Не бери в голову, Джо. Он и за меня молится. Его снадобья действуют: из-за них девчонки к нему так и липнут. Так что ему надо практиковаться.
У Рэндалла был точеный, точно высеченный на камне, профиль, гладкая кожа и длинная коса. Девчонки, особенно белые, им очаровывались. Однажды летом у них во дворе целый месяц жила в палатке немочка. Она была симпатичная и носила босоножки с застежкой на лодыжке – до нее никто в резервации не видел таких, и над Рэндаллом стали подшучивать из-за этих босоножек. А потом кто-то подглядел название фирмы-изготовителя – «Биркеншток», – и это слово стало кличкой Рэндалла.
В воздухе стало совсем жарко, и мы принялись жадно пить из ковшиков священную ритуальную воду. Я завидовал парням, которые заходили в парильню, потому что внутри они так распаривались, что потом, когда выбирались оттуда, ночной ветерок обвевал их приятной прохладой. Кроме того, волны горячего воздуха, поднимавшиеся от раскаленных камней-«дедов», отгоняли комаров. Скоро все вошли внутрь. А мы с Каппи бросились подносить ко входу парильни обжигающие камни на лопатах. Рэндалл подхватывал их парой оленьих рогов и складывал в центре парильни. Так мы передали им все камни и прикрыли полог. Они начали распевать гимны, и мы в которой уже раз опрыскали себя средством от комаров. Мы сделали три ходки, пока не перетаскали в парильню всех «дедов». Потом сбегали в дом, наполнили опустевший кулер водой, вышли наружу и уже стояли на заднем крыльце, как вдруг раздался взрыв. Мы сначала даже не услышали, как кто-то крикнул: «Вход!» – призвав нас откинуть полог. Крыша парильни просто взметнулась вверх под напором рук и голов парней, спешащих выбраться наружу. Они яростно срывали наброшенный на крышу брезент и путались в нем. Было слышно приглушенное рычание. Потом они уже просто с воплями выпрыгивали наружу, кто как мог – задыхаясь и катаясь нагишом по траве. Комары тут же пикировали со всех сторон на голые тела. Мы помчались к ним с полным кулером. Рэндалл и его приятели показывали пальцами на свои перекошенные лица, и мы лили воду им на головы. Когда они смогли наконец подняться с травы, кто захромал, а кто со всех ног побежал к дому. Тетушки Каппи как раз подъехали с новой порцией жареных лепешек и сразу увидели восьмерых голых индейцев, бегущих и ковыляющих через двор. Сюзетта и Джози остались в машине.
Все долго приходили в себя, сидя в доме, заваленном холостяцким барахлом, но когда парни оправились от шока, все стали обсуждать, что же приключилось.
– Думаю, – произнес наконец Скиппи, – это все из-за снадобья пуэбло. Помнишь, прямо перед тем, как ты кинул горсть порошка на камни, ты громко поблагодарил своего приятеля оттуда, а потом произнес длинную молитву?
– Да, Биркеншток, длинную-предлинную молитву, а потом ты зачерпнул ковш воды…
– О, – воскликнул Рэндалл. – Мой друг сказал, что это снадобье народа пуэбло. А я молился за то, чтобы у него все сложилось как надо с его женщиной-навахо. Каппи, сбегай, принеси эту банку!
– Ты мне не приказывай!
– Ладно. Пожалуйста, младший братишка, ты же видишь: мы сидим тут с голыми задницами, травмированные, так будь уж любезен, сходи за этой банкой!
Каппи вышел и быстро вернулся. На банке была наклеена этикетка.
– Рэндалл, – заметил Каппи, – тут слово «снадобье» стоит в кавычках!
Банка была наполнена коричневатым порошком, по нашему мнению, с не слишком сильным запахом – не таким, как у медвежьего корня, или у аира, или у толокнянки. Рэндалл внимательно осмотрел банку и нахмурился. Он снял крышку и понюхал, как опытный дегустатор вдыхает букет вина.
Наконец он лизнул свой палец, ткнул им в порошок и сунул обратно в рот. Из его глаз тотчас брызнули слезы.
– Аааа! Аааа! – высунув язык, завопил он.
– Это острый перец, – сделали вывод остальные. – Жгучий перец пуэбло.
Все смотрели, как Рэндалл вихрем носится по комнате.
– Э, да вы поглядите – у него ноги превратились в крылья!
– Надо ему во время следующего пау-вау дать снадобье пуэбло.
– Точно!
Все пили воду большими глотками. А Рэндалл стоял у раковины с высунутым языком, подставив его под струю воды.
– Рэндалл поставил банку со снадобьем на камни, – стал рассказывать Скиппи, – а когда вылил на них четыре больших ковша воды, этот порошок вдруг закипел, и пар попал нам на лицо и в глаза, и мы вдохнули это дерьмо! Внутри все горело! И как ты, Рэндалл, мог такое с нами учудить, а?
Все укоризненно смотрели на Рэндалла, стоящего у раковины с высунутым языком под струей воды из крана.
– Надеюсь, он хоть набросит на себя какую-нибудь одежду, – сказал Чибой-Сноу.
Про его тетушек все вспомнили, только услышав шум их отъезжающей машины. Мы выглянули в окно. Они оставили под дверью два пакета свежеиспеченных лепешек. Масло от лепешек проступило темными пятнами на бумажных боках.
– Если принесете нам одежду, – обратился к нам Скиппи, – и те пакеты с жрачкой, я вам заплачу.
– Сколько? – поинтересовался Каппи.
– По два доллара каждому.
Каппи вопросительно взглянул на меня. Я пожал плечами.
Мы приволокли все их шмотки и пакеты с едой. И когда мы сидели и уписывали за обе щеки, из дома вышел Рэндалл и присел рядом. Его лицо было обожжено в нескольких местах, как и у других парней, а глаза опухли и покраснели. Рэндалл учился на последнем курсе колледжа, и иногда он разговаривал со мной так, словно обращался к клиенту службы соцзащиты, а иногда как со своим младшим братишкой. Сейчас наступил тот редкий момент, когда Рэндалл решил проявить семейные чувства. Его приятели уже пришли в себя, смеялись и ели как ни в чем не бывало. Происшествие в парильне все уже обратили в шутку, позабыв, как сначала рассердились на Рэндалла.
– Джо, – озабоченно начал Рэндалл, – я там кое-что видел.
Я запихнул в рот тако с мясом.
– Я кое-что видел, – продолжал он, и в его голосе звучала неподдельная тревога. – Я видел это как раз перед тем, как нас обварил жгучий перец. Я молился за твою семью, за свою семью, как вдруг увидел склонившегося над тобой мужика, вроде полицейского, у него было белокожее лицо, глубоко запавшие глаза, и он смотрел на тебя. И вокруг его головы было серебристое сияние. Его губы двигались, он что-то тебе говорил, но я не смог разобрать ни слова.
Я перестал жевать. Мы сидели молча.
– И что мне теперь делать, а, Рэндалл? – тихо спросил я.
– Мы вдвоем умилостивим духов табаком, – ответил он. – И может быть, тебе стоит поговорить с Мушумом. У меня нехорошее предчувствие, Джо.
* * *
Мама готовила всю следующую неделю и даже выходила из дома, сидела на истертом шезлонге и трепала Пёрл за холку, глядя на заросли черемухи, окаймлявшие задний двор. Отец старался проводить дома как можно больше времени, но все равно ему приходилось уезжать по делам. Он каждый день встречался с полицейскими резервации и беседовал с федеральным агентом, назначенным на мамино дело. Однажды он уехал на весь день в Бисмарк, столицу штата, побеседовать со своим старинным другом – федеральным прокурором Габиром Олсоном. Со многими делами об изнасиловании индейских женщин была такая общая закавыка, что даже после предъявления обвинения федеральный прокурор довольно часто под разными предлогами отказывался передавать дело в суд. Обычной отговоркой было обилие других более важных дел. И отец хотел убедиться, что этого не случится на сей раз.
И вот один за другим тянулись дни этого вынужденного антракта. Утром в пятницу отец напомнил, что ему понадобится моя помощь. Я частенько зарабатывал пару долларов, приезжая к отцу в офис на велике после школы, чтобы, как он выражался, «подготовить суд ко сну в выходные». Я подметал в его небольшом кабинете, мыл стеклянную поверхность его письменного стола, смахивал пыль с его дипломов, развешенных по стенам, – об окончании университета Северной Дакоты и юридического факультета университета Миннесоты – и выравнивал металлические таблички, выданные ему в знак заслуг его работы в разных юридических организациях. У него висел список мест, где он имел право работать, – в нем фигурировали разные организации вплоть до Верховного суда США. Я гордился этим списком. И в соседнем кабинете, а по сути – чулане, переоборудованном в его личный офис, я тоже подмел. Президент Рейган, розовощекий, с затуманенным взором и с голливудской улыбкой в тридцать два вставных зуба, взирал на меня с официального портрета на стене. Рейган имел весьма приблизительное представление о жизни индейцев, например, он считал, что мы живем не в резервациях, а в «заповедниках». Еще там висел оттиск печати нашего племени и одной из больших печатей Северной Дакоты. Отец поместил в рамочку состаренную копию текста Преамбулы к Конституции США и текста Билля о правах.
Вернувшись в отцовский офис, я вытряс его шерстяной коврик. Потом расставил книги на полке, где были представлены все поздние переиздания «Справочника» Коэна, оригинал которого хранился у нас дома. Было тут и издание 1958 года, выпущенное в тот момент, когда конгресс намеревался вообще упразднить индейские племена, – книга всегда лежала на полке нетронутая, оставаясь немым укором ее редакторам. Еще тут были факсимильные издания 1971 года и 1982 года – большой и тяжелый, зачитанный том. Рядом с этими фолиантами стояло компактное издание кодекса нашего племени. Еще я помогал отцу заносить в каталог то, что его секретарь Опичи Уолд не успевала. Опичи, чье имя означало «малиновка», была костлявая и хмурая маленькая женщина с юркими пронзительными глазками. Она была ушами и глазами отца в резервации. Любому судье всегда нужен тайный агент в народе. Опичи коллекционировала то, что вы можете назвать слухами и сплетнями, но она отлично знала, что предоставляемые ею сведения были неоценимым подспорьем для принимаемых отцом решений. Ей было известно, кого можно освободить под залог, а кто точно сбежит. Ей было известно, кто торгует наркотой, а кто только употребляет, кто ездит без прав, кто отличается агрессивным нравом, кто исправился, кто пьет, кто опасен, а кто безвреден для членов своей семьи. Опичи была неисчерпаемым источником информации, хотя картотеку она составляла абсолютно бессистемно.
Мы держали все документы в большом кабинете по соседству, где все стены были заставлены высокими металлическими шкафами. Новые папки всегда оставлялись сверху на шкафах, потому что отцу было интересно перечитывать их и делать пометки на полях. А в тот день я заметил на шкафах высокие стопки папок. Коричневые картонные папки с бирками, подписанными и аккуратно наклеенными Опичи. В основном там были заметки о разных делах, их краткие описания и сопутствующие соображения, проекты будущих официальных судебных решений. Я спросил, будем ли мы подшивать эти бумаги, хотя их было слишком много, чтобы управиться с ними до ужина.
– Мы заберем их домой, – ответил отец.
Этого он никогда не делал. Домашний кабинет служил для него убежищем от всего, что творилось в суде племени. Он гордился своим умением оставлять судебные страсти, накопившиеся за неделю, там, где им было самое место. Но сегодня мы загрузили папки на заднее сиденье машины, сунули мой велик в багажник и поехали домой.
– После ужина я сам занесу эти папки к себе, – сказал отец, пока мы ехали.
Из чего я сделал вывод: он не хочет, чтобы мама видела привезенные им домой из суда папки. Загнав машину в гараж, мы достали мой велик из багажника, и я покатил его на задний двор. Отец тем временем зашел в дом. Войдя через кухонную дверь, я вдруг услышал грохот и звон. А потом тихий, но резкий испуганный возглас. Мама отшатнулась к раковине, дрожа всем телом и шумно дыша. Отец стоял в нескольких шагах от нее, выставив вперед руки, словно пытаясь ее обнять, – и такое было впечатление, что он обнимает, но не ее тело, а воздух. Между ними на полу валялись черепки керамической кастрюльки, из которой на пол вытекала еще скворчащая запеканка.
Я поглядел на родителей и сразу понял, что стряслось. Отец зашел в дом – мама, конечно, слышала урчание подъехавшей машины, но почему не залаяла Перл? Шаги у него тяжелые, их нельзя не услышать. Оказываясь дома, он всегда шумел, да и, как я уже сказал, был довольно неуклюж. К тому же я заметил, что в последнюю неделю, возвращаясь с работы, он еще в дверях кричал что-то дурацкое типа: «А вот и я!»
Но возможно, в этот день он забыл крикнуть. Возможно, он двигался непривычно тихо. Возможно, он зашел в кухню, как обычно, подошел к маме со спины и обнял ее за талию. Раньше она бы продолжала хлопотать у плиты или раковины, а он бы перегнулся ей через плечо и заговорил. И так они бы еще пару минут постояли бы, изображая живую картину «Возвращение домой». Потом он бы позвал меня и попросил помочь накрыть на стол. Он бы быстро переоделся, пока мы с мамой наносили бы завершающие штрихи ужина. А потом все сели бы за стол. В церковь мы не ходили. Но это был наш ритуал. Наше преломление хлеба, наше причастие. И этот ритуал начинался с того доверительного мгновения, когда отец подходил сзади к маме, а она, не оборачиваясь, встречала его появление улыбкой. А теперь оба стояли, беспомощно взирая друг на друга, над разбитой кастрюлькой с нашим ужином. Теперь-то я понимаю, что это происшествие могло иметь несколько вариантов завершения. Мама могла бы рассмеяться, могла бы расплакаться, могла бы схватить его за руку. А отец мог бы рухнуть на колени и притвориться, что у него сердечный приступ – один из тех, который потом его и убил. И она сразу бы оправилась от шока и бросилась ему помогать. Мы бы убрали черепки и вываленную на пол еду, наделали бы сэндвичей, и все бы продолжалось как обычно. Если бы в тот вечер мы просто сели за стол втроем, я уверен, все бы продолжалось как обычно. Но мама побагровела и еле заметно содрогнулась. Она порывисто вздохнула и дотронулась пальцами до израненного лица. Потом переступила через черепки на полу и медленно вышла из кухни. Мне захотелось, чтобы она закричала, заплакала, швырнула что-нибудь в стену. Все было бы лучше, чем то ледяное бесчувствие, с которым она поднялась наверх. В тот вечер на ней было простое голубое платье. На голых ногах – черные замшевые мокасины. Одолевая ступеньку за ступенькой, она смотрела прямо перед собой, крепко держась за перила. Она шла бесшумно, словно парила. Мы с отцом проследовали за ней до дверного проема, и думаю, когда мы смотрели на нее, у нас обоих возникло ощущение, что она восходит к обители своего одиночества, откуда, вероятно, больше никогда не вернется.
Мы продолжали стоять рядом даже после того, как щелкнула личинка затворившейся двери спальни. Наконец мы повернулись и, не говоря ни слова, отправились обратно на кухню прибирать куски засохшей еды и осколки. Мы выбросили все в мусорный бак на дворе. Закрыв крышку бака, отец замер. Он свесил голову на грудь, и в тот самый момент я впервые осознал, что он охвачен отчаянием, которое впоследствии овладевало им с нарастающей силой. И когда он вот так продолжал неподвижно стоять, я по-настоящему перепугался. Я с тревогой схватил его за руку. Я не мог выразить словами своих чувств, но отец, по крайней мере, взглянул на меня.
– Помоги мне перенести эти папки в дом, – резко и решительно проговорил он. – Начнем сегодня же.
Что я и сделал. Мы выгрузили папки. Потом по-быстрому приготовили по паре неприглядных сэндвичей. Еще один сэндвич отец сделал с особым старанием и выложил его на тарелку. А я разрезал яблоко, красиво разложил дольки вокруг хлеба, мяса и салатных листьев. Когда мама не отозвалась на мой стук в дверь, я просто оставил тарелку на полу под дверью. Прихватив сэндвичи, мы с отцом отправились к нему в кабинет и с набитым ртом принялись пролистывать бумаги в папках. Хлебные крошки мы смахивали прямо на пол. Отец устроился за письменным столом и включил настольную лампу, а потом кивком головы пригласил меня расположиться в кресле под торшером.
– Он где-то здесь, – сказал отец, кинув на толстые папки с бумагами.
Я понял, в чем мне надо ему помочь. Отец отнесся ко мне как к своему ассистенту: разумеется, он знал, разумеется, что я тайком читаю его книги. Я инстинктивно поглядел на полку с томом Коэна. Он снова кивнул, немного приподняв брови, и, вытянув губы трубочкой, указал на папку у меня под локтем. Мы погрузились в чтение. Вот тогда-то я наконец начал понимать, чем занимается отец каждый день, в чем вообще смысл его жизни.
В течение следующей недели мы выудили несколько дел из моря его судебных бумаг. За все это время, в последнюю учебную неделю в школе, мама ни разу не вышла из комнаты. Отец носил ей наверх еду. А я вечерами сидел с ней и читал вслух из «Семейного альбома любимых стихотворений», пока она не засыпала. Это была старая книга в темно-коричневом переплете с подранной обложкой, на которой были изображены счастливые белые, читающие стихи в церкви, или детям перед сном, или на ушко своим любимым. Мама не желала слушать что-нибудь духоподъемное. Мне приходилось читать ей длиннющие повествовательные поэмы, изобилующие старомодными словечками и звонкими рифмами. «Бен Болт», «Бродяга с большой дороги», «Течь в дамбе»[8] и прочее в том же духе. Как только я замечал, что ее дыхание становилось ровным, я с облегчением выскальзывал из комнаты. Она спала подолгу, словно принимала участие в сонном марафоне. А ела мало. Часто плакала, горько и монотонно, стараясь заглушить плач подушкой, но он все равно проникал сквозь тонкую дверь спальни. Я спускался вниз, в кабинет к отцу, и мы продолжали изучать документы в папках.
Читали мы сосредоточенно. Отец был уверен, что где-то в его старых отчетах, записях и судебных решениях непременно найдется имя человека, который едва не исторг дух мамы из ее тела.
Глава 3 Правосудие
16 августа 1987 года
Дерлин Пис (истец)
против
«Бинго-Пэлас» и Лаймена Ламартина (ответчики)
Дерлин Пис работает техником-смотрителем в игорном заведении «Бинго-Пэлас и казино» и напрямую подчиняется Лаймену Ламартину. Его уволили 5 июля 1987 года, через два дня после ссоры с боссом. Как показал свидетель, их перебранку подслушали другие работники, а вспыхнула перебранка из-за женщины, с которой оба они встречались.
4 июля работники игорного заведения устроили пикник на заднем патио «Бинго-Пэласа». В разгар пикника Дерлин Пис, который ранее в тот же день выполнял в здании мелкий ремонт, собрался уходить. Его остановил Лаймен Ламартин и потребовал вывернуть карманы. В одном кармане обнаружились шесть стальных шайб стоимостью 15 центов каждая. Лаймен Ламартин обвинил Дёрлина Писа в попытке кражи имущества компании и уволил его.
Но Дерлин Пис заявил, что это его собственные шайбы. И поскольку никаких отметок на шайбах, которые исследовал судья Куттс, не обнаружилось, не было никаких неопровержимых доказательств того, что они являются имуществом «Бинго-Пэласа». А раз никакого существенного основания для увольнения Дёрлина Писа не было, суд вынес решение, что его должны восстановить в прежней должности в «Бинго-Пэласе».
– Шайбы? – удивился я.
– Что еще за шайбы? – спросил отец.
Я снова уставился в документ.
Хотя это дело не было помечено нами как важное, я его хорошо запомнил. Вот почему: оно касалось тех серьезных материй, которым отец и посвятил свою жизнь. Я не раз присутствовал в суде, когда он рассматривал такого рода тяжбы. Но полагаю, что он не позволял мне присутствовать на заседаниях, посвященных проблемам по-настоящему важным, то есть неприличным, или связанным с насилием, или слишком сложным, до которых я еще не дорос. Я воображал, что отец решает значимые правовые проблемы, что он работал над делами из области договорного права, восстановления земельных прав, что перед ним представали убийцы, что он грозно хмурил брови, когда свидетели начинали путаться в показаниях, и своими ироническими замечаниями мог заткнуть любого доку-адвоката. Я ничего ему не сказал, но, пока я читал это дело, меня захлестнула волна смятения. Ради чего Феликс С. Коэн написал свой «Справочник»? Где же тут величие? Где драма? Где уважение? Все дела, которыми занимался отец, были какие-то мелкие, смехотворные, несущественные. Правда, кое-какие были прямо-таки душераздирающими или представляли собой мешанину из грустного и идиотического, как дело Мэрилин Шигэг, которая стащила пять хот-догов в кафе при бензозаправке и там же, в туалете, их слопала, но ни одно не доходило до уровня величия, который я себе вообразил. Мой отец наказывал воришек хот-догов и изучал стальные шайбы – даже не стиральные машины, а обычные шайбы ценой в пятнадцать центов…
8 декабря 1976 года
Дело слушалось главным судьей Энтоном Куттсом, а также судьей Роуз Ченуа и помощником судьи Мервином «Табби» Мэинганом.
Томми Томас и др. (истцы)
против
супермаркета «Винленд» и др. (ответчики)
Томми Томас и другие истцы в этом деле были членами племени чиппева, а «Винленд» был тогда и сейчас является бензозаправкой и минимаркетом (их владельцы – белые), расположенными на частной земле (то есть ранее приобретенном земельном наделе) в окружении земли, принадлежащей племенному трастовому фонду. Истцы утверждали, что в зоне торговых операций, совершающихся в магазине «Винленд», все покупатели платят надбавку в размере 20 %, включая членов племени с явными признаками старческой деменции, подростковой доверчивости, умственной отсталости, алкогольного опьянения или незнания.
Владельцы заведения Джордж и Грейс Ларк не отрицали, что в ряде случаев начисляли лишние 20 % к сумме покупок. Но они оправдывали свое поведение, настаивая, что тем самым возмещали убытки от воровства в магазине. Ответчики заявили, что на них не распространяется ни персональная юрисдикция суда племени, ни предметная юрисдикция по торговым операциям, на основании чего и был подан иск.
Но суд постановил, что хотя здание АЗС расположено на земельном участке № 122093, парковка, мусорный контейнер, пешеходная зона, пожарные гидранты и бензоколонки, а также канализационная и фильтрационная системы, бетонные ограждения парковки, столы для пикника под открытым небом и декоративные кадки с цветами стоят на законной земле племени, и чтобы попасть в супермаркет, покупателям, из которых 86 % являлись членами племени, приходилось заезжать на стоянку, а потом идти пешком по земле трастового фонда племени.
Суд подтвердил свою юрисдикцию по этому делу, поскольку не было представлено доказательств, отрицающих, что с истцов взималась надбавка за покупки.
Эту папку отец отложил в сторону.
– А по-моему, самое обычное дело, – заметил я, стараясь ничем не выдать своего разочарования.
– В этом деле мне удалось доказать ограниченную юрисдикцию над бизнесом, владельцами которого были неиндейцы. Мое решение было поддержано апелляционным судом.
В его голосе я расслышал нотки гордости.
– Меня это вполне удовлетворило, – продолжал он. – Но я не поэтому его отложил. Я захотел изучить его подробнее из-за людей, участвовавших в том процессе.
Я взглянул на наклейку на папке.
– Из-за Томми Томаса или Ларков?
– Из-за Ларков, хотя Грейс и Джордж уже умерли. Осталась Линда. И их сын Линден, который в суде не участвовал и в этой папке не упоминается. Но он связан с другим делом, эмоционально более сложном. Семейство Ларков всегда кичилось своим добрым отношением к «хорошим индейцам», а на самом деле они нас втайне презирали, хотя кому-то открыто благоволили – но только чтобы продемонстрировать свою симпатию к индейцам, которых они ничтоже сумняшеся обжуливали. Эти Ларки были прожженными дельцами и мелкими воришками, ставшими жертвами самообмана. Вечно предъявляя всем и каждому завышенные моральные требования, сами они всегда находили оправдание собственным недостаткам. Эти люди – мелкотравчатые лицемеры, способные иногда, если им подворачивалась возможность, совершать жуткие вещи. Например, Ларки были ярыми противниками абортов. Но когда у них родились близнецы, они чуть не согласились умертвить самого слабого младенца – девочку, которая, как им тогда показалось, появилась на свет с врожденным заболеванием. Вся резервация об этом знала, потому что принимавшая роды акушерка забрала у них младенца-калеку, а ночная уборщица той больницы Бетти Уишкоб, она из нашего племени, в конце концов удочерила девочку. Что приводит нас к другому делу…
Дело о наследовании имущества Алберта и Бетти Уишкоб
Алберт и Бетти Уишкоб, оба принятые в племя чиппева и жившие в резервации, умерли, не оформив завещания. У них осталось четверо детей: Шерил Уишкоб-Мартин, Седрик Уишкоб, Алберт Уишкоб-мл. и Линда Уишкоб, урожденная Линду Ларк. Линда была удочерена без официальной регистрации семьей Уишкоб и воспитывалась в их семье как индеанка. После смерти ее приемных родителей другие их дети, покинувшие на тот момент резервацию, согласились предоставить Линде право проживать, как и раньше, в доме Алберта и Бетти, который стоит на участке № 1002874 общей площадью 160 акров[9], переведенном в собственность трастового фонда племени по закону о реорганизации индейских территорий 1934 года. 19 января 1986 г. биологическая мать Линды Ларк-Уишкоб Грейс Ларк обратилась в этот суд с иском о предоставлении ей опеки над ее взрослой дочерью Линдой с целью управлять ее делами.
Грейс Ларк утверждала, что вследствие болезни, развившейся после того, как Линда подверглась тяжелым медицинским процедурам, у нее возникли острая депрессия и психическое расстройство. Грейс Ларк откровенно заявила, что она заинтересована в приобретении под застройку 160 акров земли, которая, как она утверждала, стала принадлежать Линде после смерти ее приемных родителей.
Последний абзац был написан от руки. Это была пометка отца для самого себя.
Поскольку Линда по крови не была индеанкой и поскольку нет никакого юридического документа об официальном удочерении Линды супругами Уишкоб, и поскольку Грейс Ларк не пыталась вступить в контакт с другими тремя детьми-наследниками, а также ввиду того, что Линда Ларк-Уишкоб, по мнению суда, была не просто психически дееспособной, а психически здоровее многих людей, выступавших в этом суде, включая и ее биологическую мать, поданный иск был отклонен без возможности обжалования.
– Странно, – сказал я.
– Дальше больше, – заметил отец.
– В каком смысле?
– То, что ты прочитал, – только верхушка психологической драмы, которая долгие годы изводила обоих Ларков, отказавшихся от ребенка, и Уишкобов, которые по доброте душевной спасли и вырастили Линду. Когда же до детей Уишкобов дошли слухи об иске, о неуклюжих, алчных, подлых потугах захватить чужую землю и извлечь выгоду из наследства, которого по закону вообще не было, потому что эта земля не могла быть изъята из собственности племени, они просто взбеленились. Старшая сестра Линды Шерил, фактически ее названая сестра, предприняла решительные действия и организовала кампанию по бойкоту бензозаправки Ларков. Но этим дело не ограничилось, она же помогла Уайти подать заявку на получение бизнес-гранта. И теперь все местные ездят заправляться на их АЗС. Дядя Уайти и Соня сломали Ларкам бизнес. В это же самое время сын миссис Ларк Линден потерял работу в Южной Дакоте и вернулся домой помогать матери управлять загибающимся предприятием. Она скоропостижно умерла от аневризмы. А он теперь во всем – и за ее смерть, и за свое близкое банкротство, которое теперь кажется неминуемым – винит Уишкобов, свою сестру Линду, Уайти и Соню, а еще и судью, рассматривавшего иск матери, то есть меня.
Отец нахмурился, глядя на папки, и провел ладонью по лицу.
– Я видел Линдена в зале суда. Говорят, у него неплохо подвешен язык. Может кого угодно обворожить своими речами. Но во время процесса он ни звука не проронил.
– А он не мог… – начал я.
– Напасть на маму? Не знаю. Он, конечно, тот еще фрукт. После смерти матери он ненадолго ударился в политику. В ходе процесса он, возможно, узнал неприятные для себя факты о проблемах юрисдикции внутри и вне резервации. Он написал анонимное письмо в газету «Фарго форум». Опичи сохранила вырезку. Я его читал – там было все как обычно: «давайте отменим резервации»; он даже использовал старое выражение белых расистов: «Мы забьем их без шума и пыли!» Они так и не поняли, что резервации существуют потому, что наши предки заключили с правительством законные сделки. Но его усилия не пропали даром. Как я слышал, Линден стал собирать средства для Кертиса Йелтоу, который выдвинул свою кандидатуру на выборах губернатора Южной Дакоты и разделял его взгляды. А еще я слышал – Опичи на хвосте принесла, естественно, – что Линден связался с местным отделением «Поссе Комитатус»[10]. Эта группа выступает за то, чтобы местные шерифы обладали всей полнотой выборной власти. Насколько я знаю, Ларк сейчас вернулся в дом матери. Живет тихо и частенько отлучается. Полагаю, в Южную Дакоту. Он ведет себя очень скрытно. Опичи говорит, все дело в женщине, но ее видели всего пару раз. Он приезжает и уезжает в разное время, но пока не было никаких признаков, что он торгует наркотиками или занимается чем-то противозаконным. Я точно знаю, что его мать умела возбуждать эмоциональную агрессию. Другим ее гнев передавался как зараза. С виду это была хрупкая невысокая старушка, но при этом обладала всепоглощающим собственническим инстинктом. Это была гадюка в человечьем обличии. Может быть, Линден Ларк не такой, как она, а может, впитал с материнским молоком ее яд.
Отец отправился на кухню налить себе еще кофе. А я как завороженный смотрел на дело.
Наверное, именно тогда я и заметил, что на каждой странице распечаток недавних решений отца стояла его собственноручная подпись авторучкой с голубыми чернилами. У него был аккуратный почерк, почти каллиграфический, и выведенные в старомодной манере буквы выстраивались точно паутинка. С тех пор я запомнил две характерные для судей особенности. Все они держали собак, и у всех была какая-то запоминающаяся причуда. Вот как эта авторучка с голубыми чернилами, хотя дома отец всегда пользовался шариковой ручкой. Я раскрыл последнюю папочку на письменном столе и углубился в чтение.
1 сентября 1974 года
Френсис Уайтбой (истец)
против
Асиджинэка, полиции племени и Винса Мэдвезина (ответчики)
Уильям Стерн – адвокат истца,
Джоанна Кер-де-Буа – адвокат ответчиков.
13 августа 1973 года в старом круглом доме, расположенном севернее озера Резервейшн, проходил обряд Трясущейся палатки. У оджибве обряд Трясущейся палатки считается одной из самых почитаемых священных церемоний, и, не вдаваясь в подробности, следует сказать, что данный обряд служит для исцеления просителей и для решения вопросов, касающихся общения с духами.
В тот вечер на обряде присутствовало более ста человек, кое-кто из них, стоящих рядом с толпой, распивал спиртное. Одним из пьющих был Хорэс Уайтбой, брат Френсиса, истца в этом деле. Распорядитель обряда Асиджинак обратился к Винсу Мэдвезину, сотруднику местной полиции племени, с просьбой обеспечить безопасность церемонии. Винс Мэдвезин попросил Хорэса Уайтбоя и других, распивавших вместе с ним, покинуть территорию.
В индейской культурной традиции считается неприемлемым, даже оскорбительным, распивать спиртное во время обряда Трясущейся палатки. И Мэдвезин действовал надлежащим образом, попросив распивающих уйти. Несколько пьющих, осознав, что они грубо нарушили священный этикет, незамедлительно покинули церемонию. Свидетели видели, как Хорэс Уайтбой со своими собутыльниками покинул священное место и нетвердой походкой ушел по дороге. Однако, по утверждениям ряда свидетелей, дух в палатке, где в тот момент находился Асиджинак, предупредил вступивших с ним в контакт, что Хорэс Уайтбой в опасности.
На следующий день после церемонии Хорэс Уайтбой был обнаружен мертвым. По-видимому, он отделился от группы собутыльников, повернул назад и попытался вернуться к ритуальному дому. У подножия холма он, по-видимому, решил прилечь. Его обнаружили в кустах лежащим на спине и захлебнувшимся собственной рвотой.
Френсис Уайтбой, брат Хорэса, обвинил в халатности Асиджинака (который находился в палатке и узнал от духов, что Хорэсу грозит опасность) и Винса Мэдвезина (который в тот день не был на службе и оказывал услуги по обеспечению безопасности церемонии бесплатно).
Суд нашел, что единственной обязанностью Асиджинака было дать возможность духам озвучить, посредством его присутствия в палатке, то, что им было известно. И эту обязанность он выполнил.
Действия же Винса Мэдвезина по обеспечению безопасности во время обряда Трясущейся палатки были надлежащими, и поскольку он не находился на службе и его работа не оплачивалась, данный иск не может быть предъявлен полиции племени. Обязанностью Мэдвезина было должным образом предупредить распивавших спиртное людей. Он не несет ответственности за действия распивавших.
Человек, допившийся до ступорозного состояния, всегда рискует стать жертвой случайной смерти. Смерть Хорэса Уайтбоя, хотя и является трагическим происшествием, стала результатом его собственных действий. Хотя сострадание алкоголикам должно быть нормой человеческого отношения к ним, закон не требует заботиться о них, как о малых детях. Смерть Хорэса Уайтбоя произошла вследствие его поведения, и его судьба была определена его собственными решениями.
Суд вынес решение в пользу ответчиков.
– Почему ты отложил эту папку? – спросил я отца, когда он вернулся.
Было уже поздно. Отец сел за стол, глотнул кофе и снял очки для чтения. Потом потер глаза и брякнул, не думая – наверное, от усталости:
– Из-за круглого дома.
– Из-за старого круглого дома? Это там произошло?
Он не ответил.
– То, что с мамой произошло, – это там случилось?
И опять нет ответа.
Он отодвинул бумаги, встал. Свет упал ему на лицо, и морщины резко очертились, превратившись в трещины на коже. Он выглядел тысячелетним старцем.
Глава 4 Громким шепотом
Каппи был тощим парнем с большими ручищами и покрытыми шрамами костистыми ступнями, при этом у него были рельефные скулы, прямой нос, большие белые зубы и глянцевитые волосы с длинной челкой, прикрывавшей один карий глаз. Поврежденный карий глаз. Девчонки обожали Каппи, даже при том, что его скулы и подбородок были вечно исцарапаны, а одна бровь рассечена белым шрамом – в том месте, где ему в детстве камень раскроил лоб. Он ездил на ржавом синем велосипеде с десятью скоростями, который Доу нашел около католической миссии. Весь их дом был завален всевозможными инструментами, и Каппи постоянно чинил свой велик. Тем не менее работала у него только одна скорость. А ручные тормоза отказывали в самый неожиданный момент. Поэтому, когда Каппи гнал на велике, он был похож на подростка-паука, крутившего педали так быстро, что ног не было видно. Время от времени он опускал обе ноги к земле и ими тормозил или, если это не помогало, совершал самоубийственный прыжок из седла вбок, через раму.
У Энгуса был видавший виды розовый ВМХ, который он все собирался перекрасить, пока не осознал, что этот дурацкий цвет оберегал велосипед от угона. У Зака велосипед был новый, крутого черного цвета. Велик ему подарил отец, вернувшийся после двухлетнего отсутствия. Поскольку по закону мы не могли ездить по дорогам (хотя, естественно, мы ездили, когда нужно было), велики давали нам свободу. Мы не зависели ни от тачки Элвина, ни от лошадок Уайти, хотя мы и на лошадях ездили, если была такая возможность. И нам не нужно было просить Доу или мать Зака подбросить нас туда-то или туда-то, что особенно было ценно в первое утро после окончания занятий в школе, потому что они бы все равно не отвезли нас, куда мы хотели.
Зак, который регулярно слушал радиоприемник отчима, настроенный на полицейскую волну, сообщил мне, где было совершено нападение на маму. В круглом доме для обрядов. К этой старой бревенчатой постройке на дальнем берегу озера Резервейшн вела широкая лесная дорога. Рано утром я встал и тихонько оделся. На цыпочках спустился вниз и выпустил Перл. Мы с ней пописали в кустах за домом. Мне просто не хотелось шумно спускать воду в унитазе. Потом я потихоньку вернулся в дом, чуть приоткрыв сетчатую дверь, чтобы она не скрипела, и придержав рукой, чтобы она не хлопнула. Перл вбежала со мной и молча наблюдала, как я засовывал в рюкзак сэндвичи с арахисовым маслом. Следом за сэндвичами отправилась банка маминых соленых огурцов и бутылка воды. Я оставил отцу короткую записку, чтобы он знал, где я (все лето я сквозь зубы проклинал его занудство: отец требовал, чтобы, уходя из дома, я писал, куда иду и когда буду). Я черкнул слово «озеро» на бланке, который он оставил для меня на кухонном столе. Я оторвал половину листа и написал еще одну записку, которую сунул в карман. Потом положил руку на голову Перл и заглянул в ее белесые глаза.
– Стереги маму! – строго сказал я.
Через пару часов Каппи, Зак и Энгус должны были ждать меня около нашего пня у шоссе. Там я оставил вторую записку, в которой сообщал, что ушел вперед. Я так специально спланировал, потому что хотел оказаться на месте первым и побыть там в одиночестве.
Стояло чудесное июньское утро. Прохладная роса еще лежала на кустах диких роз и полыни, проросшей скошенной прошлой осенью травы. К полудню будет жарко. Это я мог предсказать не хуже метеорологической службы. Жарко и ясно. А значит, вылезут клещи. В такую рань вокруг никого не было. Мимо меня на шоссе промчались только две машины. Я свернул на покрытую щебенкой проселочную дорогу к Машкигу, которая была с обеих сторон обсажена деревьями и поначалу бежала вокруг озера. Вдали из-за кустарников виднелись дома на берегу. Время от времени мне под колеса бросались местные собаки, но я так быстро крутил педали, что пулей пролетал по их территории, и они только успевали меня облаять, но ни одна не бросалась в погоню. Даже клещу, спланировавшему с дерева мне на руку, не удалось вцепиться в кожу. Щелчком пальца я скинул его и помчался еще быстрее, пока не выехал на тропинку, ведущую к круглому дому. Тропинка все еще была перекрыта заграждениями в виде пластиковых конусов и крашеных стальных бочек. Я догадался, что эту дребедень тут оставили полицейские. Я слез с велика и повел его рукой, внимательно осматривая землю под ногами и заглядывая под кусты. В последние недели все тут сильно заросло листвой. Но я искал то, что могло бы ускользнуть от других глаз – как нередко бывало в детективных романах, которые я брал у дяди Уайти. Но я не заметил ничего необычного, ничего, лежащего не на своем месте, правда, это же был лес, и тут в общем все лежало не на своем месте. Словом, я не нашел ничего, что могло бы показаться тут лишним. Все было тщательно прочесано вдоль и поперек. Что было странно. Вот бы найти хоть пустую банку, пробку от бутылки или горелую спичку. Но нет, тут явно все прибрали. Не обнаружив ничего интересного или полезного, я дошел до просеки на возвышенности, где виднелась круглая бревенчатая постройка.
Траву еще не косили, но площадка для парковки вся заросла сухонькими кустиками. Пасущиеся тут лошади повыдергали все сочные растения под корень, и теперь под шинами моего велосипеда шуршали одни жесткие сорняки. На вершине небольшого пригорка, в высокой ярко-зеленой густой траве стоял шестигранный бревенчатый дом. Я бросил велик на землю. Стояла мертвая тишина. И вдруг сквозь щели между серебристых бревен с низким стоном вырвался воздух. Я вздрогнул от неожиданности: казалось, дом издал тихий горестный вопль. Этот протяжный вопль буквально захлестнул меня. Наконец он прекратился, и я решил подойти поближе и двинулся вверх по склону. Волосы у меня на затылке зашевелились – наверное, от легкого ветерка. Но когда я подошел к круглому дому совсем близко, солнце согрело мне плечи, словно обняв меня добродушной рукой. Дом казался вполне безобидным. Двери не было. То есть когда-то дверь была, но теперь сколоченное из нескольких досок прямоугольное полотно валялось на траве. Сквозь щели между досок уже проросла трава. Я встал в дверном проеме. Внутри царил полумрак, хотя с четырех сторон были прорезаны небольшие окошки. Пол был чистый – ни пустых коробок, ни бумажек, ни одеял. Все собрала и увезла полиция. Я ощутил слабый запах бензина.
В стародавние времена, когда индейцам не разрешалось практиковать свою религию – ну, вообще-то не так уж и давно это было: до 1978 года – эта бревенчатая постройка использовалась для обрядовых церемоний. Люди делали вид, будто устраивают здесь танцевальные вечера, или приносили сюда свои Библии. В те времена из южного окошка сразу можно было заметить фары машины, мчавшейся сюда по длинной дороге от города. И к тому моменту, как священник или начальник управления по делам индейцев подъезжали к круглому дому, водяные барабаны, и орлиные перья, и мешочки со снадобьями, и берестяные свитки, и священные трубки уже были спрятаны на дне двух моторок, которые тарахтя спешили через озеро. А из сумок вынимались Библии, и люди вслух читали Книгу Екклесиаста. «Почему именно эту часть Библии?» – спросил я как-то Мушума. «Глава первая, стих четвертый, – ответил он. – „Род проходит, и род приходит, а земля пребывает вовеки“. И мы так считаем. Иногда мы танцевали там американскую кадриль, – усмехнулся Мушум. – Наш верховный жрец был отличным распорядителем танцев!»
У нас в городе тогда служил старый католический священник отец Дамьен, который не гнушался садиться вместе с жрецами. Он отправлял начальника управления по делам индейцев восвояси. А водяные барабаны, орлиные перья и священные трубки снова приносили в круглый дом. Старый падре выучил наши песни. Никто из нынешних священников их уже не знает.
Рассказ Зака о переговорах полицейских, которые он услышал по радиоприемнику отчима, как и сконфуженное молчание отца, случайно упомянувшего о круглом доме, навели меня на мысль, в каком месте было совершено преступление. Но я понятия не имел, где именно. И теперь меня посетила догадка: он напал на маму прямо здесь. Старая бревенчатая постройка сообщила мне об этом – нет, мне тогда почудилось, что она возопила маминым голосом, воплем страдания и боли, и слезы навернулись у меня на глаза. Слезы текли по щекам, а я их не утирал – ведь никто меня не видел. Я стоял в полумраке, думая слезами – да-да, слезы бывают мыслями, разве не так?
Я стал вспоминать во всех подробностях мамино бегство – так, как его описывал отец. Значит, машина стояла у подножия пригорка, рядом с кустарником. Вряд ли кто-то подошел бы к круглому дому по дороге с той стороны. Чуть дальше начинался берег озера, но попасть к нему было проще по дороге вдоль озера на дальнем берегу. Разумеется, насильник – я, правда, мысленно не употребил этого слова, я думал о нем как о «напавшем» – так вот, напавший понадеялся на то, что это пустынное место останется безлюдным. То есть он был в курсе повседневной жизни резервации. То есть он все хорошо спланировал заранее. По ночам на берегу собирались выпивохи, но чтобы дойти от круглого дома до берега, надо было перелезть через ограду из колючей проволоки, а потом еще преодолеть густые заросли кустов.
Он напал примерно здесь, где я сейчас стоял. И оставил ее здесь же, а сам пошел за другим коробком спичек. Я постарался не думать об охватившем маму ужасе и о том, как она заползла под машину. Я просто представил, что напавший, уйдя за спичками, отдалился на приличное расстояние от этого места, раз он не успел вовремя вернуться и выволочь ее из-под машины.
Итак, мама поднялась с пола, выбежала через дверной проем, потом помчалась вниз по пригорку к своей машине. А напавший, должно быть, спускался по противоположному, северному склону и не увидел ее. И я двинулся по его предполагаемому маршруту, через высокую траву, к ограде из колючей проволоки. Я раздвинул проволоку сверху и боком протиснулся сквозь нее. Еще одна проволочная ограда бежала мимо берез и тополей вниз к озеру. Я зашагал вдоль нее, пока не добрался до берега.
Я подошел к воде. Наверное, тут у него где-то был тайник, а может быть, тут он оставил машину, припарковавшись прямо у озера. Он вернулся за спичками, потому что те, что были у него, отсырели. Возможно, он курил. И оставил здесь запасной коробок или зажигалку. Он шел вдоль проволочной ограды от дома до озера. Добрался до тайника. Услышал, как хлопнула дверца маминой машины. Побежал обратно, намереваясь схватить маму. Но опоздал. Ей удалось завести мотор и нажать на педаль газа. Она уехала.
Я пересек узкий песчаный пляж и вошел в озеро. Мое сердце бешено заколотилось, когда я осознал, что совсем не чувствую воду. Зато я живо ощущал охватившую его досаду, когда он смотрел вслед удаляющейся машине. Я буквально увидел, как он в бессильной ярости схватил канистру и едва не зашвырнул ее в краснеющие вдалеке задние фонари. Он побежал вперед, потом назад. Он остановился, внезапно вспомнив об оставленных у озера вещах, о своей машине, о своих сигаретах или что там у него было. И о канистре. Он не мог допустить, чтобы его задержали с этой канистрой. И как бы ни было холодно тем майским днем: заморозки на траве и ледяная вода в озере, – ему пришлось довольно далеко зайти в воду и наполнить канистру. После чего, размахнувшись изо всех сил, он кинул полную канистру в озеро. Значит, если сейчас нырнуть и ощупать руками илистое дно, покрытое водорослями и улитками, я смогу найти эту канистру.
* * *
Друзья обнаружили меня сидящим перед валяющейся на траве дверью от бревенчатого дома. Я грелся на солнце и сушил одежду, а рядом стояла канистра. Увидев их, я обрадовался. Теперь я четко понимал, что напавший на маму намеревался еще и сжечь ее заживо. Но хотя такой жуткий финал не вызывал сомнения или, во всяком случае, его можно было предположить, судя по реакции тети Клеменс в больнице и по рассказу отца о мамином побеге, я подсознательно отказывался его принять. Но теперь, когда канистра из-под бензина лежала прямо передо мной, я впервые осмыслил этот факт – и меня всего затрясло так, что зубы начали выбивать дробь. Когда я сильно нервничал, меня иногда одолевал приступ тошноты. Этого не случилось ни в машине, когда мы везли маму, ни в больнице, ни даже когда я ей читал вслух. Может быть, тогда просто все мои чувства притупились. Но сейчас я как бы пропустил через себя все произошедшее с ней. Я быстро выкопал ямку в земле, меня туда вырвало, и я прикрыл блевотину листьями и ветками. Я сидел, совершенно обессиленный. А когда услышал вдалеке голоса ребят и шорох велосипедных шин, а потом характерный звук, когда Каппи затормозил ногами, и их приветствия, я вскочил и начал хлопать себя по бокам. Не мог же я допустить, чтобы они увидели, как меня развезло, точно девчонку. Когда они подъехали ближе, я сделал вид, будто замерз в холодной воде. Энгус сказал, что у меня губы синюшные и предложил согреться «Кэмелом» без фильтра.
«Кэмел» без фильтра – лучше сигарет не своруешь. Элвин, бойфренд тети Стар, обычно курил какую-то безымянную гадость, но в последнее время, видно, обзавелся деньжатами. Энгус тайком залезал в его пачку и вытягивал по одной, так, чтобы тот ничего не заподозрил. Но сегодня Энгус стянул сразу две. Я аккуратно разломил предложенную сигарету пополам и поделился с Каппи. Зак и Энгус поделили другую. Я затягивался своей половинкой до последнего, пока не обжег пальцы. Мы курили молча, а когда закончили, сплюнули оставшиеся на языке табачные крошки, как это делал Элвин. Мятую темно-красную канистру сверху и снизу опоясывала золотая ленточка. Из сливного отверстия торчал длинный изогнутый носик. Толстыми черными буквами на фоне ярко-желтого пламени с голубоватой сердцевиной было написано: ОГНЕОПАСНО!
– Хочу поймать гада, – заявил я. – Хочу его сжечь!
Они поглядели на канистру. И сразу все поняли.
Каппи отодрал от расколотой двери щепку и начал втыкать ее в землю. Зак жевал травинку. Я поглядел на Энгуса. Тот был вечно голодный. Я сказал ему, что принес сэндвичи, и, достав сверток из рюкзака, раздал всем.
Сначала мы аккуратно отлепили верхние куски хлеба от арахисового масла. Потом положили на него хрустящие соленые огурчики. И снова прикрыли эту вкуснятину хлебом. Рассол от огурчиков просочился в арахисовое масло, которое уже не липло к зубам, и можно было заглатывать откушенные куски целиком, ощущая в привычном ореховом вкусе приятную острую кислинку. Когда с сэндвичами было покончено, Энгус выдул почти весь рассол из банки и зажевал его острым перчиком. Каппи выудил стебелек укропа и стал его жевать. Зак отвернулся – иногда он вел себя как тот еще привереда, но потом мог отколоть такое, что закачаешься.
Мы пустили по кругу бутылку с водой, а потом я им поведал о своей догадке – как произошло нападение на маму.
– Вот как все было, – произнес я без всякого смущения. – Он сделал это прямо здесь, – и я мотнул головой в сторону ритуального дома. – Он это сделал, а потом решил сжечь ее заживо там, внутри. Но у него отсырели спички. И он спустился с пригорка к озеру, чтобы принести сухой коробок.
Я в подробностях рассказал, как маме удалось от него сбежать. И как я подумал, что напавший оставил кое-что из своих вещей в лесу, и как я пошел вдоль ограды к озеру, и как вошел в воду и обнаружил место, где он утопил свою канистру. И еще я сказал, что он, вероятно, курил, потому что у него был запасной коробок спичек, за которым он ушел, а может, у него была зажигалка. Но он должен был что-то оставить в лесу. Если он бросил там пакет с вещами, возможно, он даже спал в лесу. А еще он мог оставить окурки. Или отрывал у сигарет фильтры, как это делает дядя Уайти, раскатывая в пальцах фильтр на волокна и скатывая пустую папиросную бумажку в шарик. Нам надо было искать улики: волокна, любые посторонние предметы, что угодно.
Все закивали и принялись осматривать землю вокруг. Каппи поднял голову и поглядел на меня.
– Сделаем! – твердо сказал он. – Да, Суперстар?
– Ладно! – отозвался Энгус. «Суперстаром» его прозвали потому, что его тетку звали Стар. – Посмотрим, что найдется.
Нашли мы только клещей. Наша резервация ими славится. Мы разделили лес на квадраты и прочесали всю территорию от ограды из колючей проволоки, которая тянулась к югу футов на тридцать до самого озера. Весной, если натыкаешься на гнездо клещей – а в этих гнездах они вылупляются огромным выводком, – они тебя всего облепляют. Но двигаются они медленно. Частично их можно смахнуть с себя, но в любом случае от всех не отделаешься. И мы, ползая в кустах, постоянно натыкались на их гнезда.
Зак перепуганно завопил. Он подпрыгнул, и я увидел, как стайка клещей перескочила с него на Энгуса и исчезла в блестящих волосах Каппи.
– Заткнись ты, нюня! – прикрикнул на него Энгус. – Блохи куда хуже клещей!
– Ну да, блохи! – отозвался Зак. – А помнишь, как твоя мать обработала дом средством против блох, забыв, что ты внутри остался?
– Э, приятель, тогда из дома всех повыгоняли и задали блохам жару! – возразил Энгус. Он поднял с травы кусок пластиковой обертки, повертел в руке и выкинул. – Да, забыли, что я сплю в углу, – так и оставили до утра. А блохи, спасаясь от потравы, попрыгали на меня, а мне тогда было всего четыре. Попили моей кровушки последний раз в жизни да и подохли в моей одежде. Мне еще повезло, что меня не высосали досуха.
– Они твой мозг высосали досуха, – сказал Зак. – Посмотри, чем ты в меня бросил.
Он ухватил двумя пальцами сморщенный презерватив и стал раскачивать его вперед-назад, как маятник. Судя по виду, презерватив пролежал в лесу всю зиму. Старшие подростки обычно приходили на берег озера и разводили костры. Я протянул Заку пакет из-под сэндвичей, и он опустил туда засохший презерватив. А потом мы нашли еще с десяток таких же и множество пивных банок, которые Энгус собрал, отнес к большому камню и стал их плющить ногой, чтобы сдать потом в приемный пункт. То, что издали казалось новой порослью кустов с густой листвой, на самом деле скрывало кучу мусора. Сюда были свалены бесчисленные окурки. Пакет из-под сэндвичей быстро наполнился чинариками и презервативами. Еще тут были обертки от конфет и скомканные куски туалетной бумаги. Полицейские либо не сочли нужным искать тут, либо просто устали.
– Как же омерзительно ведут себя люди! – сказал Зак. – Да тут полным-полно улик.
Я присел с пакетом из-под сэндвичей. По мне вовсю ползали клещи. Я сказал, что нам надо поскорее утопить клещей в озере. Мы бросились из леса, добежали до пляжа и разделись догола. Клещи остались главным образом в нашей одежде и в кожу еще не успели впиться – пострадал один только Энгус, которому клещ вцепился в мошонку.
– Эй, Зак, помоги мне его снять!
– Да пошел ты! – огрызнулся Зак.
Каппи захохотал.
– Оставь его там, пока он не набухнет! Тогда тебя все будут звать Три яйца!
– Как старика Низви, – добавил я.
– У него и впрямь было три яичка. Это правда. Моя бабушка точно знает! – уверял Зак.
– Хватит! – прикрикнул Каппи. – Не могу себе представить, что твоя бабуля занималась этим делом с мужиком, у которого три яйца!
Оказавшись в воде, мы стали нырять, плескаться и понарошку топить друг друга. Нам было жарко, мы так вспотели, и кожа у всех так жутко чесалась, что всем было приятно подурачиться в озере. Я запустил руку себе между ног – удостовериться, что клещ не забрался туда же, куда он проник к Энгусу. Потом я нырнул под воду и оставался там, насколько хватило воздуху. Когда я вынырнул, Зак повествовал:
– …Она говорила, что они бились о ее задницу, как три спелые сливы.
– Твоя бабуля вечно что-нибудь выдумывает! – фыркнул Каппи.
– Она мне об этом подробно рассказала! – сказал Зак.
Бывают индейские бабушки, которые близко к сердцу принимают церковное вероучение, а бывают индейские бабушки, которым церковь до лампочки, и к старости они совсем распоясываются и шокируют молодежь своими россказнями. У Зака была вот такая бабушка – второго рода. Бабушка Игнасия Тандер. В детстве она училась в католическом пансионе, но там, по ее словам, она только загрубела – так же, как там огрубевают будущие священники. Она говорила по-индейски и рассказывала о мужских секретах. Отец говорил, что когда бабушка и Мушум садились вместе за стол и начинали вспоминать старые деньки, они произносили такие непристойности, что даже в воздухе разливался скабрезный смрад.
Когда вода охладила и успокоила наши разгоряченные тела, мы вылезли на берег и, глядя на хозяйство друг друга, принялись потешаться над съежившимися петушками.
Зак расхохотался, глядя на меня:
– Не коротковат ли ты для имперского штурмовика?[11]
– Мой рост не имеет значения! Главное – какой он у меня, понял?
У Зака конец был круглый и блестящий, как шлем Дарта Вейдера: как и я, он был обрезанный. У Каппи и Энгуса концы были еще прикрыты крайней плотью, как капюшоном, поэтому они считались «императорами». Мы затеяли спор, какой тип члена лучше – «император», или «Дарт Вейдер», и какой их них предпочитают девчонки. Потом мы развели костер, сели, голые, вокруг него на бревна, сплошь покрытые нацарапанными именами каких-то мальчишек, и стали вытаскивать из одежды клещей, швыряя их в огонь.
– Уорф – явно «император», – сказал Энгус.
– Это точно, – согласился Каппи.
– Не-а, – возразил я. – В любом случае самый крутой у Дейты, ведь ученые снабдили бы андроида таким членом, который больше всего нравится девушкам, так? И это совершенно точно будет «Дарт Вейдер». Я ни о каком другом даже подумать не могу – только «Дарт»!
– Думаю, все на том космическом корабле оснащены «Дартами», – заметил Каппи. – Кроме Уорфа.
– Погоди, но он же клингон, – сказал Зак. – И вроде у него должен быть во-от такой прибор. Но сам вспомни: на его комбинезоне нет бугра в паху.
– Ты сомневаешься в силе клингона? – спросил Каппи, поднимаясь. Он взглянул себе между ног. – Подъем, дружище!
Никакой реакции. Мы начали над ним смеяться. Каппи тоже засмеялся. Через какое-то время нам захотелось покурить, и мы опять проголодались. Энгус пошел отлить. Он вбежал в воду, обогнул проволочную ограду и углубился в лес.
– Ух ты-ы! – раздался его торжествующий крик.
Энгус выбежал из леса, держа в каждой руке по целой связке банок пива «Хэммз». Двенадцать банок! Каппи и Зак завизжали от восторга. Я помчался к Энгусу. До сих пор мы находили в лесу только банки или бутылки из-под пива «Олд-Милл» или «Блатц», которые выпускались в то время в резервации. И невзирая на то, что героем телевизионного рекламного ролика пива «Хэммз» был танцующий и бьющий в барабан индейский медведь в боевом венце из орлиных перьев, мы были верны марке «Блатц».
– Брось! – заорал я. Энгус замер, потом осторожно положил обе связки на землю.
– Думаю, это он оставил, – продолжал я. – Думаю, это улики. На них должны остаться его отпечатки пальцев.
– Э-э-э… – Было видно, что Энгус быстро размышляет о чем-то. Заговорил он тоже быстро. – А разве вода не смывает отпечатки? Я нашел их в открытом кулере. Банки стояли в воде.
– Ты нашел его тайник! – сказал я.
– Так можно я пиво возьму? – спросил Энгус.
– Давай!
– Можно и я одну открою?
Я со вздохом посмотрел на друзей.
– Можно!
Все разом вытянули руки и извлекли банки из пластиковых колец.
– Если отпечатков пальцев нет, то, по крайней мере, главная улика – в том, что он пьет «Хэммз», – размышлял я вслух. – Вот и думай теперь, что хочешь.
Я взял банку пива. Жестянка была мокрая и холодная. Держа ее в ладони, я пошел следом за Энгусом к тому месту, где он нашел пиво. Я предупредил, что нам не стоит подходить к тайнику слишком близко, чтобы не затоптать другие улики, что лучше бы подползти туда и собрать все, что мы там обнаружим.
– Опять ползти? – возмутился Энгус.
Кулер из дешевого пенополистирола стоял у дерева. Рядом валялась куча какой-то одежды.
Каппи заявил, что предпочитает сначала выпить пива, слегка захмелеть, а уж потом ползать и собирать улики, ведь потом опять придется прыгать в холодную воду и смывать с себя клещей. И мы стали пить пиво.
– Хорошо пошло, – похвалил Энгус. Он попытался сплющить банку о бедро. – Уй! – поморщился он.
Мы рассредоточились кольцом и поползли к кулеру. Контейнер стоял на краю пастбища, и мы то и дело натыкались на засохшие коровьи лепешки. Мы по-быстрому осушили банки, чтобы словить кайф, зная, что у каждого в запасе еще по две банки холодненького, и мы выпьем их врастяжку у костра. На этот раз ползти оказалось куда легче, но Энгус поднял ногу и пукнул в мою сторону.
– Только не соревнуйтесь, кто громче, – предупредил Зак.
– А то! – кивнул Энгус и снова пукнул.
Каппи метнул к середине пастбища коровью лепеху, точно пластиковую тарелочку фрисби, и захохотал.
– Почему индеец не любит коровьи лепешки?
Никто не ответил, кроме Каппи:
– Потому что они ему до коровьего дерьма!
– Ха-ха! – иронически произнес Зак. – Ты станешь эм-си на пау-вау, как твой отец, и будешь зубоскалить в микрофон!
Все знали, что дома Доу, Рэндалл и Каппи иногда садились за стол и выдумывали дурацкие индейские шуточки.
– А сколько будет четыре бакса и четыре бакса?
– Драка четыре на четыре в индейском баре, придурок! – ответил Энгус. Он снова поднял ногу, но в кишках у него уже не осталось газов.
Пока мы ползли, я рассматривал нас. У меня кожа смуглая. У Каппи – чуть темнее. У Зака темно-коричневая. У Энгуса – белая, но загорелая. Каппи уже вымахал о-го-го, а я чуть-чуть отстал от него. Зак и Энгус были ниже меня. И у нас на теле было так много шрамов, что и не сосчитать.
– И почему это четыре голых индейца в лесу все время хохочут? – спросил Каппи.
– Не подначивай! – заметил я.
– Потому что им весело до усрачки!
– Балда! – засмеялся я.
Хотя Каппи и был красавчиком, который нравился девчонкам, чувство юмора у него подкачало.
Энгус полз впереди меня. Я держался поодаль. Но все равно видел его задницу, испещренную красными точками – там, куда его брат всадил заряд дроби. Мы теперь ползали кто куда, забыв про намеченные заранее квадраты. С этой стороны ограды мусора никакого не было. И я догадался, что напавший тоже зашел в воду, обогнул ограду и устроил свой тайник подальше от пляжа. Мы доползли до кулера, и я стал тыкать палкой в кучу одеял и одежды.
Одеяла были полиэстеровые. Еще там валялись мокрая рубаха и джинсы. Все это воняло застарелой мочой, как на задворках бара «Мертвый Кастер».
– Может, стоит оставить вещи для полиции, – предположил я.
– Если мы им скажем про вещи, тогда придется рассказать, что мы тут побывали, – рассудил Зак. – Тогда они поймут, что я прослушивал рацию Винса и его телефонные переговоры. И окажусь в полном дерьме.
– А еще пиво, – напомнил Энгус.
– Плохо, что мы выпили половину пива – это же улики! – сказал Каппи.
– Давайте прикончим остальное! – предложил Зак.
– Ладно! – согласился я.
Мы двинулись в обратный путь, обогнули ограду, развели костер на берегу. После чего бросились в воду и стали нырять, чтобы избавиться от новой порции клещей. Зак продемонстрировал подмышку, куда ему однажды попала стрела. Врачи сказали, что он чудом не умер. Зажившие швы были похожи на белые шпалы игрушечной железной дороги, бежавшей от подмышки вниз по ребрам. Мы оделись и снова почувствовали себя в норме. Расселись вокруг костра и, разобрав оставшиеся улики, открыли их.
– А его третье яйцо было такого же размера, что и другие два? – спросил Энгус у Зака.
– Не начинай! – поморщился Каппи.
– У меня вот какая мысль, – сказал я, – а какой смысл нам вообще говорить с полицией? Они же проворонили канистру. Проворонили кулер. И кучу одежды.
– От этой кучи одежды несет мочой!
– Он описался! – сделал вывод Энгус.
– Надо сжечь этот хлам, – предложил я.
У меня защипало в горле, и такие острые переживания нахлынули, что я опять чуть не расплакался. И вдруг мы замерли. Со стороны пригорка, сквозь шелест листвы, раздался пронзительный звук, словно кто-то свистнул в орлиную косточку. Ветер изменил направление, и когда воздух засвистел сквозь замазанные грязью щели между бревнами в круглом доме, раздалась целая россыпь пронзительных звуков.
Каппи поднялся и внимательно посмотрел на круглый дом.
Энгус осенил себя крестным знамением.
– Давайте-ка сваливать, – предложил Зак.
Мы расплющили пустые банки, набили ими пластиковый мешок и завязали, чтобы Энгус мог их сдать. Потом затоптали костер и закопали остальной мусор. Я привязал канистру шнурком к багажнику велика, и мы тронулись в путь. Солнце уже отбрасывало длинные тени, в воздухе стало прохладно, и мы снова проголодались, да так сильно, как только могут проголодаться подростки. То есть мы не чувствовали ничего, кроме голода, и все, что попадалось нам по дороге, выглядело страшно аппетитным, и мы ни о чем не могли говорить – только о еде. И всех занимало только одно: где бы раздобыть еды, много еды – да побыстрее. Матери Зака дома не было – наверняка она торчала в игорном клубе. Как и тетя Стар – она либо сорвала куш, либо проигралась вчистую, иного варианта не могло быть, а раз сегодня суббота, то она, скорее всего, проиграла все деньги, отложенные на еду. В ту неделю в доме у Каппи было шаром покати. Хотя его отец, возможно, приготовил жаркое. Холостяцкое жаркое в исполнении Доу было жуткой бурдой. Однажды он добавил в фасолевую похлебку чернослив из банки. А однажды оставил тесто, замешенное для выпечки хлеба, на ночь в кухне, и в него залезла мышь. И потом Рэндаллу достался кусок хлеба с мышиной головой, а Каппи – с хвостом. Но туловища так и не нашли. Мой дом даже не рассматривался, хотя до происшествия с мамой мы бы наверняка совершили туда налет и поживились бы какой-нибудь вкуснятиной. По пути был дом дяди Уайти и Сони, но я терпеть не мог, когда мои друзья обсуждали Соню. Соня принадлежала мне одному. И я сказал, что они сейчас наверняка оба торчат на своей заправке. Многообещающим вариантом была бабушка Тандер. Она жила в доме престарелых в отдельной палате с большой кухней. Ей нравилось потчевать нас. Ее чулан ломился от съестных припасов, которые она выменивала у всех подряд.
– Она испечет нам лепешки и мяса даст, – мечтательно протянул Зак.
– У нее всегда есть консервированные персики, – благоговейно произнес Энгус.
– Она знает толк в еде! – подтвердил Каппи.
– Только смотрите, не говорите при ней о яйцах и не произносите «вагина»!
– Да кто ж такие слова будет произносить при бабушке!
– Ну, случайно может соскочить с кончика языка!
– И про кончик не говорите!
– И про кошек не надо, а то она еще скажет «киска!».
– Ладно, – согласился я. – Вот список запрещенных слов, пока мы будем кормиться у бабушки Тандер: яйца, кошки, киски, пиписки.
– И про головку тоже помалкивай!
– И не говори «виинаг»[12] и никаких слов, которые рифмуются со «звездой» или с «теннисом».
– Еще запрещаются слова «промежность», «палка», «трахнуть» – ну, типа «трахнуть по башке». Она это воспримет не так, уж поверьте мне.
– И нельзя говорить «встал» и «отвердел»
– А еще «горячая», «буфера» и «девственная».
– Мне надо слезть с велика, – объявил Энгус.
Мы остановились и положили велосипеды на землю. Стараясь не глядеть друг на друга, все пробормотали что-то вроде «надо отлить», разбрелись по сторонам, а минуты через три, освободившись от бремени этих возбудительных слов, вернулись, оседлали велосипеды и продолжили свой путь по проселку мимо католической миссии. Добравшись до города, мы поехали прямехонько к дому престарелых. Я чувствовал себя виноватым из-за того, что написал в записке отцу лишь одно слово «Озеро». И из вестибюля позвонил домой. Отец снял трубку после первого звонка, и когда я сообщил ему, что приехал навестить бабушку Тандер, он даже обрадовался и сказал, что дядя Эдвард показывает ему последнюю научную статью моего кузена Джозефа и они доедают приготовленный им вчера ужин. Я спросил – хотя и так знал, – где мама.
– Наверху.
– Она спит?
– Да.
– Пап, я тебя люблю!
Но он уже дал отбой. И мои слова «я тебя люблю!» эхом отозвались в онемевшей трубке. И почему я это ляпнул и почему именно тогда, когда слышал, что он кладет трубку на рычаг? Меня разозлило, что я с запозданием произнес эти слова, а обида, что отец никак на них не отреагировал, обожгла мне сердце. Красное облачко ярости застило мне глаза. И еще у меня слегка кружилась голова от голода.
– Ну, ты скоро? – рявкнул Каппи, подойдя сзади, и его неожиданное появление так меня испугало, что мои глаза снова наполнились слезами. Это было уж слишком!
– Да пошел ты в жопу! – выдохнул я.
Он поднял обе руки вверх и отошел. Я поплелся за ним по коридору. Мы уже почти дошли до бабушкиной палаты, когда я выдавил из себя:
– Каппи, я просто…
Он обернулся. Я сунул руки в карманы и зашаркал подошвами по полу. Отец наотрез отказался покупать мне баскетбольные кроссовки, которые я присмотрел в Фарго. Он счел, что я могу обойтись без новой обуви – и был, конечно, прав. Но у Каппи были кроссовки моей мечты. Он тоже сунул руки в карманы и глядел в пол, мотая головой взад-вперед. Странное дело, он повторил вслух мои мысли, хотя и соврал.
– У тебя кроссовки, о которых я мечтаю.
– Нет, – возразил я, – это у тебя кроссовки, о которых я мечтаю.
– Ладно, давай меняться!
И мы обменялись кроссовками. Обувшись, я понял, что его нога на размер больше моей. А он пошел прочь, неуклюже вышагивая в тесных кроссовках. Он просто слышал, что я сказал отцу по телефону.
Мы зашли к бабушке, и, само собой, мясо в луковой подливке уже скворчало на плите. Бабушка хлопотала у плиты. Аромат был такой мощный, что у меня живот свело. Я мечтал хоть что-нибудь запихнуть в рот, приглушить голод. На столе стояла тарелка с горкой сэндвичей из белого хлеба с джемом – чтобы мы могли заморить червячка. Я тут же слопал один и перевел взгляд на миску с сушеными сладкими яблочками. За домом престарелых росла яблоня, и бабушка всегда снимала с нее плоды. Она разрезала каждое сорванное яблочко на дольки и, высушив в духовке, посыпала сахарным песком и корицей. Я съел еще один сэндвич с джемом. Она уже расставила тарелки и рядом с каждой положила по бумажному полотенцу, чтобы мы клали на них сочащиеся маслом жареные лепешки.
– Виисиниг[13], – проговорила бабушка, не оборачиваясь.
Я взял несколько ломтиков сушеных яблочек и положил себе на язык. Потом поглядел на Каппи. Мы съели еще по сэндвичу и смотрели на бабушку, словно одурманенные чувством голода, пока она не начала вынимать жареные лепешки. Тогда мы встали к ней в очередь со своими тарелками наготове. Она доставала щипцами одну лепешку за другой из кипящего лярда и раскладывала пухлые золотистые круги по нашим тарелкам. Мы ее чинно благодарили. Бабушка тем временем посолила и поперчила томящееся в горшке мясо, потом вывалила туда банку томатов и банку фасоли.
Наконец она щедро бухнула на лепешки несколько ложек жаркого. На столе еще красовалась здоровенная головка сыра. Она достала сырную голову из морозилки, поэтому сыр было легко натирать на терке над дымящимся мясом. Мы с Каппи были так голодны, что набросились на еду, едва сев за стол. Зак и Энгус ждали своей очереди на дворе, куда они вышли через сдвижную дверь. Когда бабушка приготовила для них индейские тако и позвала к столу, они сели на диван и принялись есть.
Долгое время все молчали. Мы безостановочно ели. Бабушка что-то напевала себе под нос, суетясь у плиты. Она была невысокая, худощавая и всегда носила одно и то же светлое платье в цветочек, телесного цвета чулки, скатанные вниз до лодыжек, словно это была такая особенная мода, и самолично сшитые из оленьей кожи мокасины. Обе тетушки Каппи обрабатывали оленьи шкуры во дворе за домом. И у обеих на дворе всегда стоял стойкий запах сыромятной кожи, но зато кожи они выделывали на славу. И каждое лето они дарили бабушке мягкую оленью шкуру. Ее мокасины были украшены бисерной вышивкой в виде розовых цветочков. Она собрала свои длинные седые пряди в пучок и надела серьги из белых раковин. Ее морщинистое лицо имело лукавое выражение, а пронзительные глаза напоминали черные бусины. Ее взгляд никогда не излучал нежность или любовь, а напротив, был холодный и настороженный. Что странно для старенькой женщины, которая так любила кормить нас, мальчишек. Но с другой стороны, она повидала на своем веку так много смертей и прочих потерь, что в ее душе просто не осталось места для сантиментов.
Утолив голод, мы ели уже не так жадно. Нам хотелось покончить с едой одновременно – поесть и убежать. Но бабушка дала нам добавки, и мы начали есть по новой, теперь уж совсем медленно, и по-прежнему все молчали. Умяв свою порцию, я поблагодарил бабушку и понес тарелку к раковине. Я уж собрался сказать ей, что мне пора домой, как в дверь без стука вошла миссис Биджиу. Ее я на дух не переносил. Она была громадная, ходила вперевалку и обладала громоподобным голосом. Она сразу плюхнулась на мой стул и выдохнула:
– Ууфф!
– Да, они поели на славу! – сообщила бабушка.
– Все высший класс! – изрек Энгус.
– Нам надо бежать, кукум![14] – сообщил Зак.
– Апиджиго миигве, – учтиво произнес Каппи. – Минопогозиваг ингив заасакок ваанаг[15].
Хитрюга знал, как доставить старушкам удовольствие: надо произнести пару слов по-индейски, пускай даже не все он выговаривал правильно.
– Да вы только послушайте этого анишинаабе![16]
Им и впрямь было приятно.
– Ну, идите! – Бабушка Тандер махнула рукой в сторону двери, довольная, что мы ее навестили.
– А этот-то, вот этот! – произнесла миссис Биджиу, свирепо вытянув в мою стороны губы. – Какой-то он худой, одни кости!
У меня сердце ушло в пятки: сейчас начнется!
– Кости! – рявкнула бабушка, подскочив на стуле. – Я тебе скажу, у кого сейчас одна во-от такая кость в штанах!
– Господи Иисусе! – воскликнула миссис Биджиу. – Я знаю, о ком ты! Наполеон. Этот акивензи[17] скребется во все двери каждую ночь, но не я его впускаю к себе в дом! Он, правда, в добром здравии, не пьет и никогда не пил. Всю жизнь вкалывал. А теперь каждую ночь спит с новой женщиной!
– Вы, мальчики, слушайте, да на ус мотайте! – наставительно заметила бабушка Игнасия. – Хотите чему полезному научиться? Хотите знать, как заставить своих дятлов всю жизнь сохранять крепкий клюв? Чтобы долбил и долбил без устали? Живите правильно, как старый Наполеон. От алкоголя вы будете поспешать да быстро заканчивать, а это нехорошо! Хлеб и лярд – вот что вас укрепит! Ему восемьдесят семь, а у него не только легко взбрыкивается, так еще может пять часов без остановки скакать.
Мы уже хотели юркнуть за дверь, но последняя порция информации заставила нас притормозить. Наверное, тут каждый из нас вспомнил о своих трех минутах уединения в лесу.
– Пять часов? – переспросил Энгус.
– Да! Потому что он никогда не кобелировал и не растрачивал свой сок почем зря! – завопила миссис Биджиу. – И он был верен своей жене!
– Это она так считала, – возразила бабушка Игнасия, доставая из рукава платочек.
Обе старушки пустились хохотать, да так заливисто, что чуть не задохнулись, и мы, воспользовавшись моментом, бросились к двери.
– Кроме того, у него есть секретное снадобье!
Мы как по команде обернулись.
– Да вы только поглядите – у них головы на шарнирах! – засмеялись обе старушки. – Может, рассказать им о секретном снадобье Наполеона?
– Если хлеб с лярдом не помогает, он берет жгучий красный перец и втирает его себе в… Ну, сюда вот, – и миссис Биджиу взмахнула рукой над своими коленями – так энергично, что мы пулей вылетели за дверь. Раскатистый хохот двух старушек летел за нами следом по всему коридору. А я вспомнил, как красный жгучий перец подействовал на Рэндалла и его друзей в парильне. Что-то я не заметил никакого эффекта, на который намекала миссис Биджиу, когда они голые бегали по траве.
– Я бы сначала посоветовался с врачом, прежде чем применять снадобье Наполеона, – пробормотал я себе под нос. Мои слова услышал Энгус. С тех самых пор меня стали дразнить этой псевдомудростью: «сначала надо посоветоваться с врачом». «Джо хочет сначала посоветоваться с врачом». «Джо, а ты уже посоветовался с врачом, тебе стоит это попробовать?» И когда мы бежали тогда по коридору, я понял, что теперь эта присказка прилипнет ко мне намертво – как прозвище Упс. Перед тем как выйти на улицу из дома престарелых, я попросил всех подождать. Я снял кроссовки Каппи и отдал ему.
– Спасибо!
Мы снова обменялись обувью. Но я не сомневаюсь: если бы Каппи решил, что мне так будет лучше, он бы шагал в моих тесных стареньких кроссовках до самого дома.
Над садами вдоль дороги застыло светлое июньское небо и вечернее безмолвие. В этот час, когда я вел велик по грунтовой дороге, все наши соседи уже лежали по кроватям или сидели по кухням. Перл встретила меня, едва я завернул за угол нашего дома. Она выжидательно стояла, глядя на меня, ни разу не залаяв.
– Ты знала, что это я, – похвалил я ее. – Молодец!
Собака подошла ближе и несколько раз вильнула хвостом. У нее был кремовый мохнатый хвост, похожий на роскошный плюмаж, который совершенно не соответствовал ее короткошерстному туловищу – хотя и гармонировал с длинными и мохнатыми волчьими ушами. Она понюхала мою ладонь. Я стал чесать ей за ушами, пока она не смахнула мою руку. Перл была голодна. Выходя от бабушки, я прихватил один сэндвич с джемом и теперь отдал ей. Из дома доносились голоса. Я поставил велик и скользнул внутрь.
Дядя Эдвард все еще был у нас, в кабинете с отцом. На кухне царил беспорядок. Наверное, они приготовили себе что-то перекусить. Я прошел дальше и остановился перед дверью в кабинет. Они разговаривали довольно громко, так что я слышал каждое слово. Я мог бы лежать тут же на кушетке и подслушивать. А если бы они вышли, притворился бы спящим. Судя по перестуку кубиков льда и звяканью стаканов, они выпивали. Скорее всего, виски «Сигрэм» – бутылка стояла на самой верхней полке кухонного шкафа, позади тарелок. Я вытянул шею и прислушался.
– За все годы нашего брака мы впервые спим порознь, – говорил отец.
Его слова, ясное дело, смутили и взбудоражили меня. Я затаил дыхание.
– Она даже от Джо отдалилась. Ни с кем с работы не общается. Не хочет никого видеть, даже старую подругу детства Лароуз.
– Клеменс говорит, что она и ее сторонится.
– Джеральдин, ох, Джеральдин. То она уронила кастрюлю с запеканкой, то теперь это. Понимаю: я сам виноват. Я ее испугал, напомнил об ужасе того происшествия.
– Ты называешь это происшествием, Бэзил?
– Знаю-знаю. Но я не могу даже произнести это слово.
Наступило молчание. Наконец отец проговорил:
– Нападение, изнасилование. Наверное, я тоже схожу с ума, Эдвард. И Джо отдаляется от меня.
– С ним все будет нормально. Да и она выйдет из этого состояния, – сказал Эдвард.
– Ну, не знаю. Она стала просто невменяемой.
– А что церковь? – спросил Эдвард. – Если Клеменс будет брать ее с собой в церковь, может быть, это поможет? Ты, конечно, знаешь, как я ко всему этому отношусь, но Клеменс говорит, у них там появился новый священник, и он ей вроде нравится.
– Не думаю, что Джеральдин найдет утешение в церкви после стольких лет.
Мы все знали, что мама перестала ходить в церковь, вернувшись из пансиона. Она так и не объяснила, почему. Но и Клеменс, насколько мне было известно, никогда не пыталась силком тащить ее в церковь.
– А что за новый священник? – спросил отец.
– Интересный. Можно сказать, симпатичный мужчина. Если тебе нравится такой типаж. На голливудских кастингах таких сразу берут на главную роль.
– Какого рода?
– Фильмы про войну. Вестерны. Секретный агент на опасном задании. Кроме того, он служил в морской пехоте.
– Бог ты мой! Профессиональный убийца ударился в католичество.
Повисла тяжелая тишина, и она тянулась так долго, что стала невыносимой.
Отец встал. Раздались его шаги. Потом плеск виски. Журчание.
– Эдвард, и что известно об этом священнике?
– Немного.
– Подумай…
– Налей-ка и мне. Он из Техаса. Из Далласа. Католический мученик в наших краях. Даллас. Он оттуда родом.
– Я не знаю никого в Далласе.
– Точнее сказать, он из маленького городишки под Далласом. У него есть ружье, и я видел, как он стреляет сусликов.
– Что? Это очень странно для бенедиктинца. Мне они всегда казались наиболее добропорядочными и разумными из всех.
– Верно, в целом, так. Но он из новообращенных, недавно был возведен в сан. Он совсем не такой, как… хотя кто сейчас помнит отца Дамьена? Да, и он в поисках. Выступает с довольно-таки смелыми проповедями. Бэзил, я даже иногда задумываюсь, все ли у него в порядке с головой, а может, он просто… слишком умный?
– Надеюсь, он не такой, как тот, кто был до него, который написал в газету гневное письмо о пагубных чарах женщин-метисок. Ты помнишь, как мы над ним хохотали? Боже…
– Да уж, если бы тут дело было только в Боге. Иногда, когда я хожу к причастию вместе с Клеменс, я вижу двойника, сам не знаю, почему.
– И кого же ты видишь?
– Я вижу двух священников: один с серебряной кропильницей, из которой он освящает прихожан святой водой, а другой – с винтовкой.
– Но ведь с духовушкой!
– Да, с духовушкой. Но он очень ловко из нее палит, прицельно и наповал.
– И сколько сусликов на его счету?
– Дюжина или около того. Трупики выложены на детской площадке.
Оба помолчали, задумавшись над сказанным, потом Эдвард продолжил:
– Но это же не делает его…
– Знаю. Но круглый дом! Символ старинных языческих верований. Женщины-метиски. А что, если все это предать огню – и все сжечь дотла, и искушение, и преступление – все погибнет в пламени, как при огненном жертвоприношении… О боже…
Отец осекся.
– Прекрати, Бэзил, прекрати! – сказал Эдвард. – Мы же просто беседуем!
Павшее на священника подозрение в нападении на маму мне показалось правдоподобным. В тот вечер, когда я лежал на кушетке и подслушивал беседу взрослых, а они ни о чем не догадывались, я подумал, что, наверное, услышал верную версию. Но теперь надо было найти доказательства.
Я, должно быть, уснул и проспал добрый час. Дядя Эдвард и отец разбудили меня, когда переместились из кабинета в кухню, по пути звеня стаканами и то включая, то гася свет. Я услышал, как отец открыл входную дверь и распрощался с дядей Эдвардом. Потом с улицы в дом вошла Перл. Отец о чем-то с ней поговорил, как будто успокаивал. Судя по голосу, он совсем не был пьян. Он навалил еды в собачью плошку, и тут же раздалось деловитое чавканье. Потом вроде составил пару тарелок в раковину, завершил на этом приборку и выключил свет. Когда отец проходил мимо меня на кушетке, я вдавил голову в подушки, но он меня вроде бы и не заметил.
Отец внимательно посмотрел на верхнюю ступеньку лестницы, прежде чем стал осторожно подниматься, а я встал и крадучись обошел вокруг кушетки: мне захотелось выяснить, на что он так пристально глядел – наверное, на полоску света под дверью спальни. Поднявшись, он постоял перед темным прямоугольником, проступавшим из мрака, и прошел мимо. Должно быть, в ванную, подумал я. Но нет. Отец ткнул дверцу в крошечный и вечно холодный чулан, где мама обычно шила. В чулане рядом со швейной машинкой стояла узкая тахта, но никто из нас на ней не спал, она предназначалась только для оставшихся на ночь гостей. Даже если кто-то из родителей подхватывал простуду или грипп, они продолжали спать вместе. Они никогда не пытались уберечься от болезней друг друга.
Дверь в чулан затворилась. Я услышал, как отец шуршит в чулане, и понадеялся, что он все-таки оттуда выйдет. Понадеялся, что он просто там что-то ищет. Но потом скрипнула тахта, и воцарилась тишина. Отец лежал в чулане рядом со швейной машинкой и коробками с аккуратно сложенными отрезами ткани, под панелью с маленькими ячейками, которую он привинтил к стене и где мама хранила штук сто катушек разноцветных шелковых ниток, десяток ножниц разного размера, несколько мерных рулеток и подушечку для иголок в форме сердечка.
Меня клонило в сон. Я поднялся к себе и разделся, но как только мое ухо коснулось подушки, меня осенило: а ведь отец даже не знает, что я вернулся домой. Он напрочь забыл про меня! Обиженный, я лежал в кровати без сна, снова и снова проигрывая в голове события того дня. Это был день малоприятных находок и выводов. Сначала я перебирал их в памяти. Потом мысленно вернулся еще дальше – к тому вечеру, когда мама уронила кастрюльку с запеканкой. Я вспомнил, с каким обреченным, скорбным видом мама поднималась по ступенькам в спальню, как отец тщетно силился унять тревогу, когда мы с ним при свете настольной лампы читали судебные дела. Я страстно мечтал очутиться в нашем доме до всех этих ужасных событий – до того момента, как мама ударила меня локтем в лицо, и до того момента, как отец забыл о моем существовании. Мне хотелось снова попасть в нашу кухню, где витали аппетитные ароматы, присесть рядом с мамой и опять услышать, как она безудержно, с прихрюкиванием, хохочет. Мне хотелось отмотать время назад и не дать маме вернуться в офис за папкой с документами в то воскресенье. И еще я не переставал думать о том, что в тот день мог бы поехать вместе с ней. Или вызваться сгонять на велике за этой папкой. Я увяз в колее раскаяния и угрызений совести, усыпанной семенами раздражения, что вообще свойственно подростковой душе.
И в таком состоянии меня раздражало буквально все, о чем я начинал думать, – даже та папка, за которой вернулась тогда мама. Папка. Она не давала мне покоя. Эта чертова папка. Никто о ней ни слова не сказал. Но зачем мама вернулась за ней? Что же в ней было? Меня вновь охватило бессильное раздражение. Но я у нее обязательно спрошу. Я должен узнать поподробнее, что заставило ее в воскресенье вернуться на работу. Я вспомнил, что ей позвонили. Я вспомнил, как прозвонил телефон и какой у нее был голос, когда она ответила. И как она взволнованно заходила по кухне, начала торопливо вытирать посуду, греметь тарелками, хотя я в тот момент никак не связал ее волнение с тем телефонным звонком.
А потом, упомянув про папку, она уехала.
Тут мой мозг заработал медленнее, начав превращать мысли в образы. Я уже впал в полудрему, когда Перл подошла к окну моей спальни. Ее когти цокали по голым половицам. Я повернулся к окну и открыл глаза. Перл неподвижно стояла, подняв уши, устремив взгляд во мрак двора. Она явно что-то учуяла снаружи. Я подумал, что это опоссум или скунс. Но терпеливое спокойствие, с которым она беззвучно вглядывалась в ночную тьму, слово узнав там кого-то, окончательно стряхнуло с меня сон. Я вылез из-под одеяла и приблизился к высокому окну, чей подоконник находился всего в футе от пола. Луна освещала границы предметов, едва заметно проступавших из теней. О том, что там, можно было только догадываться. Опустившись на колени рядом с Перл, я с трудом разглядел человеческую фигуру.
Человек стоял на краю двора, скрываясь в гуще ветвей. Мы наблюдали, как он раздвинул руками ветви и взглянул прямо на мое окно. Теперь я его четко рассмотрел: морщинистое, какое-то угрюмое лицо, глубоко запавшие глаза под плоским лбом, густые седые волосы. Но я не мог понять, кто это – мужчина или женщина и, если уж на то пошло, живое это существо или мертвец, или и то, и другое. Хотя я и не слишком испугался, у меня было четкое понимание, что моему взору предстало нечто нереальное. Существо это не было ни вполне человеческим, ни вполне нечеловеческим. Оно заметило меня – и у меня сердце подпрыгнуло в груди. Призрачное лицо теперь оказалось совсем близко. Над его головой виднелось сияние. Его губы шевелились, но я не мог разобрать слов, вот только мне почудилось, что существо повторяет одни и те же слова. Потом существо опустило руки, ветви сомкнулись над ним, и оно исчезло. Перл сделала три круга по комнате и улеглась на коврике. Стоило мне положить голову на подушку, как я тут же уснул, возможно, переутомленный тягостными мыслями, которыми сопровождалось появление странного гостя.
Отец купил нам новые часы-уродцы, которые теперь снова громко тикали, нарушая тишину на кухне. Я встал раньше него, поджарил себе два тоста и съел их, стоя у плиты. Потом сделал еще два и положил на тарелку. Мои кулинарные навыки тогда еще не включали умение делать яичницу и замешивать тесто для блинчиков. Этому я научился чуть позже, когда свыкся с тем фактом, что я начал жить отдельно от родителей. Когда стал работать на заправке у дяди Уайти.
Отец вошел, когда я жевал тост. Он что-то пробурчал и даже не заметил, что я ничего не ответил. Он еще не сварил себе кофе, которое по утрам возвращало его к жизни. Он заваривал по старинке, насыпая молотый кофе в походный эмалированный кофейник черного цвета в крапинку и вбивая в него сырое яйцо. После такой утренней трапезы он окончательно пробуждался. Отец положил ладонь мне на плечо. Я передернул плечами, смахнув его руку. На нем был шерстяной синий халат со смешным позолоченным гербом на груди. Он сел за стол, дожидаясь, когда закипит кофе, и спросил, как я спал.
– Где? – спросил я. – Как ты думаешь, где я спал сегодня ночью?
– На кушетке, – ответил он удивленно. – Ты храпел на весь дом! Я накрыл тебя одеялом.
– А… – ухмыльнулся я.
Кофейник зашипел. Отец поднялся, выключил конфорку и налил кофе в кружку.
– Кажется, я ночью видел призрака, – сообщил я отцу.
Он сел за стол напротив меня и заглянул мне прямо в глаза. Я был уверен, что он сейчас разъяснит вчерашний инцидент и скажет, почему и в чем именно я ошибаюсь. Я был уверен, что он скажет, как оно и полагается взрослым людям, что никаких призраков не существует. Но он только смотрел на меня, и я заметил у него под глазами темные круги, похожие на морщины, которые теперь не проходили. И понял, что он спал плохо, если вообще сомкнул глаза.
– Призрак стоял на краю двора, – продолжал я, – и выглядел как реальный человек.
– Да, призраки любят бродить по ночам, – кивнул отец.
Он встал и налил кофе в другую кружку, чтобы отнести маме наверх. Когда он двинулся к двери, меня охватила тревога, быстро переросшая в ярость. Я метнул свирепый взгляд на его спину. Либо он намеренно не желал развеять мой страх, согласившись со мной, либо он пропустил мой рассказ мимо ушей. И разве он накрыл меня одеялом? Что-то я не заметил никакого одеяла. Когда он вернулся, я заговорил с ним нарочито раздраженно:
– Призрак! Я же сказал: призрак! Что значит «они любят бродить»?
Он подлил себе кофе. Сел напротив. Как всегда, сделал вид, что его совершенно не трогает мой гнев.
– Джо, – спокойно произнес он. – Я же работал на кладбище.
– И что?
– Там иногда появлялись призраки – вот что. Там были призраки. Иногда они ходили по кладбищу и выглядели как самые обычные люди. Я как-то узнал в одном призраке человека, которого сам незадолго до того хоронил, но в целом они мало напоминают живых людей, в чьей телесной оболочке они обитали. Мой тогдашний босс научил меня их распознавать. Призраки по сравнению с живыми людьми выглядят выцветшими и вялыми, но при этом они очень раздражительные. Они обычно бродили по кладбищу, кивали могилам, таращились на деревья и надгробия, пока не находили свою могилу. Они останавливались около нее как будто в недоумении. Я к ним никогда не подходил.
– А откуда ты знал, что они призраки?
– Да как-то само собой. Разве тебе ночью не было ясно, что ты увидел призрака?
– Было, – сказал я, все еще злясь на него. – Ну, прекрасно! Теперь у нас еще и призраки появились.
Отец, всегда такой рациональный – настолько, что он сначала скептически отозвался о святом причастии, а потом и вовсе отказался ходить на мессу, – так вот он, оказывается, верил в призраков. На самом деле он обладал некоей информацией о призраках, но об этом никогда со мной не говорил. Вот если бы дядя Уайти начал рассказывать про призраков, которые ходят по кладбищам и с виду похожи на самых обычных людей, я бы сразу понял, что он валяет дурака. Но у моего отца шуточки были совсем другого свойства, и сейчас я точно знал, что он не шутит. И раз он так серьезно отнесся к моему рассказу о призраке, я задал ему вопрос о том, что меня сильно волновало.
– Ладно. Но почему он именно сейчас объявился?
Отец задумался.
– Возможно, из-за мамы. Призраков привлекают всякие невзгоды. Да, и еще вот что. Иногда призрак – это некто из твоей будущей жизни. Некто, кто провалился в прошлое, скажем, по ошибке. Мне про такое рассказывала моя мать.
Его мать, моя бабушка, росла в семье шамана. Она говорила много такого, что поначалу казалось странным, но потом это происходило в реальной жизни.
– Она бы посоветовала тебе следить за этим призраком. Может быть, он хочет сообщить тебе что-то очень важное.
Отец поставил кружку на стол, и я вспомнил, как прошлой ночью он спал в комнатушке со швейной машинкой, а не рядом с мамой, и что они с дядей Эдвардом пришли к выводу, что священник, возможно, и есть подозреваемый. Может быть, они пришли и еще к каким-то выводам, чего я уже не слышал, потому что уснул.
Священник, и канистра, и куча вонючего тряпья, и папки с судебными делами – все спуталось в клубок. У меня пересохло в горле, так что я не мог сглотнуть. Так мы и сидели молча друг напротив друга. Значит, призрак пришел за мамой. Или с каким-то посланием для меня.
– Не хотелось бы мне узнать то, что хочет сообщить призрак, – произнес я.
Тут мне пришло в голову, что ведь и Рэндалл тоже видел что-то очень похожее, и эта мысль меня успокоила. Если этот призрак, или что там, искал Рэндалла, тот сумел избавиться от него с помощью шаманского снадобья. Рэндалл защитился с помощью табака. И я защищусь с помощью табака. И призрак сбежит, а может, это поможет и маме. Кто знает? Она лежала в кровати не вставая. А рядом на тумбочке остывал кофе в кружке. Я знал, что она не притронется к горячему кофе, и кружка будет там стоять до вечера. На холодной противной жидкости образуется маслянистая корочка, а от нее на кружке останется черный ободок. Все, что мы приносили маме, возвращалось нетронутым, с ободком по краю кружки, или с засохшей корочкой, или совершенно остывшим, или свернувшимся, или затвердевшим. Я уже устал относить на кухню ее нетронутую еду.
Отец свесил голову и, подперев лоб кулаком, закрыл глаза. В кухне, залитой солнечным светом, громко тикали часы. На циферблате часов было изображено солнце в виде диска в обрамлении лучей. Лучи смахивали на золотых червяков, отчего часы были похожи на позолоченного осьминога. Но я уткнулся взглядом в эти дурацкие часы, потому что если бы я опустил глаза, то увидел бы отцовское темя: коричневую яйцевидную лысину с полумесяцем редеющих седых волос. Этого зрелища я не мог вынести. Если бы я взглянул на его голову, я мог бы разреветься.
И я проговорил:
– Перестань, пап, это же просто призрак! Мы от него избавимся.
Отец выпрямился и вытер лицо обеими ладонями.
– Знаю. Никакого сообщения у него нет. И пришел он не за ней. Она поправится. Она преодолеет все это. На следующей неделе она начнет снова ходить на работу. Она уже сама об этом говорит. Она уже читает книги. Ну, то есть журнал. Клеменс принесла ей какое-то легкое чтиво. Старые номера «Ридерс дайджест». Это же хорошо? Да? Призрак… И как мы, по-твоему, от него избавимся?
– Отец Трэвис, – заметил я, – может освятить наш двор или что-то еще сделать.
Отец поднес к губам кофе и стал пить, поглядывая на меня поверх кружки. Я буквально видел, как к нему возвращается энергия. Теперь он снова стал прежним. Он прекрасно знал, когда я порол чушь.
– Значит, ты не спал, – сказал он. – И все слышал.
– Да. И я знаю еще кое-что. Я ходил к круглому дому.
Глава 5 Голая правда
– Когда в июне пойдут теплые дожди и расцветет сирень, мама спустится, – сказал отец. – Ей нравится запах сирени.
Старые сиреневые кусты, высаженные когда-то сотрудниками управления фермерских хозяйств резервации, вновь зацвели в южной части двора. Маме очень не хватало яркой картины их буйного цветения. Сначала в траве засияли хрупкие личики ее любимых анютиных глазок, потом в придорожных канавах нежным румянцем подернулись кусты дикой розы. И по ним она тоже скучала. Сколько я помню, мама каждый год выращивала из семян цветочную рассаду для своих клумб. В апреле она расставляла картонные коробки из-под молока со всевозможной рассадой на кухонном столе и на всех подоконниках окон, выходящих на юг, но только анютины глазки выживали до высадки в землю. Но после той печальной недели мы напрочь позабыли о других цветах. И в отсутствие ухода от всей рассады в коробках остались только иссохшие ломкие стебли. Отец разбросал погибшую рассаду вместе с землей на заднем дворе и сжег вместе с мусором молочные картонки, уничтожив все следы нашей нерадивости. Да мама ничего и не заметила.
Когда тем утром я рассказал отцу про круглый дом, он резко отодвинул стул, встал и отвернулся. Потом снова повернулся ко мне. Его лицо приняло спокойное выражение, и он сказал, что мы поговорим позже. А сейчас мы пойдем высаживать цветы в мамином саду. Накануне он купил очень дорогую рассаду в старой оранжерее в двадцати милях от резервации. Он выставил картонные и пластиковые контейнеры с сеянцами в тени у дома. Там были красные, алые, розовые и полосатые петунии, желтые и оранжевые ноготки. А еще голубые незабудки, хризантемы, календула, красноголовая книфофия. Отец давал мне указания, а я вкапывал один за другим кустики рассады в клумбы. Одну клумбу мама сделала из старой тракторной шины, выкрашенной белой краской и наполненной землей, а рядом с крыльцом устроила еще несколько прямоугольных клумб. В узкие грядки вдоль подъездной дорожки я вкопал лобелии и перечники. И поставил пластиковые таблички с названиями цветов, чтобы мама их увидела. Пока я вкапывал рассаду, в голову мне лезли всякие мысли. О папках с судебными делами, о призраке, о прочих загадочных вещах. О круглом доме. Меня пугала предстоящая беседа с отцом. Опять вспомнились папки. С ними вернулись гнетущие мысли о священнике. Потом о семействе Ларков. Потом снова о священнике. Посадив цветы, я обошел вокруг дома, чтобы собрать пластиковые горшки из-под рассады и инструменты.
– Не убирай это, – сказал отец. – Мы сейчас вскопаем грядки на мамином огороде.
Мамин огород, с грядками все еще накрытыми соломой, находился за домом.
– Зачем?
Отец молча передал мне брошенную мной лопату и указал на край двора, где он выставил коробки с рассадой лука и помидоров и пакетики с кустовой фасолью и семенами вьюнка. Мы провозились вместе еще час. И засеяли только половину огорода, когда настала пора обедать. Он поехал докупить еще рассады. А я вошел в дом. Надо было присмотреть за мамой. Я оглядел кухню. На столе стояла банка рубленой ветчины с прилепленным сверху металлическим ключиком для вскрытия. Я вскрыл банку, сделал себе сэндвич, съел его и запил двумя стаканами воды. Потом нашел пачку печенья с красным джемом и слопал полпачки. Потом сделал еще один сэндвич с ветчиной, положил на тарелку и добавил для красоты пару печенюшек. Прихватив стакан воды, понес все это наверх. Перл давно уже научилась дожидаться, когда на полу перед дверью в спальню останется без присмотра что-нибудь съестное, и в мгновение ока опустошала тарелку. Поэтому теперь мы всегда вносили еду в комнату. Я установил тарелку с сэндвичем и печеньями на стакане с водой и постучал. Ответа не последовало. Я постучал сильнее.
– Войди, – отозвалась мама.
Я вошел. Прошло уже больше недели с того вечера, как она в скорбном молчании поднялась по лестнице, и в спальне пахло затхлостью. Воздух был спертый, тяжелый, точно она вдохнула из него весь кислород. Шторы на окне были опущены. Мне захотелось оставить тарелку с сэндвичем и убежать. Но мама попросила меня присесть.
Я поставил тарелку на квадратную тумбочку, откуда я в предшествующие дни убрал кучу нетронутых сэндвичей, недопитых стаканов и плошек с остывшим супом. Если она и притрагивалась к еде, я этого не замечал. Я пододвинул складной стул с мягкой сидушкой поближе к кровати и сел. Наверное, она захотела, чтобы я ей почитал. Тетя Клеменс и отец отбирали для нее книги – ничего, что могло бы ее огорчить или опечалить. Другими словами, это были или нуднейшие любовные романы издательства «Арлекин», или, что было более терпимо, сокращенные романы, печатавшиеся в старых «Ридерс дайджест». Ну или те самые «Любимые стихотворения». Отец специально проверил «Непокоренного» и «Высокий полет»[18], которые я ей потом читал. Они вызвали у мамы невеселый смех.
Я протянул руку, чтобы включить ночник на тумбочке – ей не нравилось, когда я поднимал шторы и впускал в комнату дневной свет. Но прежде, чем я дотронулся до выключателя, она схватила меня за руку. В полумраке ее лицо со следами измождения казалось бледным пятном. Она стала как будто невесомой – только кости проступали сквозь пергаментную кожу. Ее пальцы больно впились мне в ладонь. Она еле ворочала языком, как будто еще не пришла в себя после сна.
– Я вас слышала во дворе. Чем вы там занимались?
– Копали.
– Что копали? Могилу? Твой отец когда-то копал могилы.
Я убрал ее руку и отошел от кровати. Мамин прищуренный взгляд был мне неприятен, а ее речь показалась бредом. Я сел на стул.
– Нет, мама, не могилы, – осторожно выбирая слова, произнес я. – Мы вскапывали грядки в твоем огороде. А до этого высаживали цветы. Мам, хорошо бы ты на них посмотрела!
– Посмотрела? Посмотрела? – и она отвернулась от меня. Ее давно не мытые волосы разметались по подушке всклоченными прядями, в которых кое-где виднелась седина. Сквозь тонкий халат четко проступал позвоночник, я разглядел буквально каждый позвонок. Ее плечи торчали двумя буграми, а исхудавшие руки напоминали палки.
– Я принес тебе сэндвич.
– Спасибо, мой дорогой! – прошептала она.
– Хочешь, я тебе почитаю?
– Нет, не надо.
– Мам, мне надо с тобой поговорить.
Молчание.
– Мам, мне надо с тобой поговорить, – повторил я.
– Я устала.
– Ты всегда усталая, хотя все время спишь.
Она не ответила.
– Это просто наблюдение.
Меня разозлило ее молчание.
– Может, поешь? Тебе станет лучше. Ты можешь встать? Ты можешь… снова вернуться к жизни?
– Нет, – сразу ответила она, точно сама только об этом и думала. – Не могу. Сама не знаю, почему. Просто не могу.
Она по-прежнему лежала спиной ко мне, и тут ее плечи начала сотрясать легкая дрожь.
– Тебе холодно? – Я натянул ей на плечи одеяло. Потом откинулся на спинку стула. – Я посадил полосатые петунии, которые ты любишь. Вот! – Я достал из кармана пластиковые бирки с названиями рассады и рассыпал их по кровати. – Мам, смотри, сколько разных цветов я посадил. Даже сладкий горошек.
– Сладкий горошек? – переспросила мама.
Вообще-то я не сажал сладкий горошек. Не знаю, почему я ей это сказал.
– Да, сладкий горошек. И подсолнухи!
Я и подсолнухов не сажал.
– Подсолнухи знаешь, на какую высоту вымахают!
Она повернулась и посмотрела мне в лицо. Ее глаза ввалились в серые круги морщин.
– Мама, мне надо с тобой поговорить.
– О подсолнухах? Джо, они же будут заслонять от солнца остальные цветы!
– Наверное, я их пересажу в другое место. Мне надо с тобой поговорить!
Ее лицо сразу осунулось.
– Я устала.
– Мам, у тебя спрашивали про ту папку?
– Что?
Она с нескрываемым испугом уставилась на меня, ее глаза буквально буравили мое лицо.
– Не было никакой папки, Джо.
– Нет, была. Папка, за которой ты уехала в тот день, когда на тебя напали. Ты сама мне сказала, что тебе надо съездить за папкой. Где она?
Выражение испуга на ее лице теперь сменилось явным ужасом.
– Ничего я тебе не говорила! Ты это выдумал, Джо!
Ее губы дрожали. Она свернулась калачиком под одеялом, прижала сухие кулачки ко рту и зажмурилась.
– Мам, послушай. Ты хочешь, чтобы мы его поймали?
Она раскрыла глаза, теперь похожие на черные дыры. Но она не ответила.
– Послушай, мама. Я его найду и сожгу заживо! Я его убью за тебя!
Мама вдруг резко села в кровати, точно ее разбудили, точно она восстала из мертвых.
– Нет! Только не ты! Не смей! Джо, ты должен мне обещать! Не ищи его. Не делай ничего.
– Нет, мам, я буду его искать.
Этот мамин внезапный выплеск энергии словно повернул внутри меня выключатель, и я с еще большим азартом продолжал ее подначивать.
– Я это сделаю. И ничто меня не остановит. Я знаю, кто он, и я его прищучу. И ты меня не остановишь, потому что ты все время лежишь и не можешь выйти из дома. Ты сидишь тут как в клетке. Здесь воняет! Ты хоть чувствуешь, как здесь воняет?
Я подбежал к окну и уже собрался поднять шторы, как мама заговорила.
– Остановись, Джо!
Я обернулся. Она сидела на кровати. Кровь отхлынула от ее лица, и кожа болезненно побледнела. Но она глядела на меня в упор и говорила твердым, командным тоном:
– А теперь ты послушай меня, Джо. Не смей приставать ко мне со своими расспросами, не смей меня шантажировать. Предоставь мне думать о том, о чем я хочу думать. Мне нужно исцелиться любым доступным мне способом. И прекрати задавать мне вопросы и не заставляй меня тревожиться! Ты не будешь его искать. И довольно меня запугивать, Джо! Я натерпелась столько страху, что мне на всю жизнь хватит. Не умножай мой страх. И не умножай мои печали. Не хватало, чтобы и ты еще в этом участвовал.
Я стоял перед ней, снова чувствуя себя малым ребенком.
– В чем в этом?
– Вот в этом! – Она махнула рукой на закрытую дверь. – Хватит ко мне приставать! Найти его, не найти его. Кто он такой? Ты понятия не имеешь! Никто. Ты его не знаешь. И никогда не узнаешь. Дай мне поспать.
– Хорошо, – сказал я и вышел из комнаты.
Я медленно спускался по лестнице, чувствуя, как меня охватывает ожесточение. Я догадался, что она знала, кто совершил над ней насилие. Ясное дело, она что-то скрывала. Догадка, что она знала своего насильника, была как удар под дых. У меня заболели ребра, перехватило дыхание. Я пересек кухню и через заднюю дверь вышел на солнцепек. Я ловил губами солнечный свет, как воздух. Такое было состояние, словно я долго был заперт в одной комнате с разбушевавшимся покойником. Меня обуяло желание вырвать все посаженные цветы или втоптать их в землю. Но тут ко мне подошла Перл, и моя ярость сразу развеялась.
– Ты умеешь играть в «принеси палку»? Давай научу!
Я отправился к краю двора, чтобы найти там палку. Перл трусила рядом. Я присел над кучей палок, выбрал одну и выпрямился, чтобы бросить ее подальше, но тут перед моими глазами взметнулось мохнатое пятно, и в следующий миг неведомая сила вырвала палку из моих рук. Я резко развернулся. В нескольких шагах от меня стояла Перл с палкой в зубах.
– Брось! – приказал я. Ее волчьи уши прижались к голове. Я разозлился. Подошел к ней и ухватился за палку с намерением вырвать из собачьей пасти, но Перл издала весьма красноречивое рычание, так что мне пришлось отпустить палку.
– Ладно, – миролюбиво сказал я. – Будем играть по твоим правилам.
Я отступил на несколько шагов назад и поднял с земли другую палку. Размахнулся, чтобы ее бросить. Перл выпустила из пасти свою палку и бросилась ко мне с явным намерением отхватить мою руку по плечо. Я уронил палку. И как только палка упала, собака удовлетворенно ее обнюхала. Я сделал еще одну попытку: нагнулся и уже ухватил было палку пальцами, как Перл оказалась рядом и сомкнула клыки на моем запястье. Я медленно выпустил палку. У нее были настолько мощные челюсти, что она без труда перекусила бы мне кости и сухожилия. Я стоял, опасливо поглядывая на нее. В руке у меня ничего не было. Она отпустила мое запястье. На коже остались отметины от ее зубов, но она, правда, не укусила и не поцарапала меня.
– Как я понимаю, ты не хочешь играть в «принеси палку».
Тут подъехал отец и вытащил из багажника очередной картонный ящик с дорогущей рассадой. Мы отнесли рассаду на задний двор и разложили вдоль огородной грядки. Весь оставшийся день мы убирали с грядки старую солому, вскапывали и рыхлили чернозем. Мы выбрали отмершие корни и засохшие стебли, размельчили слежавшиеся комья земли, так что почва снова стала пышной и рассыпчатой. Под верхним слоем почвы земля была влажная и жирная. Мне уже начало нравиться мое занятие. Вскопанная почва впитала всю мою ярость. Мы вынули саженцы из горшочков, аккуратно расправили их корни и, посадив в вырытые ямки, присыпали землей вокруг. Потом притащили несколько ведер воды, полили свежие посадки и стали любоваться плодами нашего труда.
Отец вынул из нагрудного кармана сигару, затем взглянул на меня и убрал сигару обратно.
Этот его жест снова возбудил во мне ярость.
– Можешь закурить, если хочешь. Я не начну курить, не буду тебе подражать.
Я все ждал, что вспышка его гнева забьет мой гнев. Но меня ждало разочарование.
– Подожду пока, – сказал он. – Мы же не закончили наш разговор, не так ли?
– Не закончили.
– Давай-ка вынесем складные стулья.
Я поставил два шезлонга там, откуда мы могли бы смотреть на свежую грядку. Пока отца не было, я достал из-под крыльца канистру и положил под свой шезлонг. Отец вынес коробку лимонада и пару стаканов. Судя по тому, как долго он отсутствовал, он еще в доме вскрыл коробку и утолил жажду. Мы сели с полными стаканами в руках.
– А ты все замечаешь, Джо! – сказал он, помолчав. – Круглый дом.
Я достал из-под своего шезлонга канистру и поставил на землю перед ним.
Отец вытаращился на нее.
– Где ты…
– Она лежала на дне озера недалеко от берега, как раз напротив круглого дома, если идти к озеру прямиком через лес.
– В озере?
– Он ее там затопил.
– Боже всемогущий!
Он нагнулся, чтобы потрогать канистру. Но в последний момент отдернул руку и положил ее на алюминиевый подлокотник. Потом покосился на аккуратно высаженную рассаду в огороде и медленно, очень медленно повернулся и вперил в меня немигающий строгий взгляд, которым он взирал на убийц – так я всегда уверял себя, пока не узнал, что в суде он имел дело исключительно с похитителями хот-догов.
– Если бы я захотел тебя отдубасить по первое число, я бы так и сделал, – сказал отец. – Но я… никогда не мог поднять на тебя руку. К тому же я уверен, что дубасить тебя нет смысла, потому что это ни к чему бы не привело. Более того, это могло бы настроить тебя против меня. У тебя появился бы соблазн действовать тайком. Поэтому, Джо, я просто хочу воззвать к твоему благоразумию. Я хочу попросить тебя остановиться. Хватит искать напавшего. Хватит собирать улики. Я понимаю, это моя вина, потому что я попросил тебя читать те дела, которые мы привезли из суда. Но я был неправ, что втянул тебя. Ты чертовски пытлив, Джо. Ты меня нимало удивил. И напугал. Ты можешь вляпаться в такое… Если что-то с тобой случится…
– Ничего со мной не случится!
А я-то считал, что отец будет мной гордиться. Что он по своему обыкновению присвистнет от изумления. И я надеялся, что он поможет мне разработать план дальнейших действий. Расставить ловушку. Загнать в нее священника. А он, наоборот, стал читать мне нотации. Я хмуро откинулся на спинку шезлонга и пнул канистру ногой.
– Поговорим по душам, Джо. Послушай, это садист. У которого нет моральных ограничений. Это человек, у которого… который находится за пределами…
– За пределами твоей юрисдикции, – проговорил я презрительно, вложив в свои слова всю горечь подросткового сарказма.
– Ну, ты мало что знаешь о проблемах юрисдикции, – продолжал он, уловив мое презрение, но пропустив его мимо ушей. – Прошу тебя, Джо. Я тебя как отец прошу: отступи. Это дело полиции, ты это можешь понять?
– Какой полиции? Племени? Штата? Федералов? Да им же наплевать!
– Послушай, Джо, ты ведь знаешь Сорена Бьерке?
– Да, – кивнул я. – Я помню, как ты однажды отозвался об агентах ФБР, которые работают на индейских территориях.
– И что я сказал? – спросил он с опаской.
– Ты сказал, что если их приписывают к индейским территориям, то либо они в Бюро новички, либо у них проблемы с начальством.
– Я так и сказал? – удивился отец. И кивнул, скрывая улыбку. – Но Сорен не новичок.
– Хорошо, пап. Но почему же тогда он не нашел эту канистру?
– Я не знаю, – ответил отец.
– А я знаю. Потому что ему на маму наплевать! Она для него никто. Не как для нас.
Я нарочно разжигал в себе ярость или посеял в себе ярость, высаживая жалкую оранжерейную рассаду, которая вряд ли привлечет мамино внимание. Что бы ни сделал или сказал отец – так мне казалось, – было рассчитано на то, чтобы довести меня до кипения. Оставшись с ним наедине в этот тихий предвечерний час, я с трудом сдерживался. Надо мной словно заклубилась грозовая туча – больше всего на свете мне вдруг захотелось сбежать от отца, да и от мамы тоже, вырваться из сотканного ими вокруг меня защитного кокона вины и невнятных тошнотворных переживаний.
– Мне надо идти.
– Хорошо, – тихо произнес отец, – и куда ты пойдешь?
– Куда-нибудь.
– Джо, – проговорил он осторожно. – Мне стоило сказать тебе, что я тобой горжусь. Я горжусь тем, что ты так любишь маму. И горжусь тем, как ты сам до всего додумался. Но понимаешь, Джо, что, если с тобой что-то случится, мама и я не сможем… мы не сможем это вынести. Ты ведь даешь нам жизнь…
Я вскочил на ноги. Перед глазами у меня закрутились желтые пятна.
– Это вы дали мне жизнь. Так оно и должно быть. Поэтому позволь мне делать с моей жизнью то, что я хочу!
Я подбежал к велосипеду, вскочил на него и принялся ездить кругами вокруг отца. Он попытался схватить меня обеими руками, но в последний момент я с силой подналег на педали, что и позволило мне увернуться от него.
* * *
Я заранее знал, что отец наверняка позвонит тете Клеменс и дяде Эдварду предупредить о моем возможном появлении. Заправка тоже отпадала – по той же причине. У родителей Каппи и Зака тоже были домашние телефоны. Оставался один Энгус. И я поехал прямиком к нему и нашел его во дворе за жилой многоэтажкой. Он плющил оставшиеся после вчерашнего пустые пивные банки. В куче алюминиевых ошметков не было ни одной банки из-под «Хэммз». У Энгуса была расцарапана щека и разбита губа. Дело в том, что тетя Стар иногда лупила его ремнем. Да и Элвин любил по пьяни тайком подстеречь Энгуса и поколотить – это так веселило Элвина, что он ухохатывался чуть не до удушья. Жалко, что этим его веселье никогда не кончалось. Кроме того, в резервации было немало парней, которых раздражали волосы Энгуса или еще что-то.
Увидев меня, Энгус обрадовался.
– Опять эти уроды? – спросил я, поглядев на его лицо.
– Не-а! – Из чего я сделал вывод, что это дело рук его тетки или Элвина.
Я стал помогать Энгусу плющить банки на твердом, как камень, грунте. Попутно рассказал ему о подслушанном вчера вечером разговоре отца и дяди Эдварда о священнике.
– Вот бы узнать, что этот священник пьет пиво «Хэммз», – произнес я и добавил: – А священники вообще пьют?
– Пьют ли они? – переспросил Энгус. – Еще как! Они начинают с бокала вина на мессе. А уж потом, наверное, напиваются в стельку – и так каждый вечер.
Всякий раз, как Энгус поднимал ногу и с силой ударял подошвой по алюминиевой банке, его волосы каштановой волной взлетали над головой. У Энгуса круглое лицо и длинные, как у ребенка, ресницы. Его большие блестящие зубы растут вкривь и вкось и смахивают на звериные. И сейчас, когда разбитая нижняя губа распухла и покраснела, его зубы обнажились в жалком оскале.
– Я хочу сходить на мессу, – сообщил я.
Энгус застыл с поднятой ногой.
– Что? Ты хочешь сходить на мессу? Это еще зачем?
– Сегодня есть месса?
– Конечно. В пять часов. Мы еще можем успеть.
Тетка Энгуса была такая же набожная, как тетя Клеменс, хотя вряд ли на исповеди она признавалась, что бьет племянника.
– Нужно прощупать этого священника, – объяснил я.
– Отца Трэвиса?
– Да.
– Хорошо, дружище.
Энгус сходил в теткину квартиру и принес съемное седло от своего розового велика. Он привинтил седло с помощью болта и положил ключ в карман. После того, как у Энгуса угнали второй велик, дядя Уайти предложил ему противоугонную тактику: забирать седло домой – и он же дал ему гаечный ключ. Если кому-то взбредет в голову угнать этот велосипед, резонно заметил Уайти, пусть он пустым стержнем продырявит себе задницу. Мы оседлали своих стальных коней и пустились в путь, сделав большой крюк, чтобы нас не заметили из окна заправки.
Мы успели в церковь как раз вовремя: месса еще не началась. Я, последовав примеру Энгуса, преклонил колени, и мы сели на скамью в переднем ряду. Я намеревался рассмотреть священника вблизи – хладнокровно и непредубежденно. Так же, как, допустим, капитан Пикар разглядывает кровожадного лигонца, похитившего главу службы безопасности Ташу Яр. Когда прозвонил колокольчик, призвавший паству встать, я натянул на свое лицо маску невозмутимого внимания, как у капитана Пикара. Мне казалось, что я был вполне готов к своей миссии. Но когда на кафедру взошел отец Трэвис, облаченный в похожую на груботканое одеяло зеленую сутану, моя голова вдруг поплыла и загудела, словно превратилась в воздушный шар, наполненный роем пчел.
– Слышь, Суперстар, у меня в голове жужжит, прям как в улье, – прошептал я Энгусу.
– Заткнись! – прошипел он в ответ.
Небольшая группа прихожан – человек двадцать или около того – начала бормотать, и Энгус сунул мне в ладонь смятый листок бумаги. Там были напечатаны строки ответов на воззвания проповедника и стихи гимнов. Мой взгляд был прикован к отцу Трэвису. Я и раньше его видел, конечно, но никогда не вглядывался в него так пристально. Мальчишки называли отца Трэвиса Оловянноликим – за вечно бесстрастное выражение лица. А девчонки прозвали его Ошибка-Природы, потому что над его мужественными, как у героя любовного романа, скулами блестели пустые водянистые глаза. У него была безупречно гладкая кожа, подчеркнуто бледная, почти молочно-белая, что вообще характерно для рыжих, а по шее змеился длинный багровый шрам. У него были маленькие, прижатые к черепу ушки, крупные, с надменным изгибом губы, стриженные ежиком рыжеватые волосы, редеющие на боках, а на темени сходящиеся густой рощицей. Когда он говорил, зубы почти не показывались, и квадратный подбородок оставался неподвижным, поэтому на его застывшем лице шевелились одни только губы, и слова, казалось, выползали у него изо рта точно червяки. Механическая правильность черт его лица с этой постоянно двигающейся прорезью рта и вызвало у меня такое сильное головокружение, что я невольно бухнулся обратно на скамью. Мне еще хватило ума уронить бумажку со стихами и потом притвориться, будто я полез под скамью ее искать. Энгус ткнул меня в бок.
– Я блевану, если ты еще раз так сделаешь! – шепотом пригрозил я.
Как только нам удалось сделать вид, будто мы ищем конец очереди к причастию, мы выскользнули из церкви и отправились к детской площадке. Энгус достал сигарету. Мы ее аккуратно располовинили, и я скурил свою половинку, правда, она ввергла меня в щемящую печаль. Наверное, вид у меня был несчастный – под стать моему состоянию.
– Поеду-ка я поищу Каппи, – предложил Энгус.
– Ага, поезжай. Скажи ему, что я сбежал от отца, и пусть принесет чего-нибудь поесть.
– Так ты сбежал? – нахмурился Энгус. Все знали, что у меня просто идеальная семья – стабильная, любящая, состоятельная (по меркам резервации, естественно). Из такой семьи не сбегают. Но теперь все изменилось. В его глазах сверкнула жалость, и он уехал. А я подкатил велосипед к низким деревцам на выстриженном газоне, отмечавшим границу церковного двора, прислонил его к дереву. Наплевав на клещей, я улегся на траву и закрыл глаза. Лежа, я чувствовал, как холодная земля вбирает мое тело. Казалось, я мог ощутить даже силу гравитации, которую рисовал в своем воображении в виде гигантского жидкого магнита в центре земного шара. Я прямо-таки кожей чувствовал, как этот магнит меня притягивает и высасывает жизненные силы. Я проваливался сквозь все пределы туда, где все теряло всякий земной смысл и Кью из «Звездного пути» был верховным судьей в красной бархатной мантии. Я незаметно провалился в сон, словно попал под действие морока. А потом очнулся от звука быстрых шагов. Я открыл глаза и быстро скользнул взглядом по колышущейся черной сутане к деревянному наперсному кресту и плетеному поясу отца Трэвиса. Над его статным торсом, широкой грудью и квадратным подбородком сияли устремленные на меня из-под бледных век бесцветные глаза.
– Курить на детской площадке воспрещается, – сухо произнес он. – Тебя видела монахиня.
Я открыл рот, но издал только сдавленный хрип. Отец Трэвис продолжал:
– Но тебе всегда рады на святой мессе. И если тебя интересует катехизис, я провожу занятия по субботам в десять утра.
Он ждал моей реакции.
И я вновь выдавил слабый хрип.
– Ты – племянник Клеменс Милк?
Сила гравитации внезапно изменила направление, и я сел, ощутив прилив энергичной решимости.
– Да, – сказал я, – Клеменс Милк – моя тетя.
Теперь чудесным образом я ощутил силу в ногах и поднялся с земли. И даже шагнул к священнику. Это был короткий шажок, но все же в его сторону. С моих губ сорвались слова в духе моего отца.
– Можно вам задать вопрос?
– Валяй!
– Где вы были, – спросил я, – между тремя и шестью часами пополудни пятнадцатого мая?
– А что это был за день?
Уголки его надменных губ чуть поджались.
– Это было воскресенье.
– Полагаю, я совершал богослужение. Но точно не помню. После мессы я проводил обряд поклонения святому кресту. А что?
– Просто спросил. Без причины.
– Причина есть всегда, – заметил отец Трэвис.
– А можно еще вопрос?
– Нет, – ответил священник. – Только один вопрос в день.
Шрам на его шее ожил, побагровев еще больше.
– Твоя тетя говорит, ты – хороший парнишка, прилично учишься, не создаешь проблем родителям. Мы будем рады видеть тебя в нашей молодежной группе.
Тут он улыбнулся. Я впервые увидел, какие у него зубы. Слишком белые и ровные для настоящих. Хоть священник был и молодой мужчина, но зубы у него оказались вставные! И еще этот шрам, как длинный мазок красной краски на шее. Он протянул мне руку и стал похож на портрет руки неумелого художника: уж больно аккуратно у него были выписаны черты лица. Чересчур красивый, чтобы быть по-настоящему красивым, как отозвалась о нем тетя Клеменс. Мы молча стояли. Блеск его сутаны, отражавшийся в его белесых глазах, меня даже испугал. Его протянутая рука не шевелилась. Я пытался удержаться, но моя правая кисть сама собой двинулась к нему. У него была холодная ладонь. Мозолистая, гладкая и крепкая, как у отца Каппи.
– Значит, увидимся! – Он отвернулся. Но тут же повернулся с чуть заметной усмешкой. – Сигареты убивают.
Я стоял, точно к земле прирос, и смотрел, как он вошел в подвальную дверь церкви на вершине холма. Потом прислонился спиной к дереву – не привалился без сил, а как бы соединился со стволом. Меня переполняла странная энергия. Связь с деревом помогала мне думать. Я решил перво-наперво не ругать себя за то, что сейчас произошло между мной и священником. Я же не мог отказаться. Отказаться от рукопожатия с человеком в резервации было равносильно пожелать ему смерти. Хотя я и желал смерти отцу Трэвису Возняку и даже хотел сжечь его заживо, это мое намерение зиждилось на твердом убеждении, что именно он напал на маму. Он виновен! Но мой отец ни за что не вынес бы решение, лишенное веских оснований в виде улик. Я почесался спиной о шишковатую кору дерева и уставился на дверь, за которой исчез священник. Дверь, ведущую в подвал церкви. Я вознамерился раздобыть эти веские улики и думал, что, когда вернутся мои друзья, они мне помогут.
Энгус пришел вместе с Каппи. А тот принес для меня картофельный салат в пакете из-под хлеба и пластиковую ложку. Я сделал из пакета плошку, свернув его верхний край, и стал наворачивать салат. В нем, помимо картошки, я нашел соленые огурцы и крутые яйца, а сдобрен салат был соусом из майонеза и горчицы. Наверное, этот салат сделала кто-то из тетушек Каппи. Мама такой салат готовила так же. Я тщательно выскреб ложкой пакет изнутри. А потом рассказал Каппи о подслушанном мной вчера вечером разговоре дома и о том, что отец подозревает священника.
– Отец говорит, что священник был в Ливане!
– Ну и что? – отозвался Каппи.
– Он служил в морской пехоте.
– Мой отец тоже, – заметил Каппи.
– Думаю, нам надо выяснить, не пьет ли отец Трэвис пиво «Хэммз», – сказал я. – Я как раз собирался его об этом спросить. Но потом решил, что так выложу все свои карты. Зато я выяснил, что у него есть алиби. Но его алиби надо проверить.
– Его что? – не понял Энгус.
– Оправдание. Он сказал, что днем в то воскресенье проводил богослужение. Теперь надо просто спросить у тети Клеменс, правда ли это.
– А может, оставить пару банок «Хэммза» у него на крыльце и посмотреть, станет ли он их пить? – предложил Энгус.
– Да кто ж откажется от дармового пива? Особенно ты, Суперстар! – усмехнулся Каппи.
– Надо застать его пьющим «Хэммз» дома. За ним стоит последить.
– Что, заглядывать священнику в окна?
– Да! – твердо заявил Каппи. – Мы на великах объедем церковь и монастырь, доедем до старого кладбища. А потом проберемся сквозь ограду вместе с великами и пройдем между могил. Дом священника стоит рядом с кладбищем, ворота ограды на замке, но там можно протиснуться. Когда стемнеет, подкрадемся к его дому.
– У священника есть собака? – спросил я.
– Собаки нет, – помотал головой Энгус.
– Хорошо, – кивнул я. Но в тот момент меня, честно говоря, пугало не то, что священник нас поймает. Меня нервировало кладбище. Я же недавно видел призрака. И одного раза мне было достаточно. К тому же отец рассказывал, как призраки появлялись на кладбище, где он работал землекопом. На том кладбище был похоронен отец Мушума, который сражался при Батоше вместе с Луи Риэлем[19] и через несколько лет погиб, упав с лошади. Там же захоронили Северина, брата Мушума, который недолго служил в церкви священником, и его могилу отметили особым кирпичом, выкрашенным в белый цвет. И еще похоронили одного из троих, кого линчевали в Хупдэнсе: тело мальчика сняли с виселицы и предали земле, потому что ему было всего тринадцать. Как и мне. Мушум все это помнил. Другой брат Мушума Шаменгва, чье имя на языке оджибве означает «Бабочка Монарх», был похоронен тоже там. И первая жена Мушума, рядом с которой он завещал себя похоронить, лежала под плитой, поросшей серым лишайником. Там же была похоронена его мать, которая после смерти в младенчестве его младшего братика замолчала на десять долгих лет. И там же была похоронена вся семья моего отца, и семья моей бабушки, и семья ее матери, из которых кое-кто обратился в католичество. Мужчины были погребены в западной части кладбища рядом с приверженцами традиционных индейских верований. Все они исчезли в земле. Над их могилами воздвигли небольшие хижины, где могли обитать и питаться их духи, но эти хижины, не простояв очень долго, разрушились, обратившись в ничто. Я знал имена наших предков – о них мне рассказывал и Мушум, и отец, и мама.
Шаванобинесиик, Элизабет, Буревестник-с-Юга, Адик, Майкл, Карибу. Квиингвааджи, Джозеф, Росомаха. Машкики, Мэри, Шаман. Омбааши, Алберт, Подъятый-Ветром. Макунз, Медвежонок и Птица-Стряхивающая-с-Крыльев-Лед. Они жили и быстро умерли в те годы, когда наша резервация только создавалась, и все умирали прежде, чем кто-то мог записать их воспоминания или высказывания, да еще в таких умопомрачительных количествах, что было трудно всех упомнить, не проговаривая вслух их имен, как иногда делал мой отец, читая историю нашей резервации: «И вот в наши края пришел белый человек и положил их всех в сырую землю», – эта строка звучала словно пророчество из Ветхого Завета, а на самом деле была простой констатацией факта. И я страшился войти на кладбище ночью не потому, что страшился погребенных там любящих предков, а потому что боялся получить нокаут от нашей истории, которую я собирался постичь. Старое кладбище таило массу исторических осложнений.
Чтобы попасть на кладбищенские задворки, нам нужно было пройти мимо дома старушки, которая держала стаю собак. Никто не знал, что у нее за собаки и сколько их. Она подкармливала бродячих псов со всей резервации. Так что ее дом был совершенно непредсказуемым в смысле присутствия в нем собак. И мы всегда старались обходить его стороной. Приблизившись к нему, мы приготовились к обороне. Каппи запасся банкой молотого перца. Я вооружился тяжелой палкой, вспомнив, как Перл ненавидела такие палки. Хотя я не понимал, почему. Энгус отодрал от ивы несколько длинных веток и помахивал ими как кнутом. Мы совместно выработали план боевых действий и решили, что я пойду первым с палкой, а Каппи останется в арьергарде со своим перцем. Старушку звали Бинеши, и она была маленькая и сгорбленная, точь-в-точь как ее покосившаяся каркасная хибарка. Во дворе у нее ржавели две брошенные машины, в которых и обитали собаки. Мы решили, что нам на велосипедах удастся проскочить мимо без всякого ущерба, если мы разовьем приличную скорость. Но стоило нам свернуть на грунтовую дорожку, бегущую вдоль ее двора, как из полусгнивших машин выпрыгнули собаки. У двух, коротконогих, была серая шерсть, еще три были довольно крупные, а еще одна – просто исполинская. С неистовым лаем они ринулись к нам. Серая коротконожка, прыгнув вперед, вцепилась клыками в штанину Энгуса. Он мастерски отпихнул ее ногой и хлестнул по морде ивовыми прутьями, продолжая крутить педали.
– Они чуют страх! – крикнул Каппи. Мы расхохотались.
Собаки осмелели, как всегда бывает со стаей, когда кто-то первой проявит инициативу. Энгус издал истошный вопль. Грязно-белый пес вцепился ему в руку, он выронил ивовые прутья и врезал псу ногой по носу. Но это не смутило пса, и он снова прыгнул. И Энгус снова пнул его ногой. Но уворачиваясь от ноги, пес мотнул головой и умудрился цапнуть Энгуса за ногу, разодрав штанину.
– Отгоните его от меня!
Каппи резко затормозил ногами и развернул велосипед, взметнув веер пыли. Он остановился около Энгуса, достал банку с перцем, высыпал немного на ладонь и метнул псу в глаза. Тот взвизгнул – и больше мы его не видели. Но теперь нас окружили остальные собаки, прижав уши и разлаявшись не на шутку. Они явно жаждали крови, скалились и лязгали зубами, точно сухопутные акулы. Мы не могли бросить велики и пуститься наутек, потому что потом все равно пришлось бы за ними возвращаться. К тому же собаки бегали куда резвее и непременно догнали бы нас прежде, чем мы бы набрали скорость. Мы опасливо слезли с великов и, сбившись вместе, покатили их дальше. Каппи поперчил еще одну собаку. Я огрел палкой двух. Но получившие перца псы быстро пришли в себя и вернулись, роняя слюну, с намерением отомстить. Они окружили нас кольцом и стали медленно приближаться. Каппи выронил банку с перцем, и из нее на дорогу высыпался черный порошок.
– Вот черт, – шепнул он сквозь зубы. – Теперь мы все умрем.
– Нам нужен огонь! – прокричал Энгус.
Я снова пустил в ход палку. Буквально из ниоткуда на меня выпрыгнула здоровенная собака. И вдруг все звери как по команде навострили уши и повернули головы. Вся стая отпрянула от нас. Мы услышали, как хлопнула дверь хибарки.
– Наверное, старушка вышла их покормить, – предположил Каппи.
– Бежим! – завопил Энгус.
Мы запрыгнули на велики и пулей промчались остаток дороги, даже не заметив, как одолели подъем в гору. Потом мы покатили велосипеды через лес и перебросили их через проволочную ограду. На кладбище нам уже ничего не угрожало. Сгустились сумерки. Сквозь сосновые ветви мы могли видеть освещенные окна в доме священника. Мы покатили велики к дому. Испытанное мной чувство облегчения подавило страх оказаться на кладбище. Могилы, в отсутствие собак, казались мне самым безопасным местом на свете. Уже почти совсем стемнело, но мы никуда не торопились и по пути показывали друг другу знакомые надгробия. У нас были общие предки, которые лежали на этом кладбище. Подул слабый ветер, из синей чащи вдалеке монотонно засигналила кукушка, предсказывая дождь.
– Пора! – шепнул Каппи, когда мы дошли до цели.
Створки ворот ограды кое-как держались на цепи с навесным замочком. Мы раздвинули их и протолкнули велосипеды внутрь. Трясясь от страха, мы тихонько двинулись к дальнему краю церковного двора. Трава была скошена, и уже выпала вечерняя роса. Мы прошмыгнули мимо небольшого коттеджа, а вернее сказать – осовремененной одноэтажной хижины, где жил в одиночестве отец Трэвис. Мы забрались в косматые кусты, растущие около дома. Изнутри доносилось приглушенное бормотание работающего телевизора. Мы прокрались вдоль задней стены к окну, откуда звук доносился громче всего.
– Я хочу заглянуть! – прошептал Энгус.
– Он тебя увидит! – предупредил я.
– Там шторы, – возразил он и поднял голову к окну. И тут же пригнулся. – Сидит смотрит телик!
– Он тебя заметил?
– Не знаю.
Мы обогнули дом и прокрались к задней стене, утонувшей в ночной тьме. В доме раздались шаги, и внезапно в окошке прямо у нас над головой вспыхнул свет. Наступила тишина. За шторой темнел силуэт священника. Мы прижались к стене, затаив дыхание. И тут послышалось тихое журчание.
Каппи одними губами спросил:
– Писает?
Я пожал плечами. Журчание больше напоминало звук жидкости, сливаемой из бутылки в унитаз. Журчание продолжалось довольно долго и сопровождалось паузами. Потом раздался шум сливаемой воды. Кто-то отвернул и потом завернул водопроводный кран. Свет за окном погас, хлопнула дверь.
– Что-то у него писалка слабо работает, – рассудил Каппи.
– Ну, он же священник, – сказал Энгус.
– А они что, как-то по-особенному писают?
– У них же нет секса, – напомнил Энгус. – А без регулярного использования кран может заржаветь.
– Тебе-то откуда знать? – удивился Каппи.
– Вы оставайтесь тут! – шепнул я, пополз вперед, завернул за угол и направился прямо к окну, озаренному голубоватым сиянием телевизионного экрана. Любой, кто находился бы во дворе или прошел бы под темными соснами, мог меня заметить. Я встал во весь рост сбоку от окна и медленно наклонился к оконной раме. В раскрытое окно задувал июньский ветерок. Я видел затылок отца Трэвиса. Он сидел перед теликом в складном шезлонге, и около его локтя стояла бутылка пива «Майкелоб». Сначала я не разобрал, что он смотрит, а потом понял, что фильм. Но не по телевизору.
Я упал на колени и пополз обратно.
– У него там видак!
– И что он смотрит?
На сей раз Каппи пополз в разведку. Он довольно скоро вернулся и сообщил, что это «Чужой». Его показывали только в одном кинотеатре, куда надо было ехать часа два от нашей резервации, и мы удовольствовались обалденными пересказами его сюжета, потому что сами мы до этого кинотеатра, где он шел, доехать не могли, да и возрастом не вышли для такого фильма. И пунктов видеопроката у нас в резервации тогда еще не было.
– Наверное, это его собственная кассета, – громко предположил я, позабыв о раскрытом окне над головой.
– Его собственная копия? Как это?
– Ребята, потише! – прошептал Каппи. – Он же все услышит!
Энгус присел у стены и подобрал колени к подбородку. Мы приникли головами друг к дружке и продолжали беседу шепотом.
– А ты хорошо разглядел?
– Хорошо! У него телик с тридцатидюймовым экраном!
Вот как мы наконец посмотрели «Чужого» – стоя у окна за спиной у молодого священника, которого подозревали в совершении ужасного преступления. Отец Трэвис даже усилил звук, и мы смогли слышать каждое слово персонажей. Когда по экрану поползли финальные титры, он выключил телевизор, а мы метнулись в темноту и поползли вокруг дома туда, где предположительно находилась его спальня. Мы еще находились в состоянии сладкого шока от фильма. Энгус завалился на землю, тыча кулаком вверх и дрыгая ногами в воздухе. В санузле снова зажегся свет и послышалось журчание. Потом, судя по звукам, отец Трэвис почистил зубы и откашлялся. А потом зажегся свет в спальне. Мы тихонько двинулись вдоль стены. Медленно поднялись к окну. Здесь помимо штор были еще и занавески. Но между шторой и подоконником зиял прогал, а занавески оказались прозрачные. И мы все отлично смогли рассмотреть. Мы наблюдали, как отец Трэвис снял сутану, похожую на облачение колдуна, и повесил на вешалку. У него были широкие сильные плечи и могучая грудь, а мускулистый живот рассекали надвое трещины шрамов. Он скинул трусы и остался стоять с нагими ягодицами. Потом повернулся к окну. Ветвистые шрамы сходились в тугой клубок вокруг его пениса и мошонки.
«Все его причиндалы на месте, но их туда явно пришили», – уверенно заявил Энгус, когда потом восторженно описывал Заку увиденное. Это были сплошь зарубцевавшиеся шрамы, бугристые и блестящие, серо-пурпурного оттенка.
Мы в испуге расползлись кто куда. Свет погас. Мы рванули к своим велосипедам, но отец Трэвис непостижимым образом уже выбежал из двери и одним прыжком преградил путь Энгусу. Мы с Каппи дали деру.
– Вернитесь, вы оба! – ровным голосом громко произнес отец Трэвис. – Или я оторву ему башку.
Энгус завопил.
Мы сбавили ход и обернулись. Священник держал Энгуса за горло.
– Он не шутит!
– Читай «Богородицу»!
– Богородица Дева… – просипел Энгус.
– Про себя! – сказал отец Трэвис.
Губы Энгуса зашевелились. Мы с Каппи повернулись и поплелись назад.
Подул ночной ветер, и сосны вокруг нас величаво задышали. Тусклый свет фонарей, освещавших церковную парковку, не добивал сюда, под темные деревья. Отец Трэвис, одной рукой удерживая Энгуса перед собой, повел его к дому. Мы шли впереди. Священник приказал Каппи открыть дверь и войти в дом, и как только мы оказались внутри, он задвинул засов и подпер дверь стулом.
– Как вам известно, задней двери в доме нет! – сказал отец Трэвис. – Так что устраивайтесь поудобнее.
Он швырнул Энгуса на кушетку, а мы бросились туда же и уселись с обеих сторон от Энгуса, сложив руки на коленях. Отец Трэвис накинул на себя клетчатую рубашку и взял свой шезлонг. Развернул к нам, сел. На нем были трусы. Рубашку он не застегнул. У него была мощная, точно высеченная из гранита грудь. Я заметил в углу на полу несколько гантелей и пару гирь.
– Давно не виделись, – бросил он нам с Энгусом.
Мы оцепенели от ужаса.
– Ну что, насмотрелись? Тупые уроды. И что думаете?
Он лягнул меня чуть ниже коленки, и, хотя он был босой, моя нога онемела от удара, и я завалился назад.
– Скажите хоть что-нибудь.
Но мы потеряли дар речи.
– Так, вот ты, салага, – обратился он к Каппи. – Скажи мне, зачем вы за мной шпионили? Этих двух я знаю, а тебя нет. Как тебя зовут?
– Джон Ловкая-Нога.
Я прям обалдел от восторга. Какой же Каппи молодец: с ходу придумал вымышленное имя.
– Длинная-Нога. Что это за дурацкое имя такое?
– Это старинное индейское имя, сэр!
– Сэр? Кто тебя этому научил?
– Мой отец служил в морской пехоте, сэр!
– Тогда ты его позоришь! Ах ты ловкий дуралей! Сын морского пехотинца шпионит за священником! И как зовут твоего отца?
– Так же, сэр!
– Значит, ты – Ловкая-Нога-младший?
– Да, сэр!
– Так, Ловкая-Нога-младший, а как тебе такое?
Отец Трэвис подался вперед и молниеносным движением ноги стряхнул Каппи с кушетки. Каппи с грохотом рухнул на пол, но не издал ни звука.
– Ловкая-Нога, говоришь? Это так вот ты получил свое дурацкое имя?
Он нагнулся над Каппи, а тот прикрыл голову двумя кулаками, но священник просто схватил его и бросил обратно на кушетку.
– Хорошо, Ловкая-Нога, как твое настоящее имя?
– Каппи Лафурнэ.
– Доу – твой отец?
– Угу.
– Он хороший человек. – Священник ткнул пальцем в Энгуса. – А я знаю твою тетку!
Потом он ткнул пальцем в меня. Я был ни жив ни мертв.
– Я знаю твоего отца. И думаю, знаю, зачем вы, несчастные ублюдки, пришли сюда шпионить за мной! Я обдумал твой сегодняшний вопрос. Почему ты спросил, что я делал в воскресенье, пятнадцатого мая, в такое-то время. Как будто ты выяснял, есть ли у меня алиби. Сначала мне это показалось странным. Но потом я вспомнил, что случилось с твоей матерью. И все стало ясно.
Наши коленки, ступни, обувь вдруг обрели для нас важное значение. Мы не сговариваясь стали их изучать. Но при этом чувствовали на себе тяжелый взгляд его водянистых глаз.
– Значит, ты считаешь, что я навредил твоей матери? – тихо продолжал он. – Да? Отвечай!
И снова пнул меня в голень. Тупое онемение сменилось острой болью.
– Да. Нет. Я думал, это возможно.
– Возможно… Но теперь ответ, так сказать, стал сам собой очевиден, да? Не-воз-мож-но! Теперь ты это точно знаешь. И кстати. Для вашего сведения, вонючие крысята, грязные щенки, безмозглые идиоты, я бы не стал таким образом использовать свой член, даже если бы был на это способен, молокососы вы жалкие, потому что у меня есть мать и есть сестра. И еще у меня была девушка.
Отец Трэвис откинулся на спинку шезлонга. Я взглянул на него. Он наблюдал за нами исподлобья, сложив руки на коленях. В его глазах появился тот самый отблеск, как у киборга, а скулы заострились так, словно вот-вот были готовы прорваться сквозь кожу. У него не только была собственная видеокассета с «Чужим», у него не только были живописные и жуткие раны, но он еще обозвал нас всякими унизительными словечками, избежав привычных ругательств. Кроме того, он обладал умопомрачительной ловкостью, позволившей ему поймать Энгуса, и у него были гантели и гири около телевизора, и он пил крутое пиво «Майкелоб». Всего этого было довольно, чтобы заразить мальчишку моего возраста мечтой стать католиком.
– У вас была девушка?
Лицо отца Трэвиса напряглось и побелело. Меня поразило хладнокровие Каппи. На мгновение мне даже почудилось, что он уже мертв. Но Каппи спросил вовсе не ради хохмы и без всякого сарказма. В этом был весь Каппи. Ему просто стало интересно. Он задал свой вопрос с такой интонацией, с какой – сейчас я это понимаю – хороший адвокат должен допрашивать потенциального свидетеля. Чтобы узнать побольше о человеке. И услышать его версию событий.
Отец Трэвис ответил не сразу, но молчание Каппи красноречиво выражало его готовность слушать.
– Да, – наконец вымолвил отец Трэвис. Его голос стал спокойным, глухим. – Вы, мелюзга, еще ничего не знаете о женщинах. Вы думаете, что знаете, но это не так. Я был помолвлен с настоящей женщиной. Невероятно красивой. Верной. Все у нас было просто идеально, без сучка и задоринки. Даже когда меня ранили. Она бы осталась со мной. Я был для нее тем, кто… Вам, мальки, нравятся девчонки?
– Мне – да, – отозвался Каппи. Кроме него никто не осмелился подать голос.
– Не тратьте время на шлюх, – сказал отец Трэвис. – Вы же ходите в среднюю школу?
– С нового учебного года будем ходить, – ответил за всех Каппи.
– Тем лучше. Всегда есть красивая девочка, которую никто еще не заметил. И ты станешь первым, кто ее заметит.
– Понятно, – согласился Каппи.
– Так вот, – продолжал отец Трэвис. – Так вот…
Он развел руки над подлокотниками шезлонга. Он молча смотрел на нас, пока мы наконец не подняли глаза и не встретили его немигающий взгляд. – Вам хочется узнать, как это произошло. И как я с этим справляюсь. Вы хотите узнать о вещах, о которых вы не вправе знать. Но вы не плохие мальчики. Теперь я это вижу. Вы просто хотели узнать, кто надругался над вашей матерью. Над его матерью. – С этими словами он взглянул на меня. – Я служил в американском посольстве в восемьдесят третьем. Мне повезло, ведь я здесь, верно? Мой шпингалет фурычит. Мне нужно тщательно ухаживать за ним. А иначе инфекции. Бывают у меня и сексуальные желания. Но все сублимируется. До того, как пойти в морскую пехоту, учился в семинарии. Пережил приступ гнева. Домой вернулся таким. Это был знак. Окончил семинарию. Посвящен в сан. Направлен сюда. Вопросы есть?
Я сказал ему, что еще ни один священник в наших краях не стрелял сусликов.
– Монахини травят их газом. Вам бы понравилось, если бы вас травили газом в туннелях? Уж лучше помереть без мучений на воздухе. Они дохнут вот так! – Он щелкнул пальцами. – Опрокидываются на спину и глядят в небо. Ясно? На облака.
Отец Трэвис не смотрел на нас. Он вообще никуда не смотрел. Он махнул рукой, давая нам понять, что мы свободны. Мы привстали. Он был где-то далеко. Сложил пальцы домиком и приложил к ним лоб. Мы тихо прошли мимо него к двери, тихо убрали стул и отодвинули засов. Потом осторожно затворили за собой дверь и пошли к своим великам. Ветер усилился и сильно раскачивал фонарь на столбе. От этого свет плясал как безумный. Сосны стонали. Но воздух был теплый. Дул южный ветер, прилетевший на крыльях шаванобинеси, буревестника с юга. Дождевой птицы.
Глава 6
Секретные данные
Ветер гнал огромные горы облаков, которые неслись и неслись, пока небо не очистилось. Как ни в чем не бывало, словно никакой размолвки между нами не произошло, мы с отцом разговорились. Он сообщил, что у него состоялся интересный разговор с отцом Трэвисом. Я похолодел. Но оказывается, они беседовали о Техасе и о военных делах. Отец Трэвис на нас не настучал. И если отец тем вечером поведал Эдварду о своих подозрениях, то со мной он ничем таким не поделился – наверное, просто не захотел. Я поинтересовался, общался ли он с Сореном Бьерке. И сразу взял быка за рога:
– Про канистру спрашивал?
Теперь, когда отец Трэвис был вычеркнут из списка подозреваемых, я снова вспомнил про папки с судебными делами, которые мы с отцом привезли тогда домой. И еще спросил, допросил ли Бьерке брата и сестру Ларков.
– Он поговорил с Линдой.
Отец сильно нахмурился. Он же дал себе обещание не впутывать меня в расследование, не посвящать в его подробности и тем более не проводить расследование совместно со мной. Он понимал, куда это может зайти, во что я могу ввязаться, но в то же время он сам мало что знал. И его обуревало – чего я не понимал тогда, но о чем знаю сейчас, – чувство одиночества. Я был прав: это дело заботило только нас троих. Или, точнее, двоих. Так, как нас с отцом, мамино состояние не волновало больше никого – ни тетю Клеменс, ни даже маму. Никто не думал о ней день и ночь. Никто не знал, что с ней происходит. Никто, кроме нас двоих, отца и меня, не мечтал вернуть нашу жизнь в привычное русло, вернуть все к тому, как Было Раньше. Поэтому у отца просто не было выбора. И в конце концов ему ничего не оставалось, кроме как поговорить со мной.
– Мне надо съездить к Линде Уишкоб, – сказал он вдруг. – Она отказалась беседовать с Бьерке. Может быть, ты… хочешь со мной?
Линда Уишкоб привлекала внимание своей уродливой внешностью. Болезненно бледное треугольное лицо торчало над прилавком местного почтового отделения. Глаза навыкате таращились с идиотским выражением. Красные влажные губы смахивали на два мясных обрезка. Ее похожие на ворох коричневых ниток волосы торчали в разные стороны и заколыхались, когда она выложила на прилавок набор юбилейных марок. Она их достала специально для отца. Всем своим видом, вплоть до пухлых пальчиков с длинными ногтями, Линда напомнила мне пучеглазого дикобраза. Отец выбрал блок из пятидесяти марок, посвященных каждому штату, и предложил угостить ее чашкой кофе.
– У нас тут есть кофемашина, – отрезала Линда. – И я могу пить кофе бесплатно! – Она отнеслась к визиту отцу настороженно, хотя знала про происшествие с мамой. Все знали об этом, но никто не знал, что можно говорить, а что нет.
– Забудем про кофе, – сказал отец. – Я бы хотел с тобой потолковать. Может, тебя пока кто-нибудь подменит? Ты же не слишком занята.
Линда разомкнула влажные губы с явным намерением отказаться, но не смогла сразу придумать предлог. Она быстро договорилась с начальницей и вышла из-за прилавка. Из почты мы направились к закусочной «Здоровяка Эла» – крошечной забегаловке на другой стороне улицы. Я засомневался, что отец будет расспрашивать ее в «Здоровяке Эле», где в тесном помещении стояли шесть столиков впритирку. И не ошибся. Он не стал задавать Линде никаких вопросов, а завел бессодержательную беседу о погоде.
Разговорами о погоде отец мог заболтать кого угодно. Очень часто бывало так, что погода оказывалась единственной темой, обсуждая которую, люди полностью расслаблялись и мололи языком без умолку, а отец мог говорить о погоде до бесконечности. Закончив обсасывать текущую погоду во всех мыслимых подробностях, он переходил к обсуждению необычных погодных явлений за последние сто лет, о которых его собеседники знали по личным воспоминаниям, или по рассказам родственников, или из сводок новостей. Вспоминались погодные катаклизмы самых разнообразных видов. Но когда и эта тема исчерпывалась, приступали к погодным феноменам, возможным в будущем. Как-то раз, помню, отец увлеченно размышлял о погодных особенностях загробной жизни. Вот и сейчас они с Линдой Уишкоб долго и увлеченно толковали о погоде, а потом она встала и ушла.
– Пап, ну ты ее просто измочалил этим разговором.
На доске мелом было написано сегодняшнее меню: суп с гамбургером – заплати и ешь, сколько сможешь. Мы приступили ко второй плошке дымящегося супа, сваренного по простому рецепту: мясной фарш, макароны, консервированные помидоры, сельдерей, лук, соль и перец. В тот день суп был особенно хорош. Еще отец заказал фирменный кофе, который он называл «испытанием для стоика». Кофе тут был всегда пережжен. После супа отец без всякого удовольствия потягивал этот кофе.
– Просто хотел выяснить, чем она дышит, – объяснил он. – Линда и без меня порядком измочалена.
Я не понимал, какую цель он преследовал, затеяв эту беседу, но у них с Линдой явно произошел какой-то тайный обмен информацией – какой, я тогда не смог уловить.
В тот день отец смилостивился и позволил наконец позвать в гости Каппи. Стояла изнуряющая жара, поэтому мы с ним сидели в доме и, стараясь не шуметь, играли в «Коммандо-Бионикла». Монотонно гудел вентилятор. Мама, как обычно, спала.
Раздался тихий стук в дверь. Я открыл – на пороге стояла Линда Уишкоб: глаза навыкате, синяя униформа в обтяжку, потное бледное лицо без намека на косметику. Ее длинные ногти на коротких толстеньких пальцах вдруг показались мне зловещими, хотя и были выкрашены безобидным розовым лаком.
– Я подожду, пока твоя мама проснется, – сказала Линда.
К моему удивлению, она без спроса шагнула мимо меня в гостиную, кивнула Каппи и села позади нас. Каппи только пожал плечами. Мы давно не играли в нашу любимую игру, поэтому не собирались прерываться по такой малозначительной причине, как приход Линды. И продолжили сражение. Долгие годы наш народ сопротивлялся бесчисленным посягательствам непредсказуемых алчных существ. От нашей армии осталась лишь горстка отважных воинов, мы были голодными и практически без оружия. Мы ощутили вкус неминуемого поражения. Но глубоко в подземных лабораториях нашего города ученые уже проводили испытания беспрецедентного наступательного оружия. Наша бионическая рука добиралась куда угодно, она крушила, разбивала, сминала любую преграду. Она пробивала броню, и ее тепловые сенсоры могли распознавать любого врага в укрытии. Бионическая рука обладала мощью целой армии, и ею мог управлять один-единственный солдат, успешно прошедший все тесты. Таким солдатом был я. Или Каппи. «Коммандо-Бионикл». Наша боевая задача: перенестись на территорию, где за нами следит тысяча неприятельских глаз, где за каждым углом, за каждым окном нас подстерегает смерть. Наша цель: вражеский штаб, сердце неприступной крепости нашего ненавистного врага. Наша миссия: невыполнима. Наша решимость: несгибаема. Наша отвага: неистощима. Наша аудитория: Линда Уишкоб.
Линда наблюдала за нами молча, так что мы про нее и думать забыли. Она буквально не дышала и не шевелилась. Когда мама открыла дверь спальни и зашла в туалет на втором этаже, я этого даже не услышал. В отличие от Линды. Она шагнула к лестнице, и не успел я слова сказать или сдвинуться с места, как она, позвав маму, стала подниматься наверх. Я оторвался от игры, но Линда уже вознесла свое круглое мягкое туловище наверх и поздоровалась с мамой, не обращая внимания на то, что та опешила и явно возмутилась столь бесцеремонным вторжением. Но Линда Уишкоб вроде бы и не заметила маминой нервозности и с простодушной невозмутимостью проследовала за ней в спальню. Дверь осталась раскрытой. До моего слуха донесся скрип кровати. Потом Линда пододвинула стул. Потом послышались их голоса: у них завязался разговор.
* * *
Через несколько дней зарядил обложной дождь, и я остался дома второй раз за все лето, играл в любимые игры и рисовал комиксы. Энгус с утра трудился над вторым портретом Уорфа, но потом тетя Стар отправила его к Каппи за канализационным тросом-змейкой прочистить трубу. И теперь оба, наверное, торчали в квартире Энгуса, попивали «Блатц» Элвина и выковыривали из вонючего слива склизкое гнилье. Картинки мне наскучили. Я решил втихаря стянуть «Справочник» Коэна, но недавнее чтение с отцом его судебных дел и комментариев повергло меня в такую грусть, что я передумал. В такой сумрачный день самое милое дело – подняться наверх, запереться в своей комнате и полистать припрятанную папку с «домашними заданиями». Но вечное присутствие мамы рядом в спальне напрочь убило эту привычку. Я мысленно начал выбирать, что сделать – то ли сбежать к Энгусу, то ли взять третий и четвертый тома Толкина, подаренные мне отцом на Рождество. Но я не был уверен, что мне хватит отчаяния сделать то или другое. Дождь лил не переставая, уныло барабаня по крыше. От такого ливня в доме всегда становилось зябко и грустно – даже если забыть, что наверху в спальне медленно чахнул мамин дух. Я побоялся, что ливень смоет новую рассаду из грядок, что, правда, едва ли бы огорчило маму. Я отнес ей сэндвич, но она спала. Тогда я достал книги Толкина и уже приступил к чтению, как вдруг из стены ливня, сопровождавшегося нескончаемой барабанной дробью капель, на пороге выросла Линда Уишкоб, похожая на промокшего хоббита. Она снова заявилась проведать маму.
Мельком взглянув на меня, Линда отправилась прямехонько наверх. В руке она держала небольшой сверток, наверное, свой банановый кекс – она покупала почерневшие бананы и пекла из них кексы. Сверху послышалось двухголосое бормотание, и я сгорал от любопытства, гадая, о чем они беседуют. Задумавшись, с какой стати мама решила разговаривать с Линдой, я мог бы забеспокоиться или встревожиться, в любом случае – удивиться. Но я не отреагировал никак. Зато отец отреагировал. Когда он вернулся домой и узнал, что у нас Линда, он тихо сказал мне:
– Давай заманим ее в ловушку!
– Это как?
– Ты будешь приманкой.
– Ну, спасибо!
– С тобой она поговорит, Джо. Ты ей нравишься. Мама ей нравится. А меня она побаивается. Слышишь, как они там расчирикались.
– А почему ты хочешь ее разговорить?
– Нам сейчас нужна любая информация. Надо выяснить, что она может рассказать про семью Ларков.
– Но она же Уишкоб.
– Она – приемыш, Джо, не забывай. Ты же помнишь то дело, которое мы привезли домой?
– Едва ли оно релевантно в данном случае.
– Милое слово!
Но в конце концов я согласился, а отец еще и очень кстати купил мороженого.
– Линда обожает мороженое.
– Даже в дождливый день?
Отец улыбнулся:
– Она холоднокровная.
Словом, когда Линда, поговорив с мамой, наконец спустилась вниз, я спросил, не хочет ли она мороженого. Она спросила, какое. Я сказал, что с шоколадными полосками.
– А, «Неаполитано», – сообразила Линда и соизволила принять плошку с мороженым.
Мы сели втроем на кухне, и отец как бы невзначай прикрыл дверь, заметив, что маме надо побольше отдыхать. И добавил, какая Линда молодец, что приходит ее навещать и как всем нам понравились ее банановые кексы.
– Специи очень вкусные! – встрял я.
– Я кладу только корицу, – заметила Линда, и ее выпученные глаза осветились радостью. – Настоящую корицу я покупаю в стеклянных баночках, а не в жестянках. Она продается в секции импортных продуктов в бакалее «Хорнбахера» в Фарго. Это не та дрянь, которую тут продают. Иногда я добавляю немного лимонной цедры или апельсиновые корки.
Она страшно обрадовалась тому, что мы оценили ее банановый кекс, и отец, возможно, даже и без меня смог бы ее разговорить. Но он обратился ко мне:
– Вкусно же было, Джо?
И я пустился расписывать, как ел этот кекс на завтрак и как стянул лишний кусок, потому что мама с папой чуть не весь его слопали.
– В следующий раз принесу вам два кекса! – заботливо проворковала Линда.
Я сунул в рот ложку с мороженым и решил, что сейчас отец начнет у нее выпытывать, что ему нужно, но он бровями сделал мне знак.
– Линда, я тут слыхал… ну, мне стало интересно… я хочу задать вам личный вопрос…
– Давай! – подбодрила меня Линда, и ее бледные щеки и лоб порозовели. Может, никто еще никогда не задавал ей личных вопросов. Я собрался с мыслями и выпалил:
– У меня есть друзья, чьи родители или близкие родственники росли в приемных семьях. В семьях не из племени. Им пришлось довольно трудно, они сами рассказывали. Но никто не рассказывает о том, как живется тем…
– Кого принимают в индейские семьи?
Линда обнажила крысиные зубки, состроив мне наивную и, как мне показалось, ободряющую улыбку, так что я совсем осмелел. Больше того, мне вдруг стало реально интересно об этом узнать. Мне захотелось услышать историю ее жизни. Я отправил в рот еще одну ложку мороженого и повторил, что мне правда понравился банановый кекс, и это удивительно, потому что, мол, до этого я терпеть не мог банановые кексы. Разговорившись с Линдой, я как-то забыл о сидящем рядом отце и уже не обращал внимания на ее выпученные глаза, и зловещие ручонки, похожие на дикобразьи лапки, и всклоченные волосенки. Я видел перед собой просто Линду, и мне очень хотелось узнать побольше о ее жизни. Вот почему, наверное, она и поведала мне свою историю.
Рассказ Линды
Я родилась зимой, начала она, но сразу замолчала и стала доедать мороженое. Отставив пустую плошку в сторону, она продолжала уже без пауз. Мой брат появился на свет на две минуты раньше меня. Акушерка завернула его в голубую фланелевую простынку, вдруг мать говорит: Боже ты мой, да там еще один! – и я выскользнула наружу, полуживая. А после начала помирать по-настоящему. Родилась я розовенькая, а потом вдруг стала серо-синюшной, и акушерка собралась уложить меня в колыбельку, обогреваемую зажженными лампами. Но ее остановил врач, заметивший, какая я сморщенная: и головка, и ручки, и ножки – все было сморщенное. Стоя перед акушеркой, которая держала меня на руках, врач сообщил матери, что второй младенец имеет врожденные патологии, и спросил, позволяет ли она ему принять экстраординарные меры для спасения новорожденной.
И моя мать ответила: «Нет!»
Нет, пусть ребенок умрет! А когда врач отвернулся, акушерка прочистила мне рот пальцем, взяла за ножки, хорошенько встряхнула и завернула в еще одно одеяло – розовое. И тут я шумно вздохнула.
– Что там, сестра? – строго спросил врач.
– Слишком поздно, – ответила она.
Меня оставили в родильном отделении с бутылочкой, привязанной к щеке, а власти округа решали, как со мной поступить, пока я в подвешенном состоянии. Я ведь была еще очень мала, чтобы меня можно было поместить в какое-нибудь государственное детское учреждение, а миссис и мистер Джордж Ларк от меня отказались. И тогда ночная уборщица, женщина из резервации Бетти Уишкоб, попросила разрешения кормить меня в свободное от работы время. И качая меня в люльке, сидя спиной к обзорному окну, Бетти – мама! – меня кормила из бутылочки. Она меня кормила, положив мою головку в свою большую ладонь. Никто в больнице не знал, что она кормила меня и ночью, и делала мне лечебный массаж, и решила забрать к себе.
С тех пор прошло полвека. Мне же теперь пятьдесят. Когда мама спросила у руководства больницы, можно ли ей забрать меня к себе, все облегченно вздохнули, и писанины много не потребовалось для оформления, по крайней мере вначале. Словом, меня спасли, я росла в семье Уишкобов. Я жила в резервации и училась в школе как обычная индеанка – сначала в миссии, а потом в государственной школе. Но до этого в трехлетнем возрасте меня забрали из семьи в первый раз. Я до сих пор помню запах дезинфекции, того, что я называла белым отчаянием, которым сопровождалось присутствие кого-то незримого, кто страдал вместе со мной и держал меня за руку. Мне в память запало это незримое присутствие. В следующий раз работники соцзащиты решили подыскать для меня более подходящую семью. Мне тогда было четыре года. Помню, стою я около мамы и держусь за ее юбку – юбка была хлопчатобумажная, зеленая такая. Я зарылась лицом в приятно пахнущую теплую ткань. А потом оказалась на заднем сиденье машины, которая бесшумно мчалась непонятно куда. Я проснулась в незнакомой белой комнате. У меня была узкая кроватка, а одеяло туго заткнуто, и мне пришлось с усилием из-под него выбираться. Я села на край кровати и стала ждать. Так прошла, кажется, целая вечность.
Когда ты маленькая, ты сама не понимаешь, что кричишь или плачешь. Твои переживания и твои крики – это одно и то же. Я только помню, как открывала рот и не закрывала до тех пор, пока меня снова не вернули к маме.
Каждое утро, пока мне не исполнилось одиннадцать, мама и папа Альберт массировали мне голову, пытаясь придать ей нормальную округлую форму, и руки, и ноги. Они заставляли меня поднимать мешочек с песком, который мама пришила к рычагу с противовесом. Они меня будили и приводили в кухню. Дрова уже потрескивали в плите, я выпивала стакан голубоватого молока. Потом мама садилась на стул и брала меня на колени. Она массировала мою голову, а потом обхватывала ее своими сильными пальцами и выправляла кости черепа.
– У тебя иногда будут видения, – предупредила меня мама однажды, – твой родничок не зарастал дольше обычного. А через него духи обычно залетают в голову.
Папа сидел на другом стуле напротив, ждал, когда придет его черед вытягивать мое тело с головы до пят.
– Вытяни ноги, Таффи, – говорил он. Это у меня такое прозвище было. Я клала ноги на папины ладони, и он тянул меня в одну сторону, а мама крепко держала меня за голову и тянула в противоположную.
Это мой брат Седрик стал называть меня Таффи – Ириской, – потому что он знал, что, когда я пойду в школу, у меня обязательно появится прозвище. Ему просто не хотелось, чтобы это прозвище намекало на мою деформированную руку или голову. Но моя голова – а она была такой уродливой, что, когда я родилась, врач поставил мне диагноз: идиотизм! – изменила форму благодаря маминым массажам. И когда я уже достаточно подросла, чтобы смотреться в зеркало, я даже показалась себе красивой.
Ни мама, на папа никогда не говорили мне, что я ошибаюсь. Это Шерил первая сообщила мне новость: Ты, сказала она, такая уродина, что даже симпатичная!
Я посмотрелась в зеркало, как только мне представилась такая возможность, и поняла, что Шерил не соврала.
Дом, в котором мы тогда жили, до сих пор пропитан запахами гниющего дерева, лука, жареной утки, соленого пота чумазых детей. Мама всегда приучала нас к чистоте, а папа – к грязи. Он брал нас в лес и показывал, как выследить кролика и как ставить силки. Мы выдергивали сусликов из нор веревочной петлей и набирали полные ведра ягод. Мы катались на строптивых пони, ловили щук в ближнем озере, каждую осень копали картошку на продажу, а вырученными деньгами оплачивали учебу в школе. Мама проработала в больнице недолго. Папа торговал дровами, кукурузой, тыквами. Но мы не голодали, и в доме царила атмосфера любви. Я точно знала, что мама и папа меня любят, потому что им стоило немалых усилий вытащить меня из системы социального обеспечения, правда, и я им в этом помогала своим истошным криком. При всем при том не хочу сказать, что они были идеальные. Папа выпивал иногда и валялся потом на полу. У мамы был взрывной характер. Она нас никогда не била, но кричала и бушевала дай боже. Хуже того. Она могла наговорить кучу обидных вещей. Однажды Шерил стала плясать в доме. А у нас там была полка, аккуратно прибитая в углу. На полке стояла хрустальная ваза, которой мама очень дорожила. Когда мы приносили ей из леса букеты диких цветов, она их ставила в эту вазу. Я много раз видела, как она ее бережно моет мыльной водой и натирает до блеска старой наволочкой. И вот Шерил случайно смахнула рукой вазу с полки, та со звоном упала на пол и разлетелась вдребезги.
Мама в этот момент хлопотала у плиты. Она обернулась и всплеснула руками.
– Черт тебя побери, Шерил! Эта была моя единственная красивая вещь!
– Это Таффи ее разбила! – крикнула Шерил и кинулась вон из дома.
Мама начала горько плакать, прикрыв локтем лицо. Я начала было собирать с пола осколки, но она сказала, удрученно так: «пусть лежат» – и я пошла искать Шерил. Она пряталась в своем любимом месте позади курятника. Когда я спросила, почему она обвинила меня, та с ненавистью посмотрела на меня и сказала: «Потому что ты белая!» Я не затаила тогда обиду на Шерил, и потом мы опять помирились. Чему я была очень рада, ведь замуж я так и не вышла, а мне же надо было с кем-то поделиться новостями, когда меня пять лет назад нашла моя биологическая мать.
Я так и жила в пристройке к нашему домику, пока родители не умерли. Они ушли один за другим, как часто бывает с теми, кто долго прожил в браке. Все произошло в течение нескольких месяцев. К тому времени мои братья и сестры либо уже давно уехали из резервации, либо выстроили себе новые дома поближе к городу. А я осталась одна в опустевшем доме. Правда, я позволила псу, внуку того, кто когда-то облаял сотрудницу соцслужбы, жить со мной в доме. Мама с папой поставили в кухне телевизор. Они его смотрели после ужина, сидя за кухонной стойкой, сложив на ней руки. А я предпочитаю смотреть, лежа на кушетке. Я заказала себе камин с передней стеклянной панелью и вентиляторами, которые гонят теплый воздух по кругу, и зимние вечера я провожу перед камином: собака лежит у моих ног, я читаю или вяжу, а телевизор тихо мурчит за компанию.
И вот однажды вечером зазвонил телефон.
Снимаю трубку, говорю: «Алло!»
Молчание. Потом женский голос спрашивает:
– Я говорю с Линдой Уишкоб?
– Да, – отвечаю. И тут меня охватило смутное подозрение. Я поняла: что-то будет…
– Это твоя мать Грейс Ларк, – голос напряженный, нервный.
Я бросила трубку. Потом, когда я прокручивала в голове наш короткий разговор, он мне показался забавным. Я инстинктивно отвергла мать, бросила трубку с ее голосом в ней точно так же, как она когда-то бросила меня на произвол судьбы.
Как вам известно, я государственная служащая. И в любой момент я бы могла узнать адрес моих биологических родителей. Я могла им позвонить или могла напиться и – нате вам! – объявиться у них во дворе перед домом и учинить дебош! Но я не хотела ничего про них знать! Зачем? Все, что я про них знала, причиняло мне только боль, а я по жизни всегда старалась избегать боли – поэтому, наверное, я и замуж не вышла, и детей не нарожала. Мне неплохо жить одной, кроме разве что… ну… в общем, в тот вечер, когда я бросила трубку, я заварила чаю и села решать кроссворд. Один вопрос поставил меня в тупик. Сложное слово из двух корней, тринадцать букв. И я очень долго искала разгадку, даже в словарь полезла, пока не нашла нужное слово: доппельгангер. Призрак-двойник.
Я всегда связывала посещения этого незримого существа с духами, которые влетели в мою голову из-за массажей Бетти. Первый раз это посещение произошло, когда меня ненадолго забрали из дома и поместили в ту белую комнату. В другие разы меня посещало чувство, что рядом со мной кто-то идет или сидит, но всегда остается вне поля моего зрения. Я ведь разрешила собаке жить со мной в доме потому, что она отпугивала это невидимое существо, которое с годами стало вроде как беспокойным, беспомощным и все чего-то клянчило, а почему – я и сама не могла понять. Я никогда не воспринимала это существо как имеющее отношение к моему брату-близнецу, который жил в часе езды от нас. Но в тот вечер случайное совпадение неожиданного телефонного звонка и слова из тринадцати букв в кроссворде заставило меня призадуматься.
Бетти говорила, что она понятия не имеет, как Ларки назвали новорожденного мальчика, хотя наверняка она знала. Конечно, коль скоро мы оказались разного пола, мы же были разнояйцевыми близнецами, и, как можно предположить, не больше похожи, чем любые другие брат и сестра. В тот вечер, когда позвонила моя биологическая мать, во мне возникла жгучая ненависть и отвращение к брату-близнецу. Я ведь впервые услыхала ее дрожащий в телефонной трубке голос. А он этот голос слышал всю жизнь.
Мне долго казалось, что я ненавижу и биологическую мать. Но эта женщина просто представилась: твоя мать. Мой мозг четко записал, как магнитофон на пленку, ее слова. И всю ночь, и все утро эта запись прокручивалась снова и снова. Но к концу второго дня ее интонация уже подзабылась. И мне стало легче, когда на третий день запись остановилась. Но на четвертый день эта женщина опять позвонила.
Она начала с извинений.
– Прости, что беспокою тебя! – И начала рассказывать, как она всегда мечтала встретиться со мной, да боялась узнать, где я. Еще она сказала, что Джордж, мой отец, умер, и она живет одна, а мой брат-близнец раньше работал на почте, а потом переехал в Пьер, в Южную Дакоту. Я спросила, как его зовут.
– Линден, это наше старое семейное имя.
– Значит, и мое тоже – старое семейное имя? – спросила я.
– Нет, – ответила Грейс Ларк. – Оно просто похоже по звучанию на имя твоего брата.
И еще она сказала, что Джордж поспешно вписал мое имя в свидетельство о рождении и что они никогда меня не видели. Потом она начала рассказывать, как Джордж умер от инфаркта, а она собралась переехать в Пьер поближе к сыну, да у нее рука не поднялась продать дом. Еще она сказала, что даже не знала, как близко я живу, а иначе она бы уже давным-давно мне позвонила. Эта убаюкивающая беседа о всякой ерунде, должно быть, навеяла на меня дремоту, потому что, когда Грейс Ларк спросила, можем ли мы встретиться и может ли она пригласить меня на ужин в ресторанчик «Вертс-Саппер Клаб», я машинально согласилась, и мы назначили день.
А когда я повесила трубку, я уставилась на пламя в камине и смотрела долго-долго. До ее звонка я разожгла камин и собиралась поджарить попкорн на огне. Я так частенько делала: подбрасывала жареные зерна в воздух, а собака подпрыгивала и ловила их на лету. А может, я бы села за кухонный стол и посмотрела кино по телевизору. Или села бы у камина почитать роман из библиотеки. А собака лежала бы у моих ног, похрапывала и дрыгала ногами во сне. Я так обычно провожу вечера. Но теперь на меня навалилось кое-что новенькое. Меня обуревали тревожные мысли. И какая из них одолеет мою волю? Я не могла решить. Подошла собака, села и положила голову мне на колени, так мы просидели долгое время, пока я не осознала, что меня охватило странное бесчувствие. Мне даже стало легче от того, что я враз перестала что-либо чувствовать. Я выпустила собаку на двор, потом снова впустила в дом и пошла спать.
И вот мы встретились. Она оказалась обыкновенной, ничего особенного. Я была почти уверена, что видела ее раньше в городе – в магазине или в банке. Ведь трудно не замечать кого-то, с кем всю жизнь живешь по соседству. Но вряд ли я подумала о ней как о родной матери, потому что не обнаружила никакого сходства с собой.
Мы не обменялись рукопожатием и, конечно же, не обнялись. Мы сели на дерматиновые диванчики напротив друг друга. Моя биологическая мать вытаращилась на меня.
– Так ты не… – Она осеклась.
– …умственно отсталая?
Она поборола волнение.
– У тебя отцовские волосы. Джордж тоже был темный.
У Грейс Ларк были голубые глаза с красноватыми кругами вокруг век, на глазах – очки в неприметной оправе, хищный нос и крошечный безгубый рот дугой. Типичные для семидесятисемилетней женщины волосы: жестко завитые седые пряди. Во рту нее виднелась потемневшая вставная челюсть, в ушах болтались серьги с искусственными жемчужинами. На ней был синий брючный костюм, на ногах – ортопедические сапоги на шнуровке с квадратными носами. Ничего в ней не было такого, что бы привлекло меня. Обычная старушка, которую увидишь – и обойдешь стороной от греха подальше. Я замечала: жители резервации обычно с такими вот старушками предпочитают не общаться – уж не знаю, почему. Наверное, инстинкт взаимной неприязни.
– Ты что будешь? – раскрыв меню, спросила Грейс Ларк. – Может, у тебя есть любимое блюдо? Я плачу.
– Нет, спасибо, – ответила я, – счет мы разделим пополам.
Я заранее подумала о таком повороте и решила, что если уж моя биологическая мать захотела загладить каким-то образом свою вину, то больно дешево она решила ее компенсировать этим ужином. Мы сделали заказ и стали пить кисловатое белое вино.
На ужин нам принесли судака и плов. А когда перед Грейс Ларк поставили вазочку с мороженым, политым кленовым сиропом, ее глаза наполнились слезами.
– Ну я же не знала, что ты вырастешь нормальной! И почему я от тебя отказалась! – всхлипывала она.
Меня даже встревожило, как близко к сердцу она приняла эти слова, и я быстро перевела разговор на другую тему:
– Как Линден?
Ее слезы мгновенно высохли.
– Он очень болен. – Ее лицо посерьезнело, взгляд потяжелел. – У него отказала почка, он на диализе. Сейчас ждет донорскую почку. Я бы отдала ему свою, но моя не подойдет, я же старуха. Джордж умер. Так что ты – единственная надежда брата.
Я приложила салфетку к губам и почувствовала, как стала невесомой, точно поплыла вверх над столом, чуть ли не в космос улетела. И кто-то летел рядом со мной, почти неосязаемый, и я чувствовала его взволнованное дыхание.
Та-ак, подумала я, пора звонить Шерил. Давно надо было ей позвонить. У меня с собой была двадцатка, и, приземлившись обратно, я выложила ее на стол и вышла из ресторана. Я подошла к своей машине, но прежде, чем сесть за руль, подбежала к газону, окружавшему парковку. Меня вывернуло наизнанку, я блевала и плакала, а потом почувствовала, как Грейс Ларк положила мне руку на спину и стала поглаживать.
Моя биологическая мать первый раз в жизни дотронулась до меня. Ее прикосновение меня успокоило, но я все же сумела уловить нотки торжества в ее мурлыкающем голосе. Ну, конечно, она, видите ли, всегда знала, где я живу. Я с ненавистью оттолкнула ее руку и отпрыгнула в сторону, точно животное, вырвавшееся из западни.
Шерил была очень деловита.
– Послушай меня, Таффи. Я позвоню Седрику в Южную Дакоту! Я попрошу Седрика перекрыть кислород Линдену, так что выброси из головы эту хрень.
Это было вполне в духе Шерил. Кто же еще мог заставить меня рассмеяться в такой ситуации? Все следующее утро я провалялась в постели. Я позвонила на работу, сказалась больной – впервые за два года!
– Ты же не думаешь об этом всерьез? – спросила Шерил. И когда я не ответила, добавила: – Или думаешь?
– Сама не знаю.
– Ну теперь я точно позвоню Седрику. Эти люди выкинули тебя, они от тебя отвернулись. Их бы воля, они бы бросили тебя на улице подыхать! Ты моя сестра! И я не хочу, чтобы ты раздавала свои почки направо и налево! А если в один прекрасный день твоя почка понадобится мне? Ты об этом думала? Побереги свою почку для меня! Я тебя люблю! – сказала на прощанье Шерил. И я ответила ей теми же словами.
– Таффи, не делай этого! – с тревогой в голосе попросила она.
Мы закончили разговор, и я начала звонить по номерам, которые мне дала Грейс Ларк, и записалась на прием к врачам нашей больницы, чтобы сдать необходимые анализы. В Южной Дакоте я остановилась у Седрика. Он ветеран войны. Его жена Черил – не Шерил, а Черил через «ч», – выделила мне, пока я жила у них, полотенчики, расшитые симпатичными зверюшками, и крохотные кусочки мыльца, которое она стащила из мотеля. Она мне застилала постель. Все пыталась показать, что целиком и полностью одобряет мое решение, хотя другие члены семьи этого совсем не одобряли. Но Черил – очень набожная христианка, так что ее можно было понять.
Но для меня это решение было не в том плане, чтобы «поступать с другими, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой». Я же сказала, что не терплю боли, и я бы ни на секунду не решилась испытать эту боль, но альтернатива была еще более невыносимой.
Всю свою жизнь, подсознательно, я ждала, что это произойдет. Мой брат-близнец всегда присутствовал рядом со мной – незримо. Он, не сомневаюсь, этого даже не подозревал. Когда соцслужба отняла меня у Бетти и я осталась одна в белой-белой комнате, это ведь он держал меня за руку, сидел рядом и горевал. А встретившись с его матерью, я еще кое-что поняла. В маленьком городе, в конце концов, людям прекрасно было известно, как она поступила, отказавшись от меня. Ей пришлось обратить свою ярость на самое себя, а свой позор – на кого-то другого, на ребенка, которого она выбрала. Она во всем всегда винила Линдена, обращала свою извращенную ненависть на него. Не случайно в ее прикосновении ко мне я ощутила и презрение, и торжество. И я благодарна за то, как все обернулось. До нашего появления на свет мой брат-близнец придавил меня во чреве из чувства сострадания и облагодетельствовал меня, деформировав мое тело ради того, чтобы именно я оказалась спасенышем.
Врачиха-иранка показала мне результаты анализов и провела со мной беседу. Вот что я вам скажу, говорит, вы ему подходите, но я в курсе, что с вами произошло. И хочу вам честно сказать, что в болезни почек Линдена Ларка виноват только он один. Суд вынес против него не один, а целых два запретительных ордера. Еще он пытался покончить с собой, приняв огромную дозу ацетаминофена с аспирином и запив ее алкоголем. Вот почему он сидит на диализе. Думаю, вы должны все это учесть, когда будете принимать окончательное решение.
В тот же день я приехала к брату в больницу, села рядом, а он говорит:
– Не надо тебе этого делать! Нечего корчить из себя Иисуса.
– Я все про тебя знаю. И я неверующая.
– Как интересно! – Линден внимательно оглядел меня и говорит: – А мы и правда совсем не похожи!
Я поняла, что это не комплимент, потому что он был такой симпатичный. Я подумала, что ему достались не только самые красивые черты лица матери, но еще и ее лживые глаза, и акулий оскал. Он обвел глазами палату. И все кусал губы, подсвистывал, просовывал скрученное одеяло между пальцев.
– Ты тоже разносишь почту? – спросил он.
– Я в основном сижу за окошком в отделении.
– У меня был классный маршрут, – продолжал он, зевая. – Я мог обойти все дома с закрытым и глазами. Каждое Рождество люди дарили мне открытки, деньги, печенье, такие вот делали рождественские подарки. Я все про них знал, про их привычки – все до мельчайших деталей. Я мог бы совершить идеальное преступление, представляешь!
Это меня ошарашило. Я никак не отреагировала.
Линден поджал губы и опустил взгляд.
– Ты женат? – спросила я.
– Не-а… Девчонка, правда, есть. – Он это произнес таким жалостливым тоном, словно хотел сказать: «Бедный я, бедный». – Но моя девчонка в последнее время меня избегает, потому что один высокопоставленный государственный чиновник платит ей хорошие бабки, чтобы она с ним встречалась. Компенсация за ее услуги. Понимаешь, о чем я?
Я опять потеряла дар речи. Линден рассказал, что девушка, которая ему нравится, очень молодая, работает в канцелярии губернатора, что она хорошо училась в школе и всегда была на виду – и эту всеобщую любимицу-милашку, когда она закончила школу, сразу взяли стажером к губернатору. Индеанка-стажер украшает любую администрацию, заявил Линден, и я даже помог ей получить эту работу. А для меня она и правда слишком молода. Я все ждал, когда же она повзрослеет. Но пока я валялся в больнице, этот высокопоставленный чиновничек начал ее выращивать для себя. И до сих пор все выращивает…
Мне было ужасно неловко, и, чтобы сменить тему, я выпалила первое, что пришло на ум:
– А тебе никогда не чудилось, когда ты шел с почтой по своему маршруту, что кто-то шагает рядом или позади? Кто-то, кого ты видишь, закрывая глаза, и кто исчезает, стоит тебе их открыть?
– Нет, – удивился он. – Ты рехнулась?
Наверное. Я взяла его за руку, и она сразу обмякла. Так мы и сидели молча. Через какое-то время он высвободил свою руку и стал массировать, словно я, сжав ее, причинила ему боль.
– Ничего не имею против тебя. Это была идея матери. Мне не нужна твоя почка. Меня воротит от уродов. Я не хочу, чтобы кусок тебя сидел в моем теле. Уж лучше я подожду донорской почки. Честно говоря, у тебя довольно отталкивающая внешность! То есть я, конечно, извиняюсь, но тебе наверняка это уже и раньше говорили.
– Ну я уж точно не королева красоты, – ответила я. – Но никто еще не называл меня отталкивающей.
– У тебя, наверное, есть кошка, – продолжал он. – Кошки притворяются, что любят того, кто их кормит. Вряд ли ты сможешь найти себе мужа или мужика, ну разве только тебе придется натянуть на голову наволочку. Но даже и в этом случае придется снимать ее вечером. Ох, прости, прости!
Он приложил палец к губам и скорчил притворно виноватую гримасу.
– И почему я говорю все это? Я тебя обидел?
– Ты все это говоришь, чтобы я встала и ушла? – спросила я. И опять словно взлетела вверх, как тогда в ресторане. – Может быть, ты хочешь умереть? Ты не хочешь спастись, да? Я же спасаю тебя просто так. Ты мне ничего не будешь должен.
– Должен тебе?
Он вроде искренне удивился. У него были такие ровные зубы, что я подумала: наверное, в детстве его водили к ортодонту. Он захохотал, выставив напоказ свои красивые зубы. Затряс головой, стал тыкать в меня пальцем и хохотал так, что не мог остановиться. Когда я неловко нагнулась поднять с пола сумочку, он захохотал еще пуще, чуть не задохнулся. Мне захотелось поскорее уйти, я двинулась было к двери, но сумела только бессильно привалиться к стене, да так и осталась стоять в той белой-белой комнате.
* * *
Отец молча сидел за столом, сложив перед собой руки и опустив голову. Я сначала не знал, что сказать, но потом молчание слишком уж затянулось, и я выпалил первое, что пришло в голову:
– Многие красивые женщины держат кошек. Например, Соня. Ну, то есть кошки у них живут в амбаре, но она их кормит. А у вас нет кошки. У вас собака. А собаки капризны. Вон как наша Перл.
Линда просияла, взглянув на отца, и заявила, что он воспитал истинного джентльмена. Тот ее поблагодарил и сказал, что у него возник вопрос:
– Почему ты это сделала?
– Она же этого хотела, – ответила Линда. – Миссис Ларк. Мать. К тому моменту, как все было подготовлено к операции, я уже люто ненавидела Линдена – именно так! Люто ненавидела! Но он подлизался ко мне. К тому же это было даже смешно, потому что я почувствовала себя виноватой за то, что раньше его ненавидела. То есть, с одной стороны, он был не такой уж и плохой, давал деньги на благотворительность. А иногда решал – по приколу, я думаю, – что и мне не помешает его щедрость. И он дарил мне подарки, цветы, красивые шарфики, душистое мыло, трогательные открытки. Он уверял, что ему стыдно за свое мерзкое поведение, ему удавалось меня смешить, и я на какое-то время даже поддавалась его обаянию. Кроме того, я никак не могу объяснить то влияние, какое оказывала на него миссис Ларк. Линден с ней обходился довольно грубо, а за глаза мог и оскорбить. При этом он послушно делал все, что она ему говорила. А соглашался он потому, что она его заставляла. После операции, как вам известно, я сильно заболела.
– Да, – кивнул отец. – Я помню. Ты подхватила в больнице бактериальную инфекцию, и тебя повезли в Фарго.
– Я подхватила инфекцию духа, – поправила его Линда строгим тоном. – Я поняла, что совершила ужасную ошибку. Моя настоящая семья пришла ко мне на выручку. Они и подняли меня на ноги. Ну и твоя Джеральдин, конечно, тоже. Кроме того, Доу Лафурнэ провел со мной обряд в их парильне. Мощный обряд, – ее голос зазвучал жалобно. – Как же там было жарко! Потом Рэндалл устроил мне настоящий пир! Его тетушки одели меня в новое платье из ленточек, которое сами сшили. Я пошла на поправку, а после смерти миссис Ларк мне стало гораздо лучше. Наверное, не стоит так говорить, но это же правда. После смерти матери Линден вернулся в Южную Дакоту и там опять слетел с катушек. Так я слышала.
– Слетел с катушек? В каком это смысле? – спросил я.
– Взялся за старое, – ответила Линда.
– Какое старое?
Я спиной ощущал, как напрягся отец, внимательно слушавший наш разговор.
– То, за что его следовало арестовать, – прошептала Линда и закрыла глаза.
Глава 7 Ангел первый
Хотя Мушум частенько присаживался на колченогий желтый стул в углу и глядел на дорогу, он не сидел сиднем целый день, а просто давал временный отдых своим жилистым стариковским рукам и ногам. Мушум рьяно изнурял себя бесконечными заботами по дому, давно вошедшими у него в привычку и менявшимися вместе со сменой времен года. Осенью, само собой, надо было сгребать палые листья, которые летели отовсюду на пожухлую траву крошечного газона. Иногда он даже собирал их вручную и ссыпал в бочку. Ему доставляло радость сжигать их в бочке. После уборки листьев наступала краткая передышка перед первым снегом. В это время Мушум ел, как медведь перед спячкой. Его животик округлялся, щеки наливались. Он готовился к великим снегопадам. У него было две лопаты. Широкой прямоугольной из голубого пластика он сгребал свежий пушистый снег, а серебристой совковой с заостренным краем он управлялся или с большими снежными заносами, или со старым слежавшимся снегом. Еще у него был «ледокол» – орудие для скалывания ледяной корки, похожее на мотыгу с лезвием в виде не стального полумесяца, а направленного вниз зуба. Он натачивал этот зуб напильником до такой остроты, что им можно было легко оттяпать палец на ноге.
Этот боевой арсенал Мушума стоял наготове у задней двери весь октябрь. С первым снегом он надевал галоши. Тетя Клеменс наклеила на их подошвы крупнозернистую наждачную бумагу. Раз в два дня, а то и чаще, она отдирала старые полоски стершегося наждака и наклеивала новые, оставляя их сохнуть на радиаторе отопления. Галоши Мушума налезали на его отороченные кроличьим мехом мокасины и утепленные носки. Он ходил в рабочих штанах на красной фланелевой подкладке и в дутой оранжевой парке со светоотражающими полосками, которую тетя Клеменс подарила ему, чтобы его можно было найти, если бы он в снежную бурю заплутал в поле. Довершали его зимний наряд рукавицы из лосиной кожи на кроличьем меху и ярко-синяя вязаная шапка с немыслимым розовым помпоном. В таком залихватском виде он выходил каждый день из дома и принимался за работу, с каждым часом наращивая темп. Он отличался трудолюбием муравья, хотя вроде бы и не двигался совсем. Но при этом умудрялся расчищать лопатой дорожки к мусорным бакам, убирать снег не только с аллейки вокруг дома, но и с подъездной дороги, и со ступенек крыльца. Он всегда следил, чтобы снег не скапливался на земле и на бетоне, а когда он счищал весь снег и на грунте виднелись только блестящие ледяные озерца, то брал в руки свой «ледокол» и махал им до вечера. В сезон таяния снега, когда земля еще не вполне была готова для посева, у Мушума опять наступал период безостановочного поглощения еды и набора веса, скинутого во время его зимних подвигов. Весной и летом он дергал сорняки, которые росли с настырным упрямством, сражался с грызунами, насекомыми и капризами погоды. Газонокосилку он использовал так, как старик его возраста использует ходунки, по чистой случайности срезая под корень траву на дворе. Он ухаживал за большим огородом с незаметным со стороны тщанием, методично выдирая разросшиеся кусты пырея и иван-чая и таская на пригорок ведрами воду для поливки кустов – причем делал все это опять-таки без видимых усилий, словно не двигаясь с места. Тетины цветники оставляли его равнодушным, но у нее был еще одичавший малинник, куда затесались кусты ирги. Когда ягодам приходила пора созреть, Мушум вставал чуть свет охранять их от птиц. Живым пугалом он восседал на своем желтом стуле, попивая утренний чаек. Чтобы распугивать пернатых, он еще протянул в саду веревку с подвешенными на ней крышками от жестяных банок. В них он пробил гвоздями дырки и привязал близко друг от друга, так что при порывах ветра они вовсю бренчали. Он покрыл такими бренчащими веревками весь сад, и я всегда глядел в оба, чтобы не напороться на них, потому что края крышек были острыми как бритва, и мальчик, бесшабашно мчащийся по саду на велосипеде, вполне мог наткнуться на них и свалиться с перерезанным горлом.
Благодаря своей неутомимой и вроде бы бесполезной деятельности, старик продолжал жить-поживать. Когда Мушуму перевалило за девяносто, ему удалили с обоих глаз катаракты и поставили искусственные зубы на его сморщившиеся десны. Глаза у него все еще были зоркими, и слышал он так хорошо, что, когда отдыхал в спальне наверху, его беспокоил стрекот швейной машинки тети Клеменс из гостиной и даже дядя Эдвард, который по привычке мурлыкал себе под нос, проверяя домашние работы своих школьников. Помню, как-то в июне, в самый разгар жары, я приехал к ним. Так он услышал мой велик, когда я еще был на шоссе, правда, тогда я привязал игральную карту к спице, и она то и дело шелестела. Мне нравился этот задорный шелест, к тому же бубновый туз символизировал удачу. Любой мог услышать мой велик, но мало кто был бы так же рад меня видеть в тот день, как Мушум. Потому что старик запутался в огромной сетке от птиц, которую он пытался перекинуть через высокий куст калины, хотя ягодам было еще далеко до зрелости.
Я прислонил велик к стене дома и помог ему выпутаться из сетки. Потом сложил сетку и спросил, где тетя и почему его оставили одного. Но он шикнул на меня и сказал, что она в доме.
– Она не одобряет, что я пользуюсь сеткой. Птицы в нее попадают и погибают или остаются без когтей.
И правда: я заметил в складках сетки крошечную птичью лапку, чей коготок зацепился за пластиковый шнурок. Я аккуратно высвободил оторванную лапку и показал ее Мушуму – тот внимательно оглядел ее и зашевелил губами.
– Дай-ка я ее спрячу, – произнес он.
– Не, оставлю себе, – и я сунул лапку в карман. – А тете Клеменс ничего не скажу. Может, лапка принесет мне удачу.
– Тебе нужна удача?
Мы убрали сетку в гараж и пошли к задней двери. Уже становилось жарко, и Мушуму пора было вздремнуть.
– Да, удача мне не помешает, – сообщил я ему. – Ты же знаешь, как оно бывает.
После того, как я умчался на велике, не оставив записки, отец пилил меня три дня. Все это время я сидел дома с мамой. И еще я не переставал думать об этом призраке, чье появление никак не мог себе объяснить. Мне захотелось порасспросить про него Мушума.
Глаза Мушума наполнились влагой – но не от жалости. Просто солнце светило очень ярко. Ему стоило надеть темные «Рэй-Бэны» – подарок дяди Уайти на его последний день рождения. Он вынул скомканную выцветшую бандану и приложил к скулам. Длинные космы седых волос свисали по бокам стариковского лица.
– Заполучить удачу есть способы получше, чем птичья лапка, – произнес Мушум.
Мы вошли в дом. Моя тетушка собиралась наводить чистоту в церкви и уже облачилась в выходной наряд: туфли на каблуках, гофрированная белая блузка, обтягивающие полосатые джинсы. При виде нас она тут же выставила на стол кувшин с холодным чаем и два стакана.
Я чуть не расхохотался и не спросил, как она будет убираться в церкви на каблуках, но тетя Клеменс, заметив, что я пялюсь на ее туфли, упредила мой вопрос:
– Я их там сниму, оберну ноги ветошью и буду натирать пол.
– Это еще что? – Мушум недовольно поджал губы, глядя на кувшин.
– Тот самый травяной чай, который ты пьешь каждое утро, папа!
Все родственники Мушума ставили себе в заслугу его долголетие и то, что его котелок до сих пор варил. Или вроде бы варил, как говаривала тетя Клеменс, когда он выводил ее из себя. Приближался его очередной день рождения, и Мушум уверял, что ему стукнет сто двенадцать лет. А у тети Клеменс сейчас была одна забота: чтобы он дожил до этой даты и смог весело ее отметить в семейном кругу. Она уже вовсю готовилась к торжеству.
– Налей-ка мне этой холодной болотной бурды, – скомандовал мне Мушум, как только мы присели за стол.
– Папа! Этот чай тебя бодрит!
– Не нужно меня бодрить! Было бы куда засунуть свою бодрость!
Тут я не удержался:
– А как насчет бабушки Игнасии?
– Она вся высохла.
– Да она моложе тебя, – возразила тетя Клеменс ледяным тоном. – Все вы старики только и мечтаете приударить за молодухами. Да куда вам!
– Только это и помогает мне не помереть! И еще мои волосы.
Мушум тронул свою длинную и гладкую, но поредевшую белую гриву, которую отращивал многие годы. Тетя Клеменс пыталась заплести волосы Мушума в косы или завязать сзади хвостом, но он предпочитал их носить спутанными космами, ниспадающими по обеим сторонам лица.
– У-ах! – Он отпил большой глоток чаю. – Если бы Луи Риэль позволил тогда Дюмону устроить засаду ополченцам, я бы сейчас был премьер-министром в отставке! А Клеменс управляла бы индейским народом вместо того, чтобы мыть полы священнику. И у нее просто не оставалось бы времени на то, чтобы без конца заваривать мне это пойло из веток. Эта болотная бурда растекается по всему моему телу, боже ж ты мой! Упс! Вот что я крикну, когда обделаю штаны. Упс!
– Даже не думай! – сказала тетя Клеменс и добавила, обращаясь ко мне: – Оставайся с ним, пока я не вернусь, и проследи, чтобы он ходил в туалет!
Она пообещала вернуться к полудню или, самое позднее, к часу.
Я кивнул и стал пить холодный отвар. У него был резкий привкус древесной коры. Когда тетя Клеменс ушла, мы могли заняться делом. Прежде всего мне хотелось все выяснить про призрака, а еще обрести удачу. Я подробно описал Мушуму призрака. И сказал, что точно такой же призрак являлся Рэндаллу.
– Ну, тогда это не призрак, – покачал головой Мушум.
– А что тогда?
– Кто-то швыряет в тебя своего духа. Кто-то, кого ты скоро увидишь.
– Это может быть человек?
– Какой человек?
Я вздохнул.
– То, кто обидел маму.
Мушум кивнул и, нахмурившись, замер.
– Нет, возможно, и нет, – произнес он после долгой паузы. – Когда кто-то швыряет в тебя своего духа, он этого даже не знает. Но хочет помочь. Моему отцу несколько недель подряд снилось, что он попал под копыта своей лошади. Я сам дважды видел, как приходил ангел забрать мою Жюнес. Так что будь осторожен.
– Тогда помоги мне обрести удачу, – попросил я. – С чего надо начать?
– Сначала иди к своему тотему, – ответил Мушум. – Найди свой клан, свой аджиджаак.
Мой отец и его отец прошли обряд посвящения в клан журавлей – аджиджаак. Они считались вождями и обладали хорошими голосами, но, помимо этого, я больше ничего особенного о них не знал. О чем и сообщил Мушуму.
– Ладно. Тогда отправляйся к своему тотему и наблюдай. Он укажет тебе удачу, Джо.
Он выпил еще отвара, скорчил гримасу, а потом уронил голову на грудь и мгновенно уснул, как это обычно бывает со стариками и младенцами. Я помог ему подняться на ноги, и он, не раскрывая глаз, попросил отвести его под руку к кушетке под большим окном в гостиной, где он дремал днем. Кушетку поставили там специально, чтобы, проснувшись, первым делом он бы увидел безбрежное вечное небо.
Когда вернулась тетя Клеменс, я поехал на велике к заболоченному озеру за городом. Озеро у берега было мелкое, и когда я там побывал в последний раз, то видел цаплю. Все цапли, журавли и прочие водные птицы были моими тотемными вестниками удачи. На берегу были закреплены мостки из серых некрашеных досок. Нескольких недоставало. Я лег на теплые доски, и солнце прогрело меня до костей. Сначала никаких цапель я не заметил. Потом догадался, что на заросшем тростником берегу, куда я смотрел, притаилась цапля, чье оперение сливалось с зарослями. Я увидел, как птица медленно встала, замерла. Потом молнией метнулась вперед – и в ее клюве забилась рыбешка, которую она аккуратно всосала в пищевод. Цапля опять замерла, на сей раз стоя на одной ноге. И я уже начал терять терпение: удача что-то никак не показывалась.
– Ладно, – произнес я вслух. – И где же удача?
Взмахнув длинными острыми крыльями, птица взмыла в воздух и, шумно хлопая, полетела на другой берег озера. Там рядом с отвесным обрывом было место, где мы любили нырять и плавать. Усилившийся ветер гнал волны, мусор и пену в мою сторону. Я разочарованно отвернулся, подполз к прорехе в мостках и заглянул вниз, всматриваясь в прозрачную озерную воду. Обычно там можно было увидеть щучьих мальков, водомерок, головастиков, ну и изредка даже черепашек. Но на этот раз из воды на меня глядело детское личико. Вздрогнув от неожиданности, я сразу понял, что это кукла – пластиковая кукла с широко раскрытыми глазами, лежащая на дне озера. Голубые кукольные глаза насмешливо сияли, точно скрывали какой-то секрет, и в их искрящихся зрачках отражались солнечные лучи. Я вскочил, закружился на месте, потом снова бухнулся на коленки и прильнул к прорехе, чтобы получше разглядеть куклу. Мне пришло в голову, что раз уж это игрушка, то вместе с ней тут вполне может оказаться и настоящий ребенок, застрявший под мостками. На солнце набежала тучка. Я подумал было съездить за Каппи, но в конце концов любопытство взяло верх, и я снова стал глядеть в воду сквозь доски. Нет, это всего лишь кукла. Пластиковая девочка, скользящая по дну озера, в бело-голубом клетчатом платьице и кружевных трусиках, с насмешливым взглядом и шаловливой улыбочкой. Убедившись, что никакого ребенка рядом с куклой нет, я вынул ее из воды и сильно потряс, так что из щели между головой и пластиковым туловищем стала вытекать вода. Я отодрал голову, чтобы вылить из куклы оставшуюся воду – и увидел свою удачу. Прямо внутри! Голова и туловище куклы были набиты деньгами.
Я насадил голову обратно, огляделся. Все тихо. Никого. Я снова снял голову и внимательно ее рассмотрел. Кукольная голова была начинена туго свернутыми банкнотами. Вроде бы однодолларовыми. Там было долларов сто. А может, и двести. Позади велосипедного седла висел мой рюкзак. Я запихал в него куклу и, изо всех давя на педали, помчался к заправке. Я ехал и думал о своей удаче – и еще чувствовал себя немного виноватым. Я думал, что эти деньги в кукле спрятала какая-нибудь девочка, может быть, даже я ее знал. Она всю жизнь их копила, там сэкономит доллар, тут отложит заработанную или подаренную на день рождения бумажку, или пьяный дядька преподнесет ей подарочек. Она устроила свою копилку в кукле – и потеряла ее. Я решил, что удача свалилась на меня ненадолго. Пройдет пара дней, и я увижу жалостливое объявление где-нибудь на столбе или даже в местной газете, безнадежное обращение с описанием куклы и просьбой ее вернуть.
Добравшись до заправки, я оставил велик у двери и сунул куклу под рубашку. Соня была занята с клиентом. Я поглядел на доску объявлений. Там висели сообщения о продаже бычьего семени и волчат, неработающего стереоусилителя, фотографии и описания скаковых и тягловых лошадей и подержанных машин. О кукле – ничего. Клиент наконец уехал. Я все еще прятал куклу под рубашкой.
– Что там у тебя? – спросила Соня.
– Я хочу показать тебе, но чтобы никто не видел.
– Такое мне уже говорили, и не раз.
Соня рассмеялась, а я покраснел.
– Ну, иди сюда!
Мы зашли за прилавок и оказались в крошечной кладовке, которую Соня называла своим офисом. Она умудрилась втиснуть туда стол, стул, кушеточку и торшер. Я вынул куклу из-под рубашки.
– Обалдеть! – усмехнулась Соня.
Я отделил голову от туловища.
– Твою ж так!
Соня закрыла дверь кладовки. Длинными розовыми ногтями она выковыряла из кукольной головы свернутые банкноты. Потом развернула парочку. Стодолларовые купюры! Соня опять туго свернула купюры, сунула их в куклу и приладила голову к туловищу. Она вышла, закрыв за собой дверь, потом вернулась с тремя пластиковыми пакетами. Она завернула куклу в один пакет, сверху замотала сверток другим пакетом и наконец положила в третий пакет. Она уставилась на меня. Ее округлившиеся глаза синели в полумраке кладовки, точно дождевая вода в бочке.
– А почему деньги мокрые?
– Кукла лежала в озере.
– Кто-нибудь видел, как ты ее достал из воды? Кто-нибудь видел тебя с этой куклой?
– Нет.
Соня достала из ящика холщовый мешок для наличности. Я знал, что это за мешок, потому что в нем она дважды в день возила деньги в банк. Табличка над кассой гласила: «Деньги в офисе не хранить!» А рядом красовалась еще одна: «Улыбнитесь! Вас снимают скрытой камерой!» Никто из клиентов не знал, что никакой камеры не было. Соня вытащила коричневый алюминиевый ящичек для наличных, запиравшийся небольшим ключом. Поразмыслив несколько секунд, она достала из ящика пачку белых конвертов и уложила их в коробку.
– Где твой отец?
– Дома.
Соня сняла телефонную трубку, набрала наш домашний номер и спросила:
– Не возражаешь, если я возьму Джо с собой, нам надо будет кое-куда съездить по делам? Мы вернемся к вечеру.
– А куда мы едем? – спросил я.
– Сначала ко мне домой.
Мы отнесли завернутую в пластиковые пакеты куклу, холщовый мешок для наличности и алюминиевый ящик в ее машину. Когда мы проходили мимо дяди Уайти, Соня чмокнула его в щеку и сказала, что едет положить деньги в банк, а потом собирается купить мне кое-какую одежду и мелочовку. Тем самым она намекала, что она делает для меня то, что должна была бы сделать мама, если бы она не лежала целыми днями в четырех стенах.
– Давайте! – Уайти помахал нам вслед.
Соня всегда следила, чтобы в машине я пристегивался ремнем безопасности. У нее был старенький «бьюик»-седан, за которым ухаживал Уайти, и водила она очень аккуратно, хотя при этом беспрерывно курила и стряхивала пепел в вечно переполненную выдвижную пепельницу. Салон машины был безупречно пропылесосен. Мы выехали из города, свернули на шоссе и помчались к старому дому мимо пасущихся лошадей, которые подняли головы и инстинктивно рванули за нами. Наверное, узнали звук автомобильного мотора. У дома стояли две собаки, терпеливо дожидаясь хозяйки. Болл и Чейн приходились Перл сестрами. Обе были угольно-черные с горящими желтыми глазами и коричневыми пятнами на холке и на хвосте. Кобель по кличке Биг-Бразер сбежал месяц назад.
Дядя Уайти соорудил перед домом крыльцо со ступеньками. Все это было сбито из мореных досок, еще не утративших свой бледно-зеленый цвет. Окраска дома отдавала небесной голубизной. По словам Сони, она выбрала именно этот оттенок, потому что ей понравилось название краски: «Затерянный в космосе». Углы дома были выкрашены ярко-белым, при этом алюминиевая дверная сетка и входная дверь из массива дуба были старые и сильно потрепанные ненастьем. Внутри было холодно и сумрачно. Пахло чистящим средством с хвойной отдушкой и лимонной мебельной полировкой, табачным дымом и застарелым смрадом жареной рыбы. В доме было четыре небольшие комнаты. В спальне стояла продавленная двуспальная кровать под цветастым покрывалом, а окно выходило на бескрайнее пастбище с лошадьми. Пегая лошадка и аппалуза подошли вплотную к ограде у края двора. Невидимка нежно заржала. Я проследовал за Соней в спальню, где она распахнула дверцы стенного шкафа. Оттуда повеяло парфюмерией. Она обернулась ко мне, держа в руке утюг, включила его в розетку рядом с гладильной доской. Доска стояла прямо у окна, так что во время глажки она могла глядеть на лошадей.
Я присел на край кровати, отделил кукольную голову и стал одну за другой передавать Соне банкноты. Она аккуратно разглаживала каждую бумажку до тех пор, пока она не выпрямлялась и не высыхала. Время от времени Соня слюнявила палец и проверяла, горячий ли утюг. Все купюры были сотенные. Сначала мы аккуратно вкладывали в каждый конверт по пять банкнот, закрывали клапан, но не приклеивали, и оставляли конверты на кровати. Скоро запас конвертов стал иссякать, и мы теперь вкладывали в каждый по десять банкнот. Потом по двадцать. Потом Соня дала мне пинцет, и последние банкноты, провалившиеся внутрь, я выуживал из кукольных рук и ног. Соня вооружилась фонариком и, светя внутрь кукольного туловища, проверила, все ли я вынул. Наконец я вернул голову на место.
– Положи ее обратно в пакет, – сказала Соня.
Тыльной стороной ладони она отерла лоб и верхнюю губу. Все ее лицо было покрыто мелкими бисеринками пота, хотя летняя жара еще не просочилась в дом и не вытеснила прохладу.
Она всплеснула руками и похлопала себя по подмышкам.
– Уф! Сходи на кухню и принеси мне попить. Мне надо сменить блузку.
Я вошел в кухню и открыл холодильник. В здешнем колодце всегда была вкусная сладковатая вода. И Соня постоянно держала в холодильнике кувшин с колодезной водой. Я налил воды в стакан с логотипом пива «Пабст» – они коллекционировали пивные стаканы – и залпом его осушил. Потом наполнил его водой для Сони. Наверное, мне хотелось, чтобы она попила из того же стакана, что и я, хотя тогда я об этом и не думал. Я думал о том, сколько денег могло быть в тех конвертах.
Я вернулся в спальню. Соня уже была в свежей блузке – в серую и розовую полоску, расстегнутую на груди. У блузки был накрахмаленный белый воротничок и планка на пуговках. Она залпом осушила стакан.
– Уф! – повторила она.
Мы сложили конверты в мешок для наличности и затолкали его в алюминиевый ящик. Соня вышла в ванную расчесать волосы, ну и так далее. Она неплотно прикрыла дверь, и я, сидя на кухне, глядел на стену ванной. Когда она вышла, у нее были накрашены губы – розовой помадой, идеально соответствующей цвету лака на ногтях и полосок на блузке. И мы пошли к машине. Соня взяла куклу в пластиковом пакете и заперла ее в багажнике.
– Откроем для тебя несколько сберегательных счетов для учебы в колледже, – объявила Соня.
Сначала мы поехали в Хупдэнс, в банк, и там нас провели в офис управляющего позади окошка операциониста. Соня сказала ему, что хочет открыть для меня сберегательный счет, и мы с ней подписали какие-то бланки, пока женщина выписывала депозитную книжку на мое имя, и Соня фигурировала в ней как мой законный представитель. Соня передала женщине три конверта, при этом та бросила на нее подозрительный взгляд.
– Они продали свой земельный участок, – спокойно пояснила Соня.
Женщина пересчитала банкноты и внесла сумму в мою депозитную книжку. Потом вложила книжку в пластиковый конверт и с важным видом передала мне.
Я вышел оттуда с книжкой, и мы поехали в другой банк Хупдэнса, где проделали ту же операцию. Только на этот раз Соня упомянула крупный выигрыш в лото.
– Везет же людям! – воскликнул управляющий.
Мы на этом не остановились, а поехали прямо в Аргус. Там в одном банке она сказала, что мне оставил наследство слабоумный дядюшка. В другом – рассказала байку о лошади-победительнице на скачках. Потом она снова сослалась на выигрыш в лото. Эти поездки заняли у нас всю вторую половину дня, и мы исколесили полштата, мчась мимо новых пастбищ и зеленеющих полей. Свернув в зону отдыха на шоссе, Соня открыла багажник, вынула завернутую в пластиковый пакет пустую куклу и выбросила ее в мусорный бак. После этого мы доехали до соседнего городка, купили в закусочной гамбургеров с картошкой фри. Соня не стала покупать мне кока-колы, решив, что апельсиновая газировка гораздо полезнее. Я не возражал. Я был счастлив сидеть в машине рядом с Соней, когда она неотрывно глядела на дорогу, а я мог глядеть на ее груди, натягивающие полосатую блузку, и потом переводить взгляд на ее профиль. Всякий раз, когда я с ней заговаривал, мой взгляд упирался в ее груди. Мешок для наличности лежал у меня на коленях, и я даже перестал думать о деньгах именно как о деньгах. Но когда мы наконец все положили на депозиты и уже возвращались домой, я мысленно сложил все суммы, проставленные во всех книжках, и назвал Соне итог: больше сорока тысяч долларов.
– Хорошо упакованная была кукла, – отозвалась она.
– А почему же мы не оставили себе ни одной бумажки? – спросил я. И подумав об этом, почувствовал острое разочарование.
– Так, – строго сказала Соня. – Подумай вот о чем. Откуда эти деньги? Их захотят вернуть. И убьют любого, лишь бы заполучить эти деньги обратно. Ты понимаешь, о чем я?
– Я не должен никому о них рассказывать. Да?
– А ты сможешь? Мне еще не встречался парень, способный хранить секрет.
– Я смогу.
– Даже отцу не расскажешь?
– Конечно!
– Даже Каппи?
И сразу уловила сомнение в моем секундном молчании.
– Они и за него возьмутся! – предупредила Соня. – Может, и убьют! Так что закрой рот и держи его на замке. Поклянись маминой жизнью!
Она знала, что говорила. И даже не глядя на меня, знала, что мои глаза полны слез. Я заморгал.
– Я клянусь.
– Нам надо спрятать все эти депозитные книжки.
Мы свернули на грунтовую дорогу и ехали по ней, пока не показался гигантский дуб – местные называли его деревом висельника. В его густой листве играло солнце, а на ветках болтались молитвенные флажки – лоскуты ткани, красные, синие, зеленые, белые, как уверял меня Рэндалл, старинные оджибвейские цвета сторон света. Какие-то кусочки выцвели, какие-то были явно новые. На этом старом дереве некогда-то вздергивали индейских предков. Но никто из линчевателей так и не пошел под суд. Вокруг дуба тянулись земли их потомков – бескрайние пашни с зелеными всходами. Соня достала из бардачка скребок для лобового стекла, мы положили мои депозитные книжки в алюминиевый ящик для наличности. Соня сунула ключик от его замка в карман своих джинсов.
– Запомни сегодняшний день.
Было 17 июня.
Мы проследили траекторию солнца до точки заката на западе и пошли туда по прямой, отмерив пятьдесят шагов в глубь леса. Казалось, мы целую вечность выкапывали автомобильным скребком глубокую яму для ящика с моими депозитными книжками. И когда ящик туда поместился, забросали яму кусками дерна, а сверху присыпали листьями.
– Незаметно, – оценил я.
– Нам надо вымыть руки, – заметила Соня.
В придорожной канаве была вода, которой мы и вымыли руки.
– Я понял, что никому нельзя рассказывать, – сказал я на обратном пути. – Но мне хочется кроссовки, как у Каппи.
Соня бросила на меня взгляд и вроде заметила, что я пялюсь на ее грудь.
– Ага, а как объяснишь, откуда у тебя деньги на них?
– Ну, скажу, что заработал на бензозаправке.
Она улыбнулась.
– А ты не прочь заработать?
Меня захлестнула волна радости, так что я потерял дар речи. До того мгновения я и не задумывался, как мне хочется вырваться на свободу из четырех стен дома и поработать где-нибудь, где я смогу повстречать новых людей и поговорить с ними, просто случайных людей, которые оказались в нашем городе проездом и не чахли на твоих глазах. Я даже испугался пришедших мне в голову мыслей.
– Да, черт побери! – воскликнул я.
– Не выражаться на работе! – строго произнесла Соня. – Ты же представитель.
– Ладно.
Мы проехали еще несколько миль, прежде чем я поинтересовался, что и кого я представляю.
– Ты представляешь предприятие свободного рынка на земле резервации. Люди за нами наблюдают.
– Кто наблюдает?
– Белые! Ну, я говорю про злобных людей. Вроде семейки Ларк, что владела заправкой «Винленд». Он заезжал тут к нам, но со мной был мил. Не такой уж он злодей.
– Линден?
– Он самый.
– Ты его остерегайся, – посоветовал я.
Она рассмеялась.
– Уайти ненавидит его лютой ненавистью. Когда я с ним любезничаю, Уайти просто сгорает от ревности.
– А почему тебе нравится, когда Уайти ревнует?
Вдруг я сам почувствовал укол ревности. Соня снова рассмеялась и ответила, что иногда Уайти надо ставить на место.
– А то он считает, что я его собственность.
– Да?
Мне стало неловко. А она поглядела на меня пристально, с шаловливой усмешкой, как та, что была у куклы на пластмассовом лице. И отвернулась, но лукавая улыбочка все еще играла на ее губах.
– Ага. Думает, что я его собственность. Но вдруг в один прекрасный день он узнает, что это не так, да? Я права?
* * *
Сорен Бьерке, специальный агент ФБР, был флегматичным долговязым шведом с пшеничной кожей и такими же волосами, с облупленным длинным носом и большими ушами. Его глаз почти не было видно за очками: их стекла всегда были с жирными разводами – думаю, он это делал нарочно. Его лицо с обвисшими щеками смахивало на собачью морду, и на губах у него постоянно возникала робкая усмешка. Он почти не жестикулировал и вообще мало двигался. У него была манера принимать неподвижную позу, но при этом глядеть на тебя очень внимательно, чем он напоминал мою тотемную птицу адиджаак – журавля. Когда я вошел, его узловатые руки неподвижно лежали на кухонном столе. Я остановился в дверях. Отец нес к столу две кружки кофе. Сразу стало понятно, что я вторгся в возникшее между ними поле напряженного внимания. У меня ноги подкосились от радости, когда я понял, что визит Бьерке никоим образом не связан со мной.
Причина, приведшая Бьерке в наш дом, коренилась в истории и относилась ко временам решения Верховного суда по делу Ворона-Пса[20] в 1880 году и Закона о тяжких преступлениях 1885 года. Это было время, когда федеральное правительство впервые оспорило решения, которые индейцы принимали касательно реституции и наказания. Причина его визита восходила также к ужасному для индейцев 1953 году, когда Конгресс США решил не только покончить с нами как с отдельным народом, но еще и принял публичный закон № 280, наделивший некоторые штаты уголовной и гражданской юрисдикцией над индейскими землями в границах этих штатов. И если существовал какой-либо закон, который следовало бы оспорить или дополнить поправками в пользу индейцев, то это был публичный закон № 280. Служба Бьерке в нашей резервации была демонстрацией нашего беззубого суверенитета. Если вы читаете эту книгу с самого начала, то понимаете, что я задним числом рассказываю о событиях лета 1988 года, когда мама отказалась спускаться вниз из спальни и отказалась беседовать с Сореном Бьерке. Она нервно кидалась на меня и терроризировала моего отца. Она жила в своем собственном мире, и мы не знали, как ее оттуда вернуть к нормальной жизни. Я читал, что воспоминания о событиях, произошедших в момент нервного возбуждения, да еще и в юном возрасте, не исчезают со временем, но врезаются еще глубже в память по мере того, как о них думаешь. И все же, сказать по правде, тогда в 1988 году, когда я увидел отца и Бьерке за нашим кухонным столом, моя голова была целиком забита мыслями о деньгах – прямо как голова той распотрошенной куклы с ее шаловливым взглядом фабричного производства.
Я прошел мимо Бьерке в гостиную, но подниматься наверх мне жутко не хотелось. Не хотелось проходить мимо закрытой маминой двери. Не хотелось лишний раз напоминать себе, что она лежит там одна взаперти, едва дышит, и от осознания ее страданий вся радость от найденных денег высасывалась из меня по капельке. И от нежелания проходить мимо маминой двери я развернулся и пошел обратно в кухню. Я был голоден и в нерешительности замер в дверях, пока мужчины снова не прервали свою беседу.
– Может, хочешь стакан молока, – предложил отец. – Налей себе молока и садись. Твоя тетя испекла нам кекс.
На кухонной стойке стоял небольшой круглый шоколадный кекс, аккуратно покрытый белой глазурью. Отец махнул рукой, приглашая меня отрезать кусок. Я осторожно разрезал кекс на четыре сектора, выложил их на блюдечки и рядом с каждым положил по вилке. Три куска я поставил на стол. Себе налил молока в стакан.
– Я потом отнесу маме, – сказала отец, кивнув на четвертый сектор.
А я сел с ними и тут же понял, что совершил ошибку. Теперь, когда я сидел рядом с ними, я бы не смог скрыть правду – и она обязательно вылезет наружу. Не правда про канистру, а про… Они выжидательно смотрели на меня, и я, волнуясь, выпалил про канистру и спросил, можно ли считать ее уликой.
– Да, – произнес Бьерке. Его немигающий взгляд пробил жирные разводы на стеклах очков. – Мы оформим письменные показания. Но всему свое время. Если мы откроем дело.
– Да, сэр. А может, – я собрал в кулак все свое мужество, – нам стоит это сделать сейчас? Пока я ничего не забыл.
– Он что, забывчивый паренек? – спросил Бьерке.
– Нет, – ответил отец.
Словом, дело кончилось тем, что я наговорил свои показания на маленький диктофон и подписал какую-то бумагу. После этого у нас состоялась вежливая беседа с ни к чему не обязывающими вопросами о том, что я буду делать летом, и быстро ли я расту, и каким видом спорта займусь в средней школе.
– Реслингом, – ответил я.
Оба сделали вид, что не отнеслись к моему ответу довольно скептически.
– А может, бегом по пересеченной местности.
Этот вариант вызвал у них больше доверия. Могу сказать: они были рады, что я сижу с ними и как могу разряжаю обстановку, нарушая неловкое молчание, которое время от времени повисало над столом – вероятно, оттого что, как мне кажется теперь, когда я вспоминаю тот день, оба зашли в тупик. Они перебрали все версии, у них не было ни одного подозреваемого и ни одной надежной зацепки, и им наотрез отказывалась помогать мама, которая стала уверять, будто то происшествие полностью выветрилось из ее памяти. Но деньги жгли мне мозг, понуждая рассказать про них, раскрыть все начистоту.
– Есть еще кое-что, – проговорил я.
Я отложил вилку и уставился в пустую тарелку. Мне захотелось еще кекса, теперь с мороженым. Вместе с тем меня мутило от сознания того, что придется сейчас сделать, и я подумал, что после этого мне вообще кусок в горло не полезет.
– Что? – спросил отец. Бьерке вытер губы салфеткой.
– Была одна папка, – продолжал я.
Бьерке положил салфетку. Отец вперил в меня взгляд поверх очков.
– Мы с Джо просматривали папки с делами, – обратившись к Бьерке, прокомментировал он мою внезапную реплику. – Мы отобрали судебные дела, в которых мог фигурировать возможный…
– Не эта папка! – возразил я.
Оба терпеливо закивали, не сводя с меня глаз. И тут я увидел: отец вдруг понял, что я собираюсь сообщить нечто, чего он еще не знал. Нагнув голову, он исподлобья смотрел на меня. Позолоченное солнце-осьминог громко тикало на стене. Я сделал глубокий вдох, но, заговорив, издал только тихий срывающий шепот, точно ребенок, отчего мне сразу стало стыдно, а они напряглись.
– Только, пожалуйста, не говори маме, что это я рассказал. Пожалуйста!
– Джо, – начал отец. Он снял очки и положил их на стол.
– Ну, пожалуйста!
– Джо…
– Ладно. В тот день, когда мама уехала в офис, ей позвонили по телефону. Когда она положила трубку, она была явно чем-то расстроена. Потом спустя час она сказала, что ей надо вернуться в офис за какой-то папкой. А неделю назад я вспомнил про эту папку. И спросил у мамы, нашла ли она ее. Она стала меня уверять, что никакой папки не было. И еще она сказала, чтобы я не вздумал никому говорить про папку. Но папка была! И она поехала за ней! Из-за этой папки все и случилось…
Я замолчал и остался сидеть с раскрытым ртом. Мы молча уставились друг на друга, точно три манекена с крошками от кекса на подбородках.
– Это не все, – вдруг подал голос отец. – Ты не все рассказал.
Отец подался вперед, грозно нависнув над столом, как он это умел, и ввинтил в меня суровый взгляд. Сначала, конечно, я подумал о деньгах, но я не собирался колоться, и в любом случае, проговорись я про деньги, то подставил бы Соню, а я бы ее ни за что в жизни не предал.
Я попытался все спустить на тормозах и твердо заявил:
– Нет, все. Больше мне ничего не известно.
Но он буравил меня взглядом, и тогда я выдал малозначимый секрет – это лучший способ умиротворить того, кто что-то знает и, главное, отдает себе отчет в том, что знает, как мой отец в тот вечер.
– Ладно.
Бьерке тоже подался вперед. Я отодвинул стул назад, несколько раздраженно.
– Спокойнее, – сказал отец. – Просто расскажи, что тебе известно.
– В тот день, когда мы поехали к круглому дому и нашли канистру, мы там нашли еще кое-что. За проволочной оградой, у берега озера. Там был пластиковый кулер и куча одежды. Одежду мы не трогали.
– А что за кулер? – спросил Бьёрке.
– Ну… мы его открыли.
– И что там было? – спросил отец.
– Пивные банки.
Я уже собрался добавить, что банки были пустые, а потом взглянул на отца и понял, что врать ему не смогу и что от моей лжи нам обоим будет стыдно перед Бьерке.
– Две связки по шесть.
Бьерке и отец переглянулись, кивнули и откинулись на спинки стульев.
Вот так, из желания утаить находку куклы с деньгами я сдал своих друзей. Я сидел, обескураженный от мысли, как легко и быстро это получилось. И еще я был поражен, каким идеальным прикрытием мой маленький секрет стал для сорока тысяч долларов, в тот день положенных в разные банки с помощью Сони. Или под ее руководством. В конце концов, это же я ей помогал. Это у нее возникла идея положить деньги в банк. И она не пошла к моему отцу и не сообщила в полицию. А ведь она взрослая и теоретически несла ответственность за то, что произошло в тот день. Всегда можно использовать этот факт в свое оправдание, подумал я, но то, что мне в голову пришла такая идея, сразу меня удивило и унизило, поэтому, сидя перед отцом и Бьерке, я вспотел, и мое сердце бешено забилось, а горло сдавило так, что я не мог дышать.
Я вскочил со стула.
– Мне надо выйти!
– От него пахло пивом? – услышал я вопрос отца.
И ответ Бьерке:
– Нет!
Я заперся в ванной и оттуда слышал их разговор. Если бы в ванной было окно, которое легко открывалось, я бы выпрыгнул наружу и убежал. Я подставил руки под струю воды и начал что-то бормотать, стараясь не смотреть на свое отражение в зеркале.
Когда я вернулся на кухню и приблизился к столу, то увидел рядом со своей пустой тарелкой клочок бумаги.
– Прочти! – сказал отец.
Я сел. Это была формулировка закона, написанная на вырванной из блокнота страничке. «Употребление алкоголя лицами, не достигшими совершеннолетия». Там упоминалась и санкция: помещение в колонию для несовершеннолетних.
– Мне сделать такую же выписку и для твоих друзей тоже?
– Я один выпил обе связки. – Я помолчал. – Не сразу.
– А где мы можем найти эти банки? – спросил
Бьерке.
– Их нет. Смял и выбросил. Это было пиво «Хэммз».
Судя по выражению лица Бьерке, он не счел эту марку стоящей его внимания. Он даже не записал название.
– Место под наблюдением, – сказал он. – Нам было известно и про кулер, и про одежду. Но они принадлежат не напавшему. Баггер Пурье приехал из Миннеаполиса навестить умирающую мать, но она, как всегда, не пустила его на порог, и он ночевал у озера. Мы надеялись, что он вернется за своим пивом. Но похоже, вы его опередили.
Бьерке произнес это таким безразличным, но вместе с тем сочувственным тоном, что моя голова поплыла от внезапного выброса адреналина. Я снова встал и, зажав в руке клочок бумаги с грозным предостережением, попятился.
– Простите, сэр. Это было «Хэммз». И мы думали…
Я продолжал пятиться, пока не налетел на дверной косяк. Тут я повернулся и выскользнул из кухни. На ватных ногах поднялся по лестнице наверх, миновал мамину комнату, даже не заглянув к ней, вошел к себе и плотно закрыл дверь. По обеим сторонам лестничной площадки на втором этаже располагались ванная и кладовка со швейной машинкой. Спальня родителей – прямо перед лестницей. В ней было три окна, куда обычно били первые лучи восходящего солнца. А моя комната в задней части дома купалась в золотых лучах закатного солнца, и летом тут было особенно здорово лежать в кровати и наблюдать, как мерцающие блики и тени взбираются вверх по стенам. Стены моей комнаты были выкрашены нежно-желтой краской. Это мама их покрасила, когда ходила беременная, и часто повторяла, что выбрала такой цвет, потому что он одинаково подходил и для мальчика и для девочки, и когда процесс покраски дошел до половины, она уже точно знала, что родится мальчик. А знала, потому что всякий раз, когда она бралась красить стены, за окном пролетал журавль – как я уже говорил, тотем моего отца. А тотемом ее клана была черепаха. Отец уверял, что мама тайно сговорилась с каймановыми черепахами, которых она ловила во время их первого свидания, напугать его, чтобы он без лишних раздумий сделал бы ей предложение. Только много лет спустя я узнал, что тогда они поймали ту самую черепаху, на чьем панцире первый мамин ухажер вырезал их инициалы. Как мне рассказывала тетя Клеменс, мамин первый парень потом погиб. Ведь черепаха была предвестницей смерти, и ее послание говорило, что перед лицом смерти моему отцу следует действовать быстро. Солнечные блики ползли по стенам, превращая желтую краску в темно-бронзовую, и мои мысли перекинулись на утонувшую куклу и спрятанные в ней деньги. Я думал о Соне, о ее левой груди и о ее правой груди, потому что после долгого разглядывания их украдкой я пришел к выводу, что они неодинаковые, и мне было интересно, сравню ли я их когда-нибудь наяву. Я думал об отце, сидящем за кухонным столом в густеющих сумерках, и о маме в темной спальне с задернутыми шторами, оберегающими ее от завтрашнего рассвета. Наступил час тишины в резервации, как это всегда бывает летней порой между вечерними сумерками и ночной тьмой, до того, как пикапы начнут сновать между барами, танцевальным залом и винной лавкой. В это время все звуки приглушены – ржание лошади, привязанной к дереву, сердитые крики ребенка, которого против его воли тащат с улицы домой, далекое урчание автомобиля, медленно едущего от церкви вниз по склону холма. Маме даже в голову не приходило, насколько предсказуемы журавли и что они всегда в одно и то же время прекращают охоту на озере и возвращаются в свои гнезда. Журавль, или его журавленок, за которым мама привыкла наблюдать, с мерным хлопаньем крыльев пролетал и мимо моего окна. В тот вечер я увидел на стене тень не от него, а от ангела. Я смотрел на тень. Из-за отраженного сияния мне почудилось, что крылья взметнулись аркой вверх и словно отделились от длинного тела. А потом их перья объяло пламя, и птицу поглотила пустота света.
Глава 8
Прятки с Кью
Мамина работа заключалась в том, чтобы знать чужие секреты. Первая перепись населения на территории, ставшей потом нашей резервацией, состоялась еще в 1879 году, и там фиксировалось вот что: семья по принадлежности к племени, а иногда и к тотемному клану, род занятий, родственные отношения, возраст и исконное имя на родном языке. К тому времени многие уже взяли французские или английские имена и фамилии или перешли в христианскую веру, после чего получили имя католического святого. В задачу мамы входило распутывать тугой клубок ответвлений от генеалогического древа каждого клана. После смены множества поколений нашего народа возникли непроходимые дебри из имен и кровных связей. На концах каждой ветви, само собой, обнаруживались дети, которых родители вписывали в состав клана, а нередко – матери- и отцы-одиночки, причем указание в пустой графе родителя мужского или женского пола, чья личность, если бы стала достоянием гласности, могло сильно встряхнуть ветви соседних древ. Дети инцеста, растления, изнасилования, адюльтера, блуда за границами или в пределах границ резервации, потомство белых фермеров, банкиров, монахинь, федеральных чиновников, полицейских, священников. Мама держала все свои папки под замком в сейфе. И никто, кроме нее, не знал комбинации кодового замка сейфа, поэтому, пока она лежала дома, на ее столе в кабинете скопилась высокая стопка заявлений на зачисление в племя.
* * *
На следующее утро специальный агент Бьерке сидел у нас на кухне и ломал голову, как же ему допросить маму о той самой папке.
– Может, было бы проще это сделать, если бы у нас была женщина-офицер? С ней она бы стала разговаривать? Вообще-то можно привезти женщину-агента из нашего офиса в Миннеаполисе.
– Не думаю…
Отец собирал на поднос завтрак для мамы. Он пожарил яйца так, как она любила, намазал тост маслом, поставил розетку с малиновым джемом тети Клеменс. Он уже отнес ей кофе со сливками, и она пообещала, что сядет и выпьет хотя бы полкружки.
Я отправился наверх с подносом и поставил его на стул рядом с ее кроватью. Мама отставила кружку с кофе и притворилась спящей – я догадался, что она притворяется, по ее напряженной позе и по неестественно шумному дыханию. Возможно, она знала, что у нас опять Сорен Бьерке, а может, и отец уже успел ей что-то ляпнуть про папку. Она могла счесть, что я ее сдал. Я не знал, простит ли она меня когда-нибудь, и вышел из комнаты, мечтая отправиться прямиком к Соне и дяде Уайти и залить там кому-нибудь полный бак бензина, или помыть лобовое стекло, или, на худой конец, отдраить зловонный сортир. Я был готов на что угодно – лишь бы не подниматься снова к маме, не заходить к ней в спальню. Но отец сказал, что это важно: если я буду присутствовать, она не сможет отказаться.
«Нам нужно преодолеть все ее отказы», – вот как он выразился, и эти слова вызвали у меня невыразимый ужас.
И мы втроем поднялись наверх. Первым – отец, за ним Бьерке, последним – я. Отец постучал и вошел. А Бьерке, уставившись в пол, остался снаружи. Отец что-то произнес.
– Нет! – вскричала мама, и тут же раздался грохот и звон: я понял, что это полетел на пол поднос с завтраком и столовые приборы, которые я принес. Из-за двери показался отец: его лицо лоснилось от пота.
– Давайте поскорее покончим с этим.
Мы вошли в спальню и сели на два складных стула, которые отец пододвинул поближе к ее кровати. Сам он, точно пес, который знает, что хозяйка его недолюбливает, робко присел в изножье кровати. А мама придвинулась к стенке, повернулась к нам спиной и, как маленькая, положила на ухо подушку.
– Джеральдин, – начал отец тихо. – Здесь Бьерке и Джо. Прошу тебя, ты же не хочешь, чтобы он тебя видел такой.
– Какой? – сдавленно прохрипела она. – Умалишенной? Он выдержит. Он уже видел меня такой. Но лучше бы он пошел к своим друзьям. Пусть он уйдет, Бэзил. Тогда я поговорю с вами.
– Джеральдин, ему кое-что известно. Он кое-что рассказал.
Мама свернулась клубком под одеялом.
– Миссис Куттс, – заговорил Бьёрке. – Прошу прощения, что снова вас тревожу. Я бы хотел поскорее покончить с формальностями и оставить вас в покое. Но дело в том, что мне требуется от вас кое-какая дополнительная информация. Вчера мы узнали от Джо, что в день нападения кто-то вам звонил. По словам Джо, этот звонок вас сильно расстроил. Он говорит, что вскоре после этого звонка вы сказали ему, что вам надо съездить за папкой, и уехали к себе в офис. Это так?
Мама лежала неподвижно и не издала ни звука. Бьерке повторил свой вопрос. Но она решила взять нас измором. Она не повернулась. И не шевелилась. Казалось, прошел целый час, и на протяжении этого часа мы сидели в нервном напряжении, сменившемся разочарованием, а затем досадой. Наконец отец поднял руку и шепнул: «Хватит!»
Выйдя из спальни, мы спустились вниз.
Ближе к вечеру отец внес в спальню карточный столик. Мама никак не отреагировала. Потом он расставил вокруг столика складные стулья, и я услышал, как она начала его укорять, а потом умолять унести их. Он вошел в кухню, опять весь лоснясь от пота. И сказал, что отныне я должен быть дома каждый вечер в шесть, к ужину, который мы будем накрывать наверху и есть все вместе. Как раньше, как нормальная семья, добавил он. Теперь будем жить в таком режиме. Я сделал глубокий вдох и понес наверх скатерть. Отец, невзирая на мамино недовольство, поднял шторы и даже раскрыл окно, чтобы впустить в комнату свежий воздух. Мы с ним принесли салат и печеную курицу, а еще тарелки, стаканы, столовые приборы и кувшин лимонада.
– Может, выпьем вина завтра вечером, чтобы создать праздничное настроение, – без всякого воодушевления предложил отец.
Он принес букет цветов, которые нарвал в саду, – мама их еще не видела – и поставил их в расписную вазочку. На вазочке было изображено зеленое небо, ива, грязное озерцо и прибрежные валуны. За время этих семейных ужинов я досконально изучил глянцевый пейзаж на боку вазочки, потому что не хотел смотреть на маму, сидящую между подушек и угрюмо глядящую на нас, как выздоравливающая после огнестрельного ранения или как завернутая в саван мумия после переселения в мир иной. Отец старался каждый вечер заводить беседу, чтобы и она в ней участвовала, и когда мой короткий список произошедших за день событий подходил к концу, он солировал, точно одинокий гребец в каноэ, застрявший посреди бескрайнего озера молчания или пытающийся грести против течения. Мне даже казалось, что я могу разглядеть его в лодке посреди мутного озерца на боку вазочки. Однажды, рассказав обо всех малозначимых делах, он упомянул о своей весьма любопытной беседе с падре Трэвисом Возняком: оказалось, что тот находился в парке Дили-плаза в Далласе в день убийства президента Джона Кеннеди. В том далеком 1963 году маленький Трэвис приехал с отцом в Даллас, чтобы увидеть президента-католика и его элегантную супругу, которая в тот день была одета в розовый костюм матового оттенка, точь-в-точь как кошачий язык. Трэвис с отцом прошли по Хьюстон-стрит, пересекли Элм и решили, что удобнее всего на президентский кортеж смотреть с травянистого склона восточнее тройного туннеля. Оттуда и впрямь открывался хороший вид, и они с нетерпением смотрели на улицу. Перед тем как показались первые мотоциклисты эскорта, чья-то черно-белая легавая выскочила на середину проезжей части, но ее быстро кликнул хозяин. Этот случай так взбудоражил Трэвиса, что впоследствии он часто думал, как бы все оно обернулось, если бы пес выбежал в другой момент, скажем, когда мотоциклисты уже проехали бы, и вся последовательность событий сместилась бы во времени, или если бы собака бросилась под колеса президентского лимузина и стала бы бессмысленной жертвой несчастного случая, или запрыгнула бы в открытый лимузин президенту на колени. И трагедии бы не произошло. Эта мысль с тех пор не давала ему покоя, и иногда по ночам он лежал без сна и все размышлял, сколько подобных же неведомых непредвиденных случайностей и совпадений в данный момент происходит в мире или не происходит, и все лишь ради того, чтобы он мог сделать вдох, и еще вдох, и еще… И у него от таких мыслей возникало ощущение, будто он сидит на кончике раскачивающегося флагштока. Он чувствовал себя игрушкой обстоятельств. И еще священник сказал, что с годами это ощущение только усилилось и обострилось, особенно после атаки на посольство, в ходе которой его ранили.
– Интересный парень этот священник, – сказал отец. – Сидящий на флагштоке.
Отец Трэвис подробно описал, как сначала проехал эскорт мотоциклистов, а после них показался президентский лимузин, в котором, глядя прямо перед собой, сидел Джон Кеннеди. Какие-то женщины, сидевшие рядом на траве, принесли с собой обед в коробочках, и при виде лимузина они вскочили на ноги, бешено зааплодировали и закричали. Они привлекли внимание президента – и тот посмотрел прямо на них, потом улыбнулся Трэвису, совершенно ошалевшему при виде ожившего портрета, что висел дома в каждой католической семье Америки. Первый выстрел прозвучал как автомобильный выхлоп. Первая леди вскочила, и Трэвис видел, как она внимательно скользит взглядом по толпе. Лимузин резко затормозил. Послышались еще выстрелы. Она рухнула вниз – и больше мальчик уже ничего не видел, потому что отец рывком пригнул его к земле и накрыл своим телом. Его сбили с ног так неожиданно, а его отец был такой тяжелый, что он невольно набрал полный рот земли. И с тех пор, всякий раз вспоминая тот день, он ощущал скрип песка на зубах. Когда его отец понял, что оцепеневшие поначалу люди уже ринулись кто куда, они поднялись с земли. А когда президентский лимузин сорвался с места, общая неразбериха сменилась паникой. Перепуганные люди бегали взад-вперед, не зная, где им будет безопаснее, всеобщий хаос подогревался тут же возникшими слухами. На глазах маленького Трэвиса семья чернокожих, горестно рыдая, припала к земле. Пятнистая легавая опять сорвалась с поводка, заметалась из стороны в сторону, высоко задрав морду и принюхиваясь, точно она решила стать поводырем для толпы, а не сама поддалась смятению людей, обуреваемых не то ужасом, не то любопытством. Кто-то возвращался к тому месту, откуда в последний раз видели президента, кто-то затеял стычку с теми, кого почему-то сочли виновными за происшедшее. Многие падали на колени и забывались в молитве или шоке от пережитого. Легавая обнюхала лежащую женщину и осталась рядом с ней, важно уставившись на чучелко птицы, пришитое к ее шляпке…
В другой вечер, когда я решил поучаствовать в общем разговоре, но быстро стух, отец пустился рассуждать о том, что, конечно же, когда-то в жизни любого оджибве клан значил очень много, каждый принадлежал к какому-то клану, поэтому человек знал свое место в мире и умел строить взаимоотношения со всеми прочими существами. Журавль, медведь, гагара, сом, рысь, зимородок, карибу, ондатра – эти и другие животные в различных группах тотемного племени, в том числе орел, куница, олень, волк, были частью одного из этих кланов, а значит, жизнь людей и прочих тварей управлялась особыми взаимоотношениями друг с другом. Вот на этой основе, подчеркнул отец, возникла первая система законов оджибве. Клановая система наказывала и поощряла. Она указывала, кому с кем вступать в брак, она регулировала торговлю. Она говорила, на каких животных человек может охотиться, а каких должен почитать, кто может жалеть тотем или человека-члена своего клана, кому дозволено нести сообщения Создателю вверх, в мир духов, вниз, сквозь наслоения земли, или через ритуальную хижину к спящему родичу. Более того, в истории нашей семьи было немало таких случаев, ведь, как ты сама знаешь, обращался отец к складчатому холму из одеял, под которыми спряталась мама, твою двоюродную бабушку спасла черепаха. Ты же помнишь: она была из клана черепахи, или клана микинаак. В возрасте десяти лет ее оставили поститься на маленьком острове, вымазав лицо ритуальной черной краской. Это было ранней весной. Она там пробыла четыре дня и четыре ночи, одна, совершенно беспомощная, дожидаясь, когда ее приветят духи и примут к себе. На пятый день, когда родители не вернулись за ней, девочка поняла: что-то случилось. Она отерла засохшую слюну с губ, попила воды из озера и объела все кустики земляники, которые до этого мучительно соблазняли ее своим видом. Она развела костер – дело в том, что она прихватила с собой кремень и кресало, хотя ей и запретили пользоваться ими во время поста. И она начала жить на этом островке. Она смастерила вершу для рыб и питалась рыбой. Остров был расположен далеко от жилья, но все же она удивлялась, как же так: время шло, одна луна прошла, вторая, но никто за ней не приплывал. Девочка догадалась, что случилось нечто очень нехорошее, ужасное. И еще она понимала, что на лето рыба уйдет в другую часть озера, и произойдет это скоро, и она умрет с голоду. Она приняла решение плыть к материку, а для этого надо было преодолеть двадцать миль. И ясным утром пустилась вплавь. Попутный ветер дул ей в затылок. Какое-то время волны помогали ей плыть, и она бодро плыла, хотя и ослабла от почти недельной жизни впроголодь. А потом ветер переменился и задул прямо в лицо. Над озером повисли низкие облака, зарядил холодный ливень. Ее руки и ноги отяжелели точно разбухшие бревна, она думала, что умрет, и в отчаянье стала звать на помощь. И в этот момент почувствовала, как что-то огромное всплывает из глубин воды. Это была древняя гигантская мишиикен, каймановая черепаха, одна из тех, кто, как говорит наука, оставались неизменными на протяжении ста пятидесяти миллионов лет, – страшная, но по-своему совершенная форма жизни. Эта черепаха поплыла под девочкой, помогая ей рассекать воду, удерживая ее на поверхности, а когда силы совсем ее покинули, она в изнеможении прильнула к черепашьему панцирю, и так они доплыли до берега. Девочка вышла на сушу и обернулась, чтобы поблагодарить черепаху. Черепаха молча посмотрела на нее страшными желтыми глазами, похожими на звезды, и уплыла прочь. А потом девочка нашла своих братьев и сестер. Ее догадка о несчастье подтвердилась. Почти всех скосила ужасная эпидемия гриппа – как это обычно бывало при любой пандемии, больше прочих пострадало население резервации. Их родители умерли, и детям не у кого было узнать, где именно находится их младшая сестренка, кроме того, люди боялись заразиться смертельной болезнью и поспешно покинули те места, так что эти дети тоже жили одни. Есть множество историй о том, как детей принуждали жить одних, продолжал отец, в том числе истории из древности, повествующие, как волчицы выкармливали младенцев. Но есть и предания, восходящие к ранним этапам развития западных цивилизаций, о взрослых, спасенных животными. Одно из моих любимых – рассказ Геродота об Арионе из Мефимны, знаменитом кифареде и изобретателе дифирамбического стиха. Этому Ариону захотелось отправиться в Коринф, и он нанял лодку, которой управляли коринфяне, люди, говорившие на одном с ним наречии, кому, как ему казалось, можно было доверять – кстати, заметил отец, эта история показывает, на какие подлости способны люди одного языка. И вот не успели коринфяне отплыть далеко в море, как у них возникла мысль выкинуть Ариона за борт и завладеть сокровищами, которые он вез с собой. Когда Арион узнал, что его ждет, он убедил их вначале позволить ему облачиться в одеяние певца и в последний раз перед смертью спеть и сыграть на кифаре. А моряки только были рады послушать лучшего в мире музыканта и певца и расступились. А он надел свой наряд, взял в руки кифару и запел. Закончив петь, он, как и было им обещано, бросился в море. Коринфяне уплыли, а Ариона спас дельфин, который взял его к себе на спину и доставил к Тенарскому мысу. В древности была отлита небольшая бронзовая статуя Ариона с кифарой верхом на дельфине. И к этой статуе подносили дары. Дельфина привлекла музыка Ариона – во всяком случае, так я понимаю эту легенду, сказал отец. Я себе это так представляю: дельфин плыл за кораблем и вдруг услышал Ариона, и музыка и пение покорили его, как покорила бы любого предсмертная песня Ариона, в которую тот вложил всю глубину своих чувств. А вот моряки, уж на что были любителями музыки, – ведь они с радостью отсрочили конец Ариона, чтобы с удовольствием послушать его пение, – так они и думать про него забыли. Они не вернулись, не спасли его, а просто поделили его богатство и продолжали свой путь. Кто-то скажет, что это было худшим прегрешением перед искусством, чем утопление, скажем, живописца, скульптора, поэта или писателя. Ведь после смерти каждого остаются их произведения, даже написанные в глубокой древности. Но музыкант в те далекие времена уносил свое искусство в могилу. Ну и, разумеется, уничтожение современного музыканта не такой уж великий грех, потому как сейчас есть записи – за исключением, правда, скрипачей оджибве и метисов. Традиционный музыкант вроде твоего дяди Шаменгва верит, что его музыка обязана своим рождением ветру и что его музыка, подобно ветру, – плод бесконечной изменчивости. А запись сделает его музыку конечной. Вот почему дядя всегда противился магнитофонным записям. Он запретил пользоваться в его присутствии записывающими устройствами, хотя в последние годы его жизни кое-кому удалось записать его песни, потому что тогда магнитофоны уже научились делать достаточно маленькими, и их можно было спрятать в одежде. Но я слышал, и Уайти может подтвердить, что, когда Шаменгва умер, эти записи таинственным образом распались на отдельные ноты или размагнитились, так что не осталось ни одной пленки с музыкой Шаменгвы, как он того и хотел. Только его ученики умеют исполнять его музыку так, как он, хотя это уже не его, а их собственная музыка. А ведь именно так и продлевается жизнь музыки.
– Боюсь, мне нужно уехать завтра, – объявил в тот вечер отец, обращаясь к выгнутой маминой спине. Острые кости ее плеч проступали из-под натянутой простыни. Она не шевельнулась. И не проронила ни слова с того самого дня, как мы начали ужинать вместе с ней в спальне. – Завтра я снова поеду в Бисмарк. Хочу встретиться там с прокурором Габиром Олсоном. Он не сможет мне отказать. Мне надо держать его в курсе событий. К тому же всегда приятно встретиться со старым другом. Подытожим факты, подготовимся к делу, даже если пока нам некому предъявить обвинение. Но рано или поздно мы предъявим, я не сомневаюсь. Мы шаг за шагом восстанавливаем картину событий, и когда ты будешь готова рассказать нам про эту папку и про тот телефонный звонок, мы будем знать гораздо больше, я почему-то в этом уверен, Джеральдин, и виновный получит по заслугам. И это, я думаю, поможет. Обязательно поможет тебе, пусть ты вроде бы считаешь, что это бесполезно и тебе вообще ничего не поможет, даже та безграничная любовь, которая витает в этой комнате. Так что да, завтра мы не будем ужинать все вместе здесь, и ты сможешь отдохнуть. Я не стану просить Джо посидеть с тобой и ждать, когда ты заговоришь, или беседовать со стенами и мебелью, хотя это просто удивительно, куда могут завести мысли… В Бисмарке я повидаюсь и с губернатором, мы пообедаем и потолкуем. В последний раз он рассказывал, что участвовал в конференции губернаторов и разговорился там с Йелтоу, представляешь – он все еще губернатор Южной Дакоты! Так вот он узнал, что тот хочет взять приемного ребенка.
– Что? – произнесла мама. – Что?
Отец подался вперед и сделал стойку, точно та легавая в Далласе.
– Что? – снова спросила она. – Какого ребенка?
– Индейского ребенка, – ответил отец, стараясь сохранить спокойный тон. И торопливо продолжил свой рассказ: – А надо сказать, наш губернатор из моих с ним бесед прекрасно понимает причины, почему мы ограничиваем усыновление младенцев-индейцев неиндейскими семьями по закону о благосостоянии индейских детей[21]. Так вот, он, естественно, попытался разъяснить смысл этого закона Кертису Йелтоу, который весьма раздосадован возникшими сложностями с этим приемным ребенком.
– Каким ребенком?
Мама повернулась под одеялом, точно костлявое привидение, и впилась взглядом в лицо отца.
– Что за ребенок? Из какого племени?
– Ну… вообще-то… – Отец постарался ничем не выдать своего сильного волнения. – Честно говоря… племенная принадлежность этого ребенка не установлена. Всем известно, разумеется, с каким предубеждением губернатор Йелтоу относится к индейцам, но он по-своему пытается отмыться от этой репутации. Ты же знаешь, он идет на всякие публичные жесты вроде спонсирования индейских школьников или нанимая многообещающих выпускников школ из числа индейцев на вспомогательные должности в капитолии штата. Но его затея взять приемного ребенка дала осечку. Он попросил своего адвоката передать дело судье штата, а тот пытается отфутболить это дело в суд племени, что правильно. Все согласны с тем, что у ребенка явно индейская внешность, а губернатор уверяет, что она…
– Так это девочка?
– Да… Лакота, или Дакота, или Накота, в любом случае, по словам губернатора, она – сиу. Но вообще-то может принадлежать любому другому племени. Кроме того, ее мать…
– А где ее мать?
– Исчезла.
Мама села в кровати. Прижимая простыню к своему хлопчатобумажному халатику в цветочек, она выбросила вперед руку и вдруг издала жуткий вопль, от которого у меня волосы на спине встали дыбом. И тут она спрыгнула с кровати и зашаталась. Схватила мою руку, когда я вскочил, чтобы ей помочь. Маму стошнило – она извергла на пол слизь пугающе ярко-зеленого цвета. Она опять закричала, заползла под простыню и затихла.
А отец никак не отреагировал – только накрыл полотенцем лужу на полу. Я тоже сидел как истукан, боясь шевельнуться. Вдруг мама воздела обе руки вверх, замахала ими в разные стороны, словно силилась отпихнуть от себя воздух. Ее руки двигались нервными рывками, отбивались, отталкивали, защищались, а сама она тряслась и извивалась всем телом.
– Ну все, все, Джеральдин, – произнес перепуганный отец, пытаясь ее успокоить, – все хорошо. Ты в безопасности!
Она еще сделала несколько слабых взмахов и медленно опустила руки. Потом повернулась к отцу, устремив на него взгляд из-под скомканной простыни, словно из глубокой пещеры. Ее ввалившиеся глаза казались черными углями на сером лице, и она произнесла тихим сиплым голосом, который ударил меня наотмашь:
– Меня изнасиловали, Бэзил!
Отец не шевельнулся, не взял ее за руку, не попытался утешить. Казалось, он остолбенел.
– Нет никаких доказательств того, что это он сделал. Никаких! – прохрипела она.
Отец наклонился к ней.
– Вообще-то есть. Мы же сразу поехали в больницу. И есть твои воспоминания. И еще кое-что. У нас есть…
– Я все помню!
– Рассказывай…
Отец не оглянулся на меня, потому что неотрывно смотрел прямо в мамины глаза. Наверное, если бы он отвел взгляд, мама навсегда замкнулась бы в молчании. Я съежился на стуле, постаравшись стать невидимым. Мне и не хотелось присутствовать там, но я знал: стоит мне скрипнуть стулом, как я уничтожу возникшее между ними силовое поле доверия.
– Мне позвонили. Это была Майла. Я знала про нее только от членов ее семьи. Она редко тут появлялась. Девушка, совсем юная. Она начала процесс оформления принадлежности к племени для своего ребенка. Отец ребенка…
– Отец?
– Она внесла его в свидетельство, – прошептала мама.
– Ты не помнишь его имя?
Мама молчала – рот приоткрыт, глаза пустые.
– Продолжай, дорогая, продолжай. Что было дальше?
– Майла попросила встретиться в круглом доме. Машины у нее не было. Она сказала, что от этой встречи зависит ее жизнь. И я поехала туда.
Отец шумно вздохнул.
– …Я остановилась на участке, заросшем бурьяном, выключила мотор. И пошла к дому, а когда уже поднималась вверх по склону, он меня схватил и повалил. Выхватил ключи из рук. Потом достал мешок и быстро напялил мне на голову. Мешок был из легкой материи розового цвета, свободный, может быть, это была наволочка. Но он за секунду надел его, натянул мне на плечи, я ничего не могла видеть. Он связал мне руки за спиной. И начал допытываться, где папка. А я сказала, что нет никакой папки, что я не понимаю, о какой папке идет речь. Тогда он развернул меня и повел… Он держал меня за плечи и направлял: переступи через ствол, поверни туда… Он меня куда-то привел…
– Куда? – спросил отец.
– В какое-то место…
– А поточнее?
– Какое-то место. Там все и произошло. Он же надел мне на голову мешок. И изнасиловал. В каком-то месте.
– Ты шла в гору или под гору?
– Я не знаю, Бэзил.
– Через лес? Ты слышала шуршание листвы?
– Не знаю.
– А какой был грунт? Гравий? Трава? Там была ограда из колючей проволоки?
Мама хрипло закричала и кричала до тех пор, покуда ей хватало воздуху. Потом наступила тишина.
– Там сходятся земельные участки трех типов, – стал с усилием объяснять отец дрожащим голосом. – Земля, находящаяся в племенном трасте, земля штата и частная земля. Поэтому я и спрашиваю.
– Ты можешь наконец снять с себя судейскую мантию? Забудь про свои юрисдикции! – прохрипела мама. – Я не знаю!
– Ладно, – кивнул отец. – Ладно. Продолжай.
– Потом, после всего… Он поволок меня к круглому дому. Это заняло какое-то время. Может, он водил меня кругами? Мне было плохо… Я не помню. В круглом доме он меня развязал и снял с головы мешок. Это оказалась… наволочка, обычная розовая наволочка. И тут я ее увидела. Майлу. И ее дочурку, играющую на земляном полу. Девочка подняла ручки вверх к лучу света, бьющему сквозь щели между бревен. Она только-только научилась ползать, и ее ручки еще были слабыми, но все же она доползла до матери. Девушка была индеанка, и это она мне звонила. Она приезжала ко мне в пятницу и подала заявление. Тихая такая девушка с милой улыбкой, красивыми зубами, с розовой помадой на губах. У нее была симпатичная стрижка. Вязаное бледно-пурпурное платье. Белые туфли. И с ней была эта малышка. Я даже поиграла с ней в офисе. Вот кто мне звонил в тот день. Майла Вулфскин. «Мне нужна эта папка, – сказала она. – От этой папки зависит моя жизнь».
Она лежала на земле. Ее руки были связаны за спиной клейкой лентой. Ребенок ползал по земляному полу. На малышке было гофрированное желтое платьице. А ее глаза, такие же нежные, как у Майлы, большие карие глаза. Широко раскрытые. Она все видела и не понимала, что происходит, но она не плакала, потому что мама была рядом, и ей казалось, что все в порядке. Но он связал Майлу лентой. Мы с Майлой посмотрели друг на друга. Она не мигала, только переводила взгляд то на дочку, то на меня. Я поняла: она просила меня позаботиться о ее девочке. Я кивнула.
Потом он вошел и снял штаны. Просто сдернул их и отбросил сторону. Штаны на нем свободно сидели.
– Я запоминаю каждое слово, каждое слово! – сказал он. С такой характерной интонацией: мрачно, потом весело, потом снова мрачно. Потом весело. – А я ведь больной ублюдок. Я, наверно, из тех, кто терпеть не может индейцев в общем и целом, а особенно за то, что они с давних пор враждовали с моими предками, но вот особенно я считаю, что индейские женщины – те еще…
Но я не хочу повторять то слово, каким он нас обозвал. Он заорал на Майлу, сказал, что любил ее, а она родила ребенка от другого, и как она могла такое сделать. Но он все еще хочет ее. Она все еще ему нужна. Она поставила его в такое дурацкое положение – из-за того, что он ее полюбил. «Тебя бы следовало засунуть в ящик и утопить в озере за то, что ты оскорбила мои чувства». Еще он говорил, что мы – никто по закону, и это правильно, но все равно мы унижаем белых и лишаем их чести. «Я мог бы разбогатеть, но лучше я покажу вам обеим, кто вы такие на самом деле. И меня не поймают. Я же читал книжки про законы! Это забавно!» Он засмеялся и ткнул меня в бок ботинком. «Я в законах разбираюсь не хуже судьи! Ты знаешь хоть одного судью? Я ничего не боюсь. В мире все устроено шиворот-навыворот, но здесь, в этом месте, я все исправлю и устрою как надо. Сильные должны командовать слабаками. А не слабаки сильными! Слабаки обламывают сильных. Но меня не поймают!»
И тут он развернулся к Майле и продолжал орать:
– Наверное, стоило и тебя утопить вместе с твоей машиной! Но, милая моя, я не смог! Мне стало тебя так жалко, у меня прям сердце разрывалось. Это же любовь, да? Любовь… Я не смог. Но знаешь, надо было! У тебя же в машине все твое дерьмо! А там, куда ты скоро отправишься, тебе ничего не понадобится. Уж прости меня! Прости! – Он ударил Майлу, а потом ударил меня. И ударил ее еще несколько раз. Потом перевернул на спину. – Так ты скажешь мне, где деньги? Деньги, которые он тебе дал! А, скажешь? Сейчас ты решила сказать? И где же они? – Он сорвал с ее губ ленту. Но она сразу не смогла говорить, а потом выдохнула: «У меня в машине!»
Думаю, он бы ее в тот момент убил. Если бы не малышка. Она громко заплакала и заморгала, глядя на него ничего не понимающими глазками.
– А, – сказал он, присев около нее, – не буду, не буду. И больше ни слова! – обратился он к Майле. – Я больше не хочу об этом слышать! – И обращаясь к ребенку, добавил: – Теперь ты мой банковский счет! Я заберу тебя с собой! Если только ты, дрянь… – Он встал и ударил меня ботинком в бок, потом перешагнул через меня и ударил Майлу так сильно, что она застонала. Потом он наклонился надо мной, заглянул в лицо и произнес: – Прости. Наверное, со мной случился приступ. Я вообще-то не плохой человек. Я же не сделал тебе больно, а?
Он поднял малышку с земли и произнес детским голоском:
– Ума не приложу, что мне делать с уликами? Глупышка я. Может, мне сжечь улики? Понимаешь, они же улики!
Он бережно положил ребенка на землю. Отвинтил крышку канистры с бензином и, пока он поливал бензином Майлу, стоя ко мне спиной, я схватила его штаны, зажала между ног и помочилась на них. Да, вот что я сделала! Помочилась на его штаны. Потому что я видела, как он зажигал сигарету и положил спички обратно в карман. Я даже удивилась, как он не заметил, что его штаны мокрые от мочи, но он был поглощен своим занятием. Его трясло. И он приговаривал: «О нет, нет, только не это!» Он вылил на нее еще бензина и облил меня. Но не ребенка. А потом, когда не смог зажечь сырые спички, которые он достал из кармана штанов, обернулся и злобно посмотрел на малышку. Та заплакала, а мы с Майлой лежали ни живые, ни мертвые, когда он начал успокаивать малышку. Он сказал: «Шшш! У меня есть другой коробок и зажигалка есть, там, под горой! А ты… – Тут он встряхнул меня и снова заглянул в лицо. – Если ты хотя бы шевельнешься, я убью этого младенца, если ты хотя бы шевельнешься, я убью Майлу. Ты скоро умрешь, и, если ты, оказавшись на небесах после того, как ты умрешь, скажешь там хоть слово, хоть одно словечко, я убью их обеих!»
* * *
Я насыпал корнфлекс в плошку и наполнил стакан молоком. Половину я вылил в плошку, посыпал хлопья сахарным песком и съел. Потом еще раз подсыпал немного хлопьев, смешал с остатками сладкого молока на дне, съел и осушил стакан. Взял банку с широким горлом, зачерпнул ею собачьего корма из большого мешка в прихожей, сыпанул корма в миску Перл и налил ей свежей воды. Пёрл не отходила от меня, пока я поливал огород и цветочные клумбы. Потом сел на велик и поехал на работу. Но перед этим я повидался с отцом. Он оставался в спальне с мамой, просидев у ее кровати всю ночь. Я спросил у него про папку, а он ответил, что мама не захотела о ней рассказывать. Единственное, что ее волновало – жив ли ребенок. И она считала, что Майла осталась жива.
– Как думаешь, что в той папке? – спросил я.
– То, с чем можно работать.
– А Майла Вулфскин? О ней что-то известно?
– Она ходила в школу в Южной Дакоте, – ответил отец. – Она состоит в кровном родстве с маминой подругой Лароуз. Возможно, поэтому мама не хочет видеться с Лароуз. Боится расстроиться, наговорить лишнего.
– Я не то имел в виду, пап. Что произошло с Майлой Вулфскин? Она жива?
– Это вопрос.
– А ты что думаешь?
– Думаю, ее нет в живых, – тихо ответил он, глядя в пол.
Я тоже стал смотреть в пол, разглядывая кремовые завихрения на сером линолеуме. От более темных разводов и крошечных черных точек, когда ты их замечал, возникало легкое головокружение. А сейчас я внимательно изучал узор, пытаясь запомнить случайное сочетание его элементов.
– Зачем ему ее убивать, а, пап?
Он склонил голову вбок, пожал плечами и, шагнув вперед, обнял меня. Он постоял так, не отвечая на мой вопрос. Потом отпустил меня и ушел.
Приехав на заправку, я поставил велик у двери, чтобы его видеть, и приступил к своим обязанностям. У дяди Уайти был коротковолновой приемник, который принимал сигналы со всей округи. Приемник оставался всегда включенным и сквозь треск жутких помех передавал сообщения, долетавшие до гаража. Иногда Уайти настраивал его на музыкальную станцию. Я собрал все обертки от конфет, окурки, невыигрышные лотерейные билеты и прочий мусор, который накопился на внутреннем дворе станции и на траве у дороги. Потом вооружился шлангом и полил цветочную клумбу в выкрашенной желтой краской тракторной шине – в ней были серебристые кустики шалфея и ярко-красные книфофии, точно такие же я высадил в нашем саду для мамы.
Когда на заправку приезжали клиенты, дядя Уайти заливал им бензин, проверял масло и обменивался с ними последними сплетнями. А я мыл стекла. После того, как Соня приобрела кофемашину, Уайти установил два столика с диванчиками в восточном углу магазинчика. Соня брала за первую чашку кофе десять центов, а добавки ничего не стоили, поэтому от посетителей отбоя не было. Тетя Клеменс через день делала для кафе выпечку, и у них всегда был и банановый кекс, и кофейный кекс, и овсяное печенье в большой стеклянной банке. И каждый день в обеденное время Уайти спрашивал у меня, не хочу ли я сэндвич со стейком по-индейски, и делал большие сэндвичи из вареной колбасы с майонезом на белом хлебе. Во второй половине дня он устраивал себе перерыв, а после его возвращения Соня уезжала домой вздремнуть. Закрывались они в семь вечера. Первые пару лет после открытия заправки они трудились вдвоем, чтобы сэкономить и копить средства на развитие, а потом стали подумывать о найме работника и о продлении рабочего дня до девяти вечера. Мне платили доллар в час, а еще я мог бесплатно есть мороженое, пить лимонад и молоко и доедать оставшееся на дне банки овсяное печенье.
Когда я вернулся домой, отец уже меня ждал.
– Как работа?
– Хорошо.
Отец оглядел свои костяшки пальцев, сжал кулак, нахмурился. И начал разговаривать со своей рукой, как случалось всегда, когда ему не хотелось говорить то, что он собирался сказать.
– Сегодня утром пришлось отвезти маму в Майнот. В больницу. Она у них полежит пару дней. Завтра я к ней съезжу.
Я спросил, можно ли мне с ним, но он ответил, что я ничем не смогу помочь.
– Ей просто надо отдохнуть.
– Но она и так спит все время.
– Знаю. – Он помолчал. Наконец взглянул на меня – с облегчением. – Ей известно, кто это был. Ну а как же иначе! Но она не скажет, Джо. Она его боится. Он же ей угрожал.
– У тебя есть какие-то догадки?
– Я не могу сказать, ты же знаешь.
– Но мне нужно знать! Он хоть из наших мест, пап?
– Надо думать, да. Но он здесь не появится. Он знает, что его арестуют. Маме будет предъявлен кое-кто для опознания. Довольно скоро, хотя и не очень скоро. Ей полегчает, как только начнется вся эта процедура. Уверен: она вспомнит и то место… Где все произошло. Так всегда бывает: сначала жертва испытывает шок, боится сказать, а потом наступает момент решимости.
– А что насчет Майлы Вулфскин? Он забрал ее с собой? А младенец? Это та девочка, которую пытается удочерить губернатор Южной Дакоты?
Выражение отцовского лица говорило: да. Но сам он сказал вот что:
– Жаль, что ты услышал мамин рассказ, Джо. Но я не мог ее прерывать. Я боялся, что она замолчит и больше уже рта не раскроет.
Я кивнул. За что бы я ни брался в тот день, меня преследовал мамин рассказ, всплывавший в памяти как темное нефтяное пятно на воде.
– Будь ее психика в нормальном состоянии, она бы ни за что не стала в твоем присутствии так подробно рассказывать про то, что с ней произошло.
– Я должен был это знать. И хорошо, что я теперь знаю.
Но это знание, как яд, отравляло меня. Только тогда я начал это осознавать.
– Мне надо съездить к ней завтра, – повторил отец. – Хочешь остаться у тети Клеменс или у дяди Уайти?
– Я останусь у дяди Уайти и Сони и буду с ними ездить на работу.
* * *
На следующий день после работы мы с Соней и дядей Уайти заехали к нам. С нами была Перл. Тетя Клеменс просто хотела проверить, все ли там в порядке, полить цветы в саду. Наш пустой дом был заперт, чему я несказанно обрадовался: мне не пришлось заходить внутрь. А еще я радовался тому, что скоро у Мушума день рождения, и по этому поводу все соберутся, и я увижу своих двоюродных братьев и сестер. Пока я гостил у Сони и Уайти, жизнь представлялась веселыми каникулами. С ними все как-то вошло в нормальное русло. В их доме я спал на диване и смотрел телик. В доме всегда было полно всякой еды, которую готовил Уайти, ведь он был профессиональным поваром, а за ужином на стол всегда выставляли пиво или вино, а после ужина включали музыку и снова выпивали. У них всегда было шумно. Я и не подозревал, как мне не хватало шума.
Мы залезли в «Сильверадо» дяди Уайти, и он сразу включил магнитолу. Из динамиков завопили «Роллинг стоунз». Машина тронулась, в раскрытые окна врывался ветер, пока мы не выехали на гравийную дорогу. Тут пришлось поднять стекла, и весь остаток пути мы так и ехали с закрытыми окнами, спасаясь от дорожной пыли и щебенки. Зато мы утонули в вихре грохочущей музыки и, переговариваясь, были вынуждены орать, чтобы перекрыть шум вентилятора и пульсирующие басы. Дядю Уайти многое веселило – ну, я-то знал причину его веселья: четыре часа работы, шесть банок пива или три стопки виски, – но в этот раз его потешали клиенты, в течение дня приезжавшие на заправку. Тетки Каппи были жуткие скряги и всякий раз просили залить им бензину ровно на один доллар. Им было невдомек, что они больше расходуют бензина, часто заезжая на заправку. Их привлекало то, что, всякий раз наведываясь сюда пополнить бак, они получали бесплатную чашку кофе. Молоденькая студентка университета приехала в наш город изучать повседневную жизнь бабушки Тандер и каждый день возила ее на своей машине. Бабушка Тандер ездила с ней сначала по своим делам, потом по знакомым и родственникам, которых она сто лет не видела. Ну и иногда позволяла девушке вынимать блокнот и записывать какую-нибудь весьма мудрую мысль. Бабуля прекрасно проводила время!
Я стал расспрашивать дядю Уайти про Кертиса Йелтоу.
– Ты не представляешь, – сказал он, – сколько этот красавец куролесил, а ему все нипочем! Как-то врезался в товарный состав, сидя пьяный за рулем, и выжил. Индейцев обзывал «ниггерами прерий». Считал это страшно смешным. Завел себе любовницу. Скупал золото и складировал его в подвале губернаторского особняка. А оружие? Его хлебом не корми, дай подержать в руке ствол или клинок! Коллекционирует боевые щиты! Индейские вышивки бисером. Оказывает знаки почтения благородным дикарям, а сам пытался втихаря захоронить ядерные отходы на священной земле Лакоты. Назвал Танец Солнца разновидностью сатанинского культа. Вот он какой Йелтоу. Да, и всегда со свежим загаром. Очень следит за своей внешностью.
Когда мы доехали до дома, Уайти пошел готовить ужин, а мы с Соней отправились заниматься лошадьми. Пока мы прибирались в амбаре, из распахнутых окон дома гремела музыка и доносилось бормотание телевизора. Мы и сами производили немалый шум, когда вынесли из амбара сено и, добавив к нему немного зерна, задали корм лошадям, а еще мы ужасно шумели, когда включили газонокосилку, и много шума создавали собаки, которые радостным лаем приветствовали нас и напоминали, что пора дать и им поесть.
Соня загоняла лошадей в амбар под вечер, проверяла собак на предмет клещей, регулярно осматривала их зубы, глаза и подушечки лап.
– Ну, и где тебя сегодня носило? – спрашивала она у каждой псины, а потом журила: – Чтобы больше никаких репейников! От тебя несет дерьмом! А кто тебе позволил выкусывать свой чудесный хвост, а, Чейн? Если еще раз удерешь со двора, я тебя высеку, так и знай!
Точно так же Соня разговаривала и с лошадьми, отводя их в стойло. Потом из дома вышел дядя Уайти и принес ей холодного пива. За задним двором пастбище шло под уклон в сторону запада, и на закате солнце золотило траву. Там стояли два складных шезлонга, и для меня вынесли третий. Я пил оранжад, а они пиво, и теперь музыка грохотала из портативной магнитолы, которую дядя Уайти поставил на крыльцо. А когда на нас налетели тонко визжащие эскадрильи комаров, мы скрылись в доме.
В тот день дядя Уайти выменял бензин на свежевыловленного судака и, почистив и разрезав рыбу, оставил куски филе вымачиваться в молоке на холоде. Он взбил в пену пивной кляр, чтобы обжарить в нем куски судака. Еще сделал салат из капусты и хрена. И у них всегда был десерт. Соня обожает десерт, объяснил Уайти.
– Она сладкоежка. Ты слыхал когда-нибудь о малиновом пюре? Я ей как-то сделал по рецепту из журнала. А майонезный пирог? В нем майонез вообще не чувствуется. Но она любит шоколад. Просто до безумия любит шоколад. Если бы я обмакнул своего дружка в шоколад и дал ей, она бы от меня не отстала!
С наступлением сумерек он, как говорится, поплыл, понес всякую чушь, и в конце концов Соня отвела его спать.
Уложив Уайти, Соня постелила мне на диване. Диван был старый и весь пропах табачным дымом, с обивкой из колючей коричневой ткани, усеянной оранжевыми шишечками. Соня накрыла диванные подушки простыней и вместо одеяла дала мне клетчатый спальный мешок со сломанной молнией. Она включила телевизор, потушила свет и свернулась калачиком у меня в ногах. Час или даже два мы с ней смотрели телик. Говорили про деньги, шепотом – боялись, что Уайти услышит. Соня заставила меня несколько раз поклясться, что я никому не рассказал про деньги в кукле – и не расскажу.
– Я просто трясусь от страха. И ты трясись! Держи ушки на макушке! Смотри, Джо, не проговорись!
Потом обсудили, как я поступлю с деньгами. Соня взяла с меня слово, что я оплачу учебу в колледже. Еще она рассказала, как ей хотелось, чтобы ее дочка Мэрфи училась в колледже. Она назвала свою малышку Мэрфи, потому что с таким именем невозможно стать стриптизершей. А ее дочка изменила имя на Ландон. Если бы можно было прокрутить время назад, сказала Соня, я бы никогда не оставила дочку со своей матерью, когда пошла работать. Верь не верь, но моя мать оказала на внучку очень дурное влияние.
Соне нравились ток-шоу и старые фильмы. Время от времени я засыпал в разгар совместного просмотра телевизора. Но я упорно боролся с собой, пытаясь как можно дольше оттянуть момент провала в сон. Как только приоткрывалась дверь в мир сна, я тут же отпрыгивал обратно на диван. К Сониной уютной тяжести возле моих ног. К ее теплому телу, которое я чувствовал, если вытягивал голые пятки из-под спального мешка. Я полюбил спать под этим спальным мешком, потому что он скрывал мою эрекцию.
Каждую ночь Соня давала мне свою подушку. Подушка пахла абрикосовым шампунем и еще каким-то невнятным ароматом – каким-то очень интимным эротическим запахом увядания, как сердцевина пожухлого цветка. Я зарывался в нее лицом и вдыхал. Я засыпал, и мне снился тот самый вечер, когда темная комната была озарена мерцающим заревом телевизора. Шла какая-то комедия, звук был приглушен. Соня призрачно маячила в голубоватом сиянии, прижав к губам стакан с холодной водой. Снаружи зудели тучи летних насекомых. Пару раз начинали лаять собаки, завидев оленя на дальнем краю пастбища. А дядя Уайти, слава богу, мирно похрапывал за дверью спальни. На третий или четвертый вечер, когда я курсировал между явью и райскими грезами, Соня нежно обхватила рукой мою пятку и сжала. А потом начала неосознанно поглаживать внутреннюю часть стопы – и вдруг волна слепого наслаждения пробежала по моему телу, слишком внезапно, чтобы я мог удержать ее в себе. Я кончил, охнув от удивления, и она отпустила мою ногу. Через мгновение раздался легкий хруст. Я украдкой взглянул на Соню: она жевала соленый кренделек.
Дядя Уайти запоем читал дешевые романчики карманного формата, которые покупал в местном супермаркете. Он смастерил настенные стеллажи под размер книжек о самураях и боевых отрядах ниндзя, вестернов Луиса Ламура, научно-фантастических небылиц, приключениях Конана и шпионских триллеров. Ежедневно он вставал в шесть утра и садился за стол с чашкой кофе и очередным романом. Я завтракал рядом, а он вслух зачитывал отрывки, бормоча себе под нос: «…ее гибкие лапы хищно задрожали в предвкушении прыжка, и она остановила свой взгляд на нем, лишенном души и замершем в полумраке безлунной ночи, решая, как именно переломить ему хребет… Острые как кинжал глаза-зубы Рагны сверкали в отраженных лучах фар… Зная, что его жизни придет конец, как только его глаза встретятся с этим безжалостным темным взором…» Дядю Уайти явно захватило развитие сюжета, и он продолжал читать вполголоса, а Соня поставила на стол тарелку с обжаренным беконом и сковородку с единственным блюдом, которое она умела готовить на завтрак, – смесь тертой картошки, яиц, резаного стручкового перца и ветчины, которые она выкладывала слоями на сковородку, и все это скворчало и жарилось до тех пор, пока посыпанный сверху сыр чеддер, расплавляясь, не превращался в пузырящуюся желтоватую массу с коричневой корочкой. Она называла это утренней запеканкой. После еды Уайти загибал страницу и откладывал книжку. Соня по-быстрому мыла посуду, мы рассаживались в пикапе и, доехав до заправки, включали бензоколонки. Мы открывались в семь. Но всегда кто-то уже стоял и дожидался, когда ему зальют бензин в бак.
В тот день произошли две неприятности. Первая – Соня надела новые сережки с камушками, которые, по словам Уайти, он до этого никогда не видел.
– Да видел ты их! – возразила Соня, изобразив кокетливую улыбку.
Сережки поблескивали в сумраке кухне. На руках у нее были желтые резиновые перчатки: перед тем, как мы пустились в путь, она яростно отдраивала слегка подгоревшую сковородку.
– Это же обычные стеклышки, – добавила она.
– Симпатичные стеклышки, – процедил дядя Уайти, глядя на нее исподлобья. Потом, когда она отвернулась, его взгляд изменился, стал колючим, злым. Ее синие джинсы тоже выглядели как только что купленные и облегали ее бедра так туго, что заставили меня вспомнить цитату из книжки Уайти: гибкие лапы хищно задрожали в предвкушении чего-то там…
Мы залезли в пикап. Но Уайти не включил магнитолу. На полдороге к городу Соня протянула руку к приборной доске с намерением нажать кнопку кассетника, но он шлепком отбросил ее руку от панели настроек. Я сидел позади него, и все произошло у меня на глазах.
– Так, – сказала Соня, обернувшись ко мне, – наш Уайти сегодня не в духе. У него похмелье.
Тот сидел, злобно сжав губы, и неотрывно смотрел на дорогу.
– Ага, похмелье. Но не то, о котором ты подумала.
Дядя Уайти умел плеваться, как отъявленный рецидивист – длинным точным плевком врастяжку. Словно он долгое время только и знал, что тренировался плевать в цель. Он выпрыгнул из пикапа, хлопнул дверцей, сплюнул, наподдал ногой по звонкой канистре и зашагал прочь, хотя кто-то уже стоял около колонки. Соня пересела за руль, припарковала пикап и открыла дверь АЗС. Она не глядя отдала мне ключи от бензоколонок и попросила обслужить клиента. И это была вторая неприятность.
Где-то я уже видел этого парня. Лицо его показалось мне знакомым, хотя лично я его не знал. У него были гладкие, правильные черты лица, хотя красивым я бы его не назвал. Белый, с глубоко посаженными глазами, каштановыми волосами, рослый, крупного, но в то же время дряблого телосложения, прилично одетый: белая рубашка, коричневые штаны на ремне, кожаные ботинки на шнурках. Длинные волосы гладко зачесаны за уши, так что виднелись следы от расчески. У него были до странности маленькие аккуратные уши, изогнутые словно раковина улитки и прижатые к голове. Губы тонкие, красные, точно у него была высокая температура. Когда он улыбался, я видел его зубы, белые и ровные, как в рекламе услуг стоматолога.
Я подошел.
– Полный бак! – бросил он.
Я убрал заглушку бензопровода и стал заливать бензин в бак. Потом помыл ему стекла и спросил, не надо ли проверить уровень масла. Его машина – старенький «додж» – была покрыта плотным слоем дорожной пыли.
– Не-а! – добродушно протянул он. И начал отсчитывать пятерки из толстой пачки банкнот. Протянул мне три.
– Моя тачка сожрала почти весь бензин. Я всю ночь гнал. Как вообще жизнь?
Иногда взрослые узнают тебя в лицо и ведут себя так, будто они старые знакомые. Хотя на самом деле они знают твоих родителей, или дядю, или когда-то учили в школе твоего родственника. Это сбивает с толку. Но к тому же он был клиентом, поэтому я держался с ним вежливо, поблагодарил, сказал, что все в порядке.
– Это хорошо! – кивнул он. – Говорят, ты хороший парнишка.
Теперь я вроде понял, что он за фрукт. Хороший парнишка? За это лето второй белый говорит мне эти слова. И я подумал: «Ох, испортят они меня!»
– Знаешь, – он сумрачно посмотрел на меня, – хотел бы я иметь такого сынишку, как ты. Но детей у меня нет.
– Да, жалко, – сказал я таким тоном, словно имел в виду прямо противоположное. Он снова поставил меня в тупик. Нет, не смог я его раскусить.
Он вздохнул.
– Спасибки. Не знаю, не знаю. Наверно, это же классно – завести семью. Очень мило! Любящая семья дает тебе преимущество в жизни. Даже у индейского паренька вроде тебя может быть хорошая семья, и это твое преимущество для удачного старта в жизни. И, может быть, это преимущество даст тебе возможность уравняться с белым пареньком твоего возраста, у которого нет любящей семьи. Понимаешь?
Я повернулся и собрался уходить.
– Вот такой он я. Вечно болтаю и болтаю. Но! – Он высунул руку и хлопнул ладонью по дверце. – Говори, что хочешь, но ты – сын судьи!
Тут я резко развернулся.
– У моей сестренки-близняшки – любящая индейская семья, и уж как они о ней заботились в трудные для нее времена!
Он отъехал, а я, вспомнив, что мне рассказывала Линда, понял, что это был Линден Ларк.
Мне захотелось уйти домой. Я был зол на дядю Уайти. По его милости я продал бензин врагу. Да и Соня меня беспокоила. Она вышла из здания, жуя жвачку. И в такт движению челюстей ее сережки болтались и поблескивали. Она зачесала волосы наверх и собрала их в пушистый конус ярко-розовыми эмалевыми заколками. Джинсы сидели на ней как вторая кожа.
Утро тянулось нескончаемо. Мне пришлось остаться, потому что Уайти отлучился. Около одиннадцати вернулся, и я понял, что он пропустил в баре бутылку-другую пива. Чтобы насолить ему, Соня притворилась, будто не замечает ни его нежелания с ней разговаривать, ни того, что он уходил, а теперь вернулся.
В полдень Соня сделала нам по сэндвичу с ветчиной из холодильника, но никто не стал шутить по поводу нашего вкусного стейка по-индейски и не спрашивал, не надо ли для меня его хорошо прожарить. Она просто дала мне сэндвич и банку виноградной газировки. Чуть позже она отдала мне и сэндвич, приготовленный для Уайти. Сэндвич был с листом салата, который я тоже съел, наблюдая за тем, как Уайти меняет колесо у машины Лароуз. Когда-то мама, тетя Клеменс и Лароуз были неразлучные подруги. В мамином фотоальбоме я видел их фотографии времен учебы в пансионе. Мама вечно рассказывала всякие истории из их школьной жизни. Частенько в ее рассказах фигурировала Лароуз. Но в последнее время виделись они редко, а когда виделись, то запальчиво шептались о чем-то вдвоем, подальше от чужих ушей. Можно было подумать, что они обсуждают какие-то общие секреты, да только они точно так же шушукались на протяжении многих лет. Иногда к ним присоединялась тетя Клеменс, но и тут они уходили подальше и болтали вполголоса втроем.
Лароуз всегда где-то витала – даже если сидела прямо перед тобой. Даже когда она беседовала и смотрела на тебя, казалось, мысленно она находится далеко-далеко, и мне было невдомек, о чем она думает. Лароуз сменила так много мужей, что никто уже не мог припомнить ее фамилию по последнему мужу. После первого замужества она стала Мигван. Это была узкокостная, тощая, похожая на птичку женщина, которая курила коричневые сигариллы и обычно закалывала свои черные блестящие волосы большой заколкой с бисерной вышивкой в виде цветка. К нам вышла Соня и встала рядом с Лароуз. И вот мы втроем стояли, попивая лимонад, и глядели, как потный индейский Элвис тщетно старается открутить заржавевшие болты на колесе. Он напрягся изо всех сил. Его шея вздулась, бицепсы бугрились. И хотя у него было заметное пивное брюшко, руки и грудь все еще оставались мускулистыми и могучими. Уайти наваливался на гаечный ключ всем весом. И ничего! Он встал на колени. А в тот день даже дорожная пыль раскалилась до предела. Он хлопнул гаечным ключом по ладони, потом вдруг встал и в сердцах швырнул его в высокую траву. И опять с хитрецой глянул на Соню.
– Нечего сверкать на меня глазами, осел, – заметила Соня, – если тебе не хватает силенок болты открутить!
Лароуз вздернула бровь дугой и, отвернувшись от них, посмотрела на меня.
– Пошли. Мне нужна новая пачка.
Она положила руку мне на спину – по-свойски так, как тетушка. Она слегка подтолкнула меня вперед. Мы вошли в магазин, и она полезла под прилавок за своими сигариллами. Мне было плевать на скрытный характер Лароуз, я все равно намеревался выведать у нее все, что меня интересовало. И я спросил, правда ли они с Майлой Вулфскин родственницы.
– Она моя двоюродная сестра, намного младше меня, – ответила Лароуз. – Ее отец был из резервации Кроу-Крик.
– Вы с ней вместе росли?
Лароуз лениво закурила сигариллу и резким движением запястья отшвырнула погасшую спичку.
– А что такое?
– Да просто интересно.
– Ты что, агент фэбээр, Джо? Я уже рассказала тому мужику в засаленных очках, что Майла училась в пансионе в Южной Дакоте, потом поступила в университет Хаскелл. Тогда как раз стартовала программа, когда самых способных выпускников индейских школ отбирали для работы в правительстве, что-то в таком роде. Им давали стипендию, жилье, все дела. О Майле даже в газетах писали – у моей тетки вырезка хранится. Ее взяли стажеркой. Хорошенькая она была. С белой лентой для волос, в джемпере, который она, видать, связала на уроке домоводства, гольфы. Да больше я ничего и не знаю. Прикинь, она работала в офисе одного губернатора. Тот еще прохиндей. К нему никакое дерьмо не прилипало.
Вошла Соня и взяла у Лароуз деньги за пачку сигарилл, которую та уже вскрыла. Я взглянул в окно и увидел, что дядя Уайти направляется к бару «Мертвый Кастер».
– Вот черт! – пробормотала Соня. – Это не есть хорошо.
– Мое колесо! – напомнила Лароз.
– Я все сделаю! – выпалил я.
Глядя на меня, Лароз улыбнулась одними губами. У нее было печальное спокойное лицо, которое никогда не озарялось радостью, ну разве что тенью улыбки. Ее тонкая шелковистая кожа коричневатого оттенка с паутинкой морщинок, которые становились отчетливо видны, если стоять близко к ней – при этом можно было ощутить аромат ее любимой розовой пудры. Когда она курила, во рту поблескивала серебряная фикса.
– Рискни, мальчик мой!
Мне хотелось еще порасспросить ее про Майлу, но не в присутствии Сони. Первым делом я нашел гаечный ключ в траве. Вернувшись, я увидел, что женщины вынесли шезлонги и расставили их в тенечке у дома. Они попивали лимонад из высоких стаканов.
– Иди! – махнула мне Соня. От ее пальцев поднимался дымок. – Я займусь клиентами! Если они будут.
Я растерянно вытаращился на зажимные гайки. Потом встал, отправился в гараж и вынес оттуда реверсивный ключ для болтов разных размеров.
– Ух ты! – удивленно воскликнула Лароуз, когда я вернулся.
– Молодец! – похвалила Соня.
Я выбрал на ключе отверстие нужного диаметра, наложил его на древний болт и изо всех сил надавил на рукоятку ключа. Но болт не поддавался. И тут за спиной услышал, как Каппи, Зак и Энгус лихо подкатили на великах к бензоколонкам и затормозили, подняв тучу песка.
Я обернулся. Пот с меня лил в три ручья.
– Чем занят? – спросил Каппи.
Ребята демонстративно не замечали Лароуз и – не так вызывающе – Соню. Они обступили меня, глядя на спущенное колесо.
– Все проржавело, дружище!
Мальчишки по очереди попытались открутить болт ключом. Зак даже надавил ногой на рукоятку ключа, но болт, казалось, врос намертво. Каппи попросил у Сони зажигалку и нагрел пламенем болт. Но и это не помогло.
– У вас есть вэдэшка?
Я показал Каппи, где у дяди Уайти на полке с инструментами стоит баллончик растворителя ржавчины. Каппи нанес аэрозоль на основание болта и тряпкой отчистил грязь с болта и с отверстия ключа. Потом наложил ключ на головку болта.
– Наступи-ка еще раз, – попросил он Энгуса.
На сей раз болт поддался. Машина осталась стоять на домкрате, а мы покатили спущенное колесо в гараж. У Уайти там была специальная емкость для определения места пробоины в камере, и он ловко заклеивал дырки в резине. Но сейчас-то он сидел в «Мертвом Кастере».
Я вышел и вопросительно поглядел на Соню.
– Может, сходишь за ним? – предложила она, отводя взгляд. Я заметил, что она сняла сережки.
Когда мы уговорили дядю Уайти вернуться, он успел выпить всего-то три стакана пива. Лароуз в конце концов получила отремонтированное колесо. Тут к нам вдруг повалили клиенты один за другим, а потом наступило затишье. Мы закрыли станцию и сели в пикап. Ни он, ни она не включили магнитолу. Мы ехали в тишине, но и Соня, и дядя Уайти выглядели уставшими, пришибленными жарой. А дома все было как всегда: я помог Соне приготовить ужин, потом мы ели, но за столом опять никто не проронил ни слова. Насупившийся Уайти молча пил виски, а Соня – только «севен-ап». Я уснул на диване под шум вентилятора, и потоки воздуха нежно раздували пряди рыжих волос вокруг ее профиля, четко очерченного в сапфировом сиянии телевизора.
Меня разбудил грохот. Свет выключен, луны не видно. Все вокруг было погружено во мрак, только вентилятор все еще гонял воздух вокруг меня. Из спальни доносились приглушенные звуки ссоры. Голос дяди Уайти, не умолкая, с ненавистью что-то рокотал. Потом – тяжелый удар. И Соня:
– Уайти, прекрати!
– Это он их тебе подарил?
– Нет никакого «его». Есть только ты, малыш! Отпусти меня.
Хлопок оплеухи. Вскрик.
– Не надо! Прошу тебя! Джо услышит!
– А мне насрать!
И Уайти начал обзывать ее всякими плохими словами.
Я встал и подошел к двери. В висках стучала кровь. Сердце колотилось. Накопившийся во мне яд забурлил и побежал по нервам. Я подумал, что готов убить дядю Уайти. И страха я не испытывал.
– Уайти!
Наступила тишина.
– Выходи и подерись со мной!
Я вспомнил приемы, каким он сам меня научил: чтобы блокировать удары, локти надо прижимать к телу, а подбородок нагибать. Наконец он открыл дверь, и я отпрыгнул, высоко подняв сжатые кулаки. Соня зажгла свет. На Уайти были желтые трусы-боксеры, испещренные красными перчиками. Его старомодно подстриженные волосы свисали веревочками на лоб. Он поднял обе руки, чтобы пригладить их назад, и я врезал ему кулаком в солнечное сплетение. Отдача от удара больно сотрясла мою руку. Рука онемела. Сломал, подумал я, и почему-то меня охватил восторг. Я опять замахнулся на него, но он крепко сжал обе мои руки и произнес:
– Вот дерьмо! Джо, это касается меня и Сони. Только нас. Джо, не лезь в это дело! Ты когда-нибудь слыхал о неверных женах? Соня мне неверна! Какой-то хрен подарил ей брильянтовые серьги!
– Стекляшки! – ввернула она.
– Что я, брильянтов не отличу от стекла?
Дядя Уайти отпустил мои руки и, отступив на шаг, постарался вновь обрести чувство собственного достоинства.
– Больше я ее не трону, обещаю, – он поднял руки вверх. – Даже несмотря на то, что какой-то хрен, с которым она спуталась, подарил ей брильянтовые серьги. Я ее пальцем не трону. Но она грязная тварь. – Он выкатил глаза, покрасневшие от слез. – Грязная! У нее кто-то есть, Джо…
Но я-то знал, что это неправда. Я знал, откуда у Сони эти сережки, и брякнул:
– Это я их ей подарил, Уайти.
– Ты? – Он покачнулся. Я заметил в его руке бутылку. – И с чего это ты подарил ей сережки?
– На день рождения.
– Уже почти год прошел.
– Балда! Тебе-то что? Я нашел эти сережки в уборной на заправке! И ты прав. Это не стекляшки. Я думаю, они из настоящего циркония!
– Перестань, Джо, – произнес он. – Все это фантазии.
Он перевел плачущий взгляд на Соню. Привалился к дверному проему, потом, нахмурившись, поглядел на меня.
– «Балда! Тебе-то что?» – пробормотал он. – Как ты разговариваешь с дядькой? Ты, парень, пересек черту! – Он вытянул руку с бутылкой и показал мне средний палец. – Ты. Пересек. Черту.
– Ну, она же моя тетя, – возразил я. – Что, мне нельзя сделать ей подарок на день рождения? Балда!
Он допил до дна и кинул бутылку себе за спину, потом снова зашатался и нагнулся вперед.
– Ты сам напросился, малыш!
Тут раздался звон разбитого стекла, он тяжело осел, вздернув руки и ухватив себя за голову. Соня вытолкала его из дверного проема на пол гостиной и сказала:
– Обойди его, только осторожно, не наступи на битое стекло. Заходи, Джо!
Я вошел в спальню, и она заперла дверь.
– Залезай, – она кивнула на кровать. – И спи. А я посижу.
Она села в кресло-качалку, положив отбитое бутылочное горлышко на столик рядом. Я забрался в постель и укрылся простыней. Подушка пахла сладким гелем для волос, которым пользовался Уайти, и я ее оттолкнул и подложил под ухо локоть. Соня выключила свет, и я уставился в кромешную тьму.
– Он может там умереть, – подал я голос.
– Не умрет. Бутылка была пустая. К тому же я знаю, с какой силой его ударить.
– Небось и он говорит про тебя то же самое.
Она не ответила.
– Зачем ты ему это сказал? – спросила Соня. – Зачем ты сказал, что подарил мне эти сережки?
– Потому что фактически это я подарил.
– А, ты про деньги…
– Я же не дурак.
Соня молчала. Потом заплакала.
– Мне хотелось что-то красивое, Джо.
– И видишь, как оно вышло?
– Да.
– Все, как ты сказала. Не трогай эти деньги! И куда ты дела сережки?
– Выбросила!
– Не верю! Они же брильянтовые!
Соня ничего не ответила. Просто качалась в кресле.
* * *
На следующее утро мы с Соней уехали рано. Дядю Уайти я не видел.
– Он побродит по лесу и успокоится, – сказала она. – Не беспокойся. Теперь он долго будет паинькой. Но сегодня, наверное, тебе лучше переночевать у Клеменс.
Мы поехали в город. Без музыкального сопровождения. Я глядел в окно на придорожные канавы. Когда мы проезжали мимо дома тети Клеменс и нашего поворота, я сказал:
– Сойду тут, потому что я больше не буду работать у вас.
– Ну, дорогой, не надо! – взмолилась она. Но все-таки свернула к обочине и остановилась. Сегодня она собрала волосы в конский хвост и обвязала его зеленой ленточкой. На ней был ярко-зеленый спортивный костюм с белыми кантами, а на ногах – кроссовки на мягкой резиновой подошве. В тот день она накрасила губы сочной пунцово-красной помадой. Наверное, я смотрел на нее очень жалобно, потому что она повторила:
– Ну, дорогой, не надо!
А я думал вот о чем: если бы на моей щеке отпечатались ее сочные красные губы, отпечатались поцелуем, то превратились бы в обжигающий сгусток крови, который клеймом врезался бы в мою плоть и так и остался бы на коже черным тавром в форме женских губ. Я жалел себя. Я ведь все еще любил ее, пуще прежнего, хоть она и предала меня. В ее голубых глазах блестела хитринка.
– Перестань! Мне же нужен помощник. Ну, пожалуйста!
Но я вылез из машины и зашагал по дороге.
Дверь на кухню была открыта. Я вошел и позвал:
– Тетя Кей!
Она поднялась из погреба с банкой джема из ирги.
– Я думала, ты на работе.
– Я бросил.
– Лентяй. Тебе лучше вернуться туда.
Я печально помотал головой, стараясь не встречаться с ней глазами.
– О, они опять собачатся? Уайти взялся за старое?
– Ага.
– Тогда оставайся здесь. Можешь спать в бывшей комнате Джозефа – там теперь стоит швейная машинка, но ничего. Мушум спит в комнате Иви. Я ему там поставила раскладушку. Он не хочет спать в мягкой постели Иви.
В тот день я помогал тете Клеменс по хозяйству. У нее был чудесный огород, не хуже, чем у мамы когда-то, и сладкий горошек уже созрел. Дядя Эдвард трудился на пруду: он хотел наладить дренажную систему и очистить протоки, попутно пытаясь подсчитать количество личинок комаров, и я ему тоже помогал. Уайти куда-то задевал мой велик, но я не пошел за ним. Мы поели жареной оленины с горчицей и обжаренные луковые кольца. Их телевизор, как всегда, был в ремонте, а мастерская находилась в шестидесяти милях отсюда, и мне захотелось спать. Мушум отправился в комнату Иви, а я – в комнату Джозефа. Но стоило мне открыть дверь и увидеть швейную машинку между кроватью и длинным узким столом, заваленным катушками разноцветных ниток и кусками ткани, а еще лоскуты для одеял и обувную коробку с надписью «Молнии» и знакомую подушку для иголок в форме сердца, с той лишь разницей, что у мамы она была грязно-зеленого цвета, как я вспомнил отца, каждый вечер входящего в комнату со швейной машинкой, и то ощущение одиночества, что выползало из-под двери швейной комнаты по всему коридору и пыталось вползти в мою спальню. И я спросил у тети Клеменс:
– Как думаешь, я не потревожу Мушума, если прилягу рядом с ним?
– Он разговаривает во сне!
– Неважно.
Тетя Клеменс открыла дверь комнаты Иви и спросила у Мушума, не будет ли он возражать, но старик уже похрапывал. Тетя Клеменс дала мне добро, и я закрылся в комнате с Мушумом. Я разделся и залез в кровать моей взрослой двоюродной сестры: кровать была широченная, продавленная и пахла застарелой пылью. Мушум на раскладушке издавал убаюкивающий храп. Я уснул сразу. Но когда взошла луна и в комнате стало светло, я проснулся. Мушум и впрямь разговаривал во сне, поэтому я перевернулся на другой бок и накрыл ухо подушкой. Я уже начал снова засыпать, как вдруг что-то им произнесенное засело занозой в моем мозгу, и мало-помалу, точно рыба, всплывающая из темных глубин реки, я начал подниматься к поверхности сна. Мушум не просто бессвязно бормотал о том о сем, выплевывая фрагменты сновидения, как это обычно бывает со спящими. Он рассказывал историю.
Акии
Сначала она была самой обычной женщиной, забубнил Мушум, и умела делать массу вещей: плести сети, ставить силки на кроликов, сдирать и вымачивать шкуры. Она любила оленью печенку. Звали ее Акиикве, Женщина-Земля, и подобно своей природной тезке, она была плотная. У нее была тяжелая кость и короткая толстая шея. Ее муж Мираж появлялся и исчезал. Он поглядывал на других женщин. Она много раз ловила его с ними, но оставалась с ним. Несмотря на свое женолюбие, он был отважный охотник, и они вдвоем жили неплохо. Они всегда могли раздобыть пищу для своих детей, у них даже бывали излишки мяса, потому что Акии умела в своих снах находить места обитания животных. У нее было мудрое сердце и строгий взгляд, с помощью чего она держала детей в повиновении. Акии с мужем никогда не отличались скаредностью и умели находить пищу даже в зимнюю пору – и так продолжалось до того года, когда нас загнали в наши границы. То был год образования резервации. Мало кто вспахивал землю, подобно белым, и засевал ее семенами, но если хочешь заниматься фермерством, то нужно потратить много лет, прежде чем ферма поможет тебе выживать в зимнее время. Мы охотились на животных при Луне малого духа и доохотились до того, что во всей округе не осталось даже кролика. Правительственный чиновник пообещал снабдить нас продовольствием, чтобы компенсировать утрату нашей исконной территории, да ничего мы не получили. И мы покинули свою землю и ушли обратно в Канаду, но и там олени-карибу давным-давно вывелись, и бобров не осталось, и даже ондатр. Голодные дети плакали, а старики варили кусочки штанов, сшитых из лосиной кожи, и жевали их. И в ту пору каждый день Акии уходила на промысел и всегда возвращалась с какой-нибудь мелочишкой. Она пробила лунку во льду, и они с мужем прилагали великие усилия, не давая ей замерзнуть ни днем, ни ночью. Они рыбачили, и наконец она поймала рыбу, которая молвила ей: «Мой народ сейчас будет спать, а вам суждено умереть с голоду!» После этого, само собой, Акии не удалось выловить ни одной рыбины. И тут она заметила, что Мираж как-то недобро на нее смотрит, и она тоже поглядела на него недобро. И теперь, когда они ложились спать, он клал детей себе за спину, а под одеяло – большой топор. Акии его утомила, и он притворился, будто понял, что должно произойти. Некоторые люди в эти трудные голодные времена стали одержимы дурными духами. Злобный дух-людоед Виндигу мог впрыгнуть внутрь человека. И такой человек превращался в зверя, а его соплеменники становились для него мясной добычей. Вот что должно произойти с ней, решил ее муж. И ему показалось, что ее глаза начали светиться в ночи. И если такое случалось, надо было немедленно убить такого одержимого. Но только после того, как ты добьешься согласия остального племени. Одному такое дело нельзя было совершить. Убивать Виндигу следовало особым образом.
И вот Мираж собрал нескольких мужчин и убедил их, что Акии становится очень сильной и скоро с ней будет не справиться. Она порезала себе руку, чтобы напоить своей кровью ребенка – и тот тоже мог бы стать Виндигу. Она следила за каждым движением детей и смотрела на них так, словно готовилась в удобный момент наброситься. А потом, когда мужчины попытались ее связать, она дала им отпор. Шестерым мужчинам наконец удалось ее одолеть, но победа далась им нелегко: все они были покусаны и исцарапаны. Другая женщина забрала к себе детей, и те не увидели, что произошло потом. Но одного, старшего мальчика, оставили. Потому что единственный, кто мог бы убить Виндигу, – это кровный родственник. Если бы Акии убил муж, родичи Акиикве могли бы ему отомстить. Ее могли бы убить сестра или брат, но те отказались. И вот ее старшему сыну дали нож и приказали зарезать мать. А было ему от роду двенадцать лет. Мужчины крепко ее держали, и ему надо было взрезать ей шею. Мальчик начал плакать, но ему сказали, что это его долг. Звали мальчика Нанапуш. Мужчины понуждали его убить мать, пытались воззвать к его отваге. А он лишь обозлился. Он всадил нож в одного из мужчин, державших его мать. Но нож проткнул куртку из звериной кожи, и рана оказалась неглубокой.
– Ах, – произнесла мать, – какой же ты хороший сын! Ты не убьешь меня. Ты – единственный, кого я не сожру. – И тут она начала сопротивляться так яростно, что ей удалось вырваться из рук мужчин. Но они повалили ее на землю.
А Нанапуш понял, что мать пригрозила съесть остальных только потому, что они сделали ей больно. Она была хорошей матерью, она любила своих детей и обучила их навыкам выживания. Мужчины связали ее веревками и подвели к дереву. Муж привязал ее к стволу, и ее оставили там одну на верную смерть от мороза или голода. Она кричала и пыталась выпутаться, но потом затихла. Мужчины сочли, что силы ее покинули, и решили уйти. Но ночью налетел ветер чинук с юго-запада, и в воздухе потеплело. Она ела снег. Наверное, снег прибавляет сил, потому что ей удалось окрепшими пальцами развязать узлы и снять веревки. И она пошла прочь. А ее сын выполз из палатки и решил уйти вместе с ней. Но когда они дошли до озера, подоспела погоня, и их схватили. И опять ее привязали к дереву.
Мираж расширил прорубь, в которой они с Акии некогда рыбачили, пробивая тонкий лед. Мужчины решили утопить ее подо льдом. Причем, чтобы никому конкретно не поставили убийство в вину, решили сделать это совместно. Они стянули веревки на ее теле покрепче да еще привязали к ногам тяжелый камень. Потом опустили ее в ледяную воду. Увидев, что она не всплывает, мужчины ушли. И только ее сын не пошел с ними. Он сел на лед и стал петь матери смертную песню. Когда мимо проходил отец, сын попросил у него ружье и пообещал пристрелить мать, если она покажется из воды.
Наверное, у отца в то мгновение помутился рассудок, потому что он отдал Нанапушу свое ружье.
Как только мужчины скрылись из виду, Акии пробила головой тонкую корочку льда в проруби. Ей удалось сбросить с ног камень, и она дышала тем воздухом, что скопился подо льдом у поверхности воды. Нанапуш помог ей выбраться из проруби и укрыл своим одеялом. Потом они углубились в лес и шли и шли, пока оба не обессилели и уже не могли двигаться дальше. В укромном кармане у матери было спрятано огниво. Они разожгли костер и смастерили из веток шалаш. Акии рассказала сыну, что, пока она сидела под водой, с ней разговорились рыбы – они-то и сообщили, как сын ее жалеет и что хорошо бы ей спеть охотничью песню. И она спела ее Нанапушу. Это была песня о бизонах. Почему бизонах? Потому что рыбы тосковали по бизонам. Когда в жаркие летние дни бизоны приходили на водопой к озерам и рекам, объяснила Акии, из их мохнатых шкур в воду падали жирные вкусные клещи, и рыбы их ели, а помет бизонов привлекал насекомых, которых рыбы тоже обожали. Рыбы мечтали, чтобы бизоны вернулись в эти края. Рыбы спросили меня, продолжала Акии, куда ушли бизоны. А я не смогла им ответить. Сын выучил песню о бизонах, но усомнился, что она поможет. Ведь уже много лет никто не видел здесь бизонов.
В ту ночь оба крепко спали. А когда проснулись, почувствовали такую слабость, что подумали: легче было бы умереть. Но у Нанапуша нашлась веревочка для силков. Он выполз и расставил силки в нескольких шагах от их шалаша.
– Если попадется кролик, он поведает мне, где все звери, – сказала Акии.
И оба снова уснули. Когда же они проснулись, в силках бился кролик. Мать подползла к нему и послушала, что он говорит. Потом вернулась ползком к сыну вместе с кроликом.
– Кролик жертвует себя тебе, – сказала Акии. – Ты должен его съесть и разбросать все косточки до единой в снегу, чтобы он снова возродился.
И Нанапуш, изжарив кролика, съел его. Трижды он предлагал матери кусок, но она отказывалась. Она спрятала лицо в одеяле, чтобы сын его не видел.
– А теперь иди, – сказала Акии. – Кролик спел мне ту же песню про бизонов. Бизоны взрыхлили копытами землю, так что теперь взойдет густая трава, и кроликам будет чем питаться. Все звери тоскуют по бизонам, но им не хватает и настоящего охотника-анишинаабе. Бери ружье и отправляйся на запад. Бизоны придут из-за западного горизонта. Там тебя ждет старуха. Если вернешься и найдешь меня мертвой, не плачь. Ты был мне очень хорошим сыном.
И Нанапуш ушел.
* * *
Мушум умолк. Я слышал, как скрипнула под ним раскладушка. Потом опять раздалось стариковское похрапывание – легкое и мерное, как перестук детской погремушки. Я был страшно разочарован и даже подумал потрясти его и разбудить, чтобы узнать конец истории. Но в конце концов тоже уснул. Проснувшись, я опять стал думать, чем дело кончилось. Мушум был в кухне и хлебал свою любимую овсяную кашу с кленовым сиропом. Я спросил у Мушума, кто такой Нанапуш, мальчик из его рассказа. Но он дал мне совершенно другой ответ.
– Нанапуш? – переспросил старик и издал сухой каркающий смешок. – Да это полоумный старик вроде меня. Только еще хуже! Надо было его вырвать с корнем. Перед лицом опасности он вел себя как идиот. Когда требовалось проявить мудрую сдержанность, из Нанапуша вылезала неуемная алчность. Он рано состарился, поднаторев на разных глупостях и лжи. Старый Нанапуш, так его прозвали, или акивензииш. Иногда этот старый греховодник творил чудеса благодаря своему наглому и мерзкому поведению. Люди к нему обращались, правда, тайком, чтобы он их исцелил. Так случилось, что, когда я сам был молод, я принес ему в дар одеяла и табак, чтобы узнать от него, как ублажить мою первую жену, которая начала поглядывать налево. Жюнес была немного постарше меня, и в постели ей требовалась терпеливость, которая вырабатывается в мужчине с возрастом. Что же мне делать? Так я спросил у старика. Скажи мне!
И Нанапуш ответил:
– Баашкизиган! Баашкизиган! Ты не робей! Не торопись в следующий раз, и, если представится другой случай, попробуй переплыть через озеро на каноэ против сильного ветра и не переставай грести, пока нос лодки не ткнется в берег!
Так я удержал свою женщину и стал уважать старика. Он вел себя по-дурацки, отделяя друзей от врагов. Но всегда говорил правду.
– А что известно про его мать? – спросил я. – Про эту женщину, которую не смог убить ни один мужчина? Когда она отправила сына к бизонам, что произошло?
– Что за чушь ты несешь, мой мальчик?
– Это же твоя история!
– Какая еще история?
– Та, что ты рассказал мне вчера ночью.
– Вчера ночью? Ничего я не рассказывал! Я всю ночь спал без просыпа. Крепко спал.
Ну ладно, подумал я. Подожду, пока он снова не будет спать крепко и без просыпа. Может, тогда и услышу конец истории.
И всю следующую ночь я старался не засыпать. Но я жутко вымотался и все время задремывал. А потом и вовсе уснул. И во сне услышал тихое шуршание, будто кто-то палочкой водил по дереву. Я открыл глаза и увидел, что Мушум сидит. Он забыл вынуть зубные протезы, и теперь они болтались во рту. Он стучал зубами, но молча, как иногда делал, когда злился. Наконец оба протеза вывалились, и он обрел речь.
* * *
Ох уж эти первые годы в резервации, когда они нас зажали. На пятачке всего в несколько квадратных миль. Мы голодали, а коровы поселенцев нагуливали жирок на огороженных пастбищах, отрезанных от наших старых охотничьих территорий. В те первые годы наш белый отец с большим брюхом сжирал по десять уток на ужин и не отдавал нам даже утиных лап. Нанапуш видел, что его народ голодает и вымирает, вот тогда-то на его мать напали, назвав ее Виндигу, но мужчины были не в силах ее убить. Где им было! Они гибли. Но кролик позволил ему, вечно голодному, набраться сил, и он решил отправиться на поиски бизонов. Нанапуш взял материн топор и отцовское ружье. Он шагал милю за милей и пел песню про бизонов, хотя ее слова заставляли его лить слезы. Песня разрывала ему сердце. Он вспоминал, что в его детстве бизонов вокруг было не счесть. Однажды, он тогда еще был мальчишкой, охотники спустились к реке. Маленький Нанапуш взобрался на дерево и стал глядеть туда, откуда пришли бизоны. В те времена их стада закрывали всю землю до горизонта. Этим стадам конца не было видно. Он своими глазами видел это величественное зрелище. И куда же они исчезли?
Кое-кто из стариков говорил, что бизоны провалились в дыру в земле. Люди видели, как бизонов отстреливали тысячами из вагона поезда и оставляли их трупы гнить в прерии. В любом случае их истребили. Словом, шел себе Нанапуш, шел, милю за милей, и пел песню про бизонов. И думал: ну должна же быть какая-то причина их пропажи! И наконец он поглядел себе под ноги и увидел следы бизоньих копыт. Он не поверил своим глазам. От голода бывают галлюцинации. Но он шел довольно долго по этим следам, как вдруг и в самом деле увидел бизона. Это была старая бизониха, обезумевшая и дряхлая, каким потом стал и сам Нанапуш, и я сейчас, как и все выжившие после тех страшных лет, последние из нашего народа.
Становилось все холоднее и холоднее. Нанапуш шел вперед по бизоньим следам, а они тянулись по труднопроходимым местам, поросшим густыми кустарниками, где, по мыслям Нанапуша, должна была прятаться бизониха. Но нет. Бизониха внезапно появилась перед ним на плоской равнине, продуваемой убийственно лютым ветром. Нанапуш знал, что в нее надо стрелять без промедления. Он собрал остатки сил, сжал волю в кулак и двинулся следом за бредущим впереди зверем, и идти ему стало легче, даже сквозь порывы ветра и снега.
Нанапуш громко распевал песнь про бизона и упрямо шагал вперед. Наконец сквозь снежную круговерть бизониха услыхала его песнь. Она остановилась и, обернувшись к нему, стала слушать. Теперь их разделяло расстояние в двадцать шагов. Нанапуш заметил, что от зверя осталась только иссохшая кожа, сквозь которую проступали одряхлевшие кости. Тем не менее бизониха была огромная, и в ее коричневых глазах таилась глубокая скорбь, которая потрясла Нанапуша, а его охватило отчаяние.
Старая женщина-бизониха, у меня нет желания убивать тебя, произнес Нанапуш, ибо ты выжила благодаря своей мудрости и отваге, даже при том, что твой народ истреблен. Вероятно, ты сделалась невидимой. Но поскольку ты считаешься единственной надеждой для моего рода, возможно, ты дожидалась меня.
Нанапуш снова спел песню, потому что знал, что бизониха ждала его, чтобы ее услышать. Когда он закончил, бизониха позволила ему точно прицелиться ей в сердце. Старуха рухнула, не сводя с Нанапуша печального взора, и Нанапуш рухнул подле нее без сил. Прошло несколько минут, он поднялся и вонзил ей нож в подбрюшье. Струя дымящейся крови вернула его к жизни, и он, действуя быстро, вырезал у нее внутренности, вычистив грудную клетку. Одновременно он ел куски бизоньего сердца и печени. Но руки у него тряслись, а ноги были как ватные, мысли путались. Потом повалил снег. Свистящим вихрем налетел ветер.
В прериях охотники могут выжить в страшной буре, сделав себе убежище из свежей шкуры, содранной с бизона, но очень опасно прятаться внутри туши животного. Это всем известно. Но будучи не в себе, ослепнув от снегопада, Нанапуш, привлеченный теплом освежеванной туши, заполз внутрь грудной клетки дохлой бизонихи. Пригревшись внутри, он испытал восторг от внезапно обретенного комфорта. Ощущая приятную сытость и тепло, он потерял сознание. И не приходя в сознание, сам обратился в бизониху. Эта бизониха приняла в себя Нанапуша и поведала ему все, что знала.
Конечно, когда буря стихла, Нанапуш очнулся и обнаружил, что примерз к ребрам бизонихи. Заледеневшая кровь зверя накрепко прилепила его к костям. Заползая внутрь дохлой туши, Нанапуш взял с собой ружье и держал его под рукой. И сейчас он прострелил отверстие для воздуха, хотя после оглушительного выстрела его слух еще несколько дней не мог восстановиться. Но ружье больше не могло стрелять. Тогда он сунул ствол в отверстие, дабы уберечь его от обледенения, и стал ждать. А чтобы не терять присутствия духа, он запел.
Когда снежная буря утихла, мать пошла его искать. Она спаслась от голодной смерти, сбив с дерева дикобраза. Она убила его с великой нежностью и спалила его иголки под корень, так что каждая часть звериной тушки пошла ей на пользу. Она отправилась на поиски сына, когда снегопад перестал. Она даже смастерила тобогган и волокла его за собой на тот случай, если сын ранен или, на что она надеялась, если надо будет отвезти подстреленного им зверя. Скоро она заметила впереди косматую темную тушу, полузанесенную снегом. Она побежала, и тобогган мотался из стороны в сторону за ее спиной. И когда Акии добежала до бизоньей туши, ноги у нее подкосились от страха, и она с удивлением услыхала несущуюся из зверя песню, которую ей спели рыбы. Потом она догадалась, в чем дело, и рассмеялась. Она сразу поняла, как ее глупый сын оказался в этой ловушке. И Акии вырубила Нанапуша из бизоньей туши, привязала его к тобоггану и поволокла к лесу. В лесу она сложила из веток шалаш и развела костер, чтобы согреть сына. А потом они много раз возили на тобоггане куски бизоньего мяса, чтобы накормить им своих родных и все племя.
Когда мужчины получили мясо из рук женщины, которую они хотели убить, и защитившего ее сына, они устыдились. Она была к ним щедра, но забрала своих детей и к мужу не вернулась.
Многих людей спасла от голодной смерти старая бизониха, отдавшая себя Нанапушу и его неубиенной матери. Нанапуш сам признавался, что в те многие разы, когда он печалился из-за утрат, перенесенных им в жизни, его старая бабка-бизониха говорила ему слова утешения. Эта бизониха знала, что произошло с матерью Нанапуша. Она предупреждала, что правосудие Виндигу следует применять с великой осторожностью. И что следует выстроить дом, чтобы люди могли совершать правильные поступки. Она много о чем говорила и многому научила Нанапуша, и он на протяжении дальнейшей своей жизни набирался мудрости, при всем своем идиотизме.
* * *
Мушум лег на спину, глубоко вздохнул и начал тихо похрапывать. Я тоже лег на спину и провалился в сон – так же внезапно, как Нанапуш попал внутрь дохлой бизонихи, а когда очнулся, совсем забыл рассказ Мушума – хотя потом вспомнил его днем, когда за мной пришел отец и произнес слово «падаль». Отец был бледен и возбужден. И разговаривая с дядей Эдвардом, радостно объявил:
– Эту падаль оставили в КПЗ.
Вот тут-то мне и вспомнился весь рассказ Мушума от начала и до конца, во всех подробностях, как это бывает во сне, и одновременно я понял, что арестован мамин насильник.
– Кто он? Кто? – приставал я к отцу, когда мы шли домой.
– Скоро узнаешь, – ответил он.
Мама с утра была на ногах. Она хлопотала по дому, чистила, мыла, деловито перемещаясь с муравьиной стремительностью. Потом, выбившись из сил и бросив начатое дело, со вздохами валилась на стул. Потом опять вставала и опять суетилась, бегала взад-вперед, от холодильника к плите, от плиты к морозильному шкафу. Она уже не казалась хрупкой тростинкой. После ее долгой апатии такая бьющая через край энергия немного смущала. Она с места разогналась до ста миль в час, и это казалось чем-то неестественным, хотя отец вроде был доволен и стоял у нее на подхвате, доделывая за ней начатое. На меня они не обращали внимания, и я просто ушел.
Теперь, когда этот гад сидел в камере предварительного заключения и дело завертелось, я ощутил некую легкость. Я снова мог стать тринадцатилетним подростком и наслаждаться летом. И я был рад, что бросил работу на заправке. Я летел на велике, как на крыльях.
Дом Каппи, окруженный массой каких-то недоделанных штуковин, находился в трех милях от городского поля для гольфа. Поле для гольфа вклинивалось на территорию резервации, и это обстоятельство долгое время служило поводом для разногласий между муниципалитетом и советом племени, до разрешения которых было еще далеко. Имел ли совет право отдавать в аренду гольф-клубу землю племени при том, что поле для гольфа было продолжением резервации и приносило львиную долю доходов не-индейцам? А кто бы нес ответственность, если бы гольфиста во время игры ударила молния? Если все подобные вопросы приходилось решать отцу, то я об этом не знал, но у нас считалось само собой разумеющимся, что индейцев следует принимать в гольф-клуб бесплатно, чего, конечно, им не разрешалось. Иногда мы с Каппи подъезжали на великах к полю и искали потерянные в траве мячи, которые намеревались продавать тем же гольфистам. Теперь, правда, когда я предложил Каппи этим заняться, он сказал, что надо придумать что-то другое, но он сам не знал, что именно. И я не знал. Мы поехали к Заку и встретили там Энгуса. Итак, нас было четверо.
На ближайшем к городу берегу озера стояла церковь – или, говоря точнее, церковь загораживала проход к берегу. Церкви принадлежала дорога к пляжу, и ее перегораживали проволочные ворота, запиравшиеся на замок. За воротами виднелись столбики с объявлениями, запрещавшими употреблять алкоголь, нарушать границы владения и много еще чего. На католическом берегу стояла побитая ветрами и дождями статуя Девы Марии в окружении камней. Статуя была вся увешана четками, среди которых были и четки Энгусовой тетушки Стар. Из-за этих самых четок, думаю, мы считали, что имеем полное право там находиться. Ну и, конечно, коль скоро эту землю отдали церкви в разгар наших бедствий, когда Нанапуш убил старую бизониху, мы не только обладали правом пользоваться этой землей, но фактически владели и землей, и церковью на ней, и статуей, и озером, и даже домом отца Трэвиса Возняка. Мы владели кладбищем на холме за домом и чудной дубравой, обступавшей старые надгробия.
И вот однажды, когда мы беззастенчиво вторглись на своих великах на эту территорию, которой то ли владели, то ли нет, и, лихо преодолев проволочные ворота, помчались к пляжу, нам встретилась группа «Молодежь встречает Христа», или МВХ.
Мы заметили их, когда проезжали мимо: ребята сидели по-турецки кружком на дальнем краю скошенного поля. С первого взгляда я сразу заметил, что в группе много ребят из резервации, с кем-то я был знаком, а незнакомые были, наверное, видимо, летними волонтерами из католических школ и колледжей. Мне уже доводилось видеть группы таких волонтеров в ярко-оранжевых футболках с изображением черного сердца Христова на груди. Многие, кто заговаривал с ними, уже были новообращенными католиками, что, вероятно, вызывало у волонтеров разочарование. Как бы там ни было, мы промчались мимо них, бросили велики у причала, а сами прошли через береговые заросли в укромный уголок пляжа, где нам было спокойнее.
– Давайте спрячем штаны, – предложил Энгус, – на тот случай, если кому-то вздумается стащить нашу одежду.
Похитители одежды к нам не наведались, но после того, как мы провели в воде не меньше получаса, плавая нагишом и дурачась, к нам пожаловали два гостя. Один был рослый парень с впалой грудью и немытыми светлыми волосами – на вид старше нас, наверное, студент колледжа, с жуткими прыщами по всему лицу. Другой, вернее, другая была полная ему противоположность. Она была, можно сказать, девушкой вашей мечты. Так мы ее потом прозвали. Девушка-мечта. Карамельная кожа. Нежные большие глаза, бархатно-карие. Прямые длинные каштановые волосы, собранные сзади симпатичной лентой. Шорты. Фигура – все при ней. Груди, слегка выпячивающиеся под уродливой оранжевой футболкой с сердцем Христовым. Я как раз валялся на спине и пялился на небо, когда случилось ее явление. Я перевернулся и тут только увидел, что моих друзей нет. Они ушли поближе к озеру и стояли по пояс в воде, ладонями гоняя вокруг себя волны. Каппи что-то вещал, то и дело приглаживая волосы назад, и я внезапно поймал себя на мысли, что он выглядит куда старше и сильнее, чем Зак, или Энгус, или я. Я зашлепал по воде к ним и встал рядом с друзьями.
– Я еще раз прошу вас уйти, – сказал прыщавый.
– Я еще раз прошу объяснить, почему, – сказал Каппи.
– Еще раз, чтобы быть правильно понятым, – парень из МВХ замолчал и, вытянув указательный палец, ткнул им в небо. Потом весь день Энгус копировал этот жест. – Этот пляж зарезервирован для деятельности, одобренной церковью. Я по-хорошему прошу вас уйти.
– Не-а, – возразил Каппи. – Мы не хотим уходить, – и, сжав под водой кулак, пустил фонтанчик вверх. А сам лениво так покосился на Девушку-Мечту. Она молчала. Но не сводила глаз с Каппи.
– А ты что думаешь? – кивнул он ей. – Ты думаешь, нам стоит уйти?
– Думаю, вам стоит уйти, – внятно произнесла она.
– Ладно, – согласился Каппи. – Раз ты так считаешь, – и вышел из воды на берег.
Я скосил взгляд на Каппи, когда тот шел мимо. Его петушок тяжело болтался у него между ног. И тут раздался крик. Это кричал прыщавый.
– Вернись!
Прыщавый ринулся к Каппи, чтобы уволочь его обратно в воду. Каппи оттолкнул его, а Девушка-Мечта отвернулась и пошла прочь, но оглянулась и долго смотрела на заинтересовавшую ее деталь. Каппи под водой сделал подсечку воину Христову, а когда тот упал, обхватил его как заправский рестлер и стал топить. Он не сильно его топил, не опаснее, чем когда мы дурачились в воде, но прыщавый снова завопил, и Каппи его отпустил.
– Э, брат! – Каппи обхватил его за плечо. Прыщавый блеванул в воду, и мы отошли в сторону. – Извини, брат! – продолжал Каппи. Он протянул руку, чтобы похлопать по оранжевой спине, но тут лицо парня жутко побагровело, и мы услышали, как он скрежещет зубами.
– Да он же псих полный, – сказал Каппи. Тут прыщавый опрокинулся навзничь, бешено затряс телом и головой, и он бы точно утонул на мелководье, если бы мы не схватили его и не выволокли на берег. Мы положили его на землю. У меня одного оказались носки. Я скатал один носок и засунул ему в рот. Мы по очереди держали парня, разговаривали с ним, а сами в это время по-быстрому одевались. Приступ у него прошел, и я вынул носок. Мы отправили Энгуса за отцом Трэвисом.
В отсутствие Энгуса, пока прыщавый медленно приходил в себя, Каппи спросил:
– И что делать теперь? Думай быстро, номер первый!
– Вступить в МВХ, – предложил я.
– Да, – кивнул Зак, – и заняться поисками новых форм жизни. МВХ, примитивный народ с четками.
– Согласен! – заявил Каппи. – Мы примем католичество. Этот парень нас убедил.
– Правильно! – проблеял прыщавый, приоткрыв глаза. Он потерял сознание, и его опять вырвало. Мы положили его на бок, чтобы он не захлебнулся блевотиной, и он закашлялся.
– Мы все поняли, брат, – проговорил Каппи, – ты указал нам путь. С небес на нас упала искра Божия.
– Так и было, – подтвердил я. – Искра Божия.
– Иисус спасает нас, – произнес Зак. И потом повторил эти слова раз десять тихим, но торжественным речитативом, который вроде как окончательно оживил прыщавого – кстати, мы узнали, что его зовут Нил, – который вскочил на ноги и вслед за нами воздел трясущиеся руки к небу, чтобы осязать духа. Так мы, уже полностью одетые, окружив вымокшего до нитки Нила, прошествовали из пролеска вместе со снизошедшим на нас духом и скандировали за Заком: «Святой дух – здесь! Он снизошел на нас здесь! Аллилуйя! Хвалим форму Христа. Хвалим его вос-резервац-кресение. Млеко святой матери! Агнец благий! Святое плодовитое чрево!» Да, Зак был католик еще тот. Отец Трэвис оставил группу в церкви, сославшись на безотлагательный повод, и теперь вместе с Энгусом спешил к нам. Он широко шагал, и его сутана, хлопая, заворачивалась вокруг его сильных бедер. Но он немного опоздал. Его взору предстали мы в окружении оранжевых футболок. Мы обнимались, лили слезы и воздевали вверх руки. И когда Каппи прильнул к нему с криком: «Благодарю, благодарю тебя, Иисусе!» – ему ничего другого не оставалось, как хлопнуть парня по спине так, что тот поперхнулся, и бросить на меня взгляд попавшего в капкан ястреба. Одного этого взгляда мне было довольно, чтобы больше не попадаться на глаза отцу Трэвису. Я отвернулся и чуть не налетел на Девушку-Мечту, которая стояла чуть поодаль, явно размышляя об истине и о Каппи, выходящем из воды. Судя по ее лицу, она думала именно об этих двух вещах. И было видно, что эти две субстанции не противоречат друг другу. Иными словами, она влюбилась.
Звали ее Зелия, и она приехала аж из Хелены, штат Монтана, чтобы обращать в христианство индейцев, которые давным-давно не жили в вигвамах и у многих из них кожа была светлее, чем у нее, и это ее смущало. Зак поинтересовался, чего она не осталась в Монтане обращать в христианство тамошних индейцев.
– Каких индейцев? – не поняла она.
– Ну, из Монтаны, – торопливо заметил Каппи. – Они там уже все мормоны, и свидетели Иеговы, и прочие, эти монтанские индейцы. Никто не хочет иметь с ними дела. Так что ты лучше продолжай действовать здесь. У нас тут полно язычников.
– Да? – сказала Зелия. – Ну, мы вообще-то не мешаем другим миссионерам.
Она была мексиканка, из большой дружной семьи. Ее родные возражали против ее желания стать миссионеркой, пугая всякими опасностями, рассказала Зелия, но в конце концов она поступила по-своему.
– Вообще-то ты ведь тоже индеанка, – сообщил я ей. Она чуть не обиделась. Тогда я пояснил: – Может быть, ты из племени благородных майя.
– А может, из ацтеков, – вмешался Каппи. Этот разговор состоялся уже ближе к вечеру. Мы записались на два последних дня летней программы отца Трэвиса, чтобы иметь возможность видеть Девушку-Мечту. Она и Каппи начали флиртовать друг с другом.
– Да, думаю, ты принадлежишь племени ацтеков, – повторил Каппи, иронически поглядев на нее. – Ты умеешь залезть в грудь к мужчине и вытащить его сердце.
Она отвернулась, но с улыбкой на губах.
Зак вытянул вперед кулак и несколько раз сжал его с громким шипением: «Шшух-шшух!» Но на него никто даже не посмотрел. Мы трое понимали, что надежды у нас нет никакой. Каппи был вне конкуренции. Но все равно нам хотелось быть рядом с ней – в надежде, что однажды она попробует обратить нас в свою веру по-настоящему.
Я пришел домой. Мамина энергия все так же фонтанировала, ну, может, чуть-чуть поубавилась. На лице у нее четко просматривались две цветные полоски. Я понял, что она размазала по щекам румяна. Она принимала таблетки с железом и еще какие-то. В кухонном шкафу стояло штук шесть баночек с таблетками. На ужин она напекла блинчиков с ягодным джемом. Мама с отцом сидели и скептически выслушивали мой рассказ о том, как я вступил в «Молодежь встречает Христа», или МВХ, и что завтра с утра мне надо бежать в церковь.
– Молодежь встречает? – переспросил отец, прищурившись. – Так ты бросил работу у Уайти, чтобы вступить в «Молодежь встречает Христа»?
– Я ушел от Уайти, потому что он поколотил Соню.
Мама нервно дернулась.
– Так, ладно, – поспешно сказал отец. – И с кем вы там встречаетесь?
– Мы разыгрываем разные жизненные ситуации. Например, нам предлагают наркотики. И мы представляем себе, что рядом появляется Иисус и встает между, скажем, Энгусом и дилером. Или между мной и дилером, чтобы предотвратить передачу наркотиков.
– Прекрасно, – сказал отец. – Но, насколько я помню, вы пьете пиво. И что же, Иисус выхватывает у вас из рук пивные банки? Выливает пиво на землю?
– Это мы должны себе представить.
– Интересно, – произнесла мама. Голос у нее был спокойный, ровный, без тени насмешки, но и без притворного воодушевления. Можно было подумать, что она опять стала прежней, если бы не изможденное лицо, костистые локти и тощие ноги. Но я стал замечать, что она все-таки сильно отличается от прежней мамы. От той, кого я считал своей настоящей мамой. Я надеялся, что настоящая вернется в один прекрасный момент, и я наконец получу обратно свою прежнюю маму. Но тут меня кольнула мысль, что, возможно, этого уже никогда и не произойдет. Ларк лишил ее чего-то очень важного – теплого, и этого уже не вернуть. Эту новую незнакомую женщину еще предстояло узнать, а мне уже было тринадцать лет, и времени на это совсем не оставалось.
Второй день в группе «Молодежь встречает Христа» оказался лучше первого. Утром мы получили оранжевые футболки и натянули их прямо поверх одежды, погладив обмотанное терновой веткой сердце Христово над собственными сердцами. Мы отправились к озеру, расположились там на траве и начали петь под фонограмму гимны, которые другие члены группы уже выучили. Нил теперь был нашим закадычным другом. Другие ребята из резервации, очень набожные, чьи родители служили дьяконами или пекли пироги для поминок, уже успели наябедничать Нилу, будто мы четверо – самые отъявленные хулиганы в школе, что было, конечно, неправдой. Они просто старались помочь Нилу обрести чувство своей значимости, потому что с самого начала он признался им в низкой самооценке. К несчастью для нас и наших перспектив обрести длительное спасение, лагерь «Молодежь встречает Христа» работал только две недели. И нас крестили всего за день до конца его миссии. Поэтому мы присутствовали на итоговых занятиях. И раз они подводили итог озарениям, которые посетили их за две недели, мы не могли внести серьезную лепту в общее дело.
Одна девчонка, чью сестру мы знали, Руби Смоук, заявила, что ее родила змея. Я почувствовал, как сидящий рядом со мной Зак затрясся, и сильно ткнул его локтем. Энгус уже понял, как тут положено реагировать, и пробормотал «Хвала тебе!», но Каппи спросил ледяным тоном:
– А что это была за змея?
Отец Трэвис нагнулся и бросил на него косой взгляд.
Руби была крупная деваха с короткими залаченными рыжими прядками и с серьгами-кольцами. На ее лице лежал толстый слой косметики. Ее парень Тост – уже не помню его настоящего имени, да и никто не помнил, – был там же. Тощий, в баскетбольных трусах, сидел, печально ссутулившись. Он бросил на Каппи не то чтобы злобный взгляд и буркнул:
– Не твое дело! Змея и змея.
Каппи развел руками.
– Да я просто спрашиваю, брат! – и опустил взгляд.
– Раз это тебя так интересует, – сказала Руби, – это была исполинская змея, коричневая, с полосками крест-накрест. И у нее были золотые глаза и клинообразная голова, как у гремучей змеи.
– Ямкоголовая гадюка, – заметил я. – Ты родилась от ямкоголовой гадюки.
Выражение лица отца Трэвиса не предвещало ничего хорошего, но лицо Руби засияло от удовольствия.
– Все нормально, отец, – промурлыкала она. – У Джо дядя – учитель естествознания.
– На самом деле, – продолжал я, приободрившись, – мне кажется, ты была рождена копьеголовой гадюкой, которая является самой ядовитой в мире змеей. Если такая змея укусит тебя в палец, придется отрубить всю руку! Только так можно избавиться от ее яда. Либо же ты могла родиться от бушмейстера, что достигает до десяти футов в длину и обычно прячется в зарослях и подстерегает свою добычу. Бушмейстер может завалить корову! Ты и глазом моргнуть не успеешь, как копьеголовая гадюка нанесет свой смертельный укус, потому что она молнией бросается на жертву.
Все с восторгом закивали, глядя на Руби, и кто-то произнес:
– Ай, молодца, Руби!
Она горделиво оглядела присутствующих. И тут заговорил отец Трэвис:
– Иногда все происходит очень быстро, в мгновение ока, вот почему мы в нашей группе и работаем, чтобы подготовить вас к этим молниеносным опасностям. Эти опасности нельзя назвать искушением, конечно, вы просто реагируете в силу инстинкта. А искушение – процесс медленный, и вы ощутите его утром сразу после пробуждения и вечером, когда вы расслаблены, утомлены, но еще не хотите спать. Тогда-то вас и посещает искушение. Вот почему мы изучаем различные стратегии, чтобы чем-то себя занять, молиться. Но быстродействующий яд – это нечто совсем другое. Он поражает мгновенно. Укус искушения может настичь вас в любой момент. Это может быть мысль, настрой, побуждение, догадка, интуитивное желание, которое заводит вас в темные закоулки жизни, о которых вы никогда и не подозревали.
Я сидел ни жив ни мертв: его слова вызвали у меня панику.
Мы все взялись за руки, склонили головы и прочитали «Богородицу» – молитву, которую в нашей резервации знали все: для этого не обязательно было быть католиком, потому что люди постоянно бубнили ее в лавках, в барах и в школьных коридорах. Мы прочитали ее десять раз подряд, упоминая всякий раз и «плод чрева твоего» – словосочетание, которое Зак считал жутко комичным и не мог произнести – из опасения расхохотаться. Вот так прошел практически весь день – в исповедях, напутствиях, слезах и коллективных молитвах. И в неприятных моментах, когда приходилось заглядывать друг другу в глаза. Неприятными такие моменты были потому, что мне нужно было смотреть в глаза Тосту – похожие на две выжженные дыры, совершенно пустые, и вообще они принадлежали парню, так что какой смысл было в них смотреть? Каппи повезло: он глядел в глаза Зелии. Это у них называлось встречей двух душ. Высокодуховное занятие. Правда, Каппи потом сказал, что у него возник такой стояк, какого ни разу в жизни не бывало.
* * *
Фонтан энергии, овладевшей мамой, постепенно иссяк. И она все чаще отдыхала – но на кушетке внизу, а не за закрытой дверью спальни. Когда я пришел домой, отец позвал меня посидеть с ним в саду на старом расшатанном стуле. Вечер был прохладный, и легкий ветерок шуршал листвой клена во дворе. Громадный тополь около гаража беспокойно шумел. Отец склонил голову, стараясь поймать лицом последние лучи заходящего солнца.
Я задал ему вопрос про «проклятого дохляка», и он обдумывал ответ.
– Так кто же он?
Отец помотал головой.
– Дело в том, что… – начал он, аккуратно подбирая слова. – Сначала будет заседание, на котором судья должен решить, можно ли предъявить обвинение. Но даже теперь мы, возможно, пытаемся прыгнуть выше головы. Адвокат защиты уже внес ходатайство о его освобождении под залог. Габир мог бы сказать свое слово, но дела-то нет. Большинство дел об изнасиловании не доходит до прокурора штата, хотя Габир на нашей стороне. Ходят слухи, что защита намерена подать иск против управления по делам индейцев. При том, что мы точно знаем: это сделал он. При том, что все сходится.
– Да кто он? И почему его нельзя просто повесить?
Отец схватился руками за голову, и я извинился.
– Нет, – произнес он задумчиво. – Я бы его повесил. Уж поверь мне. Я представляю себя судьей из старого вестерна, который приговаривает преступника к виселице. Я бы сам с удовольствием привел приговор в исполнение. Но ведь помимо фантазий о ковбойском суде есть еще и традиционное правосудие анишинаабе. Мы должны были бы сесть и совместно решить его судьбу. Однако наша нынешняя система…
– Мама не знает, где это произошло, – заметил я.
Отец наклонил голову.
– Нам не на что опереться. У нас нет ни ясной юрисдикции, ни точного описания места преступления.
Он достал клочок бумаги и, нарисовав на нем кружок, постучал карандашом по кружку. И рядом нарисовал карту местности.
– Вот это круглый дом. Прямо за ним начинается участок Смоукера, который сейчас настолько раздроблен, что никто уже не может им воспользоваться. Дальше идет участок, который был продан, – это частная земля. Круглый дом стоит на дальнем краю земли, находящейся в племенном трасте, и на эту землю распространяется юрисдикция нашего суда, но, разумеется, не на деяния белого человека. В отношении него действует федеральный закон. Вот земля около озера. Она тоже в племенном трасте. Но только с одной стороны. Вот этот угол – земля национального парка, там действует закон штата. С другой стороны пастбища начинается лес – и это продолжение земли, на которой стоит круглый дом.
– Ладно, – сказал я, глядя на рисунок. – Отлично. Почему ей просто не придумать место?
Отец грустно посмотрел на меня. Кожа вокруг его глаз была красно-серого оттенка. А на щеках – вся в складках.
– Я не могу просить ее об этом. Так что проблема остается. Ларк совершил преступление. Но на чьей земле? Это была земля племени? Частная земля? Собственность белых? Штата? Мы не можем предъявить ему обвинение, если нам неизвестно, по какому законодательству проводить суд.
– А если бы это произошло вообще в другом месте?
– Да, но ведь это произошло здесь!
– Так ты это понял сразу же, как мама все рассказала.
– И ты ведь тоже понял, – заметил отец.
* * *
Раз мама нарушила обет молчания в моем присутствии, после чего и завертелись все последующие события, я настоял, чтобы отец рассказал мне все как есть. Что он в какой-то степени и сделал, хотя рассказал явно не все. Например, он ни словом не обмолвился про собак. На следующий день после нашего разговора в резервацию прибыла поисково-спасательная бригада. Из Монтаны, если верить Заку.
Мы бесцельно ездили на великах, наворачивая круги в пыли на территории большого двора возле больницы, перескакивая через кусты люцерны и бальзамина. Была суббота, и Зелия вместе с другими лидерами МВХ отправилась в заключительную поездку на автобусе в Сад мира на семинар руководителей движения. После этого семинара все должны были разъехаться. Семинар длился три дня, и Каппи у нас был Уорфом.
Он бросил мне клингонский вызов: «Хеглу мех куак джаджиам!» – и попытался сделать на велике полный разворот, наглотавшись пыли.
– Хороший день, чтобы погибнуть! – заорал он.
– О да! – крикнул я.
Энгус классно имитировал Дейту.
– Прошу вас, продолжайте подкалывать друг друга! – сказал он. – Это весьма интригует! – И поднял палец вверх.
Тут подкатил Зак и сообщил, что у озера работают поисково-спасательные группы и полиция и что полицейские фургоны привезли на прицепах реквизированные у местных рыбаков моторки. Доехав до озера, мы увидели все своими глазами: служебных собак и кинологов в четырех алюминиевых лодках с маломощными навесными моторами. Собаки были разных пород: золотистый ретривер, коротконогий пес, смахивающий на помесь Перл и шелудивой дворняги Энгуса, лоснящийся черный лабрадор и немецкая овчарка.
– Они ищут затопленный автомобиль, – объяснил Зак. – Во всяком случае, так я слыхал.
Я понял, что ищут машину Майлы. Из маминого рассказа я запомнил, что напавший утопил ее машину в озере. И еще я понял, что ищут труп Майлы. Я не мог даже вообразить, какой груз он привязал к ее телу и как затолкал его в машину. Мне не хотелось думать о таких жутких вещах, но мысли упрямо крутились вокруг них. Мы наблюдали за работой спасателей весь день. Собаки принюхивались к воздуху в разных местах над водой, и кинологи внимательно следили за их движениями. Дело двигалось медленно. Они прочесывали озеро молча, методично, двигаясь по мысленно вычерченному по дну озера маршруту. Они работали до темноты, потом прекратили поиски и разбили палаточный лагерь на берегу.
На следующий день мы прибыли к озеру спозаранку и подошли ближе, чем накануне, и все было видно, как на ладони. Оставив велики на траве, мы подползли к лагерю незамеченными – там царило всеобщее оживление. Люди теперь действовали вполне осознанно, и мы заметили, как два водолаза отплыли в лодке от берега и спустились во впадину перед крутым обрывом. Мы всегда знали про эту впадину. Там был крутой берег, и в том месте, где вода подступала к пляжу, было сразу очень глубоко: мы-то всегда считали, что там глубина футов сто, а теперь оказалось – двадцать. Над впадиной нависал утес, на котором мы сейчас и расположились и откуда весь день потом наблюдали за спасателями. Мы проголодались и хотели пить, и уже договорились улизнуть, как вдруг на дороге со стороны города загромыхал тягач. Он максимально близко подобрался задом к озеру, спасатели размахивали руками и давали инструкции водителю тягача. Мы прятались в кустах и оттуда увидели, как тягач выволок из озера темно-бордовую «шевроле нова», облепленную водорослями и истекающую водой. Мы, конечно, ожидали увидеть труп, и Энгус шепотом предупредил, чтобы мы приготовились к ужасающему зрелищу. Потому что, когда утонул его дядя, он видел его труп. Мы во все глаза таращились сквозь траву, и с того места, где мы заняли позицию, идеально просматривался салон машины. Мы видели, как стекают мутные потоки воды. Все окна были опущены. Потом открыли все дверцы. И я подумал сначала, что внутри никого и ничего нет, но одна вещь там все-таки была.
Эта вещь заставила меня вздрогнуть. Сначала я ощутил покалывание, точно иголки вонзились в кожу, а потом эти иголки проникали в меня все глубже и глубже, и я ощущал их весь день, весь вечер, а потом и всю ночь, засыпая и мгновенно просыпаясь, когда эта вещь снова возникала перед моим взором.
На задней панели машины, под задним стеклом была целая выставка детских игрушек – пластмассовых и мягких, вроде бы там был плюшевый мишка, и все эти игрушки от воды слиплись, так что их невозможно было различить, кроме куска ткани в сине-белую клетку – точно такое же, как платьице утопленницы-куклы, набитой деньгами.
Глава 9
Большое прощание
Мушум родился через девять месяцев после большого сбора ягод – счастливой поры, когда все семьи собираются вместе и разбивают лагерь в лесу. Я пошел за ягодами с отцом, любил повторять Мушум, а вернулся уже с матерью. Он считал эту фразу очень смешной и всегда поминал свое зачатие, а не рождение, поскольку давно убедил себя в том, что он появился на свет в Батоше во время осады 1885 года, в чем мой отец сильно сомневался. Но что правда, то правда: Мушум был еще ребенком, когда его семья после поимки и повешения Луи Риэля бросила свою удобную хижину, землю, амбар и колодец и бежала из Батоша. Они перешли через границу и оказались в США, где их встретили отнюдь не с распростертыми объятьями. И тем не менее их приняли, в основном благодаря невероятному великодушию вождя, который заявил американским властям, что пускай они отвергли своих детей-полукровок и не дали им земли, но индейцы Соединенных Штатов примут сих заблудших в свои сердца. Щедрым аборигенам еще предстояло пережить из-за них немало тягот, в то время как пришлые метисы, умевшие обрабатывать землю и разводить живность, справлялись с этими тяготами куда лучше и постепенно начали осваиваться на новом месте и даже смотреть свысока на тех, кто их некогда спас. Но Мушум на протяжении своей жизни постепенно забывал свои метисские манеры. И первым делом он отказался от католичества, потом заговорил на чистом наречии чиппева, не смешанным с французским, и даже справил себе сногсшибательный наряд для ритуальных танцев, хотя он по старой памяти еще любил отплясывать джигу и попивать виски. Он, как говорили в те времена, вернулся к одеялу. Не то что бы он носил одеяло. Но иногда, перекинув одеяло через плечо, отправлялся на индейские церемонии в лес. Он задружился со всеми смутьянами, задававшими шороху в округе, как и с теми, кто отчаянно боролся за право владеть землей резервации, которая вдруг начала уходить из-под их ног – по прихоти правительства да по результатам переписи индейского населения, и еще по какому-то «землеотводу». Многие агенты по переписи сколотили в те годы состояния на ворованных продуктовых карточках, и многие индейские семьи остались ни с чем и умерли голодной смертью, так и не получив обещанного.
– А нынче, – заявил Мушум, когда мы все собрались за столом отметить его день рождения, – еды у нас вдоволь. Сколько хочешь еды! А сколько растолстевших индейцев! В годы моей юности нельзя было встретить ни одного толстого индейца!
Бабушка Игнасия сидела с ним рядом под сенью старомодной беседки, которую дядя Эдвард и дядя Уайти смастерили специально для вечеринки по случаю дня рождения Мушума. Они поставили во дворе столбы и сделали из свежесрезанных веток тополя тенистую крышу. Причем листва все еще оставалась живой и зеленой. Старики восседали на пластиковых складных креслах и пили горячий чай, хотя день стоял жаркий. Тетя Клеменс попросила меня сесть рядом с Мушумом: за ним надо было присматривать и следить, чтобы на жаре его не разморило. Бабушка Игнасия укоризненно покачала головой, услышав реплику про растолстевших индейцев.
– Однажды толстый индеец был у меня мужем, – сообщила она Мушуму. – У него был крупный длинный петух, да вот его голова не поднималась выше его брюха. Ну и я, само собой, не шибко любила подползать под него, боялась, что он меня раздавит.
– Миигвайак! Само собой! – заметил Мушум. – И что же ты делала?
– Я, естественно, сама скакала на нем верхом. Но это брюхо! Ох! Оно выросло как гора, и я из-за него ничего не видела. Приходилось кричать ему: «Эй, ты еще там? Крикни мне!» Как у многих толстых индейцев, у него был тощий зад. Но доложу я вам, эти его задние щеки были такие мускулистые! Он крутил меня, как акробатку в цирке. И мне это нравилось, очень! Да, славные были времена.
– Да уж! – печально отозвался Мушум.
– Но, к несчастью, это длилось недолго, – продолжала бабушка Игнасия. – Однажды мы сильно расшалились, а он и помер. Иногда он утомлялся, само собой, с его-то весом, и я просто так скакала у него на брюхе. Ну, а тогда его петух стоял с гордо поднятой головой, твердый, как стальной клинок. И я подумала, что он просто уснул. Лежит и ни гу-гу. «Крикни мне!», – говорю я. А он молчит. Ну вот, думаю, странно это как-то, что мы тут этим делом заняты, а он себе спит. Ну, думаю, знать, ему такой интересный сон приснился, что он не хочет просыпаться. И я не переставала скакать, и уже несколько раз кончила, а он все лежит без движения. Наконец, я с него скатилась. Смотрю на него: вот те на! Еще стоит! Тогда ползу к его противоположному концу. И сразу понимаю, в чем дело: он не дышит. Я похлопала его по лицу. Без толку. Он мертвый, мой миленький толстенький муженек. Я целый год оплакивала этого мужчину.
– Да уж, – вздохнул Мушум. – Счастливая смерть. Могучий любовник был у тебя, Игнасия, раз он удовлетворял тебя даже после смерти. Хотел бы я так умереть, но кто же даст мне такой шанс?
– У тебя еще встает? – спросила Игнасия.
– Сам нет, – ответил Мушум.
– О! – осклабилась Игнасия. – После ста лет активного употребления это было бы чудом! Тебе надо молиться! – и она хрипло захохотала.
Слабые плечи Мушума затряслись.
– Молиться о стояке? Это мысль! Может, мне стоит помолиться святому Иосифу? Он же был плотник и имел дело с деревом.
– Монахини никогда не упоминали ангела-хранителя мужского члена!
– Я прочту молитву святому Иуде, покровителю безнадежных дел.
– А я помолюсь святому Антонию, покровителю утрат. Ты такой старый, что, верно, уже не можешь найти своего облезлого петуха в штанах, которые Клеменс надела на тебя сегодня.
– Да, вот эти штаны. Хороший материал.
– Был у меня муж, – продолжала бабушка Игнасия, – с малюсеньким петушком. У него как-то были штаны вроде твоих. Отличного качества. Он занимался сексом как кролик. Быстро-быстро – сунул-вынул, но зато мог так делать часами подряд. Я просто лежала и думала о своем. Отдыхала. Ничего не чувствовала. И вдруг как-то раз что-то случилось. Я закричала: «О-о-о! Что с тобой произошло? Он вырос?»
– Да, я его поливал, – ответил он между своими сунул-вынул, – и удобрял.
– Не может быть! – кричу я еще громче. – И чем же ты пользовался?
– Да шучу я, женщина! Он стал больше, потому что я облепил его речной глиной.
– Врешь!
И вдруг я опять перестала что-либо чувствовать.
– Все отвалилось, – объяснил он.
– Весь виинаг?
– Да нет, только глина.
Он был очень расстроен.
– Любовь моя, – сказал он. – Мне хотелось, чтобы ты визжала, как рысь, я готов жизнь отдать, лишь бы ты была счастлива.
– Ладно, – сказала я ему. – Я тебе покажу, как это можно сделать по-другому.
И показала ему пару приемов, и он их так хорошо запомнил, что я издавала звуки, каких он в жизни не слыхивал. Однажды, правда, в изножье кровати мы повесили на крюк фонарь, который вовсю раскачивался. И вот он скачет на мне кроликом, а фонарь возьми и упади с крюка прямо ему на задницу. Я потом слышала, как он друзьям про это рассказывал. Они посмеялись, конечно, а он и говорит: «Мне еще повезло! А представьте, если бы я проделывал те штучки, которым меня моя старушка научила, ну те, что доставляют ей удовольствие, и этот фонарь шарахнул бы меня по затылку!»
– Уа-ха-ха! – Мушум прыснул с полным ртом чаю, и брызги полетели во все стороны. Я дал ему салфетку, потому что тетя Клеменс еще наказала мне следить, чтобы он не замызгал едой волосы, потому что он, вопреки ее возражениям, носил прическу на свой лад: длинные сальные пряди свисали ему на обе щеки.
– Жаль, мы с тобой не попробовали, на что способны, когда были молодые, – заметила бабушка Игнасия. – На мой вкус, ты сейчас усох и сморщился, но насколько я помню, когда-то ты был очень даже симпатичный.
– Это правда, был! – подтвердил Мушум.
Я успел отереть салфеткой струйки чая, стекавшие по его шее, пока они не запачкали накрахмаленный белый воротник его рубашки.
– Я многих девчонок свел с ума, – продолжал вспоминать Мушум, – но при жизни моей дорогой жены я исполнял свой долг католика.
– Это было нетрудно! – фыркнула бабушка Игнасия. – Ты был ей верен или нет?
– Я был уверен, – сказал Мушум. – Но не до конца.
– До какого еще конца? – язвительно спросила бабушка Игнасия. Она безоговорочно оправдывала внебрачные женские радости, но категорически осуждала мужские. – Погоди, мой старый друг, и как я могла забыть? До своего конца… Очень смешно!
– Анишааиндинаа, да, конечно, она всегда была готова принять твой конец, эта Лулу. Она ведь родила тебе сына.
Я от удивления даже подпрыгнул, но никто этого не заметил. Выходит, все знали, что у меня есть дядька, о котором я понятия не имел? И кто же этот сын Мушума? Вопрос так и вертелся у меня на языке. Я оглядел сидящих за столом: большинство из них были Ламартины и Моррисси, и тут бабушка Игнасия назвала его имя!
– Этот Элвин многого добился.
Элвин! Друг дяди Уайти! Элвин всегда казался мне членом семьи. Так-так. Когда я рассказываю эту историю белым, они удивляются, а когда рассказываю индейцам, у них наготове всегда есть подобная же. Они тоже обычно узнавали о неизвестном родиче, когда начинали крутить с ним – или с ней – роман. Во всяком случае, они начинали узнавать подробности о своей семье в подростковом возрасте. Может, это происходило оттого, что никому в голову не приходило объяснить им очевидное, что всегда было перед глазами, а может я по малости просто не слушал разговоров взрослых. Как бы там ни было, я вдруг понял, что Энгус мне вроде как двоюродный брат, что тетя Стар – член семьи Моррисси, а ее сестра, мать Энгуса, была когда-то замужем за младшим братом Элвина Вэнсом, но коль скоро у Вэнса и Элвина были разные отцы, их родственные узы были не слишком крепкими. Слыхал ли я когда-нибудь, как называется такого рода двоюродный брат, думал я, сидя там, или мне стоит спросить у Мушума или бабушки Игнасии?
– Извините, – подал я голос.
– Да, мальчик мой? Ишь, какой вежливый! – Бабушка Игнасия только сейчас заметила, что я сижу рядом, и уставилась на меня своими пронзительными, как у вороны, глазами.
– Если Элвин мой сводный дядя, а сестра Стар была замужем за Вэнсом, и у них родился Энгус, кем мне тогда приходится Энгус?
– Бракоспособным, – прикрикнула бабушка Игнасия. – Анишааиндинаа. Да шучу я, малыш. Ты бы мог вступить в брак с сестрой Энгуса. Но ты задал хороший вопрос.
– Он твой четвероюродный брат, – твердо заявил Мушум. – Он тебе не так близок, как двоюродный брат, но ближе, чем просто друг. Ты должен его защищать, но не отдавать за него жисть!
Так он и сказал: «жисть». Сейчас многие из нас говорят без провинциального прононса, если только с детства не говорили на языке чиппева, но иногда этот говорок проскальзывает. Отец, например, считал, что как судья он должен изъясняться на правильном английском, четко выговаривая все буквы. А мама так не считала. Что касается меня, я научился по-настоящему правильной речи только в колледже, где избавился от говора резервации. Как и масса других индейцев. Как-то я написал дурацкое стихотворение про индейский говор, которое осталось дома и разлетелось по всей резервации, и его прочитала одна моя подружка. Она сочла, что в этом что-то есть и, поскольку специализировалась в области лингвистики, написала на эту тему доклад. Спустя несколько лет после этого я на ней женился, мы вернулись в резервацию, и я с удивлением заметил, что стоило нам пересечь невидимую границу территории, как мы позабыли наш культурный английский и к нам снова вернулся старый индейский говорок. Но даже хотя она писала диплом по лингвистике, она не знала, каким словом обозначается степень родства Энгуса ко мне. Я полагал, что Мушум очень удачно это сформулировал: что я должен защищать Энгуса, но в разумных пределах. Я не обязан был отдавать за него свою жизнь. Мне сразу полегчало.
На день рождения пришли еще гости, точнее сказать, их была целая толпа, и все обступили Мушума, и с этого момента присутствующие только и смотрели на него, восседающего под зелеными ветками. Те, у кого были фотоаппараты, позировали с ним, и мама с тетей Клеменс тоже позировали, усевшись по обеим сторонам от Мушума и приложив головы к его голове. Потом тетя Клеменс побежала в дом, и наступила тишина, которую нарушали только возгласы маленьких детей, отодвинутых к дальнему краю стола: «Торт! Торт!»
Тетя Клеменс и дядя Эдвард возились со своими фотоаппаратами, поэтому мне и моим кузену и кузине Джозефу и Иви пришлось выкатывать чудо-десерт. Тетя Клеменс испекла исполинский многослойный торт, облитый сахарной глазурью с виски – любимый торт Мушума, – и она водрузила его на постамент из прессованного картона, обернутого фольгой. Торт получился размером с письменный стол, с аккуратно выведенным сверху именем Мушума и украшенный сотней зажженных свечей. Их пламя ярко освещало все вокруг, когда мои кузен с кузиной важно вынесли его из дома. Гости сгрудились вокруг торта. Я проскользнул к столу вовремя, когда торт оказался перед Мушумом. Торт был великолепен. Бабушка Игнасия смотрела на него с завистью. Крошечные язычки пламени свечек отражалась в тусклых стариковских глазах Мушума, все запели «С днем рожденья тебя!» на языке оджибве и по-английски, а потом затянули старую метисскую мелодию. Догорая, свечки вспыхивали ярче, воск стекал на глазурь, пока они не превращались в огарочки.
– Задувай! Загадай желание! – закричали все, но Мушум казался завороженным мерцающим пламенем. Бабушка Игнасия нагнулась к нему и заговорила прямо ему в ухо. Он кивнул и наклонился над тортом, но в этот момент в беседку ворвался невесть откуда взявшийся порыв ветра. Думаете, этот порыв загасил свечи? Ничего подобного. Наоборот, ветер только раздул крошечные огоньки, и когда это произошло, сотня язычков пламени слились воедино, вспыхнул костер, перекинувшийся на смесь расплавленного воска и сахарно-алкогольной глазури. Торт загорелся с легким вздохом, длинные языки пламени взметнулись вверх и вцепились в сальные пряди волос Мушума, застывшего над тортом с вытянутыми губами. У меня до сих пор в памяти стоит эта картина: объятая огнем голова Мушума. И только его сияющие восторгом глаза и счастливая улыбка, казалось, возвещали: горю! Мой дедушка и торт могли сгореть прямо на наших глазах, если бы дяде Эдварду не хватило хладнокровия и присутствия духа вылить полный кувшин лимонада Мушуму на голову. По счастливому стечению обстоятельств, Джозеф и Ивилина крепко держались за картонный постамент торта и тут же откатили пылающий торт на асфальтовую дорожку перед домом, где пламя, насытившись пропитанной спиртом глазурью, быстро потухло. Дядя Эдвард, невозмутимо срезавший длинным хлебным ножом обгоревшую глазурь, снова стал героем дня. Он объявил, что спасенная часть торта вполне съедобна, более того, фламбирование даже пошло ему на пользу. Кто-то принес несколько коробок мороженого, и семейная трапеза возобновилась. Меня попросили отвести Мушума в дом, чтобы он мог там передохнуть после потрясения. И тут тетя Клеменс попыталась отрезать ножницами его опаленные пряди.
Огонь не тронул кожу ни на лице, ни на голове Мушума, но сам факт, что он оказался объят пламенем, привел его в сильное возбуждение. Он занервничал и потребовал, чтобы Клеменс отрезала только безнадежно почерневшие и обожженные пряди.
– Хорошо-хорошо, папа, я постараюсь. Но эти волосы воняют паленым!
Наконец ей это надоело.
– Вот что, Джо, посиди-ка с ним.
Старик лежал на диване: голова на подушке, под шерстяным пледом – груда костей и рот до ушей. В суматохе его белозубые протезы упали с десен, и мне пришлось принести чашку с водой, куда он их опустил. К несчастью, я схватил одну из пластиковых чашек, из которых ребятня за столом пила мятный лимонад. И стоило мне отвернуться, как в комнату вбежал мальчуган лет четырех, слямзил чашку с протезами и помчался на улицу, на бегу отхлебывая воду. Видно, он подражал старшим детям, и, наверное, когда попросил маму добавить ему мятного лимонада, она и не заметила, что лежит на дне чашки. Но я сидел возле Мушума, не думая об этих застольных драмах. Мои двоюродные братья и сестры были старше меня, и они суетились, выполняя поручения своей матери. Мои друзья обещали забежать, но еще не появились. А празднество продолжалось, и конца ему не было видно. Потом начнутся танцы, кто-то запиликает на скрипке, кто-то на электрогитаре, кто-то сядет за пианолу, поднесут еще угощений. Мои друзья, наверное, дожидались момента, когда появится оленина с гриля, которую приготовит Элвин, или еда, которую принесут их матери. Всякий раз, когда в резервации закатывали подобные пиры, они обретали собственный распорядок. У нас был обычай приходить в гости без приглашения, и всякое застолье имело на этот счет свои порядки – как для гостей, так и для тех, кто заявлялся пьяным или слишком шумел. Но от всего этого Мушум, лежа на диване в гостиной, был в тот день избавлен. Он заслужил право на краткий сон. Я сидел рядом, и он мирно захрапел. Но стоило в комнату войти Соне, как он мигом пробудился, точно солдат по тревоге. Ее наряд, вероятно, проник в его сон. Да и я глаза вытаращил. На ней была отделанная тонкой бахромой замшевая блузка, которая облегала ее груди, как непрощенный грех. Ну и джинсы, в которых ее ноги казались длиннее и стройнее. И новенькие ковбойские сапожки на каблуках, отороченные саламандровой кожей. И опять те самые сережки в ушах! Они переливались на свету. Я увернулся, когда она попыталась чмокнуть меня в темя, и сдвинулся на край стула, чтобы и она могла присесть, но не ушел, а остался, сложив руки на коленях и свирепо глядя на нее. Я знал, что ее блузка куплена на деньги из моей куклы, и выглядела она дорого. Соня опять потратила кучу моих денег. А эти сапожки! Кто же их не заметит!
Соня наклонилась к Мушуму. Они беседовали дразняще тихими голосами, и она качала головой и смеялась. Старик улыбался ей беззубым ртом и смотрел на нее умоляющим взглядом, в котором прочитывалась обожание. Она приблизила губы к его лицу и поцеловала в щеку, потом взяла за руку, еще немного поболтала с ним. Оба смеялись без остановки как дураки, пока мне не стало противно, и я убежал на воздух.
Мои родители сидели вместе с другими взрослыми в беседке, и мама, хотя говорила сама мало, кивала, слушая отца. Оркестранты начали расставлять инструменты у склада садового инвентаря. А за складом дядя Уайти и прочие выпивохи уселись на земле и пустили бутылку по кругу. Уайти сегодня пребывал в мрачном настроении и молча глазел на гостей за столом, стараясь следить и за происходящим там, и за движением бутылки, и бурчал себе под нос злобные умозаключения, которые, к счастью, были совершенно бессвязными. Я заметил Доу Лафурнэ и Каппину тетю Джози. Еще тут были тетя Стар и мать Зака, а с ней младшие братишка и сестренка Зака. Но ни Зак, ни Энгус, ни Каппи еще не подъехали. Мне не хотелось спрашивать, куда они запропастились – а вдруг у них была какая-то задумка, поэтому я тихо выкатил велосипед из-за гаража и умчался. Я почти не сомневался, что отсутствие Каппи как-то связано с Зелией – и точно: когда я подъехал к церкви, мне навстречу попались Зак и Энгус, которые медленно, зигзагами съезжали с холма. Но Каппи с ними не было.
Он остался дома, объяснил Зак. Они договорились встретиться на кладбище, когда стемнеет. Мы трое никак не могли смириться с гнетущим подозрением насчет тех двоих, хотя сами распростились с мечтой о Зелии в первый же день знакомства. И мы поехали обратно на праздник, а там уже танцоры лихо отплясывали джигу на траве, и бабушка Игнасия выдавала свои фирменные коленца. Мы наелись до отвала, потом втихаря стащили несколько бутылок пива и опорожнили их в пустые банки из-под лимонада. Мы попивали пивко, слушали оркестр и глазели, как дядя Уайти в танце прижимает к себе Соню, а потом стемнело. Отец сказал, что мне пора возвращаться домой, и я не стал спорить. Въехав во двор, я привел к себе в комнату Перл и уже засыпал, когда услышал, как вернулись родители. Тихо переговариваясь, они поднялись по лестнице наверх, а потом вошли оба в свою спальню, как бывало раньше. Они закрыли за собой дверь, и, услышав знакомый щелчок замка, я понял, что все в порядке.
* * *
Вот если бы все так и оставалось – как раньше – и напавший на маму умер бы за решеткой! Вот если бы он покончил с собой. Но я не мог жить с этим «если бы».
– Мне надо знать точно, – сказал я отцу на следующее утро. – Ты должен сказать мне, кто этот «дохляк».
– Скажу, когда смогу, Джо.
– А мама знает, что он может выйти на свободу?
Отец приложил палец к губам.
– Вообще-то нет. Да! Но мы с ней об этом не говорили. Из-за этого она может опять вернуться к прежнему состоянию, – поспешно добавил он. Его лицо исказила гримаса, и он дотронулся пальцами до лица, словно хотел стереть эту гримасу.
– Я присмотрю за ней, а ты следи за ним.
Отец кивнул. Помолчав, он встал и, тяжело ступая, двинулся к своему письменному столу. Пока он рылся в кармане в поисках ключа, я смотрел на его беззащитную коричневую лысину в обрамлении седого полумесяца волос. С недавних пор он стал запирать один ящик, но теперь отпер его и вынул из него папку. Он открыл папку, шагнул ко мне и, достав из папки сделанный в полицейском участке снимок, вручил мне.
– Мама еще не знает, стоит ли рассказывать кому-то, – произнес он. – Так она решила. Поэтому и ты никому не говори.
Симпатичный мужчина, не красавец, крепкий, с бледным лицом и черными блестящими глазами, зрачки большие, так что белков не видно, – два живых сгустка ярости. Рот полуоткрыт, два ряда безупречно белых зубов, красные ниточки губ. Это был мой клиент. Тот, кому я залил полный бак бензина накануне своего последнего дня работы на заправке.
– Я его знаю, – сказал я. – Это Линден Ларк. Он приезжал на бензозаправку Уайти.
Отец не смотрел на меня, но его челюсть напряглась, и губы сжались.
– Когда?
– Наверное, незадолго до того, как его взяли.
Отец забрал фотографию и сунул ее в папку. Я видел, что одно только прикосновение к фотографии жгло его ладонь – такую болезнетворную энергию излучало это изображение. Он швырнул папку в ящик и застыл, глядя на разбросанные по столу бумаги. Потом приложил к сердцу сжатый кулак, расправил пальцы и затеребил пуговку рубашки.
– На заправке Уайти…
Я слышал, как мама возится в огороде. Она забивала в землю тонкие колышки рядом с кустами помидоров на грядке. Потом она будет рвать старые тряпки на узкие тесемки и привязывать ими колкие душистые стебли к колышкам, чтобы разрастающиеся побеги могли по ним взбираться вверх. На кустах уже появились ядовито-желтоватые звездчатые листочки.
– Он изучил законодательство, – тихо сказал отец. – И знает, что мы не можем его задерживать. Надеется избежать наказания. Как его дядька.
– Ты о чем?
– О линчевании. Ты знаешь.
– Это же давно было, пап.
– Двоюродный дядька Ларка был в группе линчевателей. Вот откуда, думаю, эта ненависть.
– Интересно, а ему вообще известно, что у нас об этом еще помнят? – спросил я.
– Мы поименно знаем всех, кого повесили. Мы поименно знаем всех, кто вешал. Нам даже известно, что мужчины, которых линчевали, не были повинны в преступлениях, в которых их обвиняли. Местный историк раскопал в архиве документы и доказал это.
Мама уже собирала инструменты. Они звенели у нее в ведре. Потом подсоединила шланг к крану и стала поливать огород и цветы. Струя воды мягко шуршала, двигаясь справа налево и обратно.
– Все равно он от нас не уйдет, – заметил я. – Правда, пап?
Но отец неподвижно уставился на письменный стол, словно сквозь его дубовую столешницу и обложку папки мог видеть ту фотографию, и не только ее, а еще и другие фотографии или отчет о давней зверской расправе, которая все еще бередила души.
* * *
После смерти матери Линдену Ларку достался ее фермерский дом на окраине Хупдэнса. Он время от времени жил в этом старом двухэтажном коттедже, некогда окруженном цветочными клумбами и огородными грядками. Теперь-то, конечно, участок зарос травой, и к тому же его опоясали желтой полицейской лентой. Полицейские с собаками несколько раз прочесали дом и участок, поля и леса вокруг фермы – и ничего не обнаружили.
– Майлу не нашли, – сделал я вывод.
Мы с отцом беседовали вечером того же дня. В доме было тихо. Я вел свою игру. Вернувшись, он на этот раз все мне рассказал. Губернатор Южной Дакоты, который хотел взять приемную дочку, уверял, что действовал через социальную службу Рэпид-Сити, – и это подтвердилось. Тамошние чиновники показали, что месяц назад или около того кто-то, вроде бы мужчина, оставил спящую малышку в детском кресле в машине около мебельного отдела гипермаркета «Гудвилл». К одежде подкидыша была прикреплена булавкой записка, сообщавшая, что ее родители погибли.
– Это ребенок Майлы?
Отец кивнул.
– Маме показали ее фотографию. Она опознала ребенка.
– А где мама сейчас?
Отец удивленно поднял брови.
– Я ее высадил у работы.
Через несколько дней после того, как мама опознала ребенка, она снова вышла на работу. В ее офисе скопилась гора документов: заявления об установлении кровного родства с членами племени, запросы от жаждущих узнать происхождение своих бабушек, в частности, не являются ли те потомками индейских вождей, ходатайства от взрослых, покинувших резервацию в детстве и взятых в приемные семьи и отторгнутых от своих племен, то есть по сути похищенных у родителей работниками государственной социальной службы, а еще было немало просьб от тех, чьи родители отказались от своих индейских предков, но чьи дети желали восстановить утраченные связи с племенем, для чего собирались провести отпуск в резервации и поискать здесь свои родовые корни. Дел у нее было по горло. Это не считая толп лоботрясов, привлеченных соблазном шальных выигрышей в нашем казино. Пока Ларк сидел в КПЗ и пока малышке ничто не угрожало, мама могла спокойно работать. Прошло несколько дней нормальной жизни – ну, скажем так, нормальной до поры до времени. Как мы слышали, девочка сейчас находилась у бабушки с дедушкой – Джорджа и Авроры Вулфскин. Ее отдали им на попечение насовсем или по крайней мере до возвращения Майлы. Возможного возвращения. Но на четвертый день мама сообщила отцу, что хочет поговорить с Габиром Олсоном и специальным агентом Бьерке, потому что теперь, когда малышка вне опасности, она вдруг вспомнила, где лежит та папка.
– Хорошо, – сказал отец. – Где?
– Там, где я ее оставила, – в машине под передним сиденьем.
Отец вышел и скоро вернулся с тонкой папкой в картонной обложке.
Они снова уехали в Бисмарк, а я остался у тети Клеменс и дяди Эдварда. Все украшения ко дню рождения Мушума уже сняли. Алюминиевые банки сплющили. Листья на ветках беседки высохли. В доме тети Клеменс и дяди Эдварда вновь воцарились тишина и покой, но дух веселья никуда не исчез, потому что к ним продолжали приходить люди и поздравлять Мушума. Не только их родственники и друзья, но вообще все, кто знал старика, а еще студенты и преподаватели местного колледжа. Многие приносили с собой магнитофоны и записывали его воспоминания о старых деньках или просили поговорить на метисском наречии, на оджибве, на кри или на всех трех языках одновременно. Но им он рассказывал немного. Его самые интересные истории звучали по ночам. Я спал рядом с ним в комнате Иви. В час или два ночи я просыпался и слушал его рассказы.
Круглый дом
…Когда Нанапушу приказали убить мать, его сердце разломилось пополам. И этот разлом оказался столь глубоким, что дна его не было видно. На одной стороне разлома осталась лежать скомканная и отброшенная любовь к отцу и вера в правильность его поступков. И не только эта вера, но и другие. Это правда, что бывают Виндигу – люди, утратившие человеческую способность испытывать чувство стыда в голодную пору и возжелавшие утолить голод плотью себе подобных. Но людей ведь могли и ложно обвинить в этом. Изгнать Виндигу было просто: съесть большое количество горячего супа. Но никто не пытался дать Акии супа. Никто не посоветовался с мудрыми стариками. И вот люди, которых он любил, включая его дядьев, просто-напросто отвернулись от его матери, поэтому Нанапуш больше не мог верить ни им, ни их словам и поступкам. Но на другой стороне этого разлома остался Нанапуш и его юные братья и сестры, оплакивавшие свою мать. И еще дух старой бизонихи, которая дала ему укрытие в снежную бурю. А еще старая бизониха поделилась с Нанапушем своей мудростью. Она поведала ему, что он выжил потому, что действовал вопреки общему мнению. Где люди отрекались, он спасал. Где люди проявляли жестокость, он проявлял доброту. Где они предавали, он сохранял верность. И тогда Нанапуш решил, что в любом деле будет действовать непредсказуемо. И коль скоро он полностью утратил доверие к вождям, то решил держаться в стороне от всех и думать своей головой и даже делать самые смешные вещи, какие придут ему на ум.
«Ты можешь так поступать, – сказала ему старая бизониха, – и ты можешь превратиться в шута, но со временем люди признают твою мудрость. И потянутся к тебе».
Но Нанапуш не хотел, чтобы люди к нему тянулись.
«Нет, это невозможно, – возразила старая бизониха, – но я могу кое-что дать тебе, что поможет тебе, – загляни в свою душу, и ты увидишь, о чем я думаю».
Нанапуш заглянул себе в душу и увидел постройку. Он даже увидел план этой постройки. Это был круглый дом.
Вот что дальше сказала ему старая бизониха:
– Когда-то твой народ объединился благодаря нам, бизонам. Вы научились охотиться на нас и выживать благодаря нам. Ваши кланы дали вам законы. У вас было много правил, по которым вы жили. Правила, которые уважали нас и заставляли вас работать совместно. А теперь мы вымерли, но коль скоро ты нашел убежище в моем теле, теперь ты все поймешь. Этот круглый дом будет моим телом, его столбы – моими ребрами, его огонь – моим сердцем. Он будет телом твоей матери, и его надо столь же уважать. И как мать беспокоится о жизни своего ребенка, так и твой народ будет беспокоиться о своих детях.
– Вот с чего все началось, – произнес Мушум. – Я был молод, когда люди, следуя указаниям Нанапуша, построили круглый дом.
* * *
Я сел и поглядел на Мушума, но тот уже отвернулся и захрапел. А я лежал, глядя в потолок, и думал про ритуальную постройку на холме, про священный ветер в траве и про то, как этот круглый дом позвал меня. И я смог разглядеть частицу чего-то большего, идею, истину – но лишь ее малую толику. Я не смог увидеть все целиком – лишь тень нашего прошлого образа жизни.
Я пробыл у тети Клеменс и дяди Эдварда дня три-четыре, и они уехали в Майнот за новым морозильным шкафом. Отправились в путь они очень рано, я еще спал. Мушум, как обычно, встал в шесть. Выпил кофе, съел приготовленный тетей Клеменс завтрак – яичницу, тосты и картофельное пюре с маслом, даже мою порцию. Спустившись на кухню, я отрезал себе кусок холодного мяса, которое она оставила нам на обед, вложил его между двух ломтей белого хлеба, намазал кетчупом. А потом спросил у дедушки, чем бы он хотел заняться днем. Мой вопрос его озадачил.
– Ну, ты займись чем хочешь, – он махнул рукой. – А обо мне не волнуйся.
– Тетя Клеменс попросила меня побыть с тобой.
– А-а, она относится ко мне, как к грудному младенцу. Иди! Веселись!
Потом Мушум проковылял к старенькому комоду Иви и стал рыться в верхнем ящике. Наконец из груды тряпья он выудил старый серый носок. Покачав передо мной носком с заговорщицким видом, он сунул руку внутрь. Старик уже надел зубные протезы, а это обычно означало, что он готов к беседе. Хитро глядя на меня, он торжественно достал из носка мятую десятку и махнул ею в мою сторону.
– Вот, возьми! И повеселись на славу!
Но я не взял деньги.
– Ты что-то задумал, Мушум?
– Задумал, – повторил он, садясь. – Задумал. – И добавил с тихой злостью: – Что делает мужчину мужчиной?
– Я могу тебе помочь?
– Эхе-хе. Ну будь что будет. Клеменс прячет мою бутылку на верхней полке в кухонном шкафу. Ты можешь мне ее принести!
До полудня было еще далеко, но потом я подумал: а кому это повредит? Старик прожил слишком долгую жизнь и заслужил глоток виски в любое время, если ему так хочется. Тетя Клеменс позволила ему выпить каплю по случаю дня рождения, после чего влила в него ведро травяного чая, чтобы нейтрализовать эффект спиртного. Я взгромоздился на кухонную стойку и стал шарить по полке, пытаясь найти спрятанную тетей Клеменс бутылку. И тут со двора вошла Соня. В руках у нее был пластиковый пакет с крепкими ручками, и я сперва решил, что она опять прошлась по магазинам с моими деньгами и пришла показать тете Клеменс свои покупки. Я спустился с бутылкой виски в руке и довольно агрессивно заявил:
– Ну что, устроила себе очередной безумный шопинг? – Я встал перед ней. – Мы выкопаем эти депозитные книжки. А потом объедем банки и снимем обратно все деньги, Соня!
– Как скажешь! – Ее голубые глаза затуманились от обиды. – Очень хорошо!
– Хватит болтать про деньги! – Мушум, пошатываясь, подошел к Соне, ухватил ее повыше локтя и заговорил приторным голосом: – У этого старичка есть и деньги, и бутылка, ma chere, ниинимошен, сладенькая моя!
И Мушум повел Соню, не выпускавшую из рук тяжелый пакет, в спальню.
– А ты гуляй отсюда! – сказал он мне. – Уходи! – и протянул руку к бутылке.
Но я заупрямился и твердо заявил:
– Никуда я не уйду! Тетя Клеменс попросила меня побыть с тобой.
И последовал за ними в спальню. Они недоумевающе глядели на меня.
Я сел на кровать.
– Я не уйду, по крайней мере, пока не увижу, что в этом пакете.
Мушум негодующе фыркнул. Он выхватил бутылку из моей руки и быстро глотнул из горлышка. А Соня с сумрачным видом села и надула губы.
На ней был один из ее спортивных костюмов из розового плиса и футболка с низким вырезом. На шее висела серебряная цепочка с серебряным сердечком, которое указывало на узкое ущелье между двух сдвинутых грудей. Свет из окна падал на нее сзади и озарял волосы.
– Джо, – сказала она, – это подарок Мушуму на день рождения.
– И что это?
– То, что в пакете.
– Ну и отдай ему!
– Этот подарок… для взрослых.
– Подарок для взрослых?
Соня скорчила гримасу, как бы говоря: «А ты что думал?»
Мне стало трудно дышать. Я переводил взгляд с Мушума на Соню и обратно. Они не смотрели друг на друга.
– Джо, я прошу тебя: уйди по-хорошему.
Но говоря это, она начала вытаскивать из пакета разные вещи – не одежду, а какие-то лоскутки с блестками, блестящую бахрому и длинные пряди волос и полоски меха. И босоножки на высоких каблуках и на кожаной шнуровке. Я уже видел ее в таком наряде – на фотографии, которую хранил дома в папке с наклейкой «Домашние задания».
– Никуда не уйду, – и я сел рядом с Мушумом на его низенькую раскладушку.
– Ты уйдешь, Джо! – Соня зыркнула на меня, и на ее лице возникло злобное выражение, какого я раньше никогда не видел. – Выйди отсюда! – приказала она.
– Не выйду!
– Нет? – Она встала, уперев руки в боки, разъяренная, и шумно надула щеки.
Я тоже был разъярен, но слетевшие с моих губ слова удивили меня:
– Ты позволишь мне остаться. Потому что если нет, то я расскажу Уайти про деньги.
Соня оцепенела и села. В руках она сжимала какую-то блестящую тряпицу. Она молча смотрела на меня. Ее лицо приняло задумчивое и какое-то отрешенное выражение, а глаза заблестели, отчего она вдруг помолодела.
– Правда? – произнесла она печальным голосом. И переспросила шепотом: – Правда?
Мне надо было сразу уйти. Через полчаса я пожалел, что не сделал этого, но одновременно был рад, что не ушел. Я так и не понял, как отнестись к тому, что последовало дальше.
– Опять вы о деньгах! – с отвращением вскрикнул Мушум. Что заставило меня вспомнить про деньги и брильянтовые сережки Сони.
Я схватил бутылку виски из руки Мушума и отпил. Виски ударило мне в голову, и мои глаза тоже заслезились.
– Хороший мальчик, – похвалил Мушум.
Соня все еще не сводила с меня глаз.
– Ты думаешь? Ты и правда думаешь, что он хороший мальчик? – Она села и хлопнула себя по коленке блестящим бюстгальтером, который сжимала в руке.
– Он обо мне заботится, – Мушум отпил из бутылки и протянул мне обратно. Я передал ее Соне.
– Значит, все расскажешь Уайти?
Она криво улыбнулась, глядя на меня, и от этой улыбки меня затрясло. Потом приложила горлышко бутылки к губам и сделал большой глоток. Потом к бутылке приложился Мушум и снова отдал мне. Соня прищурилась так, что ее голубые глаза почернели.
– Значит, ты с Уайти. Ладно. Пойду в ванную переоденусь. А вы, мальчики, ждите меня здесь. И если ты, Джо, кому-нибудь скажешь хоть слово, я отрежу твою крошечную пиписку!
У меня челюсть так и отвалилась. А она гнусно расхохоталась:
– А ты как хотел: и рыбку съесть, и на санки сесть? Маленький ты засранец! И учти: больше я тебя не нянькаю!
Она вытащила из пакета портативный магнитофон, включила вилку в розетку и вставила кассету.
– Когда я вернусь, включи музыку! – распорядилась она и, размахивая своим пакетом, пошла по коридору к ванной.
Мы с Мушумом молча сидели на раскладушке. Я вспомнил, как они вдвоем шушукались на празднике и как это их шушуканье меня раздражало. У меня зашумело в голове. Я еще глотнул из бутылки Мушума. Скоро вернулась Соня, плотно закрыла за собой дверь и заперла ее на замок. Обернулась к нам.
Наверное, у нас обоих рты раскрылись одновременно. Соня собрала волосы вверх, под металлический конус, откуда они ниспадали фонтаном, лавиной волос, рассыпавшихся по ее плечам и спине. Она наложила на лицо густой слой макияжа – ее брови были похожи на черные крылья, на губах хищно сверкала кроваво-красная помада. Серая шелковая туника от шеи до колен прикрывала ее руки.
– Запускай музыку, Джо!
Я повиновался. Раздались тихие, невнятные причитания и песнопения. Она вынула из рукава длинный изогнутый кинжал, потом подняла руки вверх, точно древняя богиня перед ритуальным жертвоприношением козы или живого мужчины, привязанного к скале. Сначала она держала кинжал обеими руками, потом схватила его одной рукой, не спуская с него глаз. Нажала на потайную кнопку – и кинжал вспыхнул гирляндой мигающих огоньков. Тихие песнопения сменились истошными нутряными стонами, а потом серией взвизгов. И с каждым взвизгом она рассекала одну из застежек-липучек, на которых держалась ее туника. Так она нас немного подразнила. По бокам у туники были длинные прорези. И вот из одной прорези появилась прикрытая пластиковой броней грудь. Потом длинная нога в босоножке на каблуке, на кожаных ремешках до бедра. Тут, наконец, какофонию завываний и песнопений перекрыл финальный выкрик. Наступила тишина. Соня скинула свое одеяние. Я схватил Мушума за руку. Я не собирался терять ни секунды этого зрелища и переводить взгляд на него, но и перекувыркнуться назад и врезаться в его голову тоже не хотелось. Я в жизни не забуду Соню в грозном великолепии посреди спальни Иви. В этих босоножках на каблуках она словно выросла. А с волосами в металлическом конусе ростом была чуть не до потолка. Ее длиннющие ноги, казалось, тянулись без конца, на ней были узкие трусики, которые выглядели словно выкованные из стали, к тому же они были спереди заперты на замочек. У нее был гладкий и упругий живот, подтянутый уж не знаю какими ухищрениями. При мне Соня никогда не делала зарядку. А мои любимые груди, скрытые под пластиковыми латами, выпирали над швами пластикового нагрудника, на котором виднелись стоящие торчком искусственные соски. С ее плеч волнами ниспадали шарфы и шкуры. Она зажала кинжал зубами, а потом начала поглаживать и ерошить мех и ткани, облегавшие ее тело. На руках у нее были тонкие виниловые перчатки. Она сняла одну, слегка похлопала ею себя, а затем погладила свой пояс невинности и вдруг хлестнула меня по лицу. Я чуть в обморок не грохнулся и снова схватил Мушума за руку. А тот был на седьмом небе от счастья. Соня бросила в меня другую перчатку и попала прямо в глаз. И тут зашлись барабаны. Живот и бедра Сони закружились в совсем ином темпе – так быстро, что ее тело превратилось в смазанное пятно. Мушум протянул мне бутылку. Я глотнул и поперхнулся. Соня вертелась волчком, ткнула меня в колено. Я согнулся от боли, но мои глаза словно прилепились к ней намертво. Барабаны смолкли. Она подергала кожаные бретельки, удерживавшие на грудях пластиковые латы, – и те внезапно упали на пол.
И я их увидел. На них остались только золотые кисточки на сосках, которые она вертела в пальцах то в одну сторону, то в другую, и мы со стариком глазели на них как зачарованные. Когда барабаны стихли, у меня уже вовсю кружилась голова. Мушум прерывисто дышал. Я слышал, как шуршит пленка в кассете. Соня распустила шнуровку на босоножках, скинула их и бросила в мою сторону. Потом сняла с волос металлический конус. Волосы каскадом упали ей на лицо. Она кинула в меня и конус. Ступая босыми ногами, подошла ко мне вплотную и начала покачивать бедрами в такт волчьему вою из магнитофона, а когда засунула руку в железные трусики и медленно выудила оттуда ключик на шелковой ленточке, Мушум уже был готов действовать. Он вырвал ключик из ее пальцев и недрогнувшей рукой отомкнул им замочек, снял его с ушка и отбросил в сторону. Под железными трусиками обнаружились стринги из мягкого и плотного черного меха. Это была кроличья шкурка. И что бы вы думали? Соня взгромоздилась Мушуму на колени, но осторожно, чтобы не навалиться на него всем весом. А груди, украшенные золотыми кисточками, сжала обеими руками.
– С днем рождения, старенький!
На губах Мушума сияла улыбка, слезы текли по морщинистым щекам. Он обхватил руками ее талию и глубоко, со стоном вздохнул.
И перестал дышать.
– О нет!
Соня развела стариковские руки в сторону и осторожно уложила Мушума на раскладушку. Потом прижала ухо к его груди и вслушалась.
– Что-то не слышу его сердца, – пробормотала Соня.
Я тоже прижал ухо к груди Мушума.
– Может, надо его реанимировать? Искусственное дыхание рот в рот? Массаж сердца? Что делать, Соня?
– Не знаю.
Мы смотрели на старика. Его глаза были закрыты. Но он улыбался. Он выглядел как счастливейший из живущих.
– Он видит сон, – нежно заметила Соня. Но ее слова прорвались сквозь рыдание. – Он уходит. Не будем его тревожить. – Она наклонилась над Мушумом, гладя его по волосам и что-то бормоча.
Он открыл глаза, улыбнулся ей и снова опустил веки.
– Может быть, все-таки у него сердце бьется? – Соня встала перед раскладушкой на колени и, кусая губы, снова приложила ухо к его груди. – Бьется. Вот еще, – выдохнула она с облегчением.
Ошеломленный, я смотрел на Мушума, ища признаки жизни. Но он не шевелился.
– Собери мои вещи, – попросила Соня, чья голова так и лежала у Мушума на груди. – Да, бьется. Просто жизненные процессы у стариков замедленные. И похоже, он дышит.
Я собрал ее раскиданные по полу вещи, отнес их в ванную и там сложил в пакет. А ей принес оттуда спортивный костюм и теннисные тапки и отвернулся, пока она все это надевала. Не хотел смотреть на нее.
Одевшись, она подхватила пакет со своим нарядом стриптизерши и бросила его к моим ногам.
– Возьми себе! Можешь дрочить на него, мне без разницы!
Она подобрала упавшую с соска кисточку, которую я не заметил, и швырнула мне в лицо.
– Жалко, что так вышло, – сказал я.
– «Жалко» у пчелки в жопке. Но мне плевать. Ты знаешь, откуда я родом?
– Нет.
– Из пригорода Дулута. Милый городишко, да?
– Наверное.
– Я ходила в католическую школу. Окончила там восемь классов. А знаешь, как это мне удалось?
– Нет.
– Мама помогла. Моя мать была католичка. Ага! Ходила в церковь. И плавала на кораблях. А знаешь, чем она там занималась?
– Нет.
– Она там встречалась с мужчинами, Джо. Знаешь, что это значит?
Я пробормотал что-то нечленораздельное.
– Вот так я появилась на свет. Она пыталась скопить немного денег. Знаешь, что это такое, Джо?
– Нет.
– Ее часто избивали. И еще она принимала наркотики. И еще знаешь? Я понятия не имею, кто мой отец. Никогда его не видела. А мать иногда была ко мне добра, а иногда – нет. Ну да ладно. Я бросила школу. Родила. Но так ничему не научилась. Вообще ничему. И мать мне сказала: ну раз ты ничего не умеешь, можешь раздеваться. Танцуй на сцене. Там делать ничего не надо, просто танцевать. У меня, говорит, была подруга, так она вот этим и занималась. И зарабатывала. Я говорю: ладно, не буду ничем другим заниматься. Думаешь, я чем-то еще занималась?
– Нет.
– Я завязала в той жизни. А потом встретила Уайти, вот так. В охотничий сезон там открывалось много новых баров с танцовщицами. Уайти за мной ухлестывал. Ездил за мной по разным барам. Уайти стал моим телохранителем. Он упрашивал меня бросить это занятие. Приглашал жить с ним. Я не спрашивала, женится ли он на мне. А знаешь, почему, Джо?
– Нет.
– А я тебе скажу. Я думала, что не заслуживаю того, чтоб на мне кто-то женился. Вот почему! Не достойна я женитьбы. С какой стати даже этот деревенский Элвис с вставной челюстью, этот пожилой дядька, не более образованный, чем я, пьяница, который меня колотит, с какой стати даже такой мужик вздумает на мне жениться, а?
– Ну, я не знаю. Я думал…
– Ты думал, мы женаты? Так вот – нет! Уайти не удостоил меня такой чести, хотя я сама купила себе дешевенькое кольцо. А теперь мне на все плевать. А ты? Я с тобой хорошо обращалась, разве нет?
– Да.
– Но ты все равно испытывал зуд, все поглядывал на мои сиськи, когда думал, что я не вижу. Ты думал, я ничего не замечала?
Мое лицо вспыхнуло и покраснело так, что, казалось, горело.
– А я замечала, – усмехнулась Соня. – Ну так погляди на них хорошенько. Вблизи. Видишь?
Но я не мог.
– Открой свои окаянные глазенки!
Я взглянул. По краю ее левой груди и вокруг соска бежал тонкий белый шрам.
– Это меня полоснул бритвой мой менеджер, Джо. Я не хотела ублажать группу приезжих охотников. Думаешь, твои угрозы меня испугают?
– Нет.
– Вот именно: нет! Ты плачешь? Плачь сколько угодно, Джо. Многие мужчины плачут после того, как сделают женщине подлянку. У меня нет больше дочки. А ты мне был как сын. Но как оказалось, ты, Джо, такой же кусок дерьма, как и все. Обычный говнюк, который знает только слово «дай». Вот какой ты!
И Соня ушла. А я сидел с Мушумом. Время остановилось. В голове у меня звенело, будто там был спрятан будильник. Иногда старики так слабо дышат, что их дыхание становится неуловимым. Отгорел день, начало смеркаться, когда он наконец шевельнулся. Старик открыл и снова закрыл глаза, я помчался за водой и позволил ему сделать пару глотков.
– Я еще здесь, – прошептал он. В слабом голосе слышалось разочарование.
Я все сидел с Мушумом на краешке раскладушки, думая про его мечту о счастливой смерти. У меня наконец появилась возможность увидеть разницу между правой и левой грудями Сони, но лучше бы этой возможности не было. Но я был рад, что это случилось. Это противоречие взрывало мозг. За четверть часа перед тем, как тетя Клеменс и дядя Эдвард привезли новый морозильный шкаф, я взглянул на пол и заметил золотую кисточку у ножки раскладушки. Я ее поднял и положил в карман джинсов.
Я не храню эту кисточку в особой коробочке – больше не храню. Она лежит в ящике моего письменного стола, рядом с множеством других вещей, как, например, одинокий носок Мушума с деньгами. Даже если моя жена и видела его там, она ни словом не обмолвилась. И о Соне я ей никогда не рассказывал – ну, может быть, упоминал мимоходом. И не рассказал, как затолкал все предметы костюма Сони в мусорный бак у офиса управления по делам индейцев, куда регулярно приезжал мусоровоз. И моя жена не знала, что я нарочно положил эту памятную кисточку там, где всегда мог ее найти. Потому что всякий раз, когда я на нее смотрел, я вспоминал, как обошелся с Соней и как она обошлась со мной, или о том, что я ей угрожал и что из этого вышло, и как она обозвала меня обычным говнюком. И как это разрывало мне сердце, когда я серьезно это обдумывал. Говнюк, который знает только слово «дай». Может, она была права. Я размышлял над ее словами долго – по правде сказать, всю жизнь, – и мне хотелось стать лучше.
* * *
Доу пристроил к дому небольшую открытую террасу, которая – как многие наши террасы – всегда была завалена всяким полезным хламом. Там лежали зимние шины в черных пластиковых мешках, ржавые домкраты, старый гриль с погнутой решеткой, сломанные инструменты и пластмассовые игрушки. Каппи расположился посреди этой рухляди в продавленном шезлонге. Глядя на исцарапанные собачьими когтями доски, он обеими ладонями приглаживал волосы. Он даже не взглянул на меня, когда я подошел к нему и присел рядом на старый складной стульчик.
– Привет!
Каппи не отреагировал. Тогда я повторил приветствие на наречии оджибве:
– Ааниин…
И опять ничего.
С превеликим трудом я выжал из него, что Зелия уехала обратно в Хелену с церковной группой, о чем мне уже было известно. И когда я еще чуть поднажал, Каппи выпалил:
– У нас с Зелией… кое-что было.
– И что же?
– То самое. Всё было!
– Что всё?
– Ну, всё, подумай – поймешь. И даже больше, но мы пытались…
– Где?
– На кладбище. Ночью, когда вы справляли день рождения Мушума. И после того, как мы это сделали…
– Прямо на могиле?
– Не знаю. Мы были вроде на краю кладбища. Не прямо на надгробии.
– Хорошо. А то это плохая примета.
– Само собой. А потом мы забрались в подвал церкви. И там еще два раза было.
– Что-о?
– Да, в катехизисной. Там ковер лежит на полу.
Я молчал. У меня поплыла голова.
– Смело! – только и смог я выговорить.
– Ага. И она уехала. Теперь у меня все из рук валится. Душа болит.
Каппи смотрел на меня взглядом умирающего пса. Он постучал кулаком по груди и прошептал:
– Вот тут болит!
– Женщины! – брякнул я.
Он грустно поглядел на меня.
– Тебя убьют! – продолжал я.
– Откуда ты знаешь?
Я не ответил. Его любовь к Зелии не была похожа на мою любовь к Соне, которая теперь была отравлена унижением, коварством и даже еще более сильными чувствами, которые раздирали меня изнутри и чуть не сшибали с ног. Напротив, любовь Каппи была чиста. Его любовь только теперь начала проявляться. Элвин умел набивать наколки и предлагал свои услуги за деньги, и Каппи сказал, что пойдет к Элвину и попросит его выколоть «Зелия» крупными буквами на своей груди.
– Не стоит, – возразил я. – Перестань. Не делай этого.
Он встал.
– Сделаю!
Я только уговорил его немного подождать, убедив, что когда от тренировок он нарастит грудные мышцы, можно будет наколоть еще более крупные буквы. Мы долго сидели на террасе – я старался, как мог, отвлечь Каппи, но все напрасно. Когда вернулся Доу и поручил Каппи наколоть дров, я собрался уходить. Каппи взялся за топор и принялся колоть поленья с такой ретивостью, что я даже испугался, как бы он не разрубил себе ногу. Я посоветовал ему успокоиться, но он только бросил на меня пустой взгляд и рубанул по полену так сильно, что полено подскочило вверх метра на три.
Мама с отцом должны были вернуться к обеду, и я не спеша крутил педали, выбирая кружной маршрут к дому, потому что у меня снова возникло нежелание их видеть. Но мне не хотелось и оказаться там, где я мог бы столкнуться с Соней. Стоило мне подумать о ней, как я вспоминал все. В моем воображении опять возникал лоскут в сине-белую клетку, и я пытался задвинуть глубоко-глубоко осознание, что в затопленной машине лежала та самая кукла. Выбросив куклу, я, разумеется, уничтожил важную улику, которая могла бы указать на местонахождение Майлы. Точнее, ее трупа, спрятанного в таком непредвиденном месте, что даже собаки его не нашли. Но я отогнал мысль о Майле. И о Соне. И еще я старался не думать о маме. О том, что, возможно, произошло в Бисмарке. И из-за всех этих путаных мыслей мне не хотелось идти домой или оставаться одному. Эти мысли внезапно нахлынули на меня, накрыли мозг, как снежная буря, растревожили сердце. Я ехал, стараясь выбросить из головы вообще любую мысль, и направил велик по грунтовой тропинке вверх по склону холма за больницей. Я стал усердно курсировать то вверх, то вниз, подпрыгивая на кочках так высоко, что при приземлении растрясал все кости. Так я кружил и кружил, тормозил, разгонялся, взбивая тучи пыли, которая забивала мне рот, пока я не вспотел как мышь и мне не захотелось пить и есть. И в конце концов я отправился домой.
Пёрл услыхала мой велосипед издалека и ждала в конце подъездной дорожки к нашему дому. Я слез с велика и прижался лбом к ее мохнатому темени. Мне захотелось поменяться с ней местами. Я гладил Перл, когда услышал мамин вскрик. И еще вскрик. А потом между вскриками услышал папин тихий голос. Ее голос то взлетал, то затихал – в точности как я на велике ездил вверх-вниз по склону холма, после прыжка с грохотом приземляясь. Наконец мама перешла на удивленное бормотание.
Я стоял, не выпуская из рук велосипедный руль. Перл не отходила от меня. Наконец отец вышел через дверь кухни на двор и закурил, чего я раньше никогда не видел. Его лицо пожелтело от измождения. Вокруг его глаз выступили красные круги, отчего казалось, под кожей набухла кровь. Оглянувшись, он увидел меня.
– Его отпустили, да? – спросил я.
Отец не ответил.
– Отпустили, пап?
Он затянулся сигаретой, молча глядя себе под ноги.
Весь бурлящий яд, от которого я избавился, наворачивая круги на велосипеде, вновь заклокотал во мне, и я выплеснул на отца поток глупых слов:
– Ты только и можешь ловить пьянчуг да воришек хот-догов!
Он с изумлением поглядел на меня и, пожав плечами, стряхнул пепел с кончика сигареты.
– Не забудь упомянуть про неплательщиков штрафов и нарушителей законов об опеке.
– Неплательщики штрафов? Ах, ну да. А разве на территории резервации где-то нельзя парковаться?
– Попробуй-ка поставь машину на стоянке председателя совета племени.
– И дела по опеке. С ними столько хлопот. Ты же сам говорил. У тебя власти ноль, папа! Большой круглый ноль. Ты ничего не можешь сделать. Тогда зачем пытаться?
– Ты сам знаешь, зачем.
– Нет, не знаю, – заорал я и пошел посидеть с мамой. Но когда я к ней вошел, то понял, что это бесполезно. Она смотрела невидящим взглядом на дверцу холодильника и, когда я шагнул к ней, сказала тихим отрешенным голосом:
– Вот и ты, Джо.
Когда вошел отец, она встала и медленной опасливой походкой двинулась вверх по лестнице, а он держал ее под руку.
– Не оставляй ее одну, пап! – испуганно попросил я, когда он спустился вниз. Но он даже не взглянул на меня и ничего не ответил. Я стоял перед ним как дурак, опустив руки.
– Зачем ты это делаешь? – спросил я, не выдержав. – К чему стараться?
– Ты хочешь знать?
Он подошел к холодильнику, порылся в нем и вытащил что-то из глубин верхней полки. Принес на стол. Это была одна из несъеденных запеканок тети Клеменс в противне и так долго оставалась там, что лапша высохла и почернела, но все это время противень стоял около змеевика у задней стенки, и запеканка подмерзла, поэтому и не стухла.
– Почему я не опускаю руки? Ты хочешь знать?
И со свирепым стуком он перевернул окаменевшую запеканку вверх дном и бросил на стол. Поднял противень. Дно запеканки было покрыто белым пушистым инеем, а сама запеканка сохранила продолговатую форму. Отец подошел к кухонному шкафу и достал коробку со столовыми приборами. Я решил, что он таки спятил, и наблюдал за ним, сумев выдавить только:
– Пап?
– Я хочу наглядно показать тебе, сынок.
Он сел за стол и помахал передо мной двумя вилками. Потом с предельной сосредоточенностью положил на застывшую запеканку два больших разделочных ножа, а потом стал аккуратно водружать на них вилки, укладывая одну на другую, потом ложку, хлеб для масла, половник, металлическую лопатку, пока не выстроил из столовых приборов нелепую конструкцию. А сверху он положил еще четыре ножа, которые у мамы всегда были идеально наточены. Это были дорогие ножи из нержавеющей стали с деревянными рукоятками. Он уложил их на башню из столовых приборов так, чтобы они держали равновесие. Потом откинулся на спинку стула и почесал заросший подбородок.
– Ну вот, готово, – изрек он.
Должно быть, вид у меня был испуганный. А я и был испуган: он вел себя как безумный.
– Что это, пап? – осторожно поинтересовался я: так задают вопросы буйным психбольным.
Он чесал свою редкую седую бородку.
– Это индейский закон.
Я понимающе кивнул и стал разглядывать конструкцию из вилок, ложек и ножей над прогорклой запеканкой.
– Так, пап…
Он указал на засохший фундамент своей конструкции и поднял брови.
– Гнилые решения, да? Ты же заглядывал в старый справочник Коэна. Ты станешь юристом, если не попадешь в тюрьму. – Он поковырял заплесневелую черную лапшу. – Возьмем дело «Джонсон против Макинтоша». 1823 год. Соединенным Штатам всего сорок семь лет, и по всей стране у индейцев отнимают землю с поспешностью, достойной ловли блох, прибегая к самым замысловатым ухищрениям. Спекуляции землей – это же фондовый рынок тех лет. Все в это втянуты. Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон, а также председатель Верховного суда Джон Маршалл, автор решения по этому делу, заработавший на нем целое состояние для своей семьи. Формирующееся правительство не в силах контролировать безумные махинации с землей. Спекулянты приобретают права на владение земель, принадлежащих индейцам по договору, а также земель, которыми все еще владеют и которые занимают индейцы. Белые в полном смысле слова возлагают все свои надежды на эпидемию оспы. Учитывая, сколько потрачено на неприкрытые взятки, чтобы довести это грязное дело до суда, дело, которое инициировал не кто-нибудь, а сам Дэниел Уэбстер, суд принял поразительное решение. Но возмутительным было не само решение, а его побочные формулировки. Судья Маршалл из кожи вон вылез, чтобы лишить индейцев всех прав собственности на земли, увиденные – то есть «открытые» – европейцами. Он, по сути, поддержал средневековую доктрину открытия новых земель для правительства, которое, как все полагали, строилось на принципах прав и свобод личности. Маршалл закрепил абсолютное право собственности на землю за правительством, а индейцам даровал лишь право проживания, право, которое можно отобрать в любой момент. Вплоть до сего дня его формулировки используются для продолжающегося лишения нас наших земель. Но что особенно претит любому мыслящему человеку сегодня, так это формулировки решения, то, что использованные в нем обороты все еще актуальны и сейчас и закреплены в законе: что мы, мол, – лесные дикари и что оставить нам наши земли означает превратить их в бесполезную территорию дикой природы, а наш характер и наша религия настолько убоги, что должно быть признано безусловное превосходство над ними европейского духа, и так далее, и так далее.
Вот тут я сообразил и ткнул пальцем в нижний уровень причудливой конструкции.
– Думаю, это дело «Одинокий волк против Хичкока»[22].
– И дело племени ти-хит-тон.
Я спросил отца про первый нож, который он бережно положил на запеканку в качестве опоры.
– «Вустер против штата Джорджия». Эта опора будет попрочнее. Но это… – тут отец ткнул концом вилки в самый противный кусок тухлой запеканки, -…это я бы отменил, не раздумывая, прямо сейчас, если бы обладал силой шамана из вестерна! «Олифант против племени сквамиш». Он потряс вилкой, и мои ноздри унюхали гнилостную вонь. – Это решение лишило нас права преследовать в судебном порядке неиндейцев, совершивших преступление на нашей земле. Так что даже если…
Он осекся. И я решил, что мы сейчас выбросим эту тухлятину и вымоем приборы, но нет.
– …Так что даже если бы я мог предъявить Ларку обвинение…
– Ясно, пап, – сказал я, притихнув. – Но зачем ты вообще этим занимаешься? Почему ты тут остался?
Запеканка оттаяла и начала оседать, испуская волны вони. Отец сложил из столовых приборов новую конструкцию рядом с запеканкой. С особой осторожностью он обошелся с мамиными острыми ножами.
– Вот это, – он кивнул на ножи, – решения, которые я и другие судьи племени стараемся выносить. Неоспоримые решения. Без случайных особых мнений. Все, что мы делаем – не важно, насколько мелкими являются эти дела, – должно быть выполнено так, чтобы комар носа не подточил. Мы стараемся подвести прочную базу под наш суверенитет. Мы стараемся чуть-чуть раздвигать рамки дозволенного, шаг за шагом переступать границы. Наступит день, и наши дела будут изучаться Конгрессом, который примет решение о том, надо ли расширить нашу юрисдикцию. Такой день наступит. И мы хотим получить право преследовать по закону преступников любой расы на любой территории внутри границ наших исконных земель. Вот почему я стараюсь безупречно вести дела в своем суде, Джо. То, что я делаю сейчас, делается ради будущего, хотя эти дела кажутся тебе незначительными, тривиальными или скучными.
* * *
Мы с Каппи устроили гонки на велосипедах и летели сломя голову. Я поехал с ним на стройплощадку за городом, потому что у себя во дворе он разрубил все чурбаки на поленья, а потом и их расколол на щепки для растопки. Но этого ему показалось мало, и он захотел покататься на Сонином пони. Я подумал, что в таком развинченном состоянии он укатает бедного пони до смерти. Кроме того, у меня не было никакого желания видеть Соню, да и дядю Уайти тоже. Но мне надо было чем-то отвлечь Каппи, и я пообещал ему, что после того, как мы проедемся по округе и найдем Энгуса, мы обязательно съездим и на конюшню. Правда, я надеялся, что до этого не дойдет. Несколько раз, когда мы останавливались передохнуть и утереть пот, Каппи прижимал руку к сердцу, и там что-то хрустело. Наконец я не выдержал и спросил, что там.
– Письмо от нее. И мой ответ ей.
После езды наперегонки мы тяжело дышали. Он достал ее письмо и помахал перед моим носом. Потом бережно сложил его и сунул в надорванный конверт. У Зелии был миленький девчачий почерк, как у всех школьниц, с крошечными кружочками вместо точек над i. Каппи вынул другой конверт, заклеенный, с ее фамилией и адресом.
– Мне нужно купить марку, – сказал он.
И мы помчались к почте. Я понадеялся, что у Линды выходной. Но ошибся. Каппи достал деньги и купил марку. Я не смотрел на Линду, но чувствовал на себе печальный взгляд ее глаз навыкате.
– Джо, – обратилась она ко мне, – я испекла банановый кекс, какой ты любишь.
Но я повернулся к ней спиной, вышел за дверь и стал ждать Каппи.
– Почтальонша дала мне это для тебя, – объявил Каппи и передал мне завернутый в фольгу кирпичик. Я взвесил его на ладони. Сев на велосипеды, мы поехали искать Энгуса. Мне пришла в голову мысль швырнуть этот банановый кекс в стену или в канаву, но потом я передумал и крепко зажал его под мышкой.
Мы подъехали к дому Энгуса, и он к нам вышел, но сообщил, что тетя заставляет его идти на исповедь. Его слова вызвали у нас смех.
– А это что? – Он кивнул на кирпичик в фольге.
– Банановый кекс.
– Есть хочу! – Я бросил ему кекс, и он ел его всю дорогу до церкви – слопал его весь, что меня обрадовало. Он скомкал фольгу и сунул себе в карман с намерением сдать ее потом вместе с пустыми банками.
Я решил, что пока Энгус будет исповедоваться в церкви, мы с Каппи подождем его снаружи под сосной, где стояла скамейка, или на детской площадке, хотя у нас не было с собой сигарет. Но Каппи закатил свой велик на церковную велопарковку и поставил рядом с великом Энгуса. Тогда и я свой тоже поставил туда же.
– Ты что, – удивился я, – собираешься войти?
Каппи уже стоял на церковном крыльце.
– Нет, ребята, – сказал нам Энгус, – вы можете подождать меня тут, не надо со мной.
– Я собираюсь исповедаться, – сообщил Каппи.
– Чего? Да ты вообще-то крещеный? – изумился Энгус.
– Ага, – Каппи двинулся к входу в церковь. – Конечно, я крещеный.
– Ни фига себе, – сказал Энгус. – А конфирмацию ты прошел?
– Ага, – ответил Каппи.
– А ты когда в последний раз был на исповеди? – спросил Энгус.
– А тебе-то что?
– Мне ничего, но отец Трэвис спросит.
– Я ему сам скажу.
Энгус вопросительно взглянул на меня. Каппи был настроен вполне серьезно. У него на лице возникло выражение, которого я раньше никогда не видел, или точнее сказать, его лицо и взгляд выражали целую гамму чувств – то отчаяние, то злость, и еще какой-то мечтательный восторг. Я так встревожился, что схватил его за плечи и твердо заявил:
– Ты не можешь!
И тут Каппи меня не на шутку напугал. Он меня обнял. А когда отступил назад, то, могу сказать, и Энгус тоже выглядел перепуганным.
– Слушайте, похоже, я перепутал время, – залепетал он. – Каппи, давай сгоняем на озеро, поплаваем.
– Нет-нет, – возразил Каппи, – ничего ты не перепутал. – Он обнял нас за плечи. – Пошли!
Церковь была почти пуста. Несколько прихожан ждали около исповедальни сбоку, и еще несколько молились перед статуей Пресвятой Богородицы, возле которой стоял постамент с горящими свечами в красных стеклянных стаканчиках. Каппи с Энгусом проскользнули в задний ряд, где преклонили колена и опустили головы. Энгус оказался ближе к исповедальне. Он искоса поглядел на меня, выпучив глаза, сделал страшную гримасу и мотнул головой к выходу, словно говоря: «Уведи его отсюда!» Войдя в исповедальню, Энгус задернул за собой бархатную занавеску, потом высунул голову и снова выпучил глаза. Я приблизился к Каппи и зашептал:
– Братишка, пожалуйста, очень тебя прошу, давай уйдем отсюда на фиг!
Но Каппи сидел с закрытыми глазами и делал вид, что не слышит меня.
Когда Энгус вышел из-за занавески, Каппи поднялся, и, точно лунатик, шагнув в исповедальню, задернул за собой занавеску.
Раздались загадочные звуки: скрипнуло окошко священника, потом последовал шепоток, вопрос – ответ, и потом грянула буря! Отец Трэвис выскочил из-за деревянной дверцы исповедальни и схватил бы Каппи, если бы тот не выкатился кубарем из-за занавески и, согнувшись в три погибели, не метнулся вдоль скамейки. Отец Трэвис бросился к двери, преградив ему путь к отступлению, но Каппи успел пронестись мимо нас и стал перескакивать через спинки скамеек, совершая головокружительные прыжки и с грохотом приземляясь на сиденья. Вскоре он оказался вблизи алтаря.
Лицо отца Трэвиса побелело так, что его обычно незаметные коричневатые веснушки проступили жирными точками, словно их кто-то нарисовал фломастером. Он не запер двери церкви перед тем, как начать погоню за Каппи, – и это была ошибка. Он не учел проворства Каппи и не знал, как тот навострился уворачиваться от старшего брата в тесном пространстве. Словом, при всех воинских навыках отца Трэвиса он, преследуя Каппи, допустил сразу несколько тактических промахов. Было такое впечатление, что священнику достаточно сделать несколько шагов к центру зала, и он бы легко загнал Каппи в западню позади алтаря, и Каппи притворился, что попался. Он сделал вид, будто не знает, что делать, и позволил отцу Трэвису переместиться к центру церкви, а потом ринулся к боковому проходу между рядами скамеек и картинно споткнулся, чем вынудил отца Трэвиса развернуться в его сторону и побежать вдоль скамейки. Когда священник оказался в середине ряда, Каппи пригнулся, юркнул вдоль скамеечек для коленопреклонения и бросился к открытой двери, где стояли мы и пара обомлевших стариков. Отец Трэвис мог бы подрезать его, если бы побежал в обратную сторону, но он стал двигаться вдоль скамеечек для коленопреклонения и устремился мимо изображений крестного пути на боковой стене. А Каппи пулей вылетел наружу. Но у отца Трэвиса шаг был шире, и он уже настигал Каппи, а тот вместо того, чтобы сбежать вниз по ступенькам церковного крыльца, оседлал деревянные перила. Он, как и мы все, давно наловчился съезжать по перилам и сейчас развил скорость, да еще и лихо спрыгнул, кувыркнувшись в дорожную пыль, но отец Трэвис уже наступал ему на пятки и даже умудрился схватить его велик.
У Каппи были классные беговые кроссовки, но, как я успел заметить, и у отца Трэвиса оказались не хуже. В своем черном облачении он, конечно же, не бегал стометровку, но не исключено, что перед исповедью играл в баскетбол или бегал трусцой. Оба развили приличную скорость на грунтовой дороге, что вела от церкви к городу. Каппи отважно пересек шоссе, отец Трэвис за ним. Каппи свернул во дворы, которые хорошо знал, и скоро пропал из виду. Но отец Трэвис, даже в своей сутане, полы которой он приподнял и заткнул за пояс, не отставал и устремился прямехонько к бару «Мертвый Кастер» и к заправке дяди Уайти. Мы с восторгом глазели на бледные мускулистые икры отца Трэвиса, освещенные солнцем.
– И что будем делать? – спросил Энгус.
– Стоять и ждать.
Мы с Энгусом выкатили с парковки свои велосипеды, держа велик Каппи за руль с двух сторон. Мы надеялись, что ему удастся оторваться от отца Трэвиса на приличное расстояние, он вернется, запрыгнет в седло, и мы трое нажмем на педали. Мы вглядывались в отрезок дороги вдали за деревьями, потому что именно там должен был появиться Каппи, если отец Трэвис не сможет его догнать. Довольно скоро Каппи и впрямь перебежал дорогу. А через мгновение появился отец Трэвис. Потом они оба исчезли из виду, и Энгус сказал:
– Каппи пытается от него оторваться, бегая зигзагами по дворам муниципальных новостроек. Он эти дворы знает как свои пять.
И мы стали наблюдать за другим участком дороги, где бегуны должны были появиться. Каппи опять лидировал. Но отец Трэвис бежал за ним по пятам. Каппи знал все входы и выходы в каждом здании, будь то больница, или продуктовый магазин, или дом престарелых, или крошечное казино, которое в те времена было у нас в Хупдэнсе. Он дважды петлял мимо бара «Мертвый Кастер» и через заправку дяди Уайти. Он задал стрекача мимо дома старушки Бинеши в надежде вспугнуть собак, чтобы те вцепились клыками в сутану отца Трэвиса, но оба бегуна остались незамеченными.
Каппи дунул вниз по склону холма через кладбище, потом оба сделали крюк и оказались на детской площадке у церкви – мы как завороженные наблюдали за их кроссом. Каппи на бегу толкнул веревочные качели, прыгнул под брусья, слегка коснувшись руками земли. Отец Трэвис прыгнул следом и приземлился, как большая обезьяна, на костяшки пальцев, но не сбился с темпа. Потом они взбежали вверх по склону – как два крошечных жучка, стремительно увеличивающиеся в размерах по мере того, как Каппи приближался к нам с намерением вскочить на свой велосипед, который мы держали наготове, и укатить прочь. Нам бы это удалось. И ему тоже. Каппи был уже совсем близко. Отец Трэвис сделал отчаянный спурт, в результате чего ему оставалось только протянуть руку и схватить Каппи за шиворот. Но Каппи нырком увернулся от него. Но рука священника вцепилась в заднее колесо. Каппи спрыгнул с велика, но отец Трэвис, с побагровевшим лицом и шумно сопя, обхватил его за плечи и рывком поднял вверх. Мы с Энгусом бросили велосипеды на землю, чтобы прийти другу на выручку.
Хотя мы и не могли знать наверняка, в чем Каппи хотел исповедаться, теперь нам все стало ясно. Он исповедался именно в том, чего мы и боялись.
– Отец, это выглядит не очень хорошо, – громко заявил Энгус.
– Пожалуйста, отпустите его, отец Трэвис! – В данной ситуации я попытался скопировать интонации отца. – Каппи – несовершеннолетний!
Возможно, я повел себя глупо, но отец Трэвис одной рукой сгреб рубашку Каппи и занес над его головой кулак. После моих слов кулак застыл в воздухе.
– Несовершеннолетний, – продолжал я, – который пришел к вам за помощью, отец Трэвис!
Отец Трэвис взревел, точь-в-точь как Уорф в «Звездном пути», и швырнул Каппи на землю. Он угрожающе отвел ногу назад, но Каппи откатился подальше. Воспользовавшись тем, что отец Трэвис стоял без движения, мы подхватили велосипеды. Он прерывисто дышал и злобно смотрел на нас исподлобья. В этот момент мы одержали над ним моральную победу – и чувствовали это. Мы сели на велосипеды.
– Хорошего дня, отец! – сказал Энгус на прощанье.
Отец Трэвис отвернулся, когда мы укатили прочь.
* * *
– Ты совсем сдурел на хрен? – отчитывал я потом Каппи. – О чем ты только думал?
Каппи пожал плечами.
– Ты рассказал ему про церковный подвал, где у вас это было?
– Я про все рассказал.
– Сдурел нахрен!
Услышав мои слова, тетя Клеменс нахмурилась.
– Извини, тетя, – сказал я.
Мы отправились к тете Клеменс и дяде Эдварду в надежде, что застанем их за едой, но они не ели, да это и не имело значения, потому что тетя Клеменс сразу поняла, зачем мы зашли, и разогрела свой фирменный гамбургер с макаронами и налила своего фирменного травяного чая, но не чистого, а смешанного с лимонадом из коробки – специально для нас. Она позвала за стол и Мушума, потому что он всегда ел за компанию с любым, но его тремор стал настолько ярко выраженным, что он уже суп не мог есть нормально.
– Зачем ты ему рассказал? – не унимался я.
– Сам не знаю, – ответил Каппи, – может, потому что он сболтнул про свою женщину. А может, потому, что сказал мне: «И ты станешь первым, кто ее заметит» – помнишь?
– Но он же сказал: «кто ее заметит», а не… ну ты понимаешь.
В разговоре с Каппи я старался следить за языком, правда, тетя Клеменс вряд ли в тот момент нас слышала. Хотя Каппи уже познал секс, это было событие возвышенного рода, поэтому я и не произносил грубых слов. Он очень нервничал, когда подобные слова употреблялись в отношении того, что было у него и Зелии.
– Ну, ты же мог поговорить со своим отцом, со старшим братом, – сказал я.
– А я рад, что рассказал об этом именно отцу Трэвису, – усмехнулся Каппи.
Марафон Каппи быстро стал достоянием местного фольклора, и его репутация взлетела до небес. И репутации отца Трэвиса эта история тоже не повредила, поскольку мы еще никогда в жизни не встречали священника в такой великолепной физической форме.
– У него могучие мышцы ног! – восхищалась тетя Клеменс.
– Наш последний священник не мог пробежать и десяти ярдов! – вторил ей Мушум. – Я видел его как-то на нашем дворе – валялся бревном, в стельку пьяный. Тот старый священник весил больше тебя и всех твоих тощих друзей вместе взятых! – Старик хохотнул. – Но вы этому новенькому уязвили гордость! Ему придется прочитать не одну молитву, чтобы очухаться после марафона с Каппи.
– Да убережет Господь сусликов от его ружья на этой неделе, – бросил дядя Эдвард, проходя через комнату.
Тетя Клеменс принесла кухонное полотенце и повязала его вокруг шеи Мушума. За едой тот спросил:
– Я вам когда-нибудь рассказывал, ребята, о тех временах, когда я бегал быстрее «Пожирателя печени» Джонсона?[23] А как этот старый мерзавец выслеживал и убивал индейцев, вырезал у нас печень и пожирал ее? Это был белый Виндигу! Но когда я был молодой и прыткий, я загнал его и искромсал на кусочки, и так отплатил ему. Я оторвал зубами его ухо, а потом нос. Хотите увидеть его большой палец?
– Ты им это уже рассказывал! – напомнила тетя Клеменс, которую заботило только одно: чтобы пища попадала в его старую глотку. Но у Мушума развязался язык.
– Слушайте сюда, ребята. Говорят, что «Пожиратель печени» Джонсон несколько раз убегал от индейцев, разжевав кожаные ремни, которыми были связаны у него руки. Говорят, он убил молодого индейца, который его сторожил, и отрезал бедняге ногу. Еще говорят, будто этот мерзавец сбежал с отрезанной ногой в пустыню и выжил там, поедая куски ноги, пока не добрел до своих.
– Открой рот, – скомандовала тетя Клеменс и влила туда ложку супа.
– Но все было совсем не так, – продолжал Мушум, – потому что все происходило на моих глазах. Я охотился в тех местах с черноногими, когда они схватили «Пожирателя печени». Они собирались передать его индейцам племени кроу, потому что он убил очень много их людей. Я видел этого молодого черноногого, который его сторожил, так у него прямо руки чесались убить этого Джонсона. Я беседовал с «Пожирателем печени» на наречии черноногих, которое он вроде как понимал. «Пожиратель печени», сказал я ему, тебя ненавидит половина племени черноногих, и они готовы подвесить тебя голым и содрать с тебя кожу заживо. Но сначала они отрежут тебе яйца и скормят их своим старухам у тебя на глазах…
– А ну-ка хватит! – прикрикнула тетя Клеменс.
– Но черноногий только глазами сверкнул, – продолжал Мушум. – И я сказал «Пожирателю печени», что черноногому очень хочется привязать его покрепче между двух лучших боевых пони и заставить их тянуть в разные стороны. При этих словах глаза черноногого прям как две свечи загорелись. И я сказал «Пожирателю печени» Джонсону, что ему решать: какой из этих двух вариантов смерти выбрать, чтобы племя могло сделать нужные приготовления. А потом мы отвернулись от «Пожирателя печени» и сели к костру погреться. А он, пока мы не видели, начал грызть кожаные ремни, которыми были стянуты его запястья. Мы связали ему лодыжки крепкими веревками. И еще одним кожаным ремнем, обернутым вокруг его боков, он был привязан к стволу дерева. Ему предстояло хорошенько поработать зубами, а они у него уже не были такие же крепкие, как раньше. И в этом все дело. Ты же никогда не видел зубов белого траппера, а у них нет нашей индейской привычки каждое утро начищать зубы берестой. У них зубы гниют с молодости. Траппера еще не видать, а ты уж за милю можешь учуять вонь из его рта. У него от зубов обычно воняет хуже, чем от него самого, это ж о многом говорит, да? Зубы у «Пожирателя печени» были ничуть не лучше, чем у любого другого траппера. И вот он старается перегрызть кожаные путы. А мы сидим у костра и слышим: он то ругнется, то сплюнет – это у него сначала один зуб вывалился, а за ним еще. Мы его так напугали, что он сжевал все свои зубы до десен. Теперь он не смог бы вгрызться в печень ни одного индейца. Но мы намеревались вообще сделать из него беспомощного инвалида. Этот молодой черноногий и я. Бабушка дала ему в дорогу зелья, от которого любой мог вмиг окосеть. А когда «Пожиратель печени» уснул и захрапел, мы накапали ему этого зелья в оба глаза. После этого он уже не мог метко стрелять. И ему оставалась одна дорога – податься в шерифы. Если, конечно, кроу не убили бы его раньше. Но, говорю я молодому черноногому, ты же не оставишь в живых гремучую змею, ведь она и в следующий раз бросится на тебя, даже при том, что ты вырвал ее ядовитые зубы.
– Я не хочу отдавать его кроу, – сказал молодой черноногий.
– Ну, им тоже хочется повеселиться, – возразил я. – Но на тот случай, если ему удастся вырваться, нам надо сделать так, чтобы он не смог нажать на спусковой крючок ружья. Можно отрубить ему пальцы, но тогда кроу скажут, что мы им не вернули его в целости и сохранности.
– Есть такая сколопендра, которая если укусит человека, его руки распухнут и станут как меховые рукавицы, – сказал мне черноногий. И тогда мы сделали себе небольшие факелы и пошли искать это насекомое, но, пока мы бродили по лесу, «Пожирателю печени» удалось сбежать. Когда мы вернулись к месту стоянки, то увидели только разгрызенные ремешки да разбросанные по земле сломанные коричневые зубы. Он сбежал. А потом уж сочинил историю о том, как он будто бы ел ногу индейца, потому что, если бы не красивая история, кто бы поверил этому окосевшему беззубому ублюдку?
– Вот именно! – ввернула тетя Клеменс.
– О-о, как же я буду скучать по Соне! – подмигнул мне Мушум.
– Что такое?
– А, – пояснила тетя Клеменс. – Уайти говорит, она смылась. Вчера сказалась больной, и когда он вернулся домой, то обнаружил, что ее шкаф с одеждой опустел, и еще она прихватила с собой одну из собак. Она сбежала в своем драндулете, который Уайти только что для нее починил.
– А она вернется? – спросил я.
– Уайти сказал, что в записке она написала: никогда! Он сказал, что спал с другой собакой, так он был расстроен. Соня заявила, что пора ему изменить свои повадки. Аминь.
Эта новость меня просто убила. Я шепнул Каппи, что нам надо уйти. Он по своему обыкновению вежливо поблагодарил тетю Клеменс за угощение, и мы медленно поехали на великах куда глаза глядят. Наконец мы выехали на дорогу, которая вела – хотя ехать туда надо было прилично – к дереву висельника, под которым мы с Соней закопали депозитные книжки. Когда мы сели на велики, я поведал Каппи все от начала до конца – как нашел куклу, как показал ее Соне, как она помогла мне положить деньги на несколько банковских счетов, а потом и где мы закопали книжки в алюминиевой коробке. Еще я рассказал Каппи, как Соня просила меня помалкивать про эти деньги, чтобы его не подставить. Потом рассказал про Сонины брильянтовые сережки и сапоги из саламандровой кожи и про ту ночь, когда Уайти ее поколотил, и как у меня уже тогда сложилось впечатление, что она планирует бегство. И под конец сказал, сколько денег я нашел.
– С такими бабками она может далеко слинять, – заметил Каппи и отвернулся. Обиделся.
– Да, надо было тебе раньше рассказать, – виновато протянул я.
Мы помолчали.
– В любом случае, надо откопать коробку, – наконец произнес Каппи. – Просто чтобы проверить. Может, она все-таки оставила тебе немного, – добавил он безразличным тоном.
– Ага, чтобы купить такие же кроссачи, как у тебя, – сказал я, когда мы уже почти доехали до места.
– Я же предложил поменяться, – сказал Каппи.
– Да ладно. Мне мои уже нравятся. Готов поспорить, Соня оставила мне записку. Это уж наверняка!
Мы оба оказались правы.
В коробке лежали двести долларов, одна депозитная книжка и клочок бумаги.
Привет, Джо!
Это деньги тебе на кроссовки. Еще оставляю тебе сберегательный счет, который ты должен потратить на учебу в колледже на востоке…
Я заглянул в депозитную книжку. Там был вклад на десять тысяч.
…Береги маму. Когда-нибудь, когда вырастешь, тебе воздастся за доброту. А я с этими деньгами смогу начать новую жизнь. Больше не будет того, что ты видел.
В любом случае, с любовью,
Соня.– Какого хрена, – сказал я Каппи.
– А что это она имеет в виду: «что ты видел»?
Меня так и подмывало рассказать ему и про запись с завываниями, и про ее танец, и про ее плавные движения, и показать ему золотую кисточку. Но, внезапно ощутив укол стыда, я прикусил язык. Только уклончиво буркнул:
– Ничего.
Я разделил с Каппи двести долларов, а депозитную книжку и записку засунул себе в карман. Поначалу он отказывался брать деньги, а потом я убедил его, сказав, что это ему деньги на автобус – съездить в Хелену повидаться с Зелией. На дорожные расходы. Тогда он сложил банкноты пополам и зажал их в ладони.
Мы поехали обратно домой и на полпути вспугнули двух уток из заболоченной придорожной канавы.
Проехав после этого еще пару миль, Каппи рассмеялся.
– Пришла мысль. А почему утки не летают вверх ногами? – Он не стал дожидаться от меня ответа. – Потому что они боятся, что начнут самопроизвольно крякать.
Просмеиваясь над своей шуткой, он оставил меня около нашего дома, и я отправился ужинать с мамой и отцом. Сидя за столом, мы молчали, еще не оправившись от недавнего шока, каждый думал о своем, но все же мы были вместе. На ужин мама приготовила карамелизированные бататы, которые я всегда терпеть не мог, но все-таки безропотно съел. Еще на столе стояла фермерская ветчина и плошка сладкого горошка с нашего огорода. Мама произнесла краткую молитву перед едой, и мы стали обсуждать марафон Каппи и священника. Я даже пересказал им шутку Каппи про уток. Мы не говорили о Ларке и не касались других тем, которые занимали все наши мысли.
Глава 10 Воплощение зла
Линда Уишкоб колобком выкатилась из машины и враскачку зашагала к нашей двери. Отец пошел открыть ей дверь, а я незаметно выскользнул через кухню на двор. Наконец у меня сложилось отношение к Линде и ее банановому кексу, и хотя мои мысли на ее счет были крайне противоречивыми, я никак не мог от них отделаться. Линда была виновна в самом факте существования Линдена. Она спасла своего брата-близнеца, хотя к тому моменту, как принять свое решение, она уже точно знала, что он – воплощение зла. И теперь меня от нее воротило точно так же, как ее когда-то воротило от него и биологической матери, хотя мои родители, например, относились к ней совсем иначе. И, как потом выяснилось, пока я на заднем дворе бегал взад-вперед с Перл, играя с ней в салочки, правда, мы не салили друг друга, а просто безостановочно кружили по двору, Линда выкладывала отцу важную информацию. То, что она рассказала, заставило его два дня подряд сопровождать маму в поездках в офис и обратно домой. А на третий день отец попросил ее написать список для супермаркета.
Он настоял, чтобы мы вместо нее поехали закупиться продуктами, а она осталась, заперев дверь и взяв Перл в дом. Из всего этого я сделал вывод, что Линден Ларк вернулся. Никакого другого вывода мне в голову не пришло. Но и об этом я не думал: просто не мог. И я не думал об этом, когда отец вдруг попросил поехать с ним за продуктами. Я собирался встретиться с Каппи и поупражняться с ним в новых быстрых прыжках-разворотах на велике. Мне жутко не хотелось ехать с отцом, но он сказал, что нам вдвоем легче будет расшифровать мамин почерк и найти на полках то, что она попросила купить. Его доводы убедили меня, когда я увидел листок, исписанный ее склоненным вбок почерком, с указанием не только тех или иных марок продуктов, но и с короткими советами, где что можно найти.
Иметь большой супермаркет – для нашей резервации далеко не пустяк. Когда-то до него мы затоваривались едой, помимо оптового склада, в крошечной бакалейной лавчонке Паффи. В том старом магазинчике продавались в основном товары длительного хранения: чай, соль, арахисовое масло – плюс овощи и мясо дичи. Еще там продавали плетенные из бисера безделушки, мокасины, табак и жвачку. А за настоящими продуктами питания надо было ездить за пределы резервации, миль за двадцать или больше, в дальние магазины, где нашими долларами набивали карманы продавцы, поглядывавшие на нас с опаской и бравшие у нас деньги с пренебрежением. Но когда у нас появился настоящий супермаркет, которым управляли члены нашего племени, нанимавшие на работу наших соплеменников, мы получили нечто, чем можно было гордиться. И пускай торговый автомат при входе не всегда был в рабочем состоянии, а стеклянные автоматические двери иногда врезались в бока нерасторопных бабушек, а ребятня замарывала пальцами стекло барабана с жевательными шариками так, что было не разобрать цвета оберток, все равно это был наш родной супермаркет. Грузовики подкатывали к нему как к самому обычному продуктовому магазину, пополняли его склады и ехали дальше по маршруту.
Мы с отцом вошли в супермаркет и двинулись вдоль стен, увешанных потертыми постерами с анонсом очередного схода племен пау-вау и рекламами автомобилей на продажу. Мы взяли тележку для покупок. Отец вынул мамин список.
– Сухие гигантские бобы…
Я обратил внимание отца на мамин наказ: взять пластиковый пакет с бобами, хорошенько его встряхнуть и посмотреть, не лежат ли там меленькие камешки. Мы нашли бобы в ряду с макаронными изделиями.
– Камешек с крапинками с виду похож на боб, – заметил я со знанием дела, заглядывая внутрь пластикового прямоугольника.
– Нам надо закупиться впрок, – сказал отец и накидал в тележку шесть или семь пакетов бобов. – Эти недорогие. Когда придем домой, можем высыпать все бобы на сковороду, разровнять и поискать камешки. Так… томатная паста, консервированные томаты… Резаные томаты с перцем чили… по четыре банки каждого. Пять фунтов мясного фарша. Желательно постного, так она написала.
– Постный? А зачем ей постный?
– В нем меньше жира, – ответил отец.
– А я люблю жир.
– Я тоже.
Он бросил еще какие-то пакеты в тележку.
– Кумин, – прочитал я. Кумин мы нашли в ряду со специями.
Мама собиралась наготовить побольше еды, чтобы отнести тете Клеменс – в знак благодарности за все ее запеканки.
– Салат, морковь, – продолжал я читать, взяв у него список. – Репчатый лук. Нам надо сначала понюхать луковицы – убедиться, что они внутри не гнилые.
– Фрукты. Любые хорошие фрукты, – прочитал вслух отец, заглядывая в список мне через плечо. – Думаю, мы сможем это решить, исходя из конкретного фрукта. Что скажешь про это? – Мы остановились у горы канталуп. У некоторых дынек виднелись темные пятна на кожуре. Еще там же лежали гроздья винограда. Они все были с пятнышками. Рядом стояли ведра с местными ягодами и сливами. Отец выбрал дыню и наполнил бумажный пакет сливами, а пластиковую корзинку – ягодами. Еще мы купили несколько упаковок анемичного вида цыпленка для жарки, разрубленного на куски, причем, по просьбе мамы, сосчитали количество упаковок. Еще мы купили пакет с куриными бедрышками. И соус для барбекю, и картофельные чипсы – для меня. Потом в тележку отправились две банки консервированного грибного супа. В самом низу списка значились молоко и масло: фунтовая упаковка палочек соленого масла, и фунтовая упаковка с цельным куском сладко-сливочного масла. Сливки.
– А что значит «упаковка с цельным куском»?
Отец остановился рядом со мной и, нахмурившись, заглянул в список. В руке он держал картонку сливок.
– Почему одно сладкое, а другое – соленое?
Я толкал тележку и шел перед отцом, поэтому я первым увидел Линдена Ларка. Он нагнулся над открытым мясным прилавком, освещенным холодным флуоресцентным светом. Отец, наверное, глянул туда же после меня. Какое-то мгновение мы только смотрели. Потом все пришло в движение. Отец швырнул в Ларка картонкой сливок, ринулся вперед, схватил его за плечи, развернул, оттолкнул и вцепился обеими руками ему в горло.
Как я уже говорил, отец был несколько неуклюж. Но он атаковал Ларка с такой внезапной вспышкой ярости, что все выглядело как безупречная сцена драки в кино. Ларк стукнулся головой о металлическую балку мясной витрины-холодильника. С полки на пол свалилась и лопнула картонка свиного сала, и Ларк поскользнулся на разлившейся луже сливок, расцарапав затылок о нижний бортик витрины и тряханув металлические полки. Откидная стеклянная крышка витрины упала на руки отцу, который вместе с Ларком рухнул на мясную выкладку в витрине и крепко держал его за горло. Отец прижал подбородок к груди, тонкие пряди седоватых волос упали ему на уши, лицо побагровело от прилива крови. Ларк размахивал руками, тщетно пытаясь схватить отца за шею. Теперь и я напал на него, запустив банками томатов c перцем чили.
Но все это вроде как вызвало у Ларка улыбку. Если можно улыбаться, когда тебя один душит, а другой закидывает банками консервированных томатов, но именно так он и отреагировал. Как будто наша атака его позабавила. Я попал одной банкой прямо ему в лоб, и у него над бровью возникла кровавая рана. И при виде его крови я возликовал, ощутив черную радость. Кровь и сливки. Я изо всех сил швырнул в него банкой, и что-то – может быть, шок от моего нескрываемого восторга или от радости, сиявшей на окровавленном лице Ларка, – заставило отца разжать пальцы и убрать их от горла маминого обидчика. Тот рывком вскочил на ноги и с размаха толкнул отца. Отец попятился, теряя равновесие. С ужасным грохотом он рухнул навзничь в проход между полками, и Ларк коршуном кинулся на него.
Вот тогда у отца случился первый инфаркт – как потом оказалось, микроинфаркт. Даже не средней тяжести. Микро. Но, как ни крути, инфаркт. Отец лежал в проходе, и его лицо на фоне разлитых сливок, разбросанных консервных банок и бутылок шампуня отливало бледной желтизной. Он силился вздохнуть и с тревогой взглянул на меня. Видя, что он схватился рукой за грудину, я спросил:
– Хочешь, чтобы вызвали «Скорую»?
Когда он кивнул в знак согласия, вся моя ярость испарилась. Я бухнулся рядом с ним на колени, и Паффи пошел звонить.
Приехавшая бригада говорила, что я не могу поехать с ним в больницу, но я сопротивлялся. И все же остался с ним. Меня не заставили его бросить. Я теперь знал, что бывает, если отпускаешь от себя родителя слишком далеко.
* * *
Мы оставались в Фарго почти неделю, целыми днями проводя в больнице Св. Луки. В первый день отцу сделали операцию, которая сейчас считается рутинной, а тогда была еще в новинку. В ходе операции ему поставили три стента в артерии. В большой больничной кровати он казался истощенным и тщедушным. Хотя врачи говорили, что он идет на поправку, я, само собой, волновался за него. Поначалу я мог смотреть на него только через стекло из коридора. Когда его перевели в отдельную палату, дела пошли веселее. Мы сидели рядом с ним, болтали о всякой чепухе, обо всем понемножку. Это казалось странным, но скоро пребывание там стало казаться своего рода отпуском, когда мы, будучи в безопасности, вместе, вели разговоры ни о чем. Мы бродили по коридорам, делали вид, что нас коробит больничная кашеобразная пища, и опять говорили о всякой ерунде.
Вечером мы с мамой возвращались в номер в отеле. Мы там спали на сдвинутых кроватях. Бывая с родителями в поездках, мы обычно спали в одном номере: отец с мамой на двуспальной кровати, а я – на раскладушке в уголке. Но чтобы мы с мамой остались в отеле вдвоем – такое случилось на моей памяти в первый раз. Я ощущал некую неловкость: ее физическое присутствие меня смущало. Я обрадовался, что мама взяла с собой отцовский синий халат, сшитый из старых махровых полотенец, который она все уговаривала его выбросить. Махра кое-где совсем износилась, рукава лопнули по шву, нижний край обтрепался. Я решил, что мама привезла халат для отца, но она надела его в первую же ночь в отеле. И я стал думать, что она просто забыла свой халат с красивыми золотистыми цветами и зелеными листьями. Но на второе утро я проснулся и поглядел на нее: она спала в отцовском халате. И тогда во вторую ночь я решил проверить, не надела ли она этот халат намеренно. И точно: она опять легла спать в нем, хотя в номере было совсем не холодно. И наутро, когда я вышел погулять в парке перед больницей, мне пришло в голову, как было бы здорово надеть что-то из отцовских вещей. Это каким-то образом сблизило бы нас.
Он мне был нужен. Я, правда, не мог безоглядно отдаться этому ощущению, в смысле – нуждаться в нем, а мама как-то не могла со мной это обсуждать. Но то, что она носила отцовский халат, служило для меня неким знаком, что ей необходимо чувство комфорта от его присутствия рядом. Я только сейчас это могу понять. Тем вечером я поинтересовался у нее, взяла ли она лишнюю рубашку для отца, а потом она кивнула в ответ на мой вопрос, можно ли мне ее надеть. И отдала рубашку мне.
У меня осталось от него много рубашек и галстуков тоже. Он покупал всю свою одежду в «Силверманз» в Гранд-Форкс. Там продавалась лучшая в штате мужская одежда, много он не покупал, но всегда выбирал придирчиво. Я носил отцовские галстуки, когда учился на юридическом факультете университета Миннесоты и когда проходил экзамен на получение адвокатской лицензии. Все то время, что я работал общественным обвинителем, я в последнюю неделю каждого судебного процесса надевал его галстуки. Еще я пользовался его самопиской, но всегда боялся ее потерять. Ручка до сих пор у меня, но я больше не подписываю ею решения суда племени, как это делал он. Хватит и того, что я ношу его старомодные галстуки, а Сонина золотая кисточка лежит в ящике моего письменного стола, и у всех моих собак всегда была кличка Перл.
Я надел отцовскую рубашку в тот день, когда он наконец стал нормально соображать. Это произошло накануне его выписки. Он заметил на мне свою рубашку и вопросительно поглядел на меня. Мама как раз вышла налить кофе, а я остался в палате. Впервые я почувствовал себя одиноким рядом с ним. Меня не удивило, что еще не успели затянуться его швы, а он уже пустился снова обдумывать ситуацию: спросил, неизвестно ли мне нынешнее местонахождение Ларка. Я задавал себе такой же вопрос, но откуда же я мог знать. Даже если тетя Клеменс, которая регулярно звонила маме в номер отеля и сообщила это ей в одном из телефонных разговоров, то я был не в курсе. Но вот в тот самый вечер зазвонил телефон, и я снял трубку. Мама вышла из номера купить газет.
Это был Каппи.
– Кое-кто из нашей семьи нанес визит кое-кому, – сообщил он.
Я не понял, о чем он.
– Здесь?
– Нет, там.
– Где?
– Его привели в чувство.
– Каким образом?
– Да на Голопалубе, тупица! Все произошло в точности, как когда Пикар был детективом[24]. Помнишь? Внушение.
– Точно! – Меня охватило щекочущее чувство облегчения. – Точно! Он мертв?
– Нет, но он получил внушение. Его прилично отметелили, брат. Больше он к тебе не подойдет. Расскажи родителям.
После телефонного разговора с Каппи я стал ломать голову, как бы им сообщить. И как бы не сболтнуть, что к Ларку наведались Доу, и Рэндалл, и дядя Уайти, и даже дядя Эдвард. И тут снова зазвонил телефон. Мама уже вернулась в номер. Я не успел ей сказать, что это звонит Опичи, как мама сама спросила, что стряслось в офисе. Голос Опичи был слышен из трубки и звучал пронзительно и взволнованно. Мама села рядом со мной на кровати и взяла у меня из рук трубку. Что бы ей ни сообщила Опичи, сразу было видно: дело плохо. Наконец мама положила трубку на рычаг, а потом свернулась калачиком и повернулась ко мне спиной.
– Мам?
Она не ответила. До сих пор помню зудение флуоресцентных ламп в ванной. Я обошел кровать вокруг и опустился на колени с другой стороны. Она раскрыла глаза и посмотрела на меня. Сначала она казалась смущенной, и в первые секунды ее взгляд шарил по моему лицу так, словно она видела меня впервые в жизни или после долгой разлуки. Потом ее взгляд сфокусировался, и губы злобно искривились.
– Думаю, его избили, – прошептала она.
– Это хорошо, – отозвался я. – Да.
– Но Опичи говорит, потом он вернулся, в бешенстве, и поехал прямо на заправку. И начал что-то молоть Уайти про его богатенькую подружку. Как его богатенькая подружка так лихо его облапошила и что он собирается закрутить с ней. Он заехал к бензоколонкам, орал, насмехался над Уайти. Потом уехал. Уайти гнался за ним с гаечным ключом. О чем это он? Соня ведь совсем не богатая.
Я сидел, разинув рот.
– Джо?
Я положил голову на ладони, а локтями уперся в коленки. Через какое-то время лег и накрыл голову подушкой.
– В номере жарко, – сказала мама, – включи вентилятор.
Поостыв немного, мы отправились в закусочную под названием «Кафе 50-х», где заказали по гамбургеру, картошку фри и шоколадные коктейли. Мы ели молча. Потом мама внезапно положила свой гамбургер на тарелку и произнесла:
– Нет!
Не переставая жевать, я недоуменно уставился на нее. Ее веки слегка нависли над запавшими глазами, что придавало ее лицу недовольное выражение.
– Тебе не нравится бургер, мама?
Она смотрела мимо меня, поглощенная своими мыслями. Между сдвинутых бровей возникла кривая морщина, похожая на порез.
– Папа мне кое-что рассказал. Историю про Виндигу. Ларк пытается нас сожрать, Джо. Я ему не позволю! Я его остановлю!
Ее решимость меня напугала. Она подняла гамбургер и начала методично, медленно откусывать от него. И не остановилась, пока весь его не съела. Что тоже меня напугало. Впервые после нападения она опустошила тарелку дочиста. Потом мы вернулись в отель и стали готовиться ко сну. Мама приняла таблетку и тут же уснула как убитая. Я уставился в потолок, разглядывая тонкие плиты со звуконепроницаемыми вставками в щелях. Когда я пристально в них вглядывался, я мог чувствовать, как мое сердцебиение замедляется и стихает. Грудина раскрылась, желудок перестал перемалывать пищу. Я медленно, ритмично насчитал семьдесят восемь случайных дырок в плите прямо над моей головой и восемьдесят одну – в соседней. Если мама устроит охоту на Ларка, он ее убьет. Я это точно знал. И я снова и снова пересчитывал дырки.
* * *
В день нашего отъезда из Фарго я проснулся рано. Мама уже встала – из ванной доносился шум льющейся воды. Потом шум воды усилился. В номере были плотные шторы, и я не сразу понял, что за окном тоже лило вовсю. Это был редкий в наших краях августовский ливень, который прибивал всю пыль на дорогах, умывал белесые от придорожной пыли листья на деревьях. Дождевая вода заполняла трещины в земле и ненадолго оживляла потемневшую пожухлую траву. Благодаря дождю кукуруза в полях вымахивала на целый фут, а значит, можно было надеяться на второй сенокос в сезоне. Этот ласковый дождь мог идти несколько дней не переставая. Всю дорогу домой нас овевала приятная прохлада. Мама сидела за рулем и не выключала дворники. Что может быть приятнее этого шуршания для ушей дремлющего на заднем сиденье мальчишки! Отец сидел рядом с мамой, прикрывшись пледом, с тревогой поглядывая на дорогу. Время от времени я открывал глаза, просто чтобы увидеть родителей. Отец протянул руку влево, положив ее маме на ногу повыше колена. А она иногда отрывала правую ладонь от руля, опускала ее вниз и прикрывала его руку сверху.
Во время той поездки с ощущением умиротворенности и покоя, так похожем на мои самые ранние воспоминания о путешествиях с родителями, я вдруг понял, как надо поступить. Эта мысль осенила меня, когда я лежал под старым мягким пледом. Сначала я ее отогнал. Но мысль вернулась. И я трижды отгонял ее, с каждым разом все сильнее. Я стал напевать себе под нос. Я заговорил вслух, но мама приложила палец к губам и кивнула на уснувшего отца. Мысль пришла снова, на сей раз упрямее, и я позволил ей остаться и стал ее обмозговывать. Я обдумал возникшую идею целиком, вплоть до ее реализации. А потом отвлекся и стал наблюдать за собой как бы со стороны.
И тут мысль улетела.
Вернувшись домой, мы нашли приготовленный тетей Клеменс чили. Паффи доставил нам все покупки, которые мы неделей раньше отобрали. Все, что было нужно, стояло в кухонном шкафу и в холодильнике. Я сразу заметил на стойке свою коробку картофельных чипсов. И сразу вспомнил про банки консервированных томатов, которыми закидал Ларка. Наверное, тетя Клеменс открыла их и добавила в чили. Каждый божий день после стычки в супермаркете я жалел, что не раскроил Ларку череп. Я снова и снова представлял себе, как я его убиваю. Но коль скоро я этого не сделал, то первым делом с утра я намеревался навестить отца Трэвиса. Я решил сходить на его субботний урок катехизиса. Подумал, что он разрешит мне поприсутствовать. И еще понадеялся, что, если сделать что-то полезное для церкви после занятий, может, он заметит, как недавний ливень выгнал сусликов из их нор и как они разжирели, поедая свежий урожай. С ними надо было что-то делать. И я очень надеялся, что отец Трэвис научит меня стрелять сусликов, и я немного попрактикуюсь.
* * *
Когда мне пришлось изображать католика, я не то чтобы начинал с чистой доски. Священники и монахини жили в нашей резервации с самого ее основания. Даже приверженцы традиционных верований индейцев, люди, тайком практиковавшие старинные обряды, либо насильно приобщались к католицизму во время обучения в пансионе, либо, как Мушум в свое время, заводили дружбу с интересными священниками, либо же решали просто на всякий случай добавить поклонение чужим святым к вере в священную трубку. В каждой нашей семье были очень набожные верующие или, по крайней мере, ходившие в церковь из любопытства. Меня, например, неустанно склоняла к Христовой вере тетя Клеменс. Она убедила маму (на отца она махнула рукой) крестить меня и приняла деятельное участие в моей подготовке к первому причастию и конфирмации. Я знал, чего ожидать в перспективе. Команда молодых католиков не была особо доктринерской, но на занятиях по катехизису мне пришлось бы работать по утвержденным спискам. Исповедь. 1. Таинство. 2. Годичная. 3. Богохульство. 4. Законы. Благодатная молитва: 1. Обычная. 2. Крестильная. 3. Действенная. 4. Возвышающая. 5. Привычная. 6. Просветляющая. 7. Вменяющая. 8. Внутренняя. 9. Неоспоримая. 10. Естественная. 11. Предвосхищающая. 12. Священная. 13. Освящающая. 14. Достаточная. 15. Существенная. 16. При приеме пищи. 17. Еще был Обычный, Формальный, Привычный, Существенный, моральный Первородный и Избывный грех. Были особые виды грехов: грех против святого духа, грехи недеяния, грехи других, грех молчания и грех Содомский. Еще были грехи, вопиющие к небу об отмщении.
В списках, само собой, были и определения всех этих понятий. Отец Трэвис преподавал Закон Божий так, словно Второго Ватиканского собора никогда не было. Никто ведь не заглядывал ему через плечо для контроля. Он проводил мессу на латыни, если у него было настроение, а прошлой зимой, как уверял Энгус, в течение нескольких месяцев он, отодвинув алтарь вбок, разыгрывал перед прихожанами средневековые английские Мистерии с задором заядлого колдуна. Когда дело до дошло до уроков катехизиса, он с легкостью вводил или исключал темы по своему разумению. В субботу утром он впустил меня в церковный подвал и предложил занять место в кафетерии. Что я и сделал, стараясь не глядеть на ковер и не думать о Каппи. Со мной в сумрачном помещении сидел еще только один слушатель – Баггер Пурье, снова решивший встать на путь истинный после нескольких лет забулдыжной жизни в «Городах-близнецах»[25]. Это был тощий дядька жалкого вида с толстым багровым, как у клоуна, носом хронического пьяницы. Сестры нарядили его в чистую одежду, но все равно от него несло затхлостью, словно он долгое время спал в заплесневелом углу. Я пробежал взглядом по распечаткам, которые вручил мне отец Трэвис, и стал слушать его лекцию о трех ипостасях Святой Троицы. После занятий, когда Баггер ушел, я спросил у отца Трэвиса, можно ли мне позаниматься с ним индивидуально всю будущую неделю.
– У тебя какая-то конкретная цель?
– Я хочу пройти конфирмацию в конце лета.
– Весной к нам приедет епископ – тогда же все пройдут конфирмацию. – Отец Трэвис внимательно оглядел меня. – А почему такая спешка?
– Это могло бы помочь кое в чем.
– В чем?
– Кое в чем дома, наверное, если бы я мог помолиться.
– Ты можешь молиться и до конфирмации. – Он передал мне брошюру. – К тому же ты можешь молиться, просто разговаривая с Господом. Своими словами, Джо. Тебе не нужно ждать конфирмацию, чтобы молиться.
– Отец, у меня вопрос.
Он молча ждал. Как-то очень давно я услышал от кого-то фразу, и она засела у меня в памяти. И я спросил:
– Что такое грехи, вопиющие к небу об отмщении за них?
Он склонил голову набок, словно прислушивался к звуку, которые я не мог услышать. Потом пролистал свой катехизис и указал мне на определение. Грехами, вопиющими к небу об отмщении за них, были убийство, содомия, лишение работника заработка и притеснение неимущего.
Мне казалось, я понимал, что такое содомия, и считал, что оно включает и изнасилование. Значит, мои мысли не противоречили учению церкви – этот факт открылся мне в первый же день занятий с отцом Трэвисом.
– Спасибо, я приду в понедельник, – сказал я.
Он кивнул, задумчиво глядя на меня.
– Я уверен, что ты придешь.
В воскресенье я всю службу просидел с Энгусом, а утром в понедельник помчался в церковь сразу после завтрака. Снова шел дождь, и я съел огромную плошку маминой овсянки. Эта овсянка тяжелой теплой массой легла в желудке и прижимала меня к велосипедному седлу. Мне хотелось вернуться и завалиться спать, как, вероятно, и отцу Трэвису. Он был бледен, наверное, плохо спал. И не побрился. Кожа у него под глазами была синеватая, он дышал на меня кофейным ароматом. Прилавок кафетерия был завален коробочками из-под еды, мусорные ведра были забиты.
– У вас тут были поминки? – спросил я.
– Умерла мать мистера Пурье. А это значит, что, скорее всего, мы его больше не увидим. Он надеялся воссоединиться с церковью, пока она еще была в сознании. Кстати, я принес тебе книгу, – и он дал мне старое потрепанное издание «Дюны» карманного формата. – Так. Ну что, начнем с причастия? Я видел тебя на мессе с Энгусом. Ты понимал, что там происходило?
А я как раз выучил его брошюру почти наизусть и ответил:
– Да.
– Можешь рассказать?
– Там происходило распределение благодатной пищи для наших душ.
– Очень хорошо. Что-нибудь еще?
– Тело и кровь Христа пребывали там в виде вина и… крекеров?
– В виде просфоры. Да. Еще?
Пока я рылся в памяти, дождь прекратился. Внезапный проблеск солнца осветил пыльные стекла подвальных окон, и в солнечных лучах завертелись пылинки. Весь подвал осветился косым полотнищем света.
– Мм… духовная пища?
– Верно. – Отец Трэвис улыбнулся, заметив танцующие вокруг нас и в окнах всполохи мерцающего света. – Раз нас только двое, как насчет того, чтобы провести занятие на воздухе?
Я последовал за отцом Трэвисом вверх по лестнице, мы вышли через боковую дверку и пошли по тропинке, вьющейся между сосен. С сосновых веток падали дождевые капли. Тропинка сделала петлю за спортивным залом и школой, потом сбежала вниз сквозь ряды деревьев и поднялась к дороге, на которой развернулись самые драматичные эпизоды марафона Каппи и отца Трэвиса. По пути он сообщил, что для подготовки к причастию, когда я стану частью мистического тела Христова, мне придется очиститься посредством таинства исповеди.
– А чтобы очиститься, надо понять самого себя, – продолжал отец Трэвис. – Все, что есть в окружающем тебя мире, также находится и в тебе. Хорошее, дурное, зло, совершенство, смерть, все. Так мы изучаем наши души.
– Ладно, – сказал я рассеянно. – Смотрите, отец! Вон там суслик!
– Да, – он остановился и взглянул на меня. – Как твоя душа?
Я стал озираться, словно моя душа вот-вот появится из-за кустов, чтобы я мог ее проверить. Но рядом было только лицо отца Трэвиса, тщательно выбритое, преувеличенно красивое, и его серьезные водянистые глаза с жутковатым блеском и четко очерченные, словно вылепленные, губы.
– Сам не знаю. Я бы хотел пострелять сусликов.
Священник зашагал дальше, и я время от времени бросал взгляд на его спину, но он молчал. Наконец, когда мы углубились в подлесок, он произнес:
– Зло.
– Что?
– Нам нужно обратиться к проблеме зла, чтобы понять твою душу или душу любого другого смертного.
– Ладно.
– Есть разные виды зла, ты знал это? Есть зло материальное, которое вызывает страдание безотносительно людей, но существенно влияющее на жизнь людей. Болезни и нищета, разного рода катастрофы. Это материальное зло. С ним мы ничего не можем поделать. Мы должны признать, что его существование является для нас тайной. Другое дело моральное зло. Его людям причиняют другие люди. Некий человек способен сознательно сделать нечто другому человеку и причинить ему боль и страдания. Это моральное зло. И ты, Джо, пришел сюда с целью исследовать свою душу в надежде приблизиться к Богу, потому что Бог – это благо, он всемогущий, он исцеляет, он милостив, и так далее. – Отец Трэвис умолк.
– Верно, – согласился я.
– И ты невольно должен задуматься, почему же существо столь грандиозное и всемогущее допускает столь возмутительную вещь – что одному человеку Бог позволяет причинять непосредственный вред другому человеку.
И тут меня что-то больно кольнуло, точно стрелой пронзило тело. Но я продолжал идти, опустив голову.
– Единственный ответ на этот вопрос, хотя и неполный ответ, – произнес отец Трэвис, – заключается в том, что Бог наделил людей свободной волей. Мы сами способны предпочесть добро злу, но и наоборот – зло добру. И во имя защиты нашей свободы воли Бог нечасто, во всяком случае, не слишком часто, вмешивается. Бог не может вмешаться, не забирая у нас моральную свободу. Ты это понимаешь?
– Нет. Хотя да.
– Единственное, что может сделать Бог, что он и делает все время, – это извлечь добро из любой ситуации зла.
Я похолодел.
– Вот что он делает, Джо, – слегка повысив голос, сказал отец Трэвис. – Всегда. Ты же знаешь, я как местный священник похоронил много детей и целые семьи, погибшие в ДТП, и молодых, которые сделали в жизни ужасный выбор, и даже людей, которым повезло умереть в старости. Да, я все это видел. И даже если есть зло, из него возникает много добра. Потому что люди в подобных обстоятельствах решают совершить еще больше добрых дел, проявить необычную любовь, стать еще сильнее преданными Иисусу, или своему святому покровителю, или достичь небывалого сплочения своей семьи. Я видел это у людей, которые идут по жизни своим путем, как твои соплеменники, кто чтит традиционные верования и в церковь ходит ну разве что на похороны. Я ими восхищаюсь. Они приходят на поминальные бдения. Даже если они настолько бедны, что у них буквально ничего нет, они готовы отдать своему ближнему последнее, что у них осталось. Мы же никогда не бываем настолько бедны, что не в состоянии благословить ближнего своего, правда? Вот почему любое зло, моральное или материальное, завершается добром. Ты сам увидишь.
Я остановился. Я смотрел на поле, а не на отца Трэвиса и перекладывал из одной руки в другую книгу, которую он мне дал. Мне захотелось швырнуть ее подальше. По полю прыгали суслики, обмениваясь веселым свистом.
– А я бы пострелял сусликов, – буркнул я сквозь зубы.
– Мы не будем этого делать, Джо, – твердо ответил отец Трэвис.
* * *
Я ехал на велике и любовался нашим пыльным старым городком, который сверкал, отмытый дочиста летним дождем. Я спустился с холма мимо муниципальных жилых многоэтажек, потом поехал по шоссе мимо водонапорной башни, к владениям Лафурнэ. Семье Лафурнэ принадлежали три примыкающих друг к другу земельных участка, и, хотя участки много раз нарезались на мелкие наделы, их всегда приобретали другие члены семьи. Дома соединялись сеткой проселочных дорог и тропинок, а сам Доу жил в главном доме – низкой постройке в стиле ранчо почти у самого шоссе. И сейчас на крыльце стоял Каппи, привалившись к перилам террасы, в расстегнутой рубахе, а у его ног на подставке стоял набор гантелей.
Я затормозил перед домом и выпрямился в седле.
– А что, девчонки приходят смотреть, как ты тягаешь гантели?
– Никто не приходил, – невозмутимо ответил Каппи, – кого стоило бы удостоить взглядом.
Он сделал вид, что рвет на себе рубаху, и стукнул кулаком по гладкой груди. По сравнению с прошлой неделей он повеселел: Зелия написала ему аж два письма.
– Иди-ка сюда! – Он заставил меня слезть с велика, подойти и повыжимать его гантели. – Попроси отца купить тебе гантели. Ты можешь позаниматься у себя в спальне, пока не накачаешь мышцы так, чтобы твое тело приобрело презентабельный вид.
– Презентабельный вид, как у тебя? – уточнил я. – Пиво есть?
– Даже лучше! – заявил Каппи.
Он полез в карман джинсов и вытащил оттуда полиэтиленовый пакет, в который был аккуратно завернут одинокий косячок.
– А, брат мой кровный!
– Me sparkum up, kemo sabe![26] – произнес Каппи.
И мы решили скурить косяк на смотровой площадке. Если бы мы направились от дома Каппи по дороге вдоль лесистого гребня холма, мы могли бы взобраться повыше на самую верхотуру, на наш наблюдательный пункт, откуда поле для гольфа было видно как на ладони, а нас бы там никто не увидел. Мы не раз уже наблюдали оттуда за гольфистами, индейцами и белыми, которые картинно вращали бедрами, обменивались умными взглядами и били по мячику либо удачно, либо нет. Все в их исполнении выглядело смехотворно: и как они выпячивали грудь, и как в сердцах швыряли на газон свои клюшки. Мы всегда следили взглядом за траекторией мячика в воздухе – на тот случай, если они не смогут потом найти его в траве. Мы уже насобирали полное ведерко потерянных мячей. Каппи положил в пластиковый мешок несколько пресных лепешек, два мягких яблока, пару банок газировки и одинокую банку пива и привязал мешок к велосипедному рулю. Мы немного проехали по шоссе, на повороте слезли с великов и повели их мимо кустов вверх по склону холма, а потом по гребню холма к нашему наблюдательному пункту.
Земля почти высохла. Дождевая вода просочилась, как сквозь губку, под слой палой листвы и напоила страдавшую от жажды почву. Клещи тоже пропали. Мы прислонились спинами к дубу, чья крона давала уютную приятную тень. Я затягивался косячком слишком долго.
– Хорош балдеть! – укоризненно сказал Каппи.
А я забыл обо всем, раздумывая о своем. Травка оказалась резкой и лежалой. Потом мы выпили пиво. На поле показалась небольшая группа пузатых мужиков в одинаковых белых шляпах и желтых рубашках, наверное, команда, и мы обсмеяли каждое их движение. Но в гольф они играли хорошо и не потеряли ни одного мяча. Они ушли, и наступило затишье. Мы досмолили окурки и заели кусочки смолы из фильтра нашей едой. Каппи повернулся ко мне. Он отрастил такие длинные патлы, что мог забрасывать их со лба назад рывком головы. Энгус и Зак тоже пытались, так же мотнув головой, сбрасывать с глаз упавшие волосы, но у них еще не получалось. Этот жест Каппи сводил девчонок с ума.
– А на фига ты ходил на службу в церковь, а потом еще и на занятия по катехизису с этим козлом? – спросил Каппи.
– Новости как мухи – разлетаются быстро, – заметил я.
– Это точно! – согласился Каппи. Но мой ответ его не удовлетворил. – Так почему?
– А как ты думаешь, что бы сделал парнишка, у которого мать пережила то, что она пережила, когда появляется обличье зла!
– Обличье зла? А, ну да, Смолоподобный, который убил Ташу Яр. Значит, Ларк…
– Без всякой причины Обличье зла появляется в супермаркете, и у отца парнишки случается инфаркт, который его чуть не убил. Как думаешь, этот парнишка, на глазах у которого все это произошло, будет нуждаться в духовной помощи?
Каппи внимательно посмотрел на меня.
– Не-а.
– Правильно, – и я задумчиво уставился на стриженый зеленый газон внизу.
– Не-а, – повторил он. – Тут что-то другое.
– Ладно, – вздохнул я. – Мне нужно попрактиковаться в стрельбе. Я думал, он согласиться помочь мне пострелять в сусликов. Но вместо этого он дал мне книжку.
Каппи расхохотался:
– Ну, ты лопух!
– Ага! – И я скопировал речь отца Трэвиса. – Мы не будем этого делать, Джо. Добро всегда вырастает из зла. Ты сам увидишь!
– Ты сам увидишь? Он так и сказал?
– Ага.
– Вот хрен моржовый! Если бы это было так, то все хорошее начиналось бы со зла. Если хочешь пострелять, – продолжал Каппи, – ты бы сходил к своему дядьке.
– Я с Уайти не общаюсь.
– Тогда к нам. Приходи в любое время. В любое время, брат! Я охочусь с младенчества. Я завалил своего первого оленя, когда мне было девять.
– Я знаю. Но я же не только по сусликам хочу стрелять. Ты же понимаешь.
– Может быть, может быть, я понимаю.
– Ты понимаешь, к чему я клоню.
– Да, думаю, да. – Каппи кивнул, глядя на новый выводок гольфистов – на сей раз это были одни индейцы, одетые кто во что горазд.
– А раз ты это понимаешь, ты должен еще понимать, что я никого не вовлеку в это дело.
– Вовлеку? Серьезный юридический термин.
– Мне разъяснить его тебе?
– Да пошел ты… Я ж твой лучший друг. Я твой главный друган.
– И я твой главный. Но я это сделаю один или вообще не сделаю.
Каппи рассмеялся. Он вдруг полез в задний карман и достал мятую пачку сигарет своего старшего брата.
– Черт, я совсем про них забыл.
Сигареты были смяты, но не сломаны. Я заметил, что в пачку засунут коробок спичек с логотипом заправки Уайти.
– Теперь у него еще и фирменные спички! – буркнул я.
– Мой брат их у него взял. Я туда не хожу. Но Рэндалл говорит, Уайти расширяет бизнес, собирается открыть видеопрокат. Так, ладно, вернемся к нашим мустангам.
– К каким мустангам?
– Мне не обязательно знать. Возьмем охотничье ружье моего отца и попрактикуемся в стрельбе. Потому что, Джо, ты же не сможешь попасть в… дверцу пикапа.
– Наверное, ты прав.
– И потом, что ты будешь делать, когда дверца пикапа озвереет и набросится на тебя? Тогда тебе кранты. А я не могу допустить, чтобы это с тобой произошло.
– А что мне делать с его ружьем? Я не умею стрелять из его ружья.
– Ну, попрактикуешься. А потом у Доу украдут ружье, пока дома никого не будет. Мы спрячем ружье и патроны к нему. Послушай, мы же сюда пришли не над старикашками смеяться, а?
– Нет.
– Мы изучаем обстановку.
– На тот случай, если он появится на поле. Я знаю, что он играет в гольф. По крайней мере, раньше играл. Линда мне рассказала.
– Всем известно, что Ларк играет в гольф. И это хорошо. Любой может промазать по оленю, но случайно попасть в гольфиста.
* * *
Мы поехали к дому Каппи и заехали во двор, где он в возрасте пяти лет начал тренироваться в стрельбе.
– Отец учил меня стрелять из мелкокалиберного ружья, – сказал Каппи. – В сусликов и белок. Но при стрельбе из мелкашки серьезной отдачи нет. А потом, когда мы в первый раз пошли на оленей, он дал мне свое охотничье ружье калибра 30.06. Я ему сказал, что боюсь отдачи. А он отвечает: отдача не больше, чем у мелкашки. Точно тебе говорю, сынок, не бойся. И я первым же выстрелом завалил своего первого оленя. А знаешь, почему?
– Потому что ты – «император»?
– Нет, сынок, потому что я не почувствовал отдачи. Я вообще не думал об отдаче. Я мягко нажал на спусковой крючок. Иногда, когда учишься стрелять из охотничьего ружья калибра 30.06, ты сам заранее дергаешься, когда производишь выстрел. Потому что ты волей-неволей ждешь отдачу. Я бы с радостью поучил тебя стрелять на мелкашке, как отец меня учил, но ты уже заранее оробел.
Я и впрямь оробел. Я точно знал, что вздрогну, нажимая на спусковой крючок. Знал, что неловко передерну затвор и дошлю патрон в патронник. И что, возможно, патрон заклинит. И что, прицеливаясь, я могу зажмуриться.
Там у них был натянут проволочный забор, на который мы выставили пустые банки и стали по ним стрелять, потом опять выставили их и опять стали палить по ним. Каппи аккуратно сбил первую банку, продемонстрировав мне, как это делается, но я не сшиб ни одну из оставшихся. Я, наверное, был единственный подросток в резервации, который не умел стрелять. Моему отцу было наплевать, а дядя Уайти пытался меня научить. Но у меня ничего не вышло. Я не мог попасть в цель.
– Тебе повезло, что ты не древний индеец, – сказал Каппи, – а то ты бы умер с голоду.
– Может, мне нужны очки? – Я был обескуражен.
– Может, надо закрыть один глаз?
– А я что делаю?
– И другой глаз!
– Оба глаза?
– Да, может, так лучше получится?
И я сбил три банки из десяти. Я стрелял, пока не израсходовал все недешевые патроны, и это, как заметил Каппи, было проблемой. Ведь мы не могли никому сказать, что я практиковался в стрельбе. И он не мог попросить Доу дать ему еще патронов – без объяснения причин. Мы решили, что я буду практиковаться, когда дома у Каппи никого не будет. Вообще-то Каппи сказал, что нам для стрельбы надо найти место подальше от его дома: мы могли уйти за два пастбища и вообще оказаться вне поля зрения, хотя звуки выстрелов здесь все равно были бы слышны.
– Нам надо раздобыть денег и сгонять в Хупдэнс или в соседний город, – предложил Каппи. – Зайдем в спорттовары, и я куплю патронов.
– Нет, я сам куплю, – возразил я.
Мы спорили долго, пока мне не пришло время уходить. Для меня установили комендантский час: мама пообещала, что если я не появлюсь дома к шести вечера, она пошлет на мои поиски полицию.
– Полицию?
– Ну, она сказала, что это фигура речи. Может, дядю Эдварда.
– Ты бы не хотел, чтобы он пошел тебя искать?
Нет, я бы не хотел, чтобы дядя Эдвард поехал меня искать в своей большой машине – медленно, с опущенным стеклом, расспрашивая каждого встречного, поэтому я пошел домой. У меня были деньги, которые оставила мне Соня. Я спрятал сто долларов дома в папке с наклейкой «Домашние задания». Для меня вспоминать Соню было все равно что тыкать пальцем в свежий кровоподтек. По дороге домой я выработал план, как уговорить маму отвезти меня в Хупдэнс. Она думала, что я все еще хожу за занятия по катехизису. Так вот, мне якобы понадобились свечи. Или черные ботинки, чтобы прислуживать у алтаря. Вариант с ботинками – то, что надо. И на следующий день после работы мама повезла меня в обувной и купила мне черные ботинки, хотя я пожалел, что она зря потратила деньги. Но зато под каким-то невинным предлогом я забежал в магазин хозяйственных, спортивных и охотничьих товаров и, пока она ждала снаружи, купил для ружья Доу патронов на сорок долларов. Продавец меня не знал и внимательно проверял кассовый чек на крупную сумму. А я в это время разглядывал банки с краской, баскетбольные мячи и мячики для гольфа, клюшки для гольфа, коробки с гвоздями, мотки проволоки, секцию домашнего консервирования, лопаты, грабли, цепочные пилы, как вдруг заметил канистры для бензина – в точности такие же, как та, что я нашел в озере.
– Похоже, все правильно, – сказал продавец и отдал мне сдачу.
Выйдя из магазина, я сказал маме, что купил для отца сюрприз, который, по моему разумению, не должен был вызвать у него подозрений. Помимо патронов я приобрел блесны для ловли окуней – нашей любимой рыбы. Я громоздил одну ложь на другую, и это у меня получалось так же естественно, как раньше говорить правду. На обратном пути мне вдруг стало ясно, что все мои ухищрения не имели большого значения, потому что я поставил перед собой цель, которую про себя назвал не отмщением, а правосудием.
Грехи, которые вопиют небу о правосудии.
Наверное, я бормотал эти слова про себя. Я был словно в трансе, не спуская глаз с дороги, представляя, сколько же от меня усилий потребует умение стрелять.
– Что ты говоришь?
У мамы сохранялось важное преимущество. Она защищала отца и поэтому действовала с умыслом. Больше того: я же помнил, что она сказала мне в закусочной в Фарго, когда положила гамбургер обратно на тарелку. Это сделаю я! Нет, не ты, подумал я тогда. Но мама была заточена на свой умысел, словно все долгие недели, проведенные ею дома взаперти, она острила собственную решимость, как лезвие клинка. А еще в Фарго мы с ней обсуждали слова врачей. Мы совместно взвешивали факты и задавали вопросы. Она обращалась со мной так, как будто я был много старше, чем на самом деле, и это ее отношение ко мне как ко взрослому не прекратилось и потом. Теперь она многое видела и понимала и больше не обращалась со мной с прежней мягкостью и терпением. Она перестала потакать мне во всем. И мои поступки перестали ее смешить, как раньше. Было такое впечатление, что все те недели добровольного заточения она дожидалась, когда я повзрослею настолько, чтобы больше в ней не нуждаться. И если она ждала, когда я начну действовать под влиянием своих собственных инстинктов, то именно так я себя сейчас и вел. Но я в ней по-прежнему нуждался. Мне же нужно было, чтобы она отвезла меня в Хупдэнс. Нет, не так… Я нуждался в ней так, как в ту пору просто не мог осознать. По дороге домой из Хупдэнса в тот день я прямо задал ей вопрос, на который не отважился отец. Вопрос был детский, но в то же время и взрослый.
– Мам, а почему ты не стала врать? Почему ты не сказала, что мешок сполз? Мол, ты поскользнулась на чем-то, подняла руку вверх, сдвинула мешок и увидела пол? Что ты знала, где все произошло? Какая разница, где именно, если бы ты просто сказала: там-то…
Она долго сидела молча, так долго, что я уж подумал: не ответит. Я не почувствовал ни ее гнева, ни удивления, ни смущения – она просто долго обдумывала ответ.
– Сама не знаю, – наконец произнесла мама, – почему я не сумела солгать. На прошлой неделе в больнице, когда я сидела рядом с папой и смотрела на него, я вдруг пожалела, что сразу не солгала. Я пожалела, что не солгала, Джо! Но мне и правда было неизвестно, где это произошло. И папа знал, что мне это неизвестно. И ты знал. Я же сказала вам обоим. И как же я могла потом изменить свои показания? Лжесвидетельствовать? И не забудь: я же сама знала, что это мне неизвестно. Солги я, как бы я стала к себе относиться? Но если бы я с самого начала понимала, чем обернется мое незнание, что он выйдет на свободу и выплеснет весь яд своей болезненной ненависти, я бы солгала!
– Я рад, что ты это сказала.
Она смотрела на дорогу. Понятное дело, больше она не собиралась говорить. Я смотрел на бегущую ленту шоссе и думал: если бы ты солгала, если бы изменила свои показания, ну и что бы случилось? Ты же моя мама. Я бы не перестал тебя любить. Отец не перестал бы. Ты же соврала, чтобы спасти Майлу и ее ребенка. И сделала это легко. Если бы можно было предать Линдена Ларка суду, мне не пришлось бы врать про патроны или практиковаться в том, что кто-то должен сделать. И как можно быстрее, пока мама не решила каким-то образом выполнить свое намерение его обезвредить. Кроме меня, этого никто не мог сделать. Я это четко понимал. Мне было только тринадцать лет, и если бы меня поймали с поличным, то судили бы только как малолетнего преступника, не говоря уж о том, что в данном случае имелись бы смягчающие обстоятельства. Адвокат мог бы представить на суде мои хорошие отметки в школе и сослаться на мою положительную характеристику, которую я себе обеспечил. Но все же я не хотел этого делать и даже не думал, что у меня это получится. Стрелок из меня был никакой. И я это знал. И лучше стрелять я бы не научился. К тому же приходилось смотреть на вещи трезво. Так что я не слишком зациклился на этой идее. Я просто время от времени думал то об одном, то о другом. Мы оба молчали. Через какое-то время мне в голову пришла еще одна мысль: надо повидаться с Линдой Уишкоб. Надо у нее выведать, играет ли ее братец в гольф и есть ли у него четкий график появления на поле для гольфа. Я решил прикупить несколько мягких или даже почерневших бананов или купить крепких бананов и дать им полежать, чтобы они начали подгнивать…
Спустя три дня после регулярных учебных стрельб я пришел на почту с пакетом бананов, за которыми я внимательно наблюдал в своей комнате. Они помягчели и покрылись точками, но не совсем почернели.
Линда сидела в своем окошке. Взглянув на меня поверх весов блестящими округлившимися глазами, она одарила меня своей дурацкой собачьей улыбкой. Я купил для Каппи шесть марок и отдал ей пакет с бананами. Она взяла его своими короткими пухлыми пальчиками, а когда заглянула внутрь, ее лицо так и просияло, словно я подарил ей драгоценности.
– Это от мамы?
– Нет, от меня.
Она зарделась от удовольствия и смущения.
– В самый раз! Я испеку кекс сегодня вечером, а завтра после работы занесу вам.
И я ушел. Я уже усвоил после случая с отцом Трэвисом, что излишняя вежливость подростка вроде меня сразу вызывает подозрения. Я решил дождаться подходящего момента, чтобы узнать все, что нужно. Мне придется побеседовать с ней не один раз, а, может быть, много раз, прежде чем я созрею задать ей пару вопросов о брате. И я постарался на следующий день быть дома в районе пяти вечера. Подъехала машина Линды. Я выглянул в окно и сказал отцу, что приехала Линда.
– Ставлю доллар, что она привезла банановый кекс.
– Ты выиграл, – не поднимая головы, ответил он.
Он сидел за столом и небольшими глотками пил воду из стакана. В руках у него была газета «Фарго форум». Мама спустилась сверху. На ней были черные панталоны и розовая футболка. Волосы всклокоченные, босая. Я заметил, что она накрасила ногти на пальцах ног розовым лаком. На лице лежал тонкий слой макияжа, драматически подчеркивавшего скулы. И когда она прошла мимо меня, до меня долетело дуновение лимонного лосьона для тела. Я подошел к ней поближе. И встал у нее за спиной, когда она открыла дверь и приняла от Линды знакомый кирпичик, завернутый в фольгу. Она наряжалась для отца. Мне хватило ума это понять. Она старалась выглядеть симпатичной, чтобы поднять ему дух. Линда вошла в дом, села в гостиной, и отец отложил газету.
– Джо, а вот кексик для тебя, – и Линда вытащила из сумки еще один кирпичик. Она не стала благодарить меня за бананы на глазах у родителей, что меня удивило. Многие взрослые полагают, что все, что бы ни сделал юнец, должно стать всем известно. Они готовы расхваливать любую приятность, которую им сделает подросток. Я уже приготовился вышутить свое банановое подношение, но Линда избавила меня от этой необходимости. Зато она пустилась оживленно обсуждать погоду с моим отцом. В точности как раньше, они опять начали обсасывать свою излюбленную и много раз уже обсосанную тему. Естественно, мама скоро поднялась и ушла на кухню заварить чай и нарезать банановый кекс. А я решил предпринять новую уловку и сел на кушетку рядом с ними. Рано или поздно они должны были соскочить с погодного конька и перейти к чему-то более важному. А если отец встанет и уйдет, тогда я затрону тему гольфа. Они обсуждали недавние ливни: сколько дюймов осадков выпало в том или ином округе и стоит ли ожидать дождя с градом. Они начали вспоминать, когда в последний раз видели град и какой урон урожаю он нанес, и тут я зевнул, прилег на спину и прикрыл глаза. Я притворился, что глубоко сплю и ничего не слышу; разок дернулся как бы во сне и потом задышал ровно и глубоко, думая, что мой сон покажется им вполне убедительным. Я развалился на кушетке. Они говорили, что бывают градины размером с мячик для гольфа, абсолютно круглые как горошины, и что иногда градины пробивали кровлю домов, словно шрапнель. Кушетка была широкой, а ее подушки мягкие. Проснулся я через час. Сидя на краю кушетки, мама тихо произносила мое имя и похлопывала меня по ноге. Как иногда бывает, когда выныриваешь из глубокого сна, я не сразу понял, где нахожусь. Но я не открыл глаза. Мамин голос и знакомое с детства ощущение тяжести ее руки на моей лодыжке – именно так она всегда меня будила, – навеяло умиротворение. И я мысленно нырнул еще глубже в укромное место, где на самом раннем этапе жизни всегда оставался неуязвимым.
Когда же я наконец проснулся, было темно, дом объяла тишина. Перл посапывала во сне, свернувшись на плетеном овальном коврике у противоположной стены. Меня накрыли вязаным пледом. Я сбросил его, и сразу стало холодно. Я проспал ужин и теперь проголодался, поэтому завернулся в плед и прошлепал на кухню. Пёрл встала и последовала за мной. Накрытая фольгой тарелка с едой поблескивала на столе. В небе сияла полная луна, и вся кухня словно ожила в бледном лунном свете. Теперь, уже немало пожив на этом свете, я понимаю, что случилось со мной в ту ночь на кухне и почему это случилось именно тогда. Во время сна я утратил бдительность. И разные мысли, отгонявшие от меня другие мысли, растаяли, а я остался наедине с мыслями, которые реально меня тревожили. С мыслями о том, что я запланировал сделать. И следом за этими мыслями в меня заполз страх. Я никогда еще по-настоящему не боялся, во всяком случае, за себя. За маму и отца – да, боялся, но те страхи я мог проявлять в открытую и делиться ими с родителями. Мои худшие опасения потерять семью не оправдались. Мои родители, хотя и понесли урон, снова спали в своей комнате наверху, в своей постели. Но я понимал, что обретенный ими покой носит временный характер. Ведь Ларк вернется опять. Если только не найдут труп Майлы или она не окажется живой и не подаст иск о похищении, он был волен идти на все четыре стороны.
Я должен был сделать то, что должен. На мне висел этот долг. В призрачном сиянии луны меня объяло такое чувство ужаса, что слезы выступили на глазах, и я издал короткий сдавленный вскрик, то ли рыдание, то ли стон от боли. Я скрестил на груди кулаки и прижал их к сердцу. Я старался не издавать ни звука. Мне не хотелось, чтобы клубок моих эмоций обрел голос. Но я оказался нагой и крошечный перед могучей стеной. Выбора у меня не было. Я заглушал издаваемые мной звуки, так что кроме меня их больше никто не мог услышать, такие постыдные и такие непривычные. Я лег на пол – волна ужаса захлестнула меня – и постарался дышать ровнее, пока ужас терзал меня, как хорек курицу.
Так я, скованный ужасом, пролежал с полчаса, а потом все прошло. Я не знал, пройдет ли это когда-нибудь или нет. Я съежился так крепко, что все тело болело, когда я попытался расслабить мышцы. Все тело ныло, когда я шатаясь поднялся с пола, точно разбитый артритом старик. Шаркая, я поднялся по лестнице в свою комнату. Все это время Перл не отходила от меня ни на шаг и теперь устроилась подле моей кровати. Я ее от себя не отпускал. Засыпая, я понял, что кое-что узнал. Теперь, испытав чувство страха, я знал, что это ненадолго. Как бы сильна ни была власть страха надо мной, она со временем ослабевала. И должна была иссякнуть совсем.
* * *
Второй раз использовать бананы как предлог было глупо, поэтому я решил сам забежать к Линде в полдень. Я знал, что обычно она приносила с собой обед из дома, но раз в неделю устраивала себе праздник и угощалась тем, что женщины обычно заказывали в закусочной «Здоровяка Эла», – супом и салатом. Каждый день проходя мимо, я заглядывал в окно или заходил внутрь и брал виноградную газировку. На третий день я заметил, как Линда приближается к закусочной своей тяжелой торопливой походкой. Она приветливо помахала Баггеру, сидящему на узкой полоске грязного газона между двумя зданиями, остановилась и дала ему сигарету. Я удивился, что она курит, но потом узнал, что она всегда носила с собой пачку – угощать сигаретой людей, просивших ее об этом. Я поставил велик так, чтобы видеть его из закусочной, и вошел за ней. Она, естественно, со всеми посетителями была знакома и со всеми завела беседу. Линда заметила меня, только когда села за столик. Я притворился, что увидел ее только что. От радости ее глаза навыкате еще больше выпучились.
– Джо!
Я подошел к ней и стал озираться, как бы ища глазами друзей, и она спросила, не голоден ли я.
– Немного.
– Тогда присядь.
Она заказала себе корзинку жареных креветок с картошкой фри. И, не спросив у меня, еще одну. Самое дорогое блюдо в меню. И еще кофе для себя и стакан молока для меня, потому что я рос у нее на глазах. Я пожал плечами и сделал вид, что деваться мне некуда.
– Не беспокойся, – сказала Линда. – Когда придут твои друзья, можешь пересесть к ним. Я не возражаю.
– Здорово! – отозвался я. – Не стоило… в любом случае, спасибо. У меня денег только на банку газировки. А вы всегда заказываете жареные креветки?
– Никогда! – Линда подмигнула мне. – Это же деликатес. Сегодня особый день, Джо. Сегодня у меня день рождения.
Я поздравил ее с днем рождения. И тут мне пришло в голову, что сегодня еще и день рождения ее брата-близнеца. Значит, был повод поговорить о нем. И я вспомнил историю ее появления на свет.
– Но вы же оба вроде родились зимой?
– Ну да. У тебя хорошая память. Но я в тот день родилась только физически, понимаешь? Если учесть, как сложилась моя жизнь, я много раз рождалась заново. Я выбрала дату одного из решающих моментов в моей жизни и сделала ее своим днем рождения.
Я кивнул.
Сноу Гудчайлд принесла нам напитки. Я слышал, как скворчат во фритюре наши креветки с картошкой. Вдруг я ощутил острый голод и страшно обрадовался, что Линда угощает мне обедом. Я уже забыл, как ненавидел ее, а помнил только, что мне нравилось с ней беседовать и что она всегда любила моих родителей и даже теперь пыталась мне помочь. Я перестал ощущать в горле нервное покалывание. Наступал удачный момент для вопросов. Я выпил холодного молока, а за ним – холодной воды. И молоко, и вода были налиты в ребристые пластиковые стаканы.
– И какой день вы выбрали? Когда Бетти принесла вас домой из больницы?
– Нет, – ответила Линда, – я выбрала день, когда социальный работник вернул меня домой во второй раз. Тот день Бетти обвела красным карандашом в своем календаре. А она всегда отмечала только особо важные для нее дни. Так я поняла, что она любит меня, Джо.
– Это хорошо, – произнес я. И не знал, что еще сказать. Мы вели взрослый разговор, и я должен был продолжать в том же духе. Но незаметно для себя попал в тупик. Я все ждал, что Линда начнет спрашивать, как я провожу летние каникулы и хочется ли мне поскорее вернуться к занятиям в школе. Так обычно разговаривали со мной взрослые, когда не спрашивали об отце. Никто никогда не задавал мне вопросов о маме. Вместо этого они обычно упоминали невзначай что-то вроде «вчера я видел твою маму, она ехала на работу» или «я видел твою маму на заправке». Совет племени выпустил постановление о запрете Ларку появляться на территории резервации, но не было никакого юридического механизма это постановление выполнить. Его можно было рассматривать лишь как устную просьбу. И когда мне говорили, что видели маму, это означало, что люди за ней приглядывают. Я подумал, что и Линда могла бы сказать нечто подобное. Но ее слова меня огорошили:
– Послушай, Джо. Я должна тебе это сказать. Мне жаль, что я спасла брату жизнь. Мне бы хотелось, чтобы он умер. Ну вот, я это сказала.
Я помолчал пару секунд и произнес:
– Мне бы тоже.
Линда кивнула и, поглядев на свои руки, снова выпучила глаза.
– Джо, он говорит, что скоро разбогатеет. Он говорит, ему больше не придется работать. Он уверен, что у него будет большой счет в банке. И он отремонтирует их старый дом и будет в нем жить до конца своих дней. Так он говорит.
– Да? – У меня голова закружилась при мысли о Соне.
– Он это все наговорил мне на автоответчик. Сказал, что какая-то женщина даст ему деньги в обмен на кое-что. И расхохотался.
– Нет, – сказал я, – не даст.
И тут я ясно увидел разбитую бутылку на Сонином столике. Я увидел выражение ее лица, когда она cбросила с себя свой образ Рыжей Сони. Нет, Ларку она не по зубам.
– Это взрослые дела, – сказала Линда. – Все это, наверное, для тебя загадка. Да и для меня тоже загадка.
Прибыли наши жареные креветки с картошкой. Линда попыталась выжать кетчуп на край тарелки. Она сжала бутылку обеими лапками, как маленький ребенок, и стала трясти. Я взял у нее бутылку и аккуратно стукнул ладонью по дну бутылки, как всегда делал мой отец перед тем, как выдавить аккуратный томатный холмик.
– Ох, у меня никогда не получается, – вздохнула Линда.
– Вот так надо! – Я выдавил немного кетчупа на свою тарелку.
Линда понимающе закивала и попыталась повторить.
– Хорошо учиться чему-то новому, – заметила она, и мы приступили к еде, складывая на край наших тарелок креветочные панцири, похожие на пластмассовые розовые обломки.
То, что она сказала про брата, мне, подростку, было сложно понять и сбило меня с толку. Я совсем не так представлял себе наш разговор о Линдене Ларке. Я уж и не знал, смогу ли выудить из нее еще какую-то информацию. И ляпнул самое безобидное, что могло сменить тему разговора.
– Уф, ну и жарища!
Но она не стала обсуждать со мной погоду. Она кивнула рассеянно, закрыла глаза и мечтательно протянула: «Ммм», наслаждаясь своими день-рожденными креветками.
– Попридержи коней, Линда, – сказала она себе, рассмеялась и вытерла губы салфеткой.
«Давай, сделай это!» – подумал я и сказал:
– Ладно, про вашего брата я понял, конечно. Теперь он вообразил, что будет богатеньким… Но мне вот что интересно, вы не можете мне сказать, когда он играет в гольф? И вообще играет? Все еще?
Она держала салфетку у губ и моргала, глядя на меня поверх салфетки.
– Ну, то есть мне просто интересно, – поспешно добавил я, – потому что…
Я набил полный рот жареной картошки и, жуя, стал лихорадочно соображать.
– …потому что вдруг отцу захочется тоже поиграть в гольф? А что, ему не повредит гольф. Но нельзя допустить, чтобы он столкнулся на поле с Ларком!
– Боже ты мой, – воскликнула Линда. Вид у нее был испуганный. – Я об этом как-то не подумала. Уж и не знаю, часто ли он там бывает, но да, Линден любит гольф и всегда старался приезжать туда пораньше, сразу после открытия поля в семь утра. Потому что у него бессонница. Но я не знаю, какой у него сейчас ритм жизни. Мне надо бы поговорить с твоим…
– Нет!
– Почему?
Мы застыли, глядя друг на друга. Я схватил из корзинки две креветки, съел сначала одну, другую, потом, хмурясь, разорвал их хвостики и тоже их сжевал.
– Я хочу это сделать сам. Это касается только нас, как отца и сына. Хочу сделать ему сюрприз. У дяди Эдварда есть клюшки для гольфа. Уверен, он разрешит нам их взять. Мы вдвоем сходим поиграем. Только я и отец. Вот что я хочу сделать. Ясно?
– О, конечно! Это ты здорово придумал, Джо.
У меня от сердца отлегло, и я стал есть так торопливо, что прикончил свою порцию и даже взял еще у Линды немного картошки и остатки ее салата. Только потом я осознал, что получил от собеседницы то, что мне и требовалось: информацию о Ларке и ее согласие сохранить все в тайне. После чего к чувству облегчения примешался вернувшийся снова головокружительный ужас.
За окном медленно проплыл Баггер. Он сидел на моем велике.
– Спасибо за креветки, – сказал я Линде, – но мне надо бежать: Баггер угоняет мой велосипед.
Я выбежал из закусочной и быстро настиг Баггера, который не успел даже выехать с парковки. Он ехал неуверенно, виляя передним колесом, и не слез с велосипеда, а просто косился на меня бегающим глазом. Я шагал рядом. Мне даже хотелось немного пройтись, потому что меня слегка мутило. Я налопался до отвала, да еще так поспешно, что напугал желудок, как иногда говаривал отец про себя. Мне даже пришлось стыдливо прикрыть салфеткой горку креветочных хвостиков, пока Линда ждала счет. К тому же замороженные ракообразные проехали от места вылова до моей тарелки не одну тысячу миль. И теперь пешая прогулка была мне куда приятнее, чем тряска на велосипедном седле. Кроме того, хотелось скрыться подальше от людских глаз на тот случай, если меня вдруг вырвет.
Шагая рядом с Баггером под палящим солнцем, я почувствовал себя лучше, и, пройдя так милю, уже был в норме. Велосипедная поездка Баггера, как мне показалось, едва ла имела какую-то определенную цель.
– Можно получить свой велик обратно?
– Сначала мне надо кое-что выяснить, – отозвался он.
– Что?
– Надо понять, не приснилось ли это мне.
– Что приснилось?
– То, что мне приснилось. Мне надо…
– Что бы это ни было, это был сон, – сказал я. – Отдай велик!
Баггер ехал в противоположном направлении от дома Каппи. Он уже выехал за черту города, и я боялся, что он случайно вильнет и врежется во встречную машину. И уговорил его развернуться, посулив щедрые угощения бабушки Игнасии.
– Ладно, – заметил он. – Езда на велосипеде и впрямь пробивает на жратву.
Мы доехали до дома престарелых, он слез с велика, бросил его на дорогу и потопал к входной двери, мотаясь из стороны в сторону, точно человек из железа, попавший в магнитное поле. А я вскочил в седло и рванул к дому Каппи. Мы с ним договорились попрактиковаться в стрельбе, но дома уже был рано вернувшийся с работы Рэндалл. Он чинил свой танцевальный наряд, заняв весь кухонный стол. Длинные орлиные перья были аккуратно разложены красивым веером от кольца, к которому они крепились концами, и Рэндалл прилаживал отвалившееся перо. Этот роскошный ритуальный наряд достался ему по наследству от отца. Тетушки разукрасили бархатные нарукавные повязки и фартуки бисерным шитьем в виде цветочного орнамента. В полном облачении Рэндалл являл собой впечатляющее зрелище. Его регалии включали массу самых обычных и самых необычных вещей. Например, головной убор венчали два гигантских пера из хвоста золотого орла, закрепленных на двух автомобильных антеннах, причем сами перья упруго вибрировали на пружинках от шариковых ручек. Эластичные подвязки, срезанные со старого пояса одной из его тетушек, были покрыты полосками из оленьей шкуры и украшены крошечными бубенчиками. Еще у него был танцевальный жезл, который ему, как он уверял, подарил воин-дакота, хотя на самом деле этот жезл кто-то вырезал из палки на уроке труда в пансионе. Кому бы раньше ни принадлежали части ритуального облачения Рэндалла, он их все точно подогнал под себя, каждое перо прочно сидело на основе, зафиксированное обструганными щепочками или мебельным клеем, подошвы мокасин были подбиты двумя слоями сыромятной кожи. Иногда Рэндалл побеждал на конкурсах ритуальных плясок и получал денежные призы, но вообще-то танцевал он, беря пример с Доу, а еще потому, что его танцевальные номера привлекали взоры девчонок. Он готовился к ежегодному летнему пау-вау, намеченному на конец недели. Доу, по своему обыкновению, будет стоять за пультом диджея с микрофоном в руке, откалывать шуточки и руководить процессом, как он любил повторять, чтобы «все было путем».
– Пойдем, наберем «дедов» для парильни Рэндалла, – предложил Каппи. Мы всегда разбрасывали табак на старые камни. Потому-то мы и называли их «дедами». Но мы не всегда были камненошами. Мы любили быть главными по огню. Но Рэндалл пообещал Каппи дать поводить свой красный драндулет, если тому удастся его завести. На их земле стояли развалины старой каменной постройки, которая весной заполнялась талой водой, и там можно было найти нужные камни, только их приходилось выбивать из кладки. Рэндаллу всегда требовалось определенное количество камней, в зависимости от нужной ему разновидности ритуального пота. Мы поволокли с собой старенький пластиковый тобогган, чтобы привезти на нем камни. Подходящие мы нашли не сразу. Камни должны были быть определенной породы, чтобы они, раскалившись, не растрескались и не лопнули в очаге при поливке холодной водой. Кроме того, требовались камни определенной формы и не слишком тяжелые, чтобы Рэндалл мог снять их оленьими рогами с лопаты. Нашу работу можно было считать успешной, если за день нам удавалось найти двадцать восемь «дедов», а чаще, особенно если Рэндалл спешил, он нас возил в своем пикапе на каменоломню в поле за границей резервации, где мы загружали полный кузов. Но на сей раз нам нужно было остаться в одиночестве.
Я передал Каппи рассказ Линды про привычку Ларка играть в гольф по утрам. Каппи постучал подошвой по траве и нагнулся, чтобы выковырять округлый серый булыжник.
– Тогда надо поспешить, пока Ларк не поменял свои привычки, – посоветовал Каппи. – Тебе надо стащить ружье Доу, пока все на сходе.
Одна только мысль украсть у Доу ружье повергла меня в мрачнейшее состояние, и съеденные креветки взбаламутились в моем желудке. Но Каппи был прав.
– Тебе надо влезть в дом в субботу между восемью и десятью вечера, – наставлял меня Каппи. – Есть небольшая вероятность, что Доу или Рэндаллу понадобится вернуться за чем-нибудь после окончания схода. Но до этого момента Рэндалл совершенно точно будет стучать копытами, пока все не закончится. Или останется прибирать территорию. И уж совершенно точно отец ни за что не выпустит из рук свой микрофон до последнего. Поэтому, Джо, ты спокойно вломишься. Именно так: ты влезешь, как вор. Оставь после себя разгром. И не забудь захватить ломик, им ты разобьешь стекло в оружейном шкафчике. Я все продумал. И своруй еще что-нибудь. Для вида. Ну, типа телик.
– Да я ж его не унесу!
– Тогда просто отключи его от сети, смахни какиенибудь финтифлюшки на пол. Прихвати магнитолу Рэндалла – нет, он ее любит… Прихвати чемоданчик с инструментами. Но брось все на крыльце – как будто вора спугнула проезжающая машина.
– Ага.
– Теперь ружье. Возьми то, какое нужно, не перепутай. Я тебе его покажу.
– О’кей.
– И принеси с собой пару черных пластиковых мешков завернуть ружье, потому что его придется спрятать.
– Домой я не могу его принести. Надо спрятать его еще где-то.
– На наблюдательном пункте, в кустах за старым дубом, – предложил Каппи.
Свалив «дедов» в парильне около очага, мы провели остаток дня, размечая для меня тропинку для отхода и выбирая тайник для ружья, чтобы я легко нашел его в темноте. Луна хоть и была в третьей четверти, но, само собой, на нее могли набежать облака. А мы должны были убедиться, что я смогу добраться до места без помощи фонарика. Кроме того, мне нужно было вернуться к месту проведения схода – а лагерь пау-вау располагался в трех милях от города, – идя по полям и тропам пёхом, не на велике, чтобы меня никто не заметил. В последние два года я ездил на пау-вау вместе с семьей Каппи – его тетушки спали в «доме на колесах», а мужчины в палатке. Всю ночь горел костер. Рэндалл посреди ночи тихо выползал из палатки и смывался. Трахаться. И мы, проснувшись утром, обнаруживали его рядом, спящего мертвецким сном, слегка попахивающего женскими духами. Родители думали, что и в этом году я с ними поеду. И даже если бы на этот раз они стали возражать, я бы все равно втихаря улизнул. Так было нужно.
* * *
Эти проклятые креветки, или что я еще съел в последние дни, напоминали о себе всю неделю. Меня тошнило от одного взгляда на еду, и кружилась голова, когда я смотрел на маму или на отца, поэтому я старался на них не смотреть и ел как птичка. В основном я спал. Вечером падал на кровать замертво, точно после нокаута, а утром не мог оторвать голову от подушки. Как-то проснувшись, я взял в руки толстенную книгу, которую мне дал отец Трэвис. На бумажной обложке «Дюны» были изображены три черные фигуры под массивной черной скалой в пустыне. Я открыл ее наобум и наткнулся на фразу о мальчике, имевшем твердую цель в жизни. Я зашвырнул книгу в дальний угол комнаты, где она так и осталась лежать. Спустя много месяцев после того утра я снова открыл ту книгу, потом еще раз и еще раз. Это была единственная книга, которую я урывками читал целый год. Мама сказала как-то, что, наверное, я взрослею. Я случайно услышал ее слова. Или не случайно. У меня вошло в привычку подслушивать. Это было продиктовано необходимостью точно знать, что другого варианта у меня нет, что я обязан это сделать. Если бы Ларк куда-то переехал, или сбежал, или был бы отравлен, как бешеная собака, или арестован за другое преступление, я получил бы свободу. Но я бы ни за что не поверил родителям, если бы они сообщили нечто подобное, поэтому мне и приходилось выходить из дома, а потом садиться перед открытым окном снаружи и подслушивать, но ничего из того, что я хотел услышать, они не говорили.
И вот наконец наступил конец недели, время большого схода племени. Родители согласились отпустить меня с «мальчиками Доу», как они выразились, и я отправился с ними, усевшись в кузове Рэндаллова пикапа на свой спальник. В кармане у меня лежали пять долларов на еду. Рэндалл так гнал по гравийной дороге, что у нас от тряски зубы клацали и мы чуть не выпали из кузова, но зато мы вовремя прибыли на наше обычное место и разбили стоянку. Семейство Каппи всегда ставило свой «дом на колесах» на южном окоеме лагеря пау-вау, рядом с некошеным полем. В это время года поле обычно стояло готовое ко второму сенокосу. Встав перед стеной травы, я наблюдал, как она ходит плавными волнами под порывами ветра, который расчесывал, словно женщина гребнем, травяную массу то на пробор, то сплошняком. Семейство Каппи любило во время схода останавливаться на краю лагеря, чтобы, как выражались Сюзетта и Джози, держаться подальше от «места событий». Сестры Доу были корпулентными хохотушками. Они участвовали в ритуальных танцах, и, когда репетировали, готовясь к своему выходу, небольшой «дом на колесах» ходил ходуном от их тяжелых прыжков и взрывов хохота. Их мужья не принимали участия в плясках, но помогали им в организации действа и обеспечении охраны. Первое, что мы сделали, прибыв на место, – вытащили из кузова пикапа белесые от паутины складные стулья. Мы нашли место для кострища и расставили стулья вокруг ямки. Было важно зарезервировать места для гостей, которые будут приходить к нашему костру выпить кружку травяного чая или мятного лимонада из гигантских пластиковых стаканов-термосов, которые Сюзетта и Джози наполнили дома перед отъездом. Еще они прихватили пару сумок-холодильников – одну с сэндвичами, солеными огурчиками, печеными бобами и картофельным салатом, пресными лепешками, желе, красными яблоками и брикетами сыра. Другая сумка была набит хот-догами и кусками жареного кролика. Вскоре к нашей стоянке стали подруливать на стареньких седанах дети Сюзетта и Джози со своими семьями. Как только дверцы машин распахивались, оттуда вываливались, точно футбольные мячи, внуки и внучки. Они сразу приводили других детей с соседних стоянок, и вся ватага носилась по лагерю пау-вау, как торнадо из развевающихся волос, мелькающих ног и размахивающих рук. Время от времени из громкоговорителя раздавались громкие фразы – но эти были тестовые включения. Усиленный микрофоном голос Доу зазвучал только после полудня. Он несколько раз поприветствовал собравшихся и напомнил танцорам, что «большой выход» назначен на час.
– Наденьте танцевальную обувь! – Его голос звучал нежно и тягуче, как теплый кленовый сироп. Он обожал повторять: «Боже милостивый!», и еще «Да что вы говорите!», «Будь я проклят!», и «Ух ты!». Он любил пошутить. Его шутки были добродушными и дурацкими.
– Вот только вчера один белый спросил меня, настоящий ли я индиец. Нет, ответил я. Колумб лоханулся. Настоящие индийцы живут в Индии. А я – настоящий чиппева.
– Чип? А дальше как? – удивился он. – И почему у тебя нет косичек?
– А у меня их отчикали чипчиками, – объяснил я ему. – Понимаешь, давным-давно нас называли анишинаабе. Вот так-то! Иногда ты не можешь кое-чего сказать настоящей женщине-анишинаабе. Но она на тебя та-ак посмотрит, что у тебя язык сам собой заговорит! Вот так-то!
Потом Доу сделал объявление про потерявшихся детей.
– У нас есть детишки-убежишки! Тут один маленький мальчик ищет своих родителей. Не пугайтесь, когда придете за ним, мама! На его лице не боевая раскраска, он просто вымазался кетчупом и горчицей. Он готовился встретиться лицом к лицу с бойцами пятого кавалерийского полка у палатки с хот-догами…
Когда настала пора представлять ритуальные барабаны, он ставил их рядом, добродушно приговаривая:
– Медвежий Хвост, Враждебный Ветер, Зеленая Река…
Трибуны начали заполняться людьми, и Сюзетта с Джози послали своих мужей расставлять складные стулья у края арены с южной стороны, чтобы их зрители убереглись от длинных слепящих лучей закатного солнца, которое, казалось, не торопилось заходить за горизонт и уступать небо ночной тьме. Мы с Каппи поставили палатку с квадратной крышей, в которой Рэндалл мог спокойно облачиться в свой сногсшибательный наряд, то есть в полном смысле слова почистить перышки. Сюзетта и Джози очень нравилось окружать заботами мужчину-танцора, и они все спрашивали у нас с Каппи, когда же мы пойдем по стопам Рэндалла. Кстати, Каппи танцевал лет до десяти.
– Я сделаю тебе новый ритуальный наряд из травы. – Джози погрозила ему пальцем.
Каппи только улыбнулся в ответ. Он никогда никому не говорил «нет». Они с Рэндаллом срезали охапку молодых веток тополя, и мы сложили из них зеленый навес, под которым обе тетушки могли посидеть в прохладе. Становилось все жарче, и их изукрашенные бисером шейные обручи и декоративные шкурки, нагрудные кожаные накладки и шерстяные шали, тяжелые серебряные пряжки на поясах и орнаменты в виде фигурок, и длинная кожаная бахрома весили вместе фунтов шестьдесят, если не больше. Толстушки Сюзетта и Джози были на удивление крепкими, так что даже под тяжестью традиционных одежд они могли держать горделивую осанку и не рухнуть. Рэндалл, напротив, носил свой наряд вроде бы как пушинку, но на нем было так много перьев, что, по словам Каппи, создавалось впечатление, будто он врезался в стаю орлов.
Рэндалл подтянул длинные красные штаны с накладками, болтающимися спереди и сзади.
– Проверь, крепко ли прилажена защитная панель в паху, – с ухмылкой посоветовал Каппи, – а не то все узнают, что там у тебя в дефиците!
– Заткнись, балабол! – отрезал Рэндалл и, покосившись на меня, бросил: – А ты даже не начинай, креветенок!
Он поглядел в зеркало и прочертил две черных полоски сверху вниз, через лоб к бровям, а потом под глазами – по щекам до подбородка. Его глаза стали сразу похожи на грозные очи воина. Он сурово зыркнул на нас из-под роуча – боевого венца – и затряс перьями.
– Порази всех своими чарами! – попросил Каппи.
– А я что делаю? – отозвался Рэндалл. – Смотри и завидуй!
Он вышел на солнечный свет и принялся картинно делать растяжки около фургончика продавца сахарной ваты. Рэндалл уверял, что красные штаны – часть традиционного наряда, но мы с Каппи считали, что они все портят.
Девушка в кожаном топике отделилась от группки подруг и завороженно уставилась на Рэндалла, попивая через соломинку газировку из банки. А он задрал ногу на фаркоп фургончика и стал тянуться пальцами к носкам, как бы растягивая ахиллово сухожилие. Он дотянулся так два раза, а на третий пукнул от натуги. Но сделал вид, что ничего такого не произошло. Девушка рассмеялась так сильно, что поперхнулась и выплюнула газировку.
– Учись у мастера! – важно произнес Каппи. – Смотри, как делает Рэндалл, а сам сделай ровно наоборот!
Приехало семейство Энгуса: все они копошились вокруг машины. Мы отправились к нему, чтобы всем вместе пойти искать Зака. Когда наша четверка была в сборе, нам сразу захотелось жареных лепешек. Мы их быстро раздобыли и принялись уписывать, стоя в тенечке у трибун, где нас и нашли девчонки из школы. Девчонки всегда сначала заговаривали с Энгусом, потом с Заком, потом со мной. И уж после этого переключали все свое внимание на Каппи – он-то и был их настоящей целью. Всех наших одноклассниц звали почти одинаково: Шона, Дона, Шони, Донали, Шалана и просто Дон и Шон. Еще была девочка по имени Маргарет, которую назвали в честь бабушки, работавшей у нас на почте. Я разговорился с Маргарет. У Дон, Шон и прочих были одинаковые прически: волнистые волосы, зачесанные назад, закрепленные фиксирующим лаком, на веках тени, на губах помада с блеском и по две серьги в каждом ухе, джинсы в обтяжку, коротенькие топики в полоску и блестящие серебряные бусы. Я до сих пор дразню Маргарет по поводу ее наряда на пау-вау – потому что я помню все до мельчайших подробностей, вплоть до серебряного медальончика у нее на шее, внутри которого была фотка, но не ее бойфренда, а младшего братика.
Чтобы привлечь внимание девочки, Каппи достаточно было вести себя естественно. Он не выпендривался, как Рэндалл, не напяливал яркие перья. На нем были обычная застиранная футболка и джинсы. Его длинные лохмы естественным образом прикрывали один глаз, и чтобы убрать волосы с глаза, он не закладывал их за ухо, а применял эффектный взмах головой. И все. Он просто молол языком, чем и располагал к себе. Я заметил одну особенность его манеры: он, прямо как школьный учитель, обращался к какой-нибудь девчонке и просил рассказать о себе. Как она проводит лето, чем занимаются ее родители. Такая беседа всех сразу настраивала на непринужденный лад. Мы прогуливались вокруг арены позади трибун, стреляя глазами в других девчонок и видя, как они замечают, что мы их заметили. Так наша ватага продефилировала по кругу несколько раз. Девчонки купили сахарной ваты. И отмотав полоски верхнего слоя, поделились с нами. Мы пили ягодную газировку и старательно сминали ладонями пустые банки. Постепенно все пришло в движение. Ветераны войн вынесли американский флаг, за ним – флаг общества военнопленных и пропавших без вести, флаг нашего племени и традиционный посох с орлом. После выноса флагов вышли первые танцоры, а потом и участники Большого выхода выстроились в шеренгу и стали появляться на арене группами – от возрастных танцоров до совсем карапузов. Мы стояли на верхнем ряду, откуда все было видно: барабаны, гирлянды колокольчиков, деревянные трещотки, костяные трещотки и кружащиеся под зажигательные ритмы танцоры с бубенчиками. Я всегда с замиранием сердца наблюдал за Большим выходом и невольно притопывал в унисон с танцорами. Зрелище было грандиозное, захватывающее, дерзкое и веселое. Но в тот вечер я думал только об одном: как бы улучить удобный момент, подхватить рюкзак и удрать…
Я бежал напрямик, по лесным тропинкам, пересек пару пастбищ, несколько раз срезал путь по проселкам. Я добежал до дома Лафурнэ еще засветло. Дворовый пес тявкнул раз, но, узнав меня, присмирел.
– Привет, Флек, – тихо произнес я, и он лизнул мою руку. Мы с ним устроились за сараем и просидели там полчаса, пока не стемнело. После этого я еще немного подождал, и когда стало совсем темно, натянул пару маминых кожаных перчаток – они были тугие, еле налезли – и пошел к задней двери, сжимая ломик, который оставил для меня Каппи.
Когда я взломал дверной замок, в доме раздался собачий лай. Но и эта собака меня узнала, завиляла хвостом и пошла за мной к оружейному шкафчику. Звон разбитого стекла ее напугал, но она не залаяла, а радостно заскулила, увидев, как я достал ружье. Наверное, решила, что мы сейчас пойдем на охоту. Но вместо этого я сунул коробку с патронами в свой рюкзак, отключил от сети и сдвинул с места телик, рассыпал по полу инструменты из чемоданчика. Потом попрощался с собачками. Я перебежал через шоссе и нашел тропинку, которую мы с Каппи выбрали для моего отхода. Тут мне пришлось воспользоваться фонариком, который я поспешно выключил, заметив свет фар приближающегося автомобиля. Неподалеку от нашего наблюдательного пункта мы заранее выкопали в земле яму. Я тщательно завернул ружье и патроны в мешки для мусора, закопал в яме и сверху набросал веток, палых листьев и травы. Во всяком случае, при свете почти полной луны место казалось нетронутым. Я попил и отправился в обратный путь к арене пау-вау. Шел я тем же маршрутом: сначала лесом по уже знакомым тропкам и болотцам, потом спустился вниз к старой двухполосной грунтовке, потом пустился через лес по почти нехоженой тропе, по которой кто-то еще иногда волок отсюда хворост. Я пересек лошадиное пастбище и услышал несмолкающий бой барабанов: там уже распевали старые шуточные песенки и играли в «спрячь камешек в мокасин».
Люди не спали и веселились всю ночь, в некоторых палатках устроили временные казино. Я добрался до нашей палатки и раскрыл молнию на сетке от насекомых. Каппи ждал меня. Рэндалл где-то шлялся. Каппи поинтересовался, как все прошло.
– Гладко, – ответил я. – По-моему, все прошло гладко.
– Хорошо, – сказал он.
Мы легли на спину, спать совсем не хотелось, и я стал думать. Доу, должно быть, уже вернулся домой и обнаружил следы взлома. Увидел, что украли ружье. Он наверняка позвонил в управление по индейским делам и в полицию племени. Он никаким образом не мог бы узнать, что это был я. Но я не знал, как теперь смотреть ему в глаза.
Утро после пау-вау – лучшее время суток. Помню, просыпаешься и сразу ощущаешь прохладу: это ветерок теребит тканевые стенки палатки. Пахнет кофе, пресными лепешками, яичницей и вареными сосисками. А снаружи светит солнце и запах свежесрезанной люцерны – ее давали лошадям. Сюзетта и Джози строили планы на день, кормили внуков из мягких картонных тарелок, которые под тяжестью еды то и дело сгибались, а то и ломались.
– Эй! Малыш, подложи снизу под тарелку еще одну для прочности!
Получив свою порцию, дети отходили подальше, садились на траву и, согнувшись над тарелкой, жадно ели. Им было вкусно! У Сюзетты и Джози была походная газовая плитка и баллон с пропаном. На ней они жарили бекон и лепешки на сале. Их взбитая яичница-болтунья была пышная и без пригарков. Хлеб поджаривали на раскаленной сковороде. На столе стояла открытая банка джема из ирги. И еще банка сливового джема. Они умели накормить вечно голодных мальчишек. Через пару часов после горячего завтрака подавали холодный завтрак: арбуз, овсяные хлопья, холодные лепешки, масло и ростбиф. У них был чудный эмалированный кофейник в голубую крапинку и чайник из нержавеющей стали. На складных стульях около их стоянки постоянно сидели сплетничающие о том о сем мужчины, а в «доме на колесах» колобродила малышня, но когда мотор микроавтобуса вдруг зафырчал и фургон двинулся с места, Сюзетта поставила его на ручной тормоз, выгнала всех детей и заперла дверь. После холодного завтрака сестры наделали гору сэндвичей и сложили их в сумку-холодильник, поручив одной из дочерей присматривать за ними. А сами уединились в фургон и стали там готовиться к Большому выходу. И ничто не могло отвлечь их от столь важного занятия. Ни мольбы сходить в их туалет, ни дикие вопли мутузящих друг дружку мальчишек, ни притворный ужас наблюдающих за ними молодых мамочек. Сладковатый дымок от тлеющего зверобоя выплывал из приоткрытых окошек фургона. Сюзетта и Джози очень серьезно относились к своим нарядам и бисерным украшениям и поэтому с помощью ароматного дыма намеревались гарантировать себе спасение и от сглаза, и от недобрых мыслей или от злобных подмигиваний женщин-завистниц. Да и, возможно, от собственных злонамеренных мыслей тоже, ибо, поговаривали, глаза их мужей постреливали по сторонам, хотя твердых доказательств у них не было. Небольшой салон «дома на колесах», умело оборудованный складными кроватями, шкафами, ящичками, потайными комодами, небольшой туалетной комнаткой, был чистенький и уютный. Когда сестры вышли из фургона, одна из них закрыла дверь на навесной замок и бросила ключ в отделанный бисером кошелек или очечник, болтающийся у нее на поясе. Они двинулись, ритмично покачивая длинными, чуть седыми на висках, косичками с вплетенными в них полосками из шкурок норки. С величавой элегантностью они вошли в круг танцоров. Окаймляющая их наряды бахрома из оленьих шкурок покачивалась с убаюкивающей синхронностью. Зрители с удовольствием наблюдали за их выходом на арену и гадали, не вытеснят ли их из толпы кружащиеся плясуны других племен.
Маленькие мальчики в танцевальных нарядах из травы усердно копировали движения старших, то и дело сталкиваясь с Сюзеттой и Джози. Девчушки во все глаза глядели на своих расфуфыренных старших сестер, повторяя их прыжки и путаясь у них под ногами. Сюзетта и Джози вели себя непринужденно, переговаривались, похохатывали, четко держали ритм, и бахрома на их рукавах, шалях и шейных обручах мерно покачивалась в такт их танцу.
– На каждый наряд пошло две шкуры, – со знанием дела заметил Каппи. – И еще целая шкура на бахрому. Если они упадут друг на дружку и зацепятся бахромой, то уже не смогут из нее выпутаться.
– А теперь, дорогие зрители, – возвестил в микрофон Доу, – гвоздь нашей программы: межплеменная пляска. Танцуют все и в любой обуви: в сапогах, мокасинах и даже в сандалиях хиппи. Это еще что за новости? Кто-то мне сказал, что у нас есть пара босоножек «Биркеншток». Их нашли вчера вечером около палатки Рэндалла. Ух! Да, ну, дела…
Доу всегда подтрунивал над Рэндаллом и его приятелями за их увлеченность женским полом.
– Вот черт! – раздался у нас за спиной голос Рэндалла. – Какие-то сволочи вломились вчера вечером в наш дом и сперли отцовское охотничье ружье.
– А больше ничего не взяли? – поинтересовался Каппи. Он даже не обернулся на Рэндалла и с преувеличенным интересом наблюдал за пляской.
– Не-а, – ответил Рэндалл. – Увижу у кого-нибудь это ружье, башку ему сверну!
– Как Доу к этому отнесся?
– Бесится, – Рэндалл пожал плечами. – Но не слишком. Он говорит, странно, что взяли только одно ружье. Воры вроде еще пытались вынести телевизор, рассыпали инструменты. Жалкие дилетанты. Но никаких следов не оставили! Наверняка наркоши.
– Ага, – сказал Каппи.
– Ага, – добавил я.
– А собаки либо спали, либо знали того, кто это сделал.
– Или вор мог отвлечь их куском мяса, – подбросил идею Каппи.
Рэндалл презрительно фыркнул.
– Хорошо хоть это не было его любимое ружье. Вот если бы сперли его любимое – тут бы он по-настоящему озверел.
– Да, и правда хорошо, – заметил я.
Мне было так не по себе, что захотелось заползти под трибуны и сидеть там тихо, скрючившись, среди окурков, оберток от мороженого, использованных подгузников и коричневых табачных плевков.
– Теперь придется поставить замки покрепче, – вздохнул Каппи.
– Сегодня вечером я иду домой, – заявил Рэндалл. – Пока мы не починим дверь, буду спать в обнимку со своим дробовиком на кушетке.
– Смотри, яйца себе не отстрели, – предупредил Каппи.
– Не боись, безъяйцый! Если эти ублюдки вернутся, чтобы закончить начатое, они пожалеют!
– Ты молодец! – уважительно произнес Каппи, хлопнув старшего брата по плечу, и мы ретировались. Мы кружили вокруг арены. Потом он и меня хлопнул по плечу: – Ты гладко все провернул.
– Я себя ненавижу…
– Брат, тебе надо это пережить. Доу никогда ничего не узнает. Но если бы даже и узнал, он бы тебя понял.
– О’кей, – сказал я после долгой паузы. – Но остальное я сделаю один.
Каппи вздохнул.
– Слушай, Каппи, – хриплым шепотом заговорил я. – Для меня это то, чем оно и является. Убийство. Пусть и во имя правосудия. Но все равно убийство. Я тысячу раз проговорил это слово про себя, прежде чем смог произнести его вслух. Это – убийство. И я его убью!
Каппи остановился.
– Ладно, ты его произнес. Но дело не в этом. Если тебе удастся хотя бы раз сшибить пять… нет, три банки подряд, хотя бы разок, вот тогда я бы сказал: вероятно, ты сможешь… Но Джо…
Я приблизился к нему вплотную.
– Он же тебя увидит. Хуже того, ты его увидишь. У тебя будет только один шанс, Джо. Я буду рядом, просто чтобы подбодрить тебя, чтобы ты вернее прицелился. Но обещаю, что не буду вмешиваться, Джо.
– О’кей, – громко произнес я. А сам подумал: «Ни за что!» Я уже решил, что не скажу Каппи, в какое именно утро отправлюсь на наблюдательный пункт. Я просто пойду туда и сделаю это.
* * *
В первую половину той недели прогноз обещал ясное небо и жаркую погоду. Линда говорила, что ее брат предпочитал играть в гольф рано утром, пока все еще спят. И вот на рассвете я поднялся с постели и тихо спустился вниз. Родителям я объяснил, что хочу потренироваться и привести себя в хорошую форму перед осенним кроссом – и я побежал. Я бежал по лесным тропам, где бы меня никто не заметил, я удачно огибал соседние дворы и прятался в защитных лесополосах. Я держал в руке банку из-под маминых солений – там была свежая вода, а в карман рубашки я сунул шоколадный батончик. В заднем кармане джинсов лежал черный камушек, который подарил мне Каппи. Я бежал в коричневой клетчатой рубашке, надетой поверх зеленой футболки. Лучшего камуфляжа я не смог придумать. Добежав до наблюдательного пункта, я разгреб ветки и листья и сложил их рядом с моим тайником. Потом счистил землю с мешка с ружьем и сложил ее горкой. Я вытащил ружье из мешков и зарядил. Мои пальцы тряслись. Я сделал несколько глубоких вдохов. Еле уняв дрожь в руках, я отнес ружье к дубу, сел на землю и, не выпуская ружья из рук, придвинул к себе банку с водой. Потом стал ждать. Я бы увидел гольфиста у пятой метки для мяча задолго до того, как он бы оказался в точке, куда я планировал выстрелить. И пока Ларк шагал бы по коротко стриженной траве за живой изгородью из молодых сосенок, я смог бы сбежать с ружьем вниз по склону и спрятаться за кустами черемухи и стайкой кленов. И оттуда я бы прицелился и подождал бы, когда он подойдет как можно ближе. А уж насколько близко он подойдет, зависело от того, как сильно он ударит по мячу и куда мяч покатится после удара, а еще от того, откуда он будет бить, да и от массы других вещей. Тут было много привходящих факторов. Так много, что я все еще взвешивал свои шансы, когда солнце уже взошло довольно высоко, и я понял, что сидеть в засаде мне предстоит долгие часы. Но как только показалась группа обычных гольфистов, я встал и разрядил ружье. Я убрал его обратно в мешок, надел сверху другой, положил в яму и набросал сверху земли, листьев и веток. По дороге домой я съел батончик и положил обертку в карман. Спазмы в желудке прекратились. Освободившись в тот день, я пребывал в состоянии эйфории. Я допил воду, но пустую банку не выбросил. Я шел, стараясь ни о чем не думать, глазел на все деревья, попадавшиеся мне на пути, и удивлялся любому проявлению жизни на них. Я остановился понаблюдать за двумя лошадьми, лениво щиплющими траву на пастбище. Какими же грациозными создала их природа! Добравшись до дома, я был в радостном расположении духа, и мама даже спросила, что это на меня нашло. Я ее рассмешил, я набросился на еду и ел за обе щеки. Потом поднялся в свою комнату и заснул, проспал час и проснулся, скованный знакомым чувством ужаса, которым теперь сопровождалось каждое мое пробуждение. Назавтра мне предстояло повторить то, что было сегодня. И я повторил. Сидя у дуба, я на мгновение забывал, зачем пришел сюда. Я вскакивал и собирался уходить, думая, что сошел с ума. А потом вспоминал маму на заднем сиденье машины: она сидит с отсутствующим взглядом, вся в крови, а я глажу ее по волосам. И еще вспоминал, как она выглядывала из-под одеяла, словно из бездонной пещеры. Я вспоминал отца, беспомощно лежащего на линолеумном полу в супермаркете. Я вспоминал канистру из-под бензина, которую нашел в озере, а потом видел в хозяйственном магазине. Я вспоминал и о других вещах. После всех этих воспоминаний я был готов. Но Ларк не появился и во вторник. Он не появился и в среду. А прогноз на четверг обещал дождь. И я подумал, что, может быть, стоит остаться дома.
Но я все же пошел. Добрался до наблюдательного пункта на холме и проделал все те же операции, которые уже стали привычными. Я сидел под дубом: ружье в руках, предохранитель поднят, банка с водой рядом. Небо заволокло низкими тяжелыми тучами, в воздухе пахло дождем. Я просидел там, должно быть, час, дожидаясь, когда же распогодится, и вдруг увидел Ларка – он шагал по полю, волоча за собой набор клюшек в старенькой замызганной сумке на колесиках. Он исчез за сосняком. Удерживая ружье обеими руками, как учил Каппи, я поспешил вниз по склону холма. Я так часто повторял себе, как надо действовать, что поначалу подумал: все будет в порядке. Я нашел заранее намеченную точку у края кустарника, где я мог встать почти незамеченным. Отсюда можно было прицелиться в любое место на поле, где мог бы оказаться Ларк. Большим пальцем я снял ружье с предохранителя. Судорожно вдохнул и выдохнул. Но каждый вздох давался мне с трудом. Ларк оказался прямо передо мной. Его мяч остановился на небольшом взгорке около сосняка. Он нанес удар. Мяч взлетел по дуге и упал у края выстриженного на газоне круга и после отскока подкатился на ярд ближе к лунке. Ларк поспешил туда. От земли начали волнами подниматься ароматные испарения. Я приложил приклад к плечу и направил ствол на Ларка. Он стоял ко мне боком и, позабыв обо всем, внимательно глядел на свой мяч, то прищуриваясь, то широко открывая глаза, то снова прищуриваясь – примерялся к удару. На нем были светло-коричневые штаны, шипованные кроссовки для гольфа, серая бейсболка и коричневая футболка. Он был так близко, что я даже разглядел на футболке логотип их обанкротившегося магазина: «Винленд». Мячик остановился на расстоянии в полфута от лунки. Он его туда втолкнет паттером – короткой клюшкой, подумал я. Потом нагнется, чтобы вынуть мяч из лунки. А когда выпрямится в полный рост, я выстрелю.
Ларк шагнул к мячу, но прежде, чем он успел подтолкнуть его в лунку, я выстрелил в логотип на его груди. Моя вторая пуля еще куда-то попала, наверное, в живот, и он рухнул на землю. Наступила гнетущая тишина. Я опустил ружье. Ларк перекатился на бок, привстал на колени, потом, пошатываясь, поднялся, с трудом сохранил равновесие – и завизжал. Я в жизни не слышал такого истошного вопля. Я перезарядил ружье и вскинул к плечу. Меня так сильно трясло, что пришлось положить ствол на ветку куста. Я задержал дыхание – и снова выстрелил. Не знаю, куда я попал. Я опять передернул затвор, дослал патрон в патронник, прицелился, но тут мой палец соскользнул со спускового крючка – и я не смог выстрелить. Ларк пополз вперед. Опять наступила тишина. Мое лицо было мокрым. Я вытер глаза рукавом. Ларк снова обрел дар речи.
– Пожалуйста, не надо! Пожалуйста, не надо!
Я подумал, что мне послышалось, хотя эти слова мог бы и я выкрикнуть. Ларк попытался встать. Задрыгав одной ногой в воздухе, он перекатился со спины на живот, встал на колени, потом на карачки. Он не сводил с меня глаз. Бездонная чернота его зрачков как будто отбросила меня назад. И тут кто-то извлек ружье из моих рук. Справа от меня вырос Каппи. Выстрела я не слышал. Все звуки, все движения застыли в вязком воздухе. В ушах у меня звенело. Каппи подобрал с земли стрелянные гильзы и рассовал по карманам своих джинсов.
– Давай, – сказал он, тронув меня за руку. – Бежим отсюда.
Я поплелся за ним вверх по склону холма, ощущая на лице первые капли дождя.
Глава 11 Ребенок
Подбежав к дубу, мы обернулись и посмотрели вниз, на поле для гольфа. Ларк лежал на спине, рядом с ним из сумки на колесиках аккуратно торчали его клюшки. Короткая клюшка-паттер валялась тут же. Он не шевелился. Каппи бухнулся на колени, склонился так низко, что его лоб коснулся земли, и прикрыл голову обеими руками, как школьник на занятиях гражданской обороны. Постояв так немного, он выпрямил спину и покачал головой. Мы завернули ружье в мешок для мусора и отложили в сторону, а сами стали приводить в первоначальный вид землю вокруг тайника. Каппи палочкой распрямил траву, которую я притоптал, выкапывая ружье.
– Дома у меня сейчас никого, – сказал Каппи. – Нам надо его припрятать.
Он забрал у меня ружье.
Мы подождали, пока проезжающая машина скроется из вида, и только после этого пересекли шоссе. Дождь превратился в мелкую водяную сеточку. Придя к Каппи, мы сразу пошли на кухню, вымыли под краном руки, освежили лица и выпили несколько стаканов воды.
– Мне надо было заранее сообразить, где спрятать ружье, – сказал я. – Не пойму, почему я об этом раньше не подумал.
– И я хорош – тоже не подумал! – с досадой произнес Каппи.
Он пошел к кофейному столику и, порывшись в наваленном там хламе, обнаружил наконец там связку ключей. Доу уехал на своей машине на работу, а Рэндалл умотал в своем пикапе. Но еще у Рэндалла был дряхлый красный «олдсмобил», который Каппи иногда разрешали брать. Одна дверь, передняя, со стороны водителя, у него была черная, а лобовое стекло – с вертикальной трещиной. Мы вышли из дома, положили ружье в багажник и забрались на переднее сиденье.
– Стартер барахлит, – предупредил Каппи.
Движок только засипел, когда Каппи повернул ключ зажигания. Он выжал газ. Движок кашлянул и стих.
– С ним надо нежно, – объяснил Каппи. – Пока я раскочегариваю эту колымагу, ты подумай, куда мы поедем.
– Я знаю, куда.
Он снова попытался завести «олдсмобил». Это ему почти удалось.
– И куда?
– К Линде. На старую ферму Уишкобов.
Мы сидели, глядя на сарай через расколотое надвое стекло.
– Это неожиданно, но логично, – усмехнулся Каппи. Внезапно он подался вперед, резко повернул ключ в замке зажигания и вдавил педаль газа.
– Заводись! – приказал он, и движок послушно заурчал.
Дождь уже лил как из ведра. Каппи опустил стекло и высунул голову наружу, чтобы видеть дорогу. Дворник работал только со стороны пассажира, и со стороны водителя по лобовому стеклу струились потоки воды. Каппи вел «олдсмобил» медленно и осторожно, как старик. Земельный участок Уишкобов располагался на противоположном конце резервации среди волнообразных, как дюны, коричневых холмов, сплошь поросших травой – там бы скот выпускать на выпас. Старый благообразный дом стоял в окружении сиреневых кустов и сгорбившихся дубов, за живой изгородью, способной выдержать ураганные порывы ветра. По дороге туда нам попались две машины, но никто не видел, как мы свернули к стоявшему на отшибе дому Линды. Каппи остановился и не выключил мотор, потому что не знал, сумеет ли он опять его завести. Мы вылезли из машины и обошли вокруг дома в поисках укромного места. Старый пес Линды, которого она заперла в доме, зашелся астматическим лаем. Наконец мы нашли то, что искали: пустоту за куском коричневой металлической решетки, кое-как прибитой снизу к главному крыльцу. Отодрав решетку, я заполз внутрь и закинул ружье как можно дальше в темноту. После чего мы воспользовались монтировкой для шиномонтажа, чтобы вбить решетку на место, и только потом заметили, что решетка вообще отсутствует с краю, где собака устроила себе лежбище под крыльцом. Мы вернулись в машину и отъехали от дома. Мы не разговаривали. Каппи притормозил около моего дома, чтобы выпустить меня. На шоссе мы заметили машину полиции племени, мчащуюся со стороны города на восток, к полю для гольфа. С мигалками, но без сирены.
– Он точно умер, – сказал Каппи. – Иначе их был бы целый эскадрон.
– И сирены бы выли.
Мы сидели в машине с работающим вхолостую мотором. Теперь дождь едва моросил.
– Ты спас мою задницу, брат! – пробормотал я.
– А я-то что? Ты бы и сам добил этого…
Каппи осекся. У нас было не принято плохо говорить о покойниках, вот он и спохватился.
– Он бы в любом случае сдох, – сказал я, – и не ты его убил. Так что ты ни в чем не виноват.
– Само собой. Ладно.
Беседовали мы равнодушно, как будто речь шла о совершенно чужом человеке. Или как будто то, что мы сделали, произошло в телевизионном сериале. Но я с трудом дышал – так гортань сдавило. Каппи обтер лицо ладонью.
– Нам нельзя больше об этом говорить, – предупредил он.
– Согласен!
– Как говорит твой отец, преступников когда ловят? Когда они начинают болтать лишнее.
– Напиваются и так далее.
– Я бы напился, – признался Каппи.
– Чем?
Движок на холостом ходу сбился с ровного урчания, и Каппи подбодрил его, нежно нажав на педаль газа.
– Сам не знаю. Рэндалл сейчас в завязке.
– Я бы мог попросить у Уайти, – брякнул я.
– Да ну? – изумился Каппи, покосившись на меня.
Я кивнул и отвернулся.
– После того, как ты отгонишь машину.
– Ну, ясное дело.
– Подходи на заправку. Я с ним поговорю.
Я вылез из «олдсмобила» и отошел в сторону. Потом вытянул руку и стукнул ладонью по стеклу. Каппи уехал, а я медленно потопал к заправке, мимо старой государственной школы и общественного центра, мимо знака «стоп», мимо дома тети Клеменс и дяди Эдварда. Пересек шоссе, преодолел заросший травой придорожный овраг. Когда я дошел до станции, дождевые лужи уже высохли, оставив лишь редкие темные кляксы на гравии. Дядя Уайти стоял в дверях гаража, вытирая руки замасленной тряпкой. Он несколько секунд смотрел на меня, а потом исчез во тьме. И вынырнул оттуда с двумя холодными бутылками виноградной газировки. Я подошел к нему и молча взял одну. Бутылка была открыта. Из его приемника сквозь треск помех доносились переговоры полицейских. Я торопливо глотнул из горлышка и чуть не выдал все обратно.
– У тебя желудок бунтует, – заметил Уайти. – Нужно съесть немного хлеба.
Он достал из кулера ломтик белого, и, проглотив его, я почувствовал себя лучше. Мы сели на шезлонги в тени гаража – там, где когда-то, как теперь казалось, оченьочень давно, сидели Соня и Лароуз.
– Помнишь, когда я был маленький, – проговорил я, – ты мне иногда давал глотнуть виски…
– И твоя мама страшно на меня злилась, – отозвался Уайти. – Есть хочешь? Как насчет сэндвича со стейком по-индейски?
– Не, пока не надо.
Я потягивал газировку из бутылки.
– На этот раз все кончилось хорошо, – продолжал Уайти. Он внимательно смотрел на меня. Пару раз он открывал рот, желая что-то сказать, но выдал только на третий раз:
– Кто-то укокошил Ларка. На поле для гольфа. Изрешетил его, как будто ребенок стрелял по стогу сена. И один чистый выстрел в голову.
Я старался сидеть спокойно, но не смог. Вскочил и помчался за гараж. И был там вовремя: меня вывернуло. Уайти не стал меня догонять. Когда я вернулся, он уже обслуживал очередного клиента. Колени у меня тряслись, и я бессильно рухнул в шезлонг.
– Дам тебе имбирного лимонада, мальчик мой! – Уайти ушел в магазин и вынес теплую банку.
– Она стояла не в кулере. Но для твоего взбаламученного желудка это даже полезно.
– Наверное, у меня летний грипп.
– Летний грипп, да, – согласился он. – Вирус. Твои друзья тоже его подхватили?
– Не знаю. Я никого еще не видел.
Дядя Уайти кивнул и сел рядом.
– Я тут слушал свой коротковолновик. Кто бы это ни сделал, никаких следов. Полицейским не за что уцепиться. И свидетелей нет. Никто ничего не видел. И ливень был сильный. А твой грипп быстро пройдет. Но может, тебе лучше все-таки лучше прилечь? В офисе стоит раскладушка. Соня там иногда дремала днем – и еще будет дремать. Она же возвращается. Я говорил тебе, Джо?
– Она тебе звонила? – с ненавистью спросил я.
– Да, черт побери, она звонила. Теперь, говорит, все будет по-другому, по ее правилам. А мне что? Мне ничего. Что бы ты там ни думал… – Он смущенно отвернулся. – Я ее страсть как люблю, эту девчонку. Понимаешь? Она возвращается ко мне, Джо!
Я вошел в тесный офис, прилег на раскладушку и проспал добрых полчаса. Раскладушка не пахла Соней, чему я обрадовался, потому что просто не выдержал бы такого. Когда я проснулся и вышел, Каппи еще не приехал.
– Я бы не прочь съесть сэндвич, дядя Уайти!
Он пошел к кулеру, достал оттуда вареной колбасы, сыр и хлеб. Еще там лежала головка салата-айсберга, и он аккуратно оторвал от нее три бледно-зеленых листа и накрыл ими колбасу, прежде чем положить сверху второй кусок хлеба.
– Салат? – удивился я.
– Я, парень, увлекся здоровым питанием!
Он передал мне сэндвич и сделал такой же для себя. Но потом и его отдал мне.
– А вот и твой друг!
В дверь вошел Каппи, и я вручил ему второй сэндвич.
Втроем мы сели на шезлонги позади гаража и принялись поглощать сэндвичи.
– Дядя Уайти, – произнес я с нажимом, – почему бы нам не пригубить кое-чего.
Он неторопливо жевал сэндвич.
– Почему-то я не удивлен, – доев, отозвался он. – Но если вы проговоритесь Джеральдин или Доу, пострадает моя старая красная задница. И вам больше не перепадет ни капли в будущем. И идите пейте за станцию, вон под теми деревьями, где я смогу наблюдать за вами за обоими.
– Мы принимаем твои условия, – важно заявил Каппи. Его лицо оставалось непроницаемым.
– Тогда оформим нашу сделку! – усмехнулся Уайти. Вокруг не было ни души. Он вернулся в магазин, чтобы открыть сейф, в котором у него хранилась выпивка. Он вынес пол-литровую бутылку бурбона «Фор роузез» и указал пальцем на деревья за гаражом. Каппи принял у него бутылку и спрятал под рубашкой. Тут подъехал еще клиент. Уайти помахал водителю и поспешил к бензоколонке.
– Он знает? – спросил Каппи.
– Вроде да, – ответил я. – Меня вырвало, когда он сказал про Ларка.
– Я блеванул по дороге сюда, – признался Каппи.
– Это просто летний грипп.
– Ты что, посоветовался с врачом, Джо?
Мы переглянулись и попытались улыбнуться, но вместо этого скорчили кривые гримасы. На наших лицах возникло выражение, соответствующее нашему реальному настроению.
– И что теперь? – спросил Каппи. – Что нам теперь делать?
– Не знаю, брат. Просто не имею понятия.
– Надо простерилизовать внутренности.
– Точно!
Под деревьями лежали четыре или пять цементных блоков, куча смятых банок из-под пива, круг табачного пепла. Мы присели на блоки и открыли бутылку. Каппи осторожно отхлебнул и передал бутылку мне. Я сделал судорожный глоток и почувствовал, как обжигающая струйка потекла вниз по пищеводу. Жжение унялось, когда жидкость попала в желудок, и внутри у меня все разжалось под действием медленно расползающегося тепла. После следующего глотка я уже ощутил приятную легкость. Все вокруг подернулось желтовато-янтарными тонами. И впервые за все это время я смог сделать глубокий вдох.
– Ох, – пробормотал я, склонив голову и возвращая бутылку Каппи. – Ох, ох, ох…
– Что? – спросил тот.
– Ох…
Он не спеша пил из горла. Я поднял с земли веточку и стал отодвигать угольки и пятнистые камешки от пепла, нарушив круг. Каппи молча наблюдал за движениями моей веточки, а я, не переставая, возил ею по земле, пока мы не прикончили всю бутылку. После этого мы растянулись на траве.
– Брат, что привело тебя на наблюдательный пункт? – спросил я.
– Я все время туда приходил, – ответил Каппи. – Каждое утро. Я всегда стоял у тебя за спиной.
– Так я и думал, – кивнул я.
Потом мы уснули. А когда проснулись, дядя Уайти заставил нас прополоскать рот водой, потом зубным эликсиром и съесть по сэндвичу.
– Дай-ка мне твою рубашку, Джо, – попросил он. – Оставь ее тут. И еще раз возьми в руку бутылку. Ты тоже, Каппи.
Я отдал ему рубашку и отправился домой. Каппи брел рядом, как во сне. Мы не были слишком пьяны, просто ничего не чувствовали. Но мы выписывали зигзаги на шоссе, не в силах идти прямым курсом. Мы думали, что Энгус и Зак уже ищут нас.
– Теперь нам надо все время держаться вместе, всем четверым, – заявил Каппи.
– По утрам будем бегать в виде тренировки для кросса.
– Правильно!
Из-под своего куста вылезла Перл и сопроводила меня до крыльца. Перед тем, как войти в дом, я немного поиграл с ней и заставил себя громко засмеяться. Я впустил ее в дом, потому что боялся увидеть родителей за кухонным столом в ожидании моего прихода. Так оно и было. Открыв входную дверь и увидев их, я нагнулся к Перл, почесал ей шею и что-то шепнул на ухо. Потом выпрямился и уже собрался их поприветствовать, но тут улыбка сползла с моего лица.
– Что такое?
К этому моменту виски дяди Уайти уже полностью растворился в моем организме и резко отделил меня нынешнего от меня прошлого, когда я выдирал молодые побеги из нашего фундамента, когда горько плакал под дверью маминой спальни, когда наблюдал, как мой ангел-хранитель, мой дудем, движется по освещенным солнцем стенам моей комнаты. Я присел, не отнимая рук от мохнатой шеи Перл и полностью игнорируя укоризненный взгляд родителей. Я остался в дальнем конце комнаты, надеясь, что они не учуют исходящий от меня запах спиртного, но буквально кожей почувствовал, как мама перевела тревожный взгляд на отца.
– Ты где был? – спросила она.
– Бегал.
– Целый день?
– Я забегал к Уайти.
До этого они сидели жутко напряженные, но теперь немного успокоились.
– Зачем?
– Да просто так. Уайти нас накормил обедом. Меня с Каппи.
Родителям так сильно хотелось мне поверить, что я видел: они уговаривали себя проявить ко мне доверие. Мне оставалось только вести себя так, чтобы оправдать их ожидания. Не спалиться. Не блевануть.
– Сядь, сынок, – сказал отец. Я шагнул вперед, но не сел. Он сообщил мне, что Ларк умер. Я заставил себя изобразить на лице вереницу разных чувств.
– Ну и хорошо, – наконец произнес я.
– Джо, – продолжал отец, взяв себя за подбородок и глядя на меня – этот его взгляд буквально придавливал. – Джо, тебе об этом что-нибудь известно, хоть что-то?
– Об этом? О чем об этом?
– Его убили, Джо.
Но я уже привык к этому слову. Я себя выдрессировал. Ведь я произносил его в разговоре с Каппи, произносил его про себя. И я подготовился ответить на вопрос, и ответить на него так, как ответил бы прежний Джо, существовавший до событий того лета. И я заговорил, как ребенок, поддавшись внезапно охватившему меня буйному восторгу, который не был притворным.
– Он мертв? Но я же хотел, чтобы он умер. Мысленно. Ты говоришь, его убили. Я рад. Он этого заслуживал. Мама теперь свободна, ты свободен. Парня, который его убил, надо наградить медалью.
– Ладно, – перебил меня отец. – Хватит об этом. – Он отъехал на стуле от стола. Мама во все глаза смотрела на меня. Она была готова поверить всему, что скажу.
Но вдруг она содрогнулась. Дрожь волной пробежала по ее телу, и через мгновение эта волна перекинулась на меня.
«Она увидела во мне убийцу», – подумал я.
Ощутив легкое головокружение, я нагнулся к Пёрл, но она отползла к ногам отца. Я опустился на стул.
– Не стану врать. Я рад, что он умер. Можно я пойду?
Я встал, прошел мимо них и шагал до самой лестницы. Я осторожно наступал на ступеньки. И все то время, что я поднимался по ступенькам, как будто моя усталость тянула меня вверх, словно веревка, и я ощущал на своей спине их взгляды. Я вспомнил, что нечто подобное уже было раньше и я смотрел тогда на маму точно так же, как они сейчас на меня. Уже почти дойдя до своей комнаты, я вспомнил, как мама поднималась в свою обитель одиночества, а мы с отцом боялись, что она уже никогда оттуда не выйдет.
Нет, думал я, забираясь в постель. У меня же есть Каппи и другие друзья. Я совершил то, что должен был. Назад пути нет. И что бы ни случилось дальше, я все приму как должное.
* * *
Я все-таки слег. Заболел по-настоящему тем самым летним гриппом, который симулировал. А дядя Уайти за нас поручился. Сначала его допрашивал Винс Мэдвезин и другой полицейский племени, потом за него взялся агент Бьерке, и только тогда Уайти сдался и рассказал, что мы залезли в его загашник, нашли там бутылку виски и упились вусмерть за заправкой. Он показал им наше укромное местечко под деревьями, пустую бутылку, с которой сняли отпечатки пальцев, и мою рубашку. Мама опознала в ней ту, которую она выстирала перед тем, как я ее надел в тот самый день. Но ружья – охотничьего ружья Доу калибра 30.06 – не нашли. Меня била лихорадка, сильный жар сменялся приступами озноба, простыни были влажными от пота. Из постели я наблюдал, как золотые блики ползают по стенам комнаты. Я ничего не чувствовал, но мысли в голове роились, как пчелы в улье. Почему-то все время мне вспоминался тот день, когда я выкорчевывал побеги из фундамента нашего дома. Как же цепко они держались своими корнями за бетон. Наверное, они пробились сквозь бетонную основу, на которой стоял наш дом. Это было чудно, странно, что молодое дерево может быть таким сильным, даже если оно выросло не там, где надо. Так и мысли пробиваются, бормотал я в полубреду. Мысли. Об отцовских папках с судебными делами, о юридическом справочнике Коэна и, наконец, о той горячей запеканке, упавшей на пол. И еще о почерневшей засохшей запеканке в противне, где горка лапши превратилась в грудную клетку – человека, бизона, существа, над которым властвуют законы. Я гадал, как маме удалось вернуть дух в свое тело, и точно ли ее дух вернулся, и не ускользает ли из меня мой дух из-за того, что я совершил. А вдруг я стану Виндигу? Вдруг меня заразил Ларк? Мне пришло в голову, что в тот день, когда я выкорчевывал молодые деревца, всего-то несколько месяцев назад, я был на седьмом небе. Пребывал в полном неведении. Я ничего не знал, хотя зло уже вершило свое черное дело. Но меня тогда это еще не касалось. В конце концов эти мысли меня утомили. Я отвернулся от яркого света к стене и уснул.
– Пап, – обратился я к нему как-то раз, когда он вошел ко мне в комнату. – А Линда в курсе? Как она?
Он принес мне стакан лечебного снадобья Уайти – теплый имбирный лимонад.
– Не знаю, – ответил отец. – Она не берет трубку. И на работе не появляется.
Надо бы к ней сгонять, подумал я, а потом снова крепко уснул и проспал до следующего утра. Проснувшись, уже довольно поздно, я понял, что болезнь прошла. Ни температуры, ни слабости. Ничего. Только зверски хотелось есть. Я встал с постели и принял душ. Надел чистую одежду и спустился вниз. Деревья на краю двора приветливо махали ветками, и листья под ветром поворачивались обратной мутновато-серебристой стороной. Я налил себе стакан воды из-под крана и подошел к кухонному окну. Мама была на огороде. Встав на корточки, с дуршлагом в руке, она собирала с кустов бобы, которые мы с отцом высадили позже, чем надо. Иногда она вставала на четвереньки и так двигалась вдоль грядки. Потом снова вставала на корточки. Встряхивала дуршлаг, разравнивая собранные туда бобы. Вот почему я это совершил. И от этой мысли ощутил полное удовлетворение. Чтобы она могла спокойно встряхивать свой дуршлаг. Чтобы ей не нужно было постоянно оглядываться или бояться, что он подкрадется сзади. Чтобы она весь день собирала на огороде бобы и никто не мог бы ее напугать.
Я насыпал в плошку хлопьев, залил молоком, принялся неторопливо есть. Размокшие в молоке хлопья приятно скользили по языку. Я вымыл плошку и вышел из дома.
Мама поднялась и подошла ко мне. Приложила испачканную землей руку к моему лбу.
– Температуры нет!
– Я выздоровел!
– Не спеши! Сегодня посиди дома, почитай или…
– Да мне надо кое-что сделать, – сказал я. – Занятия в школе начнутся уже через две недели. Не хочу зря тратить последние деньки каникул.
– То есть ты зря тратишь время, сидя дома со мной! – Она не рассердилась, но и не улыбнулась.
– Я не то имел в виду, – уточнил я смущенно. – Я ненадолго.
Взгляд ее запавших глаз – причем один смотрел печальнее другого из-за скорбного прищура – медленно скользнул по моему лицу. Она взъерошила мне волосы. Я взглянул поверх ее плеча и увидел на кухонном крыльце пустую банку из-под солений. Я похолодел. Банка! Я забыл банку на холме…
– Что это?
Мама оглянулась на крыльцо.
– Винс Мэдвезин заходил. Он отдал мне банку и сказал, что ее надо помыть. Еще сказал, что ему очень нравятся мои соленые огурчики. Думаю, это был намек.
Она пристально глядела на меня. Но я спокойно выдержал ее взгляд.
– Я беспокоюсь о тебе, Джо.
Этот момент я вспоминаю до сих пор. Она стоит передо мной на фоне буйства огородной растительности. Ее руки пахнут теплыми ароматами земли, на шее испарина, во взгляде угадывается вопрос.
– Уайти говорит, что вы, ребята, наклюкались.
– Это был эксперимент, мама, – не смутился я, – но его результаты оказались негативными. Я часть каникул провалялся больной. Думаю, с выпивкой пора кончать.
Она с облегчением рассмеялась, но смех застрял у нее в горле. «Люблю тебя», – улыбнулась мама, а я пробурчал в ответ те же слова и уставился себе под ноги.
– Ты сейчас в норме, мама? – спросил я тихо.
– О да, сынка, я в полном порядке. Я снова такая же, как прежде. Все теперь отлично, просто отлично, – она изо всех сил старалась убедить меня в своей искренности.
– В любом случае, он же мертв, мама. Он заплатил за все.
Мне захотелось добавить, что он умирал мучительной смертью, что он знал, за что его убили, и что он видел своего убийцу. Но тогда мне бы пришлось признаться, что это был я.
У меня больше не было сил на нее смотреть. Я сел на велосипед и укатил, чувствуя на спине ее тяжелый взгляд.
Сначала я поехал на почту. Была вероятность наскочить в городе на отца, если у него обеденный перерыв, поэтому я решил успеть на почту до полудня и посмотреть, работает ли Линда. Ее не было. Маргарет Нанапуш, бабушка моей одноклассницы Маргарет, с которой я разговорился на пау-вау и на ком потом женился, сказала, что Линда на больничном. И еще миссис Нанапуш предположила, что Линда дома.
Я отправился к ней. После болезни я был еще слишком слаб, и поездка показалось мне бесконечной. На той стороне резервации дули сильные ветра. Я добрый час крутил педали, преодолевая встречный ветер, пока не выехал на дорогу к дому Линды. Наконец я свернул на ее подъездную аллею. Ее машина стояла под деревянным навесом во дворе. Она, как ни странно, водила симпатичный голубой «мустанг». Я вспомнил ее слова о том, как ей нравится на нем ездить. Я прислонил велик к крыльцу. «Меня выветрило наизнанку», – громко заявил я и пожалел, что рядом нет Каппи и он не может оценить мой каламбур. Я добрел до двери и постучал, громыхнув болтающейся на алюминиевой раме сеткой от мух. Линда тут же возникла за сеткой.
– Джо, ты так тихо подъехал!
Нахмурившись, она тронула сетку и потрясла.
– Надо ее закрепить. Входи, Джо.
Вдалеке с запозданием залаял пес. Он тяжело трусил по косогору со стороны поля за двором. Добежав до дома, он совсем выдохся. Это был старый черный пес с поседевшей мордой.
– Бастер, ну, улыбнись же! – обратилась к нему Линда. Пес вывалил язык, раззявив пасть в подобии улыбки и шумно дыша. Мне даже стало смешно. Часто говорят, что со временем хозяева и их собаки становятся похожи. В данном случае это наблюдение было справедливым. Линда впустила пса в дом вместе со мной.
– Думаю, нам не пристало смеяться с учетом случившегося, – изрекла Линда, приведя меня в кухню. – Садись, Джо. Что тебе дать? – Она перечислила все, чем была богата. Разнообразный ассортимент напитков и сэндвичей. Я не прерывал ее. Наконец она призналась, что сама предпочитает сэндвич с яичницей под майонезом с хреном, и если я не возражаю, она сделает нам обоим по такому. Я с энтузиазмом согласился. Пока она жарила яйца, я смог освоиться и даже зашел в гостиную, оценив видимость порядка в ее жилище. У нас дома, хотя мы поддерживали чистоту, не все сразу убиралось на место, и повсюду вечно валялись кипы каких-то документов и всякая всячина. Лежали книги, давно снятые с полок. Пиджак мог несколько дней провисеть на спинке стула. И наша обувь отнюдь не была выстроена в линеечку у двери. У Линды в доме царил идеальный порядок в привычном смысле этого слова. Но порядок был такой, что я несколько растерялся, пока не разобрался, что тут к чему. У всех вещей был двойник, дублер, но не близнец. На книжной полке стояло по две книги одного и того же автора, но разные, хотя иногда рядом с томом в твердом переплете стояло переиздание в бумажной обложке. В основном это были исторические романы. Еще у нее были выставлены несколько коллекций предметов. Тоже по два. Стеклянные фигурки диснеевских персонажей на приставных столиках, парные, но разных цветов, стояли вокруг настольных ламп с приклеенными к абажурам пластиковыми листьями, подобранными по тому же принципу. На стене за телевизором были развешены сплетенные из ивовых прутиков корзинки, а в них вставлены пучки засохших трав и пустых бобовых стручков. Еще у нее был старинный кукольный домик с фронтонами по бокам – обычно только взрослые покупают себе такие домики. Я побоялся заглянуть внутрь, но все же любопытство взяло верх, и я увидел, что каждая комнатка полностью обставлена, вплоть до похожих на короткие зубочистки свечечек на столиках, а в ванной стояли в стаканчиках две крошечные зубные щеточки и два тюбика зубной пасты. У меня по спине мурашки забегали, хотя мы с ней еще ни о чем не успели толком поговорить. Тут Линда позвала меня, и я вошел в кухню, не в силах вымолвить ни слова. Мы сели за деревянный стол, старый и сильно исцарапанный. Но по крайней мере, этот стол был в единственном числе. Никакого стола-дублера в кухне не стояло. Она накрыла его яркой скатеркой, расставила тарелки и стаканы. Налила холодного чаю. Тосты были хорошо, до хруста, поджарены. На столе стояла лишняя тарелка. Я указал на нее.
– А это для кого?
– Доу сказал мне однажды в парильне, что поскольку вокруг меня вьется дух-двойник, мне следует его привечать. И я обставила свой дом как бы для двоих, ты же сам видишь, даже домиком для малышей обзавелась. И когда я сажусь есть, всегда ставлю лишнюю тарелку и откладываю в нее немного еды, которую готовлю для себя.
На лишней тарелке лежал кусочек тоста.
– Духи мало едят?
– Только не этот! – с довольным видом ответила Линда.
И вдруг мне стало вполне комфортно. Я жутко проголодался – так всегда бывает после болезни.
Линда жевала, с сияющей улыбкой глядя то на меня, то на свой сэндвич. Она аккуратно, почти нежно, положила на тарелку кусок хлеба с зажаренным яйцом и обратилась к нему с речью.
– Это ли грех – наслаждаться тобой, когда мой брат-близнец лежит мертвый в морге? Не знаю. Но ты очень вкусный!
Я поперхнулся. Второй сэндвич встал у меня в горле колом.
– Хочешь запить чаем?
Она подлила мне в стакан холодного чаю из пластикового кувшина, в котором постукивали кубики льда и болтались кусочки лимона.
– Я не хожу на работу не из-за скорби по брату, ты же меня знаешь, – продолжала Линда. – Я не хожу на работу по другой причине. У меня оставался один неизрасходованный отпуск по болезни, вот я и подумала, а почему бы не использовать его для улаживания кое-каких дел.
– Каких дел? – И я подумал о ее гостиной с аккуратно продублированными вещами. Но потом понял, что она имеет в виду свои мысли.
– Я расскажу тебе, – пообещала Линда, – если ты мне скажешь, зачем ко мне приехал.
Я отложил недоеденный сэндвич, жалея, что не успел покончить с ним до этого момента.
– Погоди! – Словно прочитав мои мысли, Линда предложила сначала доесть, а потом уж поговорить. Она еще и извинилась за то, что плохо принимает гостей. Потом схватила сэндвич своими короткими пухлыми пальцами – я заметил свежий лак на ее ноготках – и бросила на меня странный взгляд, в котором угадывалась веселая хитринка но в то же время и тень безумия. Я ел неторопливо и в конце концов проглотил последний кусок.
Линда вытерла губы бумажной салфеткой и сложила ее квадратиком.
– Поле для гольфа, – наконец произнесла она, погрозив мне пальцем. – Ты выуживал из меня информацию. Дважды два – три! Тем не менее я решила, что ты все-таки еще слишком юный, чтобы такое совершить. Может, и нет, но я так решила. Моя гипотеза состоит в том, что ты передал полученную информацию о том, когда Линден ходит играть в гольф, кому-то из взрослых. Но близорукому, а значит, не отцу, ведь твой отец – отличный стрелок.
– Неужели?
– Для меня это, конечно, было сюрпризом. Но это всем известно. В молодости он мог попасть в любую движущуюся мишень, в которую прицеливался. Дети не знают прошлого своих родителей… Так зачем ты пришел?
– Я могу вам доверять?
– Если тебе нужно спрашивать об этом, то нет.
Я стушевался. В ее круглых глазках опять вспыхнул безумный блеск. Казалось, Линда сейчас разразится безумным хохотом, но вместо этого она подалась вперед и стала опасливо озираться, точно стены были напичканы подслушивающими устройствами.
– Я бы сделала все что угодно ради твоей семьи, – зашептала она. – Я же отношусь к вам со всей душой, ребята. Хотя ты меня использовал, Джо, и сейчас чего-то от меня хочешь. Чего?
И тут я подумал, что спрошу насчет ружья. Вместо этого я услышал, как задаю ей вопрос, на который, я знал, не было ответа.
– Почему, Линда? Почему он это сделал?
Мой вопрос застал ее врасплох. Она выпучила глаза, наполнившиеся влагой. Но она ответила. Это же настолько очевидно, сказала она, что тут и спрашивать не надо.
– Он ненавидел вашу семью. Ну, то есть, главным образом, твоего отца. А еще Уайти и Соню. У него было извращенное мышление, Джо. Он ненавидел твоего отца, но и боялся его. И он никогда бы не напал на Джеральдин, если бы не Майла – тут он совсем озверел. Заполнив тот формуляр в офисе Джеральдин, Майла вписала старого Йелтоу отцом ребенка – то есть она призналась, что забеременела в то время, когда работала на него. Старшеклассницей. Этот старый греховодник, прости мой французский, дал ей машину, чтобы она вернулась домой, денег, чтобы она не болтала, но все же она решила записать его отцом ребенка. Линден тоже работал на губернатора. Но он всегда был болезненно ревнив, воображал, что все должно принадлежать ему, и он до безумия влюбился в Майлу. Он мечтал сбежать с ней вместе с этими деньгами, а она ему отказала. Не захотела сбегать с ним. Может быть, она его ненавидела, боялась. Она обратилась к Джеральдин за помощью. И вот они обе знают правду о ребенке. И это гложет его, гложет. Он же боготворил Йелтоу. Может, он думал, что если раздобудет ту папку, то спасет Йелтоу от позора. А может, хотел шантажировать старого губернатора. Думаю, он был способен и на то и на другое. Естественно, твоя мама не отдала ему папку. Но причина, почему он так поступил с твоей мамой, кроется в человеке, который разбудил в нем такого монстра. Не у всякого в душе живет монстр, и многие с монстром внутри держат его взаперти. Но я распознала монстра в брате еще в больнице, и от этого сама смертельно заболела. Я знала, что наступит день – и монстр вырвется наружу. И он будет рыскать вокруг, а внутри него будет частица меня. Да! Я была частью этого монстра. Я отдавала и отдавала, но знаешь что? Он все не мог насытиться. А знаешь, почему? Потому что неважно, скольких он пожрал, он никак не мог ухватить нужное. Правильное. Ему всегда было нужно еще что-то. Чего не хватало и его матери. И я тебе скажу, чего: меня! Моего сильного духа. Меня! Его мать не могла смириться с тем, что она сделала со своим ребенком, но и это не все. То, на что она меня обрекла, не погубило меня, – задумчиво проговорила Линда, – и она, которая сказала врачу: пусть ребенок умрет, – она как ни в чем не бывало позвонила мне… Спустя столько лет! Позвонила и сказала: «Привет! Это твоя мать!»
Линда замолчала. И я молчал.
– А он не смог забыть, – после долгой паузы продолжала она. – Поэтому он и вернулся, и вернулся так, словно хотел, чтобы этого монстра убили, но я догадалась и о другой причине.
– И что это за причина?
– Он нервничал из-за Майлы. Я же знаю, она сейчас где-то в резервации. Он хотел проверить, там ли она, хотел убедиться, что ее не нашли.
– Думаете, она жива?
– Нет.
Через некоторое время меня вдруг объял ужас.
– Я похож на него?
– Нет. Это не даст тебе покоя. То есть это кого хочешь бы беспокоило. Смотри, как бы эти опасения не сломали тебе жизнь. Не позволяй таким мыслям сломать твою жизнь, Джо. А что ты мог сделать? И кто бы смог? – Она пожала плечами. – Но вот я – это совсем другая история. Я не сильно от него отличаюсь, Джо. Это я должна была застрелить его из старого дробовика Альберта. Хотя если бы у Линдена был выбор, он бы предпочел быть застреленным из охотничьего ружья.
– Да, кстати, о ружье, – сказал я.
– Что с ружьем?
– Оно лежит под вашим крыльцом. Вы можете его спрятать? Увезти из резервации?
Глядя на меня, она усмехнулась с таким видом, будто готова расхохотаться, и я невольно подумал: «умалишенная». Но она сдержалась, прикусила губу и подмигнула.
– Бастер уже его нашел, Джо. Он точно знает, когда на его территории появляется новый запах. Сначала я подумала, что его привлек скунс. А когда заглянула под крыльцо, увидела край того черного тяжелого мешка.
Я сидел ни жив ни мертв, и она заметила мой испуг.
– Не беспокойся, Джо. Хочешь знать, где я была, пока отсутствовала на работе по болезни? Я ездила в Пьер, в гости к своему брату Седрику. Он же окончил военное училище в Форт-Беннинге, в штате Джорджия, и легко разобрал то ружье. Пару деталей мы выбросили в Миссури. Сюда я вернулась таким кружным путем, по глухим проселкам, что даже не смогу повторить свой маршрут. Так вот, остальные части ружья я утопила по дороге в разных болотах. – Она подняла обе ладони вверх. – Так что скажи тому, кто это сделал: пусть живет спокойно.
Ее глаза затуманились, лицо приняло благодушное выражение.
– Что мама? Как она?
– Сегодня работала на огороде, собирала бобы. Говорит, она в порядке. Но она это слишком часто повторяет, наверное, чтобы я ей поверил.
– Я к ней заеду проведать. Передай-ка ей вот это.
Линда вытащили что-то из кармана и, зажав в кулаке, протянула кулак к моей руке. Когда она разжала пальцы, мне на ладонь упал маленький черный шурупчик.
– Скажи ей, пусть положит его в шкатулку с драгоценностями. Или закопает. Пусть делает с ним, что захочет.
Я положил шурупчик в карман.
На полдороге домой, подгоняемый дующим мне в спину ветром и держа под мышкой замороженный кирпичик фирменного бананового кекса в фольге, я, разумеется, догадался, что этот шурупчик – от разобранного ружья. Ветер помогал мне удерживать равновесие, поэтому мне не пришлось останавливаться и слезать с велика или даже держаться за руль обеими руками. Я выудил шурупчик из кармана и со всего размаха зашвырнул в придорожную канаву.
* * *
На сей раз это была бутылка дешевого виски «Капитан Джек», которую Энгус стащил у бойфренда матери, заодно прихватив пригоршню таблеток валиума и несколько банок пива «Блатц» из холодильника. Мы пристроились под деревьями на самом краю безлюдной стройплощадки. После того как ленивые бульдозеры и юркие погрузчики закончили месить грязь, мы стали здесь полноправными хозяевами. В иные дни они оставляли нетронутыми только следы от шин наших великов, а в другие дни полностью укатывали местность, уничтожая все следы нашего пребывания. Мы понятия не имели, что тут хотели построить. Но горы вырытого грунта никуда не девались.
– Федеральный проект, – веско проговорил Зак.
Каппи запил пивом таблетку, смял пустую пивную банку, лег на спину и уставился на листву. Солнце золотило деревья.
– Наступило мое любимое время суток, – объявил он, вытащил из кармана ковбойской рубашки небольшую фотографию Зелии и положили себе на лоб.
– Шшш, – зашептал Энгус, – они общаются!
– Я тоже по тебе скучаю, детка! – сказал Каппи после паузы. Он вернул фотку в карман, застегнул его на перламутровую кнопочку и похлопал себя по сердцу.
– Красивая любовь, – заметил я, прилег на бок и склонил голову к земле. И тут меня слегка вырвало. Я торопливо забросал блевотину землей, так что никто ничего не заметил. Я пробормотал, что и сам не отказался бы от красивой любви.
Каппи передал мне брошюрку.
– Ее последнее послание, брат.
Брошюрка была посвящена экстазу. Это и было ее посланием. Каппи улыбнулся, глядя в небо.
Я вытаращился на брошюрку и несколько раз прочитал текст, пытаясь вникнуть в его смысл.
– Экстаз, ага, ясное дело! – бросил Зак.
– Да не тот экстаз, о котором ты подумал, – произнес Каппи. – Это воспарение души во время мессы. Только некоторые люди способны так воспарять. Но такое может происходить только с католиками, поэтому семья Зелии думает обратиться в католичество, пока не настал день скорби. И она хочет, чтобы я принял католичество вместе с ними, и тогда наши души вместе испытают экстаз.
– Они взбегут по лестнице в небо, – хохотнул Зак.
– Испытают блаженство все вместе, – добавил я. – Все вместе.
Тут мои мысли побежали по кругу, и я произнес эти слова раз пятьдесят, пока не заставил себя перестать повторять одно и то же.
– Вряд ли вам двоим это удастся, – лениво протянул Энгус. – Вы, ребята, не сможете это испытать, запятнав свои души таким смертным грехом.
Такое было впечатление, что мне голову пронзила сосулька. В наших разговорах эта тема ни разу не возникала. Мы не обсуждали смерть Ларка. Мне стало зябко. Я сохранял ясный ум, но все тело обмякло и перестало меня слушаться. Вмешался Каппи и, как всегда, вытопил из меня весь страх.
– Суперстар, – обратился он к Энгусу, протянув тому руку. Энгус схватил ее и по-братски пожал. – Истина в том, что никому из нас это не суждено. Этого достойны лишь те, кто трезв как стеклышко.
– Всю жизнь? – спросил Энгус.
– Всю жизнь, Суперстар, – кивнул Каппи. – И ты не можешь сбиться с пути истинного даже один раз.
– Ах, – горестно вздохнул Энгус. – Значит, мы замараны. Вся моя семья замарана. Никакого экстаза!
– А на фига нам экстаз, – заметил Зак. – Мы можем исповедаться. Рассказать о своих грехах священнику, и он нас отмажет.
– Я так и поступил, – сказал Каппи. – Но священник чуть не начистил мне табло.
Мы захохотали и в очередной раз обсудили марафон Каппи. Потом разом умолкли и стали смотреть на шелестящие листья.
– Зелия, наверное, исповедалась дома, – помолчав, рассудил Каппи. – Зелия, наверное, очистила свою душу.
– Если только она не забеременела, – я вовсе не собирался сказануть такое, но не смог удержаться и процитировал «Звездный путь»: «Люк, при такой скорости ты надеешься успеть вовремя выскочить?»
– Если бы я не успел, – сказал Каппи, – и она бы залетела, мы могли бы пожениться.
– Тебе же только тринадцать лет, – напомнил я.
– Зелия сказала, столько же было Ромео и Джульетте.
– Ненавижу этот фильмец, – бросил Зак.
Энгус уже спал, и его мерное сиплое дыхание напоминало зудение цикады.
Еда! Опять мой голос. Но все спали. Через какое-то время я встал, потому что кто-то стонал во сне. Каппи. Он плакал, горестно, потом испуганно, потом закричал: «Пожалуйста, не надо!» Я потряс его за плечо, и он нырнул в другой сон. Я наблюдал за ним до тех пор, пока он вроде не успокоился.
Я оставил его спать, а сам, вихляясь из стороны в сторону, поехал на велике домой. Когда я добрался до нашего двора, лежбище Перл в кустах показалась мне таким уютным, что я заполз под темную листву, улегся рядом с ней и проспал там до захода солнца. Я проснулся и с тревожным чувством подошел к двери кухни.
– Джо? Ты где был? – позвала мама из соседней комнаты. Мне показалось, что все это время она меня ждала.
Я схватил стакан, налил в него немного молока и залпом выпил.
– На велике катался.
– Ты пропустил ужин. Могу разогреть тебе спагетти.
Но я уже уминал их, даже не достав из холодильника. Мама подошла сзади и мягко меня отстранила.
– Ну хотя бы положи их на тарелку. Джо, ты что, курил? От тебя несет табачным дымом.
– Это другие мальчишки курили.
– То же самое я всегда говорила родителям.
– Мне нравятся холодные спагетти.
Она выложила спагетти на тарелку и попросила больше не курить.
– Больше не буду, обещаю!
Она села рядом, глядя, как я ем.
– Я хотела утром с тобой поговорить, Джо. Вчера ночью ты разговаривал во сне. Ты кричал.
– Правда?
– Я встала и подошла к твоей двери. Ты разговаривал с Каппи.
– И что я говорил?
– Я не разобрала. Но ты дважды назвал его имя.
Я продолжал есть.
– Он же мой лучший друг, мам. Он мне как брат.
Я вспомнил, как он кричал и плакал во сне на стройплощадке, и положил вилку. Мне захотелось прямо сейчас выбежать из дома и поехать искать Каппи. Я не должен был оставлять его там спящим. Световая полоска под дверью отцовского кабинета расширилась, дверь открылась, он вышел и сел вместе с нами за стол. Он больше не пил кофе чашку за чашкой весь день и на ночь пить перестал. Мама дала ему стакан воды. Теперь он всегда был чисто выбрит и больше не ходил по дому в банном халате. И на работе проводил меньше времени.
– Я начал сегодня, Джо.
– Начал что? – Я все еще думал о своем. Если позвонить Каппи домой, он смог бы приехать сюда на велосипеде и остаться ночевать. Мы бы лежали рядом в темноте.
Отец продолжал говорить:
– Начал регулярные прогулки по беговой дорожке на школьном стадионе. Сегодня я прошел полмили. Буду ходить каждый день. А ты будешь бегать. Думаю, ты меня несколько раз обгонишь.
Мама взяла его за руку. Он опустил другую руку ей на пальцы и потрогал ее обручальное кольцо.
– Она не позволяет мне выходить одному, – сказал отец, глядя на маму. – Ох, Джеральдин!
Оба они исхудали, и морщинки в уголках рта у обоих стали глубже. Но похожая на порез вертикальная морщинка у мамы на лбу исчезла. Разгладилась. Я избавил их от необходимости жить в постоянном страхе. Мне бы радоваться, наблюдая за ними, но меня злило их неведение. Словно это я был взрослый, а они – два держащиеся за руки и ничего не понимающие подростка. Они понятия не имели, через что я прошел ради них. Или Каппи. Мы с Каппи. Я стал свирепо пинать ногой ножку стола.
– Кое-что не дает мне покоя, Джо, – сказал отец.
Моя нога замерла на замахе.
– Если я поговорю с тобой, может быть, ты поймешь.
– Ладно, – сказал я, хотя сам затрясся, как заячий хвост. Не хотелось мне его слушать.
– Мне полегчало после смерти Ларка, – начал отец. – Я испытал то же самое чувство, что и ты, когда впервые об этом услышал. Точно такое же чувство. Маме теперь не надо его опасаться. Он больше не появится в нашем супермаркете или на станции Уайти. Жизнь продолжается, ведь так?
– Ну да! – Я захотел выйти из-за стола, но он продолжал:
– Однако остается вопрос, кто же убил Ларка. И этот вопрос будут задавать. Правосудие не свершилось ни для мамы, его жертвы, ни для Майлы, но правосудие существует.
– Оно несправедливо применяется, папа! Ларк получил по заслугам, – мой голос звучал ровно, но сердце бешено билось.
Мама выпустила руку отца. Ей не хотелось слушать наш спор.
– Я тоже так считаю, – произнес отец, – Бьерке завтра будет нас опрашивать – это рутинная процедура. Но не совсем. Он захочет выяснить, где все мы, каждый из нас, были в момент убийства Ларка. Вот это меня и гнетет, Джо. И я спрашиваю себя, как человек, давший клятву защищать закон в каждом судебном деле, что мне делать, если у меня появится информация, которая может помочь установить личность убийцы. Когда я в последний раз говорил об этом с мамой, я еще точно не знал, что мне делать…
Я взглянул на маму: ее губы были плотно сжаты в темную ниточку.
– …и я решил ничего не делать. Я не дам им никакой информации. Любой судья знает: есть разные виды правосудия – например, идеальное правосудие и правосудие «по возможности», которым мы и ограничиваемся в большинстве случаев. Его не линчевали. Его вина не вызывает вопросов. Не исключено, что он даже хотел быть пойманным и наказанным. Мы не можем знать, что у него делалось в голове. Убийство Ларка – злодеяние, которое пошло на пользу идеальному правосудию. Оно помогло решить юридическую головоломку. Оно разрубило узел несправедливого законодательства о праве владения землей, из-за которого Ларка и было невозможно привлечь к суду. Его смерть стала выходом из тупика. И я не скажу ничего, не предприму ничего, что может лишь усложнить эту простую развязку. Тем не менее…
Отец сделал паузу и взглянул на меня тем знакомым мне взглядом, который он обычно устремлял на всех, сидя за своим судейским столом. Я ощущал этот взгляд на своем лице, но не решался встретиться с ним.
– …тем не менее, – повторил он благодушно, – даже и это означает мой отказ от ответственности. Человек, убивший Ларка, будет жить, неся тяжкое бремя моральных последствий своего деяния – ведь он отнял жизнь. Поскольку я не убивал Ларка, но хотел этого, я должен буду по крайней мере оберегать того, кто выполнил эту миссию. И буду его оберегать вплоть до представления доводов в обоснование этого убийства как юридического прецедента.
– Как это?
– Это прецедент традиционного закона. Можно обосновать, что Ларк соответствует определению Виндигу и что, в отсутствие каких-либо иных мер воздействия, его убийство удовлетворило требованиям нашего древнего закона.
Я прочувствовал на себе внимательный мамин взгляд.
– Просто хотел, чтобы ты это знал, – словно на всякий случай добавил отец.
– У многих был зуб на Ларка, – уклончиво заметил я.
Я переводил взгляд с отца на маму и обратно. За их спинами в соседней комнате мягко проступали из тени полки со старинными книгами, озаренными сумеречным светом. Коричневые переплеты из потертой кожи. «Размышления» Марка Аврелия. Диалоги Платона. «Илиада». Темно-красный Шекспир и «Опыты» Монтеня. А ниже в таких же кожаных переплетах серия «Великие книги», которую родители получали по подписке на почте. Еще там была бесплатная «Книга Мормона», подаренная им бродячим миссионером Святых последнего дня. Уильям Уоррен, Бэзил Джонстон, «Рассказ о похищении и приключениях Джона Теннера» и все книги Вайна Делориимл[27]. Еще там лежали штабелями замызганные пухлые томики в бумажных обложках – романы, которые родители читали на пару. Я смотрел на эти книги, точно они могли нам помочь. Но в своей жизни мы ушли далеко прочь от книг и погрузились в древние предания, которые Мушум рассказывал во сне. Отец, привычно ссылаясь на прецедентные дела, никогда не вспоминал о нашем далеком прошлом, и в то время мне и в голову не могло прийти рассматривать байки спящего Мушума как интерпретацию традиционного индейского закона.
– Это на тот случай, если ты вдруг что-то услышишь, Джо, – наставительно резюмировал отец.
– Да, если я что-то услышу, пап. – Его слова привлекли мое внимание. Услышав их, я даже немного успокоился. Но кое в чем отец ошибался, в частности, вот в этом. Он сказал, что теперь мне ничто не угрожает. Но вообще-то мне угрожал Ларк. Как и Каппи. Каждую ночь Линден Ларк стал являться нам в наших снах.
* * *
Мы снова на поле для гольфа в тот самый момент, когда я смотрел прямо в глаза Ларку. Жуткий момент. Потом выстрел. И тут мы обменялись душами. Ларк оказался в моем теле и наблюдал, а я – в его теле и умирал. Каппи бежит вверх по склону вместе с Джо и с ружьем, но он не знает, что в Джо обитает душа Ларка. Умирая на поле для гольфа, я знаю, что Ларк намеревается убить Каппи, как только они добегут до наблюдательного пункта. Я пытаюсь кричать и предупредить Каппи, но чувствую, как моя жизнь изливается из меня вместе со струей крови на подстриженный газон.
Мне снится то ли такой сон, то ли другой, в котором я снова вижу призрак на нашем дворе. Тот самый, что явился Рэндаллу в парильне – мрачный взгляд и плотно сжатые губы. Только на этот раз, как в рассказе Рэндалла, призрак наклоняется и сквозь пелену тьмы заговаривает со мной, освещаемый сзади ярким светом, его седые волосы обрамляет сияющий нимб. И я понимаю: это полицейский.
* * *
Как обычно, я пробуждаюсь, выкрикивая имя Каппи. Чтобы заглушить свои вопли, я накануне заткнул полотенцем щель под дверью. Сейчас я приоткрыл дверь и, щурясь в утреннем свете, выглянул в холл, в надежде, что родители ничего не слышали. Я прислушался. Тихо. Мама с отцом, похоже, уже спустились вниз или даже уехали. Я забрался обратно в кровать. В воздухе было прохладно, но я был весь в поту, и адреналин все еще бурлил. Сердце колотилось. Я стал поглаживать ладонью грудь, чтобы его успокоить, и постарался дышать ровнее. Всякий раз кошмарный сон становился все реальнее и реальнее, как будто он протоптал дорожку в мой мозг.
– Мне нужно лекарство, – произнес я вслух, имея в виду снадобье оджибве. В старину шаманы умели расправляться со снами, так уверял Мушум. Но его дух сейчас был далеко, пытаясь стряхнуть с себя старческое тело на раскладушке под окном. Другим известным мне человеком с шаманскими способностями была бабушка Тандер. Возможно, она могла бы нам посоветовать, что делать. Но мы бы, конечно, не стали углубляться в детали или рассказывать ей, что произошло. Нам просто нужен был ее совет относительно этих снов. И потом я вдруг вспомнил – ну кто бы мог подумать! – о Баггере Пурье. Наверное, потому, что когда я в последний раз думал о бабушке Тандер, я послал его к ней – и это было сразу после того, как Баггер угнал мой велик. Он что-то говорил про сон. Я сел в кровати. Он хотел понять, не приснилось ли ему то, что он видел. И тут реальность моего сна, который неотступно меня преследовал, и пьяное наваждение Баггера слились воедино. Что же он видел? Я сыграл на голоде Баггера и заставил его повернуть назад, чтобы отнять у него свой велик. Но я так и не спросил, что же он видел. Я встал, оделся, что-то перехватил и выбежал из дома.
Если вам нужно найти Баггера, то начинать поиски следует с определенных мест – прежде всего, с бара «Мертвый Кастер». Я потратил все утро на его поиски, расспросил всех и каждого, но никто не знал, где он. Наконец я отправился на почту. Как выяснилось, вот куда надо было пойти с самого начала. Я об этом даже не подумал: ведь у бедняги Баггера не было домашнего адреса.
– Он в больнице, – сообщила мне Линда. – Ведь так? – обернувшись, спросила она у миссис Нанапуш. Та сидела в помещении за простенком и сортировала письма. – Он сломал стопу, когда пытался своровать ящик пива. Уронил его себе на ногу. Так что теперь он прикован к койке, и его сестры говорят, это был своего рода дар свыше – может, теперь он перестанет пить.
Я поехал в больницу проведать Баггера. Он лежал в палате с еще тремя мужиками. Нога у него была в гипсе и подвешена на вытяжке. Правда, я не совсем понял, зачем нужна эта вытяжка – то ли для лечения сломанной стопы, то ли чтобы его самого держать на привязи.
– Мальчик мой! – Он обрадовался при виде меня. – Ты принес мне глоточек?
– Нет.
Его воодушевленное лицо исказила обиженная гримаса.
– Я пришел кое-что спросить.
– Ни букетика, – сварливо захныкал он, – ни даже блинка.
– Ты хочешь блинов?
– Мне привиделись блины. Виски и пауки. Блины и ящерки. Блины – единственная приятная вещь, которую я вижу. Но тут старика кормят одной овсянкой. Кофе и овсянка. Скромный такой завтрак.
– И тостов не дают?
– Дали бы, коли б я захотел. Но я прошу у них блинов, – Баггер бросил на меня свирепый взгляд. – Я требую блинов!
– У меня к тебе вопрос.
– Задавай! Я отвечу, если ты дашь мне блин!
– О’кей.
– И виски! – Он подался вперед и заговорил заговорщицким шепотом: – Принеси мне глоточек. Но только чтоб другие не знали. Спрячь бутылку под рубашку.
– Ладно.
Баггер откинулся на подушку и стал выжидательно глядеть на меня.
– Помнишь, ты стащил мой велик?
Его лицо помрачнело. Я говорил медленно, делая паузу после каждой фразы, а он кивал.
– Ты сидел перед входом в закусочную «Здоровяка Эла». Ты сел на мой велик и поехал. Я спросил, куда ты собрался. А ты сказал, что тебе нужно проверить: то, что ты видел, не сон ли это.
Тут лицо Баггера просияло.
– Теперь вспомнил?
– Нет!
Я описывал эту сцену раз пять или шесть, прежде чем мозг Баггера смог прокрутить события назад, и из недавнего прошлого начало что-то смутно проступать. Он так напряженно сосредоточился, что я даже услышал скрип шестеренок в его черепе. По мере того как он собирался с мыслями, выражение его лица менялось, но так замедленно, что я нетерпеливо замотал головой, отвернулся, потом снова повернулся к нему и только тогда заметил, что он окаменел. Он пялился на что-то невидимое на простыне. Я решил, что у него галлюцинация – но явно не блины, что вызвало бы у него прилив радости, а рептилия или насекомое. Но тут его взгляд стал жалостливым, и он воскликнул:
– Бедная девочка!
– Какая девочка?
– Бедная девочка!
И он зарыдал, давясь сухими всхлипываниями. Он оплакивал ее. И бормотал что-то про стройку. И тут до меня дошло. Майла – на стройплощадке, под слоем грунта. У меня перед глазами встала картина: мы носимся на великах взад-вперед по строительной грязи, а она там, под землей. Ошеломленный, я поднялся со стула.
Я теперь точно знал, что Баггер видел Майлу Вулфскин. Видел ее труп. И даже если бы мы не убили Ларка, он все равно бы получил пожизненное. Я ездил вокруг больницы, думая пойти в полицию, но потом опомнился. Я же не мог даже намекнуть полиции, что меня заботит судьба Майлы. Мне и Каппи нужно было как можно скорее пропасть с их радара. Исчезнуть. Я никому не мог об этом рассказать. Я даже не хотел знать то, что мне стало известно. Самое лучшее для меня – обо всем забыть. А потом всю оставшуюся жизнь стараться не думать о том, как бы все могло повернуться, если бы я решил действовать по указке сна Баггера.
Мне позарез нужно было найти Каппи. Не для того, чтобы рассказать ему. Нет, я бы ему ничего не стал рассказывать. Пока я ехал к дому Лафурнэ, в душе у меня был такой раздрай, что я больше ни о чем другом думать не мог, кроме как о забвении. Мне хотелось напиться, неважно чем. Чтобы мир подернулся желтовато-янтарными тонами, а все предметы приобрели бы размытые очертания и покоричневели, как на старых фотографиях. И мне ничто бы не угрожало.
Зак и Энгус тусовались на парковке у супермаркета. Их велики и велик Каппи лежали на асфальте, а они сидели вдвоем в машине старшего кузена Зака. Увидев меня, оба вылезли и сообщили, что Каппи пошел на почту проверить, нет ли ему письма.
– Он уж давно должен был вернуться, – сообщил Зак.
Я отправился за Каппи и наконец нашел его позади здания почты в раздолбанном кресле, в котором почтовые сотрудники летом сидели во время перекура. Буйные вихры упали ему на лицо. Он курил и, когда я подошел поближе, даже не взглянул на меня, а просто протянул листок бумаги. Я стал читать:
«Ты должен немедленно прекратить всякие контакты с нашей дочерью. Моя жена нашла пачку писем, которую Зелия спрятала от нас. Советую тебе принять во внимание тот факт, что мы можем в данной ситуации засудить тебя по всей строгости закона.
Кроме того, сейчас Зелия подвергнута наказанию, и, помимо этого, в ближайшее время мы сменим место жительства. Ты лишил нашу дочь невинности и разрушил нашу жизнь».
Каппи сидел, вытянув ноги и руки. Его лицо было пепельного цвета, а над головой клубился дым. Я присел рядом на картонный ящик и обхватил голову руками. Сказать мне было нечего.
– Ага, – свирепо рявкнул Каппи. – Мать их… Наказание? Уверен, они будут держать ее взаперти, пока не переедут в другое место. Чтобы она не могла ходить на почту. Я разрушил их жизнь? Тем, что люблю их дочь всем сердцем? Ты только посмотри на меня, брат! – взмолился он.
Что я и сделал.
– Ты только посмотри! – Он откинул волосы назад и постучал кончиками пальцев по груди. – Я мог разрушить ее жизнь? Создатель сотворил нас друг для друга. Я тут. Зелия там. То, что между нами расстояние, – это человеческая ошибка. Но наши сердца услышали божественную волю. Как и наши тела. Ну и какого хрена? Все, чем мы занимались, задумано на небесах. Ведь Создатель – благо, брат! Своей мистической милостью он подарил мне Зелию. Наша любовь – это же дар, и я не могу бросить его обратно в лицо Создателю, разве я могу?
– Нет.
– А ведь именно этого требуют от меня ее родители. Но я этого не сделаю. Я не швырну нашу любовь в лицо Господу. Она будет существовать все время, независимо от того, могут или нет ее родители это видеть. Что бы они ни предприняли, они не сумеют встать между нами.
– Хорошо.
– Ага, – подтвердил Каппи. Волосы опять упали ему на лицо. Он поднес горящую сигарету к письму и поджег его. Потом смотрел, как пламя бежит по белой бумаге и бумага сгорает до кончиков его пальцев. Он разбросал пепел и серые ошметки сгоревшего листка.
– Пойду домой за деньгами на автобус. – сказал Каппи. – А потом раскочегарю красный драндулет Рэндалла. Я подъеду и подхвачу тебя у дома.
– И куда мы поедем?
– Я места себе не нахожу, Джо. Не могу здесь оставаться. И я знаю: я не успокоюсь, пока не увижу ее.
* * *
Зак с Энгусом остались в машине Закова кузена пить ягодную газировку, а мы с Каппи отправились по домам. У меня дома никого не было. Я бросил в рюкзак смену одежды и все свои сбережения, которые составили семьдесят восемь долларов. У меня еще оставалось кое-что из денег, оставленных Соней, и я не потратил ни цента из того, что мне заплатил Уайти за неделю работы на АЗС – причем он дал мне даже больше, чем надо, может быть, чтобы я держал рот на замке. Я взял куртку. Может, оттого что у меня оставалось время, пока я дожидался Каппи, и, невзирая на то, что я совершил, мне еще хватало здравомыслия предвидеть события, я решил заранее приготовить нам всем обед и наделал дюжину сэндвичей с ореховым маслом и солеными огурчиками. Один я съел и запил молоком. Каппи все еще не было. Я вспомнил, с каким трудом он завел древний «олдсмобил» Рэндалла. «Заводись!» – подумал я. Перл ходила за мной хвостом. Я вошел в отцовский кабинет. Подергал ящик, который отец в последнее время всегда запирал на ключ, и тот поддался. Но отец просто не полностью повернул ключ в замке, и, с усилием выдвинув ящик, я заметил торчащий язычок замка. В ящике лежала папка в картонной обложке. А в папке – замасленные ксерокопии. Копия бланка заявления о зачислении в племя. Заявление было подписано Майлой Вулфскин. Там был указан ее возраст: семнадцать лет. И еще было сказано, что у нее есть дочь Таня. Отцом значился Кертис У. Йелтоу, как Линда и сказала. Я закрыл папку и положил обратно в ящик. Мне удалось запереть замок с помощью скрепки, и теперь казалось, что ящик и не выдвигали. Что это все значило, я понятия не имел. Но был рад, что мне не придется беседовать с Бьерке. Я достал из кожаной коробки лист писчей бумаги. На столе у отца стоял стаканчик с отточенными карандашами. Вытащив один, я написал родителям, что уезжаю в поход и им не надо волноваться. Я еду вместе с Каппи. Я извинился, что не сообщил им об этом раньше. И еще я написал, что мы будем отсутствовать дня три-четыре и пообещал позвонить. Мне захотелось еще добавить: «Попросите Баггера Пурье рассказать про сон». Но я не стал. Снаружи донесся какой-то шум. Залаяла Перл. Это были Энгус и Зак. Хотели узнать, какого хрена мы их бросили, и я сообщил им про письмо и о том, что Каппи должен приехать на драндулете Рэндалла.
– У меня что-то есть, – сказал Энгус.
И он показал мне водительские права, которые его кузен якобы потерял, а потом сделал себе дубликат. Старые права он продал Энгусу, хотя лицо на фотке совершенно не было на него похоже.
– Вроде больше смахивает на Каппи? Может, сойдет?
– Да, вполне похоже, – согласился я. Тут как раз подъехал Каппи, и мы все залезли в красный «олдсмобил». Я сел впереди, а Зак с Энгусом сзади.
– Куда едем? – поинтересовался Зак.
– В Монтану, – ответил Каппи.
Двое на заднем сиденье расхохотались, а я поглядел из окна на Перл. Она не сводила с меня глаз.
* * *
Я знаю: далеко за пределами шоссе номер пять простирается огромный мир, но когда четыре подростка едут в машине и поездка по пустому шоссе кажется такой безмятежной, колеса наматывают милю за милей, в радиоприемнике оживают и умирают местные станции, и их сменяет треск помех и звуки четырех мальчишеских голосов, и ветер треплет твою руку, когда ты высовываешь ее из окна и прижимаешь к корпусу машины, – создается иллюзия, что твой внутренний мир обрел равновесие. И ты словно скользишь по краю вселенной.
Мы выехали с наполовину полным баком и заправились еще пару раз, прежде чем добрались до Плентивуда. Там мы свернули на юг и помчались, минуя Форт-Пек, к Вулф-Пойнту. Каппи остановился напротив винной лавки, резко вывернул руль в мою сторону и, не выключив мотор, пошел в лавку, а мы остались ждать его в машине. Он купил литровую бутылку виски, коробку пива и еще литруху. Зак захватил свою гитару. Он спел «Не жалей себя понапрасну» в стиле кантри-энд-вестерн, а потом еще и еще, всякий раз смеша нас до колик. И мы поехали дальше, болтая о том и о сем, перешучиваясь и откалывая остроты, пока Каппи излагал нам свой гениальный план похищения Зелии из родительского дома в Хелене, до которого было еще очень далеко.
Около очередной заправки Зак и Энгус занервничали и побежали звонить домой. Вот тогда-то Зак и обжег ухо об телефонную трубку. Он приплелся к машине, взглянул на меня и сказал: «Упс!» Мы съели мои сэндвичи. Потом купленные на заправке острые колбаски вяленого мяса, чипсы и соленые орешки в банках. Свернув на площадку для отдыха, мы влили в себя несколько литров воды, и тут наш драндулет умер. Нам пришлось толкать его на нейтралке до ближайшего уклона, а потом заскочить внутрь, пока он разгонялся. Мотор закряхтел, ожил, и мы огласили салон победными криками и радостными воплями.
На заднем сиденье Зак и Энгус вырубились, прислонившись друг к другу и тихо похрапывая. Мы с Каппи разговорились, продолжая ехать на запад в долгих сумерках. Но солнце как будто не хотело закатываться и продолжало упрямо балансировать над горизонтом, а потом напоследок брызнуло красной вспышкой под темной линией, окаймлявшей потустороннюю вечность. И тут время словно остановилось, а мы незаметно вкатились в страну грез.
Я рассказал Каппи про папку, найденную в ящике отцовского стола. Я пересказал ему все, что прочитал в заявлении Майлы Вулфскин. Рассказал и про губернатора Южной Дакоты.
– Так вот откуда у нее деньги, – рассудил Каппи.
– Именно! Она была умненькой старшеклассницей, которую наняли приносить кофе и раскладывать документы по папкам. Их любили фотографировать, показывать в новостях. Особенно такую симпатичную индеанку, которой сам губернатор положил руку на плечико. Лароуз мне рассказывала. Линда про это тоже знала. Так Йелтоу ее и подцепил. А Ларк хранил этот секрет, но ревновал. Он же считал, что она принадлежит ему. Губернатор дал ей денег, чтобы она держала язык за зубами. Или чтобы она могла начать новую жизнь? И она спрятала деньги в куклу своей дочурки, подальше от чужих глаз.
– От глаз Ларка.
Я рассказал Каппи, что видел одежку этой самой куклы в утопленной машине, когда ее подняли со дна озера, и что сама кукла, видимо, выпала через открытое окно машины, и ее течением прибило к противоположному берегу, под мостки.
– Теперь, думаю, все вскроется, – сказал Каппи. – Ведь имеется заявление с именем губернатора. Так что почему бы и нет. Она же была несовершеннолетней, эта Майла.
– Ему крышка, это точно, – сказал я.
Кстати, Йелтоу вышел сухим из воды.
Ветер стих, машина прорезала ночную тьму вдоль Милк-ривер, где некогда охотился Мушум, убегая все дальше и дальше на запад, где Нанапуш заприметил бизона далеко на горизонте, а на следующий год ни одного уже не видел. И после этого семья Мушума вернулась и обосновалась на земле в резервации. Там он и встретил Нанапуша, и вместе они выстроили круглый дом, спящую женщину, неубиенную мать, старую бизониху. Они возвели эту постройку для единения их народа и для моления Создателя о милости, ибо правосудие применялось на земле слишком небрежно.
Мимо пронесся Хинсдейл. Потом спящий Буффало. И Мальта. Задолго до Гавра мы повернули на юг. Сверили свой маршрут по карте на заправке.
– Я себя отлично чувствую. Будем по очереди рулить без остановки всю ночь, – предложил Каппи.
– Возражений нет.
Мы рассмеялись, а Каппи притормозил, остановился, не выключая мотор, а я обежал машину спереди, сел за руль и нажал на газ. В прохладном воздухе носились зеленые листочки шалфея. Свет фар отразился в глазах койота, крадущегося вдоль проволочного ограждения в придорожной канаве. Каппи скатал мою куртку, подложил себе под голову и, привалившись к окну, задремал. Я вел машину, пока наконец не утомился, и мы с Каппи снова поменялись местами. На этот раз Зак с Энгусом пересели вперед, чтобы не давать Каппи заснуть за рулем, а я расположился сзади. Там лежала старая лошадиная попона, насквозь пропыленная. Я положил на нее голову и отстегнул ремень безопасности, потому что его пряжка впивалась мне в бедро. Я задремал под болтовню и смешочки моих троих друзей на переднем сиденье, и меня вдруг охватило убаюкивающее ощущение покоя и безмятежности, как в тот день, когда мы с родителями ехали домой из Фарго. Ребята передавали мне бутылку, и я отпивал из нее большими глотками, специально, чтобы побыстрее отключиться. Я быстро опьянел. И спал без сновидений – даже когда машину выбросило с трассы в кювет, и она, несколько раз перевернувшись, раскорячилась с распахнутыми дверцами в непаханом поле.
Я очнулся от ощущения нескончаемого беспорядочного движения. Прежде чем я понял, что происходит, все прекратилось. Я чуть снова на уснул, думая, что мы просто сделали остановку. Но я все-таки открыл глаза посмотреть, где мы, и увидел кромешную черноту. Я позвал Каппи, но ответа не последовало. Издалека послышался перепуганный стон, не плач, а какое-то натужное сопение. Я отстегнул ремень и выполз в распахнутую дверь. Стоны издавали Зак и Энгус: вцепившись друг в друга, они ползли по земле, поднимались и после пары шагов снова падали. И тут мой мозг включился. Я заглянул в машину – никого. Одна фара жалобно мигала. Я обошел машину кругом, но Каппи пропал. Наверное, побежал за подмогой, подумал я с облегчением и медленно побрел в глубь поля. Поле освещали только тусклые звезды и единственная фара «олдсмобила». Вокруг все было черным-черно – эти черные лоскуты казались бездонными колодцами, уходящими далеко в глубь земли. В какое-то мгновение мне почудилось, что я стою на краю шахты, и я испугался, что Каппи упал туда. Но это была просто тень. Тени глубже я в жизни не видел. Я опустился на четвереньки и вполз в эту тень. Я двигался на ощупь, через невидимые заросли травы. Поднявшийся ветер относил далеко прочь вопли моих друзей.
Я тоже закричал, когда обнаружил Каппи, и мой крик смешался с воем ветра.
* * *
Я сидел в полицейском участке, словно намертво прилепившись к стулу. Зака и Энгуса увезли в больницу Гавра. Тело Каппи тоже куда-то увезли, чтобы подготовить к приезду Доу и Рэндалла. А меня сюда привел призрак. Я видел его в поле, когда обнимал бездыханного Каппи: мой призрак склонил надо мной голову, освещенную лучом фонарика, словно серебристым нимбом. Фонарик он держал высоко над своим плечом и глядел на меня мрачным презрительным взглядом. Он слегка потряс меня, его губы двигались, но я смог разобрать только «Отпусти!», но я не послушался. Я спал и просыпался на этом стуле. Наверное, мне дали поесть и попить. Но я ничего этого не помнил, кроме того, что я все время глядел на круглый черный камешек, подаренный мне Каппи, – яйцо буревестника. А потом помню, в дверь вошли мама с отцом, переодетые глубокими стариками. Я решил, что это долгая дорога сюда заставила их обоих так сгорбиться, а их глаза погрустнеть, а волосы поседеть больше, чем прежде, и от долгой поездки так дрожат их руки и голоса. Но в то же время, поднявшись им навстречу, я обнаружил, что и сам постарел вместе с ними. Я был разбит и слаб. При аварии я потерял обувь. И я шел между ними и спотыкался. Мама взяла меня за руку, а когда мы подошли к нашей машине, она распахнула заднюю дверцу и села внутрь. На заднем сиденье лежала подушка и все то же старое лоскутное одеяло. Я сел рядом с отцом, он завел мотор. Мы спокойно выехали с парковки и поехали домой. На протяжении многих миль и долгих часов, когда воздух проносился мимо и ночное небо набегало на лобовое стекло и сливалось с далеким горизонтом, с еще одним, и еще одним, и во время этой поездки говорить нам было не о чем. Не помню, чтобы я что-то говорил, и не помню, чтобы отец или мама что-то говорили. Но я знал, что им все известно. Вынесенный мне приговор гласил: сидеть и терпеть. Никто не всплакнул, никто не сердился. Мама с отцом вели машину поочередно, спокойно сжимая руль и внимательно глядя на дорогу. Не помню, чтобы они хоть раз взглянули на меня или я на них после того, как прошел первый шок осознания, что мы все постарели.
Но я помню знакомый абрис придорожного кафе перед самой границей резервации. В детстве, возвращаясь из всех наших путешествий, мы всегда останавливались там съесть мороженое, выпить чашку кофе и купить газету. Остаток пути после кафе отец называл «финишной прямой». Но на этот раз мы не остановились. Мы промчались мимо кафе, словно подгоняемые печалью, которой было суждено омрачать нашу недолгую совместную жизнь. Мы ехали к дому.
Послесловие
Действие этой книги разворачивается в 1988 году, но клубок законов, препятствующих судебному разбирательству многочисленных случаев изнасилования в резервациях, все еще не распутан. «Лабиринт несправедливости», доклад «Эмнести интернэшнл» за 2009 год, приводит такую статистику: каждая третья коренная американка хотя бы раз в жизни подвергается изнасилованию (реальная цифра, разумеется, куда выше, так как не все женщины сообщают об изнасилованиях); 86 % изнасилований и нападений на коренных американок совершают мужчины некоренных народностей; и лишь незначительное число насильников предстает перед судом. В 2010 году тогдашний сенатор от Северной Дакоты Байрон Дорган выступил инициатором законопроекта о племенном правосудии и правопорядке. Подписывая этот закон, президент Барак Обама назвал данную ситуацию «нападением на нашу национальную совесть». Нижеперечисленные организации, названия которых выделены полужирным шрифтом, прилагают усилия к тому, чтобы утвердить суверенное правосудие и обеспечить безопасность для всех коренных американок.
Моей благодарности заслуживают все, кто консультировал меня в процессе написания этой книги: Бетти Лавердюр, бывшая судья племени в резервации «Тертл маунтин», Пол Дей-Гитчи-Маква, бывший судья племени в округе Мил-Лакс, и исполнительный директор Юридической службы анишинабе; Бетти Дей, хранительница мудрости и родовспоможеница; Питер Майерс, доктор психологии, судебно-медицинский эксперт; Терри Йеллоухэммер, бывший консультант службы детской опеки штата Миннесота и технический специалист и помощник судьи в резервации оджибве «Уайт-Эрс»; Брюс Дуту из Дартмутского колледжа, автор книги «Американские индейцы и закон», а также члены семинара профессора Дуту по законодательству и литературе коренных американцев; программа «Монтгомери феллоу» Дартмутского колледжа и лично Ричард Стаммелман; Филомена Кебеч, штатный адвокат группы индейцев чиппева озера Верхнее «Бэд-Ривер бэнд»; Торе Моуэтт Ларссен, адвокат; Люси Рейн Симпсон из «Центра индейских правовых ресурсов»; Ральф Дэвид Эрдрич, медработник «Службы индейского здравоохранения», Сиссетон, Южная Дакота, Энджела Эрдрич, доктор медицины, «Управление индейского здравоохранения», Миннеаполис; Сэндип Пэтел, доктор медицины, «Служба индейского здравоохранения» в Белкорте, Северная Дакота; Уолтер Р. Эхо-Хоук, автор книги «Суды завоевателей: десять худших судебных процессов над индейцами»; Сюзэнн Кеплингер, исполнительный директор Центра человеческих ресурсов женщин-индеанок штата Миннесота, познакомившая меня с докладом, написанным в соавторстве с Александрой «Сэнди» Пирс «Потрясенные сердца: коммерческая и сексуальная эксплуатация женщин и девушек-коренных американок в Миннесоте»; Даррелл Эммел, консультант сериала «Звездный путь: следующее поколение»; мой личный редактор Трент Даффи; Терри Картен, мой редактор в издательстве «Харпер Коллинз»; Бренда Дж. Чайлд, историк и декан факультета Америндейских исследований университета Миннесоты; Лиза Бруннер, исполнительный директор Коалиции Первой нации Святых Духов; и адвокат Карли Бэд-Харт Булл. Еще я благодарю Мемегвези; особая благодарность – профессору Джону Борроузу, чья последняя книга «Формулируя закон: духовный путеводитель» очень помогла мне понять механику законов о Виндигу, как и диссертация Хэдли Луизы Фридланд «Юридические принципы Ветико (Виндигу): реакция на злоумышленников у народов кри, анишинабек и сольто» (2010).
Мой кузен Даррелл Гурно, умерший в 2011 году, поделился со мной орлиным пером, песнями и охотничьими рассказами. Его мать, моя тетя, Долорес Гурно подарила мне его одеяло для рабочего кресла.
Наконец, благодарю всех, кто помог мне пережить 2010–2011 годы: прежде всего дочь Персию за ее вдумчивое прочтение этой рукописи, ее честные ценные советы и ее теплую заботу обо мне – особенно в той ситуации неопределенности, когда мне ставили диагноз. Все меня невероятно поддерживали в период лечения рака груди. Я благодарна д-рам Маргит М. Бретцке, Патсе Салливан, Стюарту Блуму и Джудит Уокер за то, что они фактически спасли мне жизнь. Моя дочь Паллас поддерживала меня, возила на процедуры и предложила свое собственное лечение – музыку «Звездного крейсера „Галактика“» и духовную пищу с мистической энергией восстановления. На ее плечах держалась вся наша семья. Аза вела свою трудную битву и победила ради всех нас благодаря своему искусству. Она также была моим консультантом и внимательным придирчивым читателем.
Ненааикиижикок дал заряд смеха и отваги. Дэн со своим долготерпением и добрым сердцем оставался центром притяжения для всех нас.
События этой книги вольно интерпретируют многие судебные дела, доклады и рассказы, и то, что получилось в итоге, является чистым вымыслом. Эта книга не ставила своей целью нарисовать портрет какого-либо конкретного лица, ныне живущего или уже покойного, и, как всегда, любые ошибки в языке оджибве лежат на моей совести и никоим образом не бросают тень на репутацию моих терпеливых учителей.
Примечания
1
Здесь и далее названия всех глав повторяют названия эпизодов телевизионной саги «Звездный путь: следующее поколение».
(обратно)2
Дед – на языке анишинаабе, группы индейских племен Канады и США.
(обратно)3
Административная должность в индейской резервации, связанная с рассмотрением ходатайств о приеме в племя.
(обратно)4
Комедийная мелодрама с Шер и Николасом Кейджем в главных ролях (1987).
(обратно)5
По-английски egg (эгг) – куриное яйцо.
(обратно)6
Доля крови (blood quantum) – понятие, используемое в отношении потомков индейцев США, которое позволяет официально установить принадлежность «по крови» к индейскому племени.
(обратно)7
Рыжая Соня – женщина-воин, персонаж комиксов и героиня одноименного кинобоевика (1985) с Бригиттой Нильсен и Арнольдом Шварценеггером в главных ролях.
(обратно)8
«Бен Болт» – баллада американского поэта Томаса Данна Инглиша (1819–1902); «Бродяга с большой дороги» – баллада американского кантри-музыканта Джимми Уэбба (род. в 1946 г.); «Течь в дамбе» – баллада американской поэтессы Фиби Кэри (1824–1871).
(обратно)9
Около 65 га.
(обратно)10
Праворадикальное движение белых националистов, основанное в конце 1960-х годов в сельскохозяйственных районах США. Идеология движения строится на противопоставлении власти федерального правительства и власти шерифа, которую члены движения считают единственно легитимной.
(обратно)11
Здесь и далее мальчики обсуждают персонажей киноэпопеи «Звездные войны» и сериала «Звездный путь».
(обратно)12
Половой член (на языке оджибве).
(обратно)13
Ешьте! (на языке оджибве).
(обратно)14
Бабушка (Зд. и ниже – на языке оджибве).
(обратно)15
Большое спасибо. Все было очень вкусно. Эти жареные лепешки.
(обратно)16
Индеец.
(обратно)17
Старик.
(обратно)18
«Непокоренный» – героическая поэма английского романтика-викторианца Уильяма Эрнеста Хенли (1849–1903). «Высокий полет» – поэма английского военного летчика и поэта Джона Гиллеспи Мейджа-мл. (1922–1941).
(обратно)19
Луи Риэль (1844–1885) – один из лидеров борьбы за права коренных американцев в Канаде и США. Битва при Батоше (1885) – неудачное восстание под его руководством, после которого он сдался канадским властям и был казнен.
(обратно)20
Прецедентное решение Верховного суда США (1880) о невозможности для федеральных судов привлекать к ответственности индейца за убийство другого индейца, совершенное на территории резервации, и о приоритете традиционных принципов племенного правосудия над федеральным уголовным законодательством.
(обратно)21
Федеральный закон 1978 года, регулирующий усыновление индейских детей.
(обратно)22
Здесь и далее речь идет о прецедентных судебных процессах XIX века, определивших взаимоотношения коренных американцев с государственными структурами США.
(обратно)23
Джон «Пожиратель печени» Джонсон (1824 г. – 21 января 1900 г.) – легендарный путешественник и охотник, герой американского фольклора эпохи Дикого Запада.
(обратно)24
В сериале «Звездный путь» Голопалуба – это отсек космического корабля, где имитируются различные ситуации с помощью голограмм. На Голопалубе капитан Жан-Люк Пикар играет роль одного из героев своего детства, вымышленного детектива Диксона Хилла.
(обратно)25
Миннеаполис и Сент-Пол, расположенные на противоположных берегах Миссисипи.
(обратно)26
Курнем, верный мой дружок! (искаж. исп.)
(обратно)27
«Книга Мормона» – священный текст движения Святых последнего дня (мормонов), впервые опубликованный основателем движения Дж. Смитом (1830). Уильям Ф. Уоррен (1833–1929) – американский этнограф, автор бестселлера «Рай обретенный» (1880) о культуре народов Севера. Бэзил Х. Джонстон (1929–2015) – этнолог, автор книг о культуре племени оджибве. Джон Теннер (1780–1847) – прославился мемуарами о своей жизни в нескольких индейских племенах. Виктор Вайн Делория-младший (1933–2005) – историк и публицист, автор книг о судьбе коренных американцев.
(обратно)


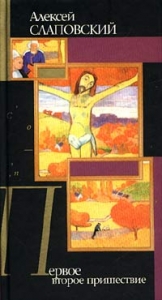
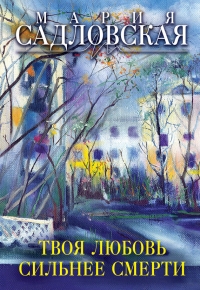

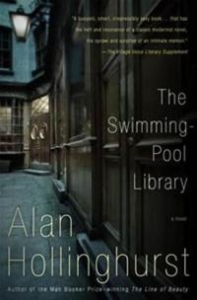


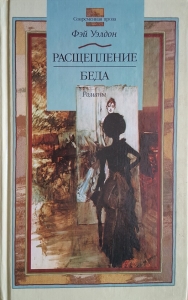

Комментарии к книге «Круглый дом», Луиза Эрдрих
Всего 0 комментариев