Джоэл бен Иззи Царь-оборванец и секрет счастья
First published in the United States under the title: THE BEGGAR KING AND THE SECRET OF HAPPINESS
Jack Riemer’s piece on Itzhak Perlman first appeared in the Houston Chronicle, February 10, 1001. Used by permission.
Published by arrangement with Algonquin Books of Chapel Hill, a division of Workman Publishing Company, Inc., New York.
Издательство Livebook глубоко признательно Резо Габриадзе за иллюстрации и Театру марионеток Резо Габриадзе за помощь в подготовке книги к изданию.
Практически все имена собственные в этом издании приведены в соответствии с современными произносительными нормами английского языка. В оформлении обложки использовано изображение ©Matt Elliott/Shutterstock.com
Copyright © Joel ben Izzi, 2003
© Резо Габриадзе, иллюстрации, 2005
© Шаши Мартынова, перевод на русский язык, 2005, 2019
© Livebook Publishing, оформление, 2019
* * *
Посвящается Тали
В мире историй ничего не потеряется.
Исаак Башевис ЗингерПролог Царь-оборванец
Расскажу я вам старую-стародавнюю историю, какая случилась в древнем граде Иерусалиме во дни, когда царствовал Соломон. Он достиг вершины своего могущества и мудростью своею был известен на весь мир. При нем наступил в Иерусалиме золотой век. И был Соломон счастливейшим из людей – и, глядишь, остался бы таким навеки, не приснись царю странный сон.
Привиделось ему в одну из душных ночей, как двери в его покои распахнулись, и внутрь ворвался прохладный ветер. Мгновенье спустя вошел давно умерший отец его, царь Давид. И заговорил он со своим сыном из потустороннего мира, поведал ему о небесном граде Иерусалиме, равном земному во всем, но с одной лишь разницей – в сердце того города возвышается прекрасный храм.
– И ты, сын мой, должен воздвигнуть сей храм, – Давид описал сооружение во всех подробностях, даже очертания и размеры каждого камня, а Соломон слушал, затаив дыхание. – И последнее, самое главное, – добавил отец Соломона, – ты должен построить его, не применяя металл, ибо металл потребен для оружейного дела войны, а этому быть храмом мира.
– Но, отец, – возразил Соломон, – как буду я тесать камни, не прибегая к металлу?
Не ответил ему отец, но внезапно исчез, и сон оборвался.
На следующее утро царь Соломон созвал своих советников, пересказал им странное видение и огласил замысел постройки храма в точности, как велел отец. И когда сказал им, что желает, чтобы тесали камни для строительства без помощи металла, они пришли в замешательство, как и он сам.
И лишь один, Беньямин, ближайший советник царя, предложил решение:
– Твой отец однажды говорил о крошечном черве, зовут его Шамир. Хоть и не больше он пшеничного зернышка, но болтают, будто этот червь способен прогрызать даже камень. Тот самый червь, какого Бог дал Моисею, он выточил в камне Десять Заповедей.
– И где же найти его? – спросил Соломон.
– Никто не видел его многие годы, о великий, – Беньямин примолк. – С тех самых пор, как он попал в руки Асмодея, повелителя демонов.
Свита Соломонова затихла: все знали о могуществе царя демонов. И один лишь Соломон не убоялся:
– Раз так, – сказал он, – я призову Асмодея!
Соломон перевел взгляд с лиц своих устрашенных подданных на кольцо, какое носил он на правой руке. Простое золотое кольцо, подаренное отцом и наделенное великой силой: на нем было начертано тайное имя Бога. Соломон прибегал к его помощи, когда призывал демонов, пусть и меньшей силы. Но никто никогда не призывал великого царя демонов, жившего на краю света, где возвышались медные горы, а небеса над ними висели свинцовые.
Повернул Соломон кольцо, придворные попятились. Внезапно перед троном возник огненный шар, и, когда пламя погасло, явился всем Асмодей. Потрясенные стояли те, кто узрел его: пяти локтей в высоту был Асмодей, синяя кожа его сверкала на солнце. Куриные ноги, голова ящера и лик осла.
– Ага! Уж не сам ли это царь Соломон? – проговорил он голосом столь же скользким, какой была шкура его. – Великий, премудрый и могучий! И при всем том недоволен он просторами царства своего, надо ему вторгаться и в пределы тьмы. Скажи же мне, о великий, зачем ты призвал меня?
– Желаю получить червя Шамира, чтобы тесал он мне камни для моего храма.
– Всего-то? – спросил Асмодей. – Так вот он! – и показал царю свинцовый ларчик. – Но я требую, чтобы ты взамен освободил меня!
– Нет, – сказал Соломон, – пока нет. Я буду держать тебя в цепях еще семь лет, ибо столько потребно мне, чтобы воздвигнуть храм, дабы не смог ни ты, ни другие демоны помешать мне. Дострою – и задам тебе один вопрос; и, только если ты ответишь мне, отпущу тебя.
– Вопрос от самого Соломона Мудрейшего? – насмешливо произнес Асмодей. – И что же это может быть?
– Я обдумаю.
– Хорошо же, – ответил Асмодей, – я подожду.
Пока жил Асмодей во дворце, творилось там странное. Возвращался однажды Соломон с досмотра за работами во храме и увидел, что все колонны во дворце превратились в деревья, кроны усыпаны листвой и спелыми плодами – фигами, апельсинами и гранатами. В другой вечер из-под сводов дворца сыпались дождем золотые монеты, но стоило им коснуться пола, как они тотчас исчезали. По временам доносились сладкие звуки музыки, но прислушаешься к ним – сразу стихают. Асмодей был мастером наваждений, и наваждения эти находил Соломон чарующими – и возмутительными, ибо превосходили они его понимание мира. Всякий раз, когда Соломон обнаруживал, что его снова обвели вокруг пальца, ему казалось, будто в венце его недостает самоцвета. И через семь лет, когда вознесся храм – и безукоризнен он был в каждой мелочи, – обратился Соломон к Асмодею:
– Теперь, как и обещано было тебе, задам я один вопрос, и лишь после того, как ты ответишь на него, – будешь свободен. Все эти годы наблюдал я за наваждениями твоими. Мне, великому судии, полагается различать правду и наваждение. Я спрашиваю тебя: чему ты можешь научить меня в искусстве наваждения?
При этих словах разразился Асмодей диким хохотом, и эхо раскатилось по всему Иерусалиму.
– «Наваждение»! – усмехался он. – Великий премудрый царь, которому только и дел, что мучить демонов, желает узнать о наваждении? Ну нет, о великий! Это немыслимо, невозможно… – и тут Асмодей умолк, и ухмылка перекосила его чешуйчатую морду. – Только если пожелаешь ты снять свое кольцо.
– Кольцо? – переспросил Соломон. – Снять? – Соломон глянул на кольцо, вспоминая слова отца: «Пока носишь его, ты защищен. Стоит снять его хоть на миг – и не предсказать, что может случиться».
И возвышался теперь над Соломоном сам Асмодей и насмехался над ним:
– Да, Соломон. Если желаешь постичь, чтó я знаю о наваждении, придется тебе снять кольцо.
– Об этом и речи быть не может! – отрезал Соломон.
– Пусть так. Но ни слова о наваждении ты никогда от меня не услышишь.
– Но тогда я не освобожу тебя!
– Пусть так. Время для меня ничего не значит – в отличие от царей, демоны живут вечно. Я могу подождать, – он уселся на пол, гремя цепями, и принялся напевать что-то себе под нос.
Сгорая от любопытства услышать Асмодеев ответ, Соломон подумал-подумал и обратился наконец к своим советникам. Все в один голос заявили, что нет ничего хуже для Соломона, чем снять кольцо. Один осмелился даже сказать, что это будет не мудро.
– Не мудро! – воскликнул Соломон. – Ты осмеливаешься говорить мне, что мудро, а что – нет? Мне, великому царю Соломону, известному во всех краях своей мудростью!
Советники притихли, боясь гнева царя не менее, чем самого Асмодея. И все их советы уже были не нужны, ибо Соломон принял решение.
– Я сниму кольцо. Ровно на то время, пока будет звучать твой ответ.
Соломон велел поместить Асмодея в самый дальний угол дворца, окружить демона двадцатью четырьмя стражниками, а сам встал на другом конце.
– Итак, Соломон, – проговорил Асмодей, – снимай кольцо!
Медленно Соломон стянул кольцо с пальца. В первое мгновение ничего не происходило. А затем ветер пронесся по дворцу. Он усиливался, обернулся бурей. Смотрел Соломон и с ужасом видел, что вихрь порожден крыльями Асмодея, и всякий раз, когда взмахивал тот ими, удваивался он в размерах: десять локтей, двадцать, сорок – пока не занял собою все пространство до самого купола, разбив цепи и смехом своим сокрушая оконные переплеты.
– Ты глупец, Соломон! Лучше бы ты не снимал кольца! – Асмодей протянул руку, и вырвал кольцо из рук Соломона, и швырнул его в самое крохотное окошко дворца. Кольцо проплыло в воздухе над Иерусалимом, над далекими холмами, над горами и океанами, и упало на самом дальнем краю земли. – А теперь, Соломон, твой черед! Прощайся со своим царством!
С этими словами Асмодей схватил царя за плечи и швырнул его в окно через весь дворец. Соломон летел над возлюбленным городом своим, над холмами, морями долгие-долгие часы, пока не приземлился в самом сердце бескрайней пустыни.
Там пролежал он сколько-то времени, и ныло у него в теле все, во рту пересохло. И вот встал Соломон и отправился куда глаза глядят, и шел, не разбирая дороги, пока не село солнце и не набрел он на озеро. Он склонился над водой, и от того, что он увидел, сковало его ужасом – увидел Соломон собственное отражение.
Исчез его венец – подарок тварей морских, украшенный всеми мыслимыми самоцветами. Великолепные одеяния, подаренные ему ветром, порваны в клочья, простое тряпье. Лик Соломона, прекраснейший во всем Иерусалиме, – как у изможденного старца.
И вот, потерянный и безвестный, начал Соломон свои скитания. И не вообразить ему было дороги, какую придется одолевать на пути в возлюбленный Иерусалим. Та дорога поведет его далеко и затянется на целую жизнь…
Я не царь Соломон – и на мудрость его не тяну. Мое странствие – путь не царя, а мужа, отца и сказителя. Пусть так – и все же, подобно Соломону, в истории, которую часто рассказываю, меня занесло в такие края, о каких я и помыслить не мог, забросило в жизнь, которую я перестал понимать.
Странствия привели меня в мир историй. Там я узнал о проделках, какие вытворяют истории с нами, поднимаясь из глубин времени, как учат нас уму-разуму, направляют наш путь и даже, если позволить им, – исцеляют. Понял я, и как умеют они морочить нам головы, особенно когда кажется, что уже изучил их вдоль и поперек, как хитро прячут они свою правду на самом видном месте. Я натыкался на эти истины, усваивая те же уроки, что достались Соломону на его пути, – такие уроки, что можно извлечь только из потерь.
Поделюсь теми истинами, пока буду излагать вам свою историю, а история эта – чистая правда. Но прежде позвольте объяснить, что я подразумеваю под словом «правда». Этим словом я пользуюсь в том же смысле, что и все сказители – что и мой давний наставник Ленни. Он рассказал мне как-то удивительную историю о своем старом рыжем ретривере и о синем «Мустанге-Кабриолете» 1967 года. И я спросил у него, случилось ли все это по правде?
– По правде? – огрызнулся он. – Что ты понимаешь под словом «правда»? Хочешь знать, было ли это на самом деле, слово в слово, точно так, как я рассказал? Не имеет значения. Лучше б спросил, хороша ли эта история, потому что хорошая история и есть правда, случилась она или нет. А паршивая история, пусть бы и случилась в действительности, – ложь. Вопрос не в том, – добавил он с усмешкой, – правдива ли история, а в том, есть ли в ней правда, такая, которая с заглавной буквы «П». И эту загадку способно решить одно лишь время. И все же предупреждаю тебя, Джоэл: не смей становиться тем бараном, какой считает, что, коли умеет он травить байки, стало быть, знает всю их правду. Есть на белом свете байки, которым нужно сперва лет двадцать поболтаться в голове, покуда не раскроют они тебе ту самую, окончательную, скрытую крупицу правды.
Ленни насобирал множество таких крупиц за долгие годы, и они присохли к нему, как крошка к наждаку, что, может, и объясняет его натуру. И все же то его предупреждение всплывает у меня в уме всякий раз, когда б ни произносил я слово «правда».
Засим пора изложить вам мою историю – изложить так, как она, по сути, и произошла, хотя кое-что я все же подправлю, ибо таково наше сказительское дело. И все же, пока вы читаете эту книгу, некоторые повороты в ней покажутся попросту невероятными. Я знаю, так и будет, – они и мне самому в свое время показались как раз такими. И вот эти-то подробности я выдумать не мог бы и оставил как есть. Говорил же Марк Твен: «Правда необычнее вымысла, но это только потому, что вымысел обязан держаться в границах вероятности; правда же – не обязана»[1].
Словом, усаживайтесь поудобнее, и я расскажу вам мою историю о темных временах странствия, в котором я обрел дар, настоящее сокровище. И сокровище это – сама история, которой я теперь делюсь с вами, история о потерянном коне обретенной мудрости, о зарытых кладах и дикой землянике, о царе-оборванце и секрете счастья.
Сбежавшая лошадь
Родина истории – Китай
Давным-давно в одной деревне на севере Китая жил-был старик, у которого была превосходная лошадь. И так хороша была та лошадь, что люди издалека приходили поглазеть на нее. Говорили хозяину, какое это благословение – иметь такую лошадь.
– Может, оно и так, – отвечал он, – но даже благословение может быть проклятием.
И вот однажды лошадь убежала. Люди стали сочувствовать старику, говорили, какая его постигла неудача.
– Может, оно и так, – отвечал он, – но даже проклятие может быть благословением.
Пару недель спустя лошадь вернулась. И не одна. Она привела с собой двадцать одну дикую лошадь. По закону края все они стали собственностью старика. Он разбогател лошадьми.
Соседи пришли поздравить его с такой удачей:
– Ты и впрямь благословен!
– Может, оно и так, – отвечал он, – но даже благословение может быть проклятием.
И вот несколько дней спустя единственный сын старика попытался объездить одну из тех диких лошадей. Она сбросила его, и сын сломал ногу. Соседи пришли пособолезновать старику. Проклят он, без сомнения.
– Может, оно и так, – отвечал он, – но даже проклятие может быть благословением.
Через неделю по деревне проехал царь – забирал всех здоровых мужчин на войну против северного народа. То была страшная война. Все, кто ушел из той деревни за царем, погибли. И только сын старика уцелел – из-за сломанной ноги.
До сих пор люди в той деревне говорят: «То, что кажется благословением, может быть проклятием. То, что кажется проклятием, может быть благословением».
Глава 1 Сбежавшая лошадь
Как я вообще стал сказителем – отдельная история, сказ о проклятиях, обратившихся благословениями. Уж во всяком случае я не прирожденный в этом деле умелец, хотя знавал многих таких. В одном пабе на южной оконечности Ирландии я слушал настоящего шанахи[2], он пел древние баллады с такой мощью, что слушателям казалось, будто ему вторят духи ушедших предков. В иудейском квартале в Иерусалиме познакомился с одним хасидским магидом[3], тот мог проследить свою родословную аж до ребе Нахмана из Брацлава, великого мистического сказителя XVIII века. А однажды, на северном берегу гавайского Оаху, я выступал на одной сцене с хранительницей пятитысячелетнего наследия сказаний ее предков.
У меня таких регалий нет, и потому при других сказителях я всегда немножко стеснялся. Родился и вырос я вовсе не в волшебном месте – в пригороде пригородов к востоку от Лос-Анджелеса. Там, где жили мои родители, не было ни кинозвезд, ни пляжей – вообще никакой воды в принципе. Более того, в тех местах, насколько мы могли судить, не имелось вообще никакой географии: хоть нам и рассказывали о лиловых горах на севере, их невозможно было разглядеть сквозь смог.
Наша округа называлась Долина Сан-Габриэль – не путать с широко известной Долиной. Наша называлась в народе «Другая Долина» – плоский скучный мир с безнадежно прямыми улицами, ведущими к шоссе во всех направлениях. Эти шоссе вели к другим шоссе, а те, в свою очередь, – к еще каким-то. Насколько я понимал тогда, это и был мир.
Не скажу и того, что вырос в доме, наполненном историями. Если честно, истории требуют времени, а время моих родителей целиком и полностью уходило на то, чтобы удержать наш семейный мир от краха, – жили мы бедно, отцу нездоровилось. Мы принадлежали к низам среднего класса, у отца пошли прахом с десяток начинаний, за какие он брался в попытке удержать нас от дальнейшего падения. Всегда мечтал о лучшей жизни для нашей семьи, и, когда каждый следующий его замысел неизбежно не срабатывал, отец пожимал плечами и отшучивался от потерь какой-нибудь поговоркой. Думаю, этот его излюбленный краткий разговорный жанр мог бы перерасти в нечто большее, если бы не телефон, прерывавший его очередным звонком. Он бросался отвечать, не желая упустить тот самый важный звонок, который уж наверняка сделает нас богатыми, тот самый, что снимет нашу семью с пособия, – тот самый так и не случившийся звонок.
Мама же историй не рассказывала, а скорее ссылалась на них, когда мы ездили по городу.
– Вы слышали историю о Хелме? Ну о том самом, еврейском городе дураков?
– Нет, не слышали, – отвечали мы с братьями. – Расскажи!
– Хелм… – повторяла она, и в гортанном звуке этого названия сквозила мечтательность. – Вы наверняка о нем слышали. Это в Польше. Там все время идет снег. Замечательные истории!
– Ну расскажи хоть одну!
– Они нам так нравились. Там была одна про то, как хелмцы строили храм, таская бревна на себе вниз с горы. Но из меня плохой рассказчик, – извинялась она. – Ваш дедушка Иззи – вот кто был рассказчик. Мы его часами слушали, бывало.
И она умолкала, а у меня в голове оставался дедушка Иззи, великий рассказчик из далекого Кливленда. Много лет спустя, когда я сам начал рассказывать истории, я взял его имя – Джоэл бен Иззи, что на иврите означает «Джоэл, сын Иззи». Но в те давние времена я и не подозревал обо всем этом. Знал только, что вокруг не хватает чего-то волшебного, один сплошной смог. Мы закрывали все окна в машине, чтобы скрыться от него, и в нашем фургоне воцарялся вакуум, насыщенный нерассказанными историями, пикап продолжал катиться по бескрайним предместьям.
Та самая острая нехватка волшебства и отправила меня на его поиски, и я помню тот день, когда нашел его. Мне исполнилось пять лет. Два моих старших брата были в школе, а я – в супермаркете с мамой. Я видел, до чего она несчастна. Не знал еще, но ей уже сообщили, что моему отцу с его катарактой необходимо опять лечь в больницу на очередную операцию. Хотелось как-то порадовать ее, и я нашел повод – в овощном отделе.
– Мамочка, смотри! – сказал я. – Вон тот баклажан похож на Никсона!
Сходство было и впрямь изумительным – макушка баклажана свисала вниз, как настоящий нос, но куда изумительней было лицо моей матери, озаренное весельем. Как же здорово было рассмешить ее, вытянуть хоть на мгновение из ее несчастий. Всего пара слов – и мрак рассеялся. Я начал собирать шутки и рассказывать их ей в любую подходящую минуту. С отцом тоже срабатывало, и, когда мне удавалось насмешить его, я слышал громкий безудержный смех – смех здорового человека. И тоже начинал смеяться, и в такие мгновения мы с ним бывали по-настоящему близки.
Я стал артистом для собственных родителей, создавал кукольные спектакли и комические репризы. Рассказывал анекдоты и разные истории в больнице отцу и каждый вечер перед сном – маме. Она, усталая от дневных забот, приходила ко мне в комнату и усаживалась на край кровати.
– Джоэл, расскажи что-нибудь.
Я понятия не имел, что обрел дело всей жизни. Но точно знал, что обожаю рассказывать истории своей матери. Говорил ей о мире далеко за пределами известного нам, о землях, не укрытых смогом, где бедняки богатели, а больные – выздоравливали. С каждой следующей историей тот мир делался мне все ближе и подлиннее, я видел его отражение в маминых глазах. И знал, что однажды я в этот мир удеру.
Еврейская культура богата на проклятия: «Чтоб ты рос, как лук, – головой в землю, задницей кверху». «Чтоб ты жил, как канделябр, – днем висел, ночью горел». «Чтоб у тебя сгнили и выпали все зубы разом, кроме одного, и чтоб тот болел адски». Но из всех проклятий, какие мне довелось слышать, самое странное, пожалуй, вот это: «Чтоб ты зарабатывал на жизнь тем, что любишь делать». И впрямь оно вовсе не похоже на проклятие – скорее, как название какой-нибудь хорошо продаваемой здесь, в Беркли, книги жанра «помоги себе сам». Но, как ни удивительно, со временем я разгадал эту загадку, проведя долгие годы в попытке обратить свою любовь к сказительству в источник дохода. «Странствующий сказитель» – не то чтобы карьера-идеал, и я не раз был готов ее забросить. Под проливным дождем, без крыши над головой, без денег и без работы в Манчестере. Больной вдрызг, неспособный работать – в Тель-Авиве. Без гроша в кармане и смертельно уставший – в токийском метро, в раздумьях, какого дьявола я всем этим занимаюсь. И в такие минуты тихий голос у меня в голове говорил: «Да, господи, Джоэл, чего бы тебе не найти нормальную работу, что-нибудь такое, за что платят? Может, в юридическую школу подашься?» Не родительский то был голос, нет, – как раз наоборот, они-то обожали мои байки и восхищались тем, что я взялся воплощать свою мечту. Нет, то был попросту голос разума.
Вновь и вновь упирался, спотыкался я и скатывался на самое дно, и, когда мне казалось, что хуже уже не бывает, жизнь доказывала обратное. Но даже когда щупальца неприятностей стискивали меня всерьез, всегда что-то возникало – обычно очередной ангажемент. И, когда я приезжал выступать, мне было что рассказать. В этом и есть прелесть моей профессии – все, что не могло добить меня, становилось байкой, потому что, пока истории рассказываются, все идет хорошо.
Я сделал это открытие, и работа поперла – и я даже обнаружил, что готов заняться вплотную следующей своей мечтой, такой близкой моему сердцу, что я почти не давал себе о ней думать. Я женюсь на замечательной женщине и заведу семью. Наши отпрыски будут наслаждаться детством, предельно отличным от моего, – со здоровыми родителями и деньгами в банке, подальше от знакомых мне предместий. Дети вырастут в доме, наполненном волшебством, смехом – и историями.
Замечательная женщина появилась однажды на одной вечеринке, где я выступал с историями. Влюбился я сразу же, как только ее увидел. Заметно было, что и я ей понравился. Но у нее были свои мечты, и ни в одной ей не пригрезилось, что она связывает свою судьбу с бродячим сказителем. Это было ясно из первых же ее слов:
– И кем же вы на самом деле работаете?
Ее звали Тали, и завоевать ее стоило мне трех лет – и всего, чем я располагал. Дело тут не только в моем неожиданном выборе стези: каким бы ни был я властителем толп, в близких отношениях оказался никудышным. Джоан Баэз выразила это лучше не придумаешь: «Мне проще всего общаться с десятью тысячами. Сложнее всего – с одним». Как очень многие мужчины, я понятия не имел, как говорить о своих чувствах. За три года выучился премудрости быть рядом с другим человеком – не со своим зрителем, а с подругой и спутницей. Мы превратили наше притяжение в совместную жизнь.
Поначалу было непросто. Любой женатый знает, что это настоящий труд. Но мы вложились в наши отношения, и пока вкладывались, наша любовь крепла. Мы обосновались в столетнем деревянном домике, затерянном в холмах позади студгородка Университета Беркли. И случилось все, как раз когда мы сидели на заднем крылечке чудным весенним вечером, наблюдая, как наши сын и дочь пытаются собрать граблями прошлогодние дубовые листья, завалившие наш сад по осени. Только-только распустились первые фрезии, и воздух полнился ароматом их желтых цветков. Я огляделся, глубоко вздохнул и внезапно понял – свершилось. И именно в тот момент я прошептал:
– Теперь я совершенно счастлив.
Вряд ли даже Тали меня услышала. Услышала б – трижды сплюнула бы, в дань еврейской традиции, чтобы не сглазить. Но меня в тот момент не волновал ни дурной глаз, ни вообще что бы то ни было. Нет моему счастью пределов, считал я. Натяну серую свою федору – и любое проклятие обращу в благословение.
Мне, видите ли, казалось, что я нашел секрет счастья. И я собирался быть счастливым долго-долго.
«Хочешь повеселить Господа – расскажи Ему о своих планах», – говаривал мой отец. Его любимая присказка на идиш, тысячу раз ее слышал, не меньше. Но все равно явно что-то не улавливал. Иначе не сглупил бы – не стал бы заявлять о своем счастье.
Наутро после моего заявления случилось такое, что Господь счел подходящим поводом для веселья. Был Пурим – очень подходящий день, когда евреи празднуют финты и фортели судьбы. История этого праздника гласит, что один злодей собрался поубивать всех евреев, но упустил из виду, что царица была иудейкой. В финале он встречает свою смерть в той же яме, которую рыл для других, а все остальные празднуют и веселятся. В этом смысле это классический еврейский праздник: «Они пытались убить нас. Не вышло. Давайте кушать!»
Я проснулся утром от причудливого сна, в котором спустился по лестнице у нас в доме, оторвал от пола пианино, поднял его высоко над головой и уронил прямо на большой палец правой ноги. Но что самое удивительное: пробудился я и увидел, что палец вроде бы опух и пульсирует от потрясающей боли.
– Позвонил бы ты врачу, – сказала Тали, глянув на мой палец.
– Брось. Ерунда это.
– Джоэл, это не ерунда. Ты посмотри на это! Господи, да он того и гляди лопнет, кажется! Звони врачу.
– Ерунда.
Я всегда избегал врачей, насмотревшись предостаточно, как они свели моего отца на тот свет. Тали же, напротив, живет под девизом: «Рак – пока не доказано обратное». В результате она частенько навещает медиков и практически всегда является домой с хорошими новостями.
– Джоэл, ты позвонишь врачу? – вновь спросила она за завтраком, пока я приканчивал овсянку.
– Слушай, ерунда же. Пройдет.
– Ты еле ходишь! Как ты будешь выступать в таком виде? – спросила она чуть позже, когда я уже был одной ногой на крыльце со своей сказительской сумкой в одной руке и кучей костюмов к Пуриму – в другой, опаздывая на первый из трех заявленных концертов.
– Да запросто. Я буду рассказывать им истории о Гиллеле. (Гиллель был великим иудейским ученым, которого как-то попросили на спор объяснить все учение Торы, стоя при этом на одной ноге. Гиллель сказал: «Поступай с другими так, как хотел бы, чтобы поступили с тобой. Все остальное – комментарии».)
Тали на эту отговорку не купилась. Вздохнув, я снял шляпу, сложил костюмы и встал на обе ноги, показывая, что я в полном порядке.
Но, прежде чем она могла возразить, моя двухгодовалая дочка Микейла сделала это за нее. Она подбежала, чтобы обнять меня перед выходом, и прыгнула прямо мне на палец. Я взвыл от боли и осел на пол. Тали помогла мне встать и тут же вручила телефон.
Медсестра выслушала мой рассказ и, недолго думая, поставила мне диагноз:
– Подагра.
– Подагра?
– Подагра, – повторила она, – в народе называется «болезнь богатеев».
– Я знаю, как она называется. У моего отца было то же самое.
В созвездии его болезней подагра всегда казалась мне особенной несправедливостью как раз из-за этого прозвища. Болезнь из другой эпохи, хворь состоятельных государственных мужей в колониальный век, в те времена, когда с ней ничего нельзя было поделать – лишь подкладывать подушки и жаловаться на короля Георга. От медсестры я узнал, что в наши благословенные дни существует таблетка, которой будет достаточно, чтобы изгнать подагру в считанные часы. Она договорилась с лечащим врачом о рецепте, отправила его по факсу в аптеку и записала меня на контрольный прием. Я принял лекарство, и, как и было обещано, подагра исчезла так же споро, как и возникла. С тех пор и не беспокоила меня ни разу.
О подагре я не вспоминал ни на миг вплоть до июня, пока не оказался на том самом предписанном приеме у врача. Уселся на покрытую бумажной простынкой кушетку, улыбаясь врачу, врач улыбнулся в ответ. Вкрадчивый араб в роговых очках, и звали его, согласно многочисленным дипломам на стенах, Измаил. Он мне понравился вопреки моей предубежденности против врачей. Много часов провел я, попивая мятный чай и рассуждая на философские темы с арабскими торговцами на базаре в Иерусалиме, и кабинет Измаила напомнил мне те дни – разница только в том, что в его приемной вместо безделушек и ковров лежали брошюры «Вы и ваша простата». Поскольку ни он, ни я не понимали, что я здесь делаю, он отправился к своему компьютеру и проверил мои медицинские записи.
– Подагра? – проговорил он. – У вас подагра?
– У меня была подагра. Однажды. В марте. Длилась один день, – как только Измаил взялся за медицинские вопросы, я заерзал. То же самое обычно случалось на базаре, когда неизбежно заходил разговор о коврах.
– Ну раз уж вы здесь, давайте я вас осмотрю, – и он начал ощупывать мне шею.
– По-моему, это не палец на ноге, – сказал я – Но вы врач, вам виднее.
Рука у него была теплая.
– С вашей ногой делать нечего. Подагра ушла. Но я эндокринолог. Моя специальность – шеи.
– Хорошо еще, что вы не проктолог, – мысль о медосмотре нервировала меня, и я начал шутить. – Скажите, можно звать вас Измаилом?[4]
– Зовите, как вам нравится, – ответил он.
Он замер в одном месте и начал трогать чуть глубже, глядя в сторону, сосредоточившись на том, что пытался прощупать.
– Вам известно, что у вас есть небольшая шишка на горле?
– У меня масса шишек на горле. Оно так устроено.
– Но у вас тут лишняя шишка, ее быть не должно.
– Я сам тут не должен быть, доктор, подагра прошла…
Я прекратил вещать, когда он открыл шкафчик и вытащил поддон с медицинским оборудованием, выглядевшим как набор для фильма ужасов.
– В вашем возрасте и при вашем общем самочувствии вероятность того, что есть повод для беспокойства, – один из тысячи, – сказал Измаил. – Но я тем не менее взял бы пробу. Чтобы ни о чем потом не волноваться.
Он показал мне иглу размером с кулинарную спринцовку.
– Вот это и есть «не волноваться»?
Существуют слова, к которым жизнь тебя совсем не готовит, к примеру, такие: «У вас рак».
Я наслушался предостаточно об этой болезни, еще ребенком, когда она приключалась с друзьями семьи или с родней. Взрослые рассуждали о ней вполголоса, и чем тише они говорили, тем настойчивее я прислушивался. Я заметил, что опухоли у женщин обсуждались во фруктовых понятиях, а мужские – в спортивных.
– Вы слыхали о кузине Сэди? У нее было размером с апельсин!
– Не может быть!
– А помните того приятного мужчину, мистера Фридмана, из обувного? У него прямо в желудке – с бейсбольный мяч.
– Ой! Прямо как у моей тети Сони – с папайю!
Но рак – всегда чья-то чужая болезнь, старческая, она бывает у по-настоящему больных людей, прости господи. Мне было тридцать семь, я прекрасно себя чувствовал, а потому в моем воображении в тот жаркий июльский день, как раз в пятилетний юбилей моего сына, такая вероятность и не мелькала. Я только что воткнул пятую свечку в пирог и собирался добавить еще одну – на удачу, как зазвонил телефон.
– Я сниму! – сказал я, слизывая шоколадную глазурь с пальцев.
– Пусть запишут на автоответчик, – прокричала Тали из соседней комнаты.
– Но это, наверное, моя мама, – сказал я, берясь за трубку. – Илайджа, помнишь, у бабушки Глэдис не все в порядке со слухом, так что говори громко и внятно. Ладно?
– Джоэл? – это был Измаил. – У меня новости. Похоже, вы тот самый единственный из тысячи.
Он проговорил несколько минут, но я воспринял только отдельные разрозненные слова: «папиллярный рак щитовидной железы», «частичная или полная тиреоидектомия», «пять лет, вероятность выживания после болезни…».
Тали зажгла свечи и махала мне рукой, чтобы я заканчивал разговор. И тут разглядела выражение моего лица.
– Что случилось?
Я вперил в нее пустой взгляд, пытаясь подобрать что-нибудь вместо слова «рак». В конце концов я просто отмел ее вопрос:
– Ничего особенного. Все будет в порядке. Давай-давай, пока свечи совсем не догорели.
Той ночью я уложил детей и, как обычно, рассказал им на ночь историю. Потом спустился вниз, где Тали уже ждала меня, меряя шагами комнату.
– Джоэл, что случилось?
Мне подумалось, что лучше всего такие новости преподносить с юмором.
– Помнишь строчку из «Когда Хэрри встретил Сэлли?», где Билли Кристэл поет: «Не волнуйся, это просто суточная опухоль»?
Она побледнела:
– Опухоль? Рак? У тебя рак?
– Ну маленький такой. Рак щитовидки. Но врач сказал, что уж если рак, то лучше всего вот такой.
Она выглядела ошарашенной:
– Лучший рак? Что ты городишь?
Я поискал в голове объяснение, но слова не шли. Глядя ей в глаза, я видел там ужас, но Тали попыталась как-то успокоить меня.
– Все будет хорошо, – говорила она, кивая. – Правда?
Я кивнул в ответ.
– Это же лечится, правда? – рак был ее старейшим страхом. – У тебя все будет хорошо. И у нас все будет хорошо. Правда?
– Правда, – заверил ее я, вновь обретая равновесие. – Просто помеха на радаре, не более того.
Всплывать из глубин общего наркоза – все равно что пробуждаться после долгого перелета. Некоторое время я просто лежал с закрытыми глазами, без малейшего понятия, где я нахожусь, – ничего, кроме странной потерянности и предвкушения, какое бывает перед началом приключения. Все еще крепко зажмурившись, я размышлял, где это я – в Будапеште? В Катманду? В Шанхае? Открыв глаза, увидел вокруг себя медицинскую аппаратуру, к моим венам на руках тянулись трубки; боль во всем теле.
– Вот тебе и приключение, – начал я было. Умолк. Что-то не то. Попробовал еще раз: – Вот тебе и… – ни звука.
Я пробовал и пробовал хоть что-нибудь сказать. Попытался позвать Тали. Меня захлестнула волна паники, заколотилось сердце. И только тогда осознал я, что же произошло. Я часто видел нечто похожее во сне: вдруг я терял способность говорить. Обычно такое мне виделось как раз перед большим концертом. Я видел, как стою перед огромной аудиторией и пытаюсь начать рассказывать, но с губ не срывается ни единого звука.
Какое облегчение. Это просто страшный сон, вот и все. Я пытался вспомнить, что мне предстоял за концерт, но не мог. А потому оставалось дождаться конца этого кошмара.
До меня долетали одни лишь больничные звуки. Болтали медсестры, попискивали аппараты, кто-то ходил по коридору. Раз в пару минут я пытался заговорить. Вылетал из меня один лишь воздух. И только с первыми лучами солнца, пробившимися сквозь занавеску, я понял, что не сплю. Я совершенно проснулся, но так и не мог заговорить.
Моя лошадь убежала.
Сверчок, который допрыгнул до Луны
Родина истории – США
Однажды, когда мир был еще юн, жил-был сверчок, мечтавший допрыгнуть до Луны. Ему больше всего хотелось взглянуть на Землю с неба. Ночь за ночью сверчок прыгал изо всех сил, иногда доставая до нижних веток деревьев, а бывало – даже до верхних. Но никак не удавалось даже приблизиться к Луне.
Другие сверчки, жившие в той же долине, насмехались над этой дурацкой затеей:
– До Луны? – хихикали они. – Чушь. Невозможно.
Но он упрямо продолжал прыгать. От многих неудачных приземлений коленки у сверчка постепенно ослабли. И вот однажды он больше не смог ни прыгать, ни даже исполнять свои вечерние песни. Другие сверчки рассказывали друг другу анекдоты о нем. Но он все равно не бросал попыток, забираясь ползком по деревьям, – до самого дня своей смерти.
И даже после шутки о нем продолжали ходить в сверчковом народе. Их досочиняли, придумывали к ним продолжения, и со временем они превратились в целые истории. Их передавали из поколения в поколение, и истории эти вплелись в песни сверчков.
До сих пор можно расслышать, как они поют о его приключениях.
– Смотрите, – говорят родители-сверчки своим отпрыскам, – вон он! Вон там видно его лицо, в тенях на Луне, он приглядывает за нами.
Так, много лет спустя, мечта сверчка сбылась.
Глава 2 Сверчок, который допрыгнул до Луны
Мой отец потратил всю жизнь, гоняясь за мечтами. Теперь, задним числом, я вижу, что его мечты были ему и благословением, и проклятием. Благословением – потому что давали силы двигаться дальше, невзирая ни на какие невзгоды, и проклятием, потому что ни одной не суждено было сбыться.
Несчетными ночами грезилось ему, что вот, наконец, добьется он своего – воплотит какую-нибудь баснословную аферу «богатей-за-минуту», или вернет себе здоровье при помощи чудотворного эликсира, или какое-нибудь затейливое изобретение принесет ему славу, благополучие и, главное, то, чего он желал больше всего на свете, – счастье. Но опять и опять просыпался отец и обнаруживал, что все надежды утекли сквозь его искореженные пальцы. И, как всегда, он отвечал на горести и муки жизни смехом.
– Ну что ты будешь делать? – приговаривал он. – Хочешь повеселить Бога – расскажи Ему о своих планах, – для пущей убедительности отец обращал взоры к небу, воздевал руки и пожимал плечами. Я тоже смотрел вверх, а потом опять на отцовы руки. Они поражали мое воображение и наводили ужас: распухшие костяшки, похожие на детские игрушечные шарики, пальцы, скрюченные как совиные когти.
Было время, когда эти руки выглядели иначе. Когда-то, еще до моего рождения, они были гибкими и проворными: одна танцевала вдоль грифа скрипки, другая нежно удерживала смычок. Именно так папины пальцы выглядели на фотографии, где отец возвышался в белом смокинге и черных брюках, со скрипкой у подбородка, в вечер своего дебюта с Кливлендским симфоническим оркестром.
Артрит впервые дал о себе знать, когда отцу было двадцать с небольшим. Представляю, как незаметно подкрался он поначалу, и отцовы пальцы стали двигаться по струнам едва ощутимо медленнее. Он, должно быть, услышал это в своей музыке еще до того, как разглядел на руках. Врачи позже назовут это «анкилозный спондилит» – редкая форма заболевания, которое сплавляет позвоночник в единую кость. За те двадцать пять лет, что я знал его, когда-то высокое стройное тело отца изогнулось и превратилось в вопросительный знак.
Я никогда не слышал, как он играет на скрипке: когда я родился, от многообещающей карьеры остался лишь сам инструмент. Все мое детство он пролежал в футляре на каминной полке в гостиной. Втроем с братьями мы по-очередно пытались играть на нем, но задатков не нашлось ни у одного. Клали скрипку на место, и она лежала, собирая пыль, до самой смерти отца.
Ребенком я не понимал папиной болезни, не понимал, почему я становлюсь все выше, а он все укорачивается. После каждой поездки в больницу он возвращался все менее ходячим – сначала передвигался с тростью, потом ходил в корсете, а дальше – уже на костылях. Перемещался он так медленно, что на это было больно смотреть. Но, как и ко всем прочим житейским невзгодам, он и к этой относился со смехом.
– Вы же знаете, шмель не может летать, – заявил он, когда в очередной раз вернулся из больницы – теперь уже на костылях. – Это сущая правда. Законы аэродинамики показывают, что размах его крыльев недостаточен, чтобы удерживать в воздухе вес его тела. Но вот что хорошо: шмель этим законам не подчиняется – все равно летает!
У моего отца в запасе были десятки подобных присказок, мудростей, которые достались по наследству нам с братьями. Отец произносил их всякий раз, когда спотыкался об очередную неудачу, а затем продолжал погоню за следующей мечтой.
После того как отец перестал играть на скрипке, он стал изобретателем и вливал все наши семейные сбережения во всякие свои затеи. В конце 60-х он вложился в дело, за которым, по его мнению, виделось большое будущее, – светящиеся в темноте пластмассы и краски. Как и все прочие остатки его изобретений, они заполонили дом. Они светились по ночам – кляксы краски по всему потолку, словно звезды небесные. В этом был весь мой отец – богач в мире грез, бедняк при свете дня.
– Ты же знаешь, как говорится? – спросил он меня однажды. – Хочешь повеселить Бога…
– …расскажи Ему о своих планах, – прилежно отзывался я, передавая ему кирпич. Я сидел на краю его кровати, а он – на раскладном стульчике на пороге ванной, привязанный к своему очередному изобретению. Это было приспособление, призванное поправить ему спину: веревка, перекинутая через перекладину на высоте подбородка, с шейной скобкой от корсета на одном конце и кастрюлей – на другом. Моя работа заключалась в том, чтобы подавать ему кирпичи. Каждый раз, когда я закладывал очередной кирпич в кастрюлю, отец кривился от боли, но заставлял себя улыбаться, хотя вид у него был такой, что всем вокруг казалось, будто он собрался вешаться.
– Я вот не понимаю, – произнес я, – ты говоришь, что Бог веселится всякий раз, когда случается что-нибудь плохое. Почему? Что тут смешного?
Он остановился на минуту, кирпич завис в воздухе.
– Тебе интересно почему?
Я кивнул.
Он пожал плечами, кастрюля с кирпичами заскакала на веревке.
– Не знаю. Ты бы спросил кого-нибудь помудрее меня. Но точно я знаю одно. В жизни всегда есть выбор. Можно веселиться с Богом или рыдать в одиночку. Так и что же ты будешь делать?
Так я научился смеяться вместе с отцом.
Проходили недели, голос у меня все не прорезывался, и я все больше и больше размышлял об отце. Старался вспомнить его смех и не думать о его пальцах. Между нами была разница, говорил я себе: его телесная немощь была навсегда, а моя – лишь на время.
Вот что думал про это мой врач.
– Все дело в голосовом нерве, – говорил он, вслушиваясь в мой тихий, сиплый шепот. – Должно быть, он все еще парализован. Но я бы не стал волноваться по этому поводу. Обычно все восстанавливается. Потерпите пару недель, ну месяц, в крайнем случае. Два – в самом крайнем.
Именно так Тали и объяснила все это детям в день, когда я вернулся из больницы: временная потеря голоса.
– Илайджа, Микейла, слушайте сюда, – сказала она.
Дети не снизошли – они радостно повисли у меня на ногах и забросали вопросами:
– Больно было? Они тебе вырезали ту штуковину из горла? Дашь поглядеть? Ты ничего не боялся? Расскажи!
– Дети, – еще раз попыталась Тали, – мне нужно кое-что сказать вам. Кое-что важное, – они наконец отцепились от меня и взглянули на нее. – Папа не может разговаривать.
На лице у Микейлы возникло изумление, а Илайджа выглядел так, будто его предали, и качал головой.
– Может-может, – проговорил он. – Он все время разговаривает. Правда, пап?
Сын ждал от меня подтверждения. Я кивнул Тали.
– Нет, – сказала она, – боюсь, не может. Вава у него зажила, и это главное. Но он пока не может говорить. Но это пройдет, правда, Джоэл?
Я кивнул.
– Когда, папа? – спросила Микейла.
– Скоро, – ответила Тали за меня, – но мы не знаем, когда именно. А пока ему нужно беречь голос, и можно только шептать – и то по чуть-чуть.
– А когда голос вернется, ты нам расскажешь всякие истории, да? – спросил Илайджа.
Я не смог удержаться:
– Много… много… историй.
Дети не знали, что делать с почти немым отцом. Поначалу Микейле это казалось потешным: такой вот беспрерывный спектакль – из-за странного импровизированного языка жестов, который я использовал, чтобы хоть как-то общаться с ней. Переходил на шепот, только когда это было совершенно необходимо, отчасти оттого, что любое усилие обжигало мне горло, а еще потому, что всякий раз дочка морщилась и качала головой.
– Папа, говори громче! – просила она.
Для Илайджи мой отсутствующий голос означал новое занятие. Когда я был с Тали, она говорила за меня. Но поскольку теперь она, чтобы возместить семье хотя бы часть моего утраченного дохода, работала сверхурочно, моим голосом стал Илайджа. Мой шепот заглушался любым внешним шумом – звуками проезжавшего мимо автомобиля, музыкой или пролетающим самолетом, – сын ходил со мной за покупками. Когда мне было нужно что-нибудь сказать, я шептал слова ему на ухо, потом поднимал его повыше, и он повторял громче:
– Папа хочет сдачу с двадцати долларов.
Сначала нас обоих развлекала эта новая игра. Хорошо, думал я, укрепление отцовско-сыновней связи, новое приключение. Илайджа прилежно делал свое дело, но со временем я начал замечать, что всеобщее внимание посторонних стало для него обременительным. Он и всегда-то был застенчив, а тут начал прятаться от продавцов в магазинах, от зеленщиков, банковских служащих – от всех, кто без конца повторял, какой он милый мальчуган. Один даже спросил, не чревовещатель ли я. Илайджа выдержал это стоически, но я видел, как он смутился – даже не за себя, а за меня. Почувствовав это, я старался говорить громче, когда мог, но мой шепот все только портил. Илайдже не хотелось, чтобы люди думали, будто со мной что-то не так.
На публике нам было непросто, а когда мы оставались с ним наедине, делалось еще труднее. Илайджа как раз вошел в возраст бесконечных вопросов, когда мир представляется одной сплошной загадкой, а родители – знатоками всех ответов. Я так ждал этого момента с самого его рождения. И вот теперь, когда вопросы возникли, я силился на них отвечать.
– Пап, почему на валлийском флаге дракон? Или, может, это гриф? А в чем разница? Это миф такой? Ты мне рассказывал про тролля. Где живут тролли? Ты говоришь по-французски? Как устроено время? Что такое «чревовещатель»? Почему ты не можешь говорить?
В ответ на каждый вопрос я выжимал из себя пару слов, а остальное пытался восполнить с помощью жестов. Рисовал на салфетках. Вытаскивал с полки книги и тыкал в картинки. Сын с благодарностью кивал, а минуту спустя задавал следующий вопрос, и все начиналось сначала.
Через месяц после операции Тали снова забеспокоилась. Она старалась скрывать это, особенно при детях, но по утрам, когда мы просыпались, ее волнение давало о себе знать.
– Ты чувствуешь что-нибудь? Дергает?
Доктор сказал, что перед тем, как голосовой нерв вернется к жизни, может слегка покалывать или дергать.
Я качал головой.
– А сейчас? – спрашивала она пять минут погодя.
– Не волнуйся, – шептал я, – все… будет… хорошо, – сиплым шепотом я мог выдавать слова по одному-два, с передышками.
– Но я все равно волнуюсь. Волнуюсь за тебя. Что, если голос совсем не вернется?
– Мой отец… говаривал… что девяносто… пять процентов… – я перевел дух. Собрался повторить одну его шутку, что девяносто пять процентов того, о чем мы волнуемся, никогда не случается, а значит, беспокойство – эффективное средство против неприятностей. Но в этот раз с шуткой я промазал.
– Да, – сказала она, – я как раз думала о твоем отце.
Она больше не произнесла ни слова, но мы прожили вместе уже достаточно, договаривать и не обязательно. Хотя Тали никогда не видела моего отца, она достаточно наслушалась о его жизни и считала, что та – худший сценарий для моей.
Я часто думал об отце, особенно об одной истории – об анекдоте, который он обожал: человек идет к портному, чтобы заказать себе костюм. Портной снимает с него мерки и приглашает зайти через неделю. Но когда человек заходит за костюмом, оказывается, что сидит тот на нем просто ужасно.
– Что это такое? – спрашивает человек. – Этот рукав длинен, тот – короток. А брюки в облипку с этой стороны и висят мешком с другой!
– Не надо нервничать, – говорит портной, – костюм хорош. Взгляните.
Он ведет человека к зеркалу.
– Отставьте правое плечо назад, вот так. Голову набок. Порядок. Наклонитесь-ка вот эдак, левую ногу вперед… Идеально!
– Хорошо, – говорит человек, скрючившись перед зеркалом, – да, теперь вижу. Неплохо смотрится.
Он отступает назад и выбирается из лавки на улицу, где две женщины замечают его странную походку.
– Господи, – говорит одна, – что это с ним случилось?
– Не знаю, – отвечает другая, – зато как сидит костюм!
Эту историю я слышал от отца не раз и не два. Он особенно любил обыгрывать роль заказчика, а мне нравилось смотреть на него, пока однажды, когда мне было пятнадцать, я не осознал, что его тело выглядит одинаково – и в жизни, и во время этой игры. Он сам стал тем самым человеком в костюме. И это касалось не только его тела – вся его жизнь скрючилась так, чтобы не видеть никаких потерь.
Чем ближе подбиралась к нему смерть, тем живее делалось его видение успеха. В один из моих последних визитов к нему в доме престарелых он подозвал меня поближе и указал на шкаф.
– Видишь тех троих, наверху? – прошептал он. – Это турецкие торговцы кофе. И мы только что ударили по рукам – по-крупному! Но не на кофе, а на сыр! Мы теперь богаты! Но ты никому не рассказывай…
Я кивнул – потому что любил его таким, какой он есть. Но, невзирая на это, я дал себе два обета. Первый – никогда не позволять себе иллюзий по поводу собственного успеха. Второе – преуспеть во что бы то ни стало.
Между мной и моим счастьем, решил я, – один лишь мой утраченный голос. Вечерами, когда Тали и дети укладывались спать, я спускался к себе в кабинет – замечательную, обитую деревом комнату, мое давнее убежище. Я населил ее куклами и масками, которые насобирал за время странствий по свету, а на одной стене повесил огромную карту мира, и на ней цветными кнопками и нитками помечал места, где мне доводилось бывать, и истории, которые я там добыл. По ночам в комнате было тихо, и в этой тишине сидел я, ожидая возвращения голоса.
По временам я представлял, как энергия струится по моему горлу и нерв внезапно возвращается к жизни.
Как раз в такой вечер, пока я сидел в задумчивости, убежденный, что нахожусь в шаге от успеха, зазвонил телефон. Я подскочил и чуть не бросился снимать трубку, но успел спохватиться и поморщился, вновь слыша обращение на автоответчике, которое записал много месяцев назад: «Привет. Это Джоэл. Сейчас у меня не получится с вами поговорить. Как только смогу – перезвоню». Гудок.
Я подождал, пока прозвучит голос звонящего, и был готов услышать желающего заплатить мне за то, что я не в силах сделать.
– Привет, Джоэл! Мы большие ваши поклонники из Сан-Франциско. Послушайте, у нас тут скоро бар-мицва, в следующем месяце, мы мутим огромную вечеринку. Будут ди-джей и фокусник, а вы у нас – вишенка на торте. Понимаю, что для вас это мелочи, но все же назовите цену…
Автоответчик отключился, и я присел в его отзвуках и уставился на карту. Не хотелось даже думать ни о деньгах, которые я упущу с этого приглашения, – да и о деньгах за все уже отмененные концерты. Поскольку все мое будущее оказалось под вопросом, я задумался над прошлым. Взгляд заскользил вдоль нитки, от одной кнопки к другой. Будапешт. Гонконг. Рим. Стоило взглянуть на любую кнопку – и каждый город оживал, наполненный людьми, запахами, вкусами и звуками, напоминал мне об историях, которые я рассказывал и так любил. Те истории вели меня все дальше и дальше назад, кругами, сквозь годы, к тому самому дню, когда недалеко от Беркли, сразу под Санта-Крузом, отмеченным кнопкой с ярко-желтой головкой, началась моя карьера.
Любой сказитель помнит того самого рассказчика, у которого впервые разжился вдохновением. В сказительских кругах такого человека зовут уткой-наседкой начинающего рассказчика. Моей «уткой-наседкой» стал Ленни.
Я впервые услышал, как он рассказывает истории, однажды в пабе, чуть ли не двадцать лет назад, в центре Санта-Круза. Увидел анонс на двери и зашел, понятия не имея, что меня ждет. Ленни стоял один, в тишине, на сцене в углу. Выглядел он не то чтобы впечатляюще: довольно коренастый, бородатый, косматый. На сказителя он был похож не больше кого угодно в этом баре.
Но стоило ему открыть рот, как все изменилось. В зале воцарилась полная тишина, а меня унесло сначала в полуразрушенный замок в шотландских нагорьях, затем в школьное здание в Новой Англии, а следом – в крошечную деревню в Восточной Европе. Там я встретился с героями и влюбился в них, и, хотя жили они лишь в словах Ленни, мне они показались даже более настоящими, чем многие мои личные знакомцы. Я ушел в самом конце вечера, уже тоскуя по местам, где никогда не был, скучая по людям, которых не знал, и не сомневался, что обрел дело всей жизни.
На следующий день я разузнал, где он живет, покатил на велосипеде за десять миль через лес к его хижине и там принялся умолять Ленни стать моим учителем.
– Ты? – он рассмеялся так, словно я рассказал ему анекдот. – Да ты же пацан еще! Хоть понимаешь, зачем хочешь рассказывать истории?
Я пожал плечами, замечая кое-что, ускользнувшее от меня прошлой ночью. Разговаривая, Ленни жестикулировал только правой рукой.
Он покачал головой и опять хохотнул:
– Ты вроде того парня, который идет к раввину изучать Талмуд. Знаешь эту историю?
Нет, я не знал.
– Юноша просит раввина научить его мудрости Талмуда. Ребе отвечает юноше, что тот не готов. Юноша настаивает, и ребе решает его проверить. «Два вора лезут по печной трубе, чтобы ограбить дом, – говорит ребе. – Один пачкает себе лицо, а у другого оно остается чистым. Который из них умоется?» – «Тот, который испачкался, конечно», – отвечает юноша. – «Нет. Тот, у которого чистое лицо. Потому что он глядит на того, который испачкался, и решает, что у него лицо тоже грязное. Тогда как тот, у которого грязное лицо, глядит на того, у которого чистое, и считает, что у него тоже чистое». – «О! – радуется юноша, – теперь я понял». – «Нет, это тебе кажется, что ты понял, а на самом деле ничего ты не понял. Давай еще раз: два вора лезут в дом по печной трубе. Который из них пойдет умываться?» – «Тот, у которого лицо чистое, верно?» – «Нет, опять неправильно, – отзывается раввин, – они оба пойдут умываться, потому что в печной трубе испачкаются оба. Видишь, – подводит итог раввин, – я ж говорю, ты не готов. Такие, как ты, попусту тратят время, ища ответы, а надо бы искать вопросы».
И Ленни закрыл дверь прямо у меня перед носом. Но я вернулся на следующий день, и, прежде чем он снова захлопнул дверь, крикнул:
– Погоди! У меня есть вопрос!
Он уставился на меня, вскинув брови.
– С каких это пор ворам есть дело до умывания?
– Во! – Ленни улыбнулся. – Теперь это уже на что-то похоже.
Следующие полгода я приезжал на велосипеде дважды в неделю, сидел перед растопленной печкой и слушал его истории. Казалось, он знал все до единой байки на свете – включая и все анекдоты, какие рассказывал мне отец, и стоило мне заикнуться о любом, он выдавал его сам – с тремя вариациями.
Я ходил с ним на все его представления и всякий раз поражался тому, как он воздействует на публику. Ленни словно упивался их обожанием – да и моим. Называл меня своим лучшим учеником, хотя я был единственным. Однажды вечером, когда я наконец-то рассказал неизвестную ему байку, Ленни разразился долгим глубоким смехом, а потом удалился в спальню. Вернулся с большой коробкой в руках.
– Я ждал этого, – проговорил он, вручая мне коробку.
Внутри я нашел замечательную серую фетровую шляпу. Села она безупречно, и с тех пор я надевал ее на все свои концерты.
Но у Ленни имелась и темная сторона – озлобленность, которая начала просачиваться и в наши встречи. Она прорывалась неожиданно, когда я по незнанию брякал или делал что-то не то. Ленни становился едким, а иногда и враждебным. Однажды вечером он, пьяный, явился с опозданием на мой концерт в местном клубе в центре Санта-Круза. Постоял в дальнем углу зала, качая головой, и ушел раньше всех. Наутро мы увиделись у него дома, Ленни страдал от похмелья, и когда я спросил его, что он думает о моем вчерашнем выступлении, он пожал плечами.
– Что я думаю? Я думаю, что был прав. Ты не сказитель – ты просто пацан, которому нечего предъявить.
Вот спасибо-то. Я направился к двери.
– Уходишь? Вот и ладно. Возвращайся, когда у тебя будет история, достойная рассказа.
Я вышел, не обернувшись, и с тех пор мы не виделись.
Приближалась отметка «два месяца», я стал одержим идеей вернуть себе голос, и по настоянию Тали начал наведываться к специалистам.
Мои голосовые связки они проверяли всеми мыслимыми способами – от старомодных ложек до высокотехнологичных зондов с лампочками. Один даже залез мне в нос резиновым шлангом. Как я и ожидал, все сошлись во мнениях с моим хирургом: в те самые два месяца после операции голос мог либо вернуться, либо нет, и ничего тут не поделаешь – только ждать.
Впрочем, согласились они и кое в чем еще. Есть все же человек, способный точно сказать, вернется голос или нет. Король всех знатоков, и уж так они его чтили, что произносили его имя только шепотом и писали его на оборотной стороне собственных визитных карточек. Была в самом этом имени определенная таинственность – имя длинное, восточноевропейское, нашпигованное мудреными согласными почти без всяких гласных в промежутках, непроизносимое слово, каким приканчивают партию в «Скрэббл». И вот этого человека мне необходимо было посетить.
– Сказитель прибыл!
Я встал с кушетки в приемной и повернулся глянуть на источник этого глубокого голоса с сильным акцентом. Король знатоков стоял передо мной, держа в одной руке кассету, которую я ему выслал, а другую протягивая мне для пожатия. Безупречный образ сумасшедшего ученого – серебристые волосы, чуть скособоченные роговые очки. Он сразу мне понравился.
– Славные истории, – сказал он, отдавая мне кассету. – Особенно байки про Хелм. Эти я не слыхал давным-давно. Давайте-ка поглядим, отыщется ли ваш голос.
Я проследовал за ним в кабинет, увешанный портретами знаменитостей, чьи голоса ему удалось вернуть, – множество фотографий. Указав мне на стул, он внимательно изучил мои больничные записи, а затем долго-долго смотрел мне в горло.
Затем еще раз глянул в мои записи и заговорил:
– Вы хотите знать, вернется ли ваш голос. И если да – когда же. Верно?
Я кивнул.
– Я вижу из ваших записей, что прошло уже два месяца.
– Только пятьдесят… семь дней.
– Восемь недель, – сказал он, – и никаких подвижек с голосовым нервом. Нехороший знак, – он умолк, покачал головой и вздохнул: – Боюсь, что нерв мертв. Он не вернется никогда. Мне жаль. Очень жаль.
Я вперился в него и ждал хоть чего-нибудь хорошего. Долго он молчал, но потом все же заговорил:
– Я понимаю, что для вас это очень тяжело. Вы сказитель, а потому, вероятно, будет легче, если вы посмотрите на все это как на байку. Что говорят нам мудрецы? – он помолчал, подняв брови. – «Голос – врата к душе». И прежде при этих вратах стояли два стражника – ваши голосовые связки. Чтобы раздался звук, им надо сойтись, как двум раввинам, спорящим о Талмуде. Но в вашем случае один ребе молчит. Почему? Хотел бы я знать, – он примолк. А затем, подавшись ко мне, прошептал: – Может, он знает какую-то тайну.
Оптимизм и пессимизм
Родина истории – Чехия
Жил-был король, и было у него два сына-близнеца. Хоть они и были похожи как две капли воды, натурами разнились, как день и ночь. Один был отпетым пессимистом, другой – неисправимым оптимистом.
Когда оба подросли, король решил, что надо открыть им глаза на противоположную сторону жизни. Для этого он решил подарить обоим по особому подарку.
Подарок пессимисту он заказал у королевского ювелира.
– Я хочу, чтобы ты сделал ему часы самой тонкой работы, – велел король, – цена не имеет значения. Бриллианты, золото, самоцветы, платина – только лучшее. И чтобы все было готово ко дню его рождения.
Для оптимиста он решил добыть подарок у дворцового садовника:
– Когда проснется в свой день рождения, пусть первым делом увидит у изножья своей кровати огромную кучу конского навоза.
И вот настал день их рождения. С огромным предвкушением король отправился навестить своего сына-пессимиста. Тот сидел на кровати и угрюмо рассматривал великолепные часы.
– Как тебе подарок? – спросил король.
– Годится, – сказал пессимист. – Хотя смотрятся довольно безвкусно. Да хоть бы и со вкусом – их тогда, скорее всего, украдут, или же я их потеряю. А еще они могут разбиться…
Королю хватило всего сказанного, и он ушел к сыну-оптимисту. Тот плясал по комнате от радости. Когда король вошел, сын подбежал к нему с объятиями:
– О, спасибо тебе, отец! Как раз этого я и желал!
Оторопевший король спросил, за что сын его благодарит.
– Как за что, отец? За лошадку!
Глава 3 Оптимизм и пессимизм
«Дверь закрылась – окно откроется».
Так говаривала мама нам с братьями. Что-то подобное мамы частенько говорят, но для нашей, когда вокруг нее закрывались двери, эти слова, повторенные снова и снова, стали чем-то вроде мантры. С каждым разом она становилась все большей оптимисткой.
Они с моим отцом уехали из Кливленда ради солнечной Южной Калифорнии, где мама мечтала начать все сначала и жить своей любовью к журналистике. Настоящая корреспондентка, она обладала даром задавать правильные вопросы и слышать то, что таилось между строками в ответах. Ее навыки служили ей верой и правдой в газете «Кливленд Плейн Дилер», где она показала природное умение вытаскивать из людей их истории. Стоило маме раскопать что-нибудь, она вела историю с того самого мига, как нашла ее на улице, до следующего утра, когда газеты сходили с печатного станка.
Годы спустя отоларингологи предположили, что как раз шум печатных станков лишил ее слуха. Первые знаки приближающейся глухоты появились, еще когда мы с братьями были мальчишками: мама начала пропускать отдельные фрагменты разговора и иногда из-за этого ссорилась с отцом. Ему трудно было поворачиваться каждый раз, когда он к ней обращался, а мама насилу могла его расслышать.
– В чем дело? – кричал он. – Ты что, оглохла?
Тогда еще нет, но все к тому шло. И вместе со слухом угасала ее журналистская карьера. Для кого-то другого это стало бы страшным разочарованием, но маме удавалось видеть и светлую сторону: ей больше не придется выслушивать плохие новости.
После смерти отца глухота стала ее визитной карточкой. Она переехала в большой жилой дом в Альгамбре, к востоку от Лос-Анджелеса, и начала кампанию за права слабослышащих. Вступив в организацию под названием «Ты сам себе советчик, слабослышащий» («ТССС!»), она даже ухитрилась найти забавную сторону в потере слуха, посещая семинары вроде «Что сказать после того, как сказал: “Что ты сказал?”». Она снова начала писать статьи – для информационного листка своей организации, колонки на общие темы в местные газеты, находя людей, которые либо готовы были отвечать на ее вопросы письменно, либо отдаться мучительному процессу интервью, в котором им приходилось повторять все ответы по нескольку раз. Я был предметом многих статей такого рода: «Местный юнец объезжает мир, рассказывая истории», «Имею историю – готов путешествовать»[5], «Мой сын – сказитель».
Всякий раз, записав новую подборку историй, я посылал ей копию пленки. Она усаживалась перед магнитофоном, подносила колонку как можно ближе к своему слуховому аппарату и пыталась разобрать. Я давал ей расшифровки этих записей, но она хотела именно слушать истории, и, когда ей удавалось понять несколько слов после многих упорных попыток, она сияла от гордости. Отправка для нее новых записей была исполнением моей части договора, который мы с ней высоко чтили, пусть он и оставался негласным, – то был договор о хороших новостях. Я всегда слал ей только то, что могло бы служить поводом для радости или гордости, – статьи обо мне, фотографии Тали и детей. Она же присылала мне написанные ею и опубликованные статьи вместе с вырезками из газет и журналов, содержавшими «шмальцевые истории», которые, по ее мнению, вызвали бы у меня улыбку.
Думаю, что как раз поэтому я и не сказал ей про рак. У меня не было цели делать из этого тайну, но сообщать плохие новости трудно, и я не хотел ее волновать. Сначала решил подождать до операции, а потом уж рассказать ей всю историю лично, при ближайшей оказии, когда приеду выступать в Лос-Анджелесе. Но, вернувшись из больницы, я избегал ее звонков, ожидая восстановления голоса. Я много кому не перезванивал. Братья пытались разузнать, почему я ни в какую не выхожу на связь, а когда отчаялись дозвониться, стали писать мне письма. Писали друзья и поклонники, спрашивали, что со мной стряслось. Но звонки матери особенно не давали мне покоя.
На следующий день после встречи с королем всех знатоков я сидел в кухне и намазывал сыр на бейгл для Илайджи, и тут зазвонил телефон. Сын снял трубку и передал ее мне, а сам уселся и принялся за бейгл. Я некоторое время взирал на телефонную трубку, а затем прошептал напряженное «алло».
– Илайджа? – предположила она. – Это бабушка Глэдис! – голос гремел.
– Нет, мам… это я.
– Ты, наверное, очень взволнован – еще бы, идешь в садик!
– Мама, это не… Илайджа… Это я!
– Очень хорошо. Из тебя точно получится чудесный ученик. Папа дома?
В трубке прозвучал треск, потом длинная пауза, пока она настраивала слуховой аппарат.
– Алло? – проговорила она. – Минутку…
Какой бы странной она ни казалась, подобная беседа не была для нас чем-то особенным, даже когда я еще мог разговаривать. Мама страшно огорчалась, что не может слышать меня, а я артикулировал до боли в лице. За последние годы нам все никак не удавалось толком поговорить по телефону, да и личные беседы были ненамного лучше.
– Алло? Илайджа? – сказала мама, наконец вернувшись к телефону.
– МАМА! – шептал я изо всех сил. – ЭТО ДЖОЭЛ! ТВОЙ СЫН!
– А, Джоэл! Привет. Мы так славно поговорили с Илайджей; кажется, детский сад его вдохновляет. А как у тебя дела?
Настало время все рассказать. Но я замолчал ненадолго, не зная, с чего начать, и миг был упущен.
Осень принесла большие перемены – Илайджа пошел в садик, Микейла – в подготовительный класс. Сын смело отправился к новым свершениям, а вот у дочки все оказалось сложнее, и первый день в школе закончился слезами. То же самое произошло и на второй день, но на третий она уже сама выскользнула из наших объятий и убежала играть.
Теперь, когда дети были в школе, а Тали – на работе, дни тянулись медленнее, а часы бодрствования я проводил, надеясь, мечтая и молясь о том, чтобы король знатоков ошибся. Днем бывало нелегко, а вечера выходили еще хуже: мои дневные попытки говорить к вечеру сводили мой шепот к почти полному молчанию.
Час перед сном был чистой мукой. Это время я всегда посвящал детям – читал им книги, развлекал байками, целовал на ночь, и этот ритуал всегда завершал все их дни с самого рождения. Поначалу Микейла забывалась:
– Пап, расскажи историю! Про Хелм! Или про сбежавшую лошадь! Или про ирландского короля!
И Илайджа тогда напоминал ей:
– Нет, Микейла. Мы не хотим слушать истории, правда?
Она сперва терялась, а потом утвердительно трясла головой:
– Ладно, пап, мы сегодня не хотим никаких историй.
Однажды вечером у меня родился план. Я выбрал едва ли не самую любимую их книгу – «Паровозик, который верил в себя»[6]. Илайджа почти умел читать ее сам, а Микейла знала чуть ли не наизусть. Я спрятал магнитофон Микейлы с моей кассетой под кровать, погасил свет, и мы угнездились все вместе. Им удалось выдать весь текст по памяти. Я дотянулся до магнитофона и нажал на «плей».
«Давным-давно в Ирландии жил-был король. Но он был не добрым королем – он был злым, и вот однажды он решил подшутить над своим советником…»
Глаза у них округлились. Илайджа, похоже, понял, что я затеял, но не обращал внимания. Микейла широко улыбалась. Я шевелил губами вслед за собственным голосом в записи, добавляя жесты и мимику, пока мы не добрались до концовки, где советник должен разгадать загадку короля: сколько на небе звезд?
«Ваше величество, всего точно сорок семь мил-л-л-лионов, две-е-е-ести во-о-осемьдесят шес-с-с-сть тыс-с-с-сяч…» – мой голос натужно замер.
Дети глазели на меня, ждали.
– А что дальше? – спросил Илайджа.
– Папа, давай дальше! – попросила Микейла.
Магнитофон громко щелкнул кнопкой – батарейки сдохли. А дети все ждали.
– И стали они… поживать… и добра… наживать.
Счастлив я не был нисколько. И с каждым днем все, что оставалось от моего счастья, утекало сквозь пальцы. Наконец, одним дождливым субботним вечером я катился на машине через мост в Окленд – в последней попытке взять быка за рога.
Человек, оставивший сообщение на моем автоответчике, назвал свой электронный адрес, и я согласился выступить на их бар-мицве – за немалые деньги. Сожалеть об этом я начал, как только переехал по мосту. Попытка выступать – абсурднейшая выходка, удавшаяся исключительно благодаря моему неистребимому оптимизму. «В безвыходном положении старайся изо всех сил, – шептал мне внутренний голос, – может, когда выйдешь на сцену, голос вернется». Под проливным дождем я разглядел крыльцо шикарной гостиницы, где на козырьке яркими огнями мигало имя героя торжества. Когда-то я рассказывал замечательные истории на бармицвах – чудесных душевных праздниках, посвященных взрослению мальчиков. На сей раз, похоже, праздник ожидался совсем другой.
Проходя фойе, я заметил ростовую фигуру виновника торжества, вырезанную из картона. Над ней красовалось заявление: «Лучшая бар-мицва в истории!», а вокруг плакаты: «Захватывающе!», «Неотразимо!», «Обалденно!». Тема этой бар-мицвы – кинематограф, если судить по тому, что фигура из картона курила сигару и держала в руках статуэтку Киноакадемии.
Из танцзала в фойе выплескивалось техно, прочие постояльцы, спеша мимо, прикрывали уши руками. Попав в зал, я ослеп от света стробоскопов, многократно отраженного в зеркальных шарах, золотых лентах и золотой же мишуре. В электронном письме говорилось, что облачение предполагается парадное, и я с содроганиями натянул костюм, какой обычно берег для свадеб и похорон: в нем я вечно ощущал себя и неодетым, и чрезмерно расфуфыренным одновременно. Накатила паника.
Пока я стоял как вкопанный при входе, женщина в золотом платье кокотки и в туфлях на шпильках, спотыкаясь, двинулась ко мне, расплескивая на ходу мартини из бокала.
– Мы так рады, что вы приехали! Вы, должно быть… как ваше имя? Нет-нет, не говорите. Иззи? Бен? Джоэл? Вы сказитель. Ваша очередь следом, после фоку-ку-сника.
Я пробрался к сцене. Неподалеку увидел юношу-мицву, тот походил на фигуру из фойе, купался во всеобщем внимании, пуговицы у него на смокинге с трудом вмещали его. Тем временем фокусник на сцене устало смыкал и размыкал металлические кольца. Обычно это самый шумный трюк, но все тонуло в тамошнем грохоте. Я понаблюдал за ним какое-то время, и тут меня осенило. Мысль – и отличная притом. Может быть, говорил я себе, – ну вдруг, – меня никто не заметит. В конце концов, никто не обращал никакого внимания на этого артиста. Я просто буду шевелить губами.
– Они ваши, – сказал фокусник, убираясь со сцены и держа под мышкой столик и разнообразный скарб фокусников, а в другой руке – кролика. Я занял свое место у микрофона, готовый изображать, будто что-то рассказываю. Первую историю я, как обычно, выбрал в привычном ритуале: терпеливо подождал, пока она сама не похлопает меня по плечу. И вот, пожалуйста: пришла байка о царе-оборванце, и я принялся за свою пантомиму.
Поначалу все шло как по маслу. Никто меня не замечал, и минут десять спустя я решил, что все обошлось. Но не тут-то было. Все началось с юноши-мицвы – у него на лице я разглядел растерянность. Он утихомирил какого-то парня рядом с собой. Когда они оба притихли, другие поглядели на них, а следом – на меня. По залу расползлась тишина. Что происходит? Диджей выключил музыку. Люди расселись, и даже взрослые за столиками перестали разговаривать. Через минуту весь зал погрузился в полную тишину, и все взоры обратились на меня.
Я наблюдал за их лицами – сперва на них было любопытство, затем оторопь, – и думал, что фокуснику такой отклик публики пришелся бы по душе. Они подавались вперед и даже повторяли мои жесты, словно пытаясь вытянуть из меня слова. Кое-кто обеспокоенно тер уши, думая, что вдруг оглох, гости со слуховыми аппаратами пытались настроить их так, чтобы услышать хоть что-нибудь. Другие же просто таращились на меня с внимательным любопытством, склонив голову набок. Я ждал, когда же они все снова заговорят, – в конце концов, сколько можно на меня смотреть? Но тишина делалась все громче. Никто даже приборами не звякал. Что-то особенное овладело гостями: они вдруг сделались люто учтивыми. Пытались помочь мне, и я чувствовал волны жалости, накрывавшие меня с головой. Выбора у меня не осталось – лишь попытаться рассказать историю, которую я имитировал. Микрофон усилил мой шепот и сип.
Казалось, я пробыл на сцене несколько часов. И все-таки добрался до конца истории, схватил свою сумку, отвесил поклон в ответ на вежливые аплодисменты, которых не заслужил. Меньше всего мне хотелось застрять тут и попытаться объяснить, почему я не могу разговаривать. Но никто даже и не обмолвился об этом. Мои извинения за неувязку с голосом, произнесенные свистящим шепотом, – все равно что слон в гостиной: незачем и говорить, и так очевидно. Впрочем, когда я отправился забрать свой чек, сгорая от стыда, мать виновника торжества осыпала меня восторгами.
– Какие волшебные истории вы, похоже, рассказывали! Ну, где там мой муж? – она поискала его глазами и, подмигнув, указала на более крупную версию своего сына. – Подождите здесь, у него чековая книжка.
Пока я ждал, другие гости заводили вежливые разговоры, задавая вопросы, на которые я не мог даже начать отвечать из-за шума в зале.
– Вы давно рассказываете истории? – спросил кто-то.
– Это ваша работа? – спросил другой с несколько обеспокоенным видом.
Пока я делал все возможное, чтобы кивать и отвечать жестами, хрупкая старушка взяла меня за руку.
– Ваше выступление… – тут ее лицо вдруг потеряло всякое выражение, и было ясно, что она вдруг позабыла все добрые слова, какие собиралась произнести. Улыбнулась, кивнула и попробовала еще разок: – Ваше выступление было…
– Невероятное! – прозвучал голос за моей спиной. – Совершенно невероятное!
Незачем было оборачиваться и смотреть в это лицо – я узнал голос. Ленни.
Обет молчания
Родина истории – Финляндия
Жил-был человек, и вот однажды решил он уйти в монастырь. Там он принял обет молчания. Пять лет полагалось ему не произносить ни единого слова, и тогда ему позволят пять минут беседы с настоятелем.
Пять лет спустя настоятель призвал его:
– Что мог бы ты сказать о своей жизни здесь?
Монах подумал с минуту, а затем сказал:
– Сперва мне не удавалось разобраться с понятием Святой Троицы, но теперь я постиг ее. А еще мне было трудно просыпаться каждое утро в четыре, но потом я привык.
– Это все, что ты хочешь сказать? – спросил настоятель.
Человек кивнул.
– Хорошо. Следующая наша встреча – через пять лет.
Через пять лет человек снова пришел на встречу с настоятелем.
– Тебе есть что сказать?
– Было непросто принять истинность катехизиса, но я это осилил. И, кроме того, сложно наесться одной плошкой баланды в день.
– Это все, что ты хотел сказать?
Человек кивнул.
– Хорошо. Встретимся через пять лет.
Через пять лет человек снова увидел настоятеля.
– Тебе есть что сказать?
– Это было настоящим испытанием – принять понятие Божественной благодати, но я смог. И было, в общем, не очень удобно спать на каменном полу без тюфяка все эти годы, но я привык и к этому.
– Это все, что тебе есть сказать?
– Нет, еще кое-что. Я покидаю монастырь.
– Давно пора! Ты только и делал, что ныл и жаловался!
Глава 4 Обет молчания
Я уставился на Ленни, потрясенный тем, как сильно он состарился. Если бы не голос, я бы не узнал его. Кожа на лице висела складками, а вокруг темных глаз набрякла. Его когда-то роскошная шевелюра почти полностью исчезла, а то, что осталось, болталось по бокам длинными седыми прядями, мешаясь с нечесаной бородой. Зато Ленни сиял.
– Это что за дела? – спросил он, словно рассуждая вслух. – Двадцать лет прошло, и ни тебе даже «привет!» – голос его звучал громко, и несколько голов повернулись поглядеть на нас. – Я очень долго ждал этой встречи. Думал, ты мне обрадуешься.
Я подал ему руку для пожатия, изо всех сил стараясь улыбнуться и выговорить «Как дела?».
– Говори погромче! – Ленни обратился к толпе вокруг: – Я не слышу ни слова из того, что он говорит, а вы? – поворотившись обратно ко мне, он произнес: – Что ты там мямлишь? Говорить, что ли, не можешь?
Пока соображал с ответом, я с облегчением увидел, что мать юноши-мицвы уже идет к нам.
– Вот чек, – сказала она, бросив на Ленни косой взгляд и исчезая в толпе. Я вежливо кивнул, принимая бумажку, но через мгновение Ленни выхватил чек у меня из рук.
– Господи! – воскликнул он, держа чек на отлете и щурясь. А следом, склонившись ко мне, прошептал: – Я не ошибся? Ты только посмотри, сколько они тебе заплатили! Да за то, что ты там проделывал?
С меня было довольно. Я забрал у него чек, взял свою сумку и двинулся к выходу.
– Эй, ты куда? – крикнул он.
Я слышал, как он объясняет толпе:
– Он был моим учеником. Я не видел его двадцать лет, а теперь он даже разговаривать со мной не желает!
Глядя через плечо, я видел, что собравшихся вокруг него разбирает такое же любопытство, какое было у них на лицах, когда я стоял на сцене. Оставив Ленни в зале, я преодолел фойе, выбрался из грохота музыки и оказался на улице под дождем. Но спустя минуту я услышал, как меня зовет Ленни. Обернулся и увидел, что он машет рукой и торопливо хромает ко мне.
Я нисколько не хотел общаться ни с Ленни, ни с кем бы то ни было еще, но никуда не денешься. Подождал, пока он, с трудом переводя дух, подошел к машине.
– Джоэл, куда ты торопишься? – спросил он. – Я ждал-ждал, чтобы увидеть тебя, а ты даже здороваться не желаешь.
– Здравствуй, – прошептал я. Он пожал плечами, ожидая продолжения. – Послушай, я действительно… не могу говорить.
– Похоже на то, – закричал он, и, наклонившись ко мне, прошептал: – Что, это какой-то твой секрет?
Капли дождя плюхались ему на лысину.
– Ленни, – просипел я изо всех сил, – я рад видеть тебя. Ты хорошо выглядишь. Я бы… хотел остаться…
Он покачал головой.
– Джоэл, ты врешь. Говорить не можешь, а все равно ухитряешься врать! Я выгляжу черт-те как, а ты просто хочешь убраться отсюда как можно скорее.
Не понимая, как быть дальше, я открыл дверцу и пошел к багажнику, чтобы бросить сумку. Когда я закрыл багажник, Ленни рядом уже не было. Я пошарил глазами по парковке, вглядываясь сквозь завесу дождя, но его и след простыл. Вздохнув с облегчением, я открыл дверцу и вскрикнул. Ленни сидел на водительском сиденье.
Я стоял и безмолвно взирал на него, а он – на меня.
– Ну? – произнес Ленни. – Ты собираешься сесть в машину или будешь стоять под дождем, как мокрая курица?
Он глазел на меня озадаченно, а потом на лице его отразилось понимание, и он кивнул.
– А… Понял. И то дело – лучше ты веди. У меня забрали права. Этот глаз, – он указал на правый, – совершенно слепой.
Ленни перебрался через подлокотник на пассажирское сиденье рядом и пригласил меня сесть, похлопав по водительскому креслу рукой. Как это все нелепо – но я уже промок насквозь. Уселся, размышляя, как бы выставить его вон.
– Не волнуйся, – сказал он, отодвигая свое кресло чуть назад. – Вспомнишь, как туда ехать. Просто езжай.
Поскольку я не отвечал, Ленни раздраженно вздохнул и сказал:
– Ну хорошо, по двухсотвосьмидесятой до трассы семнадцать, на юг до съезда на Бен-Ломонд, под знаком «стоп» – налево. Дальше еще мили три, до грунтовой дороги…
Я сидел, пригвожденный к месту его наглостью. Он мне объясняет, как проехать. Он даже не подумал спросить. Он рассчитывает, что я его подвезу. Его хижина в Бен-Ломонде была отсюда в полутора часах на машине – если не в двух по такому-то дождю, – и мне совершенно не по пути.
Сколько-то я глядел на него, он – на меня. Ленни совершенно не собирался меня оставить, и пока я раздумывал, что делать дальше, до меня вдруг дошло, что отвезти его домой – лучший способ от него избавиться. И, кроме того, как он иначе вообще доберется домой? Сделаю доброе дело, сказал я себе, заводя машину, и, быть может, это доброе дело вернет мне удачу, которой я бы наверняка нашел применение. Вынув мобильный телефон, я позвонил домой и просипел сообщение для Тали, что немного задержусь.
Пока я вел машину, Ленни болтал всякую чепуху. Юноша-мицва, как выяснилось, был его троюродным братом, однако сам он не выносил ни мальчишку, ни его родителей, ни всю их семью.
– Ни один из них не глубже лужи. Но все-таки, – добавил он, ковыряя в зубах, – еда была ничего так.
Его привезла на бар-мицву какая-то родственница, но он за вечер ухитрился поругаться с ней, и этим объяснялась необходимость ехать со мной. Мать юноши звонила ему пару месяцев назад и спрашивала, не расскажет ли он что-нибудь на празднике.
– Но я уже ушел на пенсию. Сказитель-пенсионер. Рассказываю, только когда сам хочу, и в бар-мицвах больше не участвую. Из газет узнал, что ты в Беркли, вот и дал им твои координаты. Так тебе досталось это приглашение.
Он выдержал паузу, словно ожидая моей благодарности. Не получив ответа, пожал плечами и продолжил трещать. Меня это устраивало – мне нечего было ему сказать, да и не мог я перекричать дождь, лупивший по крыше машины.
Ленни перестал выступать на публике почти сразу после того, как я его покинул. С тех пор дела не складывались.
– Ты застал меня в лучшее время, – сказал он сквозь кашель. – Между двумя инфарктами. Двадцать седьмого января прошлого года был первый. Когда будет второй, я не знаю. И потом – этот диабет. Пришлось бросить пить. Ты не возражаешь, если я разуюсь? Ступни ноют, сил никаких.
Я свернул с шоссе и выбрался на грунтовку, ведущую через лес к его дому. Тут он был прав: я действительно вспомнил дорогу, пока подъезжал, во мне воскресло предвкушение, какое возникало, пока я пробирался на велосипеде сквозь туман к его дому летними вечерами. Дожди превратили грунтовку в грязевой поток, и я прокладывал путь между лужами, а Ленни рассказывал о своей жизни. И вот, наконец, его лачуга проявилась сквозь ливень в свете фар – скорее дом с привидениями, нежели памятная мне уютная хижина в лесу. Я вырулил на щебеночную подъездную дорожку. Мы стояли, мотор я не глушил. Ленни, кажется, не обратил на это внимания.
– Ну? – спросил он. – А у тебя как дела?
Молчу.
– Я все рассказал. А ты сидишь и молчишь. Собираешься выложить свою историю или как?
Я постучал по циферблату на приборной доске. Было уже за полночь.
– Да рад бы… в гости, – прошептал я, – но уже поздно. Давай… позвоню?
На лице у Ленни возникло разочарование. Он покачал головой.
– Позвонить мне? С чего бы? У меня и телефона-то нет! Ты не звонил мне восемнадцать лет! – он открыл дверь и шагнул под дождь, бормоча себе под нос: – Все понятно. Я принимаю тебя в ученики, стараюсь натаскать во всем, что знаю о сказительстве, терплю твою наивность – и что прошу взамен? Денег? Признания? Нет, ничего. Просто в один прекрасный день я прошу тебя рассказать мне свою историю – всего одну, – и что получаю в ответ? – он скривил лицо, стиснул горло руками и изобразил мой хриплый шепот: – «Мы… как-нибудь… пообедаем…»
Качая головой, он хлопнул дверцей и зашагал по лужам к дому. Когда он взошел на крыльцо, я вздохнул с облегчением. Злился на него, но, кроме этого, во мне шевельнулось кое-что еще – печаль. Эта встреча заставила потускнеть тот образ, который я так долго хранил, – образ великого рассказчика, сражавшегося с собственной темной стороной. Очевидно, темнота победила. И теперь я буду помнить его жалким стариком, что болтает околесицу под дождем. Подождал с минуту, развернулся и выехал на дорогу, уверенный, что больше не увижу Ленни.
Но, подъезжая к шоссе, я завозился, стало неспокойно. Показалось неправильным бросать все вот так. Когда я вернулся к подъездной дорожке, в доме было темно. Я прошел по грязи к порогу и постоял на крыльце несколько минут, не слыша ни звука. И когда уже было собрался уехать, услышал голос Ленни изнутри:
– Открыто.
Я вошел и увидел его: он сидел на корточках перед печкой и растапливал ее от пустой картонки из-под яиц; картонка ярко вспыхнула. Казалось, мое возвращение его ничуть не удивило.
– Присаживайся, – сказал он, не глядя на меня.
Перед печкой – там же, где всегда, – стояли два кресла. Я выбрал то, что поближе, у которого из подлокотника торчала набивка. Огляделся, насколько мог: кроме печки, светилась лишь керосиновая лампа на столе. В доме вечно царил беспорядок, повсюду лежали книги, на любой свободной поверхности. С тех пор горы книг выросли, и я видел, как их тени качаются в свете печного огня на каменном полу. Пачки старых газет, коробки и старый желтый чемодан. На всем лежала пыль, и, когда огонь занялся, по комнате поплыл ее сухой запах.
Ленни помалкивал, ковыряясь кочергой в огне. Наконец встал и ушел на кухню. Минутой позже вернулся с банкой орешков и двумя стаканами воды. Я уставился на банку, будто в ней притаилась змея на пружине, перевел взгляд на посуду с водой. Мне Ленни предложил простой стеклянный стакан, а себе взял хрупкий розовый бокал для вина, в награвированную полосочку.
– Это еще от моей бабушки, – объяснил он, поняв, куда я смотрю, – красивый, правда? Она его из Польши привезла. Когда-то их было четыре, но остался только один.
Ленни уселся напротив, набрав полную горсть орехов. Некоторое время я наблюдал за ним, все еще сердясь за то, как он повел себя со мной на бар-мицве. Но как бы я ни злился, жалость взяла верх. Мне хотелось ему помочь.
– Так что, ты собираешься говорить? – спросил он наконец. – Или будешь сидеть и таращиться на меня?
– Как… я могу… тебе помочь?..
– Я тебе уже сказал. Я хочу услышать твою историю.
– Мою историю?
– А что еще? – в голосе его послышалось нетерпение. – Послушай, Джоэл, ясно же по твоему лицу, что ты пережил до черта всякого. Я понятия не имею, что с тобой стряслось, но, судя по всему, кто-то добрался до твоего горла и выдрал из тебя душу. Ты в полном раздрае. Но, – добавил он, оглядывая меня с ног до головы, – костюм сидит отлично!
Его последнее замечание до меня дошло не сразу – много лет назад я рассказал ему эту папину шутку, и меня тронуло, что он до сих пор ее помнит. Меня внезапно захлестнуло чувствами. Я смотрел в огонь, а потом взглянул на Ленни – он сидел, широко распахнув глаза, ждал.
– Это… долгая история.
– Вот и хорошо, – сказал он, загребая еще одну горсть орешков, – мне такие нравятся.
– Я не знаю… с чего начать…
– Неважно. Где начнешь, там и начнешь. Ты говори – финал найдется.
Я подбирал слова, подходящие к картинкам, что начали всплывать у меня в голове. В конце концов сдался и стал шептать все подряд:
– Я потерял голос.
– Похоже на то. Дальше.
Фразами по два-три слова я объяснил все, что мог. Это было непросто. Слова жалили мне горло, я хватал ртом воздух, но произносить эти слова мне нравилось все равно. Раз начав, я не мог остановиться, и история рвалась наружу сама. Я болтал и болтал, останавливаясь на каждой полуфразе, чтобы перевести дух, пока не добрался до бар-мицвы.
– Ну а это… ты сам видел.
Лицо у Ленни сделалось совсем не таким, какого я ожидал. На Ленни мой рассказ явно произвел сильное впечатление. Заметив, что я молча смотрю на него, он проворно отвернулся, пошарил где-то под креслом и выудил деревянный сигарный ящик. Порылся в нем, выбирая сигару, откусил кончик, сплюнул его в печку. Прикурил, сделал пару затяжек и опять угнездился в кресле.
– Ладно, – сказал он и махнул рукой, – давай дальше.
Я пожал плечами. Мне было нечего добавить.
Его сигара описала пригласительный круг:
– Дальше давай. Я слушаю.
– Что?
– Я весь внимание. Итак?
– Но это все.
Он потряс головой.
– Нет, не все. История не закончена. Есть что-то еще.
Я опять недоуменно пожал плечами и глотнул воды.
– Ну давай же, в чем соль? – он ждал. – У каждой истории есть своя соль, посыл, мораль. В противном случае нет смысла ее рассказывать. Так в чем же соль?
– Никакой соли.
– Нет, соль есть. Должна быть.
Я повозился в кресле.
– Смотри, вот тебе соль. Жизнь дала тебе под зад, – он выдохнул кучерявое дымное кольцо. – Это уже случилось, так? – он показал сигарой на дверь. – Когда ты вышел за эту дверь, давным-давно, я знал, что ты вернешься. И ты вернулся, голову повесив и поджав хвост.
Я так обалдел, что уставился на него, не зная, что и сказать. А затем со стуком поставил свой стакан и собрался уходить.
– Что, опять убегаешь? – выкрикнул он, пока я шел к двери. – Не нравится тебе правда?
– Мне не нравишься… ты!
– Может быть, – хмыкнул он, – но я тебе нужен.
– Чепуха, – я пытался крикнуть, стоя в дверях, но издал только писк.
– Нужен-нужен, – сказал он, не обращая внимания на мои протесты, – потому что без меня ты станешь мной.
Я оглянулся и увидел, что Ленни встал, лицо у него горело. Его слова походили на проклятие – еще одно проклятие поверх всех, какие я уже насобирал за последние месяцы. Я ступил за порог и услышал, как Ленни выкрикнул одно-единственное слово:
– ОДНАЖДЫ!
Я ждал. Он произнес его снова, спокойнее:
– Однажды… – и в третий раз, почти шепотом: – Однажды… – долгая пауза. – …на краю леса стоял дворец.
Я ждал.
– Это был прекрасный дворец. Во дворце жил принц. У него была счастливая жизнь, но ему постоянно говорили, с самого детства, чтобы он ни за что не ходил в лес, потому что лес заколдован. «Пойдешь в лес – потеряешься, – говорили ему родители, – и мы не сможем тебя отыскать». И потому принц всю жизнь следовал совету и в лес не ходил.
Меня словно втянуло обратно в дом и дальше – в саму эту историю.
– Однажды солнечным днем, когда принц гулял по опушке леса, любопытство взяло верх. Ну что случится, если он заглянет в лес всего лишь одним глазком? Даже на опушке слышны были странные и чудесные звуки, мелькали птицы с изумительным оперением. Принц прошел всего пару шагов в глубину леса и по берегам бурлящих ручьев заметил деревья, увешанные плодами, каких он никогда не видел. Его влекло все дальше и дальше, и через несколько часов настала пора возвращаться. И только тогда понял он, что окончательно заблудился. Испугавшись, принц забегал с одной тропы на другую, пытаясь разглядеть собственные следы, но все напрасно. Той ночью он, одинокий и напуганный, заснул в лесу. На следующий день возобновил свои скитания, безнадежно пытаясь найти выход. Искал весь день и на другой день тоже, но не мог выбраться. На закате третьего дня принц отчаялся. И когда уже был готов проститься с последней надеждой, заметил древнего старика. «Слава богу, я нашел тебя! – воскликнул принц, бросаясь ему навстречу. – Не могу найти выход. Я заблудился в этом лесу три дня назад». – «Три дня? – расхохотался старик. – Я заблудился здесь три года назад». Надежда в принце угасла. «Ну тогда ты мне ни к чему», – сказал он. «А… тут ты не прав, – ответил старик. – Потому что, пусть и не знаю я пути из леса, мне известны сотни путей, которые точно никуда не ведут. Пойдем, вместе мы найдем дорогу».
Я обнаружил, что опять сижу напротив Ленни.
– Ты рассказал мне, что произошло, – проговорил он тихо, – но ты не сказал мне почему.
– Я… не знаю… почему.
– Конечно, не знаешь. А без этой причины нет никакой истории. Горе одно. Горе без всякого смысла. Простого страдания мне хватило. Выше крыши. Мир полон им до краев, а если оно вдруг кончается, достаточно газету почитать.
– Но… ты знаешь… почему?
Ленни задумчиво пожал плечами.
– Вот что я знаю: жизнь – суровый учитель. Сперва предлагает тебе экзамен и лишь потом – урок, – Ленни склонился к моему уху, заговорил мягко: – Смотри, Джоэл. Я тебе сочувствую. Правда, сочувствую. Вижу, что тебе досталось. И у меня нет ответа, а всего лишь еще один вопрос. Так вот: готов ли ты извлечь урок из того, что с тобой приключилось?
Я подумал с минуту и кивнул.
– Все это чертовски хорошая штука. Потому что до сих пор ты был, как тот парень в монастыре, – сказал Ленни и улыбнулся. Я не уловил намека и ждал продолжения. – Ты только и делал, что ныл и жаловался, с самого начала.
Он потушил сигару. Выбравшись из кресла, пошарил в шкафу и извлек оттуда одеяло.
– Я вымотался, – сказал он, указывая мне на диван. – Поспи-ка ты здесь, а? Утром потолкуем, – с этими словами он ушел к себе в комнату и закрыл дверь.
Лишь тогда я вспомнил, где нахожусь и который теперь час. Включил мобильный – телефон мерцал полудюжиной сообщений – и набрал номер Тали, она ответила мне, сонная и взбешенная, но все же вздохнула с облегчением, узнав, что я не валяюсь мертвый где-то в придорожной канаве. Я сказал, что дома буду завтра.
Повесил трубку и пристально оглядел комнату – книги, догорающий огонь, стол, мой полупустой стакан и розовый бокал Ленни рядом.
Я лежал без сна на диване, в спину мне впивались пружины. Я ворочался и возился, пока наконец не устроился удобно. И когда все же приблизился к кромке дремы, я услышал громкий рык. Меня охватил приступ ужаса, я сел, но погодя понял, что это за дверью храпит Ленни.
Не в силах заснуть, я лежал и думал о нем – и о том, как странно было для меня снова очутиться в его доме. Я вернулся к его вопросу: есть ли какая-то причина, почему я все это переживаю? Вопрос заманчивый – не получая никакого ответа, я задавал его себе месяц за месяцем. И все же, услышав его, я вновь задумался. Ленни, похоже, не сомневался, что причина есть – объяснение, благодаря которому все это обретет смысл.
Может, так все и есть? Все, что происходит в жизни, имеет свои причины? Задаваясь этим вопросом, я принялся составлять список событий, которые ну никак не могли иметь причин: массовые смертоубийства, ужасные шальные болезни, жестокие несчастные случаи. Список рос. Но чем длиннее он становился, тем сильнее мне хотелось верить в смысл.
Дождь прекратился, слышно было лишь, как случайные капли падают с деревьев на крышу. Ленни тоже перестал храпеть, и до меня донеслось пение птиц. Я выглянул в окно и разглядел сквозь ветви деревьев лоскуток неба, пылавший пурпуром, какого я никогда прежде не видел.
– Завтрак подан.
Я услышал глухой стук. Открыв глаза, увидел глянцевитый бейгл в паре дюймов от собственного носа. Снова закрыл глаза.
– Друг мой, все просто. Либо так тебе жизнь говорит: «Да пошел ты!», либо, может… – тут он надолго примолк, а я открыл глаза, глянув поверх бейгла на Ленни. Сосредоточившись на нем, я понял, что выглядит Ленни даже хуже, чем прошлой ночью: бледное, опухшее тело в майке и трусах, ноги, такие избитые и тощие, что вообще непонятно, как они его держат.
– …может, – наконец продолжил он, – тебе достался подарок всей жизни.
– Что? – выдавил я.
– Не может ли быть так, что твоя потеря голоса – это лучшее событие в твоей жизни?
Я вперился в него, потеряв дар речи совсем уж напрочь. Подарок? О чем вообще речь? Я не соображал, который час, но, наверное, довольно рано. Кое-как уселся и уставился на бейгл. В том же порядке, в каком в голове без всякой особой причины всплывают строки из песен, я не смог вспомнить ничего лучшего, чем одно из любимых высказываний моей матери: «Бейгл – это пончик, который отучился в колледже». Я взял его в руку. Холодный. Я откусил немного. Внутри – ледяной.
– Видишь? – спросил Ленни.
Голова болела, поясница ныла, вероятно, из-за того, что я заснул-таки на пружине. Рядом с бейглом стояла чашка кофе, от одного взгляда на который становилось холодно. На поверхности плавали бурые хлопья.
– Зачем, – сказал он снова. – Ты хочешь знать, зачем все это с тобой происходит, да?
Я кивнул.
– Ну это же очевидно, – произнес он. Я ждал продолжения, и Ленни, поняв, что он полностью завладел моим вниманием, вдруг умолк. – Или во всяком случае станет очевидно, когда ты будешь готов. Но пока ты еще не готов.
– В каком… смысле?
– Потому что это правда, а правды ты боишься.
Я посидел, жуя бейгл и раздумывая, какого черта он имеет в виду.
– Правда, – повторил он. – Вся правда, настоящая правда, и ничего, кроме правды с большой буквы «П». Правда сделает тебя свободным, – он говорил как проповедник старых истин. – Как раз поэтому мы и рассказываем истории, не понимаешь, что ли? История есть не что иное, как золотая ложь, гласящая правду.
Крыть мне было нечем.
– Так было задумано во всяком случае. Но ты… ты бегаешь от правды. А теперь тебе придется развернуться и бежать в обратную сторону. Гонись за ней! Ищи правду в темных местах, куда тебе особенно не хочется идти.
Ленни выдержал паузу, и мне показалось, что он наконец договорил. Но через миг у него на лице возникла широкая ухмылка:
– Слушай, – произнес он, – а я рассказывал тебе когда-нибудь историю о поиске правды?
Поиск правды
Родина истории – Индия
Жил-был когда-то человек, который отправился искать правду. Он обошел весь мир в ее поисках, расставшись со всем в своей жизни – с пожитками, семьей, домом: все – ради поиска правды.
После многих лет странствий дорога привела его в Индию, где он услышал рассказы о далекой горе. На вершине той горы, как говорили люди, найдет он место, где обитает правда.
Человек искал много месяцев, пока не нашел ту гору. Несколько дней взбирался и вот наконец оказался у входа в пещеру. Крикнул человек во тьму, и минутой позже до него долетели звуки старческого голоса:
– Чего ты хочешь?
– Я ищу правду.
– Что ж, ты нашел меня.
Он вошел в пещеру и там, в самой глубине, увидел склонившуюся над огнем самую чудовищную старуху из всех, каких видал он за жизнь: глаза навыкате, один больше второго, все лицо в буграх. Кривые зубы торчали у нее изо рта, длинные спутанные волосы свисали грязными прядями.
– Ты? – спросил человек. – Ты и есть правда?
Она кивнула.
Хоть и потрясенный ее видом, человек остался с ней и, выяснив, что она действительно была правдой, прожил в той пещере много лет, учась у нее. И вот, когда он, наконец, собрался уходить, спросил, как отплатить ей за все, чему она его научила.
– Прошу тебя лишь об одном, – ответила она, – когда вернешься в мир, говори всем, что я молода и прекрасна!
Глава 5 Поиск правды
Есть истории, от которых тепло и уютно, а внутри остается ощущение, что в мире все устроено правильно. Есть такие, от которых смешно. А есть те, с которыми непонятно, что делать, – такие проникают в душу, словно мышь, съеденная змеей заживо. Как раз это случилось с историей о поиске правды.
Я не понимал, как с ней быть. Я не знал, как быть с Ленни. По правде говоря, в то утро я ехал вдоль побережья от Санта-Круза к Беркли и не знал, как мне вообще быть со всем этим.
Потому-то я и решил ехать по автостраде № 1, что обегает лентой весь калифорнийский берег, прокладывая путь между обрывистыми скалами на востоке и буйным Тихим океаном на западе. Этот путь домой дольше того, которым я добирался до вчерашнего концерта, но он ослепительно прекрасен: вот где лучше быть тому, кто совершенно сбит с толку.
Этот отрезок дороги я проезжал много раз и никогда не уставал от него. И хотя в то утро дождя не было, я чувствовал, что надвигается шторм: шквалы ветра налетали ниоткуда и были такими сильными, что задирали дворники и плюхали ими по лобовому стеклу. На скале надо мной я заметил одинокую юкку, отчаянно цеплявшуюся за жизнь, и прямо над ней – колибри: птица слетала, взмывала и вновь устремлялась вниз.
Я думал о том, как не раз и не два ездил этой дорогой, и вспомнил любимое музыкальное произведение, какое всегда приберегал для этого участка пути, – «Кельнский концерт» Кита Джаррета. Покопался в ящике с кассетами, выудил ту самую, пусть и с отклеивающейся уже этикеткой. Сунул ее в магнитолу и услышал все те же чудесные первые фортепьянные аккорды.
Кит состарился плоховато – кассета, должно быть, успела подмокнуть. Некоторые части концерта звучали громче, другие же были едва слышны. Но я все равно слушал кассету, проезжая мост, нависающий над океаном между несущимися облаками надо мной и ревущими волнами внизу.
Вновь задумался я над историей Ленни. Как он хохотал, когда рассказывал ее, а потом указал мне на дверь, словно выдворяя вон. «Говори всем, что я молода и прекрасна!» Он произнес эту реплику дважды. Что бы это значило? Правда – сама врушка? Или она и впрямь прекрасна? Или же Ленни молод и прекрасен?
Так увлекся я этим вопросом, что не заметил, как Кит окончательно затих – остался лишь тихий мышиный писк. Я глянул вниз и увидел перепутанную жеваную бурую ленту, она перла из приборной доски. Моя магнитола прожевала и сплюнула Кита.
В любой другой миг жизни я бы расстроился, но теперь места для расстройства во мне больше не осталось. Я смотрел, как пленка собирается в клубок у меня под ногами. Ленни, бессонная ночь, бар-мицва, прошедшие месяцы, смутное эхо собственного голоса, звеневшего у меня в голове, – не развернешься. Мозг переполнился.
Я съехал на обочину, вышел из машины, и морской ветер наполнил мне легкие. Далеко внизу волны разбивались о скалы, швыряя вверх соленые брызги, они приятно освежали лицо. Оставалось лишь впитывать все это. Великого откровения не случилось. Но что-то все же сместилось: я пересек черту между потерянностью и оторопью. И это приятное чувство – оторопь – изнутри та же потерянность, но обернутая в ощущение чуда.
Я перешел через дорогу и спустился на тропу, которая вела к линии прибоя, туда, где между бьющимися волнами и скалами образовались лужицы соленой воды, над ними носились чайки. Заметил темное пятно, на высоте футов двадцати, в отвесной скале, увешанной упрямым ледяником. Вскарабкался по камням и нашел вход в пещеру; она была больше, чем могло показаться снизу, свод высокий, можно войти в полный рост. Сначала расщелина шла прямо, а затем свернула направо. За поворотом шум ветра и океана затих, а через несколько шагов наступила полная тишина. В глубине нашлось сухое местечко и даже какой-то выступ вроде скамейки у стены. Я сел. Как раз такое и надо. «Итак, – сказал я себе, – я готов».
К чему готов, я понятия не имел. Но меня словно что-то притянуло в это место. В конце концов, в пещерах часто происходят чудесные вещи. Тот человек, из истории, нашел правду в пещере. Люди прячутся в пещерах. Я вспомнил библейскую историю о Давиде, которую слышал еще ребенком. Он убежал от солдат царя Саула, приказавшего убить Давида. Тропа привела Давида в Эйн-Геди – изобильный оазис на берегу Мертвого моря. Спасая свою жизнь, он нырнул в пещеру – едва ли достаточно глубокую, чтобы скрыть его, но это было единственное убежище, какое удалось найти. Пока Давид лежал, вжимаясь в тени камней, он увидел крошечного паучка у входа в пещеру – тот плел свою паутину. Несколько минут спустя, когда солдаты царя проходили мимо, Давид слился со скалой и затаил дыхание. Услышал, как солдаты говорят снаружи пещеры:
– Он должен быть где-то здесь. Ты осмотрел пещеру?
– Брось. Его там нет. Смотри: тут паутина прямо у входа – он бы порвал ее, если бы забрался внутрь.
Солдаты пошли дальше, а Давид продолжал сидеть в полной тишине. И тогда до него донесся тихий, еле различимый голос. То был голос Бога – не громоподобный глас, какой слышно в разрядах молний сквозь прореху в тучах, а тот, что звучит лишь в тишине. Голос обещал, что Бог всегда пребудет с ним. И всю свою жизнь потом этот голос вел его, вдохновляя Давида на псалмы, и помогал ему, когда Давид потерялся.
Мне хотелось услышать такой голос. Тот тихий, едва слышный голос. Хотел, чтобы он донес до меня свое послание, которое я пропустил, то, которое так очевидно для Ленни. Хотя бы одно слово правды. Хотя бы что-нибудь. Простое «привет». «Ну же, – думал я снова и снова, – я готов».
Я чувствовал, как обращаюсь в слух. Стиснул зубы и сидел совершенно неподвижно. Слышал, как где-то в самой глубине пещеры капает вода. Затем вновь тишина. Скоро у меня в голове зазвучали голоса, самые обычные, комментирующие и критикующие, и я поспешно приструнил их, чтобы не заглушили тот самый, тихий, едва слышный голос, который я так отчаянно желал уловить.
Просидел я так довольно долго. Смог услышать биение собственного сердца. Время от времени до меня доносились звуки падающих капель, но в остальном – полная тишина.
Не раздался в той пещере тихий голос. Я вышел наружу, к свету, он показался ослепительно ярким, и, пока я шел к машине, начался дождь.
Я приехал домой, ожидая, что Тали встретит меня в ярости – с полным правом на это, поскольку я бросил ее с ума сходить, где это меня носит глухой ночью. Тали обнаружилась на беговой дорожке – она шагала на большой скорости. Не сбавляя хода, прочла мне целую лекцию, с подробностями картин, какие мелькали у нее в голове, – в том числе и мутные воды, плещущиеся вокруг моего бренного тела в придорожной канаве.
За лекцией последовал глубокий вздох. Это был длинный медленный выдох, Тали покачала головой.
– Джоэл, – наконец произнесла она, – пока лежала вчера вечером в постели, ожидая тебя, я кое-что поняла. Месяцами я ждала вопреки всему, что голос у тебя восстановится. Я так больше не могу, – она поставила беговую дорожку на паузу, и та замерла. – Я люблю тебя, дети любят тебя, но пришло время двигаться дальше. Без голоса.
Сказанное Тали было совсем не тем, что я хотел услышать. Нет, я хотел услышать тот самый тихий, еле слышный голос и прощаться с надеждой не собирался. Я продолжал жить день за днем, ища знаки. Стригся и слушал болтовню своего парикмахера – быть может, он мой вестник? Искал подсказки в очертаниях облаков и знамения в тенях. Покупал лотерейные билеты раз в неделю, полагая, что с меня довольно было неудач и фортуна уже на пути ко мне. Открывал газеты наобум, зажмуривался и тыкал в какое-нибудь слово, рассчитывая, что наконец загорится лампочка. Носил свою счастливую фуфайку. Где бы ни был, всюду искал предзнаменования. Колибри вроде той, что я видел на автостраде № 1, всегда были моим талисманом, и когда б я ни встречал их – всякий раз принимал это за хороший знак.
И вот как-то ночью где-то через неделю я просто устал ждать. Тали и дети спали, и мне показалось, что я взорвусь, если не сделаю хоть что-нибудь. Придя на кухню, я увидел гору грязной посуды. И пусть посуду я мыть не любил, сейчас это оказалось самым подходящим занятием. Начал с простого – со стаканов и тарелок, а потом занялся более заковыристым – кастрюлями и сковородками. Наполнил раковину мыльной пеной и снова задумался над своим визитом к Ленни.
Правда. Ленни сказал, что я убегаю от правды. Надо обернуться и посмотреть ей в лицо. Допустим. Но что же тогда это за правда, которой положено быть юной и прекрасной, спрашивал я себя, отскребая что-то пригоревшее от противня. Правда состояла в том, что я лишился голоса. Тали была права. Нерв, управлявший моими голосовыми связками, не парализован. Он мертв. Прошло уже почти четыре месяца после операции. А голос все не возвращается. Окно возможности закрылось.
Такова была правда, простая и бесхитростная, и она была далека от прекрасной. Я тер сковородку, которая, по моей памяти, никогда не была абсолютно чистой. Без голоса дни сказительства кончены. Ничего не попишешь. Почти забавно: я сделал своей профессии вплетение всего, что бы ни послала мне жизнь, в свои байки – так жонглер крутит тарелки на тростях. Но теперь, когда я вдруг остановился, все начало падать и рушиться, посыпалось в мойку, забитую посудой. Без голоса мне вить истории не успешнее, чем мельниковой дочери из сказки «Румпельштильцхен» прясть золото из соломы.
Путешествовать по миру и рассказывать истории – то была мечта, за которой я следовал почти двадцать лет. Долгий путь, а теперь он завершился – завершился так же, как скрипичная игра моего отца и журналистика матери. Я как-то прочел, что средний возраст – это когда перестаешь беспокоиться о том, что станешь, как родители, и обнаруживаешь, что в действительности стал, как они. В ту ночь, у кухонной мойки, я вошел в свой средний возраст.
Я вычистил желтый заварник Тали, который вообще-то не требовалось чистить, и вспомнил свой выпускной вечер. Одна выпускница обратила к нашему классу глаза, полные слез, и сказала: «Это были лучшие годы нашей жизни».
«Боже упаси», – сказал я тогда. Мысль о том, что жизнь будет двигаться по нисходящей, начиная с окончания школы, показалась мне кошмарной. Та школьница ошиблась – с тех пор жизнь становилась только лучше. Но теперь, кажется, все покатилось под горку. Я больше не был тем замечательным отцом, каким всегда мечтал быть, не был я даже и просто хорошим. Почти все время я ворчал, срывался и мало чем отличался от собственного отца, когда тот болел. Ощутил себя виноватым донельзя и принялся оттирать горелки на плите.
Подвел я не только детей. Подвел и Тали. Я вспомнил день нашей свадьбы. Это была традиционная еврейская церемония, и в конце ее ребе обернул бокал салфеткой и произнес:
– Пусть это напоминает вам о том, что надо обращаться друг с другом бережно, – поставил бокал на землю. – Ибо в жизни кое-что хрупко, как этот бокал. Сейчас вы его разобьете, и пусть это напоминает вам: кое-что, разбив, не починишь, – я наступил на бокал, все вокруг завопили: «Мазл тов!» И вот, не прошло и десяти лет, как наш бокал хрустнул.
Вот она, правда, простая и бесхитростная, – от нее-то я и увертывался так старательно. И не было в ней ничего прекрасного. На деле она была старой и безобразной, и чем больше я на нее смотрел, тем непригляднее она становилась.
Но вот что я обнаружил: чем дольше я оставался с правдой, тем чище становились тарелки. Я включил горячую воду, такую горячую, что едва мог терпеть, и вспомнил одну дзэнскую историю, которую читал раз десять, но все равно не мог понять. Ученик в поисках просветления навещает дзэн-мастера. Ученик знает, что должен, согласно традиции, сперва дать сказать мастеру, но мастер вообще не произносит ни слова. Они довольно долго сидят в полной тишине. Наконец мастер предлагает ученику плошку риса, и они молча едят. И вот мастер заговорил:
– Ты доел? – спрашивает он.
– Да, – отвечает ученик.
– Тогда помой плошку.
Вот и вся история. Я всегда находил ее какой-то недосказанной, но теперь, пока оттирал пригоревшие пятна от плиты, история обрела законченный смысл. Бывают времена, когда делать больше нечего – только мыть посуду. Проще некуда. Мы ждем колоколов и труб, фейерверка и фанфар, но стоит добраться до самой правды, она иногда оказывается очень простой.
За несколько лет до этого, когда я ездил по Аляске, рассказывая истории, меня потрясли ледники. До тех пор я не знал, какие они, эти ледники – широкие, застывшие реки льда, что соскребают все до камня на своем пути. Каменное ложе подо льдом – вот что такое правда.
Было еще кое-что в этой дзэнской истории: ощущение завершенности. Закончил есть – должен помыть посуду. Как раз то, что мне было необходимо, – завершение. Окончание всего.
– Твоя шляпа? – сказал Ленни, когда я вручил ее ему. Прошло мгновение, прежде чем он узнал ее. – Та самая, которую я тебе подарил. И теперь ты возвращаешь ее? Почему?
Я вздохнул.
– Со мной все кончено.
Стояло позднее субботнее утро ноября, и воздух был холоден и свеж. Я замер на крыльце, слушая собственное дыхание, и ждал ответа Ленни.
Он разглядывал шляпу: за годы она выцвела от угольно-серого оттенка до пепельного, с тенью тьмы там, где лента вокруг тульи ослабила хватку. Кожаная оторочка внутри износилась, шелк потускнел. Ленни перевернул ее, держа на весу, словно взвешивая, а потом жестом пригласил меня войти.
Я занял место перед печкой в своем любимом кресле с торчащей набивкой и рассказал Ленни все, что произошло за те несколько недель с тех пор, как мы повидались. Про пещеру и про посуду. Когда я закончил, Ленни снова оглядел шляпу.
– Так что, возвращаешь ее?
Я кивнул.
– Уверен? – он протянул ее мне, но я не взял. – Хорошо. И что теперь?
Я не знал. И уже скучал по шляпе. Она была со мной во всех моих странствиях. Старый друг. Я было потянулся за ней, но Ленни отдернул руку.
– Ничто не весит больше, чем ложь, – сказал он. – А эту ты какое-то время таскал, – я кивнул. – И вот, наконец, ты готов принять, что твои сказительские деньки подошли к концу, верно?
Я кивнул. Хоть самому себе я и говорил те же слова, мне все равно больно было слышать их от него.
– Время двигаться дальше, верно?
Я снова кивнул.
– Хорошо, – сказал он, – вот теперь ты готов начать.
– Что?
– Рассказывать истории, – его слова не имели никакого смысла, но лицо было ясным.
– Но…
– Что – «но»?
– Я не могу… говорить.
– Я знаю, – сказал он. – Но истории – это не слова, которые ты произносишь. Когда у тебя внутри есть история, ты становишься книгой, история сквозит через тебя. А слова… – тут он махнул рукой пренебрежительно. – Это всего лишь комментарий.
Я вытаращился на него. Белиберда какая-то.
– Но это… нелепо, – выдавил я наконец.
– Ладно, – сказал он. Не говоря больше ни слова, встал и отправился на кухню.
Я прождал несколько минут, не понимая, уехать мне или остаться. Это все? Он закончил на сегодня? Я прислушался к звукам из кухни, но ничего не услышал. Когда, наконец, решил уходить, Ленни окликнул меня из кухни.
– Все потому, что твоя потерянность – это все, что у тебя есть, – сказал он словно в ответ на вопрос, который я не задал. Ленни появился минуту спустя с подносом, на подносе стояли сине-белый китайский чайник, чашка и блюдце. А еще – розовый бокал с водой. Ленни поставил бокал на стол перед собой, а чашку и блюдце – передо мной. Не говоря ни слова, принялся нарочито медленно лить мне крепкий черный чай. Я приметил, как едва заметно дрожит у него рука; чашка наполнилась до краев. Но Ленни не прекратил наливать. Чай полился через край на блюдце.
Я замахал руками, показывая на чашку, но Ленни не остановился.
Чай заполнил блюдце и потек по столешнице, а потом и на каменный пол.
– Ленни! – я пытался крикнуть, но мой голос скрипнул и исчез.
Продолжая лить, он сказал:
– Как ты можешь научиться чему бы то ни было, когда голова твоя уже и без того полна?
Наконец, я понял. Это была еще одна история – та, которую он мне рассказал несколько лет назад. Один западный философ, посетивший дзэн-мастера, попросил его объяснить суть дзэн. Мастер ответил ему в точности так же, как Ленни – мне.
– Я сказал тебе в тот день, когда мы встретились… – Ленни все еще продолжал лить чай, нимало не заботясь о луже, разливавшейся на полу. – …чтобы ты не тратил времени на поиски ответов, – он наконец-то поставил чайник и снова раскурил сигару, которая успела потухнуть. – А понял вот что: ответы приходят, когда готовы к этому. Чем труднее вопрос, тем проще ответ. В твоем случае ответ будет вообще в одно слово. Но нет никакого смысла гадать. Слово само по себе может быть бессмысленным. Для начала тебе надо влюбиться в вопрос: «Почему я потерял голос?» – он улыбнулся. – Думай об этом, как о… загадке.
Ленни всегда обожал загадки, которые называл «голыми историями», и вгрызался в них, как собака вгрызается в кость. «В сердце любой истории, – говаривал когда-то он, – всегда есть загадка».
Я вспомнил, как во время моих посещений он осыпáл меня странными загадками, не имевшими смысла.
– Зеленое, висит на стене и свистит. Что это? – спросил он как-то.
Я поразмышлял над вопросом, но вскоре сдался.
– Сдаешься? Селедка!
– Но селедка не зеленая.
– А она крашеная.
– Селедка не висит на стене.
– А ее прибили гвоздями.
– Но она не свистит!
– А! – в голосе у него звучал триумф. – Эту деталь я добавил, чтобы усложнить задачу.
Загадки его были полным абсурдом, но я всегда хохотал над ними. И вот он снова взялся за свое, говоря загадками, как будто в них был особый смысл.
– Но именно так обстоят дела, – сказал он, гоняя воду в бокале. – Обычно ответ прямо перед носом, он настолько очевиден, что ты его не видишь. И никогда не увидишь, пока не будешь сыт по горло вопросом, – Ленни выдул облачко дыма. – Но пока будешь только просеивать песок.
– Песок? – я окончательно растерялся.
Он кивнул:
– Как пограничник. Знаешь эту историю?
Пограничник
Родина истории – Австрия
С лучилось как-то, что швейцарский пограничник служил на австрийской границе. Служил много лет подряд и изрядно гордился своей работой.
Однажды утром к границе на велосипеде подъехал австрияк. На переднем багажнике велосипеда было прикреплено полное ведро песка. Какой-нибудь другой пограничник взял бы да пропустил его – но только не наш швейцарец. Он принес специальные грабельки, которые держал специально для таких случаев, и начал гонять ими песок в ведре. Он, видите ли, подозревал, что австрияк – контрабандист. Ничего не обнаружив, пограничник пропустил австрияка.
То же произошло и на следующий день, и далее. Каждый раз, не находя ровным счетом ничего, швейцарский пограничник все равно продолжал прилежно проверять.
Так продолжалось тридцать лет. И вот однажды этот пограничник обратился к австрияку.
– Я должен задать вам вопрос, – сказал он, – у меня из головы не идет много лет. Сегодня я работаю последний день. Ухожу в отставку. Все эти годы я подозревал, что вы контрабандист. И вот решил все-таки спросить – вы контрабандист, верно?
Австрияк помедлил, но швейцарец уверил его:
– Не беспокойтесь, я даю вам слово чести, что не буду преследовать вас по закону. Но мне надо знать.
– Ладно, – сказал австрияк, – раз так, скажу вам правду – я действительно контрабандист.
– Ага! – воскликнул пограничник. – Я так и знал! Но каждый день, просеивая ваше ведро с песком, я ничего не находил. Скажите же мне, что вы провозили?
– Велосипеды.
Глава 6 Пограничник
– Это самое трудное, – говорил Ленни, расхаживая по комнате и помахивая сигарой, – увидеть то, что у тебя прямо перед носом. Бог свидетель, я потратил бóльшую часть жизни на поиски просветления на вершинах гор – и вот я здесь, там же, где и начал. Все по кругу, – и, чтобы подчеркнуть сказанное, он попытался выдуть колечко из дыма, но безуспешно. – Скажи, – обратился он ко мне, – ты знаешь, как Микеланджело выбрали для росписи Сикстинской капеллы? – я понятия не имел. – Он выиграл конкурс. Папа римский решил, что своды капеллы должны быть расписаны величайшим художником своего времени. Не забывай, что это все происходило в эпоху Возрождения, и кругом болталось множество великих художников: Боттичелли, Донателло, Леонардо. Папа римский отправил епископов по всей Италии, чтобы те собрали по образцу лучших работ каждого художника. Добрались они, разумеется, и до знаменитого Микеланджело. Он мог бы дать им любую свою работу, все они были чудесны. Но он, услыхав, для чего они собирали образцы, достал большой чистый холст и кусок угля. И прямо у них на глазах изобразил огромный круг и вручил этот рисунок епископам… Они не понимали, какой смысл в этом круге, но все равно привезли его папе вместе со всем остальным. Папа осмотрел все картины по нескольку раз, но всякий раз возвращался к тому самому кругу – было в нем что-то примечательное. В конце концов папа уже не мог смотреть ни на что, кроме этого круга. Измерил его и поразился: круг был безупречен. Совершенно безупречен… Жизнь такова – это идеальный круг. И наша задача – рисовать его вновь и вновь на бескрайнем чистом холсте. Нет ничего сложнее и ничего проще. Начинаешь в некой точке, двигаешься по кругу и рано или поздно возвращаешься в ту же самую точку, – Ленни медленно обвел круг правым указательным пальцем. – Самое трудное – это когда ты на середине. Не знаешь, что делать дальше, куда идти – вперед или назад. Как с тем парнем, который плывет через реку, на полдороге вдруг решает, что до другого берега далеко, и поворачивает назад. Но, видишь ли, в жизни пути назад нет.
Ленни открыл дверцу печки, и я ощутил внезапную волну огненного тепла. Он подобрал кочергу, потыкал в поленья. Показалось, он собирается подкинуть еще дров, но Ленни потянулся через стол, взял шляпу и… сунул ее в огонь. Я порывисто дернулся, чтобы выхватить ее, но осекся. Кочергой Ленни затолкал ее подальше, а потом закрыл дверцу.
Я сидел пригвожденный к креслу и наблюдал, как пламя объяло мою шляпу. Потихоньку она затлела, наполняя печку синеватым дымом, внезапно верх ее жарко вспыхнул.
Я наблюдал за этим зрелищем несколько минут, а потом посмотрел на Ленни, глядевшего на огонь: лицо его было таким же печальным, как мое.
– Умение отпускать, – сказал он мягко. – В ней вся жизнь. Мы рождаемся, крепко стиснув кулачки. А когда умираем – разжимаем ладони, – Ленни вытянул вперед правую руку ладонью вверх. – Стоит уметь умирать, поэтому полезно учиться понемногу каждый день.
Мы сидели в тишине, глядя на огонь, пока от шляпы ничего не осталось.
– Скажи, – обратился он ко мне, – ты слыхал историю Кортеса? О том, что он сделал в первую очередь, когда добрался до Нового Света?
Я все еще смотрел на то место, где была моя шляпа, и так от всего этого опешил, что и ответить не смог. Но ту историю я знал – сам ее часто рассказывал.
– Он сжег корабли. Все до единого, – сказал Ленни. – И знаешь почему?
Я кивнул, радуясь, что могу ответить хоть на один вопрос.
– Чтобы… его… люди… не повернули назад.
На лице у Ленни отразилось нешуточное потрясение. Я было подумал, что у него, наверное, второй инфаркт, но потом заметил, что он качает головой и вздыхает, и потрясение сменилось разочарованием.
– В чем дело?.. – начал я.
– Никогда так не поступай, – ответил он. – Никогда.
– Что…
– Даже если ты слышал историю миллион раз, никогда не делай вывода, будто ты ее знаешь. И никогда не выбалтывай конец.
Я кивнул, хотя все равно ничего не понял.
– Никогда не знаешь, что может выкинуть история. И никто не знает, что ты в ней мог упустить, – Ленни смотрел так, будто искал что-то у меня внутри.
– Что ж, – сказал он, – ты так и не ответил на мой вопрос. Ты собираешься отвечать?
– Что?
– Не «что», а «зачем». Ты знаешь, зачем хочешь рассказывать истории?
У меня не было ни малейшего представления, о чем вообще речь. Я ни слова не вымолвил о том, что хочу рассказывать истории. А потом до меня дошло. Он имел в виду тот самый вечер двадцатилетней давности, когда я впервые постучался к нему. Но говорил он так, будто время остановилось.
– Потому что без этого ответа мы топчемся на месте, – сказал он. – Найдешь ответ – возвращайся.
И вновь Ленни обвел меня вокруг пальца. Я пришел к нему объявить, что покончил со сказительством, а в итоге он говорит мне, что все только начинается. Пришел к нему с готовым ответом, а он снова предъявил мне вопрос, всплывший из далекого прошлого.
Почему я когда-то хотел рассказывать истории? Я попытался вспомнить. Это был вопрос, который задавали мне десятки раз и слушатели, и журналисты, и просто люди, с кем я знакомился и кому говорил, что я сказитель. У меня было припасено с дюжину готовых ответов, но теперь все они казались поверхностными и бездумными.
Правда же состояла в том, что я рассказывал истории, сколько себя помнил, начиная с тех, которые выкладывал матери. А прежде были и другие истории, но их я не желал слушать. Их рассказывала моя бабушка, крупная, бледная женщина, седовласая и с выражением ужаса на лице. Бывало, она по утрам спала на искусственной травке на веранде перед домом, под боком – тарелка с блинчиками. Такая умиротворенная в такие минуты, вечно в одном и том же платье – коричневом в белый горошек, тело пухлое, рядом очки. Мы перешагивали через нее, отправляясь в школу, стараясь не разбудить, – стоило ей проснуться, как она принималась вопить:
– Где ваш отец? Газовщики! Сделайте же что-нибудь! Они преследуют меня! Они мечут в меня газ!
– Бабушка, нет никаких газовщиков, – говорили мы. – Такого не бывает.
– Они преследуют меня! Они мечут в меня газ!
Мы пытались урезонить ее:
– Газ нельзя метать.
– Ша! – отвечала она. – Где ваш отец?
Волосы у нее поседели в тот самый день, когда она еще подростком уехала из Польши. Прежде была блондинкой. Но что-то такое случилось в тот день, как рассказывал папа, на вокзале в Кракове. Он знал только, что в деле были замешаны двое казаков и какие-то деньги – и что бабушка еле унесла ноги. Однако, согласно истории, она проснулась на следующее утро в поезде и обнаружила, что полностью поседела. Цвет ее волос – вместе с ее страхом – оставался при ней до самой смерти. Пару раз ее забирали в дурдом, в Кливленде и Чикаго, и дважды она сбегала к моим родителям в Калифорнию. Но каков бы ни был ее страх за собственную жизнь, ужас за жизнь моего отца был еще больше. Бабушка была уверена, что пища, приготовленная ею самой, спасет ему жизнь. Именно поэтому она пекла блинчики: не сомневалась, что моя мать пытается отравить отца.
Для меня и братьев эта ее идея с отравлением была самой странной из всех. Мама в жизни не причинила бы не то что вреда, но даже не сказала бы дурного слова никому ни при каких обстоятельствах. Мысль о том, что она может кого-либо отравить, смехотворна – или была бы таковой, не окажись бабушка так этой мысли привержена. Она звонила нам по десять-пятнадцать раз на дню. Если отвечала мама, бабушка швыряла трубку, а если к телефону подходил я или кто-то из братьев, она принималась орать:
– Она – убийца, ваша мать! Она убивает моего Бобби! – и разражалась рыданиями, оставляя нас наедине с телефонной трубкой в полном недоумении.
– Надо просто класть трубку, – объяснял отец, – она больна. Вешайте трубку и все. И ни в коем случае не рассказывайте ей, что делается у нас дома или у меня на работе.
Каждый раз, когда у отца наклевывалась новая работа, бабушка всегда вычисляла, где это. И начинала звонить папиному начальству и рассказывать им про газовщиков и про отравление. Она звонила день за днем, пока папу в конце концов не увольняли.
Она не всегда была безумна. Временами она бывала в себе, милой, почти настоящей бабушкой. И тогда прекращались разговоры о газовщиках, она приглашала нас к себе в квартиру, где мы, усевшись на бархатном синем диване, ели ее домашние блинчики со сметаной и клубничным вареньем. Я очень хотел любить бабушку и старался думать не о ее безумии, а исключительно о ее блинчиках как об особом жесте благоволения. И вот однажды вечером, когда мы были у нее в гостях и она угощала нас, что-то вдруг показалось нам неладным. Отец понюхал блинчик, надрезал его и завопил:
– Мама, что ты творишь? – он был взбешен. – Это же нафталин! Ты начинила блинчики нафталином! Ты что, пытаешься нас уморить? – бабушка молча слушала его, трясясь от страха. Мы никогда больше не ели ее блинчиков.
И вот то была первая услышанная мной история – бредни о газовщиках и смерти, рассказ, приправленный безумием и нафталином.
Свидание
Родина истории – Ирак
Когда-то в Багдаде жил-был купец. Однажды послал он своего слугу на базар за провизией. И вот, придя на базар, слуга лицом к лицу столкнулся со Смертью – та уставилась на него и манила к себе пальцем.
В ужасе слуга прибежал домой.
– Хозяин! – умолял он. – Спасите меня! Только что на базаре я видел Смерть, и она глядела прямо на меня! Что мне делать?
Хозяин, недолго думая, приказал:
– Бери мою лошадь и скачи быстрее быстрого в Самарру. Прибудешь туда к ночи и там сможешь спрятаться, Смерть тебя не отыщет.
Сказано – сделано. А хозяин тем временем двинулся на базар, навстречу Смерти.
– Зачем ты так напугала моего слугу, Смерть? – спросил купец.
– Я не хотела пугать его, – ответила Смерть, – но, по правде говоря, он сам напугал меня не на шутку. Я страшно удивилась, когда увидела его здесь, в Багдаде: встреча-то у нас назначена сегодня вечером в Самарре.
Глава 7 Свидание
– Вот тебе две одинаковые истории, – произнес Ленни, закончив рассказ. – И, по-моему, у тебя назначена встреча с твоей бабушкой.
Стоял солнечный день, мы гуляли по лесу неподалеку от его дома вдоль ручья. Из-за хромоты он шел медленно, тяжело опираясь на палку. Я рассказал ему про бабушку и про газовщиков – историю, которую всегда старался гнать от себя. Она, похоже, его огорчила. Ленни ответил мне байкой про смерть и разговором о демонах.
– Смерть все равно рано или поздно заполучит тебя, но до этого тебе судьба убегать от демонов. Они все равно тебя найдут, куда бы ты ни шел. И что бы ни делал. Стоит им вонзить в тебя когти, как они уже не отпустят – пока не повернешься к ним лицом. Вот именно поэтому Кортес сжег свой флот – слыхал историю?
Я и не собирался говорить «да». Ленни продолжил:
– Так вот, говорят, Кортес, когда добрался до Нового Света, первым делом сжег свои корабли, все до единого. И знаешь зачем?
Я покачал головой.
– Скажу тебе зачем. Чтобы ему и его людям остался только один выбор – встретиться с демонами, – на лице Ленни возникла широчайшая ухмылка, глаза распахнулись. – С демонами! – повторил он, скрючив пальцы, будто это когти. – Они преследуют нас и, пока мы боремся за жизнь, насмехаются над нами. Они гоняются за нами, и чем быстрее мы убегаем, тем громче они хохочут!
Он сгорбился и скроил гримасу, крадясь ко мне и гнусаво скуля:
– «Ты никчемный! – говорят они. – Недостойный! Сказитель, который и говорить-то не может!» – Ленни, вытаращив глаза, отвернулся и вдруг завопил во всю глотку: – «Ты не годишься и с людьми-то общаться! Люди не выносят тебя, и поэтому ты живешь здесь, в лесу, один!»
Он внезапно умолк, и мы оба слушали отзвук его последнего слова. Ленни огляделся по сторонам, приходя в себя. Видно было, что он смутился, и я отвернулся к ручью. А когда глянул на него опять, осознал, каким больным Ленни выглядел. Ничего не сказав, он лишь махнул рукой в сторону дома, и мы вернулись в полном молчании.
– Я знаю, как это устроено, – сказал он позже, когда мы уселись на ступенях крыльца. – Ты поворачиваешься к демонам лицом, и они уходят. Но мне на это вечно не хватало сил. Потому что в их словах есть правда. Юная и прекрасная. Я в самом деле одинок. Никто не приезжает ко мне в гости, не считая тебя, – сказал он. – Да и ты, думаю, приезжаешь только потому, что у тебя собственные демоны, те же, что преследовали твоих родителей, те самые, от которых, как тебе казалось, ты удрал.
Я кивнул – он был прав.
– И что же говорят твои демоны?
Из всех вопросов этот был самым простым:
– Фиаско.
– А, фиаско, – ответил Ленни, – Знают они свое дело, демоны эти. И фиаско – действительно сущий ад. Но при всей вожделенности успеха он сильно переоценен.
Может, он хотел утешить меня – не знаю. Не утешил.
– Люди думают, что успех сам собой обернется счастьем. Вот только получат в точности то, чего желают, – и станут счастливы. А потом, когда все-таки добывают желаемое, все равно остаются несчастными и хнычут, как марокканские мартышки.
Я ждал дальнейших объяснений.
– Когда я был маленький, моя семья около года жила в Марракеше – отличное это место для всяческих историй. Обезьяны были повсюду, и мы всё хотели поймать одну, но они оказывались шустрее. И тогда один старик научил нас хитрости. Надо взять бутыль и насыпать в нее орехов. Обезьяна увидит орехи в бутыли, сунет туда лапу и схватит орехи. Но теперь ладонь сжата в кулак, с орехом в нем, и лапу из горлышка уже не вынуть. Обезьяна слишком взбудоражена, ей не приходит в голову разжать лапу, и она таскает бутылку за собой. И тогда ее совсем просто поймать… Та же история с успехом. В мире полно людей – людей преуспевших, у кого на всю жизнь рука застряла в бутыли, и они ломают голову, в чем причина их несчастья. Это миф нашего века – «успех принесет тебе счастье». Но вот пролетает мимо синяя птица счастья. И что она делает? Гадит им на головы. Не догадываются об этом, но желают на самом деле того, что досталось тебе, – полного фиаско.
Даже в исполнении Ленни это показалось притянутым за уши.
– Я серьезно, – сказал он. – Фиаско – это искусство. Научись хорошенько проигрывать и будешь счастлив, как Лэрри, – он замолчал и ухмыльнулся. – Знаешь Лэрри?
Я задумался. Фраза «счастлив, как Лэрри» была из тех, какие мне часто приходилось слышать в путешествиях по Ирландии, но я понятия не имел, кто такой этот Лэрри.
– Святой Лаврентий, главный святой в смысле счастья, – объяснил Ленни. – Вечно улыбается, всегда смеется. Он был так чертовски счастлив все время, что до смерти надоел римлянам. Они привязали его к шесту, подожгли и оставили гореть заживо. Пару минут спустя, услышав смех, они вернулись посмотреть, в чем дело. И Лэрри сказал им с широкой улыбкой на устах: «Я уже прожарился с одной стороны, можно переворачивать». А теперь скажи мне, знаешь ли ты кого-нибудь, как Лэрри? Кто вечно улыбается всякий раз, когда вы встречаетесь? И впрямь ли он счастлив?
Я обдумал этот вопрос. История о Лэрри напомнила мне отца, который всю жизнь только и делал, что смеялся сквозь боль, и я знал, что папа вовсе не счастлив. Подумал о матери – чем хуже шли дела, тем шире делалась ее улыбка. Улыбка сквозила в ее голосе и во всех ее сообщениях, что скапливались у меня на автоответчике. Несмотря на то, как славно, по ее словам, все складывалось, я всегда знал, что на самом деле она несчастна. Я бросил было искать пример, но тут вдруг вспомнил.
– Может, тот мальчик… на велосипеде.
– Кто это?
Я рассказал Ленни о Рики. Рики жил в тупике дальше по нашей улице, когда я был подростком. Мы все звали его «мальчик на велосипеде». Он был с дефектами развития – умственно отсталый, как мы тогда говорили. Носил, не снимая, красный свитер и ездил на велосипеде по кругу, иногда по часовой стрелке, иногда против. Мы каждый день проезжали мимо него к шоссе, и каждый раз он, широко улыбаясь, останавливался и махал нам рукой. Кажется, он махал всем. Мы махали ему в ответ, и он продолжал кататься. Я вспомнил, сколько раз его видел – Рики всегда был счастлив. Был ли он счастлив на самом деле, я не имел ни малейшего представления.
– Хорошо, один улыбающийся пацан в красном свитере, на велосипеде, – сказал Ленни. – И что же делало его счастливым? – я понятия не имел. – Видимо, он ездил по кругу, нисколько не думая, что надо бы заняться чем-то еще или быть кем-то другим. Гением он, может, и не был, зато, похоже, был счастливее многих одаренных людей из тех, что бродят по миру, отягощенные дурацким убеждением, что их жизнь должна отличаться от той, какая есть. «Я должен быть богат», – говорят они. «Я должен быть знаменит». «Я должен быть краше». У каждого есть свое «должен». Видал я одного парня, он носится с мыслью: «Я должен мочь говорить».
Холодало, и мы ушли в дом. Ленни взялся разводить огонь, но я жестом попросил его сесть и сам занялся дровами в печи, смял кусок газеты, зажег спичку.
– Говорю тебе, ничто не поганит жизнь так, как наши ожидания. Людям нравится думать, что они умнее Бога, величайшего сказителя небесного. И что же происходит? Бог смотрит сверху и видит, что какой-то дурачок думает, будто он все понял о жизни, – и тогда Бог подбирается сзади и отвешивает дурачку по заднице. Или, как в твоем случае, наступает ему на ногу. Аккурат на большой палец. Р-раз!
Он опять вверг меня в недоумение.
– Подагра. Бог попытался обратить на себя внимание. Та же штука случилась со мной.
– Подагра?
– Не-а. Это произошло, когда я занимался серфингом, – мне показалось, что я ослышался. Кем бы ни был Ленни, на серфингиста он не походил. – Именно поэтому я и приехал в Санта-Круз.
– Из-за серфинга?
– Точно. Из-за волн, – я попытался представить себе Ленни на серфинговой доске, но не смог. – Это было задолго до нашей встречи, прежде, чем я пошел в аспирантуру, до того, как вообще задумался о сказительстве. Доехал сюда автостопом из Нью-Джерси и каждый день катался на волнах, а по ночам зажигал на пляже. Ты когда-нибудь пробовал серфинг?
Я покачал головой.
– Стоит попробовать. Лучше не придумаешь – будто летаешь по воде, – он тряхнул головой, на лице возникла грустная улыбка. – У меня хорошо получалось, не хуже, чем у всех остальных на пляже. И знаешь почему? Потому что я ничего не боялся. Был уверен, что со мной ничего не случится. В штормовую погоду другие ребята трусили. А я выходил даже в шторм, на пятнадцатифутовые валы, – он помолчал с минуту, вспоминая. – Однажды утром я увидел самую потрясающую волну из всех. Не меньше двадцати пяти футов, идеальной формы. Я встал на доску и приготовился прокатиться, и знаешь, что произошло? – Ленни примолк и взял себе сигару. Я ждал. – Она к черту вышибла из меня дух. Выгнула меня назад, намотала на доску, прожевала и выплюнула на пляж. Почти убила. Пять треснутых позвонков, два сломанных ребра и вот это, – взял правой рукой свою левую и приподнял ее за кисть. – Никакой чувствительности от локтя и ниже, – Ленни взглянул на нее и рассмеялся. – Знаешь, что? Я ж был левшой! Четыре операции – и сдался. Оперировали не только руку – а с ней сразу никакой надежды не осталось, – но и спину. Сказали, что позвонки были похожи на горсть выбитых зубов. У меня стреляющие боли в левой ноге с тех пор – каждый день. Даже теперь, если сижу дольше двадцати минут подряд, все тело чувствует себя так, будто его лупили бейсбольной битой. Но ты знаешь, что хуже всего?
– Что?
– Пришлось бросить серфинг, – Ленни хохотнул. – Не один месяц я мотался по больницам и задавал себе один и тот же вопрос: за что? За что мне все это? – он прекратил сновать по комнате и уселся в кресло. – Что ж, похоже, все об это голову ломают: я – о своем несчастном случае, ты – о своем голосе. Но в этом как раз и дело – все ломают голову. Может, стоит спрашивать «за что нам все это?». И ответ прост – такова жизнь. В ней полно невзгод, страданий и всевозможных потерь, пока в конце концов не потеряешь все.
– Ты… пытаешься… меня взбодрить?
– Зачем мне это? Я очень постарался разогнать единорогов и высушить радуги, чтобы ты мог встретиться лицом к лицу с собственными демонами и увидеть жизнь такой, какая она есть: сумма потерь, деленная на извлеченные уроки. Ты будешь и дальше страдать, пока не выучишь урок. Твое будущее утекло сквозь пальцы, прошлое – позади, и ничего-то не осталось у тебя, кроме этого самого мига, который вот здесь и прямо сейчас.
– Где?
В ответ Ленни встал из кресла и прошелся по дому, здоровой рукой рисуя круги в воздухе.
– Сдается мне, ты в самой середине истории. Твоей истории.
Я покачал головой, Ленни в ответ пожал плечами.
– По-моему, вполне история. Вдумайся. Есть все составляющие. Главный герой – ты – теряет нечто очень ценное – голос, и начинаются приключения. По сути, есть всего одно отличие этой истории от той, которую ты бы рассказал.
– Какое?
– Ты не можешь ее рассказать! – он просиял. – Потому что говорить не можешь! Тебе понятно, где ты в таком случае оказываешься?
– В полной жопе?
Ленни покачал головой.
– Может, хватит жалеть-то себя уже? – он затушил сигару. – Все, что тебе видно – чувства твои, потерянность, – это все история, вид изнутри.
– Но я сам – всамделишный! – настаивал я.
– Как раз поэтому история и стóящая. Все сходится. Ты вышел за эту самую дверь двадцать лет назад и отправился искать приключений. И вот – вернулся, в самый разгар большого приключения. Чего тебе еще надо?
– Выйти из игры.
– Так не годится. Что произошло бы, если б герой попытался удрать из истории, которую ты рассказываешь?
Я задумался. Не знаю. Никто из героев моих историй удрать не пытался.
– Они ведь не рыпались, верно? – спросил Ленни. – Потому что, уйди они, это испортило бы всю историю. Вот в чем твоя беда. Ты уже несколько месяцев всеми четырьмя лапами пытаешься вырваться из собственной истории, – Ленни покачал головой. – Но все устроено не так. Ты – в истории. Я – в истории. Всякий внутри истории, нравится это или нет.
С этими словами мне на ум пришел эпизод из «Звездного пути», где капитан Кёрк и его команда попали на неведомую планету, населенную существами из самых дальних уголков их воображения, и с этими существами астронавты сражались не на жизнь а на смерть, прежде чем осознали, что вся эта планета есть не что иное как межгалактический парк развлечений, для их же удовольствия.
– Скажи-ка, в чьей истории, по-твоему, ты сам находишься?
Я подумал о тех нескольких месяцах, что прожил без голоса.
– У Иова? – пошутил я.
У Ленни загорелись глаза.
– Не исключено.
– Ужасная история. Жестокая.
– Нет, у Иова отличная история. Ты в курсе, что это единственное место во всей Библии, где Бог смеется? Но, кроме того, «Иов» – одно из всего двух слов в английском языке, у которого меняется произношение в зависимости от того, с какой буквы слово написано – с прописной или строчной[7], – собрался я было спросить, какое же второе слово, но Ленни уже двинулся дальше: – И у этой истории замечательная мораль. Что-то такое: «Есть в жизни всякое, что нам попросту невдомек». Ислам учит тому же самому. В Коране Бог отводит Моисея к Красному морю, где тот видит, как крошка-воробей ныряет за глотком воды. «Видишь, сколько в море воды? – спрашивает Бог. – Столько же и знания. Сколько выпивает воробей? Столько же и люди знают».
Я уехал от Ленни и по дороге вспомнил фильм, который нам крутили на вузовском курсе по физиологии: о человеке, которому выдали особую пару очков – в них мир казался перевернутым вверх тормашками и задом наперед. Мистер Кларксон предложил нам посмотреть это кино, чтобы показать, до чего замечательно умеет приспосабливаться человеческий ум. Ученые надевают эти очки человеку на голову, а по экрану пробегает предупреждение: «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОВТОРИТЬ ЭТО ДОМА!» Испытуемый носит очки день и ночь полтора месяца подряд. Поначалу все идет кувырком, человек падает, натыкается на предметы, его тошнит. А затем где-то недель через пять его мозг переворачивает картинку, и мир снова выглядит нормально. Испытуемый спокойно управляется с ежедневными делами, водит велосипед и даже автомобиль. Преображение настолько полно, что, стоит снять очки, как мир опять делается вверх тормашками, и требуется еще пять недель, чтобы мозг человека справился.
Визиты к Ленни – все равно что нацеплять такие вот очки. Послушаешь его – и все получается строго наоборот по сравнению с тем, как оно выглядит: то, что справа, – слева, верх – внизу. Все плохое, что со мной произошло, – как выясняется, хорошо. Чтобы найти ответ, нужно бросить искать, а причина, почему я ответ не нахожу, – в том, что ответ прямо у меня перед носом.
Видеть происходящее вверх ногами странно, а наблюдать его задом наперед – страшно. После встреч с Ленни я обнаруживал, что мое будущее перебралось куда-то мне за спину, а прошлое вдруг встало прямо передо мной и неотвратимо надвигается все ближе.
Добычу историй из своего прошлого я начал давно, однако те байки, что начали всплывать теперь, были из тех, что я пытался забыть. Вновь я видел отца, только на сей раз он не смеялся. Стояла жаркая ночь, не спалось. Я отправился в кухню попить воды и обнаружил отца – тот склонился над столиком из формайки, пытаясь собрать какую-то черную коробочку, напичканную электроникой и перемотанную изолентой, – то самое изобретение, над которым он работал уже несколько лет. Я наблюдал из-за двери, как отец тянется за маленьким шурупчиком, но узловатые пальцы никак не ухватят его. Отец пробовал снова и снова, и ему почти удалось поймать шурупчик, но тот ускользнул и укатился на пол. И тут папа уронил голову на руки. Я не хотел видеть его слез и, не сказав ему ни слова, вернулся в постель.
Вновь слышал я голос бабушки, отзвуки ее воплей и длинную череду ругательств на идиш, какими она забрасывала мою мать. Я старался вытолкнуть бабушкин образ из головы, но не получалось. Она возвращалась, крича все громче, такая же пугающая, какой была в моем детстве. Вспомнив совет Ленни о том, как обращаться с демонами, я встал во весь рост и заглянул в бабушкины темные глаза. Отворачиваясь, я увидел лицо моей матери, перекошенное от страха. Мгновение спустя заметил, как мамина рука тянется к слуховому аппарату и отключает его. Ужас покидал ее лицо, возникала вымученная улыбка. Самое трудное – смотреть на ту улыбку.
Насколько я помню, в фильме про того человека с очками ничего не рассказывали о том, какое впечатление он производил на свою семью. Но, уверен, родственникам приходилось нелегко. Моим уж точно легко не было, это я знаю: они понятия не имели, как обращаться со мной и с моими сменами настроения – от сумрачности до экстаза и обратно. Я и сам не соображал, как им все это объяснить, поскольку сам ничего не понимал.
Тали стала жить дальше без меня. Бросила сходить с ума о своем здоровье и начала им заниматься – ела с умом, занялась спортом. Она отлично себя чувствовала и отлично выглядела, но была словно где-то далеко: мы двигались параллельными рельсами, она – на милю впереди меня. Ночами эта дистанция становилась ощутимее. Обычно, даже в разгар ссоры, мы всегда спали, как ложки, теперь же спали, как ножи, каждый в собственном мире. И мне не шли на ум – тем более на язык – такие слова, что могли бы восстановить между нами мост.
Казалось, вся моя жизнь превратилась в череду волшебных слов, которые не удавалось произнести. Среди них застряло и слово, как-то раз упомянутое Ленни, – слово-разгадка, добыть его можно, не думая о нем. Я же думал о нем постоянно.
– Расслабься, – говаривал Ленни в ответ на мое раздражение, – со временем мутные воды отстоятся. И тогда глянешь в них и увидишь – знаешь, что? – я молчал. – Знаки и чудеса, мой друг. Знаки и чудеса.
Как раз это и произошло пару дней спустя, когда Тали была на работе, дети – в школе. Дождь прекратился, и кругом не раздавалось ни звука. Я сидел тихо и неподвижно у себя в кабинете, стараясь не думать об ответе на тот самый вопрос, гоня любую мысль из головы прочь, пытаясь не думать ни о чем вообще, обращая ум в озеро простого покоя. Дай мне знак.
Вот тут-то и заработал отбойный молоток. Сперва это было похоже на гром, я ощущал, как грохот идет по полу, видел, как раскачиваются на стене фотографии. На миг все умолкло, а затем началось сызнова.
За несколько месяцев до этого некая пара приобрела дом по диагонали от нас – некогда прекрасное старое здание, сделавшееся пристанищем для чуть ли не тридцати кошек. Та пара строила планы по ремонту и восстановлению дома и ждала, когда прекратятся дожди, чтобы начать работу.
Шум стал постоянным источником мучений, непредсказуемо затихал и возобновлялся днями напролет. Стоило подумать, что грохот прекратился, и я начинал шептать что-то Тали или детям – он, как нарочно, начинался опять. Иногда вместо отбойного молотка вступали циркулярная пила или перфоратор.
Не желая сдаваться, я пытался перекричать все это:
– Микейла… т-д-д-д! Ты не могла бы… т-д-д-д!
– Что? – переспрашивала Микейла. – Я не слышу. Говори громче!
Я надрывался две недели. И вот тогда-то все случилось: я попросил Илайджу за завтраком передать мне хлопья. Бросил даже пытаться переорать шум. Да что там – весь остаток дня не пробовал заговаривать вообще. И даже вечером, когда все ушли спать, я остался один и строительного шума не было, – все равно не пытался говорить. Я сдался.
И лишь тогда осознал, что каждый час бодрствования, каждый день все семь месяцев после операции безуспешно пытался выдавить из своего горла звуки. Хотя умом понимал, что не могу говорить, тело отказывалось в это верить – вплоть до того самого мига.
Внезапно я ощутил себя свободным, легким. Как в том эксперименте, который проделывал в детстве. Вставал в дверном проеме, руки в стороны, и полминуты изо всех сил упирался ладонями в дверной косяк. Затем шагал назад, расслаблялся, и руки взлетали вверх, словно привязанные к воздушным шарикам.
Так же ощущалась и тишина. Я вспомнил дзэнскую историю о двух монахах. Бредут они под дождем и вдруг видят на берегу ручья облаченную в изящное кимоно юную красавицу. Перебраться на другой берег ей не удается, и тогда тот монах, что помоложе, берет девушку на руки и переносит через ручей. Монахи продолжают свой путь, но старший в ярости. Молчит до самых ворот монастыря. И тут поворачивается к молодому и кричит:
– Как ты мог? Ты же знаешь, что мы приняли обет не прикасаться к женщине!
Молодой монах улыбается.
– Та женщина в кимоно? Я оставил ее у ручья несколько часов назад. Зачем ты все еще несешь ее?
Мой голос стал бесполезной частью тела, которую я все таскал и таскал за собой – и даже забыл, что она при мне. В тот вечер я ее оставил.
В тот миг что-то произошло. Я стал слышать голоса других людей совершенно по-новому. Всю свою жизнь я любил звуки человеческого голоса. Но с того самого утра в больнице каждый голос достигал моего уха через призму зависти: говорящий располагал чем-то, чего у меня не было и чего я желал больше всего на свете. Теперь, когда эта призма исчезла, у меня снова получалось наслаждаться букетом голосов вокруг себя. Голос Микейлы, детский, тихий и такой милый, и настойчивая серьезность в голосе у Илайджи. Я услышал мелодию, звучавшую в голосе Тали, даже когда она не пела. В каждом голосе рядом со мной обнаружилось что-то примечательное – от Рона-почтальона с его шероховатой оттяжечкой жителя Среднего Запада до теплоты и открытости, сквозивших в каждом слове Джинджер, воспитательницы Микейлы.
Все это я вдруг научился ценить, наблюдая со стороны, как смотрят балет, никогда не помышляя стать танцором, или баскетбольный матч, не собираясь пробовать себя в спорте. Для этих людей разговаривать было так же естественно, как когда-то и для меня. Но эта дверь закрылась, и, как замечала моя матушка, открылось окно. Это было окно в мир тишины, в мир, которым я так долго пренебрегал.
Я вспомнил давнишнюю статью о звукоинженере, который путешествовал по миру с магнитофоном, отыскивая самые тихие уголки, чтобы запечатлеть полную тишину. Тогда мне это показалось бессмысленной задачей: даже если бы эксперимент был абсолютно успешен, этот чудак приехал бы домой с пустой кассетой. Теперь эта затея казалась мне очень глубокой. Красота эксперимента заключается в том, что настоящей тишины – абсолютной, совершенной тишины – не существует. Нам удается лишь проникать под все новые слои шума и обнаруживать под ними все более тихие звуки. Постепенно, говорилось в статье, нам удастся услышать тишайшее – как струится подземный ручей, как жук точит листок или как крошечная рыбка выплевывает капельку воды, чтобы сбить пролетающее насекомое.
Как тот звукоинженер, я искал тишину всюду. Почти все вечера я проводил за письмом, а днем отправлялся искать тишайшие места, катаясь на велосипеде по задворкам Беркли. Найдя такое убежище, я усаживался с закрытыми глазами и пытался разобрать то тишайшее, что было мне слышно.
Хелмская мудрость
Родина истории – еврейская Польша
В горах Польши где-то по дороге между Варшавой и Хоценплоцем таится крошечная деревенька под названием Хелм. Люди Хелма – величайшие дураки в мире, хотя сами они так не считают. Напротив, они полагают себя мудрейшими людьми на свете, а своих старейшин – мудрейшими из мудрейших.
Целыми днями размышляют они над великими вопросами бытия, например: «Что важнее – Солнце или Луна?» Какой-нибудь такой вопрос способен перессорить всю деревню не на одну неделю, пока сами старейшины, поглаживая бороды и хмуря брови, не займутся им, тщательно все не взвесят и не обдумают. Наконец, Хаим-Янкель, самый мудрый старейшина, отыщет решение: он постановит, что Солнце, разумеется, – вещь важная, но Луна намного важнее, поскольку светит по ночам, когда темно и свет нужнее.
Точно так же его мудростью утешался Хелм, когда там стряслась беда: однажды ночью случился страшный пожар, и местные всю ночь сражались с огнем. Утром, пока хелмцы хором кляли злополучный огонь, возражал лишь Хаим-Янкель.
– Огонь был благословением! – говорил он. – Огонь светил нам! А без света как бы мы справились с пожаром?
Попасть в Хелм трудно, ибо дорога полна опасностей. Чтобы найти его, нужно сперва заблудиться. Начав путь от Варшавы при свете солнечного дня, попадаешь в настоящий снежный буран. Пробираешься сквозь снег, день превращается в ночь, и так до тех пор, пока уже не отличить, что слева, а что справа, что вверху, что внизу. И как раз в этот миг нужно свернуть влево и идти, пока не увидишь человека, который копается в снегу под уличным фонарем.
– Вы что-то потеряли? – спросите вы.
– Да, ключи обронил.
Вы, конечно же, зароетесь в снег, помогая ему искать, но все безуспешно.
– А где точно вы их потеряли? – переспросите вы в конце концов.
– В конце улицы, у храма.
– Тогда почему вы ищете здесь?
– Здесь светлее.
И только тогда, когда мудрость и глупость поменяются местами, вы узнаете, что прибыли в Хелм.
Глава 8 Хелмская мудрость
– А, дошло! – сказал Ленни наконец. – Молчание.
Я простоял на крыльце всего минут пять, но показалось, что прошел час, пока он задавал мне вопрос за вопросом, ожидая, когда я все-таки заговорю. Но я не произносил ни звука – и даже не пытался. Как бы ни хотелось мне выразить понятое, говорить об этом казалось бессмысленным.
Больше ничего не говоря, Ленни жестом пригласил меня внутрь и усадил у огня. Молчал он долго, а затем заговорил.
– Людям кажется, что сказительство сводится к болтовне, а оно не сводится. Все дело в молчании – и в том, какую форму ему придать. Молчание – наш холст. Это глина, из которой мы лепим мир, мрамор для резки. И чем мы режем по этому мрамору? Словами! Мы начинаем историю с молчания, и чем оно полнее, тем лучше. А когда умолкаем… – Ленни выдержал длинную паузу. – …удается увидеть – даже почувствовать – форму созданного нами молчания. Если ты добрался до молчания, Джоэл, считай, полпути уже пройдено.
Я все молчал, впитывая эту редкую похвалу.
– Знаешь, – продолжил он, – я как раз думал, в какой же истории ты оказался. Трудно сказать, конечно, – она все время меняется, как линии на ладонях. Все потому, что Бог там, наверху, перемешивает сюжетные ходы, добавляет подробности. И когда вроде бы ясно, что к чему, тут же появляется что-нибудь новенькое. Сейчас мне кажется, что ты, может, где-то в Хелме. Про Хелм слыхал же, да? О польском еврейском городке дураков?
Конечно же, я слыхал. Те самые истории, какие мама чуть было не рассказала мне. С тех пор я слышал многие из них – и десятки хелмских баек рассказывал на концертах. Но стоило Ленни произнести слово «польском», до меня вдруг дошло. Я вытащил ручку и записал на клочке бумаги: «Polish – polish»[8].
– Очень хорошо, – сказал он. – «Польский» – «полировать», «Иов» – «работа». Видишь? В конце концов все загадки разгадывают сами себя. И когда это случается, необходимо искать новые. Потому что если не искать, возникает опасность сделаться мудрым – мудрым, как дураки из Хелма, ищущие потерянное под фонарем, потому что там светлее. Дурость не в их поступках, а в том, что они считают себя мудрецами.
Ленни надолго рассеянно уставился в сторону. Наконец вновь обратился ко мне.
– Я рассказывал тебе про Пёрл?
Я покачал головой.
– Нет? Ничего удивительного, – он вздохнул. – Она была «небезупречной женщиной». Ну, ты наверняка знаешь ту байку, – нет, я не знал. – Про Муллу Насреддина.
Мне всегда нравились байки об этом великом суфийском мистике, об этом лысеющем шуте-проказнике, и я устроился поудобнее, предвкушая удовольствие.
– Насреддина постоянно просили о напутствии новобрачным. И вот однажды ученики спросили его, почему он сам не женится. «А, я решил жениться, лишь когда найду идеальную женщину, – пояснил он. – Много лет я искал, встречался со многими женщинами – добрыми, красивыми, умными. Но ни одна из них не была безупречной. У каждой имелся какой-нибудь мелкий изъян. И вот однажды, – продолжал Насреддин, – я увидел ее. Понял мгновенно. Ни единого вопроса не мелькнуло у меня в голове. Безупречна во всех отношениях. Разумеется, я познакомился с ней и обнаружил, что она, несомненно, сокровище без всяких недостатков». «Так почему ж вы не женились на ней?» – поинтересовались ученики. Насреддин вздохнул. «Возникла одна трудность». – «Вы обнаружили изъян?» Насреддин покачал головой. «Нет. Все просто – она искала безупречного мужчину».
Ленни покачал головой.
– Пёрл была небезупречна именно так, как надо. Годы напролет искал я ее – мне не хотелось все испортить, как мне это удалось в первом браке. Катастрофа. Но через час после встречи с Пёрл я знал, что она – как раз та самая. Я видел это в ее лице. Ощущал это до самой глубины души. Наша встреча должна была случиться. И знаешь, что произошло дальше?
Я ждал продолжения.
– Мы поженились. Она стала моей второй женой. Пёрл была джазовой танцовщицей. Приехала из Новой Зеландии. Она жила и дышала музыкой. Мы провели медовый месяц на Фиджи, пили манговый нектар под звездами, – Ленни примолк, лицо сделалось мечтательным. – Мы вернулись сюда, купили этот дом и зажили вместе, – покачал головой. – Счастливы были на всю катушку. Знаешь, можно прожить, не осознавая, насколько ты одинок, всю жизнь, пока не влюбишься.
С некоторым усилием Ленни выбрался из кресла, сходил к себе и вернулся с фотографией в серебряной рамке. Протянул ее мне. На снимке была ясноглазая женщина в каштановых кудрях.
– Красавица, правда? Но через месяц после свадьбы у нее нашли рак яичников. Еще через пять месяцев она умерла. У меня с ней было всего десять месяцев, – Ленни замолчал, и я заметил слезы. – Но те десять месяцев… величайший подарок в моей жизни. И делались они все слаще, день ото дня. Слаще – но не проще. Это был ад. Врачи, операции, химиотерапия, лекарства. Она таяла на глазах, у нее выпали волосы, но она была великолепна. И становилась все прекраснее, каждый день, до самого конца. Я прожил за те полгода больше, чем за всю остальную жизнь.
Ленни смотрел в сторону какое-то время, а потом произнес:
– Никогда не чувствуешь себя живее, чем рядом со смертью.
Я уехал от Ленни в тот вечер, изумляясь, насколько разными бывают истории – как одни заставляют нас смеяться, а другие плакать. Размышлял о историях на сон грядущий, под которые мы засыпаем, о дзэнских притчах, что, наоборот, будят нас своими странными, парадоксальными поворотами. Есть и другие байки с таким же действием – они подкрадываются незаметно, когда мы меньше всего их ждем. Последняя байка Ленни что-то во мне открыла. Я почуял это, как только вышел от него: мир показался мне ближе. Дорога домой и сам дом, когда я увидел его, поджидавший меня у крыльца мешок с мусором – ничто не изменилось, но я обнаружил, что вижу все это гораздо яснее. Не лучше и не хуже прежнего, а попросту с глянцем подлинности.
История о Пёрл проникла в меня глубоко и дальше неделю за неделей всплывала вновь и вновь, особенно по ночам. Я думал о смерти – не только о смерти отца, о ней-то я размышлял долгие годы, но и о своей собственной, которой избежал благодаря удалению опухоли. Осознал, что, целиком сосредоточившись на возвращении себе голоса, я толком не проникся мыслью, до чего близок был к смерти.
Однажды я проснулся перед самым рассветом и по привычке заглянул к детям. Илайджа крепко спал. Я долго на него смотрел при свете ночника – и на флажки, разбросанные по всей комнате. Он недавно взялся изобретать флаги стран, какие сам же придумал, – там жили Крошки Бини[9]; флаги были сделаны из деревянных кулинарных шпажек и клочков белой простыни, которую нарезала Тали. Сколько-то флажков лежало в корзине, я порылся в ней и извлек то, что искал. Флажок еще не был раскрашен, и я его позаимствовал. Уселся по-турецки на пол и стал им размахивать.
Минуту спустя проснулась Микейла, потерла глаза и выбралась из постели. Подошла, устроилась у меня на коленях. Дочка молча смотрела то на флажок, то на меня, и я ощутил себя самым везучим человеком на свете.
На следующее утро я пек блины детям на завтрак – такое у меня любимое отцовское занятие. В голове крутилось «О, что за дивное утро!» из мюзикла «Оклахома!», и пусть и не спеть мне, я ее насвистывал. В то утро я стал поваром забегаловки: дети заказывали мне разные блины, и я послушно исполнял все их пожелания.
– Мне с буквой «И», – попросил Илайджа.
– А мне – с «М», – сказала Микейла.
Пока пек им блины, я посматривал на них – и вдруг ощутил нечто странное, и назвать это чувство не смог. Что это?
– Это «М» или «И»? – спросила Микейла.
– Зависит от того, как посмотреть, – ответил Илайджа. – А вот это что такое? – он показал на огромный блин, который я только что испек, размером с тарелку, весь в дырочках.
Стоя между ними, я притянул обоих к себе и тихо прошептал:
– Это карта… звездного неба.
Оба расцвели от радости, и тут-то меня осенило. Немудрено, что я не сразу распознал это чувство – давненько не возникало оно.
Я был счастлив.
Зарытые сокровища
Родина истории – еврейская Польша
Давным-давно в польском городе Кракове жил да был бедный еврей-портной по имени Яков Бен-Йекель. Сколько б ни работал он, никак не удавалось заработать достаточно денег, чтобы прокормить жену и детей. И ничего-то не осталось ему, только отправиться в храм и молиться о чуде.
Той же ночью ему приснился дивный сон. Во сне увидел себя Яков в далекой Праге, где никогда не был. Но во сне видел все очень ясно, даже ощущал лицом ветер, пока шел по улицам города с лопатой на плече. Наконец добрался до пустыря и там начал рыть яму. Работая, услышал громкий голос, тот звал: «Яков Бен-Йекель, отправляйся в Прагу! Тебя там кое-что ожидает!»
Греза эта навещала Якова снова и снова, и становилась она с каждым разом все ярче. В конце концов он решил, что ничего ему не остается, кроме как отправиться в Прагу.
Не одну неделю шел он до Праги под снегом и дождем, и, добравшись туда, поразился увиденному. Город выглядел в точности так, как ему снилось! Яков пробежал по улицам и нашел то самое место, которое видел во сне, и начал копать.
Внезапно он почувствовал чью-то руку на своем плече.
– Что ты тут делаешь? – услышал он разгневанный голос. Увидел Яков стражника – таких великанов он в жизни не встречал. Перепугался Яков. Растерявшись, рассказал стражнику правду.
– Я копаю… потому что видел сон…
– Ха-ха! Сон? – расхохотался стражник и ударил Якова по лицу. – Ты и впрямь похож на мечтателя, тщедушный, несчастный заморыш! Сны – они для дураков вроде тебя! – загремел стражник. – Но странно, что ты заговорил о снах. Прошлой ночью мне снился голос, он сказал мне: «Эй, Иван, отправляйся в Краков, там, в жалкой лачуге, живет портной – как его… Янкель? Йекель? – там ты найдешь под печкой огромное сокровище». Дурацкий сон, и я, как видишь, не бросился сломя голову в Краков. Ну нет уж, дудки! Сны – они для дураков!
С этими словами стражник вышвырнул Якова из города, и тот подался в долгий обратный путь. Вернувшись, расцеловал он семью и двинулся прямо к печке. Разобрав ее, рыл несколько часов, но ничего, кроме сырой земли, не отыскал. Уснул, умаявшись.
Пока Яков спал, дети играли в вырытой им яме, и, копаясь в земле, его младшая дочь нашла что-то вроде старой супницы. С помощью братьев и сестер она вытащила ее из ямы и принесла Якову. Снял он с горшка крышку и обнаружил, что в нем битком старых золотых и серебряных монет – целое состояние, хватит, чтобы прокормить семью, построить дом и даже сделать то, что Якову всегда хотелось, – поделиться с другими бедняками.
Зажил он припеваючи, пока однажды, уже совсем в старости, у него не осталось ничего, кроме одной монетки. Он решил отдать ее первому же нищему.
– Спасибо, – сказал нищий. – А у меня для тебя есть два слова совета, Яков.
– Совета?
– Да, – произнес нищий. – Копай глубже.
Вернулся наш Яков к печке, под ней – та же яма; взялся Яков копать. На сей раз нашел сундук. Пусть и мал был тот сундук, но оказался доверху набит алмазами, рубинами и изумрудами. Сокровище еще большее, чем Яков мог себе вообразить.
Ему хватило на этот раз денег, чтобы выстроить на перекрестке двух дорог домик для размышлений. Говорят, домик тот стоит и поныне. Там путники могут остановиться, отдохнуть и подумать, откуда пришли и куда направляются. Вы узнаете, что нашли этот дом, если увидите на стене слова, начертанные золотом: «Иногда нужно идти за своей мечтой далеко-далеко и там найти то, что душе твоей ближе всего».
Глава 9 Зарытые сокровища
Стоило войти к Ленни в дом, как стало ясно, что все неладно. Слишком тихо. Я постучал, когда солнце только садилось. Не услышал ответа, постучал еще раз. И тогда открыл дверь сам.
В темноте я разглядел все те же стопки книг, а когда глаза привыкли к вечернему полумраку, я увидел Ленни в кресле – он пялился в пустоту.
– Ленни! – позвал я. Нет ответа.
В доме пахло привычно – плесенью, старостью и сигарным дымом, но возник и новый запах. Виски. У ног Ленни валялась на боку бутылка «Старой вороны». Я прислушался – Ленни дышал тяжко и медленно. Заглянул ему в глаза – широко распахнутые, но ничего живого в них не было.
Я подобрал бутылку и вылил остатки виски в раковину. Помойное ведро было набито до отказа, и я умял мусор, понимая, что лучше бы его вынести.
– Ленни? – прошептал я ему на ухо. Молчание. Я понятия не имел, что предпринять. Помаячил в его поле зрения – ничего. По выражению глаз Ленни было ясно, что он застрял где-то во тьме – зачарован.
Минут десять я ждал. Наконец, поняв, что ничего не могу сделать, двинулся к двери.
– Скажи-ка мне, – услышал я.
Я вернулся. Ленни не двигался. Я глядел на него и ждал. Прошло немало времени, прежде чем он повернулся ко мне и заговорил:
– Скажи-ка мне, – повторил он. Голос звучал словно издалека. – Когда кончается ночь? – возникла длинная пауза – Ленни словно размышлял о чем-то. – Этот вопрос задали как-то ученики раввину, – слова звучали скорбно, почти жалобно. Он теперь смотрел на меня в упор, но взгляд по-прежнему, казалось, ни на чем не сосредоточивался. – «Она кончается, когда видно утреннюю звезду?» – спрашивает один. «Нет, – отвечает ребе, – не тогда». – «Когда можно разглядеть все линии на собственной ладони?» – спрашивает второй. «Нет, и не тогда». – «Но когда же?» – вопрошают ученики. «Когда глядишь в лицо соседу и способен увидеть в нем свое. Тогда-то и кончается долгая ночь».
Следующие несколько дней я терялся в догадках, можно ли как-то помочь Ленни – и чем. Хоть у меня и не было опыта в подобных делах, я знал, что остановить вновь запившего алкоголика – все равно что воевать с ветром. Мне хватало хлопот с ним трезвым, но с пьяным? Что я мог поделать?
Кроме беспокойства мне было ужасно стыдно перед Ленни. Я вспомнил историю, которую слышал от друга, работавшего в Микронезии на острове Понпеи. Тамошние люди клялись, что это чистая правда. Жил-был среди них мальчишка – замечательный бегун, самый быстрый в школе. Но однажды он попал в жуткую автокатастрофу и оказался парализован ниже пояса. Врачи сказали, что он никогда не сможет ходить. И вот как-то раз к нему в больницу пришла женщина, одряхлевшая от долгих лет.
– Господи, – сказала она в голос, – это несправедливо! Ты отнял у него ноги, у такого юного и сильного. Лучше б ты забрал мои!
По словам моего друга, с тех пор она уже не вставала, а юноша стал величайшим бегуном за всю историю острова. Вспомнив о той байке, я задумался, как помочь Ленни. Казалось, мы будто обменялись чем-то – он забрал мое несчастье и поделился со мной припрятанной радостью.
Я все еще пытался придумать что-то, и тут несколько дней спустя мне позвонил человек, представившийся неким врачом.
– Могу я поговорить с мистером бен Иззи? – спросил он. Голос у него был старый и угрюмый.
– Я у телефона.
Возникла пауза, и мне было понятно, что звонивший растерялся.
– Простите, мне нужно поговорить с мистером бен Иззи. Ваш супруг дома?
Я попытался мобилизовать самый глубокий и громкий шепот:
– Мистер бен Иззи … это я.
Мужчина откашлялся и продолжил:
– Ладно. Боюсь, у меня нелучшие новости, – теперь пришла моя очередь растеряться. Я уже много месяцев не навещал врачей. Какие такие плохие новости он мог мне сообщить? – Мы получили результаты ее анализов. Подтвердились наши худшие опасения. Похоже, это рак. Поздняя стадия метастатического рака легких.
– У кого?
– Да у вашей матери, разумеется. Она попросила позвонить вам сразу после операции.
– После операции?
– Сегодня утром. Вы не знали? Вам никто не сообщил?
Я онемел.
– Простите. Произошла какая-то ошибка. Вам должен был позвонить работник собеса, – мой собеседник глубоко вздохнул. – Ваша мать поступила в больницу вчера вечером, ей было трудно дышать. Она пожаловалась, что уже месяц ее одолевает простуда. Мы сначала решили, что это бронхит, но оказалось, что поражено все легкое. Сделали рентген, но не смогли на его основании поставить диагноз, поэтому сегодня утром ей сделали операцию, просто посмотреть. Хотя, по правде говоря, мне не нужны были даже результаты анализов. Там все плохо. Боюсь, ей осталось недолго.
Я не верил своим ушам. Вспомнил сообщения, которые мама оставляла у меня на автоответчике. Было похоже, что она простужена. Конечно, ни на что она не жаловалась, но я слышал по ее голосу, каким она рассказывала, как все у нее хорошо. В полном ступоре я записал сведения – больница в Южной Калифорнии, номера телефонов и все прочее.
– Сколько?.. – только и смог я спросить.
– Приезжайте-ка прямо сейчас.
Есть одна дзэнская байка, она не идет у меня из головы. В ней речь о мастере, у которого имелся свой особый способ подчеркнуть сказанное. Завершив фразу, мастер вскидывал руку с чуть согнутым указательным пальцем и произносил: «Ага!»
Этот жест был его фирменным, и ни одному монаху в голову не приходило его повторять. Но как-то раз один ученик, насмотревшись на этот жест, взялся подражать ему. Разумеется, ученик никогда не делал этого при мастере, но часто в спорах с другими учениками, высказывая мысль, точно так же вскидывал указательный палец и произносил нараспев: «Ага!»
Однажды мастер задал ему вопрос при всех. И так был доволен ученик собственным ответом, что, договорив, дерзко поднял указательный палец и сказал: «Ага!»
Класс опешил от такой наглости и затаил дыхание: что же предпримет мастер? А тот просто попросил ученика повторить ответ, ученик с удовольствием так и сделал, а в конце снова добавил этот жест и произнес: «Ага!» И вот тут-то учитель внезапно схватил его за руку, прижал ее к столу, извлек нож и отрубил ученику указательный палец. Ученик завопил от боли и бросился прочь из комнаты, из увечной руки хлестала кровь. Однако учитель успел окликнуть его:
– Вот еще что… – сказал учитель.
– Что? – вскричал ученик.
Учитель улыбнулся, вскинул руку в своем любимом жесте и сказал: «Ага!»
Эту историю я никогда не рассказывал со сцены. С того самого момента, как услышал ее, я старался о ней не думать. Но пока мой самолет заходил на посадку в международном аэропорту Лос-Анджелеса, именно эта байка возникала у меня в мыслях вновь и вновь. Вот каковы, значит, пути Господни. Стоит подумать, будто понял что-то об этой жизни, и… р-раз! А потом, мгновение спустя – «Ага!».
Я пытался выкинуть эту историю из головы и свою злость в придачу: самолет – не лучшее место для обид на Бога. Вымещал свою злость на стюардессах – ох уж эта их самодовольная услужливость, эти их дешевые крендельки, – но все без толку. Я злился на себя. Злился на свою разобщенность с матерью. На то, что заболел сам. На то, что у меня исчез голос.
Подо мной расстилались мили и мили мегаполиса. Рядом с аэропортом я видел огромные парковочные площади, загроможденные десятками тысяч машин, и шоссе, ответвлявшиеся во все стороны, запруженные пятничным транспортом. Сквозь бурый воздух видел бесконечные борозды улиц, кварталы домов, простиравшиеся докуда хватало глаз. Когда самолет приземлился, я сделал то, что и всегда при прилете в Лос-Анджелес, – надолго задержал дыхание.
Думать о том, куда я направляюсь и чем там предстоит заниматься, не хотелось. Вместо этого я заново проиграл в голове вчерашний день. После телефонного звонка – по странной случайности, какие часто окружают смерть, – Илайджа и Микейла прибежали ко мне и сообщили, что нашли на крыльце мертвую птичку.
– Надо ее похоронить, – сказал Илайджа.
Я нашел коробку из-под обуви, и дети отделали ее упаковочной бумагой, чтобы та стала похожа на гробик. Илайджа старательно вывел слово «ПТИЦА» на крышке, а Микейла украсила ее наклейками бабочек. Пока мы хоронили птичку в углу сада, я постарался объяснить, что бабушка Глэдис умирает и что скоро нам предстоят настоящие похороны.
Тали пришла домой, когда мы произносили поминальный каддиш по птице. Дети отправились играть дальше, а я рассказал Тали о матери. Тали сначала обомлела, а потом начала засыпать меня вопросами вроде «А они пробовали?..», «А как же?..», и ни на один я не мог ответить.
Позже, вечером, когда я собирал вещи, она пришла и села на кровать. Позвала меня сесть рядом, но я не принял предложения. Слишком злился. И вот Тали сидела одна и смотрела на меня.
– И что ты собираешься делать? – наконец спросила она.
Я пожал плечами и продолжил собираться.
– Это очень важно, Джоэл. В этом суть жизни.
– Жизнь херня, – прошептал я, пакуя белье, какое сумел найти, и стал искать носки.
– Это правда. Но это жизнь. Твоя жизнь. И это важно.
– Это херня, – повторил я.
– Да, херня. Но это ничего не меняет. У тебя есть дела.
– Херня.
– Они в нижнем ящике, слева, – я не понял, о чем она, но заглянул в ящик и обнаружил полдесятка пар носков, свернутых в клубки. – Джоэл, тебе выпала возможность. Такая мало кому достается, и еще меньше людей ею пользуется.
Я понимал, чтó она имеет в виду. Сразу после того, как мы начали встречаться, умерла ее мать – тоже от рака легких. Когда конец был уже совсем близок, Тали улетела к ней. Когда она приехала в больницу, мать сказала ей:
– Нам надо поговорить.
– Сейчас? – спросила Тали.
– Скоро.
Через пятнадцать минут мама впала в кому и уже не очнулась.
Я видел, как Тали перебирает эти воспоминания.
– Джоэл, – сказала она наконец, – ты должен сказать ей свое «прощай».
Я забрал несколько носочных клубков из ящика, наклонился к ее уху и прошептал:
– Сказать «прощай»?.. Как… черт побери… я…
– Джоэл, ты не понимаешь. Время жалости к себе истекло. Тебе нужно проститься с матерью. И ей нужно проститься с тобой.
– Но как…
– Не знаю. Но я в тебя верю. Когда увидишь ее, скажи все, что должен сказать. Не жди. Потому что скоро все будет в последний раз.
В аэропорту Лос-Анджелеса было, как обычно, не протолкнуться. Пока ждал своей очереди в прокате, я терялся в догадках, что буду делать, когда увижу маму. Старался представить ее и вспомнил фотографию у нас дома на каминной полке, сделанную на ее семидесятилетие, где она в своем праздничном красно-оранжевом платье. Выглядела такой счастливой. Но теперь это отошло куда-то вдаль. Я думал о том, сколько радости было у нее на лице, когда она смотрела – много раз и в разных местах – мои выступления. Как вышло, что мы так отдалились? Она привела меня в этот мир, напомнил я себе. А теперь пришла моя очередь провожать ее.
Когда я наконец-то получил авто и пробрался на шоссе, поток машин двигался со скоростью сахарного сиропа. Мысли цеплялись одна за другую, и я вспомнил смерть отца. Его поместили в дом престарелых, когда врачи сдались. Как-то раз я навещал отца, и соцработник узнал меня и спросил, не приду ли я как-нибудь с концертом. Я согласился, но концерт обернулся сущим кошмаром: невменяемые обитатели в инвалидных креслах что-то бормотали себе под нос и размахивали руками. Я принялся за первую историю, но тут женщина в задних рядах начала громко звать медсестру. Крик распространился, как пожар, и я, не успев досказать даже первую байку, потерял половину своей публики. Но в первом ряду сидел, вытягивая шею, чтобы получше видеть, и обожая меня каждую минуту, мой отец, скрюченный в своей коляске. Это был последний раз, когда я застал его в живых и когда ближе всего был к тому, чтобы проститься с ним.
Я стоял в пробке, мысли носились по кругу, возвращаясь к тому последнему разу, когда я видел мать здоровой – на моем благотворительном концерте в храме в честь ее семидесятилетия, как раз когда и сделали тот снимок. Я видел ее лицо, озаренное радостью, рядом – Илайджа и Микейла. Вот что хотелось бы мне сейчас увидеть – как мама смеется, улыбается. Я вспомнил анекдот, который мне на днях прислали по почте. Байка об одном еврее в Англии, которому выпала высокая честь стать рыцарем Ее Величества. И когда королева поочередно прикоснулась мечом к его плечам, именуя того еврея сэром Коэном, он должен был произнести определенную фразу на латыни. Но в нужный момент у него из головы вылетела вся латынь. От страха он произнес первое пришедшее на ум – первый из Четырех вопросов: «Ма ништана а-лайла а-зе?..»[10] Королева растерянно посмотрела на него и спросила: «Чем этот рыцарь отличается от всех других рыцарей?»[11]
Я почти слышал смех матери. Такие анекдоты ей нравились. И время было подходящее: Песах – любимый мамин праздник, наступает через пару недель. Доживет ли…
Глубоко задумавшись, я пропустил свой съезд с шоссе. Раздражение и облегчение возникли одновременно. Не имея в запасе ничего, кроме шутки, я чувствовал себя неподготовленным. Подумал, что стоило бы явиться к ней хотя бы в шляпе. Но потом вспомнил, что шляпы-то уже и нет. Подумал о Ленни – что бы он сказал? Представил, как он улыбается и говорит: «Вот тебе еще один подарок, Джоэл, ну ты и везучий».
Размышления о подарках напомнили мне, что я ничего не привез с собой, даже цветов. Пока выкатывался с шоссе на следующем съезде и пробирался к больнице, увидел огромный универмаг. Ухитрившись найти место на парковке, зашел внутрь и обнаружил, что в моем распоряжении все, кроме цветов – во всяком случае живых. Пластмассовые розы. Пластмассовые маргаритки. Пластмассовые хризантемы. Я счел, что это даже хуже, чем ничего. И уже собравшись уходить, заметил кое-что полезное – волшебную доску, на которой можно писать, а потом стряхнуть экран и стереть написанное. Доска была розово-фиолетовая, на верхней кромке красовалась Русалочка. Эта штука пригодится, чтобы писать слова, которые мама не расслышит, – так у нас с ней повелось.
Я забыл, где припарковался, и некоторое время искал свою машину, а когда поехал – обнаружил, что больница как раз через дорогу от универмага. Пересек улицу и снова припарковался, обошел больницу, поднялся на четвертый этаж и теперь гадал, какая из палат 413-я. Меня мутило от больничных зданий и тамошнего запаха. В лифте я успел подумать о десятке разных мест, где предпочел бы сейчас оказаться, и о десятке дел, заниматься которыми предпочел бы.
Нашел дверь, заглянул через смотровое окошечко внутрь. Увидел маму. В полусне, трубки капельницы подсоединены к рукам, растрепанная – мама выглядела ужасно. Ее одели в желтую ночную рубашку вместо обычной зеленой или голубой. Цвет, скорее всего, предполагал внести некоторую радость в происходящее, но я этой радости не ощутил, а почувствовал лишь мрачную неизбежность.
Тихонько вошел и несколько минут просто стоял рядом, разглядывал ее. «Это моя мать, – думал я настойчиво, словно напоминая самому себе. – Я никогда больше не увижу ее здоровой». Тихонько поцеловал ее в лоб.
Она открыла глаза. Увидела меня, и я увидел, как она сразу посветлела.
– Привет, пригожий, что тебя тревожит?[12] – произнесла она слабым голосом. Именно так она меня обычно и приветствовала. Я не ответил, и она добавила: – Как дела?
Это выражение ее лица мне было хорошо знакомо: надежда и предвкушение. Сколько помню себя, столько – и мамино лицо таким. Скажи мне что-нибудь хорошее, укрась мой день. Вместо ответа я пожал плечами, склонил голову набок и знаком показал «ну так себе». Жестом вернул ей вопрос: «А у тебя?»
– У меня? – переспросила она, улыбаясь. – У меня все в порядке, – даже моей маме не удалось произнести это убедительно. – Ну… не совсем.
Я молчал.
– На самом деле у меня не все в порядке. У меня поздняя стадия метастатического рака легких, – она произнесла эти слова, сильно артикулируя, словно пытаясь их как следует распробовать. Они ей не понравились, и она перешла к более веселому: – Вчера утром перед операцией меня отправили к онкологу. Такая милая молоденькая женщина. Очень терпеливая. И она произносит все так тщательно. У нее прекрасный дизайн кабинета, так все красиво, в моих любимых цветах. Осенних.
В этом была вся она – быть может, единственная женщина в мире, которая способна побывать на приеме у онколога и вернуться в восторге от того, какой замечательный у онколога кабинет. Я ждал, когда мама продолжит. Она вздохнула:
– Можно попробовать то-сё – всякие химиотерапии, облучение, но это без толку. Все зашло слишком далеко и быстро.
Это совпадало с тем, что я слышал от врачей: как ни парадоксально, рак легких, какой бывает у некурящих, – самый свирепый, и, стоит ему зародиться, он разносит организм, как торнадо. Мама ждала моего отклика.
Никогда еще с тех самых пор, как потерял голос, так сильно не желал я вернуть его. Чувствовал, как слова кипят внутри меня, пытаясь вырваться наружу. «Не волнуйся, – сказал бы я ей, – все будет в порядке». Я бы рассказал ей ту историю – пасхальную байку, что угодно, лишь бы насмешить ее. Но я не мог. Я просто взял ее за руку.
– Джоэл, – сказала она, – я умираю.
Она долго смотрела на меня и все ждала, что я заговорю. Я кивнул, сдерживая слезы.
– Знаешь, – продолжала она, – я не боюсь умереть. Правда. Думаю, это должно получиться так, как в первой сцене «Звуков музыки». Помнишь? Когда Джули Эндрюс переваливает за холм? – я снова кивнул, мама продолжила: – Думаю, там, на другой стороне, будет здорово. Я снова увижу твоего отца, высокого, здорового. Увижу бабушку Етту и дедушку Иззи, тетю Дайну и дядю Сэма – они все там будут, все здоровые… ждут меня. Окликнут меня и скажут: «Добро пожаловать, Глэди!» – и я их услышу.
Я сжал ее руку и почувствовал, как она пожимает мою в ответ. А потом лицо у нее потемнело, и я увидел слезы.
– Но я не знаю, как туда попасть, – сказала она. – Холм слишком высокий и крутой, а у меня слишком тяжелый чемодан… – голос ее затих, словно вопрошая, и вопрос этот мама не могла задать, а я не мог на него ответить. Она спрашивала меня о том, как умирать.
Мы долго сидели в полной тишине. Я думал о ее чемодане и о том, что в нем могло быть. Я всегда помогал маме нести багаж, продукты… Но не в этот раз. Не мог я отнести этот чемодан за нее, но и она не могла его тащить сама. Оставалось только распаковать его. И сделать это можно только одним способом – сказать правду.
И тут до меня дошло. Я внезапно увидел велосипед с ведром песка. Услышал слова Ленни: «Бог шлет тебе послание… кое-что настолько очевидное, что ты и разглядеть-то его не можешь… В одно слово». Слушай.
Я полез в пакет, с которым пришел, и достал оттуда волшебную доску. Вытащив бордовую палочку-стилус из гнезда, я написал: «Расскажи мне свою историю».
Земляника
Родина истории – дзэн-буддистская Япония
Дзэнский мастер отправился как-то в дальнюю деревню. Возвращаясь, он опаздывал на последний поезд и решил срезать путь.
На закате дня брел по узкой горной тропе, пристально вглядываясь вдаль. И так увлекла мастера красота природы, что он перестал следить за дорогой. В ту минуту он столкнул маленький камешек с тропы вниз и не услышал, как тот приземлился.
Он замер и обнаружил, что стоит на вершине огромной скалы. Еще один шаг – и он бы свалился со стофутового обрыва.
И вот застыл он на вершине, оглядывая далекие горы, – и вдруг услышал громкий рык. Обернулся и увидел, что сзади к нему приближается громадный тигр. Попробовал мастер шагнуть в сторону, но земля посыпалась у него из-под ног. Падая с обрыва, уже летя вниз головой, мастер попытался ухватиться хоть за что-то. Мгновение спустя он уже болтался, держась одной рукой за колючий вьюн, росший из трещины в скале. Взглянул вверх – там, облизываясь, сидел тигр.
Тогда мастер бросил взгляд вниз, на дно обрыва. Там, глядя на него, сидел второй тигр.
Тигр над ним, тигр под ним… Монах уцепился покрепче за вьюн, и острые шипы впились в кожу. Рядом с растением, державшим его над пропастью, он заметил малюсенькое отверстие. Приглядевшись, увидел крошечную серую мышку, выбравшуюся на свет. Она пробежала по стеблю вьюна, оглядела монаха, оглядела тигра внизу – и начала грызть стебель.
Монах поискал, за что еще можно было ухватиться, но ничего больше поблизости не было. И тут, далеко в стороне от того места, где он висел, обнаружилось крошечное растение. Разумеется, оно было слишком маленьким, чтобы удержать его вес, но мастер все равно потянулся к нему. Раздвинул зеленые листочки и увидел, как что-то краснеет. Куст лесной земляники, а на нем – одна-единственная спелая ягодка.
Сорвал мастер ту ягоду, съел ее и подумал: «Ну не сладка ли жизнь?»
Глава 10 Земляника
Мама прочла написанное на волшебной доске.
– Мою историю? – она явно растерялась. – Ты хочешь услышать мою историю?
Я кивнул.
– Но я же не рассказчица… – тут я помотал головой. – Откуда ж мне знать, с чего начинать…
– Где начнешь, – написал я, – там и будет начало.
Она прочла и спросила:
– Вообще где угодно?
Я снова кивнул. Она какое-то время задумчиво смотрела в сторону, прикрыв глаза. А когда взглянула на меня – улыбнулась:
– Я вдруг подумала о твоем дедушке Иззи, – сказала она, – и как он обожал кетчуп.
Я кивнул.
– Он лил его на все: на яйцо, на грудинку, на тост. Говорил, что это его любимая американская еда.
Мама умолкла, чтобы посмеяться, а пока смеялась, все кашляла и кашляла; затем продолжила. Я слышал об этой коллекции кетчупов в подвале дома в Хайд-Парке и о том, как однажды дед открыл бутылку прокисшего кетчупа и красная масса рванула к потолку.
– С тех пор на потолке навсегда осталось пятно. Когда приходили гости, мы водили их поглядеть…
Мама говорила, и стены палаты раздвинулись и растворились: уродливые занавески, медицинские приборы, стол на колесиках, поднос – все исчезло. На их месте возник Кливленд предвоенных лет. Я услышал о том, как мама впервые вела машину по улице, когда ехала за шоколадом, каким волшебным местом была свалка ее кузена Леонарда, рядом с мастерской матрасов ее отца, и какими замечательными были вечерние воскресные поездки, когда они с отцом доставляли матрасы заказчикам в пригороде.
– Я рассказывала тебе о доме в Хайд-парке? – я мотнул головой. Конечно же, она упоминала о нем много раз, но всегда вскользь, будто я знал эти истории наизусть. На этот раз я услышал о каждой комнате и коридоре, о запахе миндального печенья, которое пекла ее мать, и о платанах во дворе, и о подвале. – Там проходили собрания Клуба кузин и кузенов, – говорила она. – Я, Норма, Норти, Морри, Леонард, кузен Мэнни – аккурат под пятном от кетчупа.
Я услышал о дяде Сэме, хрупком, деликатном, любезном человеке, который семьдесят пять лет был женат на тете Дайне.
– Мы все удивились, когда однажды на семейной вечеринке он заявил, что готов спорить: ему хватит сил разорвать пополам телефонную книгу. Такой он был маленький – и совсем не свойственно ему хвастаться. Все замерли, хозяин дома принес ему кливлендские «Желтые страницы» и сказал: «Ну, давай!» И он дал – по одной странице за раз!
Простые истории, которых она никогда мне прежде не рассказывала. Даже сейчас она все еще удивлялась, что я захотел их послушать.
– Никогда бы не подумала, что тебе это могло быть интересно.
Но мне было интересно! Она говорила, а я переносился во времени и пространстве: в мир деликатесных лавок, мир дяди Луи, который любил все маринованное и таскал домой огурцы в карманах; в пресс-зал «Кливленд Плейн Дилер» и в ее первый день репортерской службы; и еще дальше – в летние дни в детском лагере «Кэмп Уайз», на берегу озера, где она была вожатой.
– И вот однажды летом появляется новый вожатый. Высокий, эффектный, вечно сыплет анекдотами и байками. Дети его обожали. Как-то ночью дал целый концерт игры на скрипке – это было чудесно. Сказал, что собирается в Палестину жить в киббуце…
Так отца мне никто никогда не описывал. И я никогда не слышал историю их знакомства, как они сплели свои мечты в одну и поехали в Калифорнию и какое это было чудесное место. Ее истории были приправлены именами людей вроде Лангольца и Шлаймера, с которыми они познакомились и которых я знал всю жизнь. Но сейчас, в рассказах о времени, когда ни меня, ни моих братьев еще не было на свете, эти персонажи казались почти мифическими. Южная Калифорния обрела в маминых словах красоту, какой я никогда не знал. Я почти осязал запах цветущих апельсиновых деревьев.
А потом мама умолкла, вздохнула, покашляла, пожала плечами.
– Что еще я могу сказать? – спросила она.
Я подумал о совете, который дала мне Тали, – не оставлять недосказанности. Подумал о выражении лица Ленни, когда он сказал: «Похоже, ты застрял в Хелме». Вытащил стилус и написал: «Что в чемодане?»
Мама взглянула на доску, потом – под кровать, как будто чемодан стоял где-то там, на полу. Потом снова молча посмотрела на меня. Ее глаза умоляли: «Пожалуйста, не надо туда».
Но нам больше некуда было идти. Мы поискали под фонарем и ничего не нашли. Я ждал, и пока она молчала, снова обратился к доске, стер предыдущие слова и написал: «Давай правду».
– Но это правда… – возразила она.
Отступать некуда. И на этот раз на доске я написал: «Бабушка А.».
У мамы на лице возникло смятение, будто я написал ругательство.
– К чему сейчас об этом? Зачем к этому возвращаться?
«И действительно – зачем?» – подумал я. И написал снова: «Чемодан?» Мама поняла.
– Ей своих бед хватало… – выдавила она из себя. Такая у нее была вечная отговорка.
Кивком я предложил продолжать, хотя видел, что ей этого меньше всего хотелось.
– Твой отец сделал все, чтобы я не встретилась с ней до самой нашей свадьбы. Если бы узнала ее раньше, я б не вышла за него замуж. Я умоляла его унять мать. Он пытался, но безуспешно.
Мама покачала головой, и я видел, как всплывает в ней гнев, а она пытается загнать его обратно:
– Она пекла отличные блинчики, помнишь?
Помнил. Кивнул.
– Она кормила ими отца, приговаривая, что ему не надо есть мою стряпню, что я хочу его отравить, – гнев прорвался вновь. – Она была отвратительна. Она превратила нашу жизнь в сплошное несчастье. Преследовала нас. Врывалась к нам в дом. Мучила нас. Эта сучка…
Мама оборвала себя на полуслове, на лице ужас. Но дело сделано. Как будто она произнесла волшебное слово. Моя мать, которая за всю жизнь ни о ком не сказала ни одного плохого слова, разрушила заклятье. Она выждала мгновение – отзвук слова «сучка» метался по палате. Маму откровенно удивило, что молния небесная не поразила ее. И продолжила:
– Она была сучкой. Ненавидела меня. Не знаю, за что. И не потому, что я ее сыну не годилась, – она считала меня корнем всех зол на свете. Гитлером обзывала. Плевала мне в лицо…
И разверзлись хляби небесные. Я выслушал все о своей злобной бабке и о том, как она преследовала моих родителей до самой Калифорнии; о том, каково это – жить с моим отцом, наблюдать, как рушатся его мечты, прожект за прожектом, как семейные сбережения вылетают в трубу, как разваливается папино тело, как постепенно проявляется маниакально-депрессивное расстройство. Папа бурлил замыслами, городил воздушные замки, и мама понимала, что ни один не сработает, что они втягивают нас все глубже в долги.
– Все равно что наблюдать, как горит дом – медленно, год за годом. И я не могла его остановить…
Она рассказала мне, что происходило еще до моего рождения, о чем я прежде не знал. Мама беременела пять раз. Два первых ребенка были девочками. Одна родилась мертвой, а другая, которую назвали Мэри, скончалась через час после рождения. Я подумал о Микейле и вспомнил, как засияли мамины глаза, когда она впервые взяла мою дочку на руки.
Скорбь не знает границ, а мамина скорбь тянулась из далекого прошлого. И сейчас она принялась рассказывать мне заново о тех же идиллических временах ее юности в доме в Хайд-парке, но на этот раз я узнал об одном ее дяде, покончившем с собой, об ужасных ссорах, о депрессии ее отца и о том, с каким лицом он вернулся после лечения электрошоком.
Она заметно устала. Дышала с трудом, кашляла. Но при этом приободрилась. Лицо сияло, появилась какая-то особая легкость, какой я не видел с тех пор, как был мальчишкой. Подумывал, не пора ли дать ей отдохнуть, но какое там, ее не остановить. Она рассказала мне, какой это был ужас – наблюдать, как ее отец – мой дедушка Иззи – умирал от рака легких.
– Я прилетела в Кливленд. Нэт Кинг Коул был там же, в той же больнице. Он тоже умирал от рака легких. Помню, как они установили микрофон в палате у Нэта Кинга Коула, чтобы он спел для всех пациентов. Исполнил «Мону Лизу», – мама отвернулась, словно возвращаясь назад во времени, и ясно было, что она прислушивается к голосу Нэта Кинга Коула. – Мы все замерли: я, твой дедушка Иззи, бабушка Етта, медсестры – полная тишина. И все смотрели на динамик. У Коула был такой нежный, мягкий голос. Даже в трескучих больничных динамиках он струился как шелк.
И тут, со звуками его голоса, мама умолкла. Она открыла какую-то другую дверь, и я знал, что в ту дверь пройти будет непросто. Мама прожила последние двадцать пять лет, довольствуясь гаснущим слухом. И из всего, на что она всю свою жизнь не жаловалась, это оказалось самым болезненным. Я вообразил, каково ей было жить год за годом с убывающей громкостью. И за все это время она не произнесла ни слова жалости к себе. Не кляла ни Бога, ни свою судьбу.
Я глубоко вздохнул и собрался принять и эту часть ее истории. Но тут взглянул на нее, а она улыбается. Совершенно непонятно чему.
– Я подумала о Бланш, – объяснила она, – и о концерте, куда она взяла меня в прошлом году на мой день рождения. На самом деле это я ее взяла – ну, машину вела я, – Бланш, одна из ближайших подруг моей матери, почти полностью незрячая. – В зале «Амбассадор» играли Шестую симфонию Бетховена. «Пасторальную», – в маминых глазах появилась мечтательность.
Я растерялся.
«Тебе удалось послушать?» – написал я. Она покачала головой.
– Едва-едва. Как будто издалека. Но есть другие способы слушать. Я наблюдала, как дирижер машет палочкой и как музыканты следуют за этими движениями. Смотрела на Бланш и чувствовала, как через нее течет музыка. А потом я закрыла глаза и взялась за ручки кресла. Музыка была такой густой – как взбитые сливки.
Помолчав, она добавила:
– Забавно наблюдать, чтó Бог забирает у нас, правда? И что мы получаем взамен? Пока была молода и все слышала, я всегда любила музыку, любила слушать, как играет твой отец, любила пластинки, танцы. Но никогда не наслаждалась музыкой так, как на том концерте.
Я так увлекся ее описанием, что даже не заметил, как вошла медсестра. Принялась возиться с флаконами капельницы.
– Ой, как мило, – сказала медсестра, крупная женщина с копной светлых волос. – У вас посетитель.
– Это мой сын, – пояснила моя мать. – Младший. Он из Беркли – профессиональный сказитель.
– Сказитель, – повторила медсестра. – Как мило.
Я согласно кивнул.
– И у него красавица жена и двое чудных ребятишек, – добавила мама и сплюнула трижды через левое плечо: тьфу-тьфу-тьфу. Было и комично, и трогательно видеть, как она сплевывает, чтобы не сглазить, даже умирая от рака. К счастью, медсестре недосуг было разговаривать, она доделала необходимое и ушла. – Ну а ты как? – спросила мама. – Как у тебя дела? Я тебе все выложила. Расскажи теперь ты, Джоэл. Я что-то не помню тебя таким тихим, – она пристально вгляделась мне в лицо. – Что-то не так, да? Ты не здоров.
Я кивнул. Она выдала мне всю правду, и теперь мне придется поделиться своей.
– Почему ты молчишь? – переспросила она. – Не сказал ни слова с тех пор, как пришел.
Снова взялся я за доску и написал: «Я потерял голос». Вид у мамы сделался растерянным.
– У тебя ларингит? – спросила она.
Я помотал головой. «Рак», – написал я.
Она прочла это слово, потом еще раз, и удивление уступило место ужасу.
– Рак? Ничего не понимаю. Когда? Как это?
Посыпались вопросы. Десяток. Я старался изо всех сил, писал, стирал, снова писал, пока она жестом не прервала меня и не показала на маленькую черную коробочку рядом с кроватью. Я взял ее, открыл. Внутри оказался крошечный микрофон на длинном шнуре, тот самый, что мы когда-то задействовали, безуспешно пытаясь вести беседу в ресторане.
Я покачал головой. Как нам это сейчас поможет?
Она воткнула конец провода в другую коробочку, подсоединенную к ее слуховому аппарату.
– Попробуй тихонько шептать и хорошенько артикулировать, я тогда, может, что-нибудь услышу.
Я попробовал. Мама ждала – она ничего не слышала, а я шептал: «Проба, раз, два, три…» Но тут она просияла, словно ей в голову внезапно пришла идея. Она потянулась к аппарату и включила его. Ее слуховой аппарат пронзительно взвизгнул, мама, покрутив какие-то ручки, настроила его, и визг утих.
– Попробуй теперь.
Я прошептал фразу, преувеличенно четко выговаривая каждое слово. На этот раз она удовлетворенно кивнула.
– Звук такой, будто ты на вершине горы, далеко-далеко. Но если будешь говорить медленно, я тебя услышу.
Я вдохнул поглубже и начал. После каждой фразы я ждал, когда у нее на лице возникнет понимание сказанных слов. Если понимания не возникало, я повторял снова, старательно растягивая губы. Всякий раз, когда слова добирались до ее слуха, я видел, как они воздействуют на маму. Они надрывали ей сердце. Она слушала и все больше темнела лицом. Смотреть на это было мучительно – всякий раз, останавливаясь, чтобы перевести дух, я слышал голос, вопивший у меня в голове: «Какого черта ты творишь? Мало того, что мама умирает, она еще и должна все это выслушивать?»
Но я уже не мог остановиться. Мы нарушили «правило хороших новостей». Моя жизнь в ее глазах сейчас была подобна горящей картине. Это живописное полотно она хранила в мыслях много-много лет. Я хорошо это знал, поскольку сам же ее и писал – тщательно и подробно – с самого детства. Эта картина складывалась из моих наград, достижений, концертов – «Портрет Успешного Сына». Теперь эту картину пожирало пламя.
Договорив, я позволил себе то, чего не позволял ни разу с того самого утра, когда проснулся без голоса. Я заплакал. И моя мама сделала то, чего не делала никогда, сколько я себя помнил, – обняла меня. Больная, умирающая от рака, она обнимала меня, заботилась обо мне так, как бывало только в моем детстве.
Так мы просидели долго. Я не хотел уходить. Я обрел мать. Мы не сказали ни слова – даже не пытались. Незачем. Мы оказались в той точке жизни, когда слова не нужны.
Стемнело. Я видел, что мама уже без сил. Ей надо было поспать. Я отпустил ее, поцеловал в лоб. Она кивнула, понимая, что пришло время отпускать. И все же она сидела с таким лицом, какого я не видел никогда прежде. Словно она заново стала матерью.
Я вышел из палаты. Когда дверь закрылась, я взглянул на маму еще раз через маленькое окошечко. «Это моя мать, – сказал я себе. – Моя мать». Мне нравилось звучание этих слов. И пока смотрел на нее, снова услышал ее голос из давно ушедших лет. Она произнесла те же слова, что и много-много раз прежде: «Дверь закрылась – окно откроется».
Гершеле смеется последним
Родина истории – еврейская Украина
Великий весельчак Гершеле Острополер умер так же, как и жил – с шуткой на устах. Когда настал ему конец, селяне собрались у его постели, где возлежал он, слабый и, казалось, уставший даже говорить.
– Гершеле, – сказал ребе, – ты умираешь. Ну хоть напоследок ты будешь серьезен?
– Теперь-то чего начинать? – спросил Гершеле.
– Но Гершеле! – воскликнул ребе. – Через пару минут ангел смерти придет за тобой. Он спросит, как тебя зовут, – и что ты скажешь?
– Я скажу – Моисей.
– Но он знает, что ты не Моисей, Гершеле!
– Если знает, зачем спрашивать?
– А еще он спросит тебя, что ты сделал в жизни, как подчинял ты себе пороки свои, какое благо принес миру. Что ты на это скажешь?
– Скажу, – ответил Гершеле, – что починял себе ботинки, тем и принес миру благо.
Гершеле начал отходить.
– У меня есть одна последняя просьба, – проговорил он слабым голосом. – Подойдите поближе, – все склонились к нему. – Прошу лишь об одном: будете класть меня в гроб – под мышки не берите, умоляю.
И с этими словами Гершеле закрыл глаза и умер.
Воцарилась тишина. Что за странная просьба? И тут все наперебой начали спрашивать:
– Почему? Гершеле, ответь, почему?
Через минуту Гершеле открыл глаза и заговорил с ними из потустороннего мира:
– Я всегда боялся щекотки.
Глава 11 Гершеле смеется последним
Я рассказал эту историю на похоронах моей матери так же, как двенадцать лет назад – на похоронах отца. Рассказал по ее просьбе – она хотела смеха.
– Пусть это будет праздник, – сказала она. Машина скорой привезла маму обратно к ней в квартиру умирать. – Мне повезло прожить такую жизнь, как у меня. Хочу, чтобы на мне было мое красно-оранжевое праздничное платье – помнишь? Которое я купила себе на семидесятилетие? Знаешь, я повидала достаточно похорон, где были одни слезы и ничего больше, – таких похорон хватает и моим друзьям. Люди, конечно, пусть плачут, но я хочу, чтобы они еще и пели – ту песню из «Звуков музыки» как можно громче, так, чтобы я могла их услышать. А еще я хочу, чтобы они смеялись. Джоэл, ты же расскажешь какие-нибудь истории?
Эта просьба застала меня врасплох. Я пожал плечами.
– Как тогда, на похоронах отца. Ту же историю – про Гершеле, а еще другие – про Хелм. Хорошо? – я согласно кивнул, хотя и не представлял себе, как буду это делать. – Не беспокойся, – сказала мама. – Ты шепчи. Они услышат.
Я провел те последние вечера с мамой, планируя похороны и слушая ее байки. Когда было поздно и она засыпала, я гулял по улицам вокруг ее дома. Такие улицы я не любил никогда – кругом сплошные универмаги, забегаловки, квадратные бетонные здания в квадратно-спланированных кварталах. За углом находился супермаркет, занимавший пять с лишним акров, а через улицу – торговый центр таких размеров, что покупатели обычно перемещались на машинах из одного конца в другой. Я гулял в одиночку: людей никого, бесконечный поток машин.
Но моя мать любила все это: свой дом, соседей, магазинчики, спрятанные в бетонных джунглях. Пока гулял, я вспомнил, что случилось много лет назад, когда умирал отец. Я подвозил маму куда-то на восток вдоль Десятой автострады, где-то на полпути к Сан-Бернардино, что-то там забрать. Уже не помню, что это было, – кажется, что-то бюрократическое. Запомнилось лишь одно – мое нежелание ехать в эту глушь. В конце концов мы добрались туда: вечерняя школа для взрослых, выстроенная целиком из бетонных блоков, – нам там сообщили, что бумажка, за которой мы ехали, еще не готова, и нам пришлось ждать почти час. Мы сидели во дворе на такой жаре, что видно было, как раскаленный воздух поднимается над асфальтом. Рядом стояла какая-то битая жизнью конструкция, напоминающая огромный, кое-как построенный сарай, окруженный металлической сеткой. Мы ждали – мама улыбалась, а я жарился заживо, – и вдруг она произнесла:
– Правда, красиво?
Она указала на сооружение за сеткой.
– Что?
– Это курятник. Видишь? – я пригляделся и понял, что она права. – Его построили люди из класса для необучаемых. Птиц там пока нет, но когда-нибудь они там будут. Было бы здорово, а?
Размышляя о том курятнике и вновь о матери, я смог различить две картины. На одной – самая обыкновенная женщина, проведшая жизнь в тихом разочаровании, какое приходит вслед за разрушенными мечтами. Другая же картина запечатлела женщину, одаренную способностью радоваться тому малому, что ей дано, находить прекрасное там, где его вроде бы нет вовсе, и встретить свою смерть с мужеством, какого я сроду не видывал.
Я переключался с одной картинки на другую, будто именно мне предстояло между ними выбирать. И тогда я подумал о Ленни – что бы он сказал обо всем этом. «Еще одна загадка, – сказал бы он. – И тебе пора бы уже научиться их любить. Как в той истории о двух спорщиках, которые обратились к хелмскому раввину, чтобы тот их рассудил. Выслушав обоих, ребе пригладил бороду и сказал одному: “С одной стороны, ты прав…” И другому он сказал: “А с другой стороны, ты прав”. – “Но, ребе, – возразил некто третий, – они не могут оба быть правы”. На что ребе кивнул и сказал: “И ты тоже прав”».
Конечно же, Ленни прав. Не мне выносить о ней суждение: она моя мама, и мне страшно повезло обрести ее вновь – после стольких лет. Значение имело лишь то, что она любила меня, а я – ее. Стоило мне осознать это, как обе картинки слились воедино.
Мама угасала быстро. Дышать ей становилось все труднее, появилась мокрота, мама перестала есть. Тали с детьми прилетели попрощаться. Шел Песах, и поскольку мама не могла пойти на седер, мы устроили его прямо дома. Без еды, зато с пением и историями. Микейла пела песни, выученные в подготовительном классе, – о Моисее и реке, о фараоне и лягушках. Илайджа исполнил песню о четырех вопросах. А потом поведал бабушке историю Песаха. Рассказывал он замечательно, точно так, как я ему год назад. Добравшись до Моисея и его медлительной речи, Илайджа примолк и добавил: «Как у моего папы».
Мама уже не разговаривала, поэтому гордость за внука выражалась в блеске ее глаз, и она смотрела на Илайджу так же, как когда-то на меня. Я помнил эту гордость во взгляде, направленном на меня, на многих-многих моих концертах. За этот взгляд я усердно трудился всю жизнь и гордился им сам. Но сейчас мы обменивались другими взглядами – обоюдного признания.
Той ночью, когда ангел смерти пришел за ней и она скончалась, я проснулся, сразу почувствовав, что ее не стало. Ощутил то же самое, что чувствует любой, у кого умирает второй родитель, каким бы старым он ни был, и хотя я ничего не сказал вслух, Тали все поняла.
– Сиротинушка моя, – прошептала она и обняла меня.
В каждой культуре есть свои традиции прощания с усопшими. В Непале тело оставляют на вершине горы, пусть стервятники пируют, тело – всего лишь бездушный сосуд. Инуиты кладут тело в лодку и отправляют ее в море.
В иудаизме есть способы напоминать родственникам усопшего, что человек действительно умер, дать толчок скорби. Один такой способ – юмор, поскольку печаль и радость – неразлучная пара, и малая толика смеха может разбудить скорбь. Быть может, поэтому моя мама хотела, чтобы я рассказывал байки.
Эта перспектива тем не менее ужасала меня. Я не рассказывал ничего на публике со времен той самой бар-мицвы в Сан-Франциско полгода назад. Я стал другим человеком – я больше не выступал.
Храм постепенно наполнялся – все знакомые лица. Эти люди помнили меня еще с тех пор, когда я в детстве показывал фокусы. Мама, понятно, говорила им о моей карьере сказителя, но я не видел этих людей много лет – с похорон отца, проходивших в этом же храме.
Пришел раввин, милый молодой человек, хорошо знавший мою мать. Обнял меня и братьев, а затем снова повернулся ко мне, чувствуя мою панику.
– Вы уверены, что хотите за это браться? – спросил он. Я кивнул. – Я знаю, она этого хотела.
Когда пробил мой час, я встал перед толпой, пробежал взглядом по лицам. И хотя знал, какие истории буду рассказывать, я все еще не понимал – как. Оглянулся на ребе – тот коротко кивнул мне, – а следом на братьев и на мою тетку. Затем вновь оглядел зал, людей, которых знал всю жизнь, но почему-то смог по-настоящему разглядеть их только сейчас. Каждый излучал теплоту, доброту, достоинство, какие я в них прежде не ценил по-настоящему. И пока молча смотрел на них, я ощутил, как тяжкий груз сваливается у меня с плеч. Подумал о словах, сказанных Ленни: «Пусть история течет через сердце». Я приник к микрофону и прошептал:
– Давайте я расскажу вам… о том, какой смелой была… моя мать.
По традиции на еврейских похоронах скорбящие сами закапывают гроб.
– Но лопаты мы держим по-особенному, – напомнил нам ребе и показал как, первым взявшись за лопату и перевернув ее рабочей поверхностью вниз. – Это напоминание о том, что это не обычное дело. Это священный труд.
Мы собрались вокруг могилы и стали закапывать гроб, держа зонтики друг над другом – начал накрапывать дождь. Одна из старейших маминых подруг принесла письмо от нее, которое мама писала тридцать с лишним лет назад, когда мы с братьями были еще детьми. Другая ее подруга вспомнила, как познакомилась с моими родителями и как мы с братьями втроем забрались на крышу их автомобиля.
В этом прелесть сказительства: сколько бы ни подарил ты историй, взамен получаешь еще больше. Мы стояли вокруг могилы, байки все лились и лились, а дождь хлестал все сильнее.
Время от времени я поглядывал на Илайджу, тот явно увлекся новым методом копки. Он объяснил Микаэле, как это делается, и вот уже два юных друга моей матери поочередно хоронили бабушку Глэдис и после каждого гребка-другого махали рукой гробу:
– Прощай, бабушка Глэдис! Мы тебя любим. Не скучай на небесах.
Рубашка счастливца
Родина истории – Италия
Давным-давно на севере Италии жил-был король, и было у него все на свете, в том числе сын, в котором он души не чаял. Но сын почему-то счастлив не был.
– Что мне поделать? – спрашивал король. – Если есть хоть что-то на этой земле, что способно тебя осчастливить, ты только скажи – и все будет устроено.
– Я не знаю, – отвечал сын.
– Может, ты хочешь на ком-нибудь жениться? Хоть на самой богатой принцессе, хоть на нищей крестьянке – выбирай!
– Я не знаю, отец, – повторял сын.
Король советовался с философами, врачами, профессорами, священниками, спрашивал, что может сделать его сына счастливым. После долгих споров совет мудрейших огласил решение. Королю нужно найти человека, который был бы полностью и по-настоящему счастлив.
– Когда найдется такой, – сказали мудрецы, – нужно обменять его рубашку на рубашку королевича, и королевич станет счастлив.
С некоторым облегчением король послал гонцов, чтобы те нашли самого счастливого человека. И хоть они и находили многих, кто заявлял, что счастлив, при ближайшем рассмотрении оказывалось, что каждый хоть в чем-то, да был несчастен.
После многомесячных поисков король приуныл. Но однажды холодным пасмурным днем, охотясь, король услышал, как кто-то в поле поет. Таким сладким и звонким был тот голос, что, казалось, певец на седьмом небе от счастья. Король присмотрелся и увидел молодого человека – тот сидел под деревом, нахохлившись от холода.
– Скажи мне, – спросил король, – счастлив ли ты?
– Счастливей не бывает, – ответил молодой человек.
– А если бы тебя позвали жить во дворец, ты бы пошел?
– Нет, спасибо, мне и тут нравится.
– А если б я предложил тебе сокровища?
– Вы очень добры, – ответил юноша, – но я счастлив тем, что имею.
Эти слова привели короля в трепет: он понял, что отыскал наконец по-настоящему счастливого человека.
– Мне надо попросить тебя об одолжении, – умоляюще произнес король.
– Все, что пожелаете! – ответил юноша.
Весь дрожа, король воскликнул:
– Иди сюда! Только ты можешь спасти моего сына!
Трясущимися руками король расстегнул на юноше куртку – и замер.
На счастливце не было рубашки.
Глава 12 Рубашка счастливца
Когда через три недели мы вновь повидались с Ленни, он выглядел постаревшим лет на двадцать, но был трезв.
– Я произнес кошмарные слова, – вымолвил он. Я ждал подробностей. Ленни обернулся, словно обращаясь к незримой аудитории: – Я сказал: «Привет! Меня зовут Ленни!» А они мне хором: «Привет, Ленни». Это было двадцать три дня назад. Хожу на встречи трижды в неделю, с тех пор не взял в рот ни капли.
Мы сидели на крыльце. Я достал сэндвичи, которые прихватил с собой, не желая злоупотреблять гостеприимством Ленни.
– Ну а ты как? Где тебя носило? – спросил он.
– У меня есть… история.
– История? – Ленни прищурился. – У тебя история?
Я кивнул.
– Ну-ка, ну-ка, – сказал он, откусывая от сэндвича с индейкой. – А то я заждался.
И я рассказал ему, что случилось после нашей последней встречи. Слушая меня, он смотрел вдаль затуманенными глазами, словно был там со мной: в больнице, потом у мамы дома, а следом – на кладбище.
Я поделился с ним историями, которые рассказывал на похоронах: о чемодане и курятнике, о Хелме и Гершеле. И еще я рассказал ему, что произошло потом. Захотелось взять Тали и детей и показать им тот самый дом, в котором я вырос. И хотя я знал, что с тех пор дом много раз продали и купили, увидеть его таким было настоящим потрясением. Дом смотрелся ужасно – перестал быть кремово-белым, как прежде, его перекрасили в болезненно-зеленый, он стоял весь в пятнах осыпавшейся штукатурки. Трупы старых автомобилей вдоль улицы. Два огромных вяза во дворе срублены, торчат пни. Цветы, что сажала мама и любил отец – стрелиции, – погибли, все заросло сорняками. Я собрался было постучаться, объяснить, что мы когда-то здесь жили, попросить разрешения заглянуть в дом. Но мы сели в машину, и, слушая стук дождя в лобовое стекло, я понял, что смотреть на все это я больше не хочу.
Это ошибка – возвращаться, сказал я себе, пока мы выезжали на шоссе. И тут мой взгляд задержался на человеке в красном свитере на велосипеде. Человек ездил по кругу. Я притормозил, чтобы разглядеть человека поближе, он обратил ко мне счастливое, но озадаченное лицо. Миг спустя меня одарили улыбкой, а затем – взмахом руки, я помахал в ответ.
Я досказал свою историю – Ленни тоже улыбался. Начал было говорить, но оборвал сам себя. И вроде опять собрался что-то сказать – но вновь умолк. Впервые за все время нашего знакомства Ленни было нечего добавить.
Мы долго молчали, а потом я все же задал вопрос, что засел у меня в мыслях:
– Как мне… тебя… отблагодарить?
Ленни покачал головой.
– Это я тебе благодарен за то, что пустил меня в свою жизнь. Ты дал мне именно то, чего я хотел, – историю, и чертовски хорошую притом. Спасибо.
У печали есть свойство вытаскивать на свет сладость жизни, и те дни поздней весны я никогда не забуду. Дожди, заливавшие Северную Калифорнию и после того, как зима завершилась, внезапно прекратились. И за одну неделю мгновенно укрылись цветами вишни, тщетно пытавшиеся уже пару месяцев распуститься.
С уходом матери меня потянуло ко всему, что напоминало о ней: «Хувер» цвета морской волны – вертикальный пылесос, доставшийся мне по наследству, мамина электрическая печатная машинка и ярко-зеленый набор для игры в маджонг, принадлежавший еще ее матери. Сидя в чулане за кабинетом, я копался в пачках ее писем ко мне. Некоторые, к моему стыду, были все еще не распечатаны. Осознавая, что она уже никогда мне не напишет, я медленно открывал их одно за другим. В основном в них были короткие болтливые послания, отпечатанные на той самой машинке, которая пробивала дырки на местах строчных «и». Вместе с этими записками я нашел многочисленные вырезки из газет – статьи с упоминаниями моих старых школьных учителей, кое-какие комиксы и несколько колонок Эрмы Бомбек[13]. Одна вырезка оказалась особенно примечательной. Это был отчет о концерте Ицхака Перлмана, написанная Джеком Римером в «Хьюстон Кроникл». Мама приписала для меня комментарий: «Джоэл, мне кажется, тебе понравится эта история».
18 ноября 1995 года скрипач Ицхак Перлман взошел на сцену зала Эвери Фишера в нью-йоркском Линкольн-центре.
Если вам доводилось бывать на концертах Перлмана, вы знаете, что для него само восхождение на сцену – уже немалый подвиг. Еще в детстве его поразил полиомиелит, и поэтому перемещается музыкант в корсете на обеих ногах и с помощью костылей.
Это особое зрелище – наблюдать, как он шаг за шагом, очень медленно и осторожно проходит по сцене. Движется он с муками, но вместе с тем величественно. Затем усаживается на стул, укладывает на пол костыли, расстегивает зажимы на ножных скобах, ставит одну ногу под стул, а вторую – чуть вперед. Затем берет скрипку, устраивает ее под подбородком, кивает дирижеру и начинает играть.
Публика уже привыкла к этому ритуалу. Все ждут в тишине, молчат почтительно, пока музыкант добирается через сцену к своему стулу, пока освободит ноги от зажимов. Слушатели ждут, когда музыкант будет готов играть.
Но в этот раз произошла накладка. Когда Перлман сыграл первые несколько аккордов, одна струна у него на скрипке лопнула. Раздался щелчок, подобный выстрелу.
Не вызывало сомнений, чтó этот звук означал. Не вызывало сомнений, чтó предстоит сделать музыканту. Люди, сидевшие в зале, подумали: «Ясно, что ему придется прекратить игру, застегнуть скобки, взять костыли, подняться и сойти со сцены – либо добыть другую скрипку, либо запасную струну к этой».
Но нет. Перлман выждал пару мгновений, закрыл глаза и знаком велел дирижеру продолжать. Оркестр вступил там же, где прервался, и Перлман играл с того же такта, где оборвалась струна. И играл он с такой страстью и чистотой звука, какой никто прежде не слышал. Конечно, любому известно, что невозможно сыграть симфоническое произведение всего на трех струнах. Мне это ясно – ясно и вам, но в тот вечер Ицхак Перлман отказался это признать. Было видно, как он прямо на ходу модулировал, менял, создавал музыку заново. В какой-то момент слушателям казалось, что он перенастроил струны, чтобы извлечь из них новые звуки, неслыханных доселе.
Когда скрипач доиграл, в зале воцарилась благоговейная тишина. А затем зрители вскочили и аплодировали стоя. Аудиторию сотрясал восторг. Не осталось ни одного сидящего слушателя, они лезли из кожи вон, чтобы выразить признание музыканту.
Ицхак улыбнулся, утер со лба пот, воздел смычок, чтобы утихомирить зал, а затем сказал, не хвастаясь, тихим, задумчивым, почтительным тоном: «Знаете, иногда задача артиста – выяснить, сколько еще музыки можно извлечь из того, что тебе осталось…»
Школьный год закончился так же, как и начался, – в слезах. Но на этот раз плакала не Микейла, а мы с Тали. Стоял июнь, и вот в одну солнечную среду Илайджа получил свой диплом об окончании детского сада. На следующий день Микейла закончила первый год в подготовительной школе и гордо пересекла школьный двор – к корпусу, где учились вторые классы. У меня тоже был своего рода выпускной: на следующей неделе я отправлялся на свое проверочное обследование. Лежал, замерев, на кушетке и прислушивался к попискиванию сканера, медленно, миллиметр за миллиметром, двигавшемуся вперед. Затем медсестра отвязала меня, и я спустился к радиологу за результатами расшифровки. Этот деликатный китаец в больших очках с тонкой оправой сидел за столом, заваленным рентгеновскими снимками и распечатками.
– Мистер бен Иззи? – спросил он. Я кивнул. – У меня для вас хорошие новости. Результат отрицательный. Вы совершенно чистенький.
Он объяснил мне, что машина ничего не нашла – от рака не осталось и следа. И нет никаких оснований предполагать его возвращение.
Я не мог ответить – попросту стоял и молча взирал на врача. Он, видимо, решил, что я не понял, кашлянул и сказал еще раз:
– Рака больше нет.
Я кивнул, но хоть как-то ответить не получалось все равно. Я осознал, что эта новость немногого стоит, пока я не поделился ею с Тали. Бросился домой, где она с тревогой ждала моего возвращения. Увидела мое лицо, и мне не пришлось ничего объяснять. Тали расплакалась, и мы стояли, обнявшись, довольно долго, я раздумывал, как нам вообще удалось остаться близкими. Был в этом некий парадокс – наша жизнь пошла кувырком, стакан наш был все еще разбит, но все равно вот же мы.
Особенно мы сблизились через две недели, когда наша семья добралась до следующей жизненной вехи – шестилетия Илайджи и года с того дня, как я узнал о своем раке. У нас был повод отпраздновать, но была ощутима и грусть: я прочувствовал, что с нами нет моей мамы. Она всегда присылала подарки детям ко дню рождения, обычно – книжки по интересам, открытки с кроликами, клоунами и воздушными шариками. Теперь я думал о ней каждый день и заставлял себя поверить, что ее действительно нет в живых. Со временем мне удалось убедить себя в этом, но до сих пор трудно принять, что она перестала звонить.
Пока мы сидели за праздничным ужином в честь Илайджи, я оглядывал свое семейство и думал над всем, что произошло за истекший год. Интерес Илайджи к флагам сперва поутих, а затем разгорелся с новой силой, и стол был утыкан флажками. Сын вырос на пару дюймов, и его некогда белокурые пряди стали каштановыми. И он сделался замечательным рассказчиком. Всегда чуть стеснительный, Илайджа рассказывал свои истории пока только Микейле. В основном, правда, его байки были о Крошках Бини, но со временем репертуар расширился. Пока же Крошки Бини – как раз то, что надо: Микейла слушала, затаив дыхание, и глазела на брата, как на солнце небесное.
Микейла смотрела на Илайджу, а мы с Тали – на них обоих. Дети – это чудо, это мы осознаем, стоит им только родиться, но вынуждены упорно напоминать себе об этом день за днем. И хотя Тали редко рассказывала истории, я заметил кое-что, чего прежде не слыхал: Тали им пела. Это были чудесные, нежные песни, и я слушал их из-за двери детской, когда она укладывала детей спать. Некоторые мелодии Тали сочиняла на ходу, но пела и наши любимые, из мюзиклов – из «Скрипача на крыше», например. Дети выучивали эти мелодии и пели вместе с Тали. Однажды ночью, когда Илайджа уже давно полагалось спать, я крался мимо их двери и услышал, как сын тихонько поет: «Если б я был богач, тра-ля-ля-ля…»
Слушая его, я думал о наших семейных финансах. Начал искать работу там-сям писателем на вольных хлебах, и, хоть и приходилось сводить концы с концами, мы как-то справлялись. Но я все равно ощущал себя богатым человеком – не в смысле денег, а так, как это описано в Талмуде: на вопрос «Кого считать богатым?» дается ответ – «Того, кто ценит то, что имеет». Строка из Талмуда напомнила мне о короле всех знатоков, о его словах и о молчаливом ребе, знавшем, похоже, некую тайну. Быть может, в этом и состояла тайна – и урок, который мне необходимо было усвоить.
Но пусть наверняка никогда не известно, где заканчивается одна история и начинается другая, мне показалось, что эта история подошла к концу. Развязка, может, и не самая счастливая, какой я жаждал, но по-своему она даже лучше. Я подошел к чему-то более живучему, чем счастье, – к чувству, какое возникает со временем и с утратами, – и без рубашки.
Ближе к концу лета я получил еще один подарок. Он прибыл в большой картонной коробке, обратный адрес – юридическая фирма в Сан-Хосе, названия которой я не распознал. Коробка была слишком легкой для своего размера и, конечно, оказалась почти целиком набита пенопластовым попкорном. Сверху лежал манильский конверт, адресованный мне лично.
«Уважаемый г-н бен Иззи, – говорилось в письме, – следуя волеизъявлению усопшего д-ра Леонарда Файнгольда, высылаем Вам…» Волна ужаса захлестнула меня, я зарылся в попкорн и отыскал в нем розовый бокал тонкой работы. Вновь заглянув в конверт, я увидел еще одно письмо на желтой бумаге, написанное от руки.
«Жил-был очень известный дзэнский мастер. Избавившись от всей собственности, кроме восхитительного бокала, которым он очень дорожил, мастер поселился в монастыре. Каждый день он любовался бокалом, отмечая вслух его красоту, когда свет пронизывал стекло. Мастер всегда хвастался им перед посетителями монастыря.
Это удивляло других монахов и сердило, что их мастер привязан к материальному объекту. И вот однажды они подступили к нему с вопросом.
– Великий мастер, – сказал один, – как можно так упиваться подобным предметом? Разве вы не видите, что это всего лишь вещь – нечто преходящее? Вещь, которую так легко разбить?
Мастер взглянул на бокал и улыбнулся:
– Разумеется. Более того, в мыслях моих этот бокал уже разбит. Поэтому я радуюсь ему еще сильнее.
Ленни»Лис в саду
Родина истории – Румыния
Голодный лис, бродя по лесу, наткнулась на высокую стену. Пошел вдоль нее и обнаружил, что стена эта построена в виде огромного круга.
Любопытствуя, что же там, за стеной, лис поискал брешь. Отыскал наконец маленькое отверстие. Через это отверстие лис увидел восхитительный сад, заросший благоухающими цветами, сочными дынями и гроздьями спелого красного винограда.
Лису ужасно захотелось попасть внутрь, но дыра в стене была слишком мала. После многих попыток протиснуться в сад лис понял, что все без толку. Но желание было столь велико, что лису пришла в голову мысль.
Он решил поститься до тех пор, пока не исхудает так, чтобы пролезть в сад. Три дня голодал и наконец смог протиснуться в ту брешь.
Очутившись внутри, лис увидел, что сад еще прекраснее, чем казался. Зверь пировал фруктами и был на седьмом небе от удовольствия.
Все шло хорошо, пока однажды лис не услышал, что в саду есть кто-то еще. Вскоре стало понятно, что это охотники – и они ищут лиса.
Пора убегать, но лис объелся в саду и через дырку в стене не пролезал. Снова пришлось голодать. И в этот раз было гораздо труднее – вкуснятина кругом так и просится в пасть. Через три долгих дня лис смог выбраться наружу. И вот, уже за пределами сада, задержался на минутку – поглядеть напоследок на сад.
– Эх, жизнь, – сказал лис, – твои простые радости обходятся мне дорого, но все равно того стоят.
Глава 13 Лис в саду
Шагая по жизни и сталкиваясь с новыми потерями, мы вспоминаем и все те, что уже достались нам когда-то. Уход Ленни пробил во мне брешь, и я болел образовавшейся пустотой. Но одновременно возникла и новая полнота: всякий раз, когда я вспоминал о нем, всплывала какая-нибудь его байка. Эти байки словно вплелись в мою личную историю, сюжетные повороты которой, как мне верилось, я наконец смог осознать. И вновь я ошибался.
В Либерии есть выражение: «Чих обратно не вчихнешь». Так же и с историей: ее не остановить, коли начал. Сказители говорят о «правиле трех»: три медведя, три сына, три желания и так далее. Видимо, мне суждено было услышать третий телефонный звонок – от третьего врача. Он прозвучал в сентябре, по стечению обстоятельств – в день моего рождения.
– Алло? Господин Сказитель? Как поживаете? – понадобилось некоторое время, чтобы узнать по акценту короля всех знатоков. Он сказал, что думал обо мне и хочет со мной повидаться. Честно говоря, несмотря на то, что он мне был симпатичен, я с радостью пожелал бы ни с одним врачом больше не встречаться до конца моих дней. Но он был совершенно непреклонен, и мы назначили встречу.
Когда я приехал к нему, он представил меня другому врачу, и тот попросил разрешения меня осмотреть. С первого же взгляда тот врач меня удивил – уж очень отличался он от любых врачей, каких мне доводилось знать. Латиноамериканец, напоминал мне кого-то, но я никак не мог вспомнить кого. Растолковывал мне все с громадным терпением, будто у него специально для этого отведено время, – редкое для врачей качество, особенно для хирургов, кем он в итоге оказался. Ощупал мне шею и заглянул в горло, как делали многие до него. Наконец произнес:
– Возможно, я мог бы помочь.
Его слова поразили меня не столько своим смыслом, сколько отсутствием высокомерия. Этот врач сказал «мог бы». И тогда я понял, кого он мне напоминает – врача! Не из тех, кого я уже встречал, а того, какого лишь воображал себе. Он рассказал о странной процедуре под названием «тиропластика»: в горло вживляют кусочек пластмассы – он его описал как детальку из «Лего» причудливой формы, – с его помощью парализованные связки опять сомкнутся в центре и вновь смогут вибрировать. Эта операция не сможет вернуть мой голосовой нерв к жизни – как и ничто другое, но звучание голоса улучшится.
– Разница в звуке может быть, – вклинился король, и получилось даже поэтично, – как между гобоем и кларнетом. У первого две трости, а у второго – одна, но из обоих можно извлечь прекрасную музыку.
И хоть я всегда любил звук кларнета и мне понравилась метафора, я устал от хирургии. Идея о навечно встроенной в мое горло детали из «Лего» тоже не показалась мне привлекательной. Несложно было представить, каково это – вернуть себе голос, поскольку только об этом я и мечтал многие месяцы. Но прежде чем предпринять следующий шаг, я захотел узнать, что будет, если операция не увенчается успехом.
Хирург кивнул. Разумеется, процедура не дает никаких гарантий. Она может улучшить ситуацию, но может и ухудшить. Если операция пройдет неудачно, я, возможно, перестану даже шептать. Сделаюсь полностью немым. Кроме этого, были еще и другие «возможные осложнения». Я вспомнил, как читал список «возможных осложнений» перед своей первой операцией, и в том списке нашел что угодно – от легкого дискомфорта до внезапной смерти. Я не просто хотел взглянуть на этот список – я желал услышать о человеке, у которого операция прошла неудачно. Он назвал мне имя другого пациента, бывшего школьного тренера по баскетболу. Так же, как и я, он потерял голос из-за паралича связок, в его случае вызванного какой-то редкой вирусной инфекцией. Он пережил такую операцию, но результаты оказались менее чем удовлетворительными.
После нескольких недель колебаний – звонить или не звонить – я кое-как мобилизовался и набрал номер.
– Алло?
Мне показалось, что я слышу голос маленькой девочки.
– Скажи… пожалуйста… а папа дома?
После долгой паузы в трубке прозвучало:
– Он умер… двадцать лет назад. Чем могу… быть… полезен?
Что я наделал! Я выпалил штук семь или восемь извинений, прежде чем ему удалось остановить меня:
– Ничего страшного… все время… случается одно и то же…
Я, наконец, смог объяснить причину моего звонка, и он рассказал мне свою историю. Пришлось прижимать трубку к уху – его слов было почти не разобрать. Операция – полный провал.
– …очень тонкая процедура… были осложне… – голос исчезал, и я слышал, как он хватает ртом воздух. – …ния.
– Будете пробовать… еще раз?
Возникла еще одна долгая пауза.
– Нет… у меня там… черт-те что… Все в рубцах. У меня была одна попытка… – он снова исчез. А через пару секунд произнес: – Я научился… жить… с этим.
Закончив разговор, я повесил трубку, и холодок пробежал по телу. Операция означала, что я снова подброшу монетку, и меня пугала сама эта мысль.
Я-то напугался, а вот Тали была просто-напросто в ужасе.
– В тот день, когда ты потерял голос, я начала надеяться, вопреки всему, что он вернется, – стоял воскресный вечер, дети были с няней, а мы гуляли по Пресидио в Сан-Франциско. Бывшая военная база стала одной из самых зеленых зон города и простиралась вплоть до моста Золотые Ворота. – Пойми, я так хотела, чтобы голос к тебе вернулся. Молилась об этом, но он все никак не восстанавливался. И вот после стольких месяцев ожидания надежда умерла. И тогда я просто похоронила ее. Это была медленная, ужасная смерть. Мне пришлось. Ничего больше не оставалось, – тали помолчала, горестно качая головой. – И теперь ты предлагаешь мне ее эксгумировать? – она плакала. Мы подошли к одному местечку, прямо под мостом, где холодный ветер задул сразу со всех сторон, высушивая слезы у нее на щеках. – Слишком больно. Я и так чувствую себя горелым лесом.
Бессмысленно было с ней спорить. Невзирая на все то, что о надежде было сказано и спето поэтами и сказителями, по правде говоря, жалит она больно. Греческий миф гласит, что надежда появилась в мире благодаря Пандоре. Надежда лежала на самом дне ящика, который Пандоре нельзя было открывать. Конечно же, она его открыла, выпуская в этот мир полчища ужасающих тварей. И последнее, что осталось в ящике, – надежда. Мне всегда казалось, что эта история воспевает достоинства надежды, величайшего утешительного приза. Но теперь, размышляя о том, что пришлось пережить, и слушая Тали, я вновь счел надежду одним из страшнейших чудовищ, высвобожденных Пандорой, а может, и самым страшным. Нас обоих обожгла одна и та же надежда – что мой голос вернется.
– Как можно снова открывать эту дверь? – спросила Тали – и ждала ответа. Его не последовало, и Тали продолжила: – Но не мне ее и закрывать. Это твой голос. Твое решение. Я хочу, чтобы ты знал… – она взяла меня за руку. – Джоэл, я люблю тебя. И буду любить независимо ни от чего. Но таким, как сейчас, ты мне нравишься больше. Мне нравится, кем ты стал.
Мы еще долго стояли в тишине, ветер дул над заливом, а меня обуревала нерешительность. Я совсем не понимал, как быть. Посмотрел на парусник под мостом, а потом – Тали в глаза; эти глаза светились улыбкой.
Я не находил себе места несколько дней и вот тогда по-настоящему заскучал по Ленни. Обнаружил, что у меня куча вопросов, какие можно было бы ему задать. Начать с того, что я прочел всю Книгу Иова три раза и не смог найти места, где Бог смеется. Написал в юридическую контору, от которой получил бокал Ленни, и они уведомили меня, что Ленни умер внезапно в самом начале лета от второго сердечного приступа. По просьбе Ленни похоронной церемонии не было, и его погребли на кладбище Санта-Круза, рядом с Пёрл.
Но, даже зная, что Ленни больше нет, я все еще слышал его голос и воображал, что бы он мог сказать о моей жизненной дилемме, будь он жив. Сначала, наверное, рассмеялся долгим, утробным смехом. А отсмеявшись, сказал бы:
– И ты пришел сказать мне, что я опять оказался прав, так?
– Прав?
– Прав, – повторил бы Ленни, кивая и воздевая палец. – Я же говорил, что твоя история в руках виртуозного рассказчика.
Я бы начал выжимать из него совет – стоит ли мне идти на операцию или нет, и он бы ответил мне:
– По мне, ты в любом случае что-нибудь потеряешь – и хорошо! Как я и говорил – ну и везучий же ты.
Хирург объяснил, что мне необходимо оставаться в сознании в процессе операции, чтобы они с королем знатоков могли «подстроить» мой голос. Они будут пробовать вживить мне в горло кусочки различной формы и смотреть, какой из них сработает.
– Но вы не волнуйтесь, – заверил он меня, пока медсестры привязывали меня к кушетке и накачивали лекарствами, – больно не будет.
Я услышал, как сестры обсуждают планы на завтрашний День благодарения, а потом звуки кларнета, наигрывавшего знакомую мелодию. Я, наконец, узнал ее и мой собственный голос, последовавший за музыкой, – в операционной крутили кассету, которую я когда-то подарил королю знатоков.
– Итак, – сказал он, – мы хотим, чтобы его голос зазвучал вот так.
Лекарства подействовали быстро – через пару минут я уже любовался, до чего ярко отражается свет в операционной на лезвии скальпеля. Кто-то накрыл мне лицо сложенным полотенцем, и я почувствовал себя почти как в спа-салоне. С моим горлом оживленно завозились, а потом я услышал тихий голос хирурга:
– Ну что, давайте пробовать.
На эту реплику отреагировал эксперт:
– Господин Сказитель, пожалуйста, сосчитайте до пяти.
Я попробовал – ни звука. Абсолютно ничего. Ни привычного шепота, ни хрипа, вообще ничего. И тут же я почувствовал, как что-то еще побежало по венам, и мое вызванное лекарствами облегчение испарилось.
– Нет, не тот, – сказал хирург.
Опять возобновилась незримая суета у горла, во время которой я уже уловил, как приближается паника – словно далекий поезд. И вот я вновь услышал голос эксперта:
– Пробуем еще раз. Считайте до пяти.
Я попробовал – ничего. Но на этот раз все было даже хуже. Не только ни звука не сорвалось с моих губ – я начал задыхаться.
– Он вырывается, – крикнул кто-то. Тут же суета усилилась, послышались шаги, и я вновь смог дышать – в промежутках между наплывами паники. Услышал сдавленный шепот и звуки приглушенного спора. Кто-то сказал: «Не стоит». Другой отозвался: «Ну, еще разок». Возобновилась возня.
– Пожалуйста, господин Сказитель, – произнес король, – еще раз. Считаем до пяти.
Внезапно я услышал числа, сказанные громким голосом, и эхо разлеталось по комнате.
– Один… два… три… – я умолк, и они тоже замерли, осталось только эхо от слова «три».
Я начал заново, и слова вылетали громко и отчетливо, на всю операционную – я кричал! Загремели аплодисменты. Добравшись до десяти, я выкрикнул: «ДА!»
– Отлично! А теперь, пожалуйста, расскажите нам историю.
Может, все из-за наркоза. Или из-за потрясения – я снова слышал собственный голос. Но, клянусь жизнью, мне ничего не шло на ум! Хирург попросил меня рассказать байку, любую байку, а я не мог вспомнить ни одной. Слышал, как все вокруг молчат, ждут. И тут почувствовал, как история тихонько похлопала меня по плечу. Через миг перед глазами возникла картинка: пустыня, пески, а далеко-далеко на горизонте – дворец. В воротах дворца я увидел толпу людей, а перед ними на троне восседает царь.
– Расскажу я вам старую-стародавнюю историю, которая случилась в древнем городе Иерусалиме, во дни, когда царствовал Соломон… – операционная взорвалась аплодисментами и криками одобрения. Я хотел продолжить, но расслышал кое-что, из-за чего умолк. Среди хлопков и криков я услышал смех – тихий, еле различимый. Напряг глаза, чтобы разглядеть, кто там смеется, но видел только полотенце.
– Довольно! – сказал эксперт. Шум немедленно стих.
И следом я услышал тихий голос хирурга:
– Зашивайте.
Меня катили в палату, а я не в силах был сдержать восторга.
– Привет! – сказал я медсестре. – Отличный день, а? На вас замечательная шапочка! Чудесная больница!.. Ух ты, ну и угораздило же вас! – выпалил я встречному пациенту. – Надеюсь, что все скоро заживет!
Я мел языком налево и направо, со всеми в палате. Когда меня наконец поместили в углу и оставили одного, я разразился песней «Поём под дождем», но прервался, увидев напротив себя моего короля знатоков.
– Эй, доктор! – крикнул я. – Вы не меня ищете? А я вот он!
Он широко улыбнулся:
– Ну что ж, – сказал он, – та история…
– Хотите дослушать? Давайте расскажу. Это о царе Соломоне и о том, как повелитель демонов Асмодей обманом заставил его снять кольцо…
Король знаком велел мне замолчать.
– Похоже, – сказал он, – все успешно. Однако вам нужно запомнить одну вещь. Для того, чтобы вживить то самое приспособление в горло, мы вкололи противовоспалительное. Ровно столько, чтобы хватило до конца операции. Через несколько минут лекарство перестанет действовать и возникнет ожидаемый отек. Отечность продлится недели три. И после того, как она спадет, у вас будет голос, какой вы сейчас слышите. Однако – и это очень важно – ближайшие три недели вам ни в коем случае нельзя разговаривать – даже пытаться нельзя.
Я вытаращился на него.
– Видите ли, эту штучку у вас в горле нужно было разместить очень точно. Слушая вас сейчас и сравнивая ваш голос с записью, я прихожу к выводу, что мы произвели замечательную коррекцию, о каких я мало наслышан. Но чтобы сохранить результат, эта штучка должна прижиться точно на своем месте. Любые разговоры в течение этих трех недель – даже шепот, каким вы общались до сих пор, – могут сместить ее. И тогда, боюсь, вы можете навсегда испортить себе голос.
Потребовалось время, чтобы я смог переварить сказанное.
– Вы хотите сказать, что теперь, когда я могу говорить, я не могу говорить?
Он кивнул.
– Но я столько всего хочу сказать! Все рассказать…
Он снова жестом остановил меня:
– У меня для вас подарок, – он полез в нагрудный карман, достал авторучку и вручил ее мне.
– Это вам. Теперь можете рассказать всю историю – о царе Соломоне и обо всем остальном.
Секрет счастья
Родина истории – суфийская Турция
Насреддин известен в равной мере и своей мудростью, и глупостью, и велико число тех, кто искал его учительства.
Один приверженец искал его много лет и нашел на базарной площади: Насреддин сидел на куче банановой кожуры – никто не знает почему.
– О великий мудрец Насреддин, – произнес рьяный ученик, – мне надо задать тебе один очень важный вопрос, ответ на который ищут все: в чем секрет обретения счастья?
Насреддин подумал и ответил:
– Секрет счастья – в здравомыслии.
– А как нам достичь здравомыслия? – спросил ученик.
– Из жизненного опыта, – ответил Насреддин.
– Да, все верно! – воскликнул студент. – Но как же мы получаем жизненный опыт?
– Из недомыслия.
Глава 14 Секрет счастья
Все это случилось пять лет назад. Вспоминаю я о тех трех неделях, и они теперь кажутся мне мигом сразу после пробуждения, когда закрываешь глаза и соскальзываешь обратно в сон.
Даже считая минуты до той самой, когда снова смогу говорить, я понимал, что неизбежно с чем-то расстанусь, так же как при потери голоса пять с лишним сотен дней назад. Я расстанусь с некой тишиной, которая столько мне дала. Поэтому почти все время моего тревожного вынужденного молчания я старался напоминать себе об уроках, которые мне удалось извлечь, и записать все, что я хотел вспомнить, когда проснусь.
Вечер через три недели после операции пришелся на самое начало Ханукки. Мы собрались вокруг меноры, которую мы с Илайджей смастерили из медных коленчатых трубок. Микейла зажигала первую свечу, Тали держала дочку за руку. Мы спели благословения, и Илайджа попросил рассказать историю.
– Историю? – спросил я. – Ладно, расскажу вам историю Ханукки.
Мой голос звучал в точности так, как в больнице на второй операции, и совершенно так же, как перед первой.
Я поведал им историю чуда – о пламени, которое, по всем понятиям, должно было погаснуть, но не погасло. Оно горело восемь дней и ночей, и сейчас трепетало на подоконнике, мерцая у нас на лицах. Дети долго смотрели на оконное стекло, а затем Микейла попросила рассказать еще какую-нибудь историю. Я задумался на минутку, и история пришла сама.
– А знаете ли вы о вашем прадедушке Иззи и о том, как он любил кетчуп?
И тогда началась история, которую я рассказал им – и продолжаю по сей день. Голос у меня в порядке, сильный и здоровый. От рака не осталось и следа. Я вернулся к работе – к сказительству. Память о тех днях, когда голоса не было, словно возвращает меня во времена, проведенные в другом мире.
В том мире моя мама жива и здорова. Ленни говорит загадками и выкидывает свои фокусы. Илайджа снова пятилетний мальчуган со светлыми кудрями, а Микейла еще совсем крошка. Мы с Тали сидим на крыльце нашего дома, наблюдаем, как падают листья, наслаждаемся невинностью, какой даже не осознаем.
Стоит открыть дверь в прошлое, как за ней распахиваются другие. За одной такой дверью стоит, играя на скрипке, мой отец, высокий и красивый, в белом смокинге. А мама, юная, ясноглазая девушка из Кливленда, сидит у ног дедушки Иззи и слушает его истории.
Так я перемещаюсь между этим миром и тем, ищу ответы на те же самые вопросы, какие не перестаю задавать: почему все это произошло? Что это все могло означать? Входит ли все это в великий замысел?
Так думал Ленни. Я все еще слышу его голос: «Есть ли причина? Конечно, есть! У всего есть причина. Ты, я – все мы участвуем в восхитительной истории, где каждый играет свою роль. Это ковер из многих-многих нитей, переплетающихся друг с другом, только Бог Всевышний мог сплести их воедино».
Мне бы хотелось верить, что он прав. И тогда понятно, почему Бог смеется. Причина есть, и, знай мы ее, мы б тоже посмеялись.
Тали считает, что сама эта мысль – нелепость.
– Не может быть. Даже если Бог существует, Он не сидит наверху и микроменеджментом твоей жизни не занимается.
Она права, разумеется. Вообразить Бога, как Он там дергает за ниточки мильярдов историй на Земле, – слишком уж это сложно. И чересчур просто. Нет, ну никак не поверить в такое.
Но и на противоположное я не соглашусь – что все происходит безо всякой причины. Это бы значило сигануть в пустоту, где есть лишь случайность и бессмыслица.
И вот к чему я пришел: я по-прежнему верю, что все происходящее в этом мире и впрямь совершается не без причины. Но иногда эта причина появляется только после того, как что-то произошло. Это не причина, какую можно отыскать, – ее мы высекаем сами, лепим из собственных мук и утрат, сцепляем воедино любовью и состраданием. Как бы отчаянно ни искали мы эту причину, увидеть ее можно, лишь перестав искать, взглянув в прошлое – на то, где мы побывали и чему научились. Это изнурительно – выковывать причины из материи жизни, но это все, что нам остается. И в награду за это мы получаем историю.
В чем же тогда секрет счастья? Я знаю истории, где касаются этой темы, и даже одну именно с таким названием. По-моему, секрет счастья – первый в длинном списке тайн жизни. Вероятно, в этом он и состоит: нет никакого секрета счастья. Но мы продолжаем искать – быть может, потому, что сам поиск делает нас счастливыми.
Что же до царя-оборванца… Это совсем другая история.
Эпилог Царь-оборванец
После целой жизни скитаний Соломон оказался один-одинешенек в море – старик в утлой лодке. Он целыми днями ловил рыбу и раздумывал над тем, что произошло с ним с того далекого дня, когда много лет назад Асмодей забросил Соломона на другую сторону мира, в сердце огромной пустыни.
Став нищим, перебираясь с одного места в другое, пытаясь найти кого-то, кто поверит, что он был царем, Соломону пришлось нищенствовать. Наконец он сдался и просто стал убеждать людей, что ему голодно. Питался отбросами, какие удавалось выпросить, и даже нашел работу – поваром у другого царя. Но вскоре его с позором прогнали, и Соломону суждено было умереть в глуши. И он бы умер, если бы не попал в плен к разбойникам, продавшим его в рабство к одному кузнецу. Через семь долгих лет Соломон заслужил себе свободу и сумку золота. Истратил его на покупку лодки, надеясь, что та привезет его обратно в возлюбленный Иерусалим.
Соломон отчалил от берега с попутным ветром, но тот утих через месяц после начала путешествия. Стоял штиль, вокруг не было видно земли, и тут Соломон понял, что именно здесь, в открытом море, потерянный и забытый, найдет он свой конец.
Это осознание поразило его так же, как любой другой поворот судьбы. Но ничто не удивило Соломона больше, чем то чувство, с каким это осознание пришло, – покой. Соломон смог наконец принять то, что жизнь ему ссудила.
Случилось это в один из дней, когда Соломон сидел, погрузившись в размышления, и вдруг почувствовал поклевку на леске. Оказалось, что на крючок попала огромная рыбина, такая громадная, что едва не потянула лодку за собой, и Соломон несколько часов не мог ту рыбину вытащить. И вот изловчился и выволок большую акулу – ничего крупнее он в жизни не видывал. Выпотрошив ее, Соломон обнаружил в брюхе других рыб, которых съела акула. И среди них оказалась маленькая ярко-синяя рыбка, какие ему никогда не попадались. Пусть и был он дряхл, пусть ждала его скорая смерть, Соломон все равно оставался любознательным. Рассек он синюю рыбку – и замер. Внутри увидел что-то сверкающее, что-то золотое – кольцо. Свое кольцо.
Соломон рассмотрел кольцо на свету и узнал надпись на внутренней стороне – тайное имя Бога. И тогда медленно надел кольцо на палец. В тот же миг обнаружил себя в изящных одеждах на троне в роскошном дворце. Вокруг стражники на карауле и Беньямин, его старший советник, по правую руку. А по левую – синий демон Асмодей, закованный в цепи. Он говорил:
– Итак, Твое Величество. Мы ждем! Собираешься ли ответить на вопрос?
Соломон был слишком потрясен, он не смог и слова вымолвить. Наконец произнес:
– Вопрос? Какой вопрос?
– Вопрос, который я задал тебе почти час назад!
– Час назад? Какое там – прошло почти пятьдесят лет…
Заговорил Беньямин:
– Твое Величество, боюсь, ты просидел в молчании всего около часа. Так желаешь ли ты ответить на вопрос…
– Вопрос. Да, Асмодей, не повторишь ли ты его?
– Разумеется, Твое Величество. Познал ли ты что-нибудь об искусстве наваждения?
Соломон долго не отвечал. А потом медленно кивнул Асмодею:
– Да, познал. Можешь идти.
С этими словами царь демонов расхохотался, начал уменьшаться и делался все меньше и меньше, пока не стал размером с цыпленка. Выскользнул из цепей, пролетел трижды вокруг дворца, а затем – прочь, через окно, над храмом, что воздвиг Соломон, и навсегда исчез из виду.
Соломон вернулся к царствованию, но теперь это был совсем другой человек. Исчезло его высокомерие, растворились иллюзии собственного величия. С того самого дня он выказывал мудрость, какой прежде не ведал, – мудрость сердца. Он понимал, каково быть любимым всеми – и быть одиноким и забытым, без единого друга на всем белом свете. Понимал, что значит обладать всем – и ничего не иметь. Ибо ему довелось побыть и оборванцем – и царем.
Об историях
Отслеживать родословную народных преданий – дело хитрое. Столько они странствуют по свету, что в конце концов нам остается лишь гадать, где, когда и как впервые рассказали ту или иную историю. Далее я расскажу понемножку о байках, приводимых перед каждой главой в этой книге. Я попытался сказать что-то об их происхождении, когда оно известно, а также о том, как я с этими историями познакомился.
Царь-оборванец
Исходно это история из Вавилонского Талмуда, из трактата «Гиттин», но существует она во многих версиях. Легенда о волшебной способности червя Шамира точить камень, судя по всему, возникла из библейского запрета применять металл при создании священного Ковчега Завета.
Родственные предания есть и в исламской культуре, тот же Асмодей может быть персидским Аэшма-дэвом, демоном Аэшмой. В «Еврейских преданиях», собранных и пересказанных Пинхасом Саде (Pinhas Sadeh, Jewish Folktales, Anchor Books, 1989)[14], автор рассуждает о том, что предание о странствиях Соломона – возможно, метафорическая повесть о приключениях царя Давида у филистимлян, когда Давид прикинулся помешанным.
В сокращенной версии этой истории, приведенной в этой книге, я опирался на несколько разных текстов и добавил кое-какие штрихи от себя. Впервые я познакомился с этой историей в революционной работе Хауарда Шварца, посвященной еврейскому фольклору, – «Скрипка Илии и другие еврейские сказки» (Howard Schwartz, Elijah’s Violin and Other Jewish Fairy Tales, Harper and Row, 1983), и эту книгу я рекомендую наравне со сборником Саде всем, кто желал бы прочитать полную версию этой истории, а также прочие предания о Соломоне и Асмодее, царе демонов.
Сбежавшая лошадь
Обычно авторство этой истории приписывают Лао-цзы, автору трактата «Дао дэ цзин», и она есть воплощение сути даосизма. Считается, что развил и украсил это предание поэт-царевич Лю Ань (179–122 гг. до н. э.) в книге «Хуайнань-цзы».
Не раз доводилось мне слышать отсылки к этой истории, когда я бывал в Гонконге и Китае: если что-то шло наперекосяк, люди приговаривали «сай вэн ши ма» – «старик потерял лошадь».
Впервые эту историю я услышал от одной ясновидящей в сан-францисском районе Мишн, а позже сказительница Рут Стоттер поделилась со мной письменным вариантом.
Сверчок, который допрыгнул до Луны
Эту историю вдохновили воспоминания о моем отце. Опирался я и на сюжет, который нашел в бирманском фольклоре: там похожее предание называется «Музыкант из Тагаунга», и говорится в нем о мальчике, чей отец мечтал, что сын когда-нибудь станет величайшим арфистом всей Бирмы. Мальчик все пытался играть на арфе, но таланта у него к этому не было, он рвал струны и портил арфу за арфой. Много лет спустя, после смерти несостоявшегося арфиста, люди обнаружили поломанные арфы и принялись выдумывать байки о музыкальном даровании того человека. Прошли годы, и он стал-таки величайшим арфистом.
Оптимизм и пессимизм
Хотя это довольно известная история, пришлось попотеть, чтобы выяснить ее происхождение. Похоже, мне удалось найти самого давнего предка этой байки – в странной книжице, закопанной в недрах Сан-Францисской Главной библиотеки. Эта книжечка сама по себе история: такая занимательная у нее оказалась титульная страница, что она заслуживает прямой цитаты.
Озорные предания чехов, исходно поименованные
«Gesta Czechorum»[15]Переложено на английский язык с оригинальной чешской рукописи XV века авторства Ржегоржа Франтишека из Часлава, одно время служившего подателем милостыни при дворе Сигизмунда, короля Богемии и Венгрии, а также императора Священной Римской империи, а позднее камердинера у вельможи Богдана Беверлика из Тыниште Ч. Д. С. Филзом; редактировал для читательских потребностей американской публики
Норман Локридж
Кандид Пресс
1947
В этой книге содержится история под названием «Вера крестьянского мальчика», где трое детишек из богатых семей пытаются сыграть злую шутку с бедным, но порядочным мальчиком – насыпают ему лошадиного навоза в рождественский носок для подарков. Мальчик в ответ говорит, что Санта подарил ему лошадь.
Я знал эту историю много лет, но не помню, когда услышал ее впервые.
Обет молчания
Похоже, это вариант предания, широко известного в Финляндии – а также записанного в Норвегии и Ирландии, – под названием «Слишком много болтовни». В предании говорится о троих людях, которые отправляются в тихую долину на краю света и дают обет молчания. Через семь лет первый говорит: «Я слыхал коровий мык». Двое остальных злятся, но помалкивают. Еще через семь лет заговаривает второй: «Это был бык, а не корова!» Проходят другие семь лет, и молвит третий: «Пойду я отсюда. Слишком много болтовни!»
Впервые я услышал эту историю, когда учился в Стэнфорде, от Ника Бёрбэлиса, куратора моего курса.
Поиск правды
Услышав эту историю от Ленни, я безуспешно пытался отыскать источник ее происхождения. И хотя я нашел ее письменные варианты, их авторы тоже не смогли докопаться до первоисточника – похоже, он так же призрачен, как сама правда. Я считаю, что история родом из Индии лишь потому, что Индия упоминается. Буду рад любым дополнительным сведениям, если они у кого-то найдутся.
Пограничник
Как и многие краткие байки в этой книге, варианты этой истории приписывают суфийскому хитрецу Мулле Насреддину. Иногда Насреддин не велосипед катит, а тачку с песком.
Я знал эту байку задолго до того, как мне ее изложил Ленни, – со мной ею поделился мой друг Чарли Ленц, австрияк, живущий в Швейцарии рядом с австрийской границей, где Чарли преподает каратэ.
Свидание
В ближневосточном фольклоре эта история бытует во многих вариантах, а ее название – тезка романа 1934 года «Свидание в Самарре» Джона О’Хары. О’Хара слыхал версии этой байки от Уильяма Сомерсета Моэма, предложившего знаменитое литературное изложение «Свидания» – с точки зрения Смерти.
Мне рассказали эту историю прежде Ленни – впервые я услышал ее в 1989 году от д-ра Огэста Зимо, директора школы Риверсайд в швейцарском Тальвиле, где я недолго проработал штатным сказителем.
Хелмская мудрость
Это лишь очень малая часть из большого собрания историй о мифическом еврейском городке дураков. В современной Польше имеется город под названием Хелм – в сорока милях к востоку от Люблина. Хотя одно время еврейское население там было заметное, неизвестно, с чего это город стал ассоциироваться с глупостью.
Многие байки о Хелме рассказывают и о других селениях дураков – о Готеме в Англии, Мольсе в Дании, Шильдбурге в Германии и Кампене в Голландии. Моя мама ссылалась на хелмские истории, а официально меня с ними познакомила миссис Берта Молатски, моя учительница во втором классе религиозной школы и сотрудница Библиотеки Темпл-Сити. Заметив, что я дурею от скуки, она отправила меня читать «Козочку Злату и другие истории» Исаака Башевиса Зингера, за что я миссис Молатски по гроб жизни обязан.
Зарытые сокровища
Здесь я привожу свою версию еврейской байки, часто приписываемой рабби Нахману из Брацлава. Очень похожая история известна в Англии, там она называется «Лотошник из Суоффэма»; в английской версии перед домом бедняка-лотошника растет вишневое дерево, а снится лотошнику мост в Лондоне. Добирается наш герой до того моста, ничего не находит, но узнает о сне стражника, отправляется домой и находит сокровище, которое ищет под собственным деревом.
Все эти истории выражают одну из ключевых фольклорных тем: возвращение домой, чтобы увидеть там нечто, чего ранее не замечал. Первым эту байку рассказал мне отец.
Земляника
Приписывают историю Будде, это классическая дзэнская притча – очень краткая, а финал ее, как может показаться западному уму, не имеет развязки. Как у дзэнских коанов, задача этих историй – раскрывать сердце и ум слушателя.
Впервые я познакомился с этой историей в книге «Плоть дзэн, кости дзэн. Собрание сочинений дзэн и пре-дзэн», составитель Пол Репс (Paul Reps, Zen Flesh, Zen Bones: A Collection of Zen and Pre-Zen Writings, Anchor Books, 1989).
Гершеле смеется последним
Литературный двоюродный брат Муллы Насреддина, Гершеле из Острополя – реальный человек, хотя многие байки о нем, несомненно, апокрифы. Один из первых стендап-комиков, он был официальным придворным шутом при раве Барухе из Меджибожа, внуке великого сказителя рава Исраэля – Ба‘ал-Шем-Това. По легенде, раву Баруху не доставало мудрости деда, и он велел Гершеле отвлекать публику от многочисленных ошибок ребе. Что, в свою очередь, оказалось ошибкой: остаток своих дней Гершеле делал рава Баруха мишенью своих шуток.
Как и все остальные хелмские истории, о Гершеле я впервые услышал от мамы.
Рубашка счастливца
Эта история впервые изложена в древнегреческом литературном произведении «Псевдо-Каллисфен», популярном в Средневековье, и говорится в этой версии об Александре Великом. Много бытует на свете разных вариантов этой истории, есть и еврейская версия из Афганистана, а также датская – как раз она стала основой для сказки Ханса Кристиана Андерсена «Калоши счастья».
Версия, приведенная в этой книге, составлена из нескольких, включая и ту, какую записали в Италии в 1912 году со слов домохозяйки Орсолы Миньон, и эта версия есть в книге Итало Кальвино «Итальянские сказки». О предыстории этой байки я узнал из книги «Мудрые сказки со всего света» Хизер Форест (Heather Forest, Wisdom Tales From Around the World, August House, 1996).
Лис в саду
Существует множество вариаций этой истории, в том числе и среди басен Эзопа, а также в собрании братьев Гримм, где волк переедает в коптильне и ему не удается сбежать в ту же брешь в стене, через которую он в коптильню пробрался. Есть и гавайский вариант, и итальянский, и много разных африканских.
Двойной финт этой истории – лису приходится голодать, чтобы пролезть в сад, а затем голодать повторно, чтобы унести из сада ноги, – представляется очень еврейским. Впервые я услышал эту историю на похоронах отца от достоп. ребе Фрэнка Экермена.
Секрет счастья
Насреддин, вероятно, самый знаменитый на весь мир озорник – герой фольклора и на Ближнем Востоке, и в Северной Африке, и в Индии, и в Китае. У него много разных имен – Ходжа, Хоже, Хаджи, Хоча или просто Мулла, что на фарси означает «учитель». И пусть обычно байки о нем светские, их очень ценят суфии – исламские мистики.
Многие страны заявляют себя родиной Насреддина, но в целом считается, что он родился в Турции примерно в 1208 году. По легенде, он там же и похоронен, у гробницы стоят накрепко запертые ворота – и никакой ограды.
Впервые «Секрет счастья» мне рассказала Елишева Харт, кукольница и сказительница из Сан-Франциско.
Благодарности
Я взялся писать эту книгу, полагая, что заниматься этим буду в одиночку. Оказалось, что это предельно далеко от истины. Лишь благодаря усилиям многих талантливых и щедрых людей смог я рассказать свою историю. Вот эти люди, которым я глубоко благодарен: Джейн Энн Сто, Рэнд Пэллок, Рич Феттке, Джерри и Лорели Сонтаг, Марк Пински и Дженнифер Пэджет, Роб Сэйпер, Эндрю Хэсси, Захава Шерес, Сьюзен Хелмрик, Фрэнсез Динкельшпил, Джозефин Коутсуорт, Мэри Мэки, Крис Риттер; собратья в отцовстве Бретт Уайнстин, Рик Голдсмит, Дэйв Фариэлло и Дэвид Хершкопф; Рут Хэлперн, Шэрон и Питер Лейден, Марк Бергер, Мириам Аттиа, Келли Миллер и Рэну Пэнди, Рэчел и Дэвид Биали, Сид Гэнис и Нэнс Халт Гэнис, Эдриэнн Бэнк; моя двоюродная сестра Синди Уэдел; моя тетя Норма Глэд; ребе Джек Ример, любезно позволивший мне перепечатать его корреспонденцию. Признателен я и дзэн-центру «Грин Галч Фарм» за то, что распахнули мне двери, когда мне потребовалось писать в тишине и покое.
Разыскивать материалы для раздела «Об историях» мне помогали и ученые, и сказители, и я в долгу перед профессорами Аленом Дандесом из Университета Калифорнии в Беркли, и Эллиоттом Орингом из Калифорнийского университета, Лос-Анджелес. Спасибо Рут Стоттер, Плезент Де-Спейн, Хизер Форест и Хауарду Шварцу, а также сотрудникам Публичной библиотеки Беркли за то, что они помогли мне отыскать первоисточники некоторых историй.
Спасибо моему агенту Барбаре Лоуэнстин – она первая разглядела в моей истории будущую книгу. Барбара передала мантию агента Дориэн Карчмэр, чьи мудрость и сострадание благословляли каждый шаг моего пути.
Все сотрудники издательства «Алгонкин» приняли книгу с распростертыми объятиями. Элизабет Шэрлэтт и Ина Стерн, глава издательства и ее заместитель, делились со мной своими проницательными соображениями и подсказывали именно в тех случаях, где это было необходимо, а Антониа Фуско, мой редактор, взялась за изнурительный труд помочь автору-новичку разобраться, что в эту историю включать, а что – оставить за скобками. С этой задачей она справилась благодаря своей прозорливости, упорству и здравомыслию.
Есть и те, кто одарил меня особо, и эти подарки заслуживают отдельного внимания: спасибо моим родителям – за то, что привили мне любовь к историям, спасибо моим детям Илайдже и Микейле – за постоянное вдохновение, благодаря которому я смог поведать эту историю; моим тестю и теще Хеци и Рути – за их непоколебимость и веру в меня. Я в большом долгу перед моим дорогим другом и напарником по писательству – перед Джеффом Ли: он стал для меня кладезем полезных советов и поддержки. И наконец, спасибо Тали, женщине беспримерного мужества – она не только пережила со мной все испытания, о которых говорится в этой книге, но и выстояла, пока я эту книгу писал. За ее незыблемую поддержку, любовь и редакторское чутье я глубоко ей благодарен.
Сноски
1
Эпиграф к главе XV книги «По экватору» (1897), дневника путешествий Марка Твена, пер. Э. Кабалевской. – Здесь и далее примеч. переводчика.
(обратно)2
Seanachie (ирл.) – сказитель.
(обратно)3
Магид – «рассказывающий» (проповедник, чаще всего странствующий).
(обратно)4
Отсылка к первой фразе романа Германа Мелвилла «Моби Дик, или Белый кит»: «Зовите меня Измаил».
(обратно)5
Отсылка к названию романа Р. Хайнлайна «Имею скафандр – готов путешествовать» (1958), пер. Е. Беляевой, А. Митюшкина.
(обратно)6
«The Little Engine That Could» (первая публикация 1906 г. в «Нью-Йорк трибьюн») – многократно пересказанная в начале ХХ века американская история для детей.
(обратно)7
Job – Иов (читается «Джоуб»), job – работа (читается «джоб»).
(обратно)8
Слово «polish» в английском языке означает и «польский» (если с прописной буквы), и «полировать» (если со строчной).
(обратно)9
«Beanie Babies» (с 1993 г.) – американская марка мягких игрушек, набитых пластиковой крошкой.
(обратно)10
На семейной вечерней трапезе в праздник еврейской Пасхи (Седер Песах) принято задавать четыре символических вопроса, связанных с выходом древних израильтян из египетского рабства; первый таков: «Чем эта ночь отличается от всех остальных ночей?»
(обратно)11
По-английски слова «knight» (рыцарь) и «night» (ночь) произносятся одинаково.
(обратно)12
Отсылка к песне «Эй, пригожий» (Hey, Good Lookin’, 1951) американского кантри-, вестерн-, рокабилли-певца Хайрэма «Хэнка» Кинга Уильямза (1923–1953).
(обратно)13
Эрма Луиз Бомбек (1927–1996) – американская юмористка, с середины 1960-х до конца 1990-х годов вела газетную колонку о жизни в предместье.
(обратно)14
Здесь и далее в скобках приводятся названия изданий, вышедших на английском языке, если не существует русскоязычного издания.
(обратно)15
Чешские деянья (лат.).
(обратно)

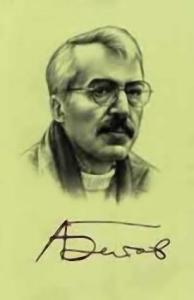






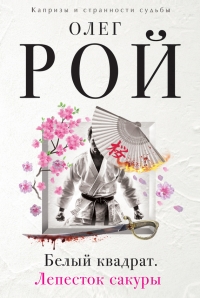
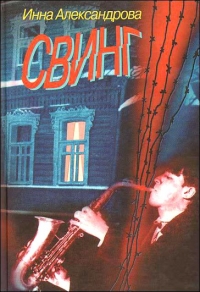
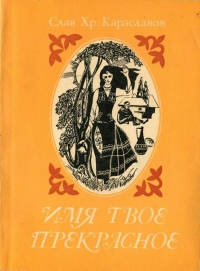
Комментарии к книге «Царь-оборванец и секрет счастья», Джоэл бен Иззи
Всего 0 комментариев