Стравинский Александр Строганов
Иллюстратор Александр Строганов
© Александр Строганов, 2018
© Александр Строганов, иллюстрации, 2018
ISBN 978-5-4490-5526-2
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
СТРАВИНСКИЙ Роман
Следует признать, мы боле не в силах удерживать нити несуществующих событий.
Стравинский И. И.
Вступление
Трогательные, беззащитные, доверчивые люди, лесорубы, лимитчики, буфетчицы, лавочники, кашевары, охотники, кавалеры, красавчики, уродцы, герои, лодочники, недоумки, певуны, мясники, лилипуты, соседи, воры, иностранцы, пачкуны, работяги, истерики, носильщики, маньяки, историки, увальни, императоры, кликуши, носачи, лицедеи, слепни, бродяги, трутни, краснобаи, шоферы, коновалы, краснодеревщики, пианисты, орнитологи, доктора, энтомологи, писаки, сутяги, ходоки, полярники, саперы, скалолазы, аферисты, Цицель, Стравинский и летчики. Все представлены в большой невидимой книге без начала и конца. Имя той книге «Великая мировая голубятня». Кто-то ее напишет? Кто-кто? Да никто.
Самих голубей, следует заметить, с каждым годом становится всё меньше.
Прав был граф Лев Николаевич Толстой, когда произвел девственную простоту в ранг величайших истин. Часто в какой-нибудь случайной незатейливой мыслишке, промелькнувшей в минуту опьянения или усталости, содержится столько значения, что вот он и будущий роман – автору отрада, читателю сюрприз.
Я бы еще добавил случайные предметы и чрезвычайные происшествия.
Так что путеводная звезда для удачливого сочинителя – не гремучий сюжет, не многострадальная идея, не багровое племя размышлений, но какое-нибудь семечко или косточка вишневая, или лестница без ступеньки, или гвоздь ржавый. Или упоминание того гвоздя. Или воспоминание о том гвозде, что оставил шрам на руке еще в детстве кисельном, или даже шрама не оставил, но встретился, случился, и не просто так, и с этим уже ничего не поделать. Словом, всякая чепуха и нелепица. Или венок нелепиц по аналогии с сонетами. Сморозил, брякнул, брякнулся, руку распорол, глядишь – поэма созрела. Или симфония. Или мозаика. Или «Великая мировая голубятня».
А лучше «Стравинский».
«Великую мировую голубятню» не потянуть. Никому из смертных не потянуть. Ибо по большому счету мы ничего о себе не знаем. И не узнаем никогда.
Да, чепуха – знак свыше. Всякому ваянию и зодчеству великое подспорье. И вообще великое подспорье.
По замыслу автора роман должен содержать шестнадцать килограмм отборной пустоты, что сделает его самой правдивой книгой о жизни во всех проявлениях.
Знаки свыше – большая редкость. Может быть, конечно, и не редкость, но не всяк умеет их распознать. Большинство ведь как думает? Происшествие и происшествие. Ну, или ужасное происшествие, чудовищное происшествие. Так думают. Не более того. Вот и блуждаем в потемках тысячелетиями.
Что такое чрезвычайное происшествие? Например, вас сбивает машина, или, еще лучше – удар током, вольтова дуга. Конечно, кошмар. Возможно с так называемым смертельным исходом. Иногда обходится, удается отделаться, как говорят, легким испугом. Так или иначе, вся последующая жизнь и потерпевшего и его ближайшего окружения – приложение к тому кошмару. А если это был знак? Побудительный сигнал и главный ответ на все вопросы? Или просто главный ответ безо всех этих наших нудных и однообразных вопросов длиною в жизнь?
Или первый аккорд будущей симфонии?
Поскольку дар небесный в виде чрезвычайных происшествий, как уже было замечено, большая редкость, ориентироваться писателю, художнику, композитору, как указал граф Лев Николаевич Толстой, все же стоит на обыденные нехитрые мысли, которые, в отличие от, скажем, шаровых молний, вьются подле нас точно осы вкруг омшаника.
Осы. Не случайно Аристофан воспел этих удивительных насекомых. Воспел ос и лягушек. Аристофановым лягушкам хочу посвятить отдельную главу. Уверяю вас, они того заслуживают.
Как выглядят незатейливые мысли? Вот вам пример – чепуха, которая посетила меня аккурат перед тем, как я принялся за поэму. Условно – поэму, а так, кто его знает, что получится. Может быть, роман. А, может статься, вообще что-нибудь этакое… эпистола, письмо, например. Вам, дорогие, читатели. Письма люблю, потому и вспомнил про эпистолу. И слово хорошее – емкое, не затертое. Эпистола. Очень красиво!
Итак. Дорогие читатели! Пишет вам…
Нет.
Конечно, никакая это будет не эпистола. Может быть, вообще ничего не будет. Хотя что-нибудь все равно будет, раз уж гвоздь да дуга вспомнились.
Письма в прежние времена хранили бережно, бечевочкой перевязывали, а то еще и в платочек, бывало, укутают. Чаще в белый или кремовый. А вот клетчатыми платочками в таких случаях, как правило, не пользовались. Клетчатыми платочками носы обслуживали. И носили в карманах брюк. А белые, кремовые, реже синие и красные – для нагрудного кармана пиджака или вот стопку писем запеленать. Пеленали письма. Письма, фотографии, реликвии семейные. От сырости берегли и поросячьего глаза.
Свинок всегда любил. Трогательные доверчивые животные. Сдается мне, пятачки их – не просто так. Однажды услышал, уж не помню от кого, такое детское, смешное на первый взгляд…
Розетки – вовсе не розетки, а поросячьи пятачки.
Получается, там, за стеной свинки? Как? Каким образом? Что же, их замуровали?
Да только ли свинки? А стоны водопроводных труб, эти утробные гулкие стоны? Быть может там, за стеной, и слоны и мулы, и марабу, и утконосы разные, и саванна, и тропики, и драконы, и снежные люди, и новые люди, и древние. Гиперборея с гипербореями, и Атлантида с атлантами, все такое, чего мы не видели никогда, но без чего жить не можем. Вынь, да положь нам все такое.
И вынут и положат, придет час.
Мы думаем о них, они тоскуют по нам. Свинки проще прочих и вообще родня, вот и высунули свои пятачки, нарушив условности.
Нет, не может быть. Конечно, это не настоящие свинки. Чушь, одним словом. Образ, хохма. Но не смешно. Даже как-то не по себе.
Казалось бы, безделица, услышал и забыл. Однако пристала, пристыла, не хочет отпускать. Теперь каждый раз, когда розетку вижу, волнуюсь. Чушь, конечно, но…
Знаете, как бы то ни было, розетки – не просто так. Пятачки – не просто так и розетки – не просто так.
Да. С такими мыслями далеко уйти можно. И спасатели не помогут.
С образами и хохмами надобно быть очень осторожным. Все так сплетено, переплетено. Замысел непостижимый. И так называемые случайности – никакие не случайности. Не бывает случайностей. Научным языком, а я не брезгую научной литературой, так называемые случайности – не что иное, как экзистенциальный прием, способ утешения.
Зиккурат. Уловка свыше.
Научные труды, поверьте, могут быть не менее увлекательным чтением, чем, скажем, авантюрные романы. Главное – читать, не останавливаясь. Зажмуриться и лечь на спину. На спине и не умеющий плавать человек навряд ли утонет. Возьмите хотя бы Канта. Для облегчения восприятия, перед тем как погрузиться в его труды, можно немного выпить. Если на дворе январь – неплохо выпить глинтвейна. Но и водка бывает хороша, когда за окном мороз.
Свинкам хочу посвятить отдельную главу. Может быть, там, где понадобится развить тему близнецов. Мы же с ними, в сущности, близнецы. Если без ханжества.
Но, вернемся к чепухе.
Итак, мысль, посетившая меня аккурат перед тем, как я принялся за роман. То есть совсем недавно. Озарение, так сказать. Когда бы ни очевидная ее глупость, можно было бы и озарением назвать. А разве озарения не могут быть глупыми? Очень даже. Ну, да ладно. Итак, мысль.
Если бы я родился лет на сто раньше, да стал бы композитором, наверное, жизнь моя сложилась бы иначе.
Каково?
Или.
Наверняка жизнь моя сложилась бы иначе, когда бы я родился, например, композитором Стравинским. Лет на сто раньше. Или агностиком. Сегодня. Или птицей. Всегда. Они ведь, птицы, в этом их параллельном мире, кто их знает, что они там?
Уже, как видите, череда мыслей. Вышеупомянутый венок.
Иногда мысли обрываются. Точно электричество отключили. Иногда это к лучшему. Как правило, к лучшему. Порой самому остановиться чрезвычайно трудно. Просто невозможно остановиться бывает порой.
Как занимается поэма или симфония? Или роман? Или роман-симфония? Покажу на примере грядущего «Стравинского».
Я на даче. Спешно, зачем, уже не помню, взбираюсь на второй этаж. На ходу клюю вишни, они у меня в лоточке на тесемочках на шее. В голове жужжит помимо воли, важно, что помимо воли…
Если бы я родился лет на сто раньше, да стал бы композитором, наверное, жизнь моя сложилась бы иначе.
Это еще не о Стравинском. Это вообще ни о чем. Проходная никчемная мысль. А нужно было сразу сосредоточиться. Это я теперь понимаю, а тогда…
Ладно, не будем задерживаться. В это мгновение нога соскальзывает со ступеньки. Косточка немедленно залетает в дыхательное горло. Подавился косточкой. Как Иона.
Была такая история. Еще до кита. Или после. Не помню. Никто не помнит.
Нет, Иона, кажется, семечком отравился. Иона на самом деле здесь ни при чем. Иов ни при чем. Никто ни при чем. Эти аналогии с Писанием, сами знаете.
А как?
Я подавился – этого достаточно. Речь обо мне, в конце концов. Во всяком случае, в данном эпизоде. Тоже, знаете…
Словом, подавился. Кубарем качусь с лестницы. Падаю навзничь.
Куда, как вы думаете? Верно, на тот самый ржавый гвоздь из детства, о котором я и думать забыл. Гвоздь же, как выяснилось, помнил меня все эти годы.
Изображать из себя героя не стану – первоначально испугался очень. Очень. Неприятные детали испуга описывать не хочу. Современный читатель живо представит себе всё то, перед чем робеет и чего стыдится читатель, застрявший во мхах традиции.
Но, рано или поздно, испуг проходит. Лежу себе, цел и невредим.
Лежу. Даже некоторую истому отмечаю, легкое кружение, не поверите, негу отмечаю.
Лежу. Глупые мысли постепенно возвращаются на круги своя.
Наверняка жизнь моя сложилась бы иначе, когда бы я родился, например, композитором Стравинским. Лет на сто раньше. Или агностиком. Сегодня. Или птицей. Всегда.
Вот вам и Стравинский.
Стравинского вспомнил, походя, даже не задумался, откуда он явился, зачем? Продолжаю лежать. Истома. И тут взгляд задерживается на мертвой лампочке под потолком. Неспешный рой праздных рассуждений, брызнув, уносится вспять. Откуда ни возьмись слепящей каплей идея – надо бы лампочку поменять.
И что за срочность? Перегорела и перегорела. Уже неделю как. Перегорела, стало быть, пора настала, судьба такая.
Должен признаться, в быту я крайне ленив. Опять же прекрасная погода. Осы вьются подле омшаника. Лягушки трещат в лопухах. Тут-то бы и расстаться с этой треклятой лампочкой, повернуться на бок. Так нет же. Ноги несут. Сами понесли. И вот уже я, чертыхаясь, как положено, взбираюсь в этот раз на стремянку. А в голове как заигранная пластинка всё та же песенка…
Если бы я родился лет на сто раньше, да стал бы композитором, наверное, жизнь моя сложилась бы иначе.
Вот о чем я думаю частенько, когда мне на глаза попадается портрет Стравинского – как здорово, что нём самом бекар и диссонанс. Иначе можно было бы усомниться в его подлинности.
Берусь за патрон. Даже не могу с уверенностью утверждать, успел ли прикоснуться. Не исключено, что только представил себе, как это я прикоснусь, и тотчас – бах! Искры. Следом тьма. Трах – бах! Вольтова дуга. Тотчас тьма. И тишина. Немыслимая тишина.
Всё. Поэма готова! Посмертная. Шучу. Пошутил.
А теперь уже серьезно – поэма готова. Явлена мне в мельчайших подробностях, в цвете, со всеми тонами и полутонами, запахами, временами года, героями и случайными людьми, моментальная фотография с высоты птичьего полета. Непостижимо, но факт. Нет, мы себе не принадлежим. Все прописано, предписано, расписано и распределено. Кому, как говорится, Стравинский, кому – дырка в черепе.
Что значит непостижимо? Неожиданно – другое дело.
А так, логически, всё очень даже выстраивается. Два чрезвычайных происшествия одно за другим. Что это как не знак свыше? Череда знаков. Венок, по аналогии с сонетами. Да еще на фоне никчемных мыслей. Как тут поэме было не случиться?
Или роману?
Поэма, роман, симфония… Если хватит терпения прочесть – решите сами. Я сейчас слишком взволнован, чтобы думать о таких мелочах.
После вольтовой-то дуги.
А когда бы еще и под машину попал – это уж совсем Везувий был бы! Но мне и шаровой молнии достаточно.
Машины, стиральные машины, швейные машины, шагающие стулья, летающие этажерки, летающие тарелки, эскалаторы, двигатели внутреннего сгорания, лебедки, насосы, роботы, говорящие роботы, механическое пианино, счетчики, счетчики Гейгера, сам Гейгер, велосипеды, мопеды, карусели, часы, карманные часы, напольные часы, турбины, вращающиеся бобины, механические цикады, часы с кукушкой, часы с инкрустацией, табакерки с чертями, спирали, канатно-висельные дороги, помпы, насосы, гидроэлектростанции, дизельэлектроходы и прочие необъяснимые механизмы – не моё. Не люблю. Никогда не любил. Я чистым электричеством восхищаюсь.
Электричество – диво дивное, что бы там не говорили. Обожаю вопросы, связанные с электричеством. Люблю задавать их умникам, всезнайкам. Именно умникам и всезнайкам. Что с простым человеком говорить? Простой человек всё чувствует. Безошибочно. Простого человека не проведешь, он и шишек набил и в карманах у него зола. Улыбнется, промолчит. Себя экономит. Умники – другое дело. В них верховенство волнуется, дрожит. И кузнечики в глазах.
Люблю, например, спросить всезнайку, – И что это такое, электричество?
Управляемый поток электронов, – отвечает. А про себя думает, – До чего же дурацкий вопрос, знать, собеседник-то дурень стоеросовый.
Продолжаю заманивать в капкан, – А электроны?
– А что, электроны?
– Вот именно, что? Кто это и что это – электроны? Как их осознать и принять всей душой? Бегут, говорите? Каким образом? Куда, зачем? Должны же они иметь какую-то цель? – Передышки не даю. – Облегчить страдания человечества? Сомневаюсь. Очень сомневаюсь. Есть ли у них имена? И, наконец, почему, собственно, лампочка-то загорается?
И вот в этот момент, как раз на этом вопросе вдруг, откуда не возьмись – бах!
Искра, вольтова дуга, тьма! Всё!
Ответа уже не слышу. Да и нет ответа. Как можно отвечать, когда собеседник твой искрит и обугливается прямо на глазах?
Выдумка, конечно, но, согласитесь, явление вольтовой дуги в данном случае было весьма уместным и эффектным. И весьма поучительным кое для кого. Знаете, удар молнии невольно заставляет охлынуть, задуматься, пересмотреть.
Знаете что такое вольтова дуга? Не приведи Господи узнать! Взрыв почище Хиросимы. Дыхание перехватывает, аорта на пределе, сердце вот-вот вырвется на волю, предсмертный восторг!
В моем случае – вдохновение.
Бах! Всё! Симфония готова.
Видите, как получается?
Другие сочинители на симфонию годы, десятилетия тратят. А как страдают при этом? Что ты! Просто почитайте доступные биографии. Воистину труженики. Страстотерпцы. Без иронии. Мозолистые души. А почему? Их током не било. И вся недолга.
Вызывает сомнения? А вы вот на что обратите свое драгоценное внимание. Одним из наиболее действенных и успешных методов лечения в психиатрии является электросудорожная терапия. С чего бы это?
А также Теслу вспомните и его Тунгусский метеорит.
А Ленин? Думаете, вождь затевал свою электрификацию, чтобы в медвежьих углах лампочки Ильича зажигали? Да он гениальные мысли таким образом культивировал.
Видите, как получается?
Кто такие электроны, и что такое ток, я уже не говорю о вдохновении – поверьте, никто не знает. И не узнает никогда. Потому что все эти знания изначально принимаются как данность. И теория вероятности, и «дважды два». Почему четыре? А потому. Так принято. Беспризорник Эйнштейн придумал. Числопас. Ему бы синяк под глазом. Или уж нарукавники. Амбивалентность, мать ее. Хиросима – тоже его рук дело, если копнуть. Нагасаки как-то реже упоминают. Беспризорник, числопас. Нацарапал спросонья невесть что, а нам теперь расхлебывать. Дважды два – четыре, видишь ли. А то, что он язык при этом показал, почему-то не учитывается.
А вот вам – новая идея, так же откуда ни возьмись, и также помимо воли.
Наверняка жизнь моя сложилась бы иначе, когда бы я родился, например, егозой Эйнштейном.
Хочется немедленно записать.
Хочется – перехочется.
Записал бы и одним росчерком пера жизнь под откос пустил бы. Или взмыл бы небесным змеем. Нужно уметь вовремя остановиться.
Тут бы со Стравинским справиться. Какой еще Эйнштейн?
Удержался. Молодец.
Шучу.
Люблю лунной ночью посмеяться над собой. Днем тоже, бывает, грешу – смеюсь, как полоумный.
Всякое писание – рискованное предприятие, доложу я вам. Вот говорят – ведите дневники, ведите дневники, ведите дневники… Не ведите. По моему опыту, даты и дневники – галька в сапогах. Или гравий. Или в штиблетах, если вы отдыхаете где-нибудь на море, в Абхазии, например.
Обожаю Абхазию. Воистину рай земной. Я ни даты рождения, ни даты смерти своей не помню. Потому шагаю налегке. Или кружу со своими турманами над своей голубятней.
Видите, как получается?
Так что, изволите видеть, поэма моя, роман мой, или эпистола, или репортаж со дна сознания с Абхазией, собаками, турманами, иллюзиями и прибаутками готов. А начиналось всё, если помните, очень просто – поперхнулся вишневой косточкой, слетел с лестницы, поцарапался гвоздем и так далее. Так что, по аналогии с известным анекдотом, простота лучше воровства. Граф Толстой, с которого я, собственно и начал свое повествование, это хорошо знал. И одевался соответствующим образом, напоминая и подчеркивая.
По первой и главной профессии я психиатр. Вероятно, вы уже догадались.
Вообще психиатр – не профессия. Картонная коробка. Картонный домик. В домике том тайн и откровений много больше, чем существует в природе. Людям без слуха в таком домике не выжить. Без слуха и страсти к письменам. Писать можно прямо на стенках. Разумеется, изнутри. Или в уме. Не имеет значения – окошек-то нет.
Моя мысль может показаться вам парадоксальной, однако именно и только в сумасшедшем доме царит подлинная свобода.
Вообще доктора и пациенты живут здесь одной большой семьей. Со временем и во внешности их начинают просматриваться общие черты. Не до такой степени, что у Стравинских, но всё же.
Так, ради любопытства, как-нибудь обратитесь к галерее знаменитых психиатров. Обратите внимание на уши, глаза…
Поскольку мы носим халаты, спутать нас с больными не представляется возможным. Разве если кто-то захочет пошутить? Шутки в нашей среде приветствуются. Шутки, розыгрыши, духовные забавы и всякого рода писание.
Так что иногда пишу. Чаще всего для себя.
Лукавлю. Иногда лукавлю. Для себя. Но чаще пишу. Если не сплю – пишу.
Вот прямо сейчас пишу. Можно проследить за ходом моих мыслей. Если интересно, конечно.
Такая игра – вы следите за моей мыслью, я слежу за вами, за тем, как вы следите за моей мыслью, на самом деле, вместе читаем роман. Вы читаете – я шевелю губами.
Да, следует признать, сегодня важнейшей из всех наук для нас является психиатрия. Мысль не совсем моя. Точнее, мысль – моя, но по форме напоминает другую мысль другого человека. Наверняка догадались, о ком идет речь.
Сымитировав таким образом своеобразную вариацию на тему непреходящей злободневности, я попытался возвести содержание универсальной идеи в абсолют.
Надеюсь, содержание не вызывает у вас сомнений? Возьмите, к примеру, то и дело вспыхивающее на наших глазах безумие государств. Не только безусловно одушевленный человек, но также условно одушевленный социум, и, если вспомнить Помпею или Дамхан, экзистенциально одушевленная эйкумена, а также необитаемая часть мира и сам космос нуждается в том числе, и в первую очередь, в наблюдении психиатра.
По меньшей мере, в наблюдении.
Согласен, мысль попахивает атеизмом, потому, во всяком содержательном человеке обязана вызвать отторжение. Однако же возникла, и не на пустом месте. Стало быть, была допущена к озвучению. В качестве штриха. Или аккорда, если угодно.
Вероятнее всего – как некое предупреждение.
Ну, что же, пусть покуда остается в нотной тетради черновиком.
Коробка может иметь любые размеры. Хоть Вавилонской башни, хоть спичечного коробка. Главное – не отвлекаться.
Теперь прошу обратить внимание на эпиграф. Изволите видеть, инициалы Стравинского – И.И. а не И. Ф. Это – не опечатка. Речь в романе пойдет не о композиторе. Точнее, не только о композиторе. Хотя композитор выступит, безусловно. Было бы, согласитесь, чудачеством с таким-то заглавием, в перспективе разверзающихся возможностей, памятуя, и так далее.
Чудачеств бояться не нужно. Бояться следует не чудачеств.
Так что композитор Стравинский И. Ф. выступит непременно. И не только в качестве композитора, а также, в качестве своеобразного шелкопряда, связующего звена, путеводной звезды и, не пугайтесь, марева.
Вы обязательно поймете, что имел в виду автор, выдохнете с облегчением и даже обрадуетесь. Чуть позже.
Не исключаю катарсис.
Случиться катарсис может где угодно и когда угодно. Но мне отчего-то кажется, что ключевым фрагментом станет одна, прямо скажем, шокирующая каденция, где вступают колокольчики. Сами поймете, когда услышите.
Катарсис, например, можно испытать, когда сосед включает свою дрель.
Так что не обязательно «Болеро». Участие Равеля в нашем путешествии не предполагается. Может быть, и напрасно.
Фрагменты помечены цифрами. Заголовки тоже присутствуют, чтобы не воспарить над писанием безвозвратно, но цифры – главное. Так структурируют партитуры. Так что перед вами скорее не текст, а партитура. Попытка симфонии.
Уже прозвучало – черновики. Лично мне черновики нравятся больше чистовиков. Всегда можно что-то исправить, изменить. Нет этого щемящего ощущения обреченности. Обреченности и в жизни, согласитесь, хватает. В последнее время – в особенности. Живем-то, если вдуматься, очень недолго. Несколько тактов в масштабах симфонии.
Хотя симфония – это не то, что написал композитор, а то, что мы слышим.
На самом деле мои герои молчат. Нам только кажется, что мы улавливаем их голоса. Это не голоса – звуки. Точнее следы от звуков, тени звуков. Про себя живут мои герои. А наяву отсутствуют. И нечему тут удивляться. Разве не поем мы песен про себя? не вступаем в мысленные перепалки? не сочиняем невидимые сочинения? И поступки совершаем героические про себя. Преимущественно героические.
Если быть по-настоящему справедливым, а это значит наряду с внешними событиями, принимать во внимание события внутренние, включая мечты и сновидения – история человечества совсем не то, чему нас учат, и сами мы – нечто совсем иное. Всякий звук – только оболочка звука, а всякая реальность, какой мы привыкли ее представлять – лишь оболочка реальности.
Сюжет, содержание, мораль не предполагаются. Предполагаются штрихи, акценты, синкопы, что там еще? блики, обертоны – то, что в итоге и формирует гармонию. Или дисгармонию. Как вам заблагорассудится.
Тишину, бездну можно трактовать как угодно. Свобода. Пустота. Ничто.
Может возникнуть закономерный вопрос – коль скоро ничто, зачем, в таком случае? Ответ – представления не имею. А зачем играют в шахматы, например или ходят в горы?
Нет-нет. Все в порядке. Сейчас поясню, о чем речь. Если вы еще не догадались, именно вы, дорогие читатели – авторы романа.
Такая игра. Приглашение в новенькую голубятню.
Как-то будете обустраиваться? Не интересно разве? Самим не интересно разве? Еще как интересно! Это вам не карточки перебирать, не нули на палочки нанизывать.
А меня как будто нет. Я уже давно сплю с котом в головах и собаками в ногах. Выпил чуток, да и завалился спать. Перед сном беседуйте со своими питомцами. Возьмите за правило.
Пронзительные слова эпиграфа – плод размышлений Ивана Ильича Стравинского, не композитора, но моего коллеги психиатра, еще одного значительного персонажа повествования.
О психиатрах мало пишут. Полагаю, побаиваются как самих ослепших от криков, да окриков докторов, так и парящей в глубине их науки их.
А напрасно.
Конечно, бывали терпкие времена, что скрывать? Но, окиньте взором всемирную историю. Такое, да и похуже случалось всегда и повсюду. И теперь случается. И будет так.
Да, тлели и тонули многие. Однако же всегда находились отдельные иные. И среди психиатров, знаете ли, тоже. А подчас и в первых рядах. Просто всё такое остается за скобками, как правило. А правила, сами знаете, не всегда справедливы. Потому-то и любим мы исключения беззаветно. Любим и приветствуем. Всегда и повсюду.
Перед вами собрание исключений. Как говорится, по требованию времени. По любви и по требованию времени. По любви, не забывайте. Заглавного героя выберете себе сами. Кандидатуры, уверяю вас, все достойные. Возможно, выбор вашего сердца падет вовсе не на Стравинского. Хотя Стравинских будет даже не два, а три.
Три Стравинских, с ума сойти!
Так что психиатр Стравинский очень даже уместен. Шутка.
Я обещал вам трех Стравинских.
С Игорем Федоровичем и Иваном Ильичом я вас уже познакомил в общих чертах. Впрочем, Игоря Федоровича вы и без меня знали. Без меня или вместо меня. Шутка.
А будет еще С. Р. Сергей Романович Стравинский, агностик1. Откровенно говоря, при выборе заглавного героя, я бы остановился именно на нем. Что называется вопреки. Знаете, иногда сладко выбирать вопреки. Есть в таком выборе привкус независимости, что ли. Скажу больше, когда бы ни Игорь Федорович да Иван Ильич, я бы писал исключительно о Сергее Романовиче, хотя бы потому, что он меньше других того заслуживает. Знаете, взбалмошных, непутевых детей, парадоксальным образом, любят больше.
И вообще, на мой взгляд, некоторые парадоксы уже давно пора перевести в разряд закономерностей.
А может быть, все трое – один человек. Некий Стравинский. Без инициалов. Ни живой, ни мертвый. Когда человек умирает, он уже не знает, жив он или мертв. Или когда очень испуган. Или когда влюблен. О себе не думает, лишь о предмете страсти своей думает. А сам – ни жив, ни мертв. Так и говорят, ни жив, ни мертв. Еще говорят, душа в пятки ушла. Представить себе трудно, как такое может быть. Но говорим же? И часто.
На подошве кожа нежная. Даже если босиком много ходить.
Как Толстой или японцы.
А может быть, все персонажи – ваш покорный слуга. Только не тот, что существует в природе, ходит на работу, какие-то будние разговоры, праздничные разговоры, беседы беседует, кормит собак во дворе, на балконе курит, с голубями может заговорить.
Не тот – другой. Тот, что ничего о себе не знает, и даже не догадывается.
И не нужно лишнего о себе знать, потому что понять всё равно не возможно.
В моем повествовании всё неправда. И если вам на глаза попадется легко узнаваемая деталь или история – не верьте глазам своим. Так что перед вами не автобиография. Скорее уместно было бы назвать его антибиографией, но сей неологизм мне решительно не нравится, так что забудем его как страшный сон. Мало ли какая фантазия заблудится во сне?
Осуждать спящего за его сны – последнее дело. Тем более – делать выводы.
Вывод – всегда тупик. Тупик, битое стекло и кошачий запах – вот что такое вывод.
Теперь о сыщиках. Вам же хочется чего-нибудь такого? Все мы, если вдуматься, сыщики. Одни женины похождения расследуют, другие – жизнь после жизни. Стравинский С. Р. расследует пустоту во всех проявлениях, Стравинский И. Ф. – тишину во всех проявлениях, Стравинский И. И. – бездну во всех проявлениях. А я, изволите видеть, все это за ними записываю на стенках коробки. Разумеется, изнутри.
Теперь прошу внимания. Начинаются чудеса.
Тут такая история. История, предыстория, заявка, завязка, примите, как вам заблагорассудится. Дело в том, что композитор Игорь Федорович и агностик Сергей Романович, притом, что не родственники, внешне однояйцовые близнецы. И не только внешне. Два, казалось бы, разных человека, но – одно и то же лицо, одна фамилия, одни и те же бесенята, да петушки, если присмотреться, да прислушаться. Как такое могло случиться? Не знаю, ума не приложу, однако – факт.
Проверял. Ставлю пластинку, что-нибудь из сочинений Игоря Федоровича, пусть «Симфонию», «Петрушку» или «Жар-птицу», не важно… хоть псалмы, хоть другую какую симфонию, или не симфонию вовсе, не важно… пластинку заведу, или, бывает, сам про себя напеваю, люблю, знаете, напевать про себя… не важно. Закрою глаза – и тотчас всплывают близорукие черты Сергея Романовича.
Или Игоря Федоровича. С наскока не разберешь, лицо-то одно.
Такая вот история. Предыстория.
К слову, бесенята, да петушки тоже в известном смысле меж собой родня.
Теперь Иван Ильич. Тот, чей эпиграф.
Чудеса продолжаются.
У Ивана Ильича, однофамильца вышеупомянутых Игоря Федоровича и Сергея Романовича те же черты. Единственное отличие – Иван Ильич альбинос в голубых прожилках с рубиновыми бусинками-глазами.
Такое впечатление, будто перед нами три идентичных снимка, но один засвечен.
Или три черно-белых снимка, а один был бы цветным, но загублен при проявлении.
Невозможно белое лицо с голубыми прожилками и рубиновыми бусинками-глазами у Ивана Ильича. Когда бы ни этот испорченный снимок, смело можно было бы объявить – вот три портрета исключительных близнецов. Игоря Федоровича из прошлого, Сергея Романовича из настоящего, да Ивана Ильича из будущего. Три стравинских портрета. Удивительное дело.
Так бы и окольцевал виньетками, честное слово.
Будущее отдано Ивану Ильичу, так как он известный выдумщик и мечтатель, хоть и психиатр. Бывает, такое нафантазирует, заплетет, что и семи умникам не разобраться. Заплетет, сам же и попадется. Заглянешь к нему в кабинет в самый наплыв и разгар – нет Ивана Ильича. – Где доктор? – А кто его знает? Из помещения не выходил. Окна закрыты. Очередь томится, гудит. Нет Ивана Ильича, нет доктора, был и не стало. Да где же он? В мечтах, в будущем, в силке. Выпутается – вернется. Или по свалке с другом путешествует. Вернется, и тут же за работу.
К свалке, именуемой Баллас, обратимся позже.
Баллас – особое место. Особенное!
Вернется Иван Ильич, и тут же за работу. Пахарь. Этого у него не отнимешь. Беседует, на вопросы отвечает. Отвечает, сам вопросы задает, а все в своих мыслях.
Титанический труд – исследование бездны.
Вынужден признать, в тумане будущее наше, коль скоро символом ему Иван Ильич.
Игорь Федорович умер, и давно.
Как говорится, давно уж на той стороне.
Или – давно уж на том берегу. Как будто речь о какой-нибудь речушке. Такой метафорой смерть проще объяснить. И не так скорбно получается.
Умер Игорь Федорович. Давненько уже. Время летит, знаете ли. Умер. Тишину исследует. Во всяком случае, так принято считать.
Стало быть – за ним прошлое.
Титанический труд – исследование тишины, доложу я вам.
Прошлое, как вы знаете тоже непредсказуемо, но все же кое-какие факты и артефакты можно подсобрать, полюбоваться, осудить или прославить. Посмаковать, как говорится, похвалиться. Опять же величие.
А какая музыка у Игоря Федоровича?! Возьмите хоть «Петрушку», хоть «Жар-птицу» или «Симфонию». А «Весна священная»? Что ты!
Бывает, заведешь пластинку, закроешь глаза – такое великолепие и пожар. Так бы и не возвращался в настоящее.
Игорь Федорович, равно как и Иван Ильич, склонен исчезать. То появится – то исчезнет, то появится – то исчезнет. Ну, в точности Иван Ильич. Близнецы – они и есть близнецы.
Выходит, прошлое наше – в мареве. Будущее – в тумане, а прошлое – в мареве.
Но грусти нет. Ни малейших признаков. Стало быть, будем веселиться. Если получится.
А вот Сергей Романович при внешней аморфности, крайне активен и подробен как раз в настоящем. При полной погруженности в себя тоже наблюдает, анализирует. Собирает четверги. Будто бы собирает. Во всяком случае, смолоду собирал. Не оставляет надежды разобраться, систематизировать, что-то вычеркнуть или присовокупить, составить концепцию или опровергнуть, забыться, наконец. Во всяком случае, складывается впечатление, что надежда понять нечто одному ему ведомое еще не покинула его. Страдает, конечно. Пьет, случается. Для него и сон, и пробуждение – события. Невидимые труды и странствия. Круглосуточно. И во сне тоже.
Иногда заговаривает. Чаще стихами.
Чаще молчит. Тоже стихами.
Стихи, забегая вперед, непривычные. Иногда не понятно, то ли Сергей Романович стихи читает, то ли Сергей Романович сам по себе, а стихи – сами по себе.
Если Сергей Романович сам по себе, кто, в таком случае, читает стихи?
И зачем стихи, тем более непривычные, смутные стихи, когда и без стихов туман? И с давних пор. Если вдуматься с самого сотворения мира.
Вопросов много.
С тем, что, так или иначе, касается Сергея Романовича всегда так. Смутная фигура. Тень самого себя. То, как мы ощущаем себя в одиночестве, когда не спишь, но всё внутри замерло, дремлет. Себя помним еще, но вот что мы такое есть на самом деле – как-то туманно, и не думается об этом. И вообще не думается. Обломки фраз, какие-то рифмы не к месту, эхо желаний, утерянные предметы, невидимые купола и арки, пенистый океан, пыльные коридоры без окон, все в покое и движении одновременно зыбкое и непостижимое. Вот что такое Стравинский С. Р.
Воистину блуждаем, что твои сомнамбулы. Кто-то назовет эти блуждания особого рода творчеством, а кто-то, без затей – пустотой.
Изволите видеть – закольцевал. Пустоту закольцевал. Вот таким образом симфонии и складываются. Черновики симфоний.
Титанический труд – исследование пустоты. Между тем – зачин.
А, может статься, и реформа в обозримом будущем.
А без реформ мы куда? Все от сотворения мира – сплошная реформа. А иначе бы до сих пор жили без радио и реестра.
Случаются, конечно, перегибы, Вавилон, например. Но Вавилону уже дана гуманитарная оценка. Соответствующие акценты проставлены.
Будто бы проставлены. Нет?
Этот и подобные вопросы, назовем их главными вопросами – основа агностицизма. Вопросы, ответа на которые не существует. Во всяком случае, на этом берегу. Но обреченность не просматривается. Ни малейших признаков обреченности.
Стало быть, будем веселиться. Если получится.
Тем более, когда мы остаемся один на один со своими мыслями, категории времени и пространства исчезают. И так-то славно получается – захотел с покойником поболтал, захотел – на гондоле прокатился.
Иван Ильич и Сергей Романович живут и здравствуют в одном и том же городе – водянистом, сокрытом в самом себе городке Бокове. Бродят по одним и тем же улочкам, наблюдают одни и те же фигуры из облаков, мокнут под одним дождем, имеют общих знакомых и незнакомых, включая домашних и уличных животных, а вот встретиться у них никак не получается. Все как-то не складывается. Хотя оба нуждаются друг в дружке. Вы это поймете по мере погружения в детали предлагаемых вашему вниманию приключений, а речь пойдет о захватывающих духовных приключениях. О духовных приключениях духовных людей.
Персонажи будущей симфонии – исключительно духовные люди. Скажете, так не бывает, такого не было никогда. Но, во-первых, откуда нам знать? Ибо все, что сказано и написано, все эти мемуары и толкования с действительностью имеют мало общего. Примеров тому не счесть. Во-вторых, если такого и не было никогда, не означает, что такого не будет никогда. И, в-третьих, пожалуй, главное – так должно быть. Разве не к гармонии мы стремимся, разве не просветления ждем отчаянно?
Череда вышеназванных волшебных обстоятельств и сходств побудила меня написать короткое стихотворение, которое, когда бы ни генетическая скромность автора, могло стать вторым, а, может быть, и первым эпиграфом…
на мороз как в топку
громко чуть слышно
жизнь задалась…
Триединство. Закономерность, символ, суть.
Музыка явлена нам в трех ипостасях: собственно музыкой, стихами и бредом.
Наверное, именно эту фразу следовало бы сделать эпиграфом романа, но высказывание Стравинского И. И. показалось мне более значимым.
Названный герой мой, Сергей Романович Стравинский, тот, что агностик, как я уже докладывал, не дурак выпить. Вы легко и скоро сможете в этом убедиться, если хайку, навеянное Стравинскими, размышлениями о Цуимском сражении и триединой матушке России не отпугнуло и не побудило вас, дорогой читатель отправить сочинение в настоящую топку уже с настоящими бесенятами и петушками.
Всякий раз, затевая симфонию, я, как врач, и по мере возможностей стремящийся к честности человек, уже в первых абзацах стараюсь уберечь читателя от дальнейшего чтения.
Право слово, если уже принялись читать, бросьте это занятие, послушайте лучше еще раз «Жар-птицу», «Симфонию» и «Петрушку». Больше проку будет, честное слово.
Хотя замечу, такой симфонии свет не видывал. Во всяком случае, собрать воедино трех столь непохожих друг на друга однояйцовых близнецов, насколько мне известно, никому прежде в голову не приходило.
Снова триединство, обратите внимание.
Наряду со здоровьем пьянство рушит барьеры, спесь, брезгливость. Предаваясь пьянству, сами того не замечая, мы приобретаем новые свойства. Можем, к примеру, взлететь и вылететь, постичь бесконечность и участвовать в снегопаде, сделаться равным великим или другом лилипутов, играться со временем, как будто оно не вселенская каша, а часики на цепочке, воспеть или вовсе отказаться от времени.
Пьянство, медицинское образование, склонность к иронии и самоиронии – вот три достаточных условия, чтобы сделаться русским писателем. Незаурядным писателем, как минимум. Ибо всякий русский писатель незауряден. Если, конечно, он – настоящий писатель. И всякий русский композитор незауряден. Если, конечно, он – настоящий композитор. Как Стравинский. Или Римский-Корсаков.
Справедливости ради следует заметить – отличить настоящего писателя от ненастоящего невозможно. Потому что, во-первых, непонятно, какими качествами должен обладать судья, а во-вторых, каковы критерии отбора. То же относится и к национальной принадлежности сочинителей. Я, например, нахожу, по ряду примет Эриха Марию Ремарка чисто русским писателем. И Хэма.
Диккенса, конечно. Диккенса, может быть, даже в первую очередь.
Хотя какая разница, если в конечном итоге все мы оказываемся крайне недовольными своей смертью?
И здесь триединство.
Скажете – автор зануда какой-то, и окажетесь правы.
Всё. Больше о триединстве ни слова. Считайте сами, если вам интересно, а я впредь отказываюсь. Какой смысл, когда кругом три, три, три? Три и будет.
А знаете что? Не считайте, пожалейте себя.
То, что называется вдруг, откуда не возьмись. Нечто.
Укладывается сначала на бок, потом на живот.
Речь о так называемой цивилизации.
Ворочается, так сказать. А, может быть, подобно дрессированной белке забирается в невидимый барабан. Только представьте – такая тучная реликтовая белка с окаменевшими лапками и тиной во взоре. С одышкой, разумеется – давно живем-то. Поворачивается, со всеми вытекающими последствиями.
Вытекающими – смешно, Бог знает, что можно подумать.
Слова игривы. И подчас опасны.
Или, например, крутит «солнце». Тоже вариант. Солнце – популярный фокус из моего детства, предмет бахвальства уличной шпаны.
Речь все о том же, о так называемом человечестве.
Нечто выполняет упражнение нехотя, медленно, с ветрами, стонами и скрипом. Представляю себе эту взмывающую громадную косматую массу с высыпающимися из складок и карманов фантиками, марками, спичечными этикетками (всё из детства), мятыми червонцами (уже позже), презервативами, слипшимися воздушными шариками, слипшимися резиновыми перчатками, табачными крошками, крошечными окурками, линзами, ракушками, ватрушками (порой смертельно и безоглядно тянет рифмовать), печатями, бланками, рулонами, юркими черепашками, юркими червяками, юркими рыбками, юркими рыбаками, настенными календарями, тлеющими сухариками и наскипидаренными воронами. Перечисление может быть продолжено сколь угодно.
Содержимое – на усмотрение читателя. По настроению. Безо всяких выводов, обобщений, аналогий и прочей белиберды. Исключительно по настроению.
А, может статься, нет никакой спирали. Мироздание засыпает и пробуждается, затем вновь засыпает и вновь пробуждается. В долгом сне, как положено, затеваются крылатые гипотезы, приставучие мелодии, тысячелетние свары и прочие прелести да пакости.
Поутру мироздание, как положено, приняв дождь, принимается населять своими затеями жизнь. Примется, так как сейчас, по достоверным приметам оно спит. Совсем недавно, буквально на наших глазах задремало. По достоверным приметам зреет храп. Не трудно себе представить, что это будет за храп, впрочем, экстрасенсы достаточно подробно описали его.
Несмотря на сон ноосферы, у отдельных её представителей, у меня в частности иногда, не скажу, чтобы часто, видимо по привычке, возникают разнообразные фантазии. Скоро, наверное, это пройдет, но пока еще возникают. Например, хорошо бы напоследок придумать что-нибудь этакое, чтобы, когда наступит храп, не было так страшно, как в поговорке, страшно невтерпеж.
Или там, в поговорке, речь шла о замужестве?
Тему замужества разовью чуть позже, а вот рифма, согласитесь, получилась сочная, хоть и нестандартная…
страшно – невтерпеж.
Хорошо бы придумать, например анекдот или байку.
Эх, умел бы я составлять куплеты, цены бы мне не было!
Увы! Анекдот свалять – идея несбыточная. Я вообще сомневаюсь, что анекдоты придумывают люди. Не я один сомневаюсь.
Объясниться. Пояснить. Надобно. Отступаю от собою же установленных правил и поясняю. Давно нужно было это сделать. Тогда бы не возникали вопросы «что», да «зачем», да «почему».
Итак. Выгляните в окно иллюминатора минут через пятнадцать после взлета. Когда вата небесная уже пройдена. Что видите? Можно назвать это шелком? Нет? А я бы рискнул. Теперь понятно, в чем смысл?
И хорошо бы начать с этого поганца Ницше, который, чего уж там, многих смутил, расстроил и вдохновил, который… Начать, предположим, так…
Открыл и закрыл…
Открыл, прочитал первую фразу, и больше не открывал. И никогда больше не открою, ибо…
Или сразу суть…
Видели его усы, этого самого Ницше?
Сразу суть…
Натуральный таракан.
И всё.
И ни слова о нем больше.
Пара фраз – а Вельзевул низложен.
С этим тараканом, кажется, угадал в десятку, в самое яблочко!
Одна точная фраза и усатый меднолицый Вельзевул низложен!
И попран!
Каково?
В принципе можно было бы вообще больше ничего не писать. Но на байку не тянет. Недостаточно. Пропадет фраза. Жаль. Надо бы как-то развить. Итак.
Видели его усы? Этого самого Ницше? Натуральный таракан.
Что дальше?
Байка – плохо. Баек и без меня хватает. Среди шоферов и рецидивистов я встречал таких мастеров баек, куда мне с ними тягаться?
Взять того же Ницше. Хотя он и таракан, но в байках дока.
Спр’осите – за что его так-то? Ответ – за то самое! Твердо так, с металлом в голосе…
За то самое!
Чтобы впредь не возникало соблазна задавать уточняющие вопросы.
За то самое!
Или вот, еще лучше, обожаю этот оборотец…
Хотелось.
И всё. И попробуй что-нибудь мне предъяви после такого-то аргумента.
Откровенно говоря, я смертельно обижен на этого Ницше. За эту вот самую первую фразу. Не осмелюсь повторить. За ту фразу, что лишает каких-либо надежд одним махом.
Надежда должна оставаться. Во что бы то ни стало. Надежда пульсирует. Как голод. Или радость. Зачем? Не знаю.
Сочинять с такой пульсирующей надеждой внутри по идее не положено. В особенности в наше блеклое время.
К слову, поэты, как правило – очень грустный народ, а самые лучшие стихи – те, что навеяны беспролазной печалью.
Опять стихи. Зачем здесь поэзия? Причем здесь поэзия?
А о чем вообще речь?
Плевать. Хочу. Намерен сочинить, придумать, вспомнить кое-что. Выудить, сверить, проверить. Зачем? Для кого? Не знаю. Для себя.
Хотя я теперь склонен к созерцанию. Таким как я теперь уже ничего не остается кроме созерцания.
Нам, чьи ноги помнят твист и болгарские сигареты, портвейн и Болгарию саму… Стоп. Что значит, ничего не остается? Да разве есть на свете ценность значительнее созерцания? И создан ли более значительный персонаж, чем Обломов Илья Ильич, который… что?.. Который – всё. Наше всё. Как Пушкин.
Пушкин и Обломов – недурная компания. Африканец и вельможа.
Итак.
В точности как обожаемый Илья Ильич, я склонен теперь к созерцанию. И самосозерцанию. По большому счету, склонен к пустоте (привет Стравинскому С. Р.). Склонен к пустоте в самом яхонтовом значении этого слова. К пустоте, пустотам, ибо пустоты – это детали. А что может быть приятнее для сочинителя, чем собирание и нанизывание деталей? Включая пустоты.
Кругом триединство и пустоты. Уже и сам устал. Но что делать, когда это так?
Склонен к пустотам, паузам, в то же время, к беседам с собаками, включая воображаемых собак, весьма полезных для письма и вообще весьма полезных во всех смыслах. В особенности их глаза.
Вот, казалось бы, фраза абсолютно не сочетается с предыдущими фразами. Выпадает и трещит петушком на трамвайной дуге. Однако же мне так захотелось, я и вставил. Это и есть свобода, не та мнимая свобода, когда орут и толкаются. В особенности в трамваях моего детства. Или на площадях моей юности.
Перед сном беседуйте со своими питомцами. Возьмите за правило. Хотя бы перед сном.
Так что же всё же, сочинительство или созерцание?
А совместить нельзя? Совместить нельзя. Уж тут уж что-то одно. Или сочинительство или созерцание. Нельзя. Где угодно, кроме изящной словесности. Изящная словесность потому и называется «изящной», что сочетает несочетаемое…
Они сошлись, волна и камень, стихи и проза, лед и пламень…
Теперь понятно, что имел в виду Александр Сергеевич?
Вот, кстати, к слову пришлось. О чём они там говорили на Сенатской площади? Ну, пока стояли, мерзли?
Вчера Архип достал щуку килограммов на семь, например.
Или.
Третьего дня двадцать пять рубликов проиграл… да казённых.
А потом – бах! и нет Милорадовича! Михаила Андреевича. Вольтова дуга истории.
А сочинение? что сочинение? Мне нравится перебирать буквы, слова. Просто так. Без цели и задач.
А в беседах с собаками таится огромный смысл.
Прежде старухи из чулок коврики вязали. Из чулок, тряпочек разных. Дивные коврики. Теплые, пастельные, как сама старость, поскольку старость – ничто иное, как изнанка детства. Не удивляйтесь, если вы уже встречались с этими ковриками. Коврики из чулок и бродячие собаки – неизменные мои персонажи, кочуют от сочинения к сочинению.
Еще Цусимское сражение. Часто размышляю о нем. О Милорадовиче и Цусимском сражении. С детства. Думаю, например, а что если бы все сложилось не так, а иначе. Или просто представляю себе, вот они идут, отливая серебром: «Князь Суворов», «Ослябя», «Аврора»…
А Милорадович, скажем, простыл, и в тот злополучный день из дому не вышел. Укрылся пледом, читает себе «Леона и Зыдею» юного Миши Загоскина.
«Аврора» – особая песнь. Позже побалую вас одной, связанной с крейсером, любопытной историей из жизни тропических животных. Не броненосцев, нет. Логика не всегда срабатывает. Далеко не всегда.
Эх, Цусима! Какие люди, какие корабли! Доблесть, понимаете, честь! Вот как будто всех доблестных и честных морских офицеров собрали вместе и убили. Вместе с кораблями. Хитросплетения большой игры с неведомыми правилами. Партия прописана заранее. Например, если бы революции было назначено накрыть Японию, всех доблестных и честных японских морских офицеров собрали бы вместе и убили. Вместе с кораблями. То есть, поражение потерпел бы адмирал Того, и наверняка совершил бы харакири в цветущем возрасте или в цветущем орешнике. Но, во-первых, революция в Японии – очевидный перебор, так как японцам хватает землетрясений. А, во-вторых, ко времени сражения, доблестные и честные офицеры были собраны как раз на русском флоте.
Игорь Федорович при жизни не успел или не хотел создать симфонии на материале Цусимы, может быть, ему это и в голову не приходило. Зато теперь, когда времени у него бесконечно много, он наверняка задумался об этом. Иначе быть не может, раз уж эта мелодия прозвучала во мне, точнее в моей поэме о Стравинском.
Точнее так. В настоящее время великий композитор Игорь Федорович Стравинский работает над симфонией о Цусимском сражении, почему, собственно, автору и вспомнился этот именно, а не какой другой из многочисленных эпизодов русской истории. Я бы так сказал – невелика хитрость полюбить победу. Ты сумей поражение полюбить искренне и нежно.
А нынешние старухи, обратите внимание, от того, что без любви оказались, сами как будто из чулок связаны.
Были еще, помнится, в школьные годы такие циркули со скобой или петелькой, не знаю, как лучше назвать, куда вставлялся карандаш. Копеечные. Теперь таких не найти. По тем дешевеньким циркулям память теплая. А в дорогих, металлических циркулях из готовален души не нахожу. Наверное, потому, что не чертежник. Не чертежник, не математик. Цифровой кретинизм у меня. Не помню, в каком году школу кончил. Всякий раз спрашиваю. Испуган точными науками навсегда. Учительница строгая была. С нечистыми волосами и родинкой на шее.
Возьмите хоть понедельник, хоть вторник, любой день недели, любой город или поселок сегодня.
Нынешний Боков возьмите. Скажем, Советский проспект. Что там? Запах электричества. Сажа и бронза. По вечерам фонарики снуют – машины. Не часто, нет. Мертвецкие в просторных окнах. Кварц. Газеты под ногами. Скорлупа яичная иногда. Вороны иногда. Голубей не стало. Заикание и гул. Редко слова. Бранятся…
Боков возьмите. Скажем, Куету. Что там? Горячие лужи. Конюшня на отшибе. Окна уже маленькие, живые. Собачьи свадьбы. Теплушки, теплушки, бойлерные. Всегда тепло. Дождик теплый. В синем киоске сахарная вата. Сортиры известкой побелены. Шепот, да лепет. Всегда тепло. Слова – редкость. Бранятся, разумеется…
Возьмите Боков. Скажем, Худоложье. Зимой пряничные домики снегом укутаны. Как елочные игрушки. Тут и там глаза кошачьи. Желтые и зеленые. На проспекте – фонарики, а здесь – глаза кошачьи. Машин не бывает. Колодец в ледяных узорах. Нож в сугробе. Гуси шествуют протяжно. Собаки лают только по праздникам. Слова – редкость. Бранятся, главным образом.
С одной стороны – город, а поворотись-ка на восток – роса сияет. Что за станция? Россия-матушка. Расея.
По тюрьме теперь многие скучают, в связи с чем, обращаются друг к другу «братишка». Лубок и жертвенность в потустороннем свечении. Свет сочится с той стороны, с того берега. Присмотритесь хорошенько. Где же тут тарелочкам не прилететь?
Справедливости ради, много смеемся. Ну, хотя бы так.
А на диване хорошо.
Все видимое и невидимое связано одной тонюсенькой нитью. И этот мир, и тот, и старухи, и их коврики, и их пушистые воспоминания, и постояльцы тех воспоминаний, их соседи, непременно соседские собаки, пушистый кот, пожиратель лимонного дерева, декабристы, террористы, Государь император, Пушкин, его голова, дети, внуки, внучатые племянники, так называемый народ, копошение народа, маета, празднества и войны, кивера, корветы, лапти, прохоря, лепни, циркули и цирки, посуда в раковине, немая лампочка. Опять же Илья Ильич.
От Ницше вроде бы отказались, а он не желает, как говорится. Его в дверь – он в окно, таракан.
Старик Плюшкин, его коврики из чулок, какой-нибудь улан в кресле бряцает, дядя Гена, сосед, хороший, слесарь, домашний, седой, редкость, кролики опять же пушистые, и карликовые, их теперь много стало, лошадь, сосредоточена, рабство свое принимает как неизбежность, при этом великодушна и добра, другие разные лошади, император Август, другие императоры, месяцы март, апрель, май, июнь, июль, Навуходоносор.
Кто еще? Вымершая птица гасторнис, уже не такая пушистая, но все же.
И так до бесконечности.
Если вдуматься, ничего не меняется. Ничегошеньки.
Опять же исчезает легко. Закрыл глаза – и всё. Но это, конечно, запрещенный прием.
Солгал. Никогда не был гасторнис пушистым, так клочки какие-то. Печальное будущее содержалось уже в самом его обличии.
Что значит, солгал? Мне представляется, что когда-то он был очень даже пушистой птицей, пушистой и голосистой. Значит, таким он и был.
Ваше здоровье!
И довольно. Пора приступать.
Так, чтобы было понятно, ниточку продолжаем тянуть, а свет, предположим, выключили, или поменяли. Сделали его едва тлеющим.
Итак. Я сплю с котом в головах и собаками в ногах. Выпил чуток и завалился спать. И Стравинский С. Р., Сергей Романович спит. Отдыхает. Потому свет и поменяли. А вот лошадь за окном, обратите внимание, так и стоит, не шелохнется. Изумительно умные глаза у той лошади.
Перед сном беседуйте со своими питомцами. Примите за правило.
Часть первая
Larghetto Сolla Parte
1. Аристофан. Лягушки
Пожалуй, с лягушек и начнем.
Добрая примета начать симфонию с темы лягушек.
В одноименной пьесе Аристофана удивительным животным отведено как будто не так много места. Поверхностный читатель может принять эпизод с их появлением в прологе за блеснувшую не к месту нефритовую брошь, шутку гения, остроту, не больше. Ничего удивительного, драматург в очередной раз решил посмеяться. Над нами. Может быть, над собой. Комедиограф – смешливый человек, да и жанр требует.
Чуть менее поверхностный читатель попытается обнаружить приметы аллегории, и, как это всегда бывает, найдет тому подтверждение в кривых отражениях и спонтанных аналогиях. И только единицы, уникумы догадаются, что фрагмент с земноводными является тем именно неповторимым волнующим аккордом, ради которого и задумывалась вся комедия.
Да, если рассматривать в качестве лягушек собственно лягушек, получается неоправданно короткий диалог. Диалог – щепка. Диалог на прищепке.
А если немного вознестись, и завораживающий лягушачий мир рассматривать не только в ракурсе присутствия его обитателей, но и в контексте отсутствия оных? Что, если попытаться окинуть взором всю животворную субстанцию, волнуемую медленной испариной озер и болот? Ту, что окружает и питает всех и вся, простирается на тот берег Стикса, и дальше, до бесконечности? Ту, где содержатся не только что сами лягушки, но также воспоминания о лягушках, грезы о лягушках, раздумья о лягушках? Не правда ли, выстраивается совсем иная гармония, просачиваются новые смыслы?
Нет, не смеется Аристофан. Мало того, мы не можем исключить, что описанные события в действительности имели место, и автор был их свидетелем. Как такое могло произойти? – вопрос к ученым. А была ли древняя Греция той древней Грецией, что мы знаем из комментариев к главам и рукописям? Пусть археологи, палеонтологи, спелеологи и гробокопатели, кто там еще, анатомы и патологоанатомы не нашли доказательств существования Диониса и Геракла, но ведь они не нашли также доказательств их отсутствия.
Ленятся?
А может быть, умалчивают?
Между тем, еще не умерли свидетели. И они с нами, подле нас. Да-да, те самые лягушки. Присмотритесь к ним хорошенько. Воды Стикса в брюшках их, призрачные фигуры Стикса в глазах их. Присмотритесь, поговорите с ними, господа ученые, если, конечно, вы – те за кого себя выдаете. Хорошенько присмотритесь, прежде чем отправить на секционный стол.
Ужас, ужас!
Что, не умеете? Не знаете как? То-то и оно.
На самом деле терпеть не могу обличительных речей. Но в данном случае не удержался.
Однако вернемся к Аристофану.
Прочь сомнения. В эпизоде с лягушками, несомненно, содержится главная мысль комедии. Дионис, напомню – божество, учится у лягушек кваканью. Он так прямо и объявляет им, – Брекекекекс, коакс, коакс! У вас я кваканью учусь.
Учится усердно. Да что там, входит в раж, – Брекекекекс, коакс, коакс! Меня не переквакать вам.
Очевидно, что новое знание чрезвычайно важно для него. Почему? Ответ изумительно прост. Дионис постигает язык будущего, где, собственно уже и находится, переплыв орхестру в компании лукавого Харона. А, может статься, это вообще универсальный язык, перламутровая нить, опутывающая лягушек и людей, греков и африканцев, живых и мертвых. Такой язык, что окажись мы даже среди обезьян, мандрилов да гамадрилов, стоит произнести «коакс, коакс», суглинистый Дарвин тотчас отзовется и выйдет нам навстречу со спелым кокосом и распростертыми объятьями. Сдается мне, выдающийся эволюцонер, завершив свой земной путь, живет теперь где-нибудь в джунглях в обществе мартышек и питается кокосовым молоком.
В свою очередь сухопарый Харон отчего-то представляется мне глуховатым, плешивым, но молодящимся. С крашеными жидкими прядями и серьгой в ухе. К делу отношения не имеет – заметки на полях.
Какова же реакция лягушек на объявление Диониса о стремлении обучиться кваканью? – Ох, горька обида эта!
Что это? Обида на ученика, вознамерившегося превзойти своих учителей? Или знак того, что тайны лягушачьего рода неприкосновенны?
Скорее всего, нечто третье.
Бесхвостые растеряны, близки к отчаянию. Не в состоянии придумать сколько-нибудь значительного аргумента, чтобы остановить распалившегося бога виноделия и отвечают зеркально его собственной фразой, – Тебе же нас не переквакать.
Блестяще выстраивая конфликт, Аристофан, используя подобие рефрена, попутно решает и ритмическую задачу, – Меня не переквакать вам и тебе же нас не переквакать.
Возможно того лучше выглядела бы следующая связка – меня не переквакать вам и нас не переквакать вам, что есть идеальная рифма. Но это, невозможно, так как обращение на «ты» провозглашает принципиальное равенство божества, лягушки и человека, к сожалению попранное, низложенное и неприемлемое сегодня. Как и всякие прочие равенства.
А переводчик – неглупый малый. Если, конечно, осторожность является одной из примет рассудительности. Безусловно, является. В противном случае мы бы уже давно гуляли на дне описываемого Аристофаном, и не им одним, болота. Болото же, в свою очередь, стало бы частью нашего естества, с чем, если не лукавить, мы нередко сталкиваемся и при изобилии рассудительных людей.
Победа, не трудно догадаться, за Дионисом, – Вот уж нет! Я квакать стану, коли надо, целый день, пока я ваш коакс не одолею, брекекекс, коакс, коакс! Заставлю я умолкнуть вас: коакс!
Прямо скажем, пиррова победа!
Харон понимает это. В его интонации сквозит гнев, – Довольно! Стоп! Причаливай веслом! Слезай, да заплати!
А здесь Харон грузный. Отчего-то представляется мне уже угловатым таксистом, пару раз отсидевшем в тюрьме, с выцветшими добрыми глазами и татуировкой «Митя» на пальцах правой руки.
В дальнейшем все, без исключения, персонажи пьесы либо говорят на лягушачьем языке, либо сами являются лягушками. Нельзя исключить, что первоначальный вариант комедии и был написан на лягушачьем языке. К сожалению, после многочисленных переводов, нам достались только фрагменты в виде вышеупомянутых брекекекекс, коакс, коакс.
Вывод.
Осмелюсь предположить, в бессмертной, в прямом и переносном значении, комедии Аристофана не пролог, содержащий главную идею и событие, является частью пьесы, но сама пьеса является частью пролога.
Так что на премьерных показах, скорее всего, не актеры исполняли роли лягушек, но лягушки исполняли роли актеров, что в условиях подлинной демократии, царившей в древней Греции, осталось, разумеется, незамеченным.
2. Смутные стихи. Жмурки
Каждый четверг агностик Стравинский С. Р. устраивает четверги. Так называемые четверги Стравинского С. Р. Или знаменитые четверги Стравинского С. Р.
В профессиональной среде Стравинского И. И., в среде психиатров подобные четверги называют «сумерками». Как вы, наверное, догадались, в память о знаменитых сумерках Эрдмана Ю. К.,2 где завсегдатаем как раз бывал тезка Стравинского С. Р., Стравинский И. И.
Никакой путаницы. Нужно просто еще раз медленно прочитать. И всё. Медленно прочитать, заглянуть в ссылку, и всё.
Мне термин «сумерки» нравится. Украдем их у Эрдмана Ю. К. для Стравинского С. Р. Ничего страшного. Мне кажется, Эрдману Ю. К. это даже понравится.
Несомненно, сумерки Стравинского С. Р. разительно отличаются от сумерек Эрдмана Ю. К. Ничего удивительного, столько лет прошло. А сколько лет прошло? Сорок? может, пятьдесят? Дело даже не в этом. Просто Стравинский С. Р. – не Эрдман Ю. К. Далеко не Эрдман Ю. К. Справедливости ради и Эрдман Ю. К. – не Стравинский С. Р. И во внешности их вы не найдете ничего общего, как в случае со Стравинскими И. Ф. и И.И.
Кроме того на сумерках у Стравинского С. Р. бывает, звучат так называемые смутные стихи или стихи смутных поэтов, точнее одного смутного поэта – самого Стравинского С. Р. Эрдман же и ученики стихов не декламировал. Предпочитал интеллектуальные жмурки, которые, насколько я могу догадываться, исключали любое чтение, тем более, вслух.
Спросите, что такое смутные стихи? Как бы объяснить?
Ну, вот вам пример…
каленый истопник пожар вожатый словом Петр
горят деньки там полночь или за полночь не суть
летят со свистом стоном изразцы узоры ветр
деньки в дому пощелкивают звездочки уснуть бы
уснуть бы тетива парить зеркальный брод
незримо фосфор тень слюда дыхание болот
сусальное рассказывали в детстве
слова наоборот играли в детстве
трещат мгновенья жизнь прорехи действа
чадит не надолго уснуть
чадит глагол и нищета уснуть
уснуть уснуть уснуть уснуть
жизнь коротка Петр строг но кроток
впасть будущее зренье в печке свил гнездо
спешат как на контрольных снимках черный белый
не обязательно но спешно мечет тени до
причины навсегда пернато и умело
седой и смуглый Петр от пота смуглый
сам йод и лед но пригоршня самума
сна нет четверг среда назад ему не кочергу бы нет
порог брести разбойничать слагать пожары
как раз эпоха по душе иль посох или нет
крошить стакан на нож чепрачный комиссар
такой вот истопник не факт что истопник но Петр
не факт что Петр но истопник и Петр
прохладный дребезги затылок уголь
июля юдоль
а вот не лето вот зима случайность дача
вне Рождества крестообразного случайность дача
вне торжества торжеств вне Рождества что важно
вне светлый путь вне Николай что важно
вне дедушка Мороз вне дрожь чудес что важно
вне календарь ну наконец-то слава Богу
вне календарь часы хотя слегка тревожно
вне элеваторы судьба зима быки пологие
вне заусенцы-стрелочки вне озаренье слава Богу
четверг хотя бы пятница четверг тревожно
неважно пусть среда протяжно и далёко
четверг дощатый дом чернеет свет далёко
гудит и греется и тщание и дым далёко
четверг гудит заболеваю дым простор
заболеваю дым простор и Петр
чернеет свет далёко Петр оцепененье
прощайте скорлупа часы и знаки
не знаю сам откуда Петр явился
явился и явился хоть сосед хоть уголовник
во взгляде старость пустота и ельник
какой там флейта пустота и ельник
кольцо явился сам немного водки
наколка голуби целуются и церковь
заболеваю топит печь в кармане водка
нет волка в ельнике нет волка в ельнике нет волка
однажды Петр является явился
сосед нечесаный кольцо хорошая улыбка
хорошая как будто голуби слетелись
им церковь пряник и защита и улыбка
Петр топит печь не проронит ни слова
чернеет и молчит оцепененье
потрескивает разом всех увидеть
увидеть разом всех отца и маму
отца и маму и себя увидеть
кто за столом кто совами на стульях
я предположим на полу
не Рождество неважно ни при чем
а важно что живые умершие тоже
что все живые умершие тоже
живые сами по себе или по воле бликов
по воле Петр как Петр закончит выпьем
сосредоточимся и выпьем напоследок
прощай болезнь и выпьем напоследок
Если это, конечно, стихи. Плохие стихи, или, наоборот, чрезвычайно хорошие стихи. А как понять? Что есть ориентир и камертон? Кто может оценить? Никто. Ибо всяк пристрастен. А пристрастен оттого, что сам пишет стихи.
Берусь утверждать, что любой, рожденный в России – поэт. Любой и каждый. Даже если он того не знает, и стихов своих не то что не декламирует, даже не слышит. Таких немало. С виду – немтырь, но стоит заговорить – чистая лирика льется. Даже если мат на мате.
Мат – вольная кавалерия словесности, рябь, чешуя, волынка и барабанная дробь, плеск голубей и выстрел в затылок.
Ну, и вот.
А где вы видели, чтобы поэт умел похвалить поэта в сердце своем? Поэт – поэта, музыкант – музыканта?
Психиатры – те могут, но так они сумасшедшие. Все без исключения. В нашем представлении. Равно как мы все – сумасшедшие в представлении психиатров.
Практически все.
Это – любя, с любовью, не подумайте. Кого же любить, если не сумасшедших?
Еще свиней, собак и лошадей.
Словом, этакий незамысловатый лабиринт получается. Колесо доверия. С белкой и свистком. Шучу. Лабиринт незамысловатый, а попробуй-ка найти выход. Непростое дело, совсем непростое.
Выход из того лабиринта видят, пожалуй, агностики. Вроде бы догадываются, да что там, знают, но… обмолвиться не имеют права. Иначе, какие же это агностики? Потому хранят молчание.
Молчание – золото.
Один из базовых постулатов агностицизма.
Все мы в той или иной степени агностики. Храним.
С некоторых пор нахожу, что мой агностицизм крепчает. Число позабытых знакомцев растет. Имена забываю, напутствия, некоторые значимые события.
Всё чаще приступы стихосложения.
Не поймите превратно, сочувствие, сострадание нам, агностикам знакомо. Равно, как и психиатрам, и поэтам, и музыкантам. В той же мере, если не больше.
Но – ни гу-гу. Палец к губам. Так что для кого-то молчание – золото, а для кого-то крест. Хотя, знаете, молчание – тоже поэзия.
Да еще какая!
Так что плохих стихов не бывает.
Справедливости ради, хороших тоже не бывает. Не может быть по определению. По чьему определению? Тех же самых агностиков. Вот вам в двух словах, как говорится, суть набившей оскомину фразы Евтушенко, поэт в России… Ну, дальше вы знаете. Не хочу повторять. Оскомина.
Спр’осите, что такое интеллектуальные жмурки? Насколько мне известно – это коллективное молчание на заданную доктором Эрдманом Ю. К. тему с погружением на самое дно подсознания. При участии белого сухого вина или красного сухого вина, в зависимости от времени года и заданной темы. А вино пятьдесят лет назад было отменное, что бы там не говорили.
И сейчас можно встретить неплохое вино. И неважно где и при каких обстоятельствах. А вот Эрдмана Ю. К. уже так запросто не встретишь.
Что происходит на четвергах Стравинского кроме чтения стихов? Скажу прямо, не знаю. Никто не знает. Да и в том, что там читают стихи, сомневаюсь.
Существуют ли так называемые смутные стихи на самом деле – большой вопрос. Вот я привел выше поэтический пример. Вам эти стихи не знакомы, мне – тоже. Скорее всего, таких стихов нет и быть не может. Ну, что это за стихи, в самом деле? Вообще, что это? Нет таких стихов, и точка. Вместе с тем, то, что это стихи – сомнению не подлежит.
Вывод.
Не всегда нужно доверять своему слуху и зрению.
Вот вам еще один постулат агностицизма.
Имейте в виду, агностицизм крайне заразителен. Достаточно и пяти минут пребывания в компании агностика, чтобы самому сделаться законченным агностиком. Даже не почувствуете. И не узнаете. Никогда. И никто не узнает. Однако, как говорится, распишитесь и получите. Так что противопоставление жмурок Юрия Карловича и Сергея Романовича явная поспешность.
Зачем же, в таком случае, городился весь этот огород, справедливо спросите вы?
Очень просто – вспомнился Юрий Карлович, вот я его и упомянул.
Мне вспомнился или Ивану Ильичу, одному из учеников, посещавших знаменитые сумерки, не важно. Кто-то из нас вспомнил, следовательно, упоминанию быть.
Выдающийся был человек, Эрдман Юрий Карлович. Близкие звали его «барон». Он из баронов был, Юрий Карлович. Почитайте его дневники-этюды, и сами убедитесь.
А Сергей Романович с его четвергами здесь ни при чём. Скорее всего.
А, может, visa versa3, как говаривал Игорь Федорович, композитор, отличающийся изумительным сходством с только что упомянутым Иваном Ильичем, психиатром. Даром, что последний – альбинос.
Кто же этот агностик Стравинский, и кто такие его гости? Бывают ли вообще такие агностики и такие гости?
Придумать можно что угодно и кого угодно. И уж если нечто или некто придуман, он непременно уже существует. Персонажи – такая же реальность, что и наши соседи с их запоями и дрелями. А также с их прохудившимися чайниками.
А мог бы я, к примеру, вместо чайниками сказать чайками? А почему нет?
Персонажи – такая же реальность, что и наши соседи с их запоями и дрелями, а также с их чайками.
Пожалуйста.
Сказал. И тут же – нате вам. Будьте любезны, ступайте и выгляните в окно.
Можно и не ходить, и не выглядывать – знакомое по морским путешествиям курлыканье прежде даст о себе знать.
Чайки, прошу любить и жаловать!
С другими пернатыми не спутаешь. Явились тут как тут. Как говорится, не было бабе горя – купила порося.
Обожаю поросят. Уже объявлял. Не важно. Даже хорошо.
Ритм.
Ритм – главное, не уставал повторять Игорь Федорович.
Он о ритме говорил, я – о поросятах. Принцип – один и тот же.
Обожаю поросят. Может быть, даже больше, чем чаек.
А начиналось всё с чая, помните?
Цейлонский со слонами, помните?
У слонов и поросят много общего. Чайки – все же другое. И слоны – другое. Хотя если долго рассматривать слона, а потом резко перевести взгляд на чайник… Только это нужно делать резко.
Видите, что получилось?
Всё и все в этом мире связаны намертво невидимой бечевкой. Как письма из прошлого. Или будущего. Ибо всё возвращается на круги своя.
Однако что теперь с этими чайками делать? Серьезная проблема. Моря поблизости нет. Кормить их колбасой что ли? Покупать замороженный минтай? Придется каким-то образом выкручиваться.
Вообще фантазии опасны, доложу я вам. Да, но что мы без фантазий? И кто мы без фантазий? И вообще – кто мы? На каком основании рассуждаем о персонажах в интонации превосходства?
Если откровенно, некоторые, не скажу все, но некоторые из них точно лучше нас. Потому и живут дольше.
Значительно дольше.
Некоторые вообще не умирают.
Ох уж эта задачка бессмертия! Неразрешимая задачка. Философы веками бьются, что твои мухи о стекло.
Тщетно.
А мы – вот что, мы эту задачку прямо сейчас и решим. Поменяемся местами с персонажами – и вся недолга.
Чего проще, казалось бы? Но только этого нельзя. Ибо несправедливо, коль скоро уже прозвучало – некоторые из них лучше нас. Мы же захотим меняться местами исключительно с хорошими, во всяком случае, благополучными персонажами? Факт. А что делать подлым, сирым и убогим? И здесь, и на том бережке? И потом, совсем не обязательно персонажи захотят меняться с нами местами. Наверняка не захотят, уж я-то их знаю.
Что же делать? Силком тащить прикажете?
Ответ сам напрашивается. Упразднить категории времени и пространства.
Попробовать, конечно, можно. Другое дело, нужно ли?
Решать вам.
3. Свинки. Осы
Свинки – не осы.
Хотя, если увеличить ос или уменьшить свинок, сходство найти можно. И те и другие – крепыши, и те, и другие стремятся к местам обитания человека, что часто является причиной их гибели.
Казалось бы, парадокс. Казалось бы, ген опасности уже давно должен был созреть в них, и путешествовать от особи к особи, из поколения в поколение как родимое пятно или косоглазие. Однако, надо же, свинки упорно обнимают солнечные лужи в наших дворах, а осы, вибрируя, карабкаются по окнам, исследуя приметы быта.
Мы-то уверены, что это всё – по глупости. Да что там? Мы даже не задумываемся над побудительными мотивами крылатых и хвостатых своих родичей. А, между тем, в странном поведении зверушек сокрыта глубокая идея…
Смерть привлекательна.
Может быть, сам смысл их существования – напоминание и предостережение нам?
Люди – не осы и не свинки.
Хотя, в контексте нормальной анатомии в случае хрюшек, а в патологической психологии в случае ос, сходство столь разительно, что раньше или позже проблема родства заявит о себе, как говорится, во весь голос. И, в свете всеобщего торжества низких истин, не факт, что человек окажется первым в очереди на Беседу. Даже если у него, скажем, дырка в голове.
Ножи, мокрые тряпки, ножки, ножи, ножки, мухобойки, нарукавники, подзатыльники, пяточки, лопатки, липкая лента, крючья, мешки, топоры, затылки, колья, языки, тазы и блюда… Согласитесь, слишком много улик для наивной сельской свадебки?.. да и городской свадебки, когда это – провинция.
Я уже не говорю о бутылях и скользких пятнах. Брр!
Забудьте.
И не обязательно иметь дырку в голове. Достаточно вспомнить свои, эх! шесть лет, и, вместо того, чтобы горестно следовать тысячным атласом своим начеку согбенно, завернуть в первую попавшуюся боковскую подворотню, распрямиться, крыла расправить, руки в бок, да и шагнуть в дворик-конфорку.
Как за пазуху. Как в лопухи.
Тут тебе и радуга, и смак, и коленца, и поцелуй. Синева и поросятки!
И мама жива. Нарезает салат из мясистых томатов. Говорю с такой горечью, будто ее совсем не стало. Скучаю.
А если повезет – просто синева. Без свадьбы, без пентюхов и плясунов этих.
Принести с собой немного бисера, дорого не обойдется, и любоваться и хохотать со свинками без умыслов и понуканий сколько душе угодно.
Здесь же осы. Ос не бойтесь – они благость чуют. Отрада.
В самом, что ни на есть, городе. Меж стен и колючек. Пастораль. Грядущая идиллия. По углам травка проклевывается. Скоро, скоро будет лужайка с васильками и зрячим дубом. Он единственный знает, как утешить, когда и как правильно шепнуть – все проходит. С поклоном. Как было принято в былые годы.
А, может быть, поклон и ни к чему.
Забыто многое. А многого отродясь не знали.
Экклезиаста редко кто читает. Экклизиаста, Давида царя. И прежде так было.
Еще в баню ходить перестали. Так – единицы ходят. Выпить, побалагурить.
Девственным остается только дым. Дым и девственницы.
А раньше как было? Уже и не вспомнить.
Впрочем, горечь не уместна. Всегда.
Повилика выбоины прикроет. Как в Абхазии благоуханной.
Или в Воронеже.
Дворик – всегда дом. Настоящий, неприбранный домашний дом.
Боковские дворики хранят тяжелую послевоенную поступь и запахи йода. Все эти веревки с мерзлым бельем, треснувшее желтое окно, зареванные клочки объявлений, упаковки из-под яиц, голодные баки, линзы, чешуя и пятна. Или, возвращаясь к свадебке – соленый стол с потрескавшимися лавками, каменеющими газетами вместо скатерти, горбушками, пузырями, стаканчиками, картами, домино, затылками, дырявыми локтями и затылками в золотистых клубах папиросного дыма.
На картах не обязательно девки голые, случаются и обыкновенные карты. И маленькие карты видел, которые удобно в ладошке прятать. Не обязательно соблазн и опасность. Старенькие старички, например, просто так играют, по-домашнему. И зимой, и на Рождество.
Конечно, там, на улице – парадно, ветрено, чуть надменно. Буквы глянцевые, барышни парят, автомобили глянцевые, туфли глянцевые, лунные, музы’ка лунная, большое всё, не охватить. Голову запрокинешь – не вернешься. От предчувствия успеха и запретной любви дух захватывает.
Опять же, глаза на улице другие. Как янтарь. Камушки.
Богатство.
Ужасно судьбоносно, изумительно красиво, но зябко. Антрацит.
Довольно скоро озноб наступает. Мы же пугливы. А в дворике жарко. И летом, и зимой. Лет двадцать назад пели, теперь не поют. Забыли слова.
Хоть и пахнет разбоем в сумерках, но разбойники-то свои – Гуня и Тепа. Толкуют в сумерках о тюрьме и сокровищах. Флибустьеры, гопники. Сидят на высокой лавке, ногами болтают, толкуют. Шепотом, как полагается в таких случаях, так что слов не разобрать. Замышляют. Или мечтают. Слов не разобрать. Пацаны совсем. Могут и так, и этак. И замышлять, и мечтать. Или лаются без зла.
То и дело лаются. Позже пройдет. Пока лаются.
Словом, сидят на лавке, ноги в сумерках, круги пускают, шепотом разговаривают, лаются, мечтают.
И летом сидят, и на Рождество.
Всегда.
У Тепы бита припасена, у Гуни – бита и обрез. Такая лапта.
У Тепы еще мотоцикл, только починить.
А под лавкой под пестрый шепот свинка засыпает. Сперва может показаться – тень, но это свинка. Черная.
Черные свинки – самые умные. Свинки вообще очень умные животные, а черные – особенно. Никогда не замышляют. Мечтать – могут. Умеют. Интересовался – знаю. Замышлять – ни в коем случае.
Опять же предчувствуют.
Белесые как-то реже, а черные – обязательно.
Засыпает свинка. Вздыхает тяжело. Она-то к разбойникам близко, все слышит, видит все, даром, что глазки прикрыты. Наперед видит, вот и вздыхает, засыпая. Жалеет пострелят. А с прикрытыми глазами лучше видится.
А в четвертой квартире – старичок. Парикмахер бывший. Белый весь, будто из наволочки скроен.
А на третьем этаже между рам оса – уголек. Утомилась от дневных трудов. Тоже спать укладывается. Зевает. И летом, и зимой между рам трудится. И в Рождество. Морозы ей нипочем. Когда мороз – пораньше укладывается. Трудяга. Уголек. Устала. Зевает.
Гуня зевает, Тепа зевает, свинка зевает, оса зевает, все сладко зевают, все скоро уснут.
Конец главке.
Но вы не печальтесь. Осы, свиньи, другие птицы и звери, гуси еще не раз будут появляться на страницах повествования, поскольку роман мой возможно и не роман вовсе, а уголок пейзажа. Пусть и городского.
А чем город плох? И в городе люди живут.
Вот, кстати. Раз уж Абхазию вспомнили…
Уж если воля и покой, уж если воля и покой…
Пусть будет, в самом деле. В самом том пределе
Где капля – жизнь. А жизнь уже как капля. И покой,
Живая капля в палевом тепле. В тепле ли,
В ма’сличном тепле ль. Живая капелька, колючка. Воля
На скучном дне нескучный огонек. Иль голова из пара.
Иль вот мечта о синеве. Мечта, казалось бы, но воля
Однако ж. Воля и покой. Провал конфорки, зев футляра,
В углу паучий сон – трехпалых стульев сон. Покой
К гостям готовились. Рты, голоса, всё умерло. А жизнь осталась.
В подтеках пол остался, сон в углу. И стыд, а, все равно покой.
Стыд раковин и ванн, стыд рака красного в тазу из детства. Старость.
Часы стоят. У рака звездочка во лбу была. А старость – это воля.
Поскольку все ушли. А пар – молчун. И паучок молчит, не шелохнется.
Вот эта звездочка – не капелька ли та, что огонек, и жизнь и воля?
Пусть будет. Пусть много будет, россыпь – на цветках и на оконце,
На скорлупе, на львином бюсте Пушкина… и на оконце.
Покой, и жизнь, и капелька, и воля…
Трехпалый паучок – молчун. Цветы молчат, сам подоконник. Все – покой.
Как видите, тепло молчит, молчит герань, и вата, и постель пустая. Все – покой.
Подарков хочется, конечно. Пусть леденцов, пусть петушка. Всегда в потемках. С детства
Хочется. Хотя б искрящей корочки, пусть даже скорлупы в потемках с детства
Хочется. Подарков хочется. Всегда. Всегда в потемках. С детства
Хочется. А рака было жалко, ибо он живой, и умирал в неволе.
Асбест. Абхазия. Аз – скорлупа. Аз – воля
Алтарь. Меловый круг. Аз – немота. Аз – воля.
Война была. Вот что, была война. Или убийство. Что-то в этом роде. Воля
какая-то. Или дуэль… не помню, кончилась, иль нет. Уже покой, уже не слышно.
Остыл простор, остыли пушки.
Белым бело, часы стоят, асбест и скорлупа, покой и воля.
С дуэли Пушкин возвращается с бубнящей головой подмышкой.
Пусть говорит. Пусть лучше Пушкин
Это уже другого поэта стихи. Но не Пушкина. Возможно, автора у этих стихов вообще нет.
Странное заявление? На самом деле всё просто. Там, на третьем этаже, где оса уснула – бюстик Пушкина с отбитым носом. Бюстик Пушкина и чайник со свистком. Не тот, что у Визбора – другой. Неприглядный. В подтеках и ссадинах. Впрочем, кому – как. Лично мне нравится. Настоящий чайник. Из жизни. Дырявый, наверное. Не видел, чтобы его когда-нибудь с подоконника снимали.
Чайник и бюстик Пушкина без уха. На третьем этаже в окруженье ос. А под лавкой свинка.
А смутных стихов не бойтесь – они благость несут.
Вот, кстати. Раз уж Воронеж вспомнили…
наутро вонзаясь пшеничной стрелой
поезд дневной всегда новобранец
сон и тоннель и вода преисподней
подушка чернеет рай позади
заспан в сравнении с раем грядущим
вода в подстаканнике угли и чай
деготь и соль и зрачки верхней полки
будет домчимся однажды куда
Воронеж Воронеж Воронеж Воронеж
Воронеж предвестники степь да игла
будут и сливы наверное вишни
русский пейзаж и этрусский и овен
подушка чернеет и мчится овалы
поезд белесый до судорог солнце
повинное мечется утро в стакане
живое в сравнении с мертвенным днем
сделать глоток продолжается жизнь
там за окном слава Богу безлюдно
рогож пастораль посланница счастья
судорог солнца ночного пейзаж
в темень в макушку в висок пробужденье
тише малыш пассажир обнищал
Воронеж Воронеж Воронеж Воронеж
дневные там трудятся стог и ежи
на солнце сверкает пшеничные иглы
Воронеж в остатке спелый хмельной
Воронеж и лодка и глянец и зев
на солнце икра перламутровых рыб
немое посланники сила и солнце
церковка нет не утонет на солнце
пусть даже Потоп не утонет не тонет
пусть даже Потоп не утонет на солнце
начало и кончено зыбкий пейзаж
и кончено утро пустой и безбровый
тише малыш почернела подушка
а все же домчимся однажды куда
свет простыни сизокрылою печкой
Перекормил-таки стихами. Не смог удержаться.
4. Четвержане. Аврора
В тот четверг к Стравинскому С. Р. пришли далеко не все.
И с этого и с того берега.
Далеко не все.
Сам Сергей Романович с утра перебрал по случаю именин экзистенциалиста дворника Тамерлана и сладко спал, укрывшись вафельным полотенцем, на кухонном полу, криков с улицы, здравниц, автомобильных гудков, выстрелов, песен, клекота и грая, разумеется, не слышал. Спал. А, может быть, не спал, просто не хотел никого видеть. Притворился спящим. Устал от гостей, и вообще от людей.
А, может быть, действительно спал. Что ему гости? Он все равно никого и ничего не видит. Не видит, не слышит. Ничего кроме стихов.
Да и стихов своих не узнает. Всякий раз про себя удивляется, как такое написать можно было?
Это что же у человека в голове должно вертеться, чтобы такое написать? И кто этот человек? Разве я? Не может такого быть. Мне бы теперь водицы холодной. Хорошо, хоть тишина. Не видно и не слышно никого. А ну как набегут? Нет, только не сегодня. А и набегут? Невелика беда. Все равно никого не вижу и не слышу никого.
Ну? Счастье же!
Нет, конечно, видит и слышит, даже порой на вопросы отвечает, беседует, спорит, но никого и ничего не узнает. Агностик. И голоса своего не узнает. Как будто, это кто-то другой говорит. Даже любопытно, кто бы это мог быть?
А, может быть, действительно спал. Перебрал. Бывает. Не важно, главное, что собрались. Далеко не все, но собрались. Пришли, прибежали, прискакали, прилетели, прикатились, собрались. Молодцы. Ибо жизнь продолжается. Всегда была и будет.
И если небо окончательно опустится на землю, продолжаться будет.
Во всяком случае, в России. Мы ко всему привычные. На том стоим.
Кто же пришел к Стравинскому С. Р. в тот четверг?
А, давайте, посмотрим.
Прибыл Климкин с взъерошенным ранцем. По той причине, что Климкин со своим ранцем не расстается, все кличут его Горбунком Климкиным, или просто Горбунком. Он не обижается, ибо чудаковат и душой светел.
Будто бы тоскуя по детству, все глубже погружаясь в мятные грезы, взрослые, а часто и пожилые люди теперь носят ранцы. Ранцы, цветастые распашонки, шорты. Тоскуют. Во всяком случае, мне не раз приходилось слышать такую версию. Дескать, в былые времена стремились скорее повзрослеть, стало быть, совсем маленьким мальчикам шили серьезные костюмчики, подбирали галстуки, девочкам покупали часики и губную помаду. Взгляните на детские фотографии начала прошлого века и убедитесь… или, например, мундиры капитанов дальнего плаванья, егерей, пожарных, ну и так далее… Словом, множество наблюдений и доказательств.
Теперь все наоборот.
У меня же в связи с синдромом Горбунка, так про себя именую я рюкзачный феномен, мысли совсем другого порядка. Вот думается, а не примета ли это грядущей новой империалистической войны? А что, поменяй горошек на хаки, песочницы на окопы, и вот вам марш, и гарью потянуло, и новый Фон-Эссен в клубах папиросного дыма строчит телеграмму.
Можно по-разному относиться к адмиралу, история изобилует не только фактами, но и фактоидами, искажается так называемыми близкими друзьями, участниками, свидетелями и ветеранами. Чего только не узнаешь о персонаже, пусть даже и осторожном, а подчас и вовсе засекреченном? Так иногда перевернут, встряхнут и снова перевернут! До полной неузнаваемости. А ведь речь идет не каком-нибудь письмоносце или телеграфисте – об адмирале.
Смерть сама и все что связано со смертью всегда испытание и превращение. Сам покойный непредсказуем. Проводы покойного – игра и маета. Все вместе – чудо и ритуал.
Не успела, как говорится, улыбка остыть, глядишь, загудели, загулили, зачесали загривки – чем бы этаким украсить голубчика, что приложить, что присовокупить перед дальней дорожкой?
И дурное тут как тут. А как же?
Дурное надлежит подать так, чтобы все, включая усопшего, разрумянились. Чтобы близкие и дальние любопытствовали, да помнили долго. А как же? Без дурного и слава – не слава. Пороки прощают охотнее, чем добрые дела. Без порока и любви не бывает. Так что шепот да топот не обязательно месть, чаще – забота. Тигровая лилия.
Кем-то голубчик предстанет на Суде?
Так наряжают деток перед первым походом в школу, невест на свадьбу, приговоренных к казни. Так строятся оратории и панорамы, Трои да Полтавы.
Справедливости ради и сам человек меняется после смерти. Это же только видимость, что он умер. А на самом деле… Стремительно меняется. При жизни – редкость, а вот после смерти – такие фокусы.
Обратите внимание, тот, кого вы хорошо знали, тот, чей пульс изо всех сил пытались удержать в роковой час, и тот, кого вы обнаружили в гробу буквально на следующий день – разные люди. Так, отдаленное сходство, если присмотреться. Не больше.
Есть в любом ритуале что-то неприятное, пугающее. Непостижимость.
Мне Фон-Эссен симпатичен. На том стоял и стоять буду. В своем пристрастии я не одинок. Вот и корабль построили, даже внешне напоминающий самого адмирала, когда тот стоит вполоборота с кортиком или сидит, склонившись в задумчивости, со шпагой на коленях. Был человеком, стал кораблем. Так часто бывает.
Эволюция.
Однажды Стравинский С. Р. произнес следующую фразу…
Насколько мне известно, в предыдущей империалистической войне принимал участие крейсер «Аврора». Так что пролетарская богиня помечена не только революцией. Это, согласитесь, совсем другой коленкор. А если еще присовокупить русско-японскую кампанию? Возникает закономерный вопрос, где при таких душераздирающих развилках располагается указующий перст? Не участвует ли, прошу прощения, в комбинации из трех пальцев?
Горькая ирония, тем не менее, точно, на мой взгляд, отражающая непостижимость высшего замысла.
Разительное, согласитесь, примечание.
Явился навсегда голубоглазый Крыжевич со своей престарелой дочкой. В тайной надежде на чудо, коим является ее замужество, Крыжевич часто водит дочку в люди. Однако партия никак не складывается. Возможно, это связано с тем, что внешне она изумительно похожа на Евгению Гранде, женщину беспросветной судьбы.
Всерьез погруженный в себя Стравинский С. Р. одинок, но в контексте строительства гнезда для дочки Крыжевича очевидно бесперспективен.
Четвержане со сквозными судьбами вообще не рассматриваются, так как ими, людьми, мягко говоря, необычными, в большинстве своем выдающимися, брак воспринимается событием незначительным, чем-то наподобие расстройства желудка или сбежавшего молока. Нет, разумеется, они способны к соитию. Но к соитию исключительно духовному. Во всяком случае, складывается такое впечатление.
На жизненном пути встречаются люди, для которых любая физиология кажется неприемлемой. Чаще такие люди встречаются в детстве. Для нашего поколения таким человеком был Владимир Ильич Ленин. Позже, после землетрясения и в результате землетрясения стали всплывать отдельные факты из его биографии, но всем сердцем принять их мы уже не смогли.
Возникает вопрос, зачем в таком случае Юленька здесь? Девицу звать Юленькой. Хотя внешне, как я уже говорил, она вылитая Евгения.
А никакой загадки в том нет. Благородный отец, коим без сомнения является Крыжевич, хочет, чтобы дочка, с ранних лет подававшая надежды, хотя бы иногда отвлекалась от брачных грез.
А скорее так – благородный отец, коим без сомнения является Крыжевич, хочет хотя бы иногда отвлекаться от брачных грез, связанных с будущим дочери, с ранних лет подающей надежды. С той же целью наперекор требованиям времени он купил ей шахматы с античными героями, и тяжелый фотоаппарат. Увы, ни вдохновения, ни желанной партии.
Впрочем, чем черт не шутит? Может быть, я с тотальной девственностью погорячился. Кого только не встретишь на стравинских четвергах!
Словом, поживем, увидим.
Кого только не встретишь на стравинских четвергах!
Сергей Романович решительно настаивает на разнообразии. По этому поводу говорит, точнее, молчит так…
Разве имеет значение, кто да что, когда нет, и не может быть ответа на главный вопрос – зачем.
Универсальное, согласитесь, примечание.
Что там не говори, а состояться в полной мере в России сложно. Так было во все времена, по причине вопиющего изобилия талантливых людей. Сами посудите, что бы это было, когда бы всяк состоялся? Да еще и замуж выскочил. Это после всех-то войн и революций и при таком-то падеже? В данном случае речь о падеже мужчин.
А вот если переоборудовать «Аврору» и вернуть в действующий флот? Думается, одним видом своим крейсер мог бы обратить неприятеля в бегство.
Стравинскому С. Р. нравится эта идея с «Авророй», он то и дело озвучивает ее.
Признаюсь, это наша с ним общая идея-фикс. Не удивляйтесь, если вы уже встречались с ней. «Аврора» и бродячие собаки – неизменные мои персонажи, кочуют от сочинения к сочинению. И в этом я не одинок. Реставратором и популяризатором крейсера является, скажем, известный кинорежиссер Сергей Соловьев. А также другие, чьих имен я не знаю, и уж теперь не узнаю никогда. Ибо с некоторых пор потерял к ним какой-либо интерес.
Вино, знаете ли, не всегда коньяком становится. Это я – о современном состоянии дел в искусстве. Воздухоплавание и сельское хозяйство – другое дело. Свинки сегодня – любо дорого посмотреть.
«Аврору» наконец отремонтировали. Почистили после запоя девяностых.
Прилетел бывший однокурсник Стравинского И. И., патологоанатом Насонов Дмитрий Борисович в белых брюках и белых же лакированных штиблетах. Как же в духовном обществе без патологоанатома?
Пишу «прилетел» и уже смеюсь. Великий затейник и егоза этот Насонов. Душа фокусника. Всем готов пожертвовать, только бы огорошить и взбудоражить неважно кого, пусть хоть случайного прохожего. Благодаря богатому арсеналу фокусов, например пусканию пламени изо рта и ушей, жонглированию глазными яблоками, некоторым упражнениям из области интимной магии женат Насонов был семь раз. Все как одна жены Насонова были длинноногими насекомыми – стрекозами, да водомерками.
Только что разглагольствовал о бесплотности четвержан, и тотчас исключение. Что же, так бывает. У правила порой случается столько исключений, что уже и правила самого не разглядеть.
Чем больше исключений – тем состоятельнее правило. Так что если в какой-то момент наше духовное путешествие приобретет черты непристойности, примите это с радостью, ибо это означает, что движемся мы в правильном направлении.
Для духовного путешествия единственным правильным направлением является полное его отсутствие.
При отсутствии категорий пространства и времени легко оказаться как на вершине Фудзиямы, так и в древней Гоморре.
Хороший фокус, вот в чем больше всего на свете нуждаются женщины – любит повторять кудесник из анатомического театра.
На праздничном столе одной из своих свадеб в качестве сюрприза Дмитрий Борисович заготовил в глубокой чашке стопу в формалине. Свадьба запомнилась.
Лучшим другом Насонова является одноногий отставной полковник кавалерии Веснухин Семен Семенович. Выдающийся исполнитель казачьих песен. Ослепительный голос. В юности ему давали рекомендацию в Большой театр. И, уверяю вас, с таким-то тенором его непременно бы взяли, когда бы ни треклятое одноножие. А напрасно. Полковник так ловко владеет своей ногой, что дефект заметить практически невозможно. И служба прошла, как говорится, на ура.
Да, собственно, о двух ногах его и не помнит никто. И на коня своего, боевого товарища Арктура вмиг возносился.
Да ее и не было никогда, второй ноги. Случается же, родится человек с одной ногой? Это – о Веснухине.
Вот стоят два друга Насонов и Веснухин. Точнее, три товарища, прямо как у Ремарка – Насонов, Веснухин и конь Арктур. Улыбаются. Или поют. По обыкновению жгут каминные спички. У Насонова всегда с собой пачка – другая на случай триумфа. Стоят, улыбаются или поют. На двоих три ноги. Точнее, на троих – семь. Незабываемое зрелище.
Арктур живет у Насонова. Ему, конечно, тесновато в двухкомнатной квартире полковника, но он безропотно терпит.
Стоит в коридоре. Коридор длинный.
Если хочется поваляться, пятится на кухню. Кухня просторная.
И вечное ворчание супруги Веснухина Полины Ивановны терпит. За долгие годы совместного проживания только два раза получала она копытом. И то, пожалуй, спросонья.
Все же мужчины и женщины отличаются друг от друга.
– Все же мужчины и женщины отличаются друг от друга. Не в пользу женщин, – размышляет страдающий бессонницей Арктур, коротая гулкие январские ночи, – и с чувством юмора у них плохо и вообще супружеская жизнь штука пресная: слишком много пыли и пустого сопения. Бабы бесстыжестью берут смолоду, а вот полководцев среди них встречать что-то не приходилось. Может быть, и есть, конечно, одна – две, не больше. Да, в шахматы играют, согласен, но как?
Вот и Ломоносов мужчина. И Хаслет, изобретатель легочного протектора.
Только один раз довелось примерить Арктуру специальный противогаз для лошадей. Это событие навсегда врезалось в его память.
Стоит, посапывает, бубнит про себя. Кони часто сами с собой разговаривают.
В 1905 году, в разгар русско-японской войны, вместе с членами экипажа крейсера «Аврора», направляющегося к берегам Страны Восходящего солнца, находилась парочка крокодилов, взятых на борт во время одной из стоянок в африканскому порту. Столь необычный «груз» объясняется просто: морякам разрешали брать с собой в плавание домашних питомцев. Конечно, домашними зверушками крокодилов можно назвать с трудом, но о вкусах, как говорится, не спорят. Крокодилам дали клички Сам и Того, устраивали для них плановые купания и даже пробовали приручить. Однако, как оказалось, дрессировка крокодилов – дело хлопотное, неблагодарное: улучив удачный момент, один из крокодилов бросился в океан и навсегда сгинул в его синих водах. Дневник командира в тот вечер пополнился заметкой: «Не захотел идти на войну один из молодых крокодилов, которого офицеры выпустили сегодня на ют для забавы, он предпочел выскочить за борт и погибнуть». Второй пресмыкающийся был убит во время Цусимской битвы4.
Пришел скверно выбритый Павел Сагадаев, толстеющий от разочарований актер вторых ролей. Перезревший плод и в переносном и в прямом смысле. Во время застолья, в особенности, когда он принимается читать монологи Макбета, трещины буквально на глазах образуются на его лице, что, несомненно, усиливает замышленный Шекспиром или группой жуликов, выдававших себя за Шекспира драматический эффект. Просто на глазах рушится человек, во всяком случае, его лицо. Когда бы это было перевоплощением, цены Сагадаеву не было бы. А так – черт знает, что такое творится с его физиономией.
Замечено, вне застолий ничего такого не происходит, хотя вне застолий Макбета он не читает. Вне застолий из него вообще слова не вытянешь.
Одним словом, вопросов много. И не только к данному конкретному актеру, но к театральному сообществу вообще.
Начать можно было бы так… здесь, думается, уместна хлесткая метафора…
Уж много лет ваш сад терзаем жалами да сорняками, в то время как плоды на ветвях да лапах перезревают и лопаются, издавая чудовищные звуки, отдаленно напоминающие вещий монолог!
Намек на Макбета. Догадались?
Доколе?!
Непременно припечатать в конце.
Доколе?!
Между тем, Павел одинок.
Я это к чему? Как часто в жизни усаживаемся мы мимо стульев, не попадаем кончиком нитки в игольное ушко, принимаем слона за Моську и наоборот! Вот обрати Сагадаев внимание на Юленьку, свей гнездо, глядишь, и лицо восстановилось бы, и сам Павел.
А Юленька? Взгляни на Павла новыми глазами, свей гнездо, глядишь, и солнце блеснуло бы, и раскинулась бы в слезах радуга-коромысло.
Так нет же. Каждый в своих грезах, каждый, намертво зажмурившись, журавля выглядывает. Оба суровеют и старятся.
Загиб и недоразумение.
Явились сестрички Блюм Рита и Марина, книгочеи и говоруньи.
Книжки предпочитают преимущественно о таинствах души. Оттуда интерес к стравинским четвергам. Книгочеи и говоруньи. Ни одна книжка ими до конца не дочитана. Достаточно пары фраз, и тотчас – дискуссия. Каждая спешит поделиться своими фантазиями и реминисценциями. Беседы могут длиться до трех суток. На каком-то этапе к дискуссии присоединяется Бахус, затем какие-нибудь сторонние молодцы, как правило, далекие не только что от психологии, но от знаний вообще.
В связях сестрички не разборчивы, но в любовных утехах толк знают.
Не исключено, что Юленьке не везет с замужеством ввиду того, что сама тема замужества, смесь нафталина и чеснока, мутной аурой обволакивающая бедняжку и ее благородного отца, всех бедняжек и их благородных отцов в большей степени отталкивает, чем, нежели привлекает.
Нередко побуждает присутствующих ко сну. Вспоминается удав из бессмертного Киплинга.
Пахучий зов невесты как гипноз.
Так обозначил бы я проблему.
Не сомневаюсь, Стравинский охотно согласился бы со мной.
С тем и оставим Крыжевичей в покое.
Действительно, становится душно от этой брачной саги.
Спешат городские сумасшедшие, вышеупомянутые бродячие собаки, пожарные Фефелов и Сопатов, водитель троллейбуса Улитин вне троллейбуса, журналисты и маклеры, блатные и студенческая молодежь. Всяк спешит. По четвергам как будто весь город оживает. С кем только Стравинский не выпивал, кого только не обучал искусству отрицания и погружения!
Осчастливил своим визитом долговязый, всегда с зонтом, сам напоминающий зонт профессор Диттер, вечный оппонент С.Р., рассматривающий жизнь не в качестве кольца, как предлагает Сергей Романович, а в виде разомкнутой, в отдельных случаях порванной цепочки, следовательно, в виде череды колец. Притом цепочка, по утверждению Диттера, не имеет ни начала, ни конца. Собственно, как и кольцо Стравинского. На том бы и сойтись, но дурной характер и азартность каждой из сторон делает спор столь же бесконечным, как и сам предмет спора. Кроме того, Диттер, не стесняясь окружающих, то и дело пускает ветры. Потому на четвергах незваный гость.
Знамо дело, пришли бродяги Игорь и Петров.
Бродяг Сергей Романович привечает. Запрещает называть бомжами, говорит, что нет такого слова и быть не может. Говорит, что всякая аббревиатура – точка, смерть, а он желает бродягам долгой и светлой в перспективе жизни, ибо они, сами того не понимая, понимают то, чего никто не понимает.
В особенности Диттер, прощелыга и зонт. У Игоря и Петрова тоже есть зонты, ими же исправленные и улучшенные, однако зимой они их не носят, на что Сергей Романович неоднократно указывал профессору. По поводу чего профессор впадал в бледную ярость, так как сравнение с бродягами казалось ему несправедливым и нестерпимым.
Детский писатель всегда мрачный Волокушин приволок… дурной каламбур, согласен… детский писатель всегда мрачный Волокушин принес новые рассказы. В одном из рассказов его новый герой маниакальный ветерок играл наперегонки с ручейком, в другом – тот же ветерок уже забавлялся с лейкой.
Волокушин создавал образ ветерка, вспоминая Насонова, и ему не терпелось по прочтении сообщить этот факт присутствующим, что по замыслу сказочника, должно было бы их развеселить. Однако в нем зиждется опасение, как бы во время читки Диттер, по обыкновению, не выдал на гора, что, разумеется, разрушит его оригинальную задумку. И он прав, так как профессор, вредный человек, именно так планировал поступить. Если этот зануда снова заведет свою шарманку с ветерком, непременно дам дрозда, вертелось в голове ученого.
Прибыл всамделишный маньяк Григорий Г. О том, что Григорий Г. маньяк знают только три человека. Точнее четверо: три человека и один инопланетянин. Это сам Григорий Г., Стравинский С. Р., которому Григорий Г. доверился по ошибке, приняв за Стравинского И. И., психиатра, обретенный все же впоследствии Стравинский И. И., психиатр, и, пожалуй, самый известный представитель внеземных цивилизаций Алешенька.
Об Алешеньке много писали, сняли фильм. О нем и теперь много судачат. Если помните, Алешенька, точнее его предполагаемый трупик пропал загадочным образом. На самом деле гуманоид не умер, но уснул. Сон у гуманоидов продолжается в среднем две-три недели. Мнимый трупик, то бишь, спящего Алешеньку выкрал уфолог Розмыслов. Розмыслов многократно вступал в контакт с марсианами, страдал падучей, в связи с чем и состоялось его знакомство с Сергеем Романовичем, которого он, как это часто бывает, принял за Ивана Ильича. Завязалась дружба. Результат – постижение основ агностики с последующей госпитализацией сталкера в психиатрическую больницу. На этот раз по адресу – к Стравинскому И. И.
Перед тем, как лечь в больницу, Розмыслов открылся полюбившемуся учителю, оставил ему на сохранение инопланетянина, сам же умер на третьи сутки при загадочных обстоятельствах. К сожалению, смерть при загадочных обстоятельствах – удел практически всех смельчаков, не побоявшихся заглянуть за Эйкумену.
Вас, конечно, интересует, что это была за смерть?
Странная была смерть. К тому добавить нечего.
Поскольку Алешенька остался жить у Стравинского С. Р., уроки, четверги, чаепития, пьянки и просто посиделки происходили на его глазах. Следовательно, гуманоид стал невольным свидетелем и хранителем многих тайн, в том числе тайны Григория Г.
Благодаря титанической воле и искусному врачеванию обретенного все же Стравинского И. И. Григорий Г. преступлений никогда не совершал, и даже не замышлял. Представления не имеет, что это такое. А узнав подробности, возможно, был бы потрясен больше нас с вами, так как представляет собой натуру бесконечно нежную и ранимую.
О том, что он маньяк, Григорий Г. вывел, усердно наблюдая за собой. Первоначально сомневался, но сопоставив некоторые детали своего быта и настроения с жизнеописаниями выдающихся маньяков, которые с некоторых пор сделались приметой времени, обнаружил – действительно, что-то такое прослеживается. Например, то, как он моет руки, приглаживает волосы, привычка теребить мочку уха. В целом нечто волнообразное, мутное, бурлящее, опасное. Порой, даже чересчур. Порой даже не по себе становится. Что именно – угадать трудно, но беспокоит и просится наружу.
Плюс неоформленные мысли и желания.
По совету доктора Стравинского Григорий стал вязать. Это занятие, по Фрейду сублимация, пришлось ему по душе. Теперь сидит у себя в маньяцкой, вяжет свитера английской резинкой, «сумерки» посещает крайне редко – все же немного побаивается. И себя, и людей.
Все какое-то сквозное, аритмия повсюду.
Так характеризует он свой страх.
Прибыли также Леонид Жаботинский, полный тезка Леонида Жаботинского (закон парности никто не отменял), задумчивый осел Буриданов со своей ослицей – оба золотистые от малинового чая, бывшие вертухаи Затеев, Сотеев и Либерман, вор в законе дядя Гоша, ранее упоминавшийся слесарь дядя Гена, кофеинист Дятел, по прозвищу Дятел-кофейник, обещанная Жар-птица, Жанна Марловская с битым до кровоподтеков супругом, либералы Глисман и Чулков со статьей о ленинско-сталинском призыве, апрельский кот Фофан, трескучая и бессмысленная Нянина, в рифму к ней няня Зоя с безвольным карапузом на руках, корректор Глинин с подзорной трубой, незаконнорожденный внук Мао Цзэдуна Сережа с костяными шариками для релаксации, катала Гренкин о четырех зубах, Зарезовы в полном составе с живым еще петухом, розовощекие цыгане Петр и Ляля Заблудные, цирковые лилипуты Борис и Гракх, вот бы их с Алешенькой познакомить, шансонье Камаринский с гайкой на указательном пальце, путейщик Паклин с гайкой в голове, поклонник Насонова клоун Пепа, слон Гром без хобота с работником зоопарка поэтом Костыревым, уличные собаки Граф и Козлик, Найда, беременная одиннадцатью щенками, их кормилица волоокая бабушка Анастасия, бывший летчик Аркаша Геринг с птенцами, гей Матюша Керенский, разумеется, в женском наряде.
Паранойяльный следователь Павел Петрович С., точнее, бывший следователь Павел Петрович С. пришел в первый раз. Вряд ли, конечно, следователю подходит эпитет «бывший». Вот пришел. Никто не докладывал ему о четвергах, никто не приглашал. Исключительно интуиция призвала его быть на вечере, где собирается так много подозрительных личностей. В первую очередь сыщика интересовал сам хозяин.
– Почему Стравинский? – рассуждает Павел Петрович. – Имечко не просто так. Надо же, Стравинский! Что это? Псевдоним, намек, вызов? Явно преследуется цель, вполне определенная, очевидно преступная. Кому предназначена шарада? Мне, разумеется. А не много ли вы на себя берёте, господин Стравинский? Те ходочки, что побывали в психушке, отмечают изумительное сходство кумира и доктора. Можно было бы предположить, что хозяин – брат Ивана Ильича. Но, насколько я знаю, у Ивана Ильича нет братьев или иных родственников. Иван Ильич, как и я, по жизни одинокий человек, что имеет свои достоинства и прелести. Во всяком случае, целесообразно при наших профессиях. У него никого нет кроме сумасшедших. Он и сам немного не в себе. Много – немного, не мне судить. Во всяком случае, человек на своем месте… Теперь, эта летучая фраза доморощенного философа – в добрый путь. Какой смысл он вкладывает в нее? Что подразумевается? Куда влечет убогих сих? Какую участь им уготовал? Пьяный бред или коварный замысел?.. Взглянуть бы на этого самозваного поводыря. Кстати, отчего это он вдруг спрятался? Говорят, уже не в первый раз. Завлекает таким образом в свои тенета? Похоже на то. Просто так люди не прячутся. Я просто так никогда не прятался. И теперь не прячусь. Даже когда это необходимо. Нахожу другие способы. Могу исчезнуть, обратиться, умереть, наконец, но чтобы прятаться? увольте. Прятки – не способ защиты и не игра. Образ мысли. Преступный образ.
Явились куплетист Патыкин с тульской гармонью, дракон с острова Комодо Василий, большое деревянное колесо, птеродактили и пара свиней.
Пожалуй, всё.
Остальные опаздывали или болели.
Кому-то неотложные дела не позволили выбраться к Стравинскому.
Сам Сергей Романович с утра перебрал по случаю именин экзистенциалиста дворника Тамерлана и сладко спал, укрывшись вафельным полотенцем, на кухонном полу. Звонков, стуков в дверь и рыданий Юленьки, разумеется, не слышал.
Четвержане решили, быть четвергу, сожгли костер из брошенных после Рождества елок, коллективно исполнили песенку девчат из кинофильма «Девчата», пустили пару ракет из ракетницы Геринга, и только вняв справедливому замечанию следователя С. «не обнаружить бы себя», мало-помалу стали расходиться.
Сырая мешковина неба, дрогнув, прохудилась, роняя теплые хлопья тишайшего снега. Птеродактили потянулись домой в Анапу.
– Всё к лучшему, – сообщил по пробуждению Стравинский С. Р. пожирающему плов прямо в кастрюле Алешеньке. – Надоели хуже редьки. Всё. Лавочка закрывается. Уже закрыта. В добрый путь. Я им всё сказал. Главное сказал. Кто хотел – услышал. Молчание – золото. Это – главное. Добавить нечего. Прав был граф Лев Николаевич Толстой, когда произвел девственную простоту в ранг величайших истин. Никто не услышал. Может быть, следовало сказать это вслух, как думаешь, Алешенька? А что проку? Все равно никто не услышал бы. И до графа тысячу раз говорено. Тебе тоже надоели, знаю. Потерпи. Походят, походят и перестанут. Не перестанут, знаю. Повадились. Пусть себе ходят. Не обращай внимания, и всё. Я же не обращаю внимания – и ты не обращай. Как будто их нет вовсе. А их и так нет. Игра воображения. Недомогание. Сумерки… Ты кушай, кушай. В добрый путь.
5. Стравинский С. Р. Рим
Жители Бокова представления не имеют, как выглядят на самом деле. Причиной тому – боковские зеркала. Эти зеркала не отображают действительность, но демонстрируют смотрящемуся в зеркало то, каким, по их мнению, он должен быть или то, каким, по их мнению, он мог бы быть, будь на то их, зеркалья воля. Боковские зеркала так и называют «боковские живые зеркала». В связи с вышеизложенным среди боковчан случаются Пушкины, Обломовы, Блоки, реже, Мемлинги. И Петр, и Фома. Говорят, например… позвольте представить, Лев Моисеевич Малярчик – наш Пушкин, или… а вот и Борис Дормидонтович Чулков – наш Голиаф.
Сергей Романович вступает со мной в мысленный диалог.
Вторит мне. Размышляет.
Персонажи часто заглядывают на огонек к своим авторам. Если сомневаетесь, спросите хоть у кого из сочинителей, да вот хоть у Диккенса спросите. Ему-то вы наверняка поверите.
Кто-нибудь обязательно скажет – не бывает таких героев. Даже в Антарктиде. Даже на Луне. Нет, и быть не может. Обязательно найдется такой Фома неверующий.
В Антарктиде, может статься, и не бывает, а у нас – только такие, что примечательно и замечательно.
Фому же посылаю к зеркалу, – Пойди, Фома, и хорошенько посмотрись.
А давайте вслед за Фомой и мы с вами подойдем к зеркалу да хорошенько посмотримся. Разве то, что мы видим – это мы? Разве мы такие? Разве мы – то, что мы есть? Разве мысли наши – это наши мысли? И поступки наши – наши поступки?
А наказание, ниспосланное нам, положа руку на сердце, как думаете справедливо?
Всегда перебор или недобор. Во всяком случае, нам так кажется.
Вроде бы и крестимся, и водку пьем – ничего не помогает.
А в чем должна заключаться помощь? Кто же его знает?
А что там в зеркале? Так, нечто зыбкое. Игра света, что ли?
Никто. Никого. Никто. Никого. Никто. Никого. Я, не я, мы, не мы, кто-то, некто, некие, некто… Не имеет значения. Имеет, наверное, но все равно испарится, улетучится, растает, прежде чем я протяну руку, чтобы ухватить Фому за нос. Всё как всегда.
Сон в летнюю ночь.
Или в зимнюю ночь.
Случается, и днем прихватишь, если есть такая возможность.
Такая, я бы сказал, горчичная тишина.
Почему горчичная? Не знаю. Горчичная, и всё.
Пыльно, следует заметить.
На пыльных тропинках…
…пыль, мучная пыль, мельники, мельничихи со щеками, ловите, весна-а-а, однако весна-а-а или, однако зима-а-а, или воздухоплаватели, например, Можайский и Ротко, Марк Ротко, простите, отвлекся, не нужно о грустном, не будем, Виктор Иванiв, вот еще имя, не буду, больше не буду, кажется, говорили о погоде, впрочем, пагоды тоже интересовали, и немало, всегда, теперь в шаговой доступности, там всегда золото, в октябре, в Китае, в спальне, под лавочкой с Пушкиным, а как без Пушкина? октябрь, все же, октябрь, ноябрь, февраль, что там еще? весна? осень? лето? аэростат? дирижабль, не мог пропасть, нырнул отражением, на время, лови теперь его, лови, лови, нырнул в лунное, бездонное, Родина, всё? август, сентябрь, Марс? Марк? Фома, вот что, ну, как же без него? ну, здравствуй, Фома, ручка дверная, косяк и прищепка, человек-ступа, нет, приступочек, шишка, шиш, варежка полоротая, неслух, олух, любим и обласкан, своя мозоль, своя, носик туфелькой, эх, Фома, Фома, говорили тебе, помнишь, что говорили-то? вспомни, Фома, нет? чего только не говорили, зеркало? про зеркало? опять? не нравится зеркало, стенкой назови, про стенку намекали, пристеночек, чума, шутиха, кукла, муляж, фантик, семечко маковое, про муляж говорили? про коробку? коробочку? не тронь, говорили, руки оторвет, по самые… дико извиняюсь, однако же, ну-ну, похоже на то, и в первую очередь, лови теперь, лови, теперь ловите, господа, а много вас, позвольте полюбопытствовать, много ли господ? немного, хорошо, немного пока, еще за колбасой очереди случаются, еще на колбасе, нет-нет, да прокатимся, здравствуй, вождь, здравствуйте, дедушка, виньеток таких теперь не делают, так бы и закольцевал всё, до совершеннолетия – в особенности, с мандаринами и узкими брючками, а шпиль и теперь возвышается, листву нанизывает, в октябре, иногда в сентябре уже, не спешите, торопиться не нужно ни при каких обстоятельствах, провели полосочку, поставили галочку, метку, черную метку, и отдохните, прилягте, можно вздремнуть немного, листва теплая, терпкая и теплая, слякоть – не в счет, виноград – да, и так сырости много, хвощи да плауны, виноград – да, еще чутка, не помешает, пригодится, увидите, увидим, не поскользнуться бы, а так, если без кривотолков, любим друг дружку, как щенки в корзинке, возимся, любим, извалялись в любви, в неге извалялись, на полках своих на полочках, в вагоне на полочке, поезд дальнего следования, поезд-дом, давно живем, давно живем-то, столько не живут вообще, даже в октябре, даже октябрьские, Чатануга, чу-чу, шутка такая, американская, золотой патефон, керогаз, самовар, паровоз, чу-чу, pardon me, boys, и сразу же, тотчас, немедля золото на душе, золото, золото, золото, эбонитовая колонна, колесо обозрения, Луна, ха-ха, все лунатики, если вдуматься, так что не переживайте, не надо, не мчим, тихонечко едем, наслаждаемся, но, видите ли, изволите видеть, следующая станция – кладбище, шутка такая, или не шутка, сразу не поймешь, прибыли – кладбище, шутка такая, чрезвычайно удачная шутка, с мешком и бородой, но не Клаус, не Санта Клаус, нет, ни при каких обстоятельствах, мельники и вороны, только мельники и вороны, мельник, в час печали возле чайной, назовем это чайной, назовем этот тупик чайной, тупичок, здравствуй, старичок, домчали, всё, поезд дальше не идет, кто не успел, тот опоздал, теперь ловите, если поймаете, сами ловите, если поймаете, что? ловите, ловите, сами, сами, ручками, ручками, ловите, кто не убежал, кого? а кого поймаете, если поймаете, начетчики, налетчики, душеприказчики, игруны, воланы, голь перекатная, каплуны пожирнее, ловцы., нет, какие мы ловцы? о себе тоже, о себе тоже, разумеется, все мы из одной шинельки, так сказал? из одной шинельки, так сказал? так? Акакий, дивно, как еще! чудно, нежно, узость, ловкость, неловкость, ловкость души, при общей бестолковости, нескладно, как всегда, вымираем, кто не знает? всяк знает, а всяк – дурак, шутка такая, осенняя, млеем, совсем разомлели, Акакий, Акакий Акакиевич и паруса, паруса, парусина, зубной порошок, здравствуй, жизнь, черт дернул, здравствуй, за три минуты, смешно, ничего смешнее не слыхал, придет же такое в голову! не ловцы, вы – не ловцы, мы – не ловцы, ловцы, эх, давно было, давно было? давным-давно, где? в Голландии, разумеется, мельники, не забывайте, мельники, мельничихи, не забывайте, со щеками, не забывайте, в Голландии, где же еще, Голландия нам ближе, поезд голландский, мешковина, мука, яблочки моченые, ветер, далеко, близко, всюду ветер, Блок, опять Блок, голландец Блок, умер, яблочками отравился, томатами, не вынес, не перенес, прощай, здравствуй и прощай, следующая станция – кладбище, юмор висельника, ура! революция, здравствуй и прощай, мельники, шествуют, белые, бледные, как шли, так и продолжают, никаких перемен, никаких! Голландия! овцы – не вы, овцы – нае мы, мы – не овцы, почему? а почему? ну, почему? поздно, ночь почти, ночь почти что, всегда, здравствуй, закат, здравствуй и прощай, поздно, уже поздно, не знали? а вы не знали? а вам говорили, не тронь, говорили, с младых ногтей, да где там? где мы? спрашиваете, где мы? а нас нет, нас больше нет, только пыль, мука, мучная пыль, мел, мука, мел, дыхание меловое, Мемлинг, Ганс Мемлинг, бледненькие, какие же мы бледненькие, белые, бледненькие, прощай, прощай, Голландия, здравствуй и прощай, ах, какие кораблики были! весна, весна, зима, весна, кораблики, и лето, сразу же лето, лето – кровопийца, нам и царь – не царь, и лето – не лето, а нам что, когда вечность? никто не знает, а мы знаем, голландцы не знают, например, не знали, ни Мемлинг, ни другие, а мы знаем, всегда знали, здравствуй станция конечная, здравствуй, смерть, здравствуй и прощай, поели, сами себя поели, ничего страшного, вкусно поели, сами себя, с аппетитом, весело так, с огоньком, ничего страшного, судьба, сука-судьба, индейка, у нас индейкой зовется, вот вам и карта, вот перед вами карта, вот карта, подробная, с флажками и точками, спичками да спицами, пружинит вся, клеем пахнет, на волю просится, вот и сами мы, букашки, ползаем, воскресенья ждем, к воскресенью движемся, как умеем, рачки, да улитки, болота много, чего уж там? что есть, то есть, а вот и мяса кусок, парного мяса кусок, не кусочек, кусок, нет, гора, гора мяса, мясо сладкое, живое, ура, революции раз, два, три, три – довольно, нет, нет, с тех пор, с тех самых пор, мельники, мельничихи со щеками, задами, молочницы, мыши, а как без мышей-то? без мышек? мыши, мышеловки, мышеловки разные, мыши, мышки, серые, белые, агатовые, смоляные, с усами, усиками, усами, пушистыми усами, без усов, с проволокой, на проволоке, без проволоки, проволока, проволока, а как без проволоки-то? зона, зона – таки, зона, на зоне, здравствуй, полотенце прибереги, еще тюрьма, тюрьма же еще, прибереги, пожалей, вафельное, для тюрьмы, для похорон, все же кладбище, хотя бы вид сделать, дождя не будет, Бог даст, без дождя тоже можно, говорю же, Голландия, картофель, едоки, мясо? нет, картофель, уже картошечка, в мундирах, все, все как один в мундирах, все как один, мечта! и парусина, парусина, конечно, зубной порошок, видимо-невидимо, плюс чахотка, плюс ветошь, вакса другая, совсем другая, жирная как масло, намажь на хлебушко, а ветла иссохла, а вот ветла, напротив, усохла, мельники, а угольщики? где мельники, там и угольщики, угольная мука, зароешь глаза, тут тебе и снеговик, и угольный человек, толкуют, дразнятся, сугробы, склады, сугробы, жизнь, так называемая жизнь, а говорил, нет жизни, болтуны, все болтуны, болтают, болтают, небо от болтовни страдает, терпеть сил нет, упадет скоро, скоро – не скоро, упадет, опускается, трещины видно, трещины, крюк, если зрение хорошее, если хорошее, дыры пошли, черная дыра, белая дыра, белый карлик, тоннель, еще тоннель, станция кладбище, дальше поезд не пойдет, упорств, упорств и царств, времяпровождений, соитий, похорон, упорств, механика, мышам повсюду хорошо, чем плохи мышеловки? на каждом шагу, звенят как колокольчики, мышки шустрые, снуют, мышеловки влачат, хвостиками подцепили и влачат, что твои погремушки, детство, скарлатина, бесконечность, глупость бесконечна, бесконечность глупа, живем, смеемся, играем, уловки, стаканы, капканы, волчьи капканы, медвежьи капканы, морж разбегается – бултых! ряска, ух! белая, ржавая, красная, лягушонок лапку поранил, всё! катастрофа, начинай сначала, весна, зима, лето, всё, жизнь кончилась, пагода, амок, книга, помолиться всегда забывали, ну, теперь уж, что уж, теперь другие помолятся, а вы догоняйте, догоняй, не забывай брызги топтать, посчитать бы, да больше не умеем, прыгать с поезда умеем на ходу, к радости, к вящей радости, мальчики ждут, мальчики кровавые, привет, Борис, давно прибыли, толкутся на перроне, семечки лузгают, каленые, как уголь, польский уголек, и мальчики, и семечки, и голубки, встречается, и хромой прохожий, хвост на три метра за ним тянется, у мышек короче, но за мышками не угнаться, юркие, мышки и мысли, прохожий, ходок, улыбается, семечки лузгает, тоже лузгает каленые, белый, бледный, весь белый, в белом, бледный как невеста, и семечки белые, как уголь, уголек польский, смеется, а зубы черные, несварение, надежды, белый уголь, уголек, небо-невод, небо невест, нёбо белое, зубы белые, черные от невест, от разворованных невест, не человек, птица, птица-секретарь, еще, еще, секретарь, еще, еще, ступают, хаживают, выхаживают важно, золу, золу клюют, жар, пожарище, одним словом, одним словом, словом, кострище, ледяное, но ледяное, пустыня, ледяная пустыня, выхаживают, в руках мышеловки, ледорубы, смерть? не страшно, нет, ничего страшного, поезд, поезд все же, заиндевевший стоит, пыхает, Сталин, усы пушистые, Сталин, усы проволочные, Сталин без усов, кот, здравствуй, кот, здравствуй и прощай, а жизнь-то, жизнь, присмотритесь, заглядывайте, любуйтесь, всматривайтесь, я пытаюсь, пытался, что ж? сквозь игольное ушко проследовали, а прибыли, некому пожалеть, ничего, глаза зароем, и снова март, снова весна, разверзлись хляби небесные, получается, жалеть не о чем, дождик мелкий, капли-искорки, мышеловки, ножи, заточки, точильщик и его велосипед, точильщик и его зубы, смешная механика, чертово колесо, сани, механика, словом, дивная механика, чудовищная, чудо, Антарктида, одним словом, мечтали – получите, или против, напротив, Абиссиния, плавится, всё плавится, течет, Африка, африканцы, слепые, шар, пляски, пляски-то, пляски-то, с одышкой пляски-то, ласточки, мелкие, как снег мелкие, снежок, снежинки, черные снежинки, черные, головы, головы пшеничные, зачем коробочку открыл? что вылетело? что оттуда вылетело? что? не видел? не видал? не знаешь? не помнишь? Иван, родства не помнящий Иван, где книга твоя, Иван? где твоя книга? всегда так было, было и будет, и ну удивляться, всё-то мы удивляемся, чему тут удивляться? ходите? ходите себе, только голоса не подавайте, здесь тихо нужно, чтобы как мышки, мышеловок хватит, на всех хватит, не беспокойтесь, мышеловок, кузнечиков чугунных, бабочек железных, паровоз, механика, чудо, торжество, у возницы протез, а шляпа свинцовая, да здравствует, говорили тебе, коробочку не открывай, не смей, не тебе послана, предупреждали, грозили, хмурились, всегда не в прок, тучи – развалины, лисьи мордочки в окошках, высунулись, солнышка ждут, пока иголка не блеснет, сумка сердечная, тело, плоть, пастушок, петушок, пух да перья, сыр в масле, лакомство и проказа, грешили, грешили, чего там? неча пенять, голова, живот, груди, если подвинуться, подвинуться – не упасть, ничего, пусть бубен останется, вол как дирижабль, с дирижабль величиной, дирижабль, гость утробный, гость из тенет небесных, сахарная голова, чудо-кит, головка, дай в щечку поцелую, дай, дай, а мельничих видел? толстые невозможно, Абиссиния, Арктика, Антарктика, сугроб, но добрые, как-то утешает, это как-то утешает, смириться, взвесь, не больше, пусть будут, пусть, даже спокойно с ними, кто-то же спит с ними? а есть такие, есть, есть, я знаю, зубы железные, вакса, Сталин, масло в сковороде золотом потрескивает, рыба жирная, жир-мир, жизнь-смерть, сом, стало быть, сом, перемены, мерцание, всё меняется, сома не узнать уже, не сом, но печь, ноздреватый, блин, блины со сметаной, колени распухли, десны, слюна, страх, всё до неузнаваемости, кто его ловил? радуется, улыбается, сомневаюсь на всякий случай, так бы и схватил за бок и в люльку ногами сучить, жизнь, улыбается, зубы железные, да не у рыбы, нет, краля чужая, язычок ядовитый, яда много, йода, много больше, игл, шипов, патефон, цыгане, брага с укропом, весна уже, потекут по сусалам, таяние, в лучшем случае обвал, трясина, возможно, только не битое стекло, в том-то и дело, что острота пропала, даже дождик бессильный, тягучий, фермы набрякли, веки тяжелые, мешковина, много мешковины, трудно ногами перебирать, лани в сене, сеном укрыты, сеном питаются, разжирели на воспоминаниях, старушек не видно, не исключаю, что их нет, вообще больше нет, мясо белесое, в испарине, детки – свиные желудки, глазенки желтые, лисички, язычки атласные, оспа, пузыри не спешат, перекатываются, пузыри подвывают, лопаются, весна человечества, ждали ее, тучную, что скрывать, здравствуй весна, здравствуй достаток, а ты целовал, молодость вечная, луна-парк, хоть не формалин пока, тридцать шесть тактов, дели на три, подушки мокрые, как представишь себе, что было, не напоминай, кочегары, насильники сволочь, только мешают, если трахаться всерьез, с отдачей, полосатые гетры очень кстати, змея – лишнее, яд – для знатоков, когда в нос бьют, восторг и жалость, ночь? а что ночь? шпроты, пальцы, газета, огурчики, волчий капкан, на волка, стало быть, какая уж тут Абиссиния? – Тальменка, хрупко все, хрупко, раздеваться на людях, хрупко, куда деваться? садись, наблюдай, выходи, встречай, ложись, зажмуривайся, так легче, ряска, рельеф, грезы, еще эти чаши зеленые, чаши болотные с ядовитыми цветочками, Уругвай, например, не Антарктида, конечно, но все же, рай, ничего, добредем, не мы, так бульба наша докатится, мышки наши добегут, доскачут, мышки, лисы, детки наши доживут, детки деток, только бы не порезаться, головы нынче как бахча, а мы что? зажмурился, и дело с концом, вот именно, жмурки, желток, пирог с пальчиками, пинцет и цапля, склюют – не заметишь, однако надежда, а как без надежды в пустыне стоваттной? откуда и песни, и прочая другая музыка-муз’ыка, опасно, конечно, предусмотрительному человеку смерть, когда смотришь на них, вернувшихся с войны, удивляешься, как это они не изменились, изменились, конечно, кожа сухая, сухая и бледная, как будто из них кровь выпили, шутят мало, отличаются, птицы другие, уругвайские, в особенности голуби, все голуби, гадят белым, сами персиковые, а гадят белым, мне те, бесцветные нравились, с потухшими глазами, точно из тюбиков краска, белила, помечают наперед, вселенский дневник, дался этот Уругвай, а вы говорите Марс, Луна, глупости всё, вот, смотри, краля сосет, леденец сосет, причмокивает, тут бы и африканцу, тут бы эфиопу из-за ширмы явиться, но он спит, спит, сволочь, всё думаю, откуда они взялись, африканцы-то? да много их, измельчали заметно, бедные, долго в воронку заглядывали, всматривались, не позовут, всё – вранье, тоже страх, из детства страх, кража и воронка, бритва опасная, пьянка – это потом, но навсегда, даже если бросить – навсегда, тут дело в графинчиках рубиновых, наскипидаренных пластинках, секс, секс, завернуться с головой в вафельное полотенце и мычать нечленораздельно, знакомы с исподним? целомудрие так и не наступило, только мычание, иногда свист, иногда вьюн, упадок, любят, слабость свою любят, плен, например, свист, например, бежать, бежать немедленно, такая игра, на краю, если вдуматься, веревочка-то вот она, секс, секс, оставаясь в рассудке – не потянуть, даже и разуваться не стоит, такие танцы на углях, это вам не Киплинг, или кто там жирафа приволок? Гумилев? вот зверь и нагадил, жираф – это вам не голубь, птица другого порядка, из тысячелетнего рейха, как верблюд и голод, не открывай коробочку-то, нет там фломастеров, но, вот это «но» и подводит, не наиграться, никак, покуда почки не откажут, нет уж, руку жмет крепко, мочится подолгу и с удовольствием, тридцать шесть ступеней вдоль известковой стены, известка, известка, слова, похабные картинки нацарапаны, казенное всё, вдруг красный свет, хотелось? этого хотелось? этого, этого хотелось? разве этого хотелось? а чего же? обвиняете? вы обвиняете? никак обвиняете? а снедь как же? а горлышко прополоскать? а матовая мгла, не благодать разве? а движений неспешных непозволительных услад? шепот шестипалый в бархатные ушки? кого вините? глазастую? то так повернется, то этак, никто бы и не увидел, так она специально ножку таким образом повернет и присядет, нет, не думает, ни о чем не думает, и предзакатный свет, достань, попробуй, рысь, секрет, секреты, уж лязг и бездна позади, пусть иллюзия, не важно, теперь уж что? прыщики сойдут, со временем сойдут, бритва – серьезнее, о болезнях тогда не думаешь, ни о чем не думаешь, какая там голова? какие шкварочки? надо же? мал, мала, меньше, никто, никто, ну, понятно, отеки, таз с горчицей, это потом, потом, сейчас – не к месту, но от малости этой не убежать, выблевать на остановке или со сцены, как Бергман завещал, на кладбищах много такого в Голландии, а она так и осталась, она – вечная, как мы, мы и Голландия, Голландия сама, клюв вороний, глаз с мушкой, с дырочкой сквозной, тлеет, как папироска тлеет, как клитор, не думай, так лучше, уж лучше так, и достоинство как будто, и блажь, на людях, блажим, блажим, в прелести пребываем, ментор, ментор, в такие минуты себя не вижу, не желаю, волчок и обух, глуп не по годам, что же, добро пожаловать на борт, сами знаете, о чем речь – Эразм, конечно, берет и нос, и каравелла, и порошок зубной, да здравствует! тысячелетний рейх, вечерняя прогулка со спичками и головой под мышкой, речь обо всех, не только званых, силки расставлены, но каяться не стану, поздно, поздно, разве что, пройдет? как прыщики и жизнь сама, кукушка за пазухой, всё на людях, внутри совсем другое, ветерок, протяжно, вермута немного, кагор, конечно, лучше, а вот гвоздика? не уверен, не пьян, не уверен, не знаю, не пьян, но одержим немного, одержим немного, вот как вынимаем из себя друг друга, никогда не замечали? нет? шурш, шуршанье, шелка, шёлка заводи, такие своды, плавкие фигуры, сливочные взгляды, весло, о веслах позже, повилика, виноград, столбы обугленные, балки, балык, задница ущипнуть, щипцы, хохот, изменился? не болит? на бойнях забывают боль, а вот и Мемлинг, Ганс Мемлинг, добро пожаловать, ждали, предчувствовали, чего скрывать-то? не таракан, и ладно, не Ницше, и хорошо, вполне, сам Мемлинг Ганс, беременные по сей день мел его лопают, крестьяне по сей день мелом его яблони мажут, Мемлинг, меловый, попробуй, дотянись, мраморные хляби, горчица – она и есть горчица, все встретимся, да, собственно, и не расставались, умирать уже завтра, это с первых слов понятно, с младых ногтей, шерсти не жди, тридцать шесть на три уже не делится, уж ты проводи, не поленись, не велика победа заблудиться, если вдуматься, блуждаем от рождения, вот вспомнил пуговицу – глаз плюшевого мишки, хозяин сгнил давно, а глаз все смотрит, но шерсти ждать не стоит, шерсти, щетины, жизни, так называемой взрослой жизни нет, керогаз, омлет, сыро, мокрая подушка, всё, баня по пятницам, куриные потрошки, уже не те, уж не те, что в детстве, в детстве, и холодец не тот, не тот, гастрономы, ох, выгнуты, выгнуты да полы, окна черны, грязь, грязь по весне, вата, вот, вот – весна и грязь, корабль еще, корабль грузный, довольно грузный, дедушка Крылов, начерпал, как водится, облаков, лавка грузная, сижу, нет бы голову поднять, мерцает же, мерцанье, вот так всегда, в утробе не на что смотреть, хотя и здесь мерцанье, перламутровое всё и дышит, гудрон, такие времена, Иона хорошо плавал, а я уже не умею, а Иона умел, хорошо плавал, всё дышит, иллюзия, конечно, опять иллюзия, позвякивают звенья, смех просится, кружащийся как пух, любые времена, уже и рыжий поседел, а сколь годков-то? всё мчится, всё битком, но мельники не спят, нужно знать, помнить, щетине дней пять, не меньше, но это даже хорошо, во всём неспешность, мельники, мельничихи, молочницы, зубки молочные, уже ноябрь, а зубки молочные, мука, для богадельни мучица-то, наркоз, исход, копчик мой копчик, прощай, копчик, и ты, брат, прощай, не о чем говорить, и прежде не о чем говорить было, гаражи, сосиски, рак, сумасшедшие много целомудреннее, хотя бы ноги не раздвигают, во всяком случае, так не раздвигают, вот зачем пинцет нужен, пинцет и цапля, вспомни, резкость наведи, резкость, как перископ, ступай, ступай, не оглядывайся, любовь – тридцать шесть ступеней, ровно тридцать шесть, дальше вентилятор, стул и вентилятор, или стульчак, башня, башенка, целый город с жуками и товарищами их, меда много, можно не волноваться, меда, молока, муки, мельница как будто пострашнее будет, а подишь ты? пустое, однако окна зашторить не помешает, окна зашторить, не слышно разве?! говорить тише, скарлатина, чай со скарлатиной, парное молоко, кто-то ненавидит, я, например, но фломастеры – это на всю жизнь, свет в конце тоннеля, в начале и конце, запах будущего, хотя, если призадуматься, синтетика, с фломастеров, бум, синтетика вся эта и начиналась, восторг и мертвечина, не было таких цветов, радуг таких, селитра позже, ура, Африки такой не было, и флоксов, и ферм, и мальчиков из-под плинтуса, запах будущего, ацетон? нет, все равно, туя, запах туи, детство есть детство, лямочки и мандарины, туя, туя, гаражи чуть позже, или раньше, нос разбит? а как же? а не ель? туя, горячо, масло подрагивает золотом, шипит, Абиссиния, где-нибудь неподалеку обезьянки должны быть, пляж все же, лимоны, лимоны-мандарины, варежки, проехали, почему у мальчика с куклой ничего нет? там ничего нет? девочка? так это девочка? не смешно, но не смешно, муть и сладости, успеют, глядишь, успеют, из петли достать успеют, тут бы знаков не ставить, тут-то бы как раз и не ставить, знаки, знаки, оспа, все же из темноты, ноги растут, гудят, откуда? из темноты, бутыль, лампа, желтый свет, припадок, рябь, спускаться высоко, трава жухлая, паучкам все равно, вся эта их переписка – такой лепет, не знаю, обезьянки пострашнее волка будут, ну, так это вы с волком еще не встречались, губы трубочкой, сосет, африканец спит, ну его к черту в сугроб, жить с вами не желаю, вываляться в пыли этой, в снегу, настоящий увал, бомба, тикает, часики, часики, стружка, Штраус на колясочке своей едет, насвистывает, большой вальс, говорите? ну-ну, от вальса до марша два пролета, четыре па, вот так они и насвистывают, свистят, как услышишь, беги, сразу же беги, пиво горькое, нет, слаще меда, не будем о грустном, какие предпосылки? что веселиться, что денежки считать, все – радость, а для чего живем-то? ирония, честное слово, ирония, многие страданием живы, ну-ну, не будем, давайте, фрау, давайте, давайте, покажите, на что способны, какой там вальс? уходим, уходим, дальше, подальше, марки, марки, считать, пересчитывать, марки, тряпочки, эх, погубят бумажки, тряпочки, нет? нет, радость, нынче – радость, медом пахнут, молоком, деревенькой, люлькой, лялькой, спеленает? а как же иначе? спеленает, спеленают голубушку, голубчика, оградки ровненькие, синькой покрашены, небо кругом, голуби жирные, голубки да горлицы, вымерло все как будто, купорос, словом, головки, что мослы, у могил головки – что мослы, коленочки, на ветру скользкие, лаковые, грызть – зубов не хватит, головы – другое дело, сахарные головы – совсем другой коленкор, это же припасть можно, это же припасть можно и стоять так, стоять, покуда терпения хватит, стоять, лакомиться, покуда терпения хватит, хоть и с зубами, хоть и без зубов, что зубы? зубы и зубы, оно и у лошадей зубы, и у комаров, нет? нет? стоять, и все, на том и стоять, голова к голове, головушка к головушке, головушка к голове, эх, спеленают, все бы ничего, да, эх, спеленают, эх, спеленают голубчика, сегодня, завтра, грызть, ну, ничего, погрызи маленько, погрызи покуда, полижи, погрызи, жизнь в радость, часок в радость, минутку в радость, пока, покуда, пока зубки не прорезались, покуда не выпали, зубки-то, на ветру, пусть, на коленочках, пусть, ничего, ничего, постой, постой, пока, покуда, пока, пока не встал, во весь рост не встал, пока не возвысился, покуда не встал во весь рост, с топором, да вилами, муж, грозный муж, муж, мужское, мужеское, постылое, лакомое, радость, радость, встань и пой, встань, да и пой, пока гребень не отвалится, пока кровь горлом не хлынет, а вы, фрау, лягте, фрау, на стол, фрау, не желаете? нет? не важно? не думали? не задумывались? пора, пора, не думали? не мечтали? а когда петуху голову рубили, масляну головушку? а свинку когда коптили, соседушку? чистенько? чисто всё? чистенько? в горошек? в клеточку? передничек? исподнее? лягте, фрау, пора, пора, нет, нет, нет? мороз? морозец? мороз? по коже мороз? мороз – хорошо, мороз – жизнь, жизнь, жизнь, жизнь, жизнь, жизнь, жизнь, жжи, жги, мороз, декабрь, январь, жарко, ох, жарко, мороз, жизнь, жжи, жги, жара, красн’о, кр’асно, красным красн’о, нет, нет, нет? чистенько? нет? салфетки? нет, что, салфетки? куда там полотенца? вафельные – другое дело, шесть метров, двадцать шесть метров, опоясать, опоясаться, все опоясать, сокрыть, укрыть, спрятать, в сугроб, в Суглоб, нет? нет? не спрятать, нет, спрятать, опоясать, перепоясать, закольцевать, глянь, ты только глянь, глянь, Фома, кровищи-то, кровищи! приходила, стало быть, навестила, навещала, невеста, невеста? невеста, а кто ж, а то кто ж? спал? стало быть, спал? спал, спали, спать любим, спим, спали, спал, Фома? спал, знамо, спал, кровищи-то сколь? кровища-то рекой, глянь, только глянь, кровища-то рекой хлещет, вот, вот оно, вот оно, то-то и оно, вальс, вальс, вот тебе и вальс, как? помогите? помощь? помогите? да, да, помогут, эти – помогут, и те и эти, и гол и мал, все помогут, и вшивые, и плешивые, вишь, как? наголо брились, наголо, те и эти, вишь, как? и те и эти, советовали, брились, потом советовали, советчики, советовали, мудрые, род древний, и те, и эти, древний род, мудрые, стало быть, советовали, потом брились, и прежде брились, и теперь, добрые, с виду добрые очень, глаза ласковые, глаза, глаза, глазастые, да ласковые, сволочь, а раньше? и раньше, вспомни, вспомни-ка, а ты вспомни, брились – торопились, торопятся, торопыги, вишь что? торопятся, торопимся, простыни аж хрустят, так торопимся, такая любовь, такая любовь, така любовь, в глазах пасть волчья, всё – любовь, три слова, три, и вся любовь, три, кругом три, больше нет, ни больше, ни меньше, три, кругом три, вальс, три, любовь-морковь, сука-любовь, любовь, любовь, одна беда – десны, цинга, мать ее.
Ну же, покажите зубки, господин Нансен…
Доигрались, мать вашу?
Также хороши ромашки. И отвар ромашки (прим. автора).
Нет, ромашки – перебор. Всегда. Ромашкам компания не нужна. Равно, как и горчице. Уж тут что-то одно. Или горчица, или ромашки.
Только не георгины, умоляю.
Горчица – в самый раз. Уютно в горчице. И прятаться удобно. Алешка знает. Теперь еще и Фома знает.
Мне представляется, что у Фомы большие уши, а вокруг губ тлеют юношеские прыщи.
В одном готов с Фомой согласиться – ходить с зонтом, зимой и летом – глупость великая. Пусть и с лиловым.
Лиловая горчица. Лиловый негр.
Горчица.
Далась мне эта горчица! Так и вертится в голове. Не вертится – преет. Горшок с горчицей, а не человек ваш покорный слуга. И уж точно вам не советчик. Не советчик, не летчик, а хотел. Не астронавт, не вагоновожатый, не вождь, не мельник, не трубочист, не заводила, не лодочник, не ихтиолог, не кулинар, не краснодеревщик, не птицелов, не маляр, не пуговица, медвежий глаз. Не самоцвет, не стеклышко даже, не георгин, не диффенбахия, вспомнилась, зачем? не звездочет, не оракул, не орал. Не уточка луговая. Не орден, не лента голубая.
Не подарок, одним словом.
Что угодно, только не подарок.
Закройте книгу и не читайте больше.
Лиловый негр. Вертинский. Лиловые бани. Персия. Фломастеры.
Нет, не то.
Нетто, брутто, Брут. Брут – ближе. Близко. Наш современник. Римлянин. Предатель, конечно, убийца. Так считается.
Осуждаем, конечно. Ни оснований, ни права не имеем, но судим, осуждаем. Нет бы, разобраться. А как тут разберешься? Давно это было. Когда? Вчера? Позавчера?
Все время справедливости хочется. Вечно страдаем от этого хотения. Сочувствие, сострадание всегда запаздывает.
А что от него, от Брута было ждать? А ничего и не ждали.
И не ждем.
Это только говорится – закономерность. Никаких закономерностей. Всегда вдруг, неожиданно. Закономерности, конечно, существуют, но свыше, и нам понять их не дано. И пытаться не стоит. Проще надо жить. Как-то научиться бы.
Ничего не знаем. Если честно – ничегошеньки. Так, гадаем на кофейной гуще. Чувствами живем. Или их отсутствием.
Думаю, он сам себе не рад был, Брут этот. Чему радоваться-то?
Разве он один смертоубийство учинил? Может быть, вообще рядом стоял. А в историю вошел. Злодеем, конечно.
Вот зачем Цезаря убили Гая Юлия? А предписано было свыше, вот и взялись за ножи как миленькие. Кроме того, наверняка надеялись на хорошее. Злодейства, как правило, из лучших побуждений вершатся. Это только так говорится «злодейство». А на деле – пойди, разбери.
Наивны до самозабвения.
Ожесточились как будто маленько.
Ожесточаться ни оснований, ни права не имеем, однако ожесточились маленько. От хлопот, разговоров пустых и жадности. Жадными стали, римлянами стали.
Рим. Рим.
Вечный, вечный.
Усмирять, завоевывать. Ласкать, кланяться, льнуть, ластиться. Восхищать, будоражить, любить, умерщвлять. Галеры, грести.
Не лодочник. Увы.
Или ура.
Или утонуть к чертовой матери, чтобы, наконец, увидеть его? Рим приснопамятный увидеть. А что, не запрещено. Было бы желание. Тонуть, топить.
Дно манит, кто бы что ни говорил. Чем? Неведомо. Звездами да жемчугами.
Вот чем Тургеневу собачка не угодила? В сущности, щенок еще.
А дрейфующая Офелия, бледная мечта? Читателю нервы хотелось пощекотать?
Разве нельзя без этих водных процедур? Нет?
В таком случае, тоните на здоровье. Тоните, топите.
Но с умом.
С умом.
Вот зачем ботик потопили? Ботик, курительный салон. Это – выше моего понимания. Рим. Рим. Спрятаться от Рима в Риме. Утопить вину в вине. Преодолев невзгоды и страдания, постичь истину, наконец.
Что бы что? Не важно. Найти, нащупать, подкрасться, найти по запаху, на ощупь.
Старичками рождаемся, старичками умираем. Все остальное так неоднозначно, спорно. Рим – бесспорен.
Вот – боковский пустырь. В Нахаловке или на Восточном. Проволока, бутылки, пестрый мусор. Даже собаки туда не захаживают. Голод да ветер, больше ничего там нет. А возьми лопату, поскреби чутка – и пожалуйста, раковина меловая, черепаха-людоед, портик, колонна, череп Суллы, утраченный, казалось, навсегда. Стакан хоть переверни, хоть разбей, стаканом и останется. Уголь, да зубной порошок – вот и все приметы, и все отличия. Весь Боков такой.
Плюс свалявшиеся стеклярусные нити бывшей рекламы.
Так что ничего не изменилось. По морд’ам схлопотать можно хоть во дворе, хоть во сне. Кто с этим не знаком? Страх никто не отменял. Страх и гордыню. Слагаемые орла. Бороться бессмысленно. Хотя лично я в светлое будущее верю. Но, если постараться быть объективным, насекомых боятся больше, чем орлов. Больше всего на свете, пожалуй. С рождения. Почему так? Что это – зев памяти или ужасающая красота муравейника? «А ну-ка отними». Дивные конфеты. Собачья радость. Собак обожаю. Собаки – совсем иное дело. Граф, Козлик, Серый, Найда. Вот, опять Тургенев вспомнился. Зловредный старик. Западник. Ужасов, конечно, хватает. Насекомые, например.
Еще змеи.
Тихий ход – вот что. Неспешность, тихий ход. Потаенный цвет, белизна опять же у отдельных представителей. Матовая белизна, непривычная. Особое, особенное. Отличия волнуют, всегда волновали. Преимущественно – страх. Восторг – реже, редко. К восторгу склонность нужно иметь, предрасположенность. Хотите, талантом назовите. Недалеко от истины. А в страхе можно и преступление совершить. Убить, например. Убийство – не такое простое предприятие. Если совершается в полной трезвости, в здравом, как говорится, уме. Чует мое сердце, от убийств нам не избавится никогда. Ибо еще до рождения было предписано, написано, описано, определено и предопределено. Только успевай, двери отворяй. Так и хлынут. Хоть туда – хоть оттуда. Невозможно много. А теперь скажите, кто опаснее? Если по совести? Это-то и бесит, это и вводит в оцепенение.
Еще зависть, пожалуй.
Множество, скопление, множество. Сесть, да посчитать. Уже годам к сорока – немыслимое дело. Вот тут-то Ницше и сообразил. Присвистнул и присел. У Штрауса это, к слову, лучше получается. Кто? Где? Все. А если вдуматься – никто. На нет и суда нет. Вы же не знаете меня, а я вас. Ну, и кому какое дело? Стихией только стихия управлять может. Невольно заикаться станешь, как тот учитель, что глобус консервным ножом вскрыл. Не знаете этой истории? Я тоже. А собственно истории не существует. Спрятана в рукав, как ушанка. Или как фуражка того же Ницше, будь он неладен со своими насекомыми.
Все взаимосвязано. Уже говорил. Не важно. Можно повториться. Можно, можно. Ради Божественной истины можно. Всё неподвижно и, одновременно, находится в движении. Если хотите – в шевелении. Вселенский зуд, товарищи, господа! Сходил на кладбище, убрал травку, а потом думай трое суток, кто там у тебя по спине ползает. Вот они ходят, письма носят, весточки разные, встречаются на кухнях, шепчутся. Редко на кого цинковая ванна обрушится. Или велосипед. То есть, событий, в общем-то, никаких не происходит. Суета сует. Зуд и суета сует. Теперь старятся медленно. Десять лет проходит, и пятнадцать – пара седых волос, не больше. Разве что ванна упадет, так это из ряда вон событие. Или велосипед. Хотя, справедливости ради, мало-помалу вымираем. Ходят, ходят. Давно наблюдаю, изумляюсь. Шествуют, бродят, ходят, ходят. Сами подумайте, какие теперь гости? Пасмурно в мире. Опять же насекомые. Теперь и зимой. А вот тени отчего-то летние. Пугливые. В целом какое-то волнение. Беспричинное. А разве раньше так не было? А вот и не было.
Укрыты простыней, такое впечатление. Или вафельным полотенцем. Лично я предпочитаю вафельное полотенце. Так просто мысли не являются. И Стравинские. Сергей Романович, например.
Никто. Никого. Никто. Никого. Никто. Никого.
Похмелье ни при чем. Похмелье здесь ни при чем. Главное, никто никого не собирает, никто никого не зовет. Являются сами. Уже вздрагиваю, когда слышу их шаги. Хотел выучить французский. Черта с два! Когда это было? По крайней мере, теперь не нужно казнить себя за то, что жизнь про… прожил напрасно. Напрашивалось дурное слово. Негодное. С другой стороны, теперь такая жизнь, что казнить себя не нужно. Хотя не казнить себя мы не умеем. Тем и отличаемся. Прав следователь С., стремление быть неузнанным – защита. Своего рода защита. Как матерщина или запой. Всё как-то преступно. Около и рядом с преступлением. Преступные мысли, преступные песни. Нравится, не нравится, спи, моя красавица. Тьфу!
С. Паранойяльный. Очевидно параноик. Параноик, паранойяльный. Я бы даже сказал, не паранойяльный, но паранормальный. Высшая степень паранойи. Опирается исключительно на интуицию. Судя по внешнему виду, по прищуру глаз, по походке – исключительно на интуицию. Не помню, какого цвета глаза. Ускользнул. Ускользает, ускользнул. Опасный субъект. Из всех, пожалуй, самый опасный. Но он прав. Безусловно, прав. В наше-то время? Прав, конечно. И вообще, и прежде, и в стародавние времена, если сбросить пелену иллюзий, если честно, кого и когда всерьез интересовали улики и доказательства? Разве что мастеров детектива?
Виноваты все. И я не в последнюю очередь. Виноват, виноват. Кругом виноват. Все виноваты, и я виноват. Первое второго не отменяет. Если вдуматься, какой праздник? Какие праздники? Праздники, хороводы. Уж не знаю, почему они выбрали четверг. Четверг – день пресный бесцветный. Газета, а не день. У них там, в Уругвае, четвергов не бывает. Даже если они и называют этот день недели четвергом, это никак не четверг. Скорее всего, пятница. Пятница, суббота, воскресенье. Потом опять пятница.
А Гитлера где похоронили? В Парагвае?
Осмелюсь напомнить, Парагвай и Уругвай – разные страны.
Приходят, являются. Не приходят, не являются. Знать хотят, узнать. Что? Да разве я знаю? Догадываюсь, конечно, но объяснить не смогу. Даже себе. Все эти экстрасенсы, ведуны и ведуньи – неспроста. Ох, неспроста! Бога разглядеть не получается. Никак не получается. Бог тоже спрятался. Пауза обрушилась. Не ванна, не велосипед – пауза. В паузу как в мешок всех затолкали. Проснулись однажды – уже в мешке. Однако все равно ходят, являются. Или не приходят, не являются. Каждый со своим языком и правилами. Каждый со своей историей и погремушками. Рассаживаются над колыбелькой, как петухи на жердочке. Ягодки ягодицами своими. Говорят одновременно, молчат одновременно. Тоска по хороводу. Тоска. Прошлый век. Как в прошлом веке. В прошлом, позапрошлом, и так дальше. А страсти-то нет. Пара нет больше, вот что. Улетучился пар, цвет. Монохром. Не бурлят больше страсти. Страсти, страстишки.
Молочная капля ползет по окну – день народился. Повезет – солнышко выглянет. Можно будет дурака повалять, погреться. И то, слава Богу.
А попроси у них денег взаймы – найдут тысячи причин, чтобы отказать. Эх, вчера бы обратился. Вчера точно были. Приходите вчера.
А что? Так и живем. Вчера. А попроси хоть десятку? Низменная мыслишка. А я и не претендовал. И не претендую. Если кому-то и замуж хочется, предположим. Предположим. Признаться, достаточно просто скроены, если начистоту. Римляне. Древние римляне. Живем от Нерона до Нерона. Пожары обожаем, костры. Позевать у пожара, погреться у костра. Песню про ботик спеть. Хорошо, когда костер на озере. Озера у нас волшебные. Чайковских рождают. Да и Стравинских, если вдуматься. Стихи – сами по себе. Мы – сами по себе, стихи – сами по себе. Отделить не умеем. И не желаем. Да и не нужно. Вообще, если вдуматься, все уже давно как-то организовалось. Может быть, оттого и тоска. Некоторый диссонанс. Не смертельно. Так – фоном.
Этакая протяжная любовь.
С горчинкой.
С виду пропойца, волосы редкие, штаны прохудились, а он, глядишь с озером разговаривает. Кто таков? Не Чайковский?
Или пригрезится иному, что он большой ученый. Сам – сумасшедший. Зачем-то зонт носит. Надеется еще раз жениться? Это же такие хлопоты! Уж если для фасона – шапочка нужна академическая. Бархатная. На худой конец берет. Чернильный. А лучше всего – уехать за город и выращивать закуски. Неровные люди. А ровным людям и в голову бы не пришло тащиться в четверг, в непогоду неизвестно к кому. Они же представления не имеют, кто я на самом деле. Я сам представления не имею, кто я на самом деле. Агностика. Живем как во сне. Понедельник, вторник, среда, четверг… вот, опять четверг. Остановка в пути. Этот Бродский – щемящее нечто. Не совсем человек. Нет, человек, конечно, но за скобками. Да, косматая биография, сердце в клочья, скамейка, мокрые рубахи, клювы, поленья… всё так. Но вот человек – сам по себе, а стихи его – сами по себе. Щемящее нечто. Нежность.
Вот зачем он клетку запомнил?
Клетка. Коморка. Скворечник. Точка.
На что живу? Не скажу. Не знаю. Деньги сами откуда-то притекают. Вроде бы не занимаю. Должен, но немного. Сравнительно немного. Но отдаю. Работаю, работаю. Работа – счастье. Но не для меня. Физическая работа не для меня. Уж тут уж что-то одно. Устаю. А если еще копать придется? Я – почтальон. Не адмирал, не телеграфист, не советчик, не летчик, не астронавт, не вагоновожатый, не вождь, не мельник, не трубочист, не заводила, не лодочник, не ихтиолог, не кулинар, не краснодеревщик, не птицелов, не маляр, не пуговица, не самоцвет, не стеклышко даже, не георгин, не диффенбахия, не звездочет, не оракул, не орал, не уточка луговая. Почтальон. Почту ношу. Опять соврал. Постоянно вру, но прощаю себе. Постоянно прощаю, что бы не натворил. Другие еще не такие фортели выкидывают. Хоть Брута того же вспомнить. Или Нерона.
Не почтальон, ничего не ношу. Мог быть, можно сказать, мечтал, но не стал. Ни почтальоном, ни адмиралом. Даже телеграфистом не стал. Так что почту не ношу. Но прогулочным шагом. Кто увидит со стороны – городской сумасшедший. Надо бы берет купить. Чернильный. Попросить у кого-нибудь. У кого-нибудь наверняка сохранился. Жалею. Кого не попади. Всех. Слабоумие. Не выветривается. Жалость. Не выветривается. Велосипедов не люблю. Можно сказать, ненавижу.
И собачки мои не любят.
Вот, любопытно, на машины не лают, а на велосипеды лают.
Велосипеды – это нищета, война. Что-то такое.
Жалость, сострадание выказывать опасно. За слабость сочтут. Могут побить или плюнуть. Опасно. Нужно жить с выпяченной нижней губой. А у меня с этим как раз проблемы. Красавец. Котлет хочется. Отчего-то хочется котлет. Столовских. Ну, ну. Провинция – рай. Вы ничего не понимаете, провинция – именно что рай: козы, сарай, таз. Опять же дворики с купоросом. А кто может сосчитать мои труды? Умственные труды. Попробуй-ка, сведи все воедино, построй, структурируй, изложи. Все же излагать приходится иногда. Но они стихи любят. Отчего-то стихи им подавай. Ностальгия. Ну не стану же я им Бродского читать? Бродского Бродский читает.
А я что читаю? Ничего.
Раньше все стихи любили, а теперь только полярники.
Ледяные тюльпаны. Заиндевевшие. Белые. Ломкие. Белеет парус одинокий. Радость-то какая! Но, сдается мне, обречен. Точно – обречен. А все равно в душе волнение. Память такие фортели выбрасывает. То ли еще будет? Дневник завести? Еще не хватало. Дневник – это как голос на магнитофонной ленте. Чужой, целлулоидный.
Конечно у Веснухина две ноги, только он ходит и поступает так, как будто одна. Ходит, поступает и думает, как будто одна. И коня нет никакого. Прав Фома, нет никакого Арктура. Фома и Веснухин – ложные близнецы-братья. Как Стравинские. Веснухина нет и Фомы нет. Вот и близнецы. Сколько таких Веснухиных да Стравинских в городах да пригородах мается слепотой да ложным сходством? Города да пригороды. Гроши да пригоршни. Фома. Нет, не Фома Веснухин, нет. Уж скорее я сам – Фома. Да только скажи мне о том, в небывалое смущение погружусь, еще чего доброго исчезну как вот теперь Веснухин.
В писании, разумеется.
Ненадолго конечно.
Исчезновения ненадолго утешают. Вообще утешение, так же как и великое утешение всегда дано, всегда рядом. Надобно только обернуться, наклониться, рассмотреть, услышать. Со стыда бы не сгореть как-нибудь. Утереться и забыть.
Доживем как-нибудь.
Если совесть не убьет. Проклятая.
Небо лучше всего наблюдать на дне кузова. Дорога рябая, спина рябая, а небо чистое-чистое. Утонуть. В небе утонуть. А просто утонуть? Вот опять. Утопление, утопленники – отвратительно же! Отвратительно, Бог мой! Котлет хочется. Желаний все меньше, с каждым днем все меньше. Сами желания меньше и проще. Скукоживаются. Фантазии просто смешны. Никто бы не трогал и уже хорошо. Наказание эти четверги. На что они надеются, на что рассчитывают?
Нет, правда, на что они надеются? Суетятся, в ладушки играют.
Нам генерал нужен. Непременно нужен генерал. Простоты необыкновенной. В мыслях, поступках. Кашу хлебать с нами, солдатиками, песни петь. Генерал, бывает, построжится, конечно, но с умом. А иначе как? Опять же у костра с нами погреется, про войну расскажет, успокоит. Генерал нужен. На худой конец прокурор. Прокуроры, знаете, тоже разные бывают. Прокурор – не обязательно зверь. Зато порядок помнит. Когда требуется – брови сведет, когда нужно – надежду подарит. С хорошим прокурором можно и у костра посидеть и песню спеть. И не обязательно про тюрьму. Прокуроры от тюрем тоже устают. Войны не хотелось бы, откровенно говоря. Цезаря ждем, вот что! Не Нерона, а того, что постарше. Гая Юлия. С ним и выпить приятно, и умереть. Ибо мечта и величие. Без мечты и величия мы не можем. Без мечты и величия хандра и тревога нами овладевает. Ознобы начинаются, запои. Ибо римляне есмь. Хотя войны не хотелось бы, откровенно говоря. Нет? Цезарь, который Гай Юлий представляется мне юношей, вечным юношей с горячечным взором, большими ушами, вокруг губ юношеские прыщи. Как Фома. От обратного, понимаете? Фоме полная противоположность, а внешне – брат, близнец. Это – точная деталь. Выдает во мне наблюдательного человека. Мы всегда ждем большего. Пацан, шкет, полон величия и смысла.
Случись Гитлера изобразить, я бы и Гитлера наградил теми же деталями.
Бывает, посмотришь на фотографии – красавица первейшая, а придешь на свидание – уши, прыщи. Рассчитываешь спутницу жизни встретить, всем на зависть, придешь на свидание – а там Фома. Или Цезарь, полон величия и смысла. Хотя лично я от смысла всю жизнь бегал, как уж от сковородки. Результат неутешительный. Хвост обгорел. В порядке исключения. Разве что в порядке исключения. Заодно и похудеть. Цезарю бы конь Арктур аккурат подошел. И Цезарь Арктуру. Веснухина в цезари произвести, и все дела. Или Фому. Какая разница?
Нет, Веснухина люблю. Да и Фому.
В общем всех.
То и дело к Фоме возвращаюсь не просто так. В нем и вера великая и атеизм. Вроде бы такого сочетания быть не может, а если присмотреться – сплошь да рядом. Хорошо это или плохо? Хорошо, наверное. Признак кипения, безответной любви, жизни, словом. Вымирать не хотелось бы, откровенно говоря. По-моему рановато. Нет? Нет уж, ну их к бесу, лопоухих. Нет уж, мы как-нибудь сами по себе. Как-нибудь не заблудимся. Сами у костра посидим. А захочется пить – и снежок пожуем, ничего страшного. Только бы без войны как-нибудь обойтись.
Снег как вата. Пешеходы, странники, гости. Ходят, ходят. И ходят, и ходят. Всё по кругу. Волооких много. Среди них очень много волооких. Зажмурился – шествие остановилось. Замер Рим. С Веснухиным недавно довелось выпить. Уже не тот кураж. Сдулся Веснухин. Стареет.
Все стареем понемногу.
Однако скоро весна. Скоро, скоро. Весна, лето, осень, зима. Ну? Счастье же? Сто грамм. Сто пятьдесят, и котлеткой закусить. Повседневность. Несомненно, свежая горчичка не помешала бы. Алешке радость. А вот женщину не потянуть. Уже не потянуть. Говорить придется. Говорить – такой труд. Удобно думать, что женщина теперь – только оболочка, а не сама женщина. Вот если бы летала, как у Шагала. А что, и летала! Лично я верю.
И ослики лиловые, и прочие тюльпаны.
В прошлом или в будущем, все – одно.
Ну? Хорошо же? Замечательно. Однако скучно бывает. Еще эти жалобы бесконечные. Жалобщики, жалобы. На что они все жалуются? Слушайте, они всё время жалуется. И я? И я. Всегда так было.
Иа.
Придут, явятся, постучат, и открою. Никуда не денусь. Придется открыть. Нет, кто бы что ни говорил, мы себе не принадлежим. Свобода – такая потасканная иллюзия. Червивая уже. Опенок. Сто пятьдесят и котлетку с горчицей. На левом боку лежать люблю больше, чем на правом. Это что-нибудь значит.
Это значит, слева что-то болит.
Что – не знаю.
6. Отступление. Звуки
Игорь Федорович Стравинский – другое дело.
Игорь Федорович – трубадур Его Величества абсурда.
Справедливости ради, абсурд он связывал со своим чувством веры. Ничего удивительного. Этому человеку, если он действительно человек, одному, пожалуй, была ведома анатомия превращение змея в воздушного змея. Знал, может быть, видел.
А, может статься, и то и другое.
В этом смысле он – тень Лобачевского. Или наоборот. Суть дела не меняет.
Взгляните на его прижизненные портреты, и убедитесь. В особенности, когда он стоит вполоборота, подпирая руками поясницу. При этом улыбаться не обязательно. Не поленитесь, взгляните на его прижизненные портреты. После смерти, разумеется, другой коленкор. Но следы мотыльков, если присмотреться, обнаружить можно. Тех самых, что оберегают избранных от случайных людей. Во двор к избранному глухой или темный почтальон не забредет. Там, где все мы окажемся раньше или позже, условия, должно быть, прекрасные. Но, кто его знает, как оно будет на самом деле?
По идее, своими смычками и бархатной близорукостью Стравинский заслужил безмятежности. Своими несказанными ливнями и пиццикато. Но, кто его знает, как там оно обстоит на самом деле? Об этом только сам он может поведать.
Что же, будем ждать.
7. Диттер. Фома
Раз уж речь зашла о Фоме…
Нет, не так.
Чтобы, наконец, отвязаться от Фомы, что лезет в голову то и дело…
Не то.
Отнять у него зеркало, и дело с концом.
Нет.
Раз уж речь зашла о Фоме…
Раз уж речь зашла о Фоме, неплохо было бы узнать, откуда он вообще взялся, этот Фома. Кто его вспомнил, когда, в связи с чем, по какому поводу, как, почему и зачем?
Уже пытался обосновать, но, кажется, невнятно.
Первым в обозримом прошлом Фому упомянул уже знакомый нам профессор Диттер, зонт Диттер, вечный оппонент Стравинского С. Р., зануда и умница. В очередной раз нацелившись на дискуссию, он прямо так и объявил, – Сдается мне, высокоуважаемый Сергей Романович, что никакой ты не агностик, а самый, что ни на есть Фома, и больше ничего. Сказал с чувством, практически взорвался, точно испытал шок или апоплексический удар.
Ввиду того, что заявлению профессора предшествовала исполненная мыслей и ловушек липкая тишина, взрывная волна заставила и всех четвержан испытать нечто подобное. Тысячи молоточков забарабанили по их головам, тысячи иголок прошлись по их спинам. Хотя тирада Диттера, в сущности, не содержала ничего нового (неугомонный спорщик неустанно уличал Сергея Романовича во лжи и самозванстве) на сей раз ужас и озноб на мгновение поразил всех присутствующих.
Всех, за исключением самого Стравинского. Сергей Романович оставил без внимания примечание Диттера до такой степени, что в пору было задуматься, уж не оглох ли хозяин часом?.. До такой степени, что в пору было задуматься, уж не уснул ли хозяин с открытыми глазами часом? что случалось и прежде, и не редко, и во время жарких дискуссий в том числе.
Невозмутимость агностика сродни чугунной заслонке, а также вечной мерзлоте, несомненно, достойна песен и легенд.
Нужно знать профессора. Другой бы на его месте продолжать не стал. Какой смысл? Другой непременно махнул бы рукой, нашел более сговорчивого собеседника, быть может, даже покинул бы собрание. Другой, да только не зонт. После воцарившейся прогорклой паузы вопрос прозвучал во второй раз, теперь уже с металлическим привкусом приговора. Вновь тишина. И вот, когда надежды не осталось, и Диттер начал было подумывать о том, а не напиться ли ему сегодня в асфальт, как будто сотканный из тусклых нитей многозначительного молчания материализовался чуть слышно глас хозяина, – И что тебе Фома?
Голос был действительно слаб и глух, точно из-под одеяла. Неужели действительно спал?
Сергей Романович, уловив всеобщую растерянность, прокашлялся и повторил еще раз, теперь громче, – И что тебе Фома?
И добавил, – Фома-то чем тебе насолил? скажи, скажи, любопытно все же, так уж скажи, скажи уж, друг, будь другом все же, скажи, раз уж объявил, любопытствую, позволь полюбопытствовать, Фома-то чем тебе насолил?
Профессор, не ожидавший такой пирамиды, такой вот пирамиды, такого восхождения, такого разворота событий, и вообще каких-либо событий, возьми, да и ляпни… сдается, ляпнул первое, что в голову пришло, – Разграбление значений.
Вот как!
Что же Стравинский? Сергей Романович, нисколько не смутившись, парировал, – Требует пояснений.
Ну, теперь держись! Ах, как люблю я дуэли этих достойнейших мужей, где интеллект уступает интуиции, а смысл теряется в догадках!
Итак, Стравинский пошел в наступление, сомнений нет, – Требует пояснений.
– Согласен.
И здесь же, после незначительной паузы наотмашь, звонко, сочно, опытный боец, – Да только со свиста не пою, не умею!.. И не желаю!
Бац!
Так. Что Стравинский? А Стравинский… Ну, Стравинский – Талейран, Спиноза, Макиавелли, братец Лис, – Мое почтение, профессор.
Прямо скажем, неожиданно.
Но Диттер уже на коне. Крепок в седле своем, зонт, пятерня и циферблат, – Разграбление значений. И смыслов. Занимаешься грабежом смыслов, вот чем ты занимаешься. Хочешь знать, чем ты занят? теперь и всегда? Изволь. Разграблением значений. И смыслов. Под личиной отсутствия. Безликий фат, безмолвный резонер. Ноль и зев. Как результат – сами стихи, если уж тебе так хочется стихов. Стихи тонут, лишенные опоры… Нет? Так укажи нам ту опору, нам, стихам укажи! если ты на самом деле так хорош, как кажешься, если в действительности так хорош, как хотелось бы тебе, да, чего уж там? всем нам хотелось бы. Не скрою, скрывать не стану, не станем. Чего уж, когда любовь? Любовь, как и глупость, скрыть невозможно. Укажи, окажи любезность… Укажешь – взойдем на твой корабль. Оно и так, конечно, взойдем, уже на корабле, но как-то дураками слыть не хотелось бы, положа руку на сердце… Только щеки не надувай, это тебе – не паруса. Напоминаю, если подзабыл, пучина бездыханна, воздуха не приемлет.
Сильно.
Стравинский как будто утомлен, кажется, заскучал, кажется, еще немного и зевнет, только бы не уснул. Прием такой. Опытный оппонент. Говорю же, Цицерон и Демосфен, когда не спит, только бы не уснул. Тишайшие, шуршащие, змеиные нотки, отвечает, – Велеречив. Велеречив ты, Диттер, не замечал? Велеречив. Именно так. Дурной знак. Дедушкин табак. Гриб. Как есть гриб. Дедушкин табак. Пнешь – облако дыма. Пыль. Мук’а. М’ука. Нет, вижу, не готов ты к беседе, брат Диттер. Вижу, не готов, нет, нет, и не возражай. Вижу. Сплю, но вижу. Не сплю, не думай. Зачем всё это? всякое такое, все эти построения, редуты, вся эта конница, вся эта рать? пыль, хлопоты? Или давно не слышал моего кашля? Скучно стало? признайся. Не знаешь, как побороть притяжение? как со сплином справиться, недержанием, мелочевка карман тянет? Скучно тебе?.. Хочешь рецепта? Изволь. Не скучай, и дело с концом. Ты же не болид, в конце концов?
– А хоть и болид!
– Не скучай, и дело с концом.
– А хоть и болид!
– Займи себя чем-нибудь. В самом деле, займись грибами, разводи, лелей. Все – жизнь. А на сопротивлении истину не сомкнуть. И не удержать. И сталь не выдержит, лопнет.
– Сталь выдержит… А ты – грабитель. Не думай, что грабеж приличнее воровства. Маскулинность в данном случае не играет. Не волнуйся, память расставит фигуры – и коней, и агнцев… Скажи, Стравинский, только честно, у тебя не возникает потребности признаться?.. А хорошо бы, надо бы. Не обязательно прилюдно, с учетом физиологических особенностей. В твоем случае можно и в спаленке. У комода. Комод как барьер. Нет?.. Имей в виду, разговор серьезный. Это – не то, что поссорились на почве или на танцах. Тут не дуэлью, Полынью пахнет, звездой… Грабишь, грабишь, и знаешь, что грабишь… хотя боишься в том признаться. Возможно, что и себе самому… Ведешь себя в точности как Фома… Что за Фома? Какой Фома?.. Уж не тот ли Фома? Откуда Фома?.. Да вот из того самого мешка, где кот собаку съел. Впотьмах. И не одну, за столько-то лет. Вот какой Фома, и вот откуда Фома… Сколько лет мы с тобой знакомы? А ты всё обезьянкой со своим зеркальцем кольца наверчиваешь. Не видишь пародии, сходства, хохмы, так сказать? общего знаменателя?.. Не видишь или не желаешь видеть? Просто хочется понять, как говорится, степень твоей подмоченности.
– Кем говорится?
– Не перебивай, заклинаю и упреждаю.
– Очень нужно мне тебя перебивать. Мне бы только восстановить последовательность. Не из праздного любопытства, дабы проникнуться и участвовать. Ты сам должен быть заинтересован, если, конечно, хочешь развития.
– Что хочешь ты восстановить?
– Говорю же, последовательность… Значит так, был Фома, так?.. затем кот, собаки, и те и другие в мешке, так? дальше – обезьянка с зеркальцем. Ничего не путаю?
– Всё так.
– Теряюсь немного. Надо бы как-то их связать.
– Все намертво связаны. Знаменателем. Я объявил, но ты невнимательно слушал. Не желал услышать.
– Знаменатель – это для нас с обезьянкой.
– Не только.
– Пусть, не возражаю. А что делать с самим мешком? Сдается мне, сам мешок играет немаловажную роль. С одной стороны как среда обитания, микрокосм, а, с другой стороны, как способ и, если угодно, идея. Уж если говорить о предмете нравственности или безнравственности, если всерьез готовиться к выводам, анализировать тех или иных участников, равно как и события, намеренные и непреднамеренные вне контекста, то есть мешка, невозможно.
– Хочешь все усложнить? Запутать? Не позволю. На самом деле всё очень просто. Я бы даже сказал тривиально просто. В мешке кот и собака. Выживают, насыщаются и гибнут одновременно. Своего рода Рим.
– Поздний Рим.
– Хорошо, поздний Рим. Но Рим. Разве имеет значение, где? на Апеннинском полуострове, в сумерках или в мешке?
– Стало быть, обезьянку с зеркальцем ты оставил за скобками? Они-то чем тебе не угодили?.. Что молчишь? Как быть с обезьянкой и ее зеркальцем?
– Да вы все – родня. Все на одну мордочку, всем зеркальца розданы. Однажды и навсегда. См’отритесь, не можете глаз отвести… Ты не думай, я – не в осуждение. Смотрись себе, на здоровье. Только зачем, в таком случае, создавать видимость? Собирать собрание? Тут уж что-то одно – либо ты нам явлен, либо себе любимому. Или, как говорится, надень штаны, или сними капюшон…
– Ага, капюшон! Не обошелся-таки без мешка! Выходит, мешок не случаен? Зачем пытаешься его спрятать? И кого, и что еще пытаешься в нем спрятать? Сдается мне, не всех ты перечислил. Кого еще не перечислил ты?
– Мы все перед тобой.
– Мое почтение.
– Ты меня прости, Сергей Романович, но иногда складывается впечатление, что мы здесь лишние.
– Мое почтение.
– Ты же нам не доверяешь, тяготишься в точности как Фома.
– Ага! возвращаемся к Фоме?
– Возвращаемся.
– А вы, собственно, кто будете, и много ли вас? добрый вечер.
– Знакомый мотив… Наигрываешь агностика? В несознанку пошел, называя вещи своими именами? Всё тот один мотив несокрушимый. Централ? Пустеющий вокзал? Хочется спросить, не узковат коридорчик? Не темен ли?.. Что же, право твое… Жестоко, конечно, но, что сказать, ты прав. Можно, конечно, прогнать оленя, истосковавшегося по соли. Почему бы не прогнать? Он невнятен, рогат и дик. Может быть, и нужно гнать их в леса их и тундры их… Прав, прав. В конце концов, мы сами к тебе приходим. Кстати, зачем, не знаешь? Слушать биение собственных сердец? Сокрушенно качать головами в такт твоей заунывной песне? Цокать языками?.. А, может быть, погреться с мороза? А ну, налей-ка, Роза, я с мороза… Оперетка? Попить чайку? Вином баловаться? Так на то масленица, да гусары. Тебе-то зачем, когда у тебя вечный пост?.. Слушать мертворожденные стихи? А, может быть, знакомиться? Так мы уже давно все перезнакомились. Толку, как видишь, мало… Я всё понимаю, ты устаешь от мыслей, но здесь как говорится, прохожих, попутчиков и случайных людей не бывает. Все в раздумьях, все постичь желают… Между тем, напряжение растет… Не хотел говорить, ибо зол на тебя, но, будучи честным человеком, исследователем… прежде всего честным исследователем… не могу удержаться. Готовь футляр. Новость. На самом деле никакая не новость, но для тебя, возможно новость. Скверная новость, чудовищная… Готов?.. Небо, Сергей Романович, стремительно опускается на землю… Так что времени у нас в обрез. Всякий четверг может оказаться последним. А ничего, в сущности не решено… Вопросы не заданы, ответов, разумеется нет, и быть не может… Что, не удивлен?.. А, может быть, это и есть твоя цель?.. Ты вообще в курсе, что происходит?.. Какое тысячелетие, устами классика, какие факты и артефакты?.. Молчишь? Тебе милее отсутствие как таковое?.. Молчишь?.. А, собственно, по какому поводу молчишь?.. Какая независимость, какой независимый вид! Даже завидно. При таком-то хрупком сиянии… Демонстрируешь цельность? Или целостность?.. В наше время?.. А, может быть, ты действительно тот, кто поведет нас? Бытует такое мнение. Мне лично эта затея кажется смешной, до колик, до самоизвержения, но мнение бытует… Что же, выходит, на то есть основания. Приходится вникать… Ты меня прости, Сергей Романович, но иногда складывается впечатление, что тебе ведомо нечто такое, о чем ни мы, ни ты сам не догадываемся… И у меня, не скрою, складывается такое впечатление. Как видишь, и я не лишен сомнений, хотя борюсь с этим неустанно. Почему, собственно, и пришел… И пришел, и говорю… Поверь, молчать мне было бы намного удобнее. Намного… И приятнее, если угодно. Но, видишь ли, не могу молчать, так воспитан. Во многом самим собой… Слишком много ложных мыслей и поступков вокруг. Ложный человек Фома, если он вообще человек, другие ложные люди, ложные люди, животные, птицы, мир наизнанку… зеркальце кривое… Кривое? Кривое. Надеюсь, кривизна зеркальца не вызывает у тебя сомнений?.. Молви хоть слов! или уж умолкни навсегда!
– Ты страстный, Диттер!
– Я страдаю.
– Сомневаюсь. Врешь. Все врешь… Позволь напомнить, у всякого зеркальца три стороны: Фома, его отражение и его тень… Кстати, раз уж ты пригласил Фому… Кстати, где он? хоть бы краешком глаза взглянуть…
– Ты – Фома, Стравинский, ты.
– Фомы не будет?
– Не юли. Не нужно прикидываться дурачком. Ты и есть Фома.
– Кто?
– Фома.
– Не Веснухин?
– Что?
– Нет, ничего, это я про себя.
– Ты – Фома, Стравинский, ты.
– Не думаю… Достоин ли?
– О достоинстве ты говоришь? Или мне послышалось?
– Нет, не он, все же не он, не думаю, что он… И звать меня иначе, и внешне не похож… Нет не Фома… Немного сомневаюсь, конечно, но нет, не он… Я – хороший, не спорю, но он лучше. Если вообще не лучший. Пойми, Диттер, он больше всех чуда хотел. Он его, чуда, потому и боялся, потому и проверить хотел, перста вложить – боялся. Знал, если чудо подтвердится, он тут же умрет. От разрыва сердца, от счастья умрет. Не перенесет восторга. Зрячим-то он один был, потому трепетал, а товарищи его слепы, потому шагали уверенно. С котомками и думами. Нет, без дум, только с котомками… Не бездумно, но без дум… Понимаешь, нелегко любить безнадежно, тайно, но заполучить взаимность – это уж совсем непосильная ноша. Этот урок мы с Фомой на «отлично» выучили. В этом, да, мы с ним похожи. Хотя имена разные. Можно, можно перепутать. Так что ты меня опять не удивил. Я ведь тоже чуда боюсь. Чуда, красоты. Зеркальцем от радости отгораживаюсь.
– Зеркальце – метафора.
– А у меня и настоящее зеркальце есть. А вот хвоста нет. Жаль. Не вырос пока. Но мне бы хотелось иметь хвост. Только это должен быть мой собственный хвост, а не тот, что ты мне придумаешь. А знаешь, почему? У тебя мысли сухие. Как твой зонт, как сам ты… Если честно, от зеркальца устаю. Никак не могу представить, что физиономия моя может кем-то восприниматься как чужое нечто, чуждое. Вот ты об этом не думал, а я все время думаю. Это тяжело. Чужой, чужое. Физиономия, сам я. Кому-то может показаться, например, что от меня несет псиной. Почему нет?.. Или, наоборот, благовоние. А я, скажем, в этот момент страдаю, спина у меня болит. Котомка тяжелая и думы тяжелые, уж никак не до улыбок или рукопожатий. А то вдруг обниматься начнут, нацеловывать. От избытка чувств или по случаю… Так что, как видишь, в мешке спокойнее.
– Это, пока он не клюнул.
– Кто?
– Петух, кто же еще?
Стравинский торжествует, – Вот кого ты прятал! Вот и открылся… Сколько раз говорил тебе, не спорь, сердце попусту не торопи – не ровен час загонишь младенца. Он-то в чем виноват?
Всё. Диалог завершен. Дальше тишина.
Как у Шекспира.
Что скажете? Разве не чудо?
А Фому узнали? раз уж речь о Фоме зашла.
8. Октябрь, ноябрь. Исакий
нанизывая ветхие волынка локоны поклоны
сентябрь октябрь ноябрь сентябрь
нанизывая пластырь перечный пожары псы
сарайка сор сарай нанизывая ночь сарай корабль
скрипеть и плакать дурачки но солнце
поклоны дурачки скрипеть и плакать
но только не аккордеон и не гербарий умоляю
но не любовь любовь но без любви особой
попозже или ветер или никогда или оконца
горчица ожидание желток горчица что угодно
желток но только не аккордеон
но только не гербарий умоляю
октябрь ноябрь сентябрь октябрь
ноябрь сентябрь неспешно локоны поклоны
так гамма день за днем и день за днем
нет тишина как будто навсегда как будто
не ночь но псы молчат немые псы
и медный жук уснул
уж медный жук уснул без солнца
уж не храпит жук не храпит без солнца солнце
уж медный таз где было вишня раки и мизинец
пропал сожжен в июле далеко без солнца
давно в июле в жизни той где грело солнце
где солнце грело все сожгло дотла и радость
так называемый народ и раки и мизинец
теперь сентябрь октябрь ноябрь
теперь роток под корочкой слюда теперь родимец
поземка уж струился к солнцу и замерз
струился полоз запятая середина жизни
о сколько запятых и дён в той ленте пестрой
напоминаю не аккордеон и умоляю
хотел согреться но не смог
теперь согреться очень сложно
точнее не успеть такая осень
пусть не всегда но так случается поверьте
и не такие чудеса поверьте
все хоть волынка хоть собаки все молчат
молчат такое впечатленье
и локоны пожалуй и волынка
стон не был или был безвестие известка
безвестие известка сердцевина зябко
перчатка без руки струился без руки перчатка
по осени прозрачная где все прозрачно
рука перчатка яблоко прозрачно
надкушенное яблоко ноябрь поминки
поминки лепестки бесчисленные лепестки стрекоз
известка бесконечные поминки
посередине по краям посередине
старуха тлеют окна созерцанье
старухи в окнах лепестки стрекоз
старухи на просвет беспамятство и созерцанье
сокровище благих и созерцанье
сквозной со свистом на просвет сентябрь
или без свиста псы немые немота
сентябрь октябрь ноябрь сентябрь
ветшают песни на ветру старухи знают
и птицы знают немота не помнят знают
окно где гаражи и лужи в нотах и в дымах волынка
и капли будущей зимы на окнах со слепыми
подслеповатыми спросонья
подслеповатыми по жизни в ожиданье чая
подслеповатыми без дён и красоты
без дён без красоты волынка но молитва
безмолвная ютится в лампе красота
молитвою и локонами красота
холодная волынка радость и болезнь
минутах в десяти ходьбы Исакий
как будто Петербург как будто в керосине
как в синьке в синем как во сне Исакий
как с Петербургом жить неизлечимая болезнь
весь ужас красоты и мед сочится
сочится все равно не помним знаем
мы ничего не знаем вот беда
глотая горечь тополей прощание неволя
катиться бешеным клубком невольно
по воле провидения катиться нежность
но нежность вот ведь все равно невольно
Граф Найда Козлик Серый их кормилица и нежность
псы Козлик Серый их кормилица и нежность
сентябрь октябрь ноябрь в дымах и нотах
что сумасшедший вихрем в комнате пустой
катится шерстяным клубком невольно
катится шерстяным клубком невольно
катится сам сидит недвижим
на табурете у окна недвижим
на подоконнике сидит недвижим
стоит облокотившись надо бы побриться
согреться чай простуда полотенце
стремительно летит струится
стремглав в январь или февраль чем плохи
молитвы календарные хоть плач хоть слабость
а полотенце вафельное и окно немыто
давно беда но мы не замечаем
не бритва ж резать вены и цветы
в конце концов а лунный взор старухи
корабль в конце концов октябрь
кораблик не корабль пусть пряник
медовый корка хлебная а бритву
оставим февралю окно где гаражи
оставим чтобы потерять в сугробе
там в феврале на станции в сугробе
в сугробах псы не замерзают
ни Граф ни Козлик ни медведица большая
не мерзнут хоть зима что хорошо
не мерзнут хоть трещит мороз
мороз трещит а псы не замерзают
псы и медведица и тот родимец
и прочие по окнам созерцанье
подслеповатые по окнам созерцанье
так называемый народ застыл по окнам
нанизывая улей и волынка
застыл хотя улыбка допустима
пусть улыбается хотя прохладно
хотя прохладно и молчит Исакий
сентябрь октябрь ноябрь сентябрь
дожить до февраля а там уж плакать
сибирский город Петербург
9. Побег. Агностик
К лучшему, – сообщает по пробуждении Стравинский С. Р. пожирающему прямо в кастрюле колючий плов Алешеньке. – Надоели хуже редьки.
Алешенька будто и не слышит Стравинского. Будто не слышит или на самом деле не слышит. Не может оторваться от плова или обижен.
Или от плова оторваться не может.
Стравинский не оставляет надежд разговорить гуманоида, – Долго я спал?.. Я спал?.. Долго спал?.. Непостижимо… Остановись. Плов холодный, будет болеть желудок. Обижайся, сколько хочешь, кунсткамера закрывается. Четвергов больше не будет. В добрый путь… Разогрей плов, тебе говорю… Обленился ты, брат Алеша, еще хуже меня сделался… Пойду, пройдусь, что-то муторно мне. Слышишь меня?.. Пойду, куплю котлет, к котлетам что-нибудь. Хочешь чего-нибудь?.. Что хочешь?.. Котлет хочешь?.. К котлетам что купить?.. Хочешь чего-нибудь, спрашиваю? В конце концов, я не обязан возиться с тобой. Кто я тебе, мама? Кто я тебе, папа? Кто я тебе?.. И кто ты мне?.. В добрый путь… Они ушли, как думаешь? Четвержане ушли?.. Вообще кто-нибудь приходил?.. С улицы гарью тянет, значит, приходили. И горсточка ванили… Не смешно и мимо смысла. А рифма хорошая. Нет?.. Нет. Плохая рифма… Сержусь. Это я уже сержусь… Эй, ты почему молчишь? Ты живой?..
Сергей Романович подходит к кастрюле, заглядывает в нее. Ни плова, ни Алешеньки. С грустью констатирует, – Что и требовалось доказать.
Стравинский нахлобучивает куцее свое пальто, натягивает лысую свою шапку, на мгновение замирает в дверях, – Закономерно и к лучшему. Лучше не бывает. Теперь что-нибудь перекусить. Пища – вот привязанность, а порою страсть. То-то они всё о хлебе. И только свинья сокрытым благородством своим…
Не успевает закончить фразы – в дверях сталкивается с запыхавшейся Юленькой Крыжевич. Про себя Сергей Романович называет ее Евгенией Гранде в память о Евгении Гранде. Ну, да вы помните, я уже приводил это сравнение. И очень рад, что не ошибся в своем наблюдении.
Щеки Евгении пылают, – Как всегда опоздала, Сергей Романович.
– Что так?
– Ждала до последнего, Сергей Романович.
– Не сомневаюсь.
– Бежала от отца, Сергей Романович.
– Зачем?
– Сама не знаю. Ноги сами понесли, Сергей Романович.
– Жаль отца.
– Почему?
– Дочь потерял.
– Какую дочь?
– Тебя.
– Ах, да, конечно. Но я найдусь, и он утешится.
– В добрый путь.
– Спасибо.
– А ты запыхалась.
– Спешила, Сергей Романович.
– Куда?
– К вам, Сергей Романович.
– Зачем?
– Сама не знаю. Ноги сами понесли, Сергей Романович… От отца я убежала.
– Зачем?
– Хотелось бы пофотографировать, Сергей Романович, немного, Сергей Романович.
– Кого?
– Вас, Сергей Романович.
– Зачем?
– Вдохновение.
– Что?
– Как будто вдохновение посетило, Сергей Романович. Мы с отцом долго ждали.
– Меня?
– И вас и вдохновение.
– Зачем?
– Я не знаю. Отец знает. Но я от него убежала. Я прежде к личинкам склонность имела, о раковинах подумывала, а теперь вот ваш образ вдохновил. Вот, сбежала от отца. Как маленькая.
– Зачем?
– Не знаю. Захотелось пофотографировать. Вдруг.
– В добрый путь.
– Спасибо.
– Потеряет тебя теперь.
– Захотелось пофотографировать. Вдруг. Такого со мной давно не было. И вас долго не было. Но я знала, что вы вернетесь. Отец повел меня домой. А я знала, что вы обязательно вернетесь. И мне вдруг очень захотелось пофотографировать. А отец все время учит меня тому, да сему. Сама не знаю как, но я убежала. Ноги сами понесли. К вам. Сергей Романович. Хотелось. Очень. Это вдохновение, Сергей Романович? А вы в шахматы играете, Сергей Романович? Шахматы любите? Я всех чемпионов мира знаю наизусть. И героев античных. Это так, к слову. Сама не знаю, зачем сказала.
Стравинский некоторое время молчит, смотрит сквозь Юленьку-Евгению, пытается осознать происходящее, понимает, что сие выше его сил, – Пофотографируй, раз хотелось. А я пойду. Что-то муторно мне… Куплю котлет на всякий случай. К котлетам что-нибудь… Только бы положили в бумажный пакет. Терпеть не могу целлофановых пакетов. В целлофановых пакетах у котлет телесный вид. Пальчики, да ладошки. А тебе, как фотографу, небось, того и надо? Ну-ну, не тушуйся. Шучу. На самом деле мне нравятся капельки на фотографиях. Когда портреты испариной покрыты. Как бы испариной. Фактура!.. Впрочем, я ничего в этом не понимаю. Боюсь – ты тоже. Прости. Шучу. Ну-ну, не тушуйся. Что-то шутки сегодня не слушаются… Чувствуй себя как дома. Можешь прибраться или помыться. Чуть не ляпнул «побриться», вот бы хохма получилась… Вовсе и не хохма. Позор и всё. Приехали, как говорится. Что-то слова сегодня не слушаются… Похмелье – такая штука… Еще Тамерлан с утра запутал. Путаник этот Тамерлан… Захочется выпить – ступай к нему в катакомбу. Здесь рукой подать… Просто представься и всё. Фотограф, скажи… От Стравинского, скажи… Да я сам там буду скорее всего… Пойду, зайду. Надо, надо, чувствую… Соскучился. Только что расстались, а я уже скучился… Предчувствую коньяк… Предчувствие коньяка. Неплохое название. Для чего?.. Не знаю. Просто название. Дарю… А хочешь, оставайся. Приберись или помойся… Слоников посчитай, Валя Койкин приволок… Любишь слоников? Небось об Индии мечтаешь? Ты в Индию-то не спеши. К Индии готовиться нужно. Любишь готовиться?
– Очень, Сергей Романович.
– Вот и хорошо. Располагайся. Будь как дома. В добрый путь. Да это и есть теперь твой дом. Надо же, и не заметил, когда переехала. Шучу. Фотограф в семье – первое дело. Семьей жить будем, счастливой семьей. Шучу… А вообще, семья – счастье… Согласна? Не согласна?.. Оставайся, живи. Если ты не против, конечно. Хотя бы на то время, пока меня не будет… Поживи по-семейному. Хотя бы пока меня не будет. У меня слоники, другая всячина… Я же знаю, что ты о семье мечтаешь. Поживи, пофотографируй всласть… Вернусь – пообедаем… Ты свободна, я свободен. Два свободных человека. Редкость… Счастье обретем.
– Ах, Сергей Романович!..
– Шучу… Все время шучу. Безо всякого желания и удовольствия. Я – сам по себе, шутки сами по себе… А ты располагайся. Это уже кроме шуток. Можешь прямо на полу. Я, например, сегодня на полу спал. Алешенька пропал куда-то, так что прятать мне от тебя некого… А ты чего пришла-то?
– Вас хотела пофотографировать.
– У меня еще слоники есть. Антиквариат. Роскошь. Валя Койкин притащил. Где нашел, ума не приложу. Он всякое такое любит. И меня пытается приучить. Якоря, говорит. Какие якоря? Не знаешь?
– Я, если честно, античных героев предпочитаю. Я, Сергей Романович, вас хотела пофотографировать.
– В добрый путь… А ты видела слоников-то?
– Вас, Сергей Романович, вас именно. Пофотографировать. Пару снимков, не больше.
– Да хоть десять. В добрый путь. Я тебя люблю. Ты красивая женщина – большой рот у тебя, и вообще.
– Это после пластики.
– С Юльки Крыжевич пример не бери. Она над собой всякое такое творит, слышал, уши поменяла, а счастья, видишь, все меньше. Прорва нарастает. В мою сторону уже не смотрит. По-моему, вообще уже не смотрит. Так что ты с нее пример не бери.
– Так я и есть та самая Юлия.
– Нет, ты – Евгения. Гранде.
– Ужасные вещи вы говорите… Простите, мне что-то не по себе.
– А ты меня не слушай. Это тебе только кажется, что это я с тобой разговариваю. На самом деле ты сама с собой разговариваешь.
– Не буду.
– Я люблю, когда большой рот. Зубы на солнечной стороне. Всегда. Редкость. Потом, ты уважительная, мне показалось. Всегда по имени-отчеству обращаешься. Я замечаю. Всегда по имени-отчеству.
– Это, что бы вас, в свою очередь, не перепутать.
– С кем?
– С композитором.
– С которым из них?
– Со Стравинским.
– А, ну, да, конечно. Логично. Вообще тот Стравинский умер давно. А ты за словом в карман не полезешь. Тотчас ответила. Люблю. Ценю. Оставайся Евгенией. Тебе идет.
– А вы, правда, полюбили меня, Сергей Романович?
– Я всех люблю. И тебя люблю. И жалею всех. Отца твоего жалею. И не потому, что ты убежала, а вообще. Вот композитор Стравинский, тезка мой, умер – я и его жалею. А был бы и жив – все равно пожалел бы. Тезки – это знаешь, это неспроста, тезки эти. Что-то же хотел сообщить нам этим? Кто-кто? Никто, не важно. Ты думай все же, пытайся думать, хотя бы иногда. Отец – это хорошо, даже здорово, но самой пораскинуть мозгами тоже не мешает иногда. Вот Стравинскому, я имею в виду композитора, ему можно было и не думать. У него функция другая. Он вообще не человек, только с виду человек, а по сути… волна. Не волна, но что-то такое, зыбкое. Ветер, что ли. Ветер, скорее всего. Ветер тоже разный бывает. Бывает, ни цвета, ни запаха, даже движения воздуха нет, а все равно ветер. Такой вот композитор. Умер. Во всяком случае, так порешили. Ну, как решили, так и решили. Я им не судья. Я вообще – не судья. Бог им судья… Иногда думаю, а как бы я поступил на его месте?
– В каком смысле?
– Во всех смыслах. Мы с ним похожи, очень похожи, я видел портреты. Портреты, фотографии. Интересовался. Зачем? Ума не приложу.
– Не о композиторе я хотела говорить и не его запечатлеть. Он запечатлен навсегда. Самим собой запечатлен, собственным образом запечатан.
– Скажи, то, что у тебя со ртом…
– А что у меня со ртом?
– Эта пластика? Это как-то связано со страстью к фотографированию?
– Нет.
– Хорошо. Очень хорошо. Не впадай в зависимость. Никогда.
– А как же агностика? Я к агностике всей душой прикипела. К агностике и к вам, Сергей Романович.
– Агностика – другое дело. Агностика бесстрастна, ибо непостижима. Примет и канонов не имеет. Как будто не существует. Мы уверены, что она есть, даже чувствуем ее, но узнать, распознать не можем. Легкость, озон, понимаешь. Агностики – самые свободные люди на земле. Потому что мы как будто присутствуем, ходим, разговариваем, какие-то работы работаем, а с другой стороны, нас нет. При встрече не узнаем друг друга. Делаем вид, что узнаем, а на самом деле полный туман. Не туман – озон. Понимаешь?.. А к слоникам присмотрись. Хороши слоники. Теперь таких нет. И раньше не было, а теперь – и подавно.
– Я вас, Сергей Романович, фотографировать хотела, вас, и больше никого… А вы уходите. Я близка к отчаянию, если честно, и если вам интересно.
– То, что ухожу, это ты верно подметила. Уходящая натура. Так, кажется, фотографы говорят?.. Да, ухожу. Да, грустно. Что скрывать? Но, поверь, милая Евгения, это не имеет никакого значения. Просто поверь. И потом, ты же планируешь рано или поздно стать агностиком? Как я, как все мы? Хотелось бы тебе, кроме фотографирования, сделаться еще и агностиком, как я, как все мы? Прошу, будь откровенна.
– Хотелось бы.
– Тебе и карты в руки. Кстати и карты там, на полочке, подле слоников. Знаешь, что на картах императорская семья изображена? В маскарадных костюмах. Позировали незадолго до революции. Вот и революция. Любопытнейшие вещи происходят вне нашего сознания и понимания. Казалось бы, руку протяни – сколько ответов на самые витиеватые вопросы мироздания. Да только руку-то протянуть – не фокус. А ты попробуй удержаться, не заметить, пройти мимо. Это – волю иметь надобно. Терпение. Терпению всю жизнь учимся. Вот у меня друг Тамерлан, дворник. Всю жизнь терпению учится. А я у него учусь. Чего это ему стоит делать вид, что он дворник!.. А я? Ты думаешь, я – это то, что ты видишь и слышишь? Если бы так! Мы совсем не те, что есть. Мы – другое… Думаешь, к пьянству привязан? Рад бы привязаться. Подумай. О себе, обо всех нас хорошенько подумай. Вот сейчас самое время. Здесь отвлекать тебя никто не будет. Надеюсь. Очень на это рассчитываю. Прости, опаздываю. Котлеты разберут… В добрый путь.
10. Тамерлан. Терпение
Котлеты разберут раздается уже с лестницы. Дальше – мысли вслух.
Мысли вслух – конек Стравинского С. Р. Вообще у Стравинского всё – мысли вслух, и всё – конёк. Даже когда Сергей Романович будто бы участвует в диалоге, на самом деле разговаривает сам с собой, что вообще характерно для агностиков и психиатров, если в качестве прототипа психиатра использовать Ивана Ильича.
А кого же еще использовать, коль скоро роман о Стравинском?
Счастливая мысль, – бубнит Сергей Романович. – Счастливая мысль пойти за котлетами, но не ходить за котлетами, ибо… что? Ибо Тамерлан. Что Тамерлан? Где Тамерлан? Ушел наверняка. Куда? За котлетами. Как пить дать ушел за котлетами. Куда еще идти Тамерлану? Если Тамерлан ушел за котлетами, зачем мне идти за котлетами? Вот смеху будет, если я отправлюсь за котлетами, и Тамерлан отправится за котлетами. А к котлетам что? Уж он знает. Лучше меня знает. Заметный кулинар. Кулинар – Тамерлан. Знатная рифма. Что подтверждает мою извечную правоту. Что получается? Ушел от Тамерлана – пришел к Тамерлану. Что получается? Опять кольцо получается. Вот как с Нероном. Но этому зонту Диттеру невозможно же ничего доказать! Расскажи, как оно есть, разверни цепь событий от Тамерлана до Тамерлана – всё одно, не поверит. Выдумал, скажет, придумал, наверняка куда-нибудь, да заходил. Законченный негодяй и зонт! А Тамерлан – кулинар. Всем кулинарам кулинар! В добрый путь… Уж он-то, Тамерлан-то всё знает – какие котлеты, что к котлетам, и есть ли вообще в них смысл и содержание, в этих котлетах. Тридцать семь, двадцать четыре… допустим… всего пятьдесят три ступеньки… еще бы… два, один…
Всё. Двери враз, вдрызг, вразлет, вразнос, вдребезги!
Вот пошел, идет, пошел, по снегу пошел, шаги круглые. Сопит, шагает, сопит, шагает. Вой, свой, сипеть, сиплая, вой, мел, вой, волки, мел, меловое, морок, морока, колется, колется, лютует, тушит, тает, тушит, из-за, из, известь, свист, присвист, в сон, в сопло, в топку, в сон, вот, вот, в топку, в соль, самое соль, в соль, слеп, слепая, слепень, белые, слепни белые, мать, матушка, коса, соль, дышать, дышать, мачеха, хохотунья, дышать, не дышать, ха, хочет, хохочет, сипеть, сиплая, си, огонь, слепая, слепая, вьюга слепая, вьюга, вьюга, вьюга. Вьюга, одним словом. Си, старухи, шали, пеленать, шали, жаркие, жар, си, сидят, сиднем сидят, сиднем, семечки, коконы, семечки, шаль, белые, белые, известь, весть, дырочки, три, три дырочки, ротики, рот, роток, ба, бабы, снежные, снежные бабы, пух, шаль, пух, вьюга, вьюга, чем, почём, нипочем, нипочем, нипочем. Старухи, мать, мать, мать…
Старухи, – Знаем, кто у тебя, кто у тебя, – говорят. – Знаем, кто у тебя, кто у тебя живет, – говорят. – Знаем, знаем, знаем, кто у тебя живет, кто у тебя живет, – говорят.
Дразнятся.
Злые бабы, недобрые. Не скрыться, от них не скрыться. Нипочем не скрыться. Видели, знать, увидели, углядели, видели Алешеньку, видели, не видели, узнали, знали, знают, все знают, бабы, злые, сиплые, бабы, бобы, дома бобы, бобы у них, дома бобы, а тут Алешенька. Беда.
Седые, си, стужа, бежать, бежать.
– Нет никого, нет у меня никого, нет, не было, нет.
– Знаем, кто у тебя, знаем, знаем, кто у тебя.
– Врете все, врете, врете, врете всё, бабы!
– Знаем, кто у тебя, знаем, знаем, кто у тебя.
– Нет никого, нет и нет никого, нет никого.
– Знаем, знаем, знаем, знаем.
– И знайте, и знайте себя, знайте на здоровье, злые, зола, соль да зола. Нет никого, нет никого у меня. Нет Алешеньки. Не было, и нет, головешки.
– Сам головешка, как есть головешка.
– Да ну вас, злые вы.
– Бедствуем.
Жаль их. Баб этих жаль все равно. Не нужны никому. Не нужны больше никому. Замерзают. Уже не бабы, а ледышки, леденцы, одна на палочке покосилась, покосилась уже. Те прямо сидят, а одна покосилась.
Хорошо, что Алешенька ушел, спрятался, ушел.
Нет Алешеньки. Не было и нет.
Бежать, дальше, дальше, бежать, дышать, нечем дышать, нечем, вьюга, бежать, вьюга, вьюга, бежать, бежит, бежать. Марево, в марево, в мареве, марево.
А вот еще, вот еще старость, вот еще, что-то сегодня старики, что-то старики, что-то сегодня старики – отец, да старичок, вот еще сын, да старичок, сын-отец, да старичок сухонький, сухонький, его старичок, сухонький, иней, инок, нет, иней, белый, оба, белый, белые, заиндевелый, ха, хохочет, хохочут, хохочет, оба, два, отец и сын, сын и старичок, старик, вот, вьюга хохочет, сын, старичок хохочет, отец хохочет, старички сегодня, одни старички, надо же? Вьюга, мать, мать, мать…
А маленький? где маленький? нет маленького, отец и старичок, только отец и старичок, отец и сын, сын и отец – старичок, катает, сын катает, вместо, вместо маленького, старичка-отца вместо маленького, зачем? катает, вниз, и снова, вниз и снова, катает, катается, старичок катается, с горки, с горки катается, катается, простыть, остыть, простыть, простыня, в простыне старичок, в простыне, в саване, в простыне, вишь, вьюга, а они? вьюга, пеленать, а они? катается, вьюга, во вьюгу, вьюга, запеленатый, старичок запеленатый, во вьюгу запеленатый, попросил, катать попросил, как маленький, старичок, просит, просит, как маленький, смерти просит, старичок смерти просит, помрет, вот-вот помрет, помрет, как пить дать, помрет. Такие дела. Эх, Алешка! Алешку вспомнил – тоже маленький.
Опять же жаль, жаль, жало. Вьюга – жало. Что-то сегодня беда, что-то кругом беда. Вьюга что ли? Поскольку вьюга? Вьюга, вьюга? Нет, просто день такой. День такой, просто день такой, нехороший день. Хорошо не знать его, день такой вьюжный. День такой. Четверг, мать, мать, мать.
Вот собакам хорошо. Собакам хорошо. Хорошо, что собакам хорошо. Хорошо, слава Богу. Пусть, заслужили. Собаки заслужили. Спят, в сугробах спят, собаки, собаки, белые собаки, всякие собаки, спят, спят собаки, спят. Прячутся, прятаться, прячутся, все прячутся. Мимо, ми. Ни зги. Дышать, нечем дышать. Зи, зима, ма, мимо, мимо, долой, бежать, бежит, бежать, скорей, скорей. Там Тамерлан, там, там, Тамерлан, скоро, скоро, вот уже, вот уже, вот, вот, вот.
Всё, Тамерлан.
Пришел к Тамерлану. Вот дверь, вот она, вот.
Пришел, добрался.
Пришел к Тамерлану. Тамерлан.
Пришел к Тамерлану, добрался. Вот она дверь, двери, дверь, двери, двери…
Двери враз, вдрызг, вразлет, вразнос, вдребезги!
Теплушка, тепло, теплушка, здравствуйте, здравствуйте, где Тамерлан? нет Тамерлана, тепло, жаровня, жаркое, жар, здравствуйте, теплушка, тепло-то как! где Тамерлан? Нет Тамерлана. Ушел, за котлетами ушел.
А что к котлетам? Тамерлан знает.
Тамерлан много знает, всё знает.
Такой Тамерлан. На то и Тамерлан.
Тамерлан с порога, – Слушай, что кушаем, а?.. котлеты, мна… Тамерлан котлеты кушает. Кто? Тамерлан?! Что кушает? Котлеты! Мама, мама, мна… Ничего. ничего, ничего, ничего… ничего, ничего… Все пройдет, будем с тобой правильно кушать. Повремени немного, мна. Тамерлан может совсем не кушать, не спать, не кушать. Тамерлан шестьсот лет как умер, и что? А ничего. Двор метет, котлеты кушает. Что кушает? Котлеты, мна. Затаился Тамерлан. Так надобно. Повременить чуток надобно…. Ничего, ничего, ничего… Ну?.. Что к котлетам? А к котлетам – водочка! Зато водочка… Что пьем, мна?! Мельчаем, тем возвышаемся. Это я тебе говорю, мна.
Тамерлану верить нужно. Он, хоть и молод – сильно старый.
Эх, Тамерлан, красавец, чистый гоголь, носат, умен, лукав! Ходит важно, одну ногу вперед выбрасывает, другую прямо держит, крылья под шинелью трепещут, чуб вензеля выписывает. В пудре весь, стужей пахнет. Глаза – угли, всегда-то умен и весел, Тамерлан, дружище. Экзистенциалист5. Пьяница. В хорошем смысле. В хорошем, разумеется, смысле. Запой, знаете, запою рознь. Бывает такой запой, что и не запой вовсе, но лето и космос. Не тот космос, который ветошь, а настоящий, сверкающий.
Эх, Тамерлан! И детство его – лезвие. Костры, да эхо горное тугое.
Против него Сергей Романович – слабый огонек, бумажная душа. Мальчиком еще прозрачным лепетал – писать, что странно – не писать, что странно… что ему диктуются странные его строки, эх, тянутся как шелковая нить… бабочек и червячков не видел, а их никто не видел. Дескать, тянуть эту нить как пить нектар более странно и трепетно, чем даже самая-самая любовь. Или вот вино еще, это уже позже, не кровавое (цвет), отдающее кровью или розовое – нектар, нектар. Однако напивался скоро, смолоду уже, скоро-скоро и был смешон среди товарищей своих. Падал, строил смешные рожи, и скоро, скоро-скоро покидал товарищей своих при помощи товарищей своих. Синей птицей под руки, не бабочкой, птицей синей под руки, за руки, за ноги, куда? в светелку, и укладывался, укладывался прямо на пол белой птицей, уже белой птицей дожидаться возвращения безутешных родителей, безутешной мамы, потому что никак уж она не думала, никогда не думала, что из него вырастет такое, такое вот вырастет, никогда. Ткач. Хотя ни бабочек, ни червячков не видел он никогда. Пил смолоду много, чего уж там. И в зрелые годы не брезгует.
– Вот, кстати, о стариках. Шел к тебе, Тамерлан, стариков видел. Чуть-чуть. Что-то сегодня старики одни попадаются. Старики, да старухи. Обратил внимание? Зачем, не знаешь?
– Собираемся, мна. Хорошо, брат. Все на свои круги возвращается, Тамерлан знал.
– С другой стороны совсем их мало стало. И те мрут. Как куколки в муравейнике. Злятся и гибнут. В добрый путь… А раньше стариков много было. Бывало, выйдешь, яблоку упасть негде, целая ярмарка. Грибами о них пахло. А здесь что-то запаха не почувствовал, совсем никакого. Думаешь, простыл?
– Вьюга, слушай.
– Как-то скоро запеленали всех. Обратил внимание? И стариков и старух, всех запеленали. Кого во вьюгу, кого в саваны. А вот зачем в саваны пеленают?
– Вьюга, – вздыхает. – Однажды умрем. Однако не грустно.
– Думаешь, умрем все же?
– Не исключено.
– Разлюбили враз стариков-то. Раньше немножко, но как-то любили, а теперь – нет. Устали от любви, что ли? Не замечал?
– Зима холодная, мна. Южный человек сильно страдает. Страдаю, но терплю. И ты терпи, брат.
– Жаль их, стариков. Это еще хорошо, что я их не узнал, подумал, никакие это не старики, сугробы, да снеговики, а старики по печкам греются, песни с котами мурлычут. И те старухи – не старухи, и тот, в саване – не старик, и сын его не старик. Так, катается, а кто таков, неведомо. Скорее нет никого – вьюга да собаки в сугробах. День белый, боле ничего. В добрый путь… Ты-то сам никого не видел?
– Когда вьюга – лучше. Много лучше. Когда вьюга – люблю. Когда дома сижу. А что вьюга? Вьюга, вьюга, вьюга, ну, вьюга, вьюга, да, вьюга, что, вьюга? вьюга, вьюга, – не говорит, поет Тамерлан. Голос – ручей горный.
– А вот, Тамерлан, еще одна тревога, спешу поделиться с тобой.
– Говори, брат, без утайки.
– Подскажи, что делать, старухи Алешеньку спрашивали.
– Похмелье, брат.
– Грустно старухам без него, видишь как? По чуду тоскуют. Очень Алешеньку спрашивали. Погулять не выйдет? спрашивали. Это еще хорошо, что я не расслышал, а то бы в отчаяние впал…
– Не боись, брат. Ничего не бойся, никого не бойся. Тамерлан здесь, веришь? – голос у Тамерлана не голос – ручей горный.
– Да как бы порчу не навели.
– Порча – плохо, мна. А сам-то что? Алешенька-то что?
– Виду не подает. Исчез или спрятался.
– Умный.
– Умен и прожорлив Алешенька, дружочек мой.
– Хорошо, что исчез. Молодец. Я тоже исчез.
– Вернется?
– Так он и не уходил.
– Интриган Алешенька, боюсь, интриганом становится.
– А как иначе, брат? Оглянись, как? Время какое? Шайтан-время, мна. Ничего, ничего. Потерпи немного. Я терплю, и ты терпи, брат… Ну, давай, садись, давай, пей, кушай, давай… Э-э, что кушаем, мна!.. Ничего, потерпи. Солнце встанет – Тамерлан мясом накормит. Хорошим мясом накормит. Сыт будешь. Все сытыми будут. Скоро, скоро… Пока не могу, прости, брат, прячусь, вынырну – шакалы на запах сбегутся, мна… Ничего, ничего… Видишь, затаился?…
– Я тоже затаился.
– Молодец. Послушал Тамерлана? Молодец. Тамерлана слушай. Давай, выпьем.
Выпивают.
Немного помолчав, Сергей Романович продолжает, – Я им нынче дверь не открыл.
– Правильно сделал, мна.
– Я им больше никогда не открою.
– Кому?
– Кому? Да, вопрос… Сразу всех и не упомнишь… кого-то узнаю, кого-то нет… Каждый четверг являются. Стихи просят читать. В душу лезут… Много их, очень много. Я их не знаю, никого не узнаю… Я, видишь ли, агностик. Никого не узнаю. Кроме тебя… Я и себя не очень знаю. Совсем не знаю… Однако как только четверг – являются…
– Давай выпьем.
Выпивают.
Сергей Романович морщится, потирает виски, – Вот зачем они ходят?
– Так за стихами, сам сказал.
– Я, Тамерлан, стихов не пишу.
– А кто пишет?
– Не знаю. Никто. Стихи сами по себе… Но я их слышу… Может, Бродский успокоиться не может?
– Кто это?
– Один человек. Жертва.
– Сейчас слышишь?
– Что?
– Стихов.
– Сейчас не слышу.
– Поправил здоровье, вот и не слышишь. Послушай Тамерлана, брат. И постарайся поверить, мна… Будешь слушать?
– Буду.
– Нет никого, мна.
– Нет?
– Нет…
– Может быть…
– Никто к тебе в четверг не ходит.
– Может быть… Наверное, ты прав… Да мне всё равно, я, Тамерлан, за Алешеньку боюсь.
– Нет Алешеньки.
– Сбежал?
– Нет, и не было.
– И куда его черти понесли?
– Нет Алешеньки. И не было никогда, мна… Тебе врача надо, брат. Тамерлана слушай. Никого не слушай, а Тамерлана слушай. Иди к врачу, брат. Завтра. Иначе, мна, сдохнешь.
– В добрый путь… Зачем так сказал?
– Сам сдохнешь или Тамерлан тебя зарежет.
– Зачем так сказал?
– Люблю тебя, брат. У Тамерлана кроме тебя никого нет, мна.
Выпивают.
Стравинский улыбается, – А и впрямь.
– Что?
– Вот, вот, вот…
– Что?
– Полегчало, как будто полегчало. Тепло… Еще полчаса – и совершенно здоров… Люблю эти полчаса… Теперь пусть ходят, пусть хоть каждый день ходят. Все равно, не открою им больше. Не стану открывать и всё. И врача не нужно… Если хочешь, буду молчать. Ничего рассказывать не буду. Это не сложно, я люблю молчать. Я и с ними молчу, только они мысли мои читать умеют. Все равно, что разговор получается. А вот с улицы не прочтут. Стены толстые… Пусть приходят, стоят, ждут… Я научусь не думать о них. Не волноваться научусь. Я сумею… никакого врача не нужно.
– Нет никого, мна. Они все в твоей башке. Веришь?
– И ты?
– Ай-ай, совсем крыша поехала. Зачем так пьешь? Тамерлан умеет, а ты не умеешь. Тебе, брат, больше нельзя. Совсем. Зачем так пьешь?
– Ну, хорошо, открою тебе, Тамерлан, одну тайну. Может, и не стоило, да уж решил… Наверное, нужно это знать… А, может быть, и нет… Вообще об этом все знают, только думают – шутка, присказка, – переходит на шепот, – Небо, Тамерлан, на землю падает. На самом деле. За день пятнадцать – двадцать километров… Укрываться нужно, Тамерлан. Укрытие искать… Пятнадцать – двадцать километров. Для неба огромная скорость.
– И что будет?
– Странна муки всякие покажи мя.
– Не понимаю, что сказал, но, чувствую, правильно сказал. Всем сердцем.
Эх, Тамерлан!
Как-то спросил его, – Ты зачем здесь, Тамерлан? Сам по себе, вижу, терпишь, душа далеко. Зачем?
– Ожидаю.
– А чего ожидаешь?
– Проясниться должно, мна. Пока только мясные помои.
– Что, мясные помои?
– Неприятно.
– Ну, предположим, прояснится, а дальше что?
– Пока знать не дано, мна. Подсказка будет.
– Кто же тебе подскажет?
– Может, Тамерлан сам себе и подскажет.
– А дальше-то что?
– Тишина, чистота. Тамерлан давно готов, уже давно готов, мна… Тамерлану кого-нибудь одного не жаль. Себя не жаль, никого. Вот тебя, разве что. Немного. Жалеть, любить потом будем. Потом – сколько угодно. А пока рано. Молчок. Тамерлан услышал, понял. Готов.
– Готов к чему, Тамерлан?
– Все равно.
– Чистоту любишь?
– Всем сердцем.
11. Смирение. Весна
– Что и требовалось доказать, – ворчит Диттер, пальцами протирая очки перед тем, как отправиться в путь.
– Вы что-то сказали? – отозвался Насонов.
В душе профессора забрезжила совсем, было, погасшая надежда на дискуссию, – Я отчего-то был уверен, что Стравинский нас не впустит. Черт с ним. Прогулялись, и то.
– Да, развеялись немного.
– А вот, кстати, давно хотел вас спросить… Дмитрий Борисович? Не ошибаюсь?
– Можно запросто Дмитрий.
– Нет, зачем же? солидные люди…
– Ох, уж мне эта солидность. Я, как-то, знаете, все к юношеству тянусь. У меня студенты. Я со студентами дружу, – подмигивает Диттеру. – Средь них барышни хорошенькие встречаются. Для любования, разумеется, не больше. Но кровь все еще волнуется.
– Гиблое дело.
– Будет вам.
– А я вас уверяю. Имел горький опыт. Ожог на всю жизнь… Было время, и я преподавал. И у меня тоже были прехорошенькие студентки… Вообще я любоваться не склонен. Обыкновенно пребываю в своих мыслях. Мне даже по этому поводу часто выговаривают. Когда на улице не замечу, не поздороваюсь. И на лекциях аудитории не вижу. Увлекаюсь. Случается, уже и слушатели разойдутся, а я все в волнении пребываю, остановиться не могу. Случалось, уж и в институте никого нет, свет погашен, а я все начитываю. Бывало, уборщица подкрадется тихонько да где-нибудь позади шваброй об пол со всей силой, тут я прерываюсь, а ей смешно. Но я не сержусь. Они знают, что я не сержусь, потому позволяют себе такое… Позволяли. Теперь-то я уже в схиме, как говорится, пребываю. Затворничаю, стало быть. И, доложу вам, с огромным удовольствием. Время экономлю. Многое обдумать нужно. Еще с юности запланировал. А когда на людях – сконцентрироваться трудно. Записки составляю. Дневник удается вести почти каждый день. Живу один. Крайне доволен одиночеством. Всегда стремился к одиночеству. Вероятно, по этой причине, женат был четыре раза. До вас, конечно, далеко, но все же… Так вот, женат был четырежды, и всякий раз скоропостижно вдовел. Абсолютный рекорд моей семейной жизни – три года. Вторая жена через три месяца покончила с собой. Меланхолия… Аннушка, третья – через полгода. Анну приступы меланхолии тоже терзали, но рук на себя не накладывала. Что-то с почками. С Катериной три года прожили. Уж Катерина-то, казалось бы, цветущая женщина, кровь с молоком. Вдруг как-то скрючилась, почернела в одночасье. Как будто свет в комнате выключили. По какой причине? Не знаю… Может быть, и стоило врачу показать, но у нас как-то не принято было. А что врачи понимают? Нам кажется, что мы способны влиять на жизнь и смерть. Думаем, стоит диагноз поставить, руку к пульсу приложить, проявить заботу, внимание, глядишь, болезнь и отступит. Как бы ни так. Болезнь, смерть – понятия трансцендентные. И относится к ним надобно не рукотворно, но философски, умозрительно. Вот скажите, только честно, разве походы к врачам хотя бы раз привели нас к ожидаемому результату? В данном случае ожидаемым результатом, на мой взгляд, является вечная, ну или очень долгая жизнь. Много встречали вы двухсотлетних, да что там, хотя бы ста двадцатилетних старичков? Тех, что нам Павлов Иван Петрович обещал?.. Да, продлить агонию можно, этому мы как раз научились, только выкроенное таким образом время занимают мученические страдания самого бедняги, а также его близких и дальних… Я и сам к докторам не хожу. А если, случается, заболею, как в песне поется, к врачам не обращаюсь. Готовлю чистое белье, выходной костюм, ложусь и жду. Смирение… Смирение – великая вещь! Смирный человек всякую опасность гасит в зародыше. Почему говорят, гордыня – главный грех? Смирение – вот главное слово, постулат и девиз. Я смирение прочувствовал, принял, сумел полюбить грядущую смерть. Полюби свою смерть всем сердцем, скажи это громко, с чувством – и болезнь отступает. И, доложу вам, очень скоро. Уже к вечеру. Я таким образом и рак победил, и туберкулез, и проказу. Чистое белье, коечка, покой… Произнеси громко – люблю тебя! Люблю и жду! Всё… Хорошо бы, наверное, при этом свечи зажечь, но лично я, боюсь сгореть к чертовой матери. Забудешься – тут тебе и пожар. Дом сгорит – не важно, а вот тело – не приведи Господи! Тело жечь нельзя… Тела и фотографии. Ни в коем случае. Да что я вам объясняю, вы же анатом, сами знаете… Особых грехов за мной не водится. Единственное, вредности многовато. Но это только так говорится, вредность. На самом деле – азарт. Спорить люблю до сумасшествия. По любому поводу. Но не по причине гордыни. То есть, я спором не одержим, как некоторые, знаете, готовы в драку лезть. Поспорили и поспорили, и пусть их. Поспорили – и забыл тотчас. И в споре я покоен. Всегда невозмутим. Не так просто хранить голову в холоде. Не всякому удается. Притом секрет невозмутимости до изумления прост. Вы должны всегда, подчеркиваю, всегда, быть уверенным, что правы. А окружающие, следовательно, нет. Сомнений, терзаний быть не должно. И не будет, когда вы подразумеваете, что окружающие непременно хотят причинить вам зло. Вольно или невольно – не важно. Так следует думать. Даже если это не так. На Высшем суде разберутся. При таком подходе вы гарантированно защищены на все сто. Стрессы отменяются… Кстати – это относится и к семейной жизни. Когда жена просит тебя, уговаривает, высказывает суждения, призывает их разделить, да еще проявить при этом инициативу – не перечь. А про себя, помни, все ее движения, умозаключения и призывы – яд. Ты яд ее в ротик положи, во рту потоми, сощурься, будто удовольствие испытываешь, а отвернется, сплюнь… Брак – смертельная охота. Скандалы, ссоры, истерики – ловушки. Потерял бдительность, угодил в яму – тебе конец. И не заметишь, как будешь испит до дна… Женщины в среднем живут на двадцать лет дольше мужчин. Так вот эти двадцать лет они забирают у нас… А противостоять следует вот как. Держите наготове следующие фразы – хорошо, душенька, как скажешь, душенька. Делайте все, что велела хозяйка, но поступайте по-своему. Про себя помните – вы правы. Всегда. Во всём. Хорошо, например, когда она просит вас о чем-то, ненавязчиво предложить отвлеченную тему. Это вызывает растерянность, а лучше – беспокойство. Как следствие охота на какое-то время затихает… Да, но все это срабатывает, покуда ты не влюблен. Если же амур пронзил тебя – пиши пропало… Вот я и добрался до своей грустной истории… Это случилось вскоре после смерти Варвары, первой моей жены. С Варварой мы года полтора прожили. Инсульт. На ровном месте, во время обсуждения супружеских измен явных и мысленных. Измен и… допустимых способов наказания. Ничего не предвещало. Коротали вечер, гоняли чаи, дискутировали. Кстати, без умысла с моей стороны. Я еще был молод, неопытен. Я и теперь молод, но тогда был совершенным ребенком. Сорок с небольшим, – смеется. – Я жить не тороплюсь… Одним словом, Варвара скончалась. Каким-то образом студенты мои узнали, что я овдовел. И вот одна, хорошенькая, как вы это называете, барышня вызвалась помогать мне по хозяйству. Запросто так подошла и говорит, – А хотите я буду иногда приходить к вам и помогать по хозяйству?.. Я прямо опешил. Дело в том, что я давно выделял ее, наблюдал… как вы это называете, любовался… Вообще я любоваться не склонен. Обыкновенно пребываю в своих мыслях. Впрочем, я вам уже докладывал. А в то время, грешен, подчас любовался. Надеждой. Ее Наденькой звали. Любовался, но никаких планов, упаси Бог, не строил. Никаких порочных мыслей… Точнее так. Мысли порочные возникали, но я их гнал, и успешно. И вдруг она сама подходит ко мне, смотрит прямо в глаза и заявляет, – А хотите я буду иногда приходить к вам и помогать по хозяйству?.. Зачем я согласился?.. Да вот из-за порочных мыслей и согласился. Мне, в силу порочности на тот момент, показалось, что ее к порочному, как мне показалось, предложению побудили ее собственные, как мне виделось, порочные мысли. То есть я, конечно, был испуган, шокирован, умом настроен на отказ, однако же сказал, – Что ж, буду только рад… Не своим голосом сказал… Показалось, как будто это не я, а кто-то другой сказал… Кто-то другой, еще более порочный, чем я на тот момент… Ну, что? Дело сделано. Она предложила, как сейчас помню, впервые прийти ко мне в субботу. А разговор у нас состоялся в среду. Следовательно, ее визита я ждал… трое суток без малого. Оказывается, когда таким образом ждешь, страсть как раз и расцветает. В эти три дня сладострастие буквально разъело мою душу. Чудовищные картины греха рисовало мое воображение. В пятницу я уже был готов мыть Наденьке ноги и пить ту воду. Простите за натурализм. Я вознесся до небес, кажется, даже стал выше ростом. Еще бы, Наденька выбрала не ровню, а человека, хоть и молодого, но вдвое старше. Это же не просто так. На то причины должны иметься. Да, думалось, я себя явно недооценивал, в черном теле столько лет держал, ходил как-то боком, заискивал, мечтать себе запрещал, похвалу отвергал, ну, и так далее… Ну, что же? Вот и суббота. Я – при параде. Лучший костюм. Зонт. Настоящие джентльмены никогда не расстаются с зонтом. Я сперва подражал, потом привык… Сколько насмешек выдержал? Не счесть… Итак. Представьте себе. Зонт. Цветы. Шампанское. Считаю минуты. Наконец, звонок в дверь. Трепещу. Сердце выскакивает из сердечной сумки. Открываю. Стоит моя Наденька. Улыбается. В плащике. Вода стекает, на улице дождь. Дождь изумительно подходил ей. Как всякому бутону… Внезапно, вижу, улыбка сходит с ее лица. Она делается бледной как пергамент. Спрашиваю, – Что с вами, Наденька?.. Проходит в комнату, оседает на стул, молчит, вот-вот чувств лишится… Про себя рассуждаю, – Очевидно, что-то потрясло несчастную, и она лишилась дара речи. А, может статься, вожделение ее достигло таких пределов, что уже и пошевелиться, бедненькая, не может. Спрашиваю вновь, – Да что с вами, Наденька? Отвечает, – Не ожидали? – Чего же? – Не ожидали, что я и впрямь приду вам на помощь? Соратницей приду, другом? – Да как же, я ждал вас. – А в каком качестве вы меня ждали? – Ничего не понимаю. – Как вы смели так нарядиться, да еще и зонт взять? Вы рассчитывали принять в своем доме развратную особу, готовую на всё? Нацелились реализовать постыдные желания, притом немедленно? Не умеете сдержать в себе зверя? Какие фантазии бродили в вашей голове? отвечайте немедленно!.. Вы и представить себе не можете, какой ужас охватил меня. Я был раздавлен, попран, унижен! Наденька же продолжала, – Я видела в вас своего духовного наставника. О, как я обожала ваши лекции! Мне представлялось, что мы с вами подружимся, будем пить чай, что вы вечерами будете читать мне свои дневники, показывать семейный альбом. Я, в свою очередь, поведала бы вам свои девичьи мечты, научила бы макраме. Вместе мы придумывали бы мне будущего мужа, и у нас ничего не получалось бы, потому что каждого жениха я невольно сравнивала бы с вами, и всякий раз убеждалась бы, что вы лучший. В конце концов, я бы смирилась с вашей старостью, и с тем, что вы порой пускаете ветры, даже на лекциях, и, взяв с вас слово никогда не касаться меня, однажды согласилась бы… на брак с вами. Если, конечно, вам интересно знать, я и свадебное платье купила. И фату. И корону. Но вы поспешили сбросить маску и разрушили меня. Вы убили меня, профессор Диттер! Ну, что же, профессор Диттер, жребий брошен. Пути назад нет!.. С этими словами она сбросила плащ, оставшись ослепительно голой. То есть под плащом у нее ничего не было. Голубушка легла на академический диван, сложила руки крестообразно, закрыла глаза и молвила, – Что же, возьмите меня, если такова ваша воля. Сопротивляться ударам судьбы я не умею в силу молодости и девственности. Однако знайте, завтра же я пойду в милицию, и подам заявление о том, что вы надо мной надругались… Я, низкий человек, в ответ принимаюсь лгать, – Наденька, и в мыслях не было… Отвечает, – Не важно. После того, что вы увидели меня всю, уже не имеет значения. Даже если вы не тронете меня, я все равно отправлюсь в милицию и подам заявление о том, что вы надо мной надругались… Перечу, – Так не будет же оснований, доказательств, вас поднимут на смех… И здесь меня ждал самый сокрушительный непоправимый удар. Моя Наденька вскочила, вспыхнула, полные чаши слез, – Что?!.. Я не верю, повторите!.. Что вы сказали?!. Вы так мелочны?!. Так мелочны и мелки?!. Да вы – фарисей!.. О, какая ошибка! После такой ошибки дальнейшая жизнь бессмысленна… И, после гулкой паузы, уже едва слышно, – Если не трудно, последняя просьба, пожалуйста, передайте моим близким, чтобы они похоронили меня в том подвенечном платье… Всё. Она растянулась без чувств. Уже некрасиво, без позы, руки плетьми, голова запрокинута. Апофеоз… И ни слова больше. Ни слова, ни движения. Где-нибудь через час, может быть, два я попытался позвать ее. Тишина. Присмотрелся. Дыхания нет. Умерла… Что делать? Трусость, подлость, предательство, все смешалось во мне. Я не вызвал скорую, не вызвал милицию. Бежал к своему старинному товарищу. Все рассказал. Так и так. Выпили… Крепко выпили. Отправились ко мне – Наденьки не было… Всё… Понимаете, я не ожидал, был застигнут врасплох. Я же имел в виду, что вот я еще так молод, значит она – совсем младенец. И вдруг такое, такая силища, напор! Сокрушительная точность! Они рождаются с этим, понимаете?.. Сильнее, много сильнее нас, кто бы что ни говорил… Оправиться после этой чудовищной истории я уже не смог. Доживаю свой век по инерции, без страсти, но и без особой радости. Точно в вакууме… Так внезапное пылкое чувство погубило две жизни… К тому времени лекции мои на курсе, что посещала Наденька, были закончены. Искать ее я не пытался. Довольно долго испытывал страх. И даже теперь вот, рассказываю вам, а у самого мороз по коже… С тех пор не дает мне покоя вопрос, переадресую его вам – кто она?
Насонов улыбается, – В каком смысле?
– Ну, кто же, кто?
– Как кто? Наденька.
– Это я знаю, но я не знаю кто она, по сути… Хорошо, спрошу иначе. Чего она хотела, как вы думаете?
– Вечной весны.
– Да, пожалуй. Вечная весна. Тоже тема… Старики никому не нужны. Не примером для подражания, не предметом восхищения и благоговения, но обузой, заусенцем, колодой сделались… Уж и лобные места для нас готовы. В духе времени выглядят нарядно, кукольно как детские площадки. С виду катание на карусели, а на деле – колесование… Мешаем… Мешаю, знаю. Но что делать, когда смерть не берет?.. Обратили внимание на веснухинскую лошадку? Сколько в ее глазах страдания! Не зрачки – политическая карта Африки.
– Да, в Африке опять неспокойно.
– Когда же это все закончится?!
– Предположительно в следующий четверг.
12. Пожарные. Нравственность
А вот какой спор вышел у пожарных Фефелова и Сопатова.
Если помните, подле них то и дело крутились бродячие собаки Найда, Козлик и Серый, еще парочка приблудившихся чернявых, имен не знаю. Фефелов собак не терпит, на дух не переносит, а Сопатов, напротив, души в них не чает. Фефелов то и дело пытался собачек отогнать, то зашикает, камнем бросит, то сапогом воздух пнет. Сопатов, напротив, всячески хотел с ними подружиться, и насвистывал, и языком прицокивал, и рукой приманивал. Один раз даже умудрился Найду за ухом почесать.
Вот когда четвержане уже расходиться начали, собачки в первых рядах убежали лакомства искать, между друзьями и вспыхнул спор.
– Животные безнравственны, – неожиданно заявил Фефелов.
Собственно, для Фефелова мысль не новая.
– Напротив, – парировал Сопатов, и собрался было аргументировать свою позицию, но был сбит, как говорится, на лету рефреном, – Животные безнравственны.
– Напротив.
– А я говорю, безнравственны.
– Напротив. Уж если речь зашла о нравственности…
– Безнравственны.
– Напротив.
– Безнравственны.
– Напротив. Вот я приведу вам пример…
– Безнравственны.
– Напротив.
– Безнравственны.
– Напротив.
– Безнравственны.
– Напротив. Вы их не знаете, не желаете узнать…
– Безнравственны. – Напротив. – Безнравственны. – Напротив. – Безнравственны. – Напротив. – Безнравственны. – Напротив. – Безнравственны. – Напротив. – Безнравственны. – Напротив. – Безнравственны. – Напротив. – Безнравственны. – Напротив, напротив, напротив…
С этими словами, не дожидаясь ответа, Сопатов из всей мочи ударил Фефелова кулаком в лоб. Фефелов, как назло оказавшийся в этот раз без каски, рухнул как подкошенный и захныкал.
Сопатов не ожидал такого результата. Бил друга не раз, и сам получал сдачи, но чтобы так вот, навзничь, вдребезги? Парит над распростертым другом. Растерян, чуть не плачет, голос дрожит, – Послушайте, Фефелов, нельзя же так. Таким-то макаром и насмерть убиться можно. Вы что, без каски? Где ваша каска, Фефелов? И зачем вы упали так? Чтобы испугать меня, пристыдить? Я и без вашего не рад. Как только вы обвалились, и во мне всё оборвалось и замерло. Вы же пожарный, где ваша осторожность? Надо как-то осторожнее, что ли? В нашей с вами профессии осторожность превыше всего. Сгореть всегда успеем. Ваши слова, Фефелов. Не помните? Вообще за вами какие-то странности наблюдаются. На пожарах курите. Вот – каску забыли. Знали же, что не удержитесь, непременно задирать меня начнете, а каску дома оставили. Разве не странность?.. Поверьте, и в мыслях не было причинить вам такие разрушения. Оно как-то само получилось… Кстати, я уже и не помню, как получилось. Мне уже кажется, что вы сами по себе упали, Фефелов… Это несправедливо, согласны со мной? По отношению к вам. И ко мне. Но вы сами, падением своим непредвиденным вызвали во мне этот шок и аберрацию. Я же не подлец и не трус. А теперь всё выглядит именно так, будто я подлец и трус. Будто отлыниваю. И чем же, интересно, я заслужил такого отношения вдруг?.. Вы меня много лет знаете. Лучше моего меня знаете. Да если это и не я ударил бы вас, если бы вы сами себя ударили, как и было на самом деле, как мне теперь кажется в свете перенесенного шока, всё равно готов был бы взять вину на себя. Коснись серьезного. А теперь вот, получается, как будто отлыниваю. Отлынивать – не в моем характере, Фефелов. Вы меня много лет знаете. Меня здесь все знают… Однако, если аберрация и провал, лукавить не могу, так прямо и заявляю, у меня провал, следовательно, упали вы сами. Уверен. Сами себя ударили, сами же и упали. Хотя словам своим не верю. Даже ненавидеть себя понемногу начинаю за эти слова… Это еще хорошо, что убеждения мои, кажется, остались нетронутыми. Убеждения для такого человека, как я – это всё. И дом-крепость, и церковная ограда, и голова в кустах, если понадобится. Вот что вы проделали со мной, Фефелов… И не стенайте, мне от этого дурно делается… В любом случае вы сами виноваты. Напрасно затеяли спор. Очень он вам был нужен, этот спор?.. И ведь так всякий раз, Фефелов. Зла на вас не хватает. Вот если бы вы сейчас не пребывали в разобранных чувствах, честное слово, ударил бы вас еще раз. И не важно, в каске вы или без каски. Как показала практика, без каски даже лучше. Все зависит от поставленной задачи. Одна недолга, в пылу дискуссии задачу определить не успеваешь… Отлично знаете, чем все эти споры заканчиваются… А наперед подумайте, как бы вам добрее сделаться, пожарный, все же… Ну же, вставайте. Довольно валяться. Просто несерьезно таким вот образом валятся и стенать. Несерьезно и вредно – пожарный все же. Не просто пожарный – образцово-показательный пожарный. Всем на удивленье. Не стыдно? Честно скажите, не стыдно вам, немолодому уже человеку в таком положении пребывать? Год еще толком не начался… Ну, что же? не хотите, как знаете. Может быть, вам нравится так вот валяться и стенать. Вольному воля.
Сказал и пошел прочь с подчеркнуто прямой спиной и со слезами на глазах.
13. Улитин. Вне лунных товарищей
Водитель троллейбуса Улитин, так и не дождавшись Сергея Романовича, загрустил.
Вне лунных своих товарищей Стравинского и троллейбуса Улитин всегда грустит.
Улитин и так склонен к грусти, а без лунных своих товарищей Стравинского и троллейбуса – особенно.
Справедливости ради следует заметить, что и в компании товарищей он не особенно веселится. Весельчаком Улитина не назовешь. Однако вне Стравинского и троллейбуса печаль овладевает всем его существом.
Печаль Улитина светла и созерцательна. Нет в ней примет упадка, безысходности.
В минуты печали Улитин контакту не доступен, беседует исключительно с самим собой. Внешне – чернее тучи. Встретишь такого Улитина, первая мысль – ноги бы унести. Однако в интимных беседах его не звучит гнев, осуждение или порицание. Ни намека на уныние, отчаяние. Даже недовольство не проскальзывает.
Наблюдение, ностальгия, легкая тоска по ушедшей и грядущей радости.
Сладковатый привкус полыни.
Жалеет. Вот верное слово для Улитина. Жалеет. Себя и других жалеет. Молча, преданно жалеет. Всех жалеет. Как Фома, как Стравинский С. Р.
Вот Улитин стоит как вкопанный, наблюдает.
За Фефеловым и Сопатовым наблюдает.
Как будто наблюдает, на самом деле ни за кем не наблюдает, ему и секунды достаточно, чтобы ухватить, запечатлеть, а потом, уже в покое, без суеты обсудить и пожалеть, как следует. И Фефелова и Сопатова, и прочих четвержан.
Про себя.
Так что в настоящий момент Улитин никого не видит, просто стоит как вкопанный, руки висят, рот приоткрыт, в глазах сон-дрема, вихор на затылке. Не исключено, что уже приступил к беседе. Можно только догадываться. Событий больше не намечается, можно и поговорить. Скорее всего, говорит.
Про себя.
Он и при Стравинском, и в троллейбусе так-то беседует. Внешне дремлет как будто, рот приоткрыт. Не сомневайтесь, понимает всё, что вокруг происходит. Всё понимает, оценивает, но не участвует. Его участие позже проявится. Больше, чем участие. Любовью наградит, безответной тлеющей любовью.
А спроси его, например, какая следующая остановка – не ответит. Одарит через зеркало коротко невидящим взором, и ни гу-гу. Не потому что немой или хам, а потому что не имеет ни желания, ни возможности ответить. Запечатлевает.
Грустить позже будет.
Грустит чаще по ночам, когда один остается. Весь путь его перед ним как собрание контрольных отпечатков у фотографа. Ночью мысленно раскладывает свои снимки. Разложит, вспомнит всех до одного, кого и не встретил, вспомнит, вспомнит и загрустит.
За всех нас погрустит, пожалеет.
Я вот о чем думаю, не будь у нас таких Улитиных, мы бы втрое меньше смеялись и болели бы втрое чаще. В природе все в равновесии.
Может быть, конечно, ошибаюсь, но хочется мне так думать, вот я и думаю.
Вот Улитин стоит как вкопанный…
…А ведь были младенцами. Говорят, будущие младенцы, личинки и лисички, бельки и белочки сами выбирают себе утробу – мамку, троллейбус или рояль. Грандиознее рояля, сдается мне, только орган и катакомбы. Увы, ни органа, ни катакомб, ни Фудзиямы самой видеть не довелось, так что для меня наибольшим потрясением явились рояль и троллейбус. Это – не ограниченность, избирательность, утешение себе всегда найду, а все равно немного жаль. Когда имел бы стремление побывать на вершине великой горы, рано или поздно побывал бы, мечта исполнилась бы, но, вот вопрос, сколько времени уходит на достижение высокой цели? Если цель по-настоящему высокая, а не какое-нибудь харакири.
Фудзияма навеяла.
Все же память наша странным образом устроена. Итак, сколько времени ушло бы на достижение высокой цели, и что потребовалось бы взамен? За все нужно платить. А как расплачиваться, когда денег нет. Какую цену за трудное свое счастье заплатила, к примеру, Сонечка Мармеладова? А если бы мне понадобилось пожертвовать троллейбусом? Ведь в представлении многих троллейбус – существо неодушевленное, многие и глаз-то в нем не усматривают, и дуги для них просто дуги, больше ничего. Так и скажут, сдирай подковы, подошвы, веди друга в стойло, а сам – хочешь за водкой, хочешь – к фонтану огнетелками любоваться. Подумать страшно. Конечно, будь я улиткой, избежать такого выбора удалось бы, и даже легко, но я не улитка. Хотя между нами много общего, если рассматривать меня не в отдельности, а вкупе с лунным моим товарищем. Стареет мой товарищ. От осознания этого факта немного грустно. Утешает то, что среди троллейбусов немало долгожителей. Впрочем, как и среди улиток. Огнетелки давно занимают мое воображение. Эти «желейные» существа в действительности пиросомы, конусообразные оболочники, пламенеющая душа фонтанов и океанов. И они повсюду. В силу профессии Фефелов и Сопатов это хорошо знают. Только молчат. Есть такие вещи, о которых лучше помолчать до поры до времени. Достаточно только один раз сосредоточиться, увидеть огнетелок, и жизнь тотчас приобретет симфоническое звучание. Попытайтесь, например, заглянуть в самое горлышко петуха, когда тот провозглашает очередную пятницу. Или, не приведи Господи, когда ему голову рубят. Но лучше не смотреть. Можно вместе с ним вспыхнуть рождественской елкой. Вспоминается Берлиоз и его рояль. Еще Стравинский, конечно, а также его рояль. Думаю, в свое время и на Сергея Романовича рояль произвел неизгладимое впечатление. Отсюда и агностика, и несомненная растерянность на всю жизнь. В троллейбусе Стравинского не встречал, хотя приглашал многократно. Не на чай, конечно, но почувствовать себя хотя бы на полчаса в безопасности всякому путешественнику полезно. Отчего-то кажется мне, троллейбусов он побаивается. Интересно, каково его отношение к моллюскам. Всякий раз планирую спросить, и все время забываю. Голова моя садовая. И круглая. Вот еще совпадение. В каком смысле совпадение? Во всех смыслах. Кругом сплошные совпадения. Голова кругом. Оттого и круглая. Садовником уже не стать. Садовником, кондуктором. Важничать не люблю. Однако окна захлопываются одно за другим, двери закрываются. Осторожно, двери закрываются. Водить поезда не хочу. Может быть, в детстве хотел, не помню. Вряд ли. Была возможность выучиться. Железная дорога – идеальное место убийства. Главным образом для Аннушек. Чем-то манит это имя железнодорожных палачей. Их по глазам узнать можно. У них желтые глаза. Как у соседского кота. Но тот даже мышей не трогает. Вообще совпадений не счесть. Жаль, конечно, минувшего безвозвратно детства, но у всякого возраста свои преимущества. Например, память. Память меняется вместе с нами. То, что еще вчера помнилось, завтра исчезнет, как язычки и пальчики с окон троллейбуса по весне. Музыкантом быть никогда не хотел. Хотя, в связи с этим себя немного жаль. Многие другие стали именно музыкантами. Кое-кто даже композитором. Жизнь композитора разительно отличается от жизни водителя троллейбуса. Мы вообще отличаемся друг от друга, композиторы, водители, троллейбусы, улитки, поезда, огнетелки и агностики. Хотя у нас много общего. Движение, например. Или скрытое движение. Или его отсутствие. Еще скрытые маршруты, скрытая красота. Бархат. Помню, помню эту красоту в утробе рояля. В утробе матери все иначе. И там ласковое всё, конечно, но не бархат. Уж если бархат – непременно красным должен быть. Вот эта нежность, о которой мы часто забываем в борьбе или ее отсутствии, нисколько не иллюзия, не обман, даже если и молоточки, и струны. И порезаться можно, если струну схватить и, не разжимая ладони, провести резко вниз. Другое дело, в движении таком нет никакого смысла. Но разве мало бессмысленности, порой преступной бессмысленности в наших действиях. На каждом шагу. Далеко за примерами ходить не нужно. Вот они, Фефелов и Сопатов, Уже подрались. Чего не поделили? Ко всему прочему у Фефелова герпес и несварение желудка. Сколько он еще протянет в нелюбви. А ведь хороший человек, героический человек, хотя и без каски. Героя и без каски узнать можно. А Сопатов? Левую ногу по ночам судорогой сводит, а он руки распускает. Наверняка казнить себя будет. И веревку намылит, и табурет поднесет, я его знаю. Если бы не высокие потолки, быть беде. Был бы метра три ростом, страшно подумать, чем бы все это закончилось. Несчастные люди эти великаны. Нам кажется, что при таком росте сплошь почет и уважение, и женское внимание, и мужеская зависть, а каково им в троллейбусе? Да и не уместиться такой каланче, пожалуй, в троллейбусе. Жаль их, и Сопатова, и Фефелова. И собачек. Как младенцы, честное слово. Младенцами рождаемся, младенцами умираем. Надо, надо осторожнее. А что если там нет никакой нравственности? Только покой и безграничная свобода. А нравственностью и не пахнет. И что в таких обстоятельствах делать? Со стыда не сгореть, сквозь землю не провалиться. Нет, нет, все предусмотрено. Коль скоро нравственности нет, и оценить себя не сможем. Оценить сможем, но только в превосходных категориях. Все позволено. Вот и ответ на вечный вопрос, что такое рай? Как мы его строим, к чему стремимся? К вседозволенности стремимся. И всё? Да, к сожалению, так. Можно проверить примерами из истории. Эх! Мы же с мыслями нашими туда явимся. Перекличку затеем. Это какие же рулады прозвучат, какие откровения и сокровения? И, самое любопытное, все там на одно лицо будем. И Фефелов, и Сопатов, и собачки, и улитки. Подумал, самому смешно. Смешно и грустно. Очень. Младенцы осторожности не ведают. Пороги на каждом шагу. Соблазн свеситься с подоконника. Свеситься, повеситься. Хочется крикнуть – ребята, каждый день как первый день, не забывайте. Такие ароматы, кружева, в Китае драконов запускают. В кабине троллейбуса тоже кружева. Это кто-то до меня догадался. Может быть, женщина работала или бывший уголовник. Улитка – брюшко бархатное, беззащитная, в точности, как и я, как и все мы. И мысли наши сходятся. Но улитка ползет много медленнее. Троллейбус тоже тихоход, но не в такой степени. Все, если разобраться, движемся к вершине Фудзиямы. Зачем? От этих мыслей немного подташнивает. Грузди. Банка давно стояла, мог яд образоваться. Вместе с тем ощущение чистоты. Как после дождя. Хотя и зима. Эти времена года – такая условность. Вот, рояль вспомнил, и захотелось напиться. Не обязательно со Стравинским, одному даже лучше. Груздочки, вернусь домой, выброшу. Хотя хороши. С лучком да со сметанкой. К водочке. Блажь. Пропали грузди. Жаль, конечно, тетка собирала, на коленях ползала. Хорошая женщина, колени болят. Много молитв знает, а я только «Отче наш». Стыдно, грустно. Говорят, в бору змеи стали водиться. Ужи, наверное. У нас змей отродясь не водилось. К смерти совсем не готов. Жаль тетку. Не знаю, меня одиночество как-то не тяготит. А женщину искать не нужно, настанет час – сама найдет. И поцелует, и спать положит. Им, женщинам, невдомек, что невинность бесконечна. Я Сопатова не осуждаю. И Фефеова не осуждаю. И в мыслях нет. Все такие одинокие, несобранные, неухоженные. Чего-то ждем. И я жду чего-то. Чего? Не знаю. А, может, оно и не нужно знать? Не знаю.
14. Евгения. Евгения
Ну, что же, самое время поговорить о любви.
Кто говорит? Кто будет говорить? Да какая разница, кто? Не важно.
Евгения Гранде будет говорить – она ближе всех к нам подобралась.
Она все это время путешествует по комнате Стравинского. Или улеглась и лежит себе в комнате Стравинского. Или, как он и советовал, набрала ванну и тлеет в зеленой воде, почему бы ей не принять ванну? Словом, Евгения все это время находилась где-то рядом. Скажу больше, Евгения всегда поблизости.
Немного пофотографировала, Стравинского пофотографировала, благо его нет, не мешает фотографровать замечаниями своими, своими замечаниями едкими, замечаниями, да примечаниями едкими, едкий человек, предел мечтаний и обожаний. Конечно, кому не хотелось бы заполучить такого Стравинского, певца нечаянной радости и пустоты? Да и погрустить с ним можно, поскольку грусть с ним беспредметна, а, следовательно, светла как утренняя роса. В ванне можно и вздремнуть, и после ванны можно соснуть часок – другой. Спит, возможно, спит. Вот Стравинский и восточный друг его спят, и она спит. Никуда не пошла, никуда не побежала, осталась, сама себе гость и хозяйка. Стрвинский и восточный друг его, наверное, тоже уже спят, отведали водки да котлет и спят, как те младенцы, сладко посапывают, немолодые мудрые люди, агностик и восточный человек.
Самое время о любви поговорить.
Кто будет говорить? Евгения Гранде будет говорить.
Бестелесная Евгения внутри вполне фигуристой, сказочно фигуристой Евгении-Юленьки будет говорить.
И сказочно фигуристая Евгения будет говорить, и другая Евгения, бестелесная будет говорить.
Во всякой Евгении живет бестелесная, бессловесная Евгения.
Когда затеваете флирт или даже просто, безо всякой интрижки, по привычке сыплете комплименты или шутите с намеком, или просто шутите без умысла, имейте в виду – токуя тем или иным способом, вы на самом деле представления не имеете, с которой из двух Евгений токуете. И то, что одна Евгения оценит как радость или глупость, другая может принять за вызов и призыв. Ни за что не угадаете, чей именно роток вскоре заалеет в глубине глубоко, чье тремоло заставит вас страдать и плакать по пустякам. Ибо эта игра сродни плаванию в невидимом океане без цели и предзнаменований. И за карты, к слову, не беритесь. В особенности за карты. Ни астролябия, ни боцман при таком путешествии не помогут.
Даже если боцман трезвее трезвого.
Что значит, за карты не беритесь? Уж если дарована вам женщина на беду или для беседы – непременно где-нибудь неподалеку карты. Не обязательно эти картонные картинки с масляными королями и ведьмами, масляными головушками. Иногда довольно и мятого червонца в кармане. Иногда, знаете ли, достаточно палец послюнявить, чтобы огрести целое состояние. Иногда, знаете ли, достаточно распустить шнурок, чтобы оказаться в петле, не приведи, Господи!
Что значит, ждала до последнего? Ждала и ждет и будет ждать, уж если предназначено и предписано, уж если мотыльки вовсю нацеловывают лампочку, черная мушка нацелилась, зелье наведено, тень пала, кровавый комочек зашевелился на самом дне, тяжелый сок побежал по веточкам, сердечко затрепетало, крот задрал рыжую мордочку и потягивает теплый запах жизни.
Ждала и ждет и будет ждать. Сидит на полу, сосредоточенно жует яблоко, нашла в холодильнике. Стоит у окна и не видит окна, и жует громкое яблоко, впиваясь до брызг всеми ста тридцатью семью клыками своими до брызг. Со времен Адама жует, окна не видит, ничего не видит, ни о чем вообще не думает, ни единой мысли. Не видит и не слышит ничего, только гулкий гул где-то внутри под ложечкой и оглушительный хруст. Ест жадно, как будто могут отобрать. Ест жадно, живет жадно и спешно, ибо что медлить, когда все предрешено. Ни одной мысли. Ест яблоко, нашла в холодильнике. Ест молча и говорит при этом. Говорит без умолку, слов не разобрать. Да и смысла нет – содержания в тех словах нет. Гул. Гулкие речи без слов. Страсть называется. Или голод.
Голод – точнее.
…без, без, без помощи, помощи нет, без помощи, беспомощность, детство, с детства, детство, дитя, дитятко, помоги, помогите, нет, помощи нет, нет помощи, молоко, молоки, молоко, каша, кашей, молочной кашей, каша, перья, кашей, перьями, подушкой, перьевой подушкой, перьями, пестрыми перьями, мертвыми перьями, улыбочки, улыбки, улыбочки, без сил, изо всех сил, рты, рот, во весь рот, изо всех сил, улыбки, улыбками, смех, улыбочки, смех, смехом, смехом, конь, лошадка, смех, смехом, лошадиным, смехом, пони, пони, пот, тьма, упала, опять упала, пони, лошадка, воз, навоз, взрослые, взрослые, на ногу, на ногу наступил, на ногу, эй, на ногу, смерть, сразу смерть, наступил, слон, слон, смех, перед смехом этим, перед смехом этим, душным, душным, удушающим, пальцы, пальчики, пальцы, перед пальцами, пальцами, шаловливыми пальцами, пальчиками, култышками, обрубками, длинными, больными, личинками, личинками, личинки, вот, личинки, белые, белые-белые, больные, взрослые, взрослые, чу, чума, чума, чур, вечно, вечность, вечно, вьются, вьются, фу, агу, агу, сюси-пуси, агу, руки, руки, много, синяк, вот, синяк, ну и вот, синяки, до, до, до синяков, чур, что? щекотка, бу, бу-бу, бу-бу-бу, Буратино, ужас, страшный, страшный Буратино, мертвый, оса, соль, смерть, смертоносный, мертвый, деревянный, деревянный… Кто придумал? кто только его придумал? Не Папа Карло, нет, не Карло, не Папа Карло, Папа жалкий был, жаль, жаль Папу, жалкий был, жалкий, жалкий… Си, си, сизый, Сизый Нос, вот кто, ах, вот кто, вот же кто, придумал, придумал, Сизый, Сизый, придумал, надоумил, придумал, надоумил Папу, пил, пили, пил, с Папой пил, спаивал, спаивал, агу, уа, глумился, глумился, надоумил, ре, резать надоумил, ре, резать, вырезать, научил, надоумил, родить, роды, родить, родить надоумил, вообще, очи, щеки, щечки, помощь, беспомощного, такого, такого, такого же, беспомощного, папа, беспомощный папа, беспомощный, беззащитный… Все, все, беззащитные, нет, папы беззащитные, щит, защита, беззащитные, слабые, мертвые, чаще мертвые, мертвенные, мертвые… пьют, пьют, потому, потому пьют, потому, пьют, умирают, смерть, смерть, умирают, все, все умирают, пьют, умирают, быстро, быстренько, быстро, си, сразу, разом умирают папы, папы эти, нет, не знать, лучше, лучше не знать, уж лучше не знать, совсем не знать, жалко, жаль, жалко, жалко, пчелка, у пчелки, вот, ветошь, вот, личинка, вот, пчелка, пчелки, ужас, жесть… Сизый, перед Сизым, Сизым Носом этим, дурь, Дуремаром этим, сизым, таким же сизым, в точности таким же сизым, Дуремаром, другом этим, поганка, с поганками, карманы, затхлые, затхлые карманы, с поганками в карманах, с поганками, пиявкам, личинками, пиявками, ветошью, личинками… Каша, пиявки, перед, перед, пред пиявками, каша, перед кашей, всякой, манной, всякой, манной, гречневой, ложка, перед ложкой, ложками, вилками, ложками, ложкой этой, ложкой стоеросовой, перед кашей, соседка, перед соседкой, перед соседками, смеются, тычут, тычут, соседки, дрянь, дрянь, дрянь такая, соседка, перед соседкой, с ремнем, соседкой с ремнем, ешь, ешь, давай, давай ешь… Клавиши, перед клавишами, оно, пиано, пианино, гроб, гром, гроб, пианино, перед пианино, на гроб похоже, на гроб, пианино, клавиши, а орга’н? а орга’ны? а шахматы, где? шахматы, вот, вот, шахматы, клавиши, больно, пальчики, пальчики, личинки, пальчики, жуть!.. Яблоко, яблоки, глобус, яблоко, перед яблоком, таким, таким же, таким же вот яблоком, в школе, до школы, после школы, школа, школа, клавиши, школа, трубы, трубочки, терпкие, терпкие такие, терпкие трубочки, перед трубчатыми, терпкими трубочками, перед, волосы, гладиолусы, гладиолусами, гладиолусами, сами, трубочки, опять, опять, трубочки, трубочками, с цветочками, цветиками, цветочками, безвольными, безвольными этими, безвольными их цветочками, бледными, безвольными их цветочками, поздравляю, поздравляю, праздники, поздравляю, празднички, шиш, стишки, чумазые, чумазые, стишки чумазые, детки чумазые, чума, чума, мальчики, мальчишки… Чума, мальчишки, братишки, братики, стая, стая, мальчишки, перед мальчишками, бахрома, хроменький, бахрома, с бахромой, черные, трусы черные, трусишки черные, забор, через забор, давай, давай, через забор давай, гвоздь, не гвоздь, давай, через забор давай, давай, давай, давай, мальчишки, братики, перед мальчишками, братиками, братишками, братиками, си, зеленые, и зеленые, зеленка, и зеленые, в зеленке, вечно, вечно в зеленке, Зина, Зинка, за Зинку, перед Зинкой, Зинкой этой, Зинкой в зеленке, в зеленке Зинка, с узлом, узелком, глазки, анютины глазки, глазки, горошки, узелок, глазки, да горошки, узелок, потом, потом, потом с узелком, узел, узел сперва, с узлом сперва, тугим узлом, косички, из косичек, из косичек тоненьких, зубки, зубки мелкие, много меленьких, много зубиков, беленьких зубиков, кусает, кусь-кусь, кусает, кусачая, кусачая Зинка, кусают, все, все кусают, укусы, уксус, укусы, уксуса глотнуть, больно, терка, кусает, больно кусает, кусают все, все, училка, и училка, за училку, перед училкой, стыд, стыдно, стыд, стыд-то какой, всегда, стыд всегда, всегда, училка, пот, потом пахнет, училка потом пахнет, подмышками труд, труд, труд, троечки, троечки, стыд, стыд какой, стыдно-то как, пот, подмышками пот ручьем, указка, глаз, указкой в глаз, указка, красная указка, глаз, яблоко, вот, вот, яблоко, перед яблоком, яблоки, яблоки, жевать, катить, жевать, а пожуй-ка, а пожуй-ка яблочко, яблочко-то, леденец, а пожуй-ка, леденец, пососи, пососи, соси, давай, леденец, пососи, пососи, яблоко, яблоко, катить, жевать, сосать, катить, яблоко, яблоко, катить, скарабей, ну, точно, точно, скарабей, как скарабей, скарабей, скарабеиха, кровь, вот, вот, кровь, вот и кровь, шарики, кровавые эти шарики, кровь, шарики, нашатырь, шарики… сигаретки, на сигаретку, на сигаретку, возьми, сигаретка, сигаретки, за сигаретку, хочешь? хочешь? за сигаретку? хочешь? а сигаретку? хочешь, хочешь? курить, не курить, мальчики, мальчики, ма, портвейн, ма, урод, удод, уроды, мальчики, мальчики, тая, с детства, тая спросонья, спозаранок, сразу, не потом, сразу, схватить, схватиться, ухватиться, сразу, спасайся, стая, спасайся, прижаться, за ногу, обнять, обнять за ногу, схватиться, схватить, за штанину схватить, схватиться, впиться, в гриву, загривок, в гриву, впиться, пить, пить, пить, спать, страх, спать, лед, страх, лед, на льду, лед, нос, ломать, ломкий, нос, ломали, пальцы ломкие, ломали, ручки ломали, ножки ломали, сломали, сломали, соловьи, соловушки, лед, искры, лед, лимон, лимонные, искры лимонные, лимонные, спать, спать, да, да, одна, одна, одна, да…
Та, другая Евгения, ну вы помните, та, что внутри, вторит, да перечит, страдания исполняет. Настоящие. Откуда? Она и страданий-то не слышала, а вот, подишь ты, водица коренная пошла.
Русское.
Да. Случается. Где живем-то?
…красавица, уж на что прелестница, уж на что, а вокруг-то? вокруг-то все косоглазеньки, в круг-то разве кто поставит? в круг-то разве кто выведет? а туда же? то, да потому, талдычат день да ночь, день да ночь, прочь да прочь, кошечки косоглазеньки, косоглазеньки да пресненьки, водица, тухлая водица-то, журчат, не ведают, сами не ведают… О чем? о чем не ведают? с кем не ведают? только, только-то, только бы звуки, звук, звуки издавать, давать, подавать, давать, давать… А туда же, ишь, туда ж, туда же, разметались, вишь, разметались, а цена? цена-то, цена?.. рубль, да рубль же, рубль, рубль в базарный день, а туда же… Пиявки, пиявочки, воры, воровки, воровочки, веревочки, вороны, воронье племя, то-то повыцарапывали, глаза повыцарапывали, глазоньки, друг дружке глазоньки, в такую-то непогоду, не видят уже, нет, не видят, в такую-то погоду не видят, повыцарапывали, ни зги не видят, а в ясен день, и в ясен день слепнут, слепеньки, стало быть, а туда же, в круг, бочком, бочком, да с выходом, помадкой напомажены, щечки да коленочки, плечики да выточки, уж не позорилися бы, уж не смешили бы, без них-то смеху хватат, смеху, да икоты, как с утра заведут, так на весь день, даром, что буран да полынь, свадебку им, свадебку подавай, свадебки играть, свадьбы собачьи играть, наигрывать… Женихов-то нет, женишков-то нет, нет как нет, калачом не заманишь женишка-то, и калачом не заманишь, кто таки ладненьки? каланча, да кнопочка… А Зинка хуже всех, та – хуже всех, Зинка хуже всех будет, в огород пойдет – ногу сломает, в колодец полезет – руку сломает, ручек, ножек нет, стало быть, голова садовая, тыковка, да маковка, а самой-то, головы-то и нет, как у людей головы-то нет, такой-то головы и нет, кочка, да кочка, боле ничего, косички тоненьки, да уши ослины, кака там любовь? кака любовь? с чего любовь-то? войлок да овчинка, пеньки да перепелочки, лопухи да семочки, глядь – огоньки, где? да в омуте, в омуте огоньки-то, гнилушки, гнилушки да гнилушки, каки огоньки? гнилушки… А им уж радостно, оне уж и рот до ушей, женишков ждут, стало быть, ждут, поджидают, умора, разошлися, разлетелися, ну-ну, ну и ну, ну-ну-ну, летите, перепелочки, летите, летайте, голубушки, летайте, летайте, голубушки, что ж не полетать-то, короток свет-то, короток свет ваш, укроют простынью, моргнуть не успеете, укроют, укроют простынью, ждите, ждите, вам чего? а вам – ничего… А вот я-то, я-то, я-то вот, я-то ждать буду, я-то вона как ждать буду, поперек ждать буду, сяду вполоборота и ждать буду, видна така ждать буду, призывна, привлекательна, из десятки не выбросишь, ждать буду, сяду вполоборота, с платочком беленьким, да в носочках беленьких, невзначай, слегка ждать буду, будто жду себе, а самой и делов-то нет, хочу, жду, хочу – не жду, жду, конечно, но виду не подаю – дюже привлекательна, смазлива да ладненька, уж больно смазлива-то, больно ладненька, ну, на кого глянут? ну, что, на кого глянут то? на кого глаз покладут? когда с платочком беленьким, да в носочках беленьких, то-то и оно-то, а как платок наброшу, вдоль, да поперек, да вишневый, да с нитью золотой – серебряной, кто же мимо птицы такой проскользнет? кто мимо Жар-птицы такой проследует?.. А уж как клевали меня, да щипали-пощипывали? Жуть да жуть! Зинка да пиявочки, Зинка да переполочки… И где та Зинка, и где пиявочки? Вот и отпоются, отпоются теперь слезки… Трифон мышегон на дворе-то небось, а им невдомек, отпоются, отпоются, вона скатерти расстилают, да гармони расчехляют, бродит бражка-то бродит, уж совсем созрела, да яблочко наливное, ах, како яблочко, так катала бы и катала по блюдечку, с таким-то яблочком, да в беленьких носочках, радуйтесь, батюшка, матушка, радуйтесь, не верили, всё не верили, а вот теперь полюбуйтесь-ка, еще петушка принесут сладкого, петушка карамельного.., Поворотиться? поворотилась бы, да не могу, вполоборота сижу, в носочках беленьких, запечатлевать будут, зараз запечатлевать будут, таку-то красавицу как не запечатлеть, красавицу, да умницу как не запечатлеть?..
Страшная сила, конечно.
15. Пожарные. Независимость
Следует заметить, Фефелов и Сопатов спорят постоянно.
Знакомы тысячу лет, понимают друг друга без слов, потому и подвиги совершают регулярно. Бывает, пожара еще нет, а они уже в самое пекло лезут.
Как могли предугадать? Приснилось. Обоим. У них и сны одинаковые.
Такая удивительная парочка пожарных.
Жизни друг без друга себе не представляют, но удержаться от перепалки не могут. Споры возникают по малейшему поводу. Вспыхивают из-за кого-нибудь пустяка, мелочи, но довольно скоро приобретают экзистенциальное звучание.
У нас всегда так. Не заметили?
А, бывает, что дискуссия изначально занимается в высших сферах. Часто на стравинских четвергах. На стравинских четвергах всегда так. Не мудрено – терпкий дух агностицизма, дурман безвременья, зов пустоты.
Вот Фефелов начинает.
Сопатов как правило выступает вторым голосом.
Вот Фефелов начинает, – Послушайте, Сопатов, что мы здесь делаем? можете мне объяснить?
– А если полыхнет?
– Уклоняетесь от серьезного разговора. Устали?
– Ничуть.
– Отчего же не отвечаете прямо на прямо поставленный вопрос?
– Что за вопрос?
– Думали о своем?
– Задумался.
– О своем?
– Не могу понять.
– Уклоняетесь.
– Ничуть. Задавайте ваш вопрос.
– Послушайте, Сопатов, что мы здесь делаем? можете мне объяснить?
– Полыхнет, чует мое сердце.
– Не полыхнет. Или полыхнет. Это сейчас – не главное.
– Кто же это говорит? Вы случаем не забыли, кто вы? Не забыли, что вы пожарный?
– Опускаете планку, Сопатов.
– Ничуть. Задавайте свой вопрос.
– Скажите, Сопатов, только без этих ваших девиаций, мы с вами независимые люди?.. Лично я считаю себя независимым человеком. Как видите, я сегодня без каски. Независимый человек. Таковым себя считаю и нахожу.
– Печальная иллюзия.
– Могу себе позволить как независимый человек.
– В отблесках грядущего пожара дальнейшую дискуссию нахожу бессмыслицей. Очень жаль, что вы явились на грядущий пожар без каски.
– И не мечтайте, что вы один знаете о грядущем пожаре. Как минимум еще один человек знает о грядущем пожаре. Угадайте, кто… Намекаю, один независимый человек.
– Печальная иллюзия?
– Я – иллюзия?
– Независимость – печальная иллюзия. Независимых людей нет и быть не может. На этом хотелось бы завершить дискуссию.
– Уклоняетесь?
– Отнюдь. Немного задумался. Задавайте ваш вопрос.
– Думали о своем?
– Скорее да, чем нет.
– О грядущем пожаре?
– О независимости.
– И что скажете?
– Печальная иллюзия.
– Хотите контраргументов?
– Хочу завершить дискуссию.
– Но вы же понимаете, что это невозможно?
– К сожалению. Задавайте ваш вопрос.
– Где мы, Сопатов?
– У Стравинского.
– Так нет Стравинского.
– А где он?
– Не знаю. Уехал, болен, умер. Никто не знает. Стоят, ждут. Но все эти люди меня мало интересуют. Меня мы интересуем. Мы-то что здесь делаем? Что побуждает нас мерзнуть на морозе? Разве мы зависимые люди?
– А вы как думаете?
– Мне всегда казалось, что мы независимые люди.
– Печальная иллюзия.
– А я говорю – независимые.
– Печальная иллюзия.
– Добровольное рабство? Принимаете добровольное рабство?
– Отнюдь. Задавайте свой вопрос.
– Очнитесь, Сопатов. Горим.
– Лжете. Пожар еще не начался.
– Не лгу.
– Лжете.
– Я никогда не лгу.
– Лжете. – Не лгу. – Лжете. – Не лгу. – Лжете. – Не лгу. – Лжете. – Не лгу. – Лжете. – Не лгу. – Лжете. – Не лгу. – Лжете. – Не лгу. – Лжете. – Не лгу, не лгу, не лгу…
С этими словами, не дожидаясь ответа, Фефелов из всей мочи ударил Сопатова кулаком в лоб. Сопатов рухнул как подкошенный и замолчал.
Фефелов, как и давеча Сопатов, не ожидал такого эффекта. Бил друга не раз, и сам получал сдачи, но чтобы так вот, навзничь, замертво?
Растерян, чуть не плачет, голос дрожит, – Послушайте, Сопатов, нельзя же так. Вы умерли? Погибли? Вы, что, были без каски?.. Где ваша каска, Сопатов? Вы же убеждали меня в том, что вы никогда не снимаете каску?.. Вы так горячо отстаивали рабство… Почему вы молчите? Вы умерли?.. Не ожидал. Не ожидал от вас, Сопатов. От кого угодно, но только не от вас. Мы же с вами как близнецы… И в мыслях не было причинить вам смерть. Оно как-то само получилось… Я уже и не помню, как получилось. Мне уже кажется, что вы сами по себе упали, Сопатов… Вы плохой актер, Сопатов… Вы не можете так умереть, не имеете права. Вы должны сгореть на пожаре… Довольно валяться. Вставайте, сукин сын!.. А не хотите, как знаете. Может быть, вам нравится так вот валяться мертвым человеком, фактически, трупом. Вольному воля.
Сказал и пошел прочь с подчеркнуто прямой спиной и слезами на глазах.
Иногда пожарные ошибаются.
16. Вариация. Фокус
– Что и требовалось доказать, – ворчит Диттер, пальцами протирая очки перед тем, как отправиться в путь.
– Вы что-то сказали? – отозвался Насонов.
В душе профессора забрезжила совсем, было, погасшая надежда на дискуссию, – Я отчего-то был уверен, что Стравинский нас не впустит… Интуиция… Заметьте, уже не в первый раз его двери остаются для нас закрытыми… Черт с ним, конечно. Прогулялись, и то. Время потрачено впустую, хотя, справедливости ради, время провели неплохо. А вы, судя по вашему выражению лица, так просто отлично провели время.
– Да, развеялся немного. Рутина, поденщина, знаете, разъедает.
– А вот, кстати, давно хотел вас спросить… Дмитрий Борисович? Не ошибаюсь?
– Можно запросто Дмитрий.
– Ну, нет, зачем же? солидные люди…
– Ох, уж мне эта солидность. Я, как-то, знаете, все к юношеству тянусь. У меня студенты. Я со студентами дружу. Мне с ними интересней, – подмигивает Диттеру. – Средь них барышни хорошенькие встречаются. Для любования, разумеется, не больше. Но кровь все еще волнуется. Никак, знаете, не могу изжить в себе подростка. И не хочу. Понимаю, что порой выгляжу смешным. Но мне так лучше. Зачем себя насиловать, правда? Простите мою болтливость, вы что-то хотели спросить?
– Ничего, ничего. Это хорошо, это очень радует, что вы такой открытый человек. Открытые люди теперь редкость. Хотел спросить, да. Зачем вы ходите к нему? К Стравинскому? Я обратил внимание, вы не пропускаете четвергов. Зачем вам это?
– А почему вы спрашиваете?
– Я не только вас, я и себя спрашиваю. И не нахожу ответа. И еще вопрос. Наверное, первоочередной. Кто он?
Насонов смеется, – В каком смысле?
– Кто, кто?
– Как кто? Стравинский. Сергей Романович.
– Это я знаю, но я не знаю кто он, по сути? В спорах беспомощен, это факт. Позиции его абсурдны и поверхностны в любой области. Слабодушен. Часто бывает во хмелю или после похмелья. Может быть, он – поэт? Но те стихи, что он читает, также бессмысленны. Да он их практически и не читает. Так, бормотание какое-то. Между тем, народ идет к нему охотно. Вот и мы с вами. Ну, я, допустим, безнадежный спорщик. Люблю завести с ним спор. Он, известно, сопротивляется, как может, а я – все равно. Виноват. Без дискуссии дня прожить не могу. Это единственное, что побуждает мой рассудок к движению. Прирожденное свойство. Я еще в детстве по этому поводу тумаков насобирал. В спорах побеждаю всегда, потому в обществе коллег оказываюсь редко. Побаиваюсь их. Они алчны и мстительны. А здесь народ разномастный, но, главным образом, доброжелательный. Наблюдаю, потом размышляю, даже фантазирую. Но сути Стравинского понять не могу. От того некоторая растерянность наблюдается.
– Быть может, эта его таинственность и привлекает вас?
– Не знаю. Достаточен ли подобный мотив в моем возрасте, с моим опытом?
– А, может быть, он – князь.
– Что значит князь? Что вы имеете в виду?
– Князь он и есть князь. А что? Все признаки налицо. Вальяжность, аморфность, многозначительность. Кажется, бездельник, но тлеет в нем нечто затейливое, изящное, согласитесь. У меня на сей счет теория имеется. Думается мне, что, не смотря на революции и прочие судороги человечества, патриции и плебеи, часто сами того не зная, нарождаются с завидным постоянством. Несут в себе родословные приметы. И в образе мысли, и внешне. Рим навсегда.
– Так уж и Рим?
– Придумайте более подходящую аналогию… Не получается. Вот и я лучшего не нашел. А Стравинский не только что князь, да еще и мудрец.
– В чем же, скажите на милость, его мудрость? когда он, главным образом, молчит. И если я не вызову его на дискуссию, приложив, заметьте, недюжинные усилия, так может и промолчать весь день. В лучшем случае промурлычет что-нибудь невнятное.
– Молчать ведь тоже уметь надо. Часто молчание дороже и полезнее громадных речей. Не находите? Смотришь порой на такого заику, а видишь себя самого во всей красе с изъянами и носом.
– На Гоголя намекаете?
– Люблю. Всем сердцем. Отрезвляет, упорядочивает, настраивает. Тут тебе и зеркало, и камертон.
– Это вы о Стравинском?
– А если я вам скажу, что никакого Стравинского нет?
– То есть, как это?
– Да очень просто. Мы воображаем, что он есть, а его на самом деле нет. Мыслеобраз. Оптический обман. Мираж. Нечто наподобие сновидения.
– Так, так. А давайте-ка разовьем. А мы с вами?
– Мираж. Настоящая реальность – вне четвергов. Настоящая реальность скучна, примитивна, нечиста, печальна, порой трагична. И мы отказались от нее. Смотрите – ни вы, ни я не любим своих коллег по одним и тем же причинам. Стараемся не думать о них, избегаем их компании. Я предпочитаю студентов, для меня мир в известной степени иллюзорный, так как мне уже никогда не стать одним из них. Еще мне нравится, уж простите великодушно, общество покойников. Да, я нередко беседую с ними. Им покойно и мне. Ваш выбор, судя по всему, книги. Угадал?.. И вот для вас, для меня, каким-то нам неведомым, необъяснимым образом образовалось вот это стравинское пространство. Пространство, в которое мы погружаемся по четвергам, ну, чтобы надышаться озоном, так сказать. А потом возвращаемся. По аналогии со сновидениями, – смеется. – Пока пробуждаемся. Получается пока. Однажды останемся. Там или здесь. Навсегда или на какое-то время. По вере, как говорится.
– Но мы же существуем? В действительности-то мы существуем?
– В качестве персонажей сновидения или видения. Не больше. Вы же не станете отрицать, что сновидения – тоже действительность?
– То есть, фактически нас нет?
– Думаю, что нет.
– Ну, это вы хватили. Как-никак я всё же ученый. Привержен фактам…
– Слушайте, а давайте проверим, что нам стоит?
С этими словами Насонов извлекает каминные спички, чиркает и подносит к рукаву своего пиджака. Вспыхивает мгновенно, как будто соломенный. Диттер в ужасе, пускает ветры, зачем-то раскрывает зонт, озирается в поисках помощи. Ищет глазами Фефелова и Сопатова, но пожарные давно ушли. По счастью, неподалеку оказывается зануда Волокушин, а теперь милый, спасительный Волокушин.
– Что делать, Волокушин, голубчик? – кричит глазами профессор.
– Да успокойтесь вы, Диттер. Банальный фокус. Насонов уже тысячу раз проделывал его.
– Отчего он так мгновенно вспыхнул?
– А вы не обратили внимания на огоньки в его зрачках? Изначально может показаться, что это сполохи отзвучавшего праздника. Но это не совсем так.
– Что же это за огоньки?
– Заготовка. Да успокойтесь вы.
– Да как же успокойтесь? он натурально горит! Разве вы не слышите запаха?
– Ничего страшного. Его же коллеги анатомы соберут, будет как новенький. Через неделю явится. Какую-нибудь новую шалость придумает. Не человек – ветерок.
– Какой кошмар!
– Не берите в голову, профессор. А давайте-ка я вас отвлеку. Я здесь одну историю сочинил. Вот, кстати, про ветерок. С виду, как будто для детей, но содержание глубокое, я бы сказал, с экзистенциальной подоплекой.
– Человек горит, Волокушин!
– Еще минут двадцать – двадцать пять гореть будет. Обычно в это время укладывается. Так вы будете слушать или я пойду?
17. Волокушин. Ветерок и лейка
Ветерок – плутишка, игрун. Ни минуты не может усидеть на месте. То с речкой забавляется, то с зайкой. А в этот раз ему на глаза попалась лейка. Новенькая синяя лейка, только что из магазина.
Лейка сияет на солнышке, улыбается, все ей ново, все в диковинку. И травка изумрудная, и ландыши, и подсолнухи, и приветливые яблоньки.
Вот, косматый ветерок подкрался к лейке, толкает ее в бок, – Давай играть.
Лейка отвечает, – Рада бы поиграть с тобой, ветерок, да только я летать не умею.
– Что за беда? Ручеек тоже летать не умеет, однако журчит. И ты возьми, да и прикинься петухом.
– Так и петухи летают плохо. Кроме того, я не шарлатан, чтобы прикидываться, да представляться, – говорит лейка.
Ветерок не унимается, – Яблоньки – тоже не шарлатаны, однако как кланяются.
– У яблонек выхода нет, им яблочки продать нужно, – парирует Лейка.
Ветерок хитрит, – А ты – наблюдательная лейка. С виду простушка – носик без темечка, только из магазина, а уже все по полочкам разложила.
Лейка и здесь не растерялась, – Да и ты ветерок не прост. Вроде играешь, а сам себе на уме.
– Что же, – говорит ветерок, – раз мы теперь всё друг про дружку знаем, давай кого-нибудь вместе обманем.
– Негоже мне с обмана-то начинать. Что обо мне зверушки подумают?
– А они и без тебя уже все придумали.
– Что же такого они придумали? – спрашивает лейка.
– А то, что ты не лейка вовсе, а молодая свинка. Съедят они тебя.
– Так я же на самом-то деле лейка, несъедобная я.
– Что такое «на самом деле»? На каком-таком «самом» и о каком деле идет речь? Нет больше никаких дел. Так, делишки. Проголодаются – съедят за милую душу. Вон они в малине уже в карты играют. Лиса да муравьед.
Лейка смеется, – Шутишь, ветерок. Откуда же в наших краях муравьеду взяться? Не бывает у нас муравьедов.
Ветерок продолжает озорничать, – А это лайка муравьедом прикинулась. Я ее научил.
– Зачем ты всех запутываешь, ветерок?
– Суггестию отрабатываю.
– А зачем тебе суггестия? Ты же ветерок. – удивляется лейка.
– Был ветерок, да весь вышел. Меня уже давно в ветры записали. Или того хуже. Мальчишки такие, только подставь хвост – тут же на косточки разберут. Для холодца. Хотя сами холодец не любят. Им сладости подавай, петушков да мальтозную патоку. Все заговоры, лейка, на Мальте составляются. Это только кажется, что я ветерок. А на самом деле я и сам не знаю, кто я. На Мальте не бывал, представления не имею, до чего они там дошептались. Вот тебе сказали, что ты лейка, а ты и поверила, а на самом деле ты кем угодно можешь быть. Ты же сама себя видеть не можешь?
– Не нравится мне твоя игра, ветерок, – говорит лейка.
– А, думаешь, мне нравится? – отвечает ветерок. – Выхода нет. Нищаем. Вон сколько бродяжек развелось. Вот что. Полезай-ка в кузов. Больше ты не лейка, а гриб. Груздь.
Тут, как по заказу, хоть и летом, откуда не возьмись – снегоуборочная машина. Скорее всего, заблудилась. Как тот трамвай, ну, вы знаете. Вмиг заграбастала своими ручищами лейку и дальше поехала.
– Да, – говорит ветерок, – Была бы ты желтой, лейка, глядишь, и пронесло бы.
Сказал – и шасть в малину к лисе. В дурака играть, а то и во что похуже.
Мораль: не всяк ветерок легок на помине.
18.Стравинский С. Р. Возвращение
Сергей Романович возвращается домой. Не пьян. Не сказать, что пьян. Устал, круги под глазами. На улице уже черно, хоть и снег. От разговоров и ветра веретено в голове. Уже хочется домой. И спать, спать, спать. О пропаже Алешеньки забыл, о Юленьке забыл, конечно. Обо всем забыл. Вот и лестница. На лестнице черно. Сажа. Кошка искрой из-под ног. Даже не испугался. Так устал. Спать, спать, спать. Погрузиться в сажу сна. Вот и дверь. Открывает дверь. Открывает дверь. Открывает дверь и видит…
Ослепительный свет. Кажется ослепительным. Слепота пару секунд. Черная, затем свет. Сначала лимонный, яркий, затем успокаивается. Отвык от света. Слава Богу, успокаивается. Отпускает. Слепота отпускает… Евгения-Юлия. Юленька. Евгения сидит, восседает, восседает, так будет точнее. Евгения восседает, ноги по-турецки. Евгения восседает, сложила ноги по-турецки, глаза пустые. Оглушение. В оглушении пребывает. Огрызок яблока одесную. Два ржавых огрызка одесную. Одесную или ошуюю? Сусальные древние слова. Не к месту, но я им рад. Из недр, так сказать. Утешение. Покоем веет от таких слов. То есть жизнь продолжается. Такое утешение – что бы ни произошло, покуда ты жив – жизнь продолжается. Мелкие такие зеленые яблочки были, несъедобные вполне. Один огрызок рядом, один чуть поодаль, около окна. Ела, стало быть, яблоки. Ходила, прохаживалась. Наверное, фотографировала. Возможно, яблоки. Изучаю огрызки, чтобы не видеть главного. Хотя бы какое-то время. Увидел уже, конечно, но взгляд тотчас отвел. Все так поступают, когда сталкиваются с чем-нибудь, к чему решительно не готов. Прием неплохой, но это ненадолго… Яблоки, огрызки яблок. Могут получиться любопытные фотографии. Просто яблоки – натюрморт, не больше. Огрызки же некую значимость придают, уже вопросы разные возникают. Например, о чем дума художник, когда выбрал именно, что огрызки?.. А, что еще, кроме огрызков видишь ты? Вот это – некстати. Вот это – совсем некстати. Ничего не вижу. Врешь, видишь. Вру. Кое-что вижу. Такое вижу, чего быть не может, чего случиться не должно было… Нет, нет, не должно было… А почему, собственно?.. Уж сколько раз говорил себе, пьянка – от лукавого. Силок и провокация. Отвлекающий маневр. Пока пьешь – чума в твой дом забирается. В дырявой шали. С тенетами в волосах и дохлой мышкой в кармане. Даже во рту пересохло… Ну, что там?.. Что? Что, что, что?.. Евгения. Сидит по-турецки, глаза пустые. «Восседает», решено. Уже не пустые, уже сверлят. Ловушка. Номер восемь. Ловушки всегда нумеруют. Почему, не знаю. Первый раз задумался. Номер восемь. Ну, это понятно. Восьмая квартира… Нужно было у Тамерлана остаться, он звал. Может быть, вообще переехать к нему на какое-то время. Пока не успокоится. Пока все не успокоится. Он возражать не станет. Ему одиноко. Храбрится, конечно, но ему одиноко, знаю… Сидит. Тьфу! Восседает… «Сидит», «восседает», какая разница? Скрестила ноги и сидит. А на руках… Вот, вот, вот, вот, вот. Добрались до сути. Доскреблись до самой сути… А на руках… Ну же, вынимай голову из песка… Алеша. Алешенька, так-перетак. К груди прижала… Так, Алешеньку пропускаем. Внимание на женщину. Отвлечься, последняя попытка. Красивая женщина. Красивая, конечно, женщина, конечно, спору нет, конечно… Мадонна. Именно, что мадонна. Вот в этом освещении, так именно, чуть склонила голову, мадонна… Мадонна с гуманоидом… Всё. Иссяк… Надо же было предвидеть. Нет, котлет ему подавай. Выпивки и котлет. В добрый путь… Сибарит чертов. Не про тебя раблезианство. Сиди, кропай свои туманные стишки, сиди, носа не высовывай! Пожрут ведь, рано или поздно пожрут. Пропадешь ни за грош… Сколько раз твердил себе, детство кончилось, всё, детство позади, пора расставаться с дурными привычками, пора становиться взрослым человеком, прятаться пора. Времена такие настали – лучше схорониться. Но вот же парадокс – чем лучше спрятался, тем больше на виду… Все, пропал. Сам пропал и Алешку сгубил. На этот раз окончательно… Алешенька, хитрец, еще тот хитрец. Хитрован глаза прикрыл, посапывает. Ох!.. Мадонна молчит, ни слова, сверлит глазами, молча вопрошает. Изваяние… Сделаю вид, что не увидел. Вроде бы увидел – и, в то же время, не увидел. Разве так не бывает? Бывает. Редко, но случается. Устал, не увидел. На улице черт знает что творится, светопреставление. Черно, ветер. И в подъезде черно. Еще эта кошка, не исключено, что черная, в темноте как поймешь? Наверняка черная… Допустим, суеверен. А так оно и есть. Испугался. Суеверный человек испугался. Очень испугался. Все мысли в этой кошке. Имею право. Оцепенел от страха, с ума сошел… Так что – не до мадонны. Простите, конечно, но как-нибудь в другой раз. Нынче не до вас. Изволите видеть, нахожусь в прострации, ибо изумительно суеверный человек есмь. Трус. Если без затей – трус. Давайте без обиняков. Давайте уже без обиняков. Предчувствия разные испытываю. До головокружения, до тошноты. Тут бы поскорее лечь и забыться. Не до, вас, мадонна, дико извиняюсь… Надо же, нос к носу столкнулись. Прямо перед дверью расположилась, места больше не нашла. Дверь открываешь и вот они – Юленька да Алешенька. Будьте любезны, так-перетак… Нос к носу, и что? Близорукость, чудовищная близорукость. А того лучше – пьян. Самое простое – мертвецки пьян. Недалеко от истины. Пройти мимо и завалиться спать. Пройти мимо внаглую, пошатываясь, как положено… Неважно, что скажет. Ничего не скажет. Молчит и будет молчать… Не в себе. Похоже, она действительно не в себе. Наверное, ей таких Алешенек прежде встречать не доводилось. Конечно, не доводилось. Откуда бы? Возможно он вообще единственный гуманоид на Земле. Оторопела, факт. Не мудрено. Доведись до любого. Я и сам долго в себя придти не мог, когда увидел его впервые… Не заметил, не узнал. В конце концов, я агностик, имею право. Агностик просто обязан не узнать. А они – пусть их, пусть сидят сколько душе угодно… А что, собственно, произошло? С чего я переполошился? Сидит женщина с гуманоидом на руках. Даже не событие… В конце концов, имею я право на сон? Алешка же спит, вон как сопит. Что твой паровоз. И я хочу. Чем я хуже? Вообще-то я – хозяин дома. Пройду и завалюсь внаглую… Стерва! Глазами сверлит. Душу пьет. Всего уже выпила… женщина… Как Тамерлан сейчас сказал. Женщина, мна… Да, они такие. Присосутся и пьют. Проснутся, присосутся и пьют… Даже теперь рифмую. Нет, мы, поэты, себе не принадлежим… поэты, агностики – это свыше. Судьба. Прячься, не прячься, от Него разве спрячешься. Вот и сейчас Он наверняка наблюдает, улыбается. Ситуация-то дурацкая. Если вдуматься – хохма, анекдот… Вот как тут пройти? А никак! Всё, поздно, время упущено. Сразу надо было, а теперь что уж?.. А потому что неожиданно всё получилось. Было подстроено. Ловушка готовилась заранее… Юлия-Евгения – мадонна, враг. Подкараулила. Поймался на крючок червячок!.. Надо бы что-то сказать. Наверное, надобно что-то говорить, сказать? Теперь уж что? Что, что, что?.. Что?
Евгения отвечает шепотом, чтобы Алешеньку не разбудить, – Мальчик.
– Что, мальчик?
– Мальчик. Алеша.
– Почему, Алеша? Почему, почему? – А то я не знаю. Надо же было такое ляпнуть?
– Алеша.
– Что, Алеша? Зачем Алеша?
– Вы не сердитесь на меня?
– За что?
– За Алешу.
– Почему я должен сердиться? В добрый путь.
– Испугались?.. И вы испугались. Я тоже испугалась.
– Чего испугалась? Что? Что здесь вообще происходит?
– Я спала. Уснула, спала. Съела яблоко, два яблока и уснула. Проголодалась, нашла яблоко в холодильнике, съела и уснула.
– Ну, так что?
– Проснулась – и вот.
– Что?
– Он. Алеша. Рядом лежит. Ручками обнял, плачет. Но без слов. Показалось, что плачет. Но он не плакал. Почему-то не плакал. Просто так лежал. Не плакал. Почему?
– Кто?
– Алеша…
– Кто?
– Мальчик…
– Так. Что ты от меня хочешь? Что я должен сделать? Прости, я очень устал. Долго шел. Потом кошка.
– Мне стыдно.
– Я кошек недолюбливаю. Не то слово. Боюсь. Смертельно боюсь. До тошноты. До головокружения. Суеверен… Кроме того, мы крепко выпили. Признаюсь, выпили крепко. Не рассчитал. Не рассчитывал, но так получилось. Так иногда бывает. У мужчин случается. Это не значит, что мы все негодяи и подонки. Среди нас встречаются неплохие люди. Иногда даже очень неплохие люди… Я рассчитывал только пригубить. Пригубить и как следует поесть… Разыгрался зверский аппетит. Еще до того разыгрался. Если ты помнишь, я сказал тебе, что пошел за котлетами. Почему-то захотелось котлет. Я вообще обожаю котлеты. Странно, может показаться странным, но предпочитаю столовские котлеты. В столовской подливке. Не знаю, с чем это связано, не думал об этом. Однако это так. Причуда. В добрый путь… Имею я право на свои причуды? Вот как ты думаешь? Имею я право на причуды? По мне, так каждый человек имеет такое право… И я никого не осуждаю. Никого, ни при каких обстоятельствах. Что бы ни произошло. Это, конечно, и моя беда. Оттого, что я никого не осуждаю, ко мне тянутся разнообразные гости. Полагаю, это связано с тем, что я никого не осуждаю… Иногда до тысячи душ!.. Уму не постижимо!.. И так каждый четверг… И ты это знаешь… А я уже не могу общаться как прежде. Я устал. Я уже давно устал. Хочу объявить, но не решаюсь. Кроме того, я никого не узнаю, потому что агностик. Некоторые обижаются… Кроме того, я пишу стихи. Плохие, скорее всего, стихи. Но я не могу не писать, потому что эти стихи мне диктуются… Есть публичные поэты. Поэты, которым нужна публика, поклонники. Но я – не из таких. Сам не такой, и стихи у меня не такие. И вслух, насколько ты знаешь, я своих стихов не читаю. А они, гости мои, каким-то образом все равно слышат. Я молчу, а им кажется, что я с ними разговариваю. Это ужасно! Это что-то невообразимое!.. Давно, давным-давно в далекой юности, да, я собирал однокашников, да, читал, но наша компания давно распалась. В отличие от меня у людей семьи, дети. А ко мне продолжают приходить. Кто – не знаю. С каждым годом больше и больше. Иногда до тысячи душ! Безумие какое-то! Абсурд!.. И главное, стихи-то у меня никчемные. Это очевидно!.. Скажи, ты же знаешь, чувствуешь… ты – умная девочка, хорошо воспитана, у тебя есть вкус, скажи правду – чудовищные стихи. Разве не так?.. И кто мне всё это диктует? Страшно подумать!.. Скорее всего, не человек… Просыпаюсь ночью, оттого, что мне диктуют. В добрый путь… Не всегда стихи, кстати, иногда просто какие-то мысли, примечания к чему-то, какие-то сноски… Я даже не знаю, женский это голос или мужской. Я даже не уверен, что это голос… Да, время от времени выпиваю. Когда выпиваю – мне становится легче. Можно сказать, что для меня водка – лекарство. Так и думаю про себя – пойду, подлечусь… Выпью немного – посплю подольше… Вот и сегодня думал – выпью немного, закушу котлетами, то есть поем как следует, да посплю подольше. В тишине, без сновидений, стихов и примечаний. Но вышло несколько иначе. Выпили крепко. Теперь, Евгения, мне очень хочется спать. Просто глаза слипаются. И если ты не возражаешь…
– Боже, какой стыд!
– Поверь, сам себя ненавижу. А теперь прости…
– И я откроюсь.
– Вы меня не правильно поняли. Я как раз закрыт…
– И я хотела бы открыться вам… Откроюсь?.. Ну, что вам стоит? К вам тысячи приходят, а мне без этого никак, я без этого погибну… не могу не открыться сейчас. Иначе сойду с ума. Сделаю что-нибудь с собой… Я даже к отцу не могу пойти с этим, довериться. Довериться я могу только вам, и никому больше… Откроюсь?.. Спасибо… Сейчас соберусь. Мне немного не по себе. Еще не привыкла… Даже не знаю, с чего начать… Понимаете, я мечтала… ну, разные там девичьи мечты, ничего особенного… Точнее женские… уже женские, вот вам первая тайна, но, теперь уж всё к одному… Одним словом, мечты молодой женщины… ну, вы понимаете… вы все понимаете, вы такой человек, вы даже не знаете, кто вы и что вы, я-то знаю, об этом все знают… вы с нами мало разговариваете, а мы между собой много разговариваем. Для того и приходим… к вам, конечно, но в том числе… и я знаю, что вы и кто вы на самом деле, хотя и пытаетесь хорониться как подлинный интеллигент, провозвестник в какой-то мере, да что там говорить… Приходим общаться, разговаривать… к вам, конечно, но и между собой разговаривать… Это – как лавина, уже не остановить. Но я не об этом. Это я как бы ответила вам на ваши сомнения, страдания, не могла не ответить… вы сказали обо мне так хорошо, я не могла не ответить. Тем более в такую минуту, когда чувства переполняют меня, и я еще не осознала, ужас или радость. И то и другое – сильные чувства. И я не умею управиться с ними, потому что эти чувства – как лавина… Немного запуталась… Так вот, мечты молодой женщины… Понимаете, мечты молодой женщины не ограничиваются фотографированием в моем случае… Сама знаю, что глупость сморозила, но это объяснимо в моем состоянии… Понимаете, мечты молодой женщины много сильнее. Они – как лавина… И я мечтала. Так же, как все мы. В сущности, мы очень похожи. Да, мы разные, но очень похожи… Да, молодые женщины мечтательны. Они мечтают. Даже когда заняты чем-нибудь совсем обыденным, или когда фотографируют… казалось бы – акт творчества, папа называет это актом творчества… так вот, даже во время совершения этого акта мечтают, не перестают мечтать… Мечтала и я. Но речь шла, раз уж у нас откровенный разговор, мечтала о будущем отце своего будущего ребенка. Это был не конкретный человек, мечта не имела очертаний, была, если можно так выразиться, бестелесная. У молодых женщин так бывает, в особенности, когда уже многие испытания позади, и опыт, прямо скажем, неудачный… в особенности, если неудачный… Вы же знаете, так много зла вокруг, зависти, лжи, эгоизма, откровенной глупости, отчаяния, малодушия, стяжательства, подозрительности, грубости, дурных предчувствий, поспешности, поверхностности, бесчувственности, беспринципности… трудно встретить, встретиться… всегда разочарования, несчастья, обиды… Почему, не знаю, Папа Карло вспомнился. Чушь, конечно. При чем здесь Папа Карло? Откуда взялся?.. Уж вы мне поверьте, мне и в детстве не приходило ассоциировать себя, скажем, с Мальвиной. Были и другие запоминающиеся, вызывающие восхищение персоны, принцессы, например. Особенно принцессы. Многие девочки воображали себя принцессами, да и многие молодые женщины, чего уж там?.. Но только не я. Я отдаю себе отчет в том, что принцессой нужно родиться. Даже в наше время монархии существуют, и там действительно живут настоящие принцессы. Но если ты не имеешь отношения к королевской семье, будь ты красавица из красавиц, принцессой все равно не станешь… Видите, я – реалист. Так уж меня воспитали. Так что ни с Мальвиной, ни с принцессами я себя никогда не сравнивала, и не сравниваю. Однако же Папа Карло явился. Зачем?.. Вот я теперь думаю, зачем?.. Как пример, наверное, теплого человека, так, что ли? Мне всегда не хватало тепла. И теперь… Нет, меня окружают хорошие люди, очень хорошие люди, но как-то сложилось, что тепла мне все равно не хватает. А Папа Карло как раз очень теплый, согласитесь, персонаж. Если сравнивать, например, с поленом. Хотя, конечно, полено теплее металла. На морозе особенно заметно. Но Папа Карло еще теплее. Я бы сказала, он горячий, Папа Карло. И вот он, если помните, уже будучи пожилым человеком, отдал свое тепло, остатки своего тепла какой-то чурке, не пожалел. Можно сказать, себя не пожалел… Хотя вряд ли это был осмысленный акт. Думаю, всё произошло само по себе. Так бывает… Теперь таких людей, наверное, нет. Но мечту, пусть у девицы, пусть у ребенка, пусть у молодой женщины, даже у старухи в синих чулках отнять нельзя. Все, можно отнять, только не мечту… даже если это неизбывная мечта… Я – реалист всё понимаю, просто, знаете, иногда фантазиям не хочется сопротивляться. То есть фантазирую иногда. Пускаюсь, так сказать, в путешествия. За горизонт. Вот и теперь что-то такое неведомое и приятное пролилось во мне, пригрезилось что-то такое, я подумала, а почему я, собственно, должна сопротивляться? Очень даже хорошо, перед сном вспомнить что-нибудь неизбывное. Конечно не Папу Карло. Я же не маленькая. Но он пришел… Знаете, я не стесняюсь того, что стала молодой женщиной. Около года стеснение ушло. Надеюсь, безвозвратно. Даже, в известной степени, горжусь этим… Вы тоже, наверняка мечтаете перед сном. Все мечтают перед сном. Своего рода утешение. В этом постыдного ничего нет… Конечно, иной раз такие фантазии посещают… Прямо скажу, и неприличные случаются. Но не Папа Карло. Только не Папа Карло. Может быть, в девичестве, но не теперь. Так что Папу Карло я никак не ожидала встретить. Я его считаю даже слишком благородным персонажем для себя. Моя самооценка, если вы успели заметить, немного занижена. Прежде это называли робостью. Мне бы попроще что-нибудь, поскромнее. Я голубей люблю кормить. Шью неплохо, готовлю. Домохозяйка. Была бы хорошей домохозяйкой. Фотографирование – не мое. Я взялась за фотографирование ради отца. Чтобы он хоть немного успокоился. Он очень волнуется, переживает, что я так и останусь старой девой без изюминки. А фотографирование – это как раз изюминка. И не обязательно для старой девы… Не теряю надежды обрести большую семью. Ну, вот, кажется… А Папа Карло, что Папа Карло? Тоже одинокий человек. Прожил без любви… Я, наверное, долго говорю?.. Я ведь это всё к чему?.. Поверьте, и мысли не допускала, что такое могло случиться. Никому в здравом уме и в голову не придет. Да я и теперь думаю, что этого не может быть.
– А что случилось-то?
– Разве вы не видите?
– Ничего особенного я не вижу.
– Мальчика Алешу видите?
– Нет.
– То есть как?
– Не знаю, о ком вы говорите.
– Да вот же, у меня на руках, прижала к груди… Проснулась, он рядом, обнимает меня своими ручками.
– Кто?
– Мальчик. Алеша… Хотела спросить, Сергей Романович, это ваш мальчик?
– Нет. Нет у меня мальчика. И быть не может. Я одинок. Как ваш Папа Карло. Но я не Папа Карло.
– Выходит, Алеша сам по себе?
– Не знаю. Не могу знать.
– Так легко отказываетесь от него?
– Я не знаю, о ком вы говорите.
– Вы хотите сказать?..
– Я ничего не хочу сказать… В добрый путь.
– Вы хотите сказать, что это мой ребенок, Алеша – мой сынок?.. Хотите сказать, что у меня теперь сынок?.. Но это же невероятное событие. Сергей Романович, миленький, скажите, что так не бывает!.. Или бывает?.. Погодите-ка. Так вот почему Папа Карло!.. Потому? Да?.. Не молчите, Сергей Романович. Зачем вы молчите? Вы меня осуждаете?.. А я-то голову ломаю… Или все же насмешка? Это насмешка?.. Вы разыгрываете меня?.. Да нет, я вижу ваши глаза. В них не читается ирония… Сергей Романович, признайтесь, это ваш ребенок, только вы забыли о нем?.. Временно… выпили и забыли. Может же такое случиться?.. Нет, нет… Сергей Романович, голубчик, произошло чудо. Сергей Романович, дорогой, боюсь, что произошло чудо! В вашем доме, Сергей Романович, произошло чудо!.. Что же теперь делать?.. Нужно как-то подготовить отца. У него слабое сердце… Что я ему скажу? Как объясню?.. Не молчите, Сергей Романович, научите.
– Ты очень взволнована, Юленька. Мне боязно за тебя.
– Что делать, Сергей Романович?
– Ступай, отдохни. Хорошенько все обдумай, взвесь. А лучше всего ни о чем не думай. Ступай, выспись как следует… И я прилягу, отдохну.
– А как Алешенька?
– Я за ним присмотрю.
– Вы же говорите, что не видите его.
– Тем более.
Юлия-Евгения молчит некоторое время, затем говорит, голос дрожит, в глазах слезы, – Я все понимаю, Сергей Романович, вы человек иных сфер. Для вас мой лепет, как говорят в таких случаях, понижение тона. Возможно даже, своего рода оскорбление. Вы о вечном думаете, а я к вам со своими глупостями… еще хотела посоветоваться, каких лучше ленточек Алеше накупить, белых или синеньких. Дура. Стыдно. Вы нас в небо зовете, а мы к вам с ленточками… Еще хотела посоветоваться, стоит ли мне показаться врачу. Хочется понять, как могло такое случиться. Не опасно ли. И Алешу показать… Сомневаюсь. Врач может неверно истолковать… Чем его кормить? Молока у меня нет, я проверила. Искать кормилицу?.. Что скажете?.. Не отвечайте! Ни в коем случае не отвечайте! Я потом себя казню за эти вопросы!.. И простите, если можете. Самой стыдно. Пришла, напросилась в дом, родила, еще с разговорами лезу. Вам с космосом беседовать надобно, не до бабьих хлопот… Все же последний вопрос, и больше приставать не буду. Можно последний вопрос?
– Конечно, Юленька.
– Что делать, Сергей Романович?
– Ступай, отдохни. Выспись как следует. В добрый путь… И я прилягу, отдохну.
– А как Алешенька?
– Я за ним присмотрю.
– Вы же говорите, что не видите его.
– Тем более.
– Присмотрите?
– Присмотрю.
Юлия осторожно поднимается, чтобы не побеспокоить спящего гуманоида, шепотом, – Спасибо вам… Можно вас поцеловать?
Не дожидаясь ответа, направляется к двери.
Останавливается, возвращается. Вся дрожит, лицо пылает, – Что же делать?
– Ступай, ступай с Богом. Все устали. Надо бы прилечь, отдохнуть.
– Нет… Не могу оставить его, Сергей Романович. Даже вам не могу оставить… Простите… И будь, что будет.
Молодая женщина бережно пеленает Алешеньку в полотенце, уже в дверях на мгновение задерживается, – Можно вас поцеловать, Сергей Романович?
Не дождавшись ответа, окончательно стушевавшись, поспешает в ночь.
19. Чай. Макбет
Обыкновенно сестрички Блюм, тропические птахи, воительницы веселья, пребывают в возвышенном настроении. Всегда в поисках радости они не позволяют себе расслабиться ни на минуту. И в пасмурный день хлопочут, хохочут, лопочут. Весь дом приходит в движение, стоит хозяйкам переступить порог. Волнуется тюль, по комнатам мечутся искры, блики, лепестки, фантики, зайчики, шпильки, лимоны, брызги, конфетти, лимонницы, еще какая-то рябь. Смех пригоршнями. Звон, трели, щебетанье. Вдруг короткая пауза, будто свет выключили, шепот, шорох, и снова фейерверк, новые россыпи радости. Скорей, скорей, хохотуньи. Обгоняя жизнь. Тишины боятся. Кажется, продлись пауза чуть дольше, тотчас на льняные их головки обрушится какое-нибудь несчастье. Так изо дня в день.
Только не в этот четверг. Нынче у затейниц сплин. На душе пусто. Оглушительная немота и тяжесть. Что случилось? Вроде бы ничего особенного не произошло. То, что Стравинский не открыл дверь, не может быть причиной хандры. Не раз Сергей Романович выкидывал подобные фортели. Агностик имеет на это право. Вообще агностицизм лишен каких-либо условностей, привязанностей и обязанностей. В этом могучая сила и абсолютная правота учения. Исчезни любой из агностиков, провались в тартар прямо на глазах, соратники и бровью не поведут. Безмятежность. В сущности, недостижимый предел мечтаний многих несчастных, истерзанных планами и поступками.
Искомая безмятежность, вроде бы, присутствует, но иная, терпкая, с металлическим привкусом тоски и жалости к себе. Чужеродная безмятежность, если можно так выразиться.
Сестрички тоже устают.
Совсем некстати увязался Сагадаев. В другой раз непризнанный трагик был бы очень к месту. Озорничать с ним одно удовольствие. В особенности если его потянет на Шекспира. О таком зрелище только мечтать.
Иной раз непризнанного гения и хорошим коньяком не заманишь, но стоило солнышку спрятаться, закрыть бы глаза, отвернуться, лечь да уснуть – вот он, пожалуйста, тут как тут, зануда, Макбет.
И ведь не прогонишь.
И коньяку, кажется, нет. Точно нет.
Говорит, говорит. Что говорит? Говорит, замерз. Говорит, погреться б. Неуклюже поджав ноги, рухнул в кресло, глаза закрыл. При таком раскладе Шекспира от него ждать не приходится. Да и не нужен сегодня Шекспир. И Сагадаев не нужен. Никто не нужен, отвернуться, лечь, да уснуть.
Интересно, надолго замерз?
А если до утра?
Павел молчит. Согревается.
Рита молчит. Сидит против Сагадаева, взгляд осмысленным не назовешь.
У Марины сил, кажется, побольше, – Сейчас чай будем пить. Сейчас, сейчас, чай будем пить. Ну, что, будем пить чай? Что скажете? Сейчас, сейчас. Чайник уже кряхтит. Кряхтит уже.
Сагадаев оживает, – Я чай пить не могу… А кофе нет у вас?.. Или покрепче чего… Чай – не могу. Нельзя. Меня от чая тошнит. Всегда.
Каприз, стало быть.
Рита слабым голосом, – Капризы, капризы. – Так не капризы, в том-то все и дело, не капризничаю я, я не капризничаю. Нет, это – факт, наблюдение, беда моя – чай. Не переношу. Все переносят, а я – никак. – Капризы, капризы. Шучу, Паша, шучу. Не хочешь, так не пей. – Замерз я, Рита. Очень. – Верю, верю. Тишке говори, пожалуйста, голова болит.
А, может быть, и правда мутит артиста от чая.
Сагадаев развивает мысль, – В голову ударяет. Еще хуже ликера… Меня больше всего ликер забирает. Хор. Трагический финал… Помните, был такой «Новогодний»? Еще шартрез. Или шартрез не ликер?.. Я его пил-то пару раз… Нет, раза четыре… или пять… В стельку. Все – трезвые, а я в стельку… Из-за сахара? Из-за сахара. Надо бы сахар проверить. Сдается мне, диабет у меня. Они говорят «дыабэт», врачи говорят «дыабэт». Почему не знаете? Может быть, так правильно, «дыабэт»?
Марина уже с кухни, – Только чай… Еще шампанское. Но в холодильнике. Холодное.
– Шампанского пока не нужно…. Нет, не нужно покуда. Подумал, не нужно. Промерзли все. Я лично промерз. Так бы – хорошо, конечно, но ты говоришь, в холодильнике? А тогда не нужно. Не май. И не июнь. Зима. Шампанское в жаркий день хорошо. Замерз… Нет, не нужно, пожалуй. Покамест… Что же это будет, если я холодного приму?.. Пневмония? Воспаление почек?.. Столько болезней… Дыабэт… Нет, пока не стоит… Хотя шампанское люблю. Всегда… Черт с ним, неси чай… Хотя, шампанское, конечно… Может быть, достать? пусть пока греется?.. Или уж не связываться?.. А много у вас шампанского?
Марина вносит чай. Большой бокал. Подает Павлу.
– Большой бокал? Это чай? Видно же, что чай, зачем спрашиваю? Спасибо. Большой бокал? Крепкий? А для меня чай всегда крепок. Другие, если хватят лишнего, потом чай специально пьют, чтобы протрезвиться, а меня, напротив, забирает еще больше. Хор. Трагический финал. – Обжигается, – Ай, ай, горячо. Большой бокал? Большой. Крепкий. Черный. Крепкий чай? Черный. Разве не видно? Зачем спрашиваю? – Делает еще глоток, – Ай, как горячо! Горячий какой. Обжегся. Кажется, обжегся. Сжег всё. Все не сжег, конечно, но обжегся. Обжегся, но не сильно. Но обжегся… Толстею. Вот толстеть стал.
Марина тормошит сестру, – Риточка, я вас оставляю… Тщетно. Громче, – Я вас оставляю. Рита, слышишь?.. Может, тебе тоже чаю принести? Рита, ты спишь? Не прикидывайся. Я, правда, больше не могу. Еще минута и рухну прямо здесь. Если захочешь, чай на кухне. Сосну часок. Может, меньше. День убит. Будешь спать? С Павлом посидишь? Принести тебе чаю? Вязну. Что-то вязну сегодня, торможу. Хочешь чаю? Павел уже пьет. Словом, нальешь себе, если что. На кухне. А я вас оставляю. Отправляюсь спать… Очень жаль, Рита, очень жаль, что ты спишь. Я думала, мы, как обычно, подержимся за руки перед тем, как я уйду. Очень жаль… Не обижайся, не могу, честное слово. Прости. – Сагадаеву. – Дорогой друг, прошу простить великодушно, милый друг. Ухожу. Глаза слипаются. Не могу, честное слово, глаза слипаются. И ты можешь подремать, друг. Рита уже дремлет. И ты поспи. А потом все проснемся и будем пить чай. Ты любишь чай? Ах, да, ты же говорил. Прости.
– Да за что же прощать? Это уж вы меня простите. Навязался на ваши головы. То, бывает, и коньяком не заманишь, а тут – на тебе. Самому неловко. Замерз. Вот и вся причина.
– Мы с сестрой пташки вольные, но привязаны друг к другу. Как бы вольные, потому что друг без дружки не можем. Привязаны. Это уже, согласись, не абсолютная свобода. Но, поскольку это обстоятельство оберегает нас от замужества, получается, из двух относительных свобод, мы выбираем большую. Логично? Ну, вот. А, чтобы не потерять друг дружку, прежде чем расстаться – пойти спать или еще куда-нибудь, мы обычно беремся за руки. Постоим так немного, и только тогда расстаемся. Обмениваемся энергией. Ты веришь в энергию? Мы – верим. Без вариантов. «Замыкание круга» по Промысловски. Не читал Промысловски? Напрасно. Обязательно почитай Промысловски. И жизнь войдет в колею. Вот увидишь. Запомни, Промысловски. Заметь, не Промысловский, а Промысловски. Элегантно. Думала, красавец, франт, жуир. Почему-то представляла себе его в лайковых перчатках, с тростью, усики-стрелочки. А потом мне показали фотографию. Ибикус. Лысый с родинкой. Старый и грустный. Совсем не привлекательный. Но это же не важно, правда? Вот, Фрейд смолоду красавцем был, и что? Как всех расстроил своими детскими воспоминаниями! Ну, всё, заболталась с тобой. Спать хочу. Многие твои проблемы как ветром сдуло бы. Промысловски, запомни. Правда, его трудно достать, но я тебе подскажу, где, если захочешь. Мы тебя любим, Сагадаев, но очень хочется спать. После Стравинского всегда смертельно хочется спать. Так что, прости если сможешь. Бай-бай.
– Я вас долго не задержу. Отогреюсь немного и пойду. Сам устал. Старею, толстею…
– Ну, хорошо, – Марина ретируется.
Павел Марине в след, – А что, Мариночка, «хорошо»? Что ты мела в виду? Ты сказала «хорошо», о чем это ты?
Нет Марины. Зато Рита мало-помалу возвращается из небытия. Еще потусторонним голосом, – Сбежала? Гадина. Даже за руки не подержались. Мы с сестрой, прежде чем расстаться, обычно беремся за руки. Постоим так немного, и только тогда расстаемся. Обмениваемся энергией. Как два кораблика. – Павел улыбается, – Почему кораблики? – Не знаю, мы кажемся мне маленькими корабликами в безумном седом океане. В отличие от больших кораблей, маленькие кораблики в шторм, как правило, не тонут. То же самое и в сексе. Я краем уха слышала, вы Промысловски обсуждали? Так вот, то же самое и в сексе. Никогда не задумывался?.. Ты меня слушаешь, Павел?.. Ну, что же, как говорится, не хотите, как хотите. Это спросонья, не обращай на меня внимания. Сейчас проснусь, сейчас.
Сагадаев проявляет учтивость, – У вас что-то случилось? – С чего ты взял? – Что-то произошло? – С чего ты взял? – Вы не такие, как всегда. – Какие? – Не знаю. Не такие. – Такие. – Такие? – Такие. – Вспыхивает вдруг. – А что такого особенного я сказала? – Нет, ничего. Да я и не расслышал. Толстею, глохну. – Не хотите – как хотите. Так говорят. Часто. Чаще чем хотелось бы. То и дело говорят, не обращал внимания? У вас на театре не так? Все, кому не лень. Вот времена настали. По поводу и без повода. Случайная фраза. Всегда случайная. – Все нормально. Немного обжегся, а так все хорошо. – Обжегся? – Обжегся. – Как, то есть, обжегся? – Чаем. – Чаем обжегся? – Чаем. – Это пройдет. – Надеюсь. – Пройдет. – Надеюсь. – Хорошо. – Вот и Мариночка уходя сказала «хорошо». Я ей верю… И тебе верю… Вы хорошие. Очень хорошие. – Я тоже ее люблю. Она – слабенькая. Что-то болеет последнее время. По вечерам температурка. Небольшая, но все же. Я ей малинового варенья купила. Не хочешь малинового варенья? – Нет, спасибо. – А мы с ней, прежде чем расстаться, обычно беремся за руки. Постоим так немного, и только тогда расстаемся. И так всегда. Хорошо… Ну, что, Павел? Какие соображения? «Макбета» читать будем? – В другой раз. Замерз. Немного. Марина чая принесла. Отогреваюсь. – Вижу. – Меня от чая тошнит. С детства. – Замерз? – Очень. – Сейчас согреешься. – Вот, думаю, как бы не вырвало. Чай в голову ударяет хуже ликера. Меня больше всего ликер забирает. – Нет ликера. – Что ты, что ты?! Не нужно ликера. Упаси Бог. Ни в коем случае! Тут бы с чаем совладать. – А нет ликера. – Это замечательно. Очень хорошо, что нет ликера. – И коньяка нет. Кажется, шампанское есть, но в холодильнике… Ну, что? «Макбета» читать будем? – Умер. – Кто? – Макбет умер. – Как умер? – Убили. – Ужас!.. Нет, ты не обманываешь? – Нет. – А так все хорошо складывалось. – Ведьмы. – Думаешь? – Не иначе. – Ужас!.. Всё. Кажется, проснулась. Просыпаюсь. Проснулась, кажется. – Спала? – По-моему, спала. – Поспала немного? – Вздремнула. – Совсем немного. Минут пять, не больше. – Минут десять. – Минут пять, не больше. – А кажется, что все полчаса. – Выходит, хорошо поспала. – Еще бы. – А знаешь что? ты ложись, не вставай, в смысле, спи дальше, не просыпайся. Зачем просыпаться? Подремли еще немного. Может быть, уснешь. Спать – славно. А я посижу немного, согреюсь, и пойду. А ты ложись, досыпай… У вас замок английский? – Не знаю. С флажком. Не знаю, что такое английский замок. С флажком – это английский? – Английский. – Значит, английский. – Ну и замечательно. Согреюсь, дверь захлопну, и был таков. А ты спи. – Так проснулась уже. – Проснулась? – Кажется, проснулась… Ну, что, Павел? Какие соображения? «Макбета» читать будем?
У Павла слезы на глазах. Рита, – Ты чего это вдруг? – Ничего. Так, вспомнилось. – Что вспомнилось? – А ведь у меня, Риточка, мог быть ребенок. – Да? – Вполне… И у вас с Мариночкой мог быть ребенок. – Дети. – Что? – Нас двое. Если бы у каждой был ребеночек, было бы как минимум двое… Дети. Множественное число. – Да, да. Да, двое. Ну, конечно. Двое, ты права. Да, да, двое. Сначала у тебя, потом у Мариночки. Или наоборот… Одновременно родить вряд ли получилось бы. – Это точно. – И у меня мог быть сын. Или дочка… Могли случиться близнецы. Близняшки. Тоже двое… Бывает, и тройни рождаются… Иногда приходят такие мысли… Иногда задумаешься так-то, к горлу ком подкатывает. – Хочешь детей? – Нет. Что я с ними делать буду? Детей не хочу. Я их не знаю, боюсь. Сам ребенок, если честно. Размышляю, фантазирую, не больше. Иногда, случается, всплакну. Думаю, мог бы иметь детей. В старости было бы кому воды подать, например, – смеется, – вспомнил анекдот с бородой. Старик умирает, плачет. Дети спрашивают, ты чего плачешь? а он – я вас кормил, поил, жизнь на вас положил, пугали – умрешь, некому воды подать будет. Вот, умираю, и что?.. Пить-то не хочется, – смеется, имитирует голос старика, – Обидно, пить-то не хочется… С бородой анекдот. Терпеть не могу анекдоты с бородой, однако рассказываю. Все время рассказываю. Зачем?
Рита уходит, возвращается с шампанским, бокалами, – Шампанское будешь? – Холодное? – Из холодильника. – Не могу принять решение. – Принимай, а я пока выпью. – Откупоривает бутылку, наполняет бокал, выпивает залпом. – Хорошо. – Хорошо? – Очень хорошо… А что, собственно, случилось-то? – В каком смысле? – Ты говоришь, мог быть ребенок. – Откуда же мне знать? Вы все такие разные. – Кто? – Все… Женщины… Всё что-то рассматриваю, наблюдаю, сравниваю… Не скрою, иногда разные мысли посещают… Мальчишками под лестницей прятались, под юбки вам заглядывали. Интересовались, что там, да как. Рассматривали, наблюдали, сравнивали. – Нам с Мариной? – Что? – Нам с Мариной заглядывали под юбки? – При чем здесь вы с Мариной? Я же рассказываю о своем детстве. В годы моего детства вас с Мариной еще не было. – А теперь? – А что теперь? – А если бы ты теперь вдруг стал мальчишкой, пусть на час, забрался бы к нам под лестницу?.. Ну, что замолчал? Отвечай как на духу. – Не скрою, такая мысль возникала… Понимаешь, чем больше выбор, тем сложнее остановиться… Понимаешь, это кажется, что всё одинаково, что все, в сущности, одинаковые. Нет, нет, тысячу раз нет. Все разные. Все настолько разные, голова кругом… И притяжение, манок. Всякий раз – манок… В чем загадка – не могу понять. Никто не знает. Ни Фрейд, ни Промысловский ваш. Никто… Врут, что знают. не знают… Ибо необъяснимо… Меня привлекают все женщины. Без исключения… Даже в возрасте. Особенно те, что в возрасте. Думаю, потому что зрелые опытные женщины в детстве, в юности воспринимаются как нечто уж совсем недосягаемое… Наверное эти ощущения каким-то образом закрепляются. Прячутся в подсознании, тонут там, но не погибают. Ждут своего часа. В нужный момент, как правило, когда этого уж никак не ожидаешь – всплывают. Как глубоководные мины. Как только ты почувствовал своего ребенка, ребенка в себе, понимаешь, что я имею в виду? – так они являются. Всплывают, каракатицы. И уж тут – ухо востро. Всякое может случиться, если потерять бдительность. А как не потерять бдительности? Надобно помнить всегда – твоя голова просто нафарширована глубоководными минами… От теней прошлого не так легко освободиться. Вообще с тенями не так просто расставаться, а с тенями прошлого в особенности… Что же касается вас с Мариной… Под лестницу, конечно не забрался, но разные мысли в голову лезли… Сами по себе… Я – сам по себе, а мои мысли сами по себе… Так как-то.
Рита смеется. Не смеется, заливается. Целый оркестр из колокольчиков.
Павел немного растерян, – Смеешься?.. Да, ты смеешься. Насмешил. Актеры любят смешить. Актеров медом не корми – дай насмешить… Вот ты смеешься, а напрасно. Хотя, как знать? Может быть, смех в данном случае как раз то, что нужно. Всё так неоднозначно, так мучительно… Я страдаю, невыносимо страдаю, Рита. Причина тому – всё те же наблюдения, фантазии. Я, Рита – бесконечно творческий человек, таким уж родился. В понимании среднего нормального человека – урод. Червячок. Аз есмь червь… Нет, нет, какой червь? При чем здесь червь? Это я так, чтобы подчеркнуть унизительный свой путь извилистый. Но не червь, конечно. Гордость имею. И побольше, чем у некоторых, имен называть не буду. Гордость. И благородство в меня родители привнесли. Так что не червь. Скорее вымершая птица. Гасторнис. Была такая птица. Потому что летаю. Да, умею летать. Урод, а летать умеет, в отличие от некоторых, имен называть не буду. Не из опасения, а потому что очень хорошо умею отличить мелкое от главного… Видишь, какой у нас союз? Вы – пташки вольные, я тоже птица. Пусть и вымершая. А вымерших птиц не бывает. Все рано или поздно возвращаются. И гасторнис вернется. Ты веришь? Я верю. Во мне много веры и надежды. А вот профессия у меня – рабская, подневольная. А я сросся со своей профессией. – Хочешь, возьмемся за руки? – Погоди. Возьмемся обязательно, чуть позже. А теперь послушай. У меня ролей-то нет. То, что я играю, ролями назвать нельзя. Ролей нет, и не было никогда. Я на театре прозябаю. Чувствую себя приживалкой, частью декораций. Однако в труппе нет такого легендарного персонажа, как ваш покорный слуга. А дело в том, что я не пропускаю ни одной репетиции. Посещаю и утренние, и вечерние, и ночные перед премьерой. И те, где не занят. Смеются, конечно. Коллеги, партнеры смеются за глаза. Юродивым считают или блаженным. Что-то такое. Я им прощаю. Трудно поверить, но прощаю с великой легкостью. Оно само как-то происходит. Мало того, я все роли знаю наизусть. И заглавные и второстепенные. В давние времена мог бы стать выдающимся суфлером. Память изумительная… Вот они расходятся после репетиций, а я уже в темноте прокрадываюсь на сцену и исполняю монологи. И диалоги. Играю и за себя, и за своего партнера. Иногда до самого утра… Здесь ты должна понять – это не отчаяние. Не болезнь отчаяния. Это – счастье. Трудно поверить, но это так… Мне зритель не нужен. Даже противопоказан. Ты же видела, что происходит с моим лицом, когда я публично исполняю монологи? В особенности Макбета… Вообще Шекспира. Шекспир мне противопоказан. Он убьет меня однажды, я знаю. Но без него не могу… Без Шекспира и без женщин. И женщины мне противопоказаны, потому что сердце имею слабое. Как всякая птица. Между прочим, гасторнис вымер. Это такая метафора. – Может быть, попытаться как-то проще жить. Немного легкомыслия? – Может быть. Наверняка. Но это же надо принять, настроиться. Стать французом. – Рита смеется, – Почему французом? – Павел серьезен, – Но я же играл французов. Это крайне поверхностные люди. Единственное, что объединяет меня с ними – некоторая прижимистость. Я даже пустые спичечные коробки не выбрасываю, думаю, не смейся, когда-нибудь из театра меня все равно попросят за ненадобностью, чем стану заниматься? Вот буду сочинять что-нибудь из коробков. Скажем, башню можно будет построить. Или мост. Я читал такую комедию французскую. Кошмар. Герой строил из спичек башни, мосты, а над ним все потешались. В гости приглашали, чтобы потешаться. Кошмар… Творческому человеку все в хозяйстве сгодится. Пробки от бутылок собираю. Значит, кто-то наверняка, собирает бутылки. Не с тем, чтобы сдавать, а для коллекции. Коллекционер. Но вот он, тот собиратель бутылок, хранит свою тайну, помалкивает, и над ним никто не смеется, а я, или тот француз с башнями, не сумели удержаться, и сделались шутами. Молчание – золото. У меня в доме столько всего накоплено – шагу не ступить… А хочешь, я пойду, спрячусь под лестницей, а ты, как будто не знаешь, по лестнице пройдешь. Детство вспомним. Мое детство… Глупое предложение, согласен. Иногда совсем дураком делаюсь. Наверное, так душа отдыхает. В такие минуты человек особенно беззащитен… Ты не обиделась? Это же игра, не обижайся. Я бы и смотреть не стал… Стал бы, конечно… Стыдно. Забудь… Они легкие, пьют легко, французы эти. Легкие вина, пьют легко. Шампанское – это же их изобретение?.. Я, когда ухожу в запой, мрачным делаюсь. Все бездны души моей как бы разверзаются. Такое про себя узнаю во время запоя, что жить не хочется… Рита, я же бесконечно русский человек. Русский актер. Во мне плач живет и раскаяние. Что мне эти французишки, да и при чем они? Здесь всё и все. Разве есть на свете еще люди? Ты думаешь, есть еще на свете белом люди? Ты думаешь, тот, иной невидимый мир существует? Ты думаешь, что Шекспир – человек?.. Здесь, Рита, совесть, стыд, жизнь, надежда. Нигде больше. Всё остальное – лишь воображение. Жаль, конечно, но это так. Чудовищная игра. Мы просто бредим. Всё бред. Когда это знание проникает в тебя, становится страшно. Невыносимо становится… Но надежда не исчезает. Это даровано нам свыше!.. Всегда надежда. Даже на краю гибели. Даже в последнем вздохе надежда и свет, Рита!.. О коробках и пробках не думай. Это от беспомощности. Это я маленького себя жалею. Это любовь просится. Видишь, какое слово произнес заветное?.. Да разве создала природа человека нежнее и лучше меня?.. Ой, молоточки в голове, тошнит… Рита, я точно знаю, что женюсь на ком-то из вас, но не могу выбрать. – В глазах Павла уже мигают недобрые огоньки. – Вы обе моя страсть! Знаешь ли ты, Рита, что такое страсть?! – Наверное, Павел, наверное, пора домой, баиньки? – Вот видишь? Забудь немедленно всё, что я тебе сказал. – Уже забыла. – Обещаешь? – Обещаю. Выпьешь шампанского?.. Шампанского на посошок и по коням, да?
Сагадаев, едва не опрокинув кресло, встает. Руки его дрожат, глаза пылают, на лице появляется первая трещина, – Ты расстроена, Рита. Прости! Я не хотел тебя расстроить! Ну что, если откровенный разговор? Разве трудно выслушать? Что тут предосудительного? Я честный человек, приказов не отдаю. Готов к ослушанию, ибо робок и несмел по сути! Но нуждаюсь! Как всякий стражду! Истерзана душа! Истерзана и кровоточит, Рита! Я в отчаянии!.. Что там у меня на лице? Трещина? Трещины?.. Давай, давай возьмемся за руки, умоляю, ведь ты хотела? Уж пожалела!.. А кто меня, кто странника такого пожалеет?! Пойми, я – сирота! Сиротство – вот моя высокая болезнь!.. Хорошо, согласен, внешне я, быть может, не состоялся, во всяком случае, не в твоем вкусе! Не важно… Не главное, пойми! Высокая поэзия разверзла предо мной свой влажный грот! О, этот грот волшебный! Любовь! Вот слово произнес впервые здесь сейчас! Зови Марину, ступай, зови ее тотчас! Буди, веди. Возьмемся за руки!.. Что ж внешность? Пусть ее. Души богатство! Знание и пылкость! Страсть потаенная! Я буду Макбета читать, как ты просила!.. Да, я подчас бываю мрачен, но в дни иные свет моей души!.. Но, заклинаю вас, не нужно ненавидеть!
Схватившись за горло, Павел выбегает на балкон. С грохотом закрывает за собой дверь. Некоторое время из темноты доносятся его стоны, после чего наступает тишина.
Рита ни жива, ни мертва.
Входит Марина, – Что у вас случилось? Где Павел? – На балконе.
Марина выходит на балкон, возвращается, – Там нет никого. Где Павел, Рита?.. Где Павел, Рита, где?
20. Гроза. Чехов
Без леденящей кровь истории шансов у любой, даже исключительной книги с гулькин нос. А у нас с вами складывается именно что исключительная книга. Не скрою, хотелось представить нравственные приключения, так сказать, в чистом виде: одухотворенные персонажи – люди, животные, инопланетянин Алешенька, отринув невзгоды и непогоды, в пространстве дум и наитий занимаются поиском истины. По законам гармонии строят свою метафизическую голубятню, ну, и так далее. Хотелось бы создать галерею положительных героев, если можно так выразиться, первых космонавтов безусловного счастья, в чем так остро нуждается человечество. Но, пока это, по всей видимости, невозможно. По крайней мере, у меня не получится. Хотя мироздание, можно сказать, уже перезрело в предвкушении нового ренессанса и парадиза. У отдельных его представителей, у многих, да что там, у большинства в ожидании грядущего рая даже рассудок помутился. Вот почему наряду со Стравинским агностиком, Стравинским композитором так желанен и важен светлый образ Стравинского психиатра.
Обстоятельством, оправдывающим явление криминальных эпизодов в литературе, является следующий постулат – зло обязано быть представлено с тем, чтобы убедительно показать неотвратимость победы добра. Какой же триумф без поверженного врага? Слабенький постулат, на мой вкус, но что делать? Так что придется нашим славным четвержанам иногда повоевать. При поддержке непобедимой, на том настаиваю, эскадры адмирала Рожественского, включая крейсер Аврору, лучшей в мире симфонической музыки, а также благодаря открытиям в области агностики и успехам отечественной психиатрии данная кампания несомненно будет выиграна ими в независимости от жертв и поражений.
Утешением и спасением для автора-гуманиста, вынужденного вплетать в повествование аспидную нить лиходейства служит следующее утверждение: зло – понятие относительное. Все зависит от угла зрения. С позиции злоумышленника или адвоката злоумышленника зло неотвратимо и, в конечном счете, является благом, даже для самого потерпевшего – приобретение опыта, формирование своеобразного иммунитета и тому подобное. Популяция же в целом очищается. Вспомните рифмующиеся фразы – «человек человеку волк», и «волк – санитар леса». Это означает, что человек-санитар волен-с – неволен-с должен нести в себе приметы зверя, который, по многовековым наблюдениям – злодей и душегуб. А, с другой стороны, когда идет охота на волков, разве не жертвами оказываются наши серые земляки, лесные соседи? Да, в известной крыловской истории с ягненком волк проявил жестокость и несдержанность, но разве не суровая необходимость привела его к преступному деянию? А разве не волчица вскормила беспомощных младенцев Ромула и Рэма, которые в последствие основали Рим, перламутровое яйцо человечества?
Тривиальные примеры. Но часто бывает, держишь в уме какое-нибудь знание, и, казалось бы, чего проще взять, да и применить его в тех или иных обстоятельствах. А, случись, оказия или беда – точно бес его в рукав запрятал. А там, где оно располагалось – мокрое пятно, а то и вовсе пустое место. Сообразить, догадаться в рукав заглянуть – время надобно, а где его, время это возьмешь, когда оказия или беда?
Я – к тому, что напоминание не бывает лишним.
Представителями лиха в предлагаемом эпизоде с криминальным уклоном выступят уже знакомые хулиганы Гуня и Тёпа. Низкорослые, коренастые хлопцы. На вид им около двадцати. Тепа выглядит младше. Молодые шелушащиеся картофелины, только что с грядки. Не выходят – выкатываются. Разумеется, из-за угла. В карманах опасные бритвы и обрез. У Тепы – бита, у Гуни бита и обрез. Ребята задорные, злые, бестолковые, как сама улица, что их воспитала, однако сообразительные не по годам. В других условиях могли бы стать первоклассными литейщиками или плотниками, а то и шахтерами, но блатной мир нередко оказывается притягательнее шахты. Внезапные деньги, любовь наизнанку, задушевные песни, васильковые купола на груди, холодное жало правды – чем не зов сирен для молодого гребца?
Выкатываются. Из-за угла. Гуня и Тепа. Диттер навстречу. Сталкиваются. Нос к носу. Тепа испрашивает сигарету. Машинально, по привычке. Не исключено, что курить не хочет. Только что курил, например. А, может быть, вообще не курит. Цель другая – грабеж. А, может статься, и этой цели нет. Кого грабить-то? Просто увидели встречного – дай закурить. Машинально. По привычке.
Я еще не решил, курит мой профессор или нет. Иногда, думаю, должен курить. Возможно, трубку. Но в таком случае понадобится кашне и настольная зажигалка. А какого цвета кашне, какая зажигалка?
Бык?
Может быть, обезьяна?
И тот и другой образ обосновать нужно. В таких вопросах спешить нельзя. Неверно подобранный символ все повествование под откос пустить способен.
А что будет делать сам Диттер, пока я буду мозговать над его зажигалкой? А ну, как своевольничать начнет? С подобного рода субъектами такое случается сплошь, да рядом. Вообще профессор и без того персонаж туманный, зачем дымом усиливать? Довольно с него зонта.
Ага! Зонт попался на глаза пострельцам. Как полагается – оторопь. Зонт зимой – зрелище и событие. Нет, обыкновенный гражданин прошел бы мимо, конечно. Гражданин с червоточинкой, не исключено, покрутил бы пальцем у виска, наградил бы едким примечанием, не больше. Гуня и Тепа – другой коленкор, граждане необыкновенные, лиходеи. Им пройти мимо зонта никак невозможно.
Приложив ледяную ладошку ко лбу погруженного в свои мысли профессора, Тепа возвращает его в реальность, – Папаша, закурить не найдется?
Диттер отвечает в привычном для стравинских дискуссий стиле, – Требует пояснений.
– Каких еще пояснений? – вступает Гуня, свинцовый баритон.
– То, что вы озвучили, в нейтральной интонации, случайно или преднамеренно, что это? Вопрос-приветствие, вопрос-знакомство, вопрос-угроза или вам действительно хочется курить?
Гуня чувствует, что профессор затевает некую игру, правил которой ни он, ни, тем более, Тепа не знают, – Не морочь голову. У тебя попросили закурить. А ты что задумал?
– Не спешите. Ситуация не так проста, как может показаться на первый взгляд.
– В чем дело, старик?!
– Прожив довольно долго, в чем, я думаю, вы не сомневаетесь, молодые люди, к своему стыду я все еще не решил, следует мне курить или нет. Говорят, что курить очень вредно. Наверное. Наверняка. Но запах табачного дыма привлекает меня. Такая деталь – если я по воле обстоятельств оказываюсь в компании курящих, я не спешу уходить. Признаюсь, с удовольствием поглощаю вредоносный дым. Легкое головокружение, истома, чувство безмятежности. Мне не раз дарили трубки. Если быть точным – три раза. И дважды мундштуки. Замечательные мундштуки. Один инкрустированный, а один – из вишневого дерева. И что же? Они так и лежат у меня в столе. Хотя сигареты я зачем-то покупаю. В особенности мне нравятся кубинские сигариллы. Дух Гаваны. Люблю с ароматом ванили или кофе. Покупаю и тоже складываю в стол. Есть у меня заветный ящичек, я его иногда открываю полюбоваться. Там целый табачный склад. Открою – полюбуюсь, вдохну аромат, и снова закрываю.
Тепа пытается остановить атаку, – Ты что, издеваешься, старик?
– Не спешите. Я так быстро не могу. Но, не расстраивайтесь, мы уже приближаемся к главной мысли. Заметьте, я стараюсь быть предельно последовательным, что не так просто в экстремальной ситуации. А ситуация критическая, я правильно понимаю?.. Да, действительно, иногда я беру сигареты с собой. Перед тем как выйти из дому, кладу в карман пальто или пиджака. Зачем? Не знаю. Может быть, я давно ждал нашей встречи. Скорее всего. Интуицию никто не отменял. А у меня интуиция особенная. Я легко угадываю землетрясения и эпидемии. Так что ароматы здесь ни при чем. Потому что если бы я хотел, чтобы мои карманы пахли ванилью или кофе, я бы пачки предварительно распечатывал, но я этого не делал. Кстати, если бы я действительно хотел, чтобы мои карманы пахли ванилью или кофе, лучше было бы положить в карман собственно щепоть ванили или кофе. Но, если прислушаться, у ароматизированного табака привкус иной. Немного приглушенный. Под сурдинку, если можно так выразиться. Или это только мои фантазии? Не знаю. Вообще ароматы, запахи – мой пунктик, – смеется. – Так трогательно говорят «пунктик». А за пунктиком прячется самый настоящий махровый бред. Но я – не бредовый больной, не бойтесь. А разговорился исключительно потому, что давно не имел возможности. Я же прежде преподавал. Да, да, и довольно долго. Теперь вот испытываю ностальгию.
Тепа дергает Гуню за рукав, – Пойдем, он, похоже, чокнутый.
Гуня неподвижен, и взгляд его неподвижен.
Тепа еще раз дергает товарища за рукав, пытаясь вывести из оцепенения, тщетно. Обращается к Диттеру, – Заканчивай, давай, свою проповедь.
– Да, конечно, вы, наверное, спешите, а я вас байками кормлю.
– Зачем у тебя зонт? Ты чокнутый?.. Что замолчал?.. Давай деньги, есть у тебя деньги? Деньги, телефон, что у тебя есть?
Профессор как будто даже обрадован, – Так вы разбойники?
– Отдавай зонт, и мы пойдем.
– Как вы сказали?
– Отдавай зонт, что ли! Я уже не знаю, что с тобой делать.
– Прекрасные слова! – восклицает Диттер. – Ах, молодой человек! Какой подарок вы сделали мне только что, сами того не подозревая! Поцелуй в сердце, честное слово! Цветы роняя, и так далее!.. Если серьезно – так себе ария. Оперетка, она и есть оперетка… Так вот, юный мистер Икс. Вы только что подарили мне, да разве мне только? всем нам доказательства давней моей теории. Жаль, нас сейчас не слышит Стравинский… Вы не знакомы со Стравинским? Сергеем Романовичем?.. Очень жаль. Мы собираемся у него по четвергам, приходите. Человек он пустой, дрянь – человек, но крайне привлекателен и по-своему талантлив. Если не сказать больше. Лучшие люди собираются у него по четвергам. Да разве только лучшие? Не слукавлю, если скажу – практически все собираются у него по четвергам. А вот вас я что-то у него не видел. Вы не бываете по четвергам у Стравинского?.. Как, вы ни разу не были у Стравинского?!.. Горячо рекомендую. Уверяю вас, на многие вопросы ответы получите. Но что-то я увлекся описанием четвергов. Вернемся к моей теории, пока еще только гипотезе. А суть моих выводов заключается в следующем. Мы часто совершаем необъяснимые поступки. Необъяснимые – по нашему разумению. Но есть, и с этим трудно спорить, некая высшая логика, нам неведомая. Просчитать ее практически невозможно. Пока не получается. Во многом потому, что большинство не верит в ее существование. Ах, если бы вы знали, мистер Икс, какое сопротивление, вплоть до драки, встречает одна только констатация факта ее существования!.. Так вот, людишки перечат мне, в том числе и, не к ночи будь упомянут, и ваш обожаемый вами Стравинский. Людишки перечат мне, а сами следуют той логике, как правило, не оказывая ни малейшего сопротивления… Вот вы говорите, мы принадлежим себе, и мыслями своими управляем, поступаем, как нам заблагорассудится, строим планы, следуем этим планам, и, если совершаем ошибки – это наша вина и наши ошибки… Впрочем, и достижения наши – это наши достижения, и за то нам честь и хвала… Теперь так. Кто же это говорит? Субъекты, лишенные памяти. Да, да, молодой человек, не удивляйтесь. Мы ничего не помним. Не согласны со мной? А тогда скажите, будьте любезны, что вы делали восемнадцатого февраля прошлого года?.. Черт с ним, с восемнадцатым числом, скажите, что вообще происходило в феврале прошлого года? А три года назад? И как получилось, что мы встретились?.. Вы знали, что встретите меня? Намеренно шли навстречу или случайно?.. А что такое случай? И, наконец, зачем вам мой зонт? Что вы будете с ним делать? Зонт старый, теперь таких не носят. Вы его бросите, скорее всего. Продать его некому, домой тащить рухлядь смысла не имеет. Однако же вы потребовали мой зонт… А теперь такой вопрос – кто потребовал мой зонт? Вы, или это произошло вне вашей воли? Кто шевелил вашими губами, кто слепил слова, откуда возникло это мгновенное нелепое требование? Требование, подчеркну, нелепое, а потому опасное. Ибо ничто не разрушает так нашу психику, как нелепые требования и поступки… А теперь проведем проекцию на всю вашу судьбу. Попытайтесь мысленно охватить свою жизнь до этой нашей встречи. Только будьте предельно откровенны. Зажмурьтесь и попытайтесь нащупать те оставшиеся мелкие, поросшие бурьяном, острова памяти, острова, которые еще не успел поглотить океан забвения. Разве те острова не возникли случайно? Из небытия?.. Вся наша жизнь – случайные встречи, случайные поступки, выбор наугад. Бредем наугад, петляем, прячемся или, напротив, спешим. Куда? Главное, почему? И когда, наконец, привал, остановка в пути? И каким образом будет поставлена точка?.. Пуля? Пьяная драка?.. А, может быть, молния на пустыре, поразившая одинокий дуб, в листве которого вы прятались от дождя?
Раздается выстрел, следом истошный крик Гуни. Юноша случайно нажал на курок, ранен, судорожно сжимает плечо, сквозь пальцы, пульсируя, струится кровь.
Тепа роняет биту, подхватывает оседающего товарища, кричит профессору, – Что делать?! Как ему помочь?!
Диттер сам немного растерян, – Да, беда. Этак он у вас кровью истечет. Констатирует, – Судя по всему, ваш товарищ ранил себя. Судя по всему, у него за пазухой было какое-то огнестрельное оружие.
– Да, да, что делать?! Он теряет сознание!
– А я вот о чем подумал сейчас. Насколько внятными и неотвратимыми бывают предупреждения, посылаемые нам свыше! Можно ли соотнести наши прегрешения, ошибки с этими грозовыми знаками судьбы? Просто смешно, не к месту, но, согласитесь, просто смешно – только что говорили о грозе, и вот – пожалуйста.
Гуня слабеющим голосом, – Я умираю.
Профессор задумчиво, – Чеховская фраза. Только в отличие от вас Антон Павлович произнес это по-немецки. Хотя, заметьте, немцем не был.
И уже обращаясь к Тепе, – А вот скажите, при других условиях, в другое время мог бы ваш товарищ родиться Чеховым?
Сам же себе и отвечает, – Нет, полагаю, исключено. Все же они очень разные – ваш товарищ и Антон Павлович.
21. Алеша. Введенский
на снимке все как было встарь
тугая улица и мед
идут Алеша часослов журавль
идет Введенский пешеход
всегда идут и навсегда
еще катится голова
капусты из-под или над
катится исподволь и вот
Алеша часослов журавль
и вот Введенский пешеход
идут не ослабляя шаг
слепые в общем навсегда
им грузчик грузовик топор
какая разница судьба
всегда приветит и убьет
не важно сердце голова
капусты или пешеход
Алеша часослов журавль
уже заказан переплет
оконный крест оконный кот
идет Введенский пешеход
за ним катится голова
за ним журавль и пешеход
тугая улица и мед
голодный в общем навсегда
всегда дрова всегда омёт
вмерзают високосный год
всегда без кожи навсегда
подслеповатые дома
слепые в общем навсегда
туда война сюда война
идут не ослабляя шаг
Алеша часослов журавль
еще Введенский пешеход
22. Сонная терраса. Салют
Семен Семенович и Арктур возвращаются от Стравинского в сопровождении бродяг-вольнодумцев Игоря и Петрова. Горчичный гул четвержан постепенно тает, уступая место серебристому хрусту снега. Тесный еловый дым остался позади, зимний воздух с каждым шагом становится всё прозрачнее.
Какое-то время шествуют молча. Детская тоска по отшумевшему празднику витает редкими восторженными снежинками, вспыхивающими на мгновение и тут же исчезающими в томном бархате вечера.
Первым голос подает Петров, самый цыган из всех окрестных бродяг, – Однако кровь играет.
– Всегда так, – отзывается тот, что моложе, белокурый Игорь.
– Вам бы петь друзья, – замечает Веснухин.
– Кому петь-то? Кому и кто? – обреченно вздыхает юный бродяга, морщась и потирая висок обугленными пальцами.
Петров немедленно возвращает интонацию на должную высоту, – Ну-ну, ну-ну-ну-ну-ну мне! Кому петь? Разве песня для того? Пели, поем и петь будем. Кто? Все. И поем. Кто-то в голос, кто-то про себя. Нас не будет, ничего не будет, а песня останется. Слов не станет, а песня останется. Еще и прибудет.
У полковника проступают слезы.
– А вам, полковник я прямо скажу, героическая вы личность. Огненная и высокая. Высокий огонь. Выше всех. К слову, как вы смотрите на гараж?
– В каком смысле? – спрашивает Веснухин.
– Без обиняков. Мы все больны обреченностью буден. Человек не для того рожден по образу и подобию. Но большинство опускает руки. Сами или при помощи своих учителей безропотно укладываются в прокрустово ложе. На том, в сущности, жизнь и заканчивается, – одаривает грозовым взглядом Игоря. – Оттуда и речи типа что петь, зачем петь, для кого петь… Зла не хватает. Полковник прикажет, и грянем. Верно, полковник?.. У кого и не было, голос прорежется. Верно, полковник?.. Так что вы скажете по поводу гаража?
– В каком смысле?
– Обстоятельства лишили нас сегодня содержательной беседы. Осталось щемящее чувство недосказанности. Гараж, точнее крыша гаража – тот укромный уголок, где в отзвуках нового философского костра в полной безопасности неспешно сможем мы предаться комментариям и грёзам. Видите впереди над сугробом сонную террасу? Там наш привал, очаг и беседа. Там прячем мы себя и свою свободу от строгих людей. Туда призываю я вас, дорогой полковник и верного вашего спутника, боевого товарища Арктура. Еще не поздно вечеровать. Что скажете?
Веснухин мечтательно улыбается. Арктур чует неладное, – Видите ли, дорогой Петров, это, конечно, прекрасное предложение, но, видите ли, дорогой Петров, хозяйка наша и супруга Семена Семеновича Полина Ивановна всякий раз, когда Семен Семенович отсутствует долго, чрезвычайно волнуется, а у нее болезнь желудка и бессонница. Кроме того, за нами следует настоящий волшебник Насонов, и лучшей компании вам будет не найти.
За долгие годы бродяжничества Петров научился угадывать самые изысканные уловки и хитрости, так что задумка Арктура изначально была обречена на поражение.
– Уважаемый Арктур, – парирует Петров. – Нам ли не знать, что такое Насонов, и сколь желанно ваше отсутствие вашей восхитительной хозяйке и супруге? Она пьет как нектар каждую минуту покоя. Исходя из этого, предполагаемый раут – не что иное, как эпизод счастья для четырех тружеников в прямом и переносном смысле, и, надеюсь, для одного благородного коня.
Полковник мямлит, – Ну, что ты, Арктур, в самом деле? Можно ли так-то? И причем здесь Полина Ивановна? Как же не пойти, когда уж пришли?
Конь извлекает последнего козыря, – Да разве не видите вы, дорогой Петров, что полковник не таков, как другие люди? Случись даже крайняя необходимость, ни он, ни, тем более, я чисто физически не сможем забраться на крышу.
Веснухин взрывается, – На что ты намекаешь? Это я не заберусь?
Арктур печально, – Вы-то, наверное, да что там, наверняка взберетесь. Мне же мерзнуть в сугробе. Ну, что же, такова судьба.
Не успевает конь закончить фразу, как с виду невзрачные, я бы даже сказал плюгавые бродяги, демонстрируя немыслимую силу, ловко подхватывают его и в мгновение ока водворяют на крышу.
– Ай, да орлы, ай, да молодцы, где же супостатам нас победить! – не успевает полковник закончить фразу, как следом оказывается наверху.
– Салют, – кричит Веснухин с террасы. – Салют вам, застенчивые орлы, россыпь золотая, потаенные богатыри земли русской!
Да, небольшая гипербола. В действительности картинка выглядела несколько иначе. Коня поднимали втроем. Можно сказать, на пределе возможностей. И дело не только в размерах животного. Арктур был напуган, ржал, пытался вырваться, сквернословил. Если быть честным до конца, ругались все. Громко и страстно. Случись на тот момент прохожий, он наверняка ускорил бы шаг, а лучше убрался бы восвояси. И уж точно покатился бы со смеху, когда бы ему сообщили, что перед ним самая, что ни на есть элита, лучшие на сегодняшний день представители практического агностицизма.
А всегда ли нужна сермяжная правда? А если к вышесказанному присовокуплю я еще и тот факт, что во время подъема Арктура прослабило, а прославленный кавалерист вместо салюта лишился чувств, точно какая-нибудь зыбкая барышня? Станем мы, обретя такое-то знание чище и выше? Окажемся ли в одном ряду с одухотворенным Петровым, Игорем, Веснухиным, Арктуром?
Вопрос риторический, ответ, стало быть, не предполагается.
Думаю так – истина и объективная реальность не всегда рифмуются. Может быть, я и не прав, не спорю. Не люблю спорить.
Да будет так.
– Салют, – кричит Веснухин с террасы. И тотчас по ветхозаветному небу с шипением и свистом проносится кипящая солнечная капля. – Салют вам, застенчивые орлы, россыпь золотая, потаенные богатыри земли русской!
Так лучше.
А истины нам, всё одно, не постичь, на то она и истина. Приблизиться можем, не спорю, но постичь во всем благоуханье и многоголосье – никогда.
23. Стравинский И. И. Укрытие
Следует признать, мы боле не в силах удерживать нити несуществующих событий.
Притом, так называемые существующие события, как показала история – продукт скоропортящийся и опасный. С каждым годом все труднее сдерживать поток циклического материализма, буквально на глазах трансформирующегося сначала в натурализм, а затем в сакральные нечистоты, что приводит к естественному разрушению и без того условной оболочки сознания.
Кто это говорит? Доктор? Его пациент?
А, может быть, неведомый агностик, схоластик, экзистенциалист?
Кто там еще бывает? Химик, алхимик?
Скучаем по раблезианству. Да где же его взять, когда праматерь ссохлась да сморщилась вся? Уже вместо вина мочу пьет, лается без огонька…
Нет, не алхимик, простой человек говорит. Уж мне эта простота.
Мы боле не в силах удерживать нити несуществующих событий.
Ну, вот, сказал, обозначил себя. Говоря простым языком, обнаружился, высунулся, подставился. Ну, что же? будет замечен. Уже замечен. Насосы, именуемые социумом или прачечной, называйте, как хотите, уже нацелены на него. Все произойдет очень быстро, ибо время сжалось.
Зажмуриться, да на свинок полюбоваться на солнышке? по головам посчитать?
Случайно мысли не приходят.
Позже посчитаю. Непременно.
Муть тоже бывает, что твой перламутр. Это – как посмотреть. Понимаете, к чему клоню?
Мы боле не в силах удерживать нити несуществующих событий.
Высунулся, подставился, дуралей. Жаль бедолагу? Ответ напрашивается, но ответ неверный. Жалость к ближнему, сострадание – чувства-оборотни. Под личиной благородства скрывается страх. Страх за себя самого, который может оказаться в той же ситуации. Если отбросить лукавство, что, к слову, практически невозможно, все мы одиночки и только терпим окружающих. Вынуждены терпеть, так как этого требуют правила выживания.
Ветошь под ванной тоже живая. Ей тоже несладко. Тоже терпит.
Так что Макар Девушкин – комический персонаж.
И Ромео с Джульеттой.
И другие.
К счастью или несчастью любовь, в общепринятом понимании – болезнь. Сопротивляемся, боимся признать эту данность. Потому оказываемся слабыми и беззащитными. Все это началось не вчера. Может быть, со времен Каина. Скорее всего – так. Коллективные озарения, рукотворный плеск братств и революций – те же эпидемии.
Или пандемии.
Реинкарнация – совсем другое дело. С реинкарнацией еще предстоит разобраться. Руки не доходят. Феномен реинкарнации безусловно нуждается в исследовании. И эта работа будет выполнена. Раньше или позже.
Очень надеюсь.
Встречное движение людей и животных наподобие эскалатора не может не будоражить воображение. Звуки, издаваемые некоторыми представителями фауны, напоминающие человеческую речь, а в последнее время отдельные слова и даже словосочетания, наряду с оскудением логоса не оставляют сомнения в том, что мы столкнулись с первыми признаками трансцендентного смещения цивилизационных пластов, что представляется процессом необратимым. Не смотря на отсутствие какой-либо возможности повлиять на ход событий, тем не менее, данное явление должно быть изучено, признаки систематизированы, причинно-следственные связи обнаружены, а выводы… Выводы, конечно, будут сделаны, но невелика степень вероятности того, что так называемое научное сообщество сможет, а правильнее сказать, захочет их принять.
Вот как доказать так называемому научному сообществу, что ответы на многие вопросы располагаются не в матовых с испариной кабинетах и невидимых лабораториях, а на грешной земле, на свалке, в грудах самого обыкновенного, а на самом деле необыкновенного мусора, по ночам зажигающего пестрые огни почище твоего Парижа или Буэнос-Айреса?
Кто бы что ни говорил, настоящая радость, страсть, страдания, страхи, вдохновение и прочее – вещи в себе. Человек – камера хранения себя самого. Всё, что хранится в этой камере равнозначно и объективно. И наши сны и фантазии, в том числе те, что заставляют содрогнуться. И ветошь, к слову. А всё, что вне стенок камеры – непрекращающаяся стирка. Здесь тебе и игра, и охота.
Сумасшествие – единственная надежда. Зевота цивилизации. Будущее. Подлинные безумцы не покидают своих камер. Никогда, ни при каких обстоятельствах. Да, к ним можно проникнуть, подобрав ключ или сломав дверцу, насосы – опасные, коварные охотники. Можно проникнуть, но это повлечет за собой локальную смерть носителя сияющего мироздания. Добычей будет его остывающее тело, больше ничего. Или остывающий след души – влажное пятно на подушке. Сам же сумасшедший сиганет в крохотное окошко под потолком и окажется, нет, не на мостовой – в ином безопасном пространстве, куда компаниями не ходят. Даже когда война.
Даже когда война.
А в том пространстве прятаться уже не нужно. Так что безумец всегда оказывается победителем. Хочется сказать, бедные глупые прачки. На что рассчитывали-то? Дабы как-то продлить, попытаться продлить… что?.. ну, вот эту недосказанную жизнь безнадежную, но любопытную, можно спрятаться, попытаться спрятаться здесь, у меня под крылышком. Вместе со мной и моими друзьями. Так что добро пожаловать в укрытие.
Белая стена до потолка. Облупившаяся краска, клинопись или буквы, или цифры, или рисунки, не факт, что крамольные, может быть, чернильное пятно или пятно от вина. Для отвода глаз. Так что белая – весьма условно, но, в общем – действительно белая. Изначально и по сути. Крохотное окошко где-то там, на самом верху, бойница, дырочка, лаз, глаз, свисток. Стена очень высокая, так, чтобы до отверстия не дотянуться. Столь высокая, чтобы и лестницы подходящей не найти. Идеальное укрытие.
Случайные домочадцы, разные там гости, вдовы, турки, совы залетные, гробокопатели и кладоискатели исключаются – тщательная проверка, круглосуточное наблюдение и прочее. Как говорят – все включено. Навечно.
К вопросу о Perpetuum mobile.
Можно, можно спрятаться, во всяком случае, попытаться. Зиждется такая надежда. Зачем? – вопрос не ко мне. Не страшно, честное слово. И не больно. Никого не слушайте. Так что добро пожаловать и спокойной ночи.
По ночам иногда, вообще-то часто, бессонница, в сопровождении знакомца, своего пациента, товарища своего Климкина с рюкзаком, Горбунка посещаю городскую свалку, помойку, можно и так сказать. Что там путешествия в теплые страны, страны жаркого пояса, заморские да приморские? Не случайно Буэнос-Айрес помянул. Что там путешествия в теплые страны? Что там путешествия в теплые страны в сравнении с городской свалкой?! Можно и помойкой назвать, не обидно, мне, во всяком случае, не обидно. Что там саванны и тропики, какое там водопад Виктория, в сравнении с городской свалкой, где…
Ну, прелесть, прелесть!
Можно было бы еще Уругвай вспомнить. Хотя и там рай, и здесь. Благо, расположена юдоль несказанная неподалеку от моего гражданского дома. Горбунок и научил меня этим путешествиям, товарищ и пациент Климкин. Все мои пациенты как минимум мои товарищи. Но Климкин с рюкзаком – особый случай. Горбунок.
Горбунок знал, знает, спросите у Горбунка.
Вот что можно было бы услышать от меня, случись посторонняя беседа не важно на какую тему. Но я стараюсь избегать посторонних бесед. Посторонними я называю беседы с так называемыми здоровыми людьми – соседями, домочадцами, зваными и незваными гостями, прохожими, продавщицами, пожарными, турками, водолазами, сантехниками, рекламными и страховыми агентами, бедуинами, философами, товарищами по несчастью, депутатами и почетными гражданами. Они хорошему не научат. Зато я многому учусь у своих пациентов. Можно спорить, но, по моим наблюдениям, мои пациенты, представители большого круга или большого облака. Облако, как вы понимаете – иносказание. Мы же, так называемые здоровые люди, статисты и репортеры малого круга – жители малого облака. Варимся в собственном соку, питаемся собственным дыханием, а также углекислым газом. С точки зрения космоса – анаэробы.
Космос, как вы понимаете – иносказание.
Собственно, путешествие на помойку – единственное путешествие, которое я теперь позволяю своему физическому телу. Хотелось бы, конечно, как в юности, посещать хотя бы иногда анатомический театр, но там – коллеги, так что такие визиты – всегда встречи, беседы. А свое отношение к разного рода беседам я живописал. Специфика профессии, годы, да и нервишки шалят. Ужасный возраст, когда всех знаешь, и тебя все знают в большей или меньшей степени.
А с Климкиным спокойно хорошо. Он молчит, и я молчу. Иногда, правда, говорим подолгу, но, преимущественно молча.
В сущности, большой ребенок этот Климкин. Отсюда пытливость ума, новые знания, готовность к полету, беспричинному смеху, неприятие упадка, разночтений и прочие чудеса. Всякое такое полезно и продлевает жизнь. С рюкзаком не расстается. Черт его знает, что там у него в рюкзаке? Загадка. Будоражит.
Тоже полезно иногда. Продлевает жизнь.
Вот, хочется пожить еще. Зачем? – вопрос не ко мне.
Погулял немного – и в укрытие, ибо…
Мы боле не в силах удерживать нити несуществующих событий.
24. Костер. Зияние
Костер. Спирт. Черный хлеб.
Конь бубнит на ухо Веснухину, – Чувствительно прошу вас, пригубливайте, стаканами не пейте, Семен Семенович. Они к такому напитку привычные, у них здоровье, семьи нет, а у вас головокружения. Помрете, не ровен час, что со мной будет?
Полковник отмахивается, – Нельзя меня в такую минуту трогать, Арктур. Разве не знаешь? У меня теперь кураж, я в такую минуту слеп и опасен. Побереги себя, меня побереги. Не видишь разве, какой разговор? Я такого разговора всю жизнь ждал!
– Что Полина Ивановна скажет?
– Убью.
Конь умолкает, садится в точности как человек. Никогда не доводилось мне видеть, чтобы кони так садились. Сел, копыта сложил, безучастно наблюдает за гримасами огня.
Петров витийствует, – Что не говори, крепко привязаны мы к своим яблоням и грушам. Хвостами да помочами. Иные к ножке стула или решетке на окне. И оторваться нет никакой возможности, ибо хвосты и помочи эти – продолжение нас самих. Без помочей нас нет. Как бы мы не храбрились, как бы ни хвастались, к смерти совершенно не готовы. Ни я, ни юный мой товарищ Игорь.
Игорь слегка захмелел, перечит, – Я совершенно готов ко всему.
Веснухин, уже крепко во хмелю, сочувствует, – Молодость, бравада. Скольких таких вот храбрецов приходилось вести, погружать, вытаскивать. Памятуя, отрочество миг, но Отечество всегда. Памятуя, Отечество – отец. Петрову, – Да, трагически юн товарищ твой, Лель. Он не Игорь – он Лель. Белокурый Лель.
Петров продолжает, – С другой стороны, что мы без шепотов и криков? Из двух звуков составили целую философию. Озвучили, но воли не дали. Поймали на лету, переодели, переобули, наполнили смыслом и пустили по салонам смущать пытливые умы. С виду – забава, шалость. Игривость налицо. Но вот бал окончен. Проходит день, неделя, и вдруг ты понимаешь, что-то неуловимое, тревожное, новое путешествует в тебе. Как будто зуд. Духовный зуд. Э-э, да ты отравлен брат. К зеркалу. Что там? Пятнами пошел, что и требовалось доказать.
Смеется, – Не волнуйтесь, нет, конечно. Гипербола-с. Не мог удержаться… Этот яд не столь опасен, как кураре, например или мышьяк. А рассудок кормить надобно. Без корма рассудок чахнет. Так что без философии никак. Сами философы, замечу, забавнейший народ. Наблюдать за ними одно удовольствие. Я бы сказал, болезненно забавный народец. Возьмем Канта…
Арктур вздрагивает, – Пожалуйста, Канта не троньте. Если не затруднит. Очень прошу.
– А что, собственно, Кант? Собственно, почему? Почему не Кант, собственно?
Полковник поясняет, – Арктур к Канту неравнодушен. Почитает, фигурально выражаясь. Просто до исступления.
– Так уж и до исступления?
– Именно так. Может цитировать сутки напролет.
Вроде бы вот она искра для настоящего спора, где принципы и непримиримые позиции рождаются прямо на глазах, где авторитеты космического масштаба обращаются в пыль, но Петров неожиданно легко соглашается, – Хорошо, пусть не Кант… Хотя Кант был бы очень кстати… Ну, хорошо, пусть не Кант, пусть другие… Стравинский не подходит. А, может, быть, очень даже подходит? Что скажете? Сергей Романович, поводырь наш и оракул подойдет? Находите вы его философом?
Семен Семенович оживленно, – Сергей Романович?! Я не ослышался, речь пойдет о Сергее Романовиче? О Сергее Романовиче спрашиваешь ты меня?.. О, это такой… О-о, это не философ. Куда философам до него! Философы табак нюхают, мелочь считают. Философу не только что винтовку, палки доверить нельзя. Да философ и пристроить ее должным образом не сумеет. Примется тыкать ею, куда не попади, вертеть, да крутить. А Стравинский от палки откажется. Она ему только в тягость. Да он и не поймет, что это палка. Это ниже его достоинства. О, Стравинский! Такое явление! Выдающийся человек! О, это такой выдающийся человек! Выдающийся, выдающийся! Мы цены ему не знаем! Никто цены ему не знает! Он сам цены себе не знает!.. Вот уж где высоко, так высоко! Не достать, да! Тут такая Джомолунгма!.. Я вообще… мы с Арктуром вообще сомневаемся в том, что это человек. На первый взгляд, как будто человек, но если приблизиться, всмотреться… О-о! Это требует мысли! Чувств хватает, чувств достаточно, мысли бы поддать, дабы хоть на полшага продвинуться и приоткрыть. О-о-о!
Петров, выдержав почтительную паузу, продолжает, – Согласен, полковник, разделяю всецело. Не меньше вашего поглощен и очарован учителем. Но, всё же, давайте, попробуем немножечко выглянуть из его тени. Попытаемся все же подать собственный голос, сформировать и сформулировать. А вдруг из нашего щебетания вылупится какая-никакая польза?.. Согласны?..
– О-о-о!
– Так вот. Если всерьез погрузиться в те субстанции, что они, философы… Канта тревожить не будем пока… Если всерьез погрузиться в те субстанции, что они, философы, предлагают, а, подчас, и навязывают… Только так, давайте начистоту, здесь нас никто не слышит, можно без обиняков… Внимание, сейчас я попытаюсь провести мысль до логического завершения. Итак. Если всерьез, только именно, что всерьез погрузиться… Прошу несогласных заранее меня простить и забыть мои слова… Итак. Если всерьез погрузиться в те субстанции, что они, философы, предлагают, а, подчас, и навязывают… либо тронешься, либо смех до икоты… Не спешите роптать! Это еще не вывод. Всего лишь заявка, завязка! А завязка, вы знаете, может содержать парадокс!.. Истоки подобного рода умозаключений берут свое начало в далеком прошлом. Еще в отрочестве довольно долго бродил я… разумеется до четвергов, до просветления… еще в отрочестве довольно долго бродил я как раз в философских лабиринтах, вавилонах и беспробудных болотах. Пытался, так сказать, нащупать ориентиры. Силился понять, где же, черт возьми, та ниточка, та шелковая нить, что прямиком доставит меня в космос?.. Долго бродил. Или мне так кажется. Бродил безрезультатно. Знаков, хоть сколько-нибудь приближающих спасение, так и не нашел. Возможно, не по Сеньке шапка, ибо я, признаюсь, в большей степени интуит, с логикой и геометрией нахожусь в противоречии. Возможно. Но что-то же должен был я почувствовать и ухватить? Ан, нет… Что же, однажды путешествия мои закономерно закончились. Я вернулся к обыденности. Даже, признаюсь, испытал некоторое облегчение. Но вот один вопрос долго не давал мне покоя. Теперь переадресую его вам… Это не я, теперешний Петров, спрашиваю вас, это тот неискушенный, исполненный девственности и надежд отрок Петров в прыщах и лопухах спрашивает вас… Скажите на милость, кого они хотят раззадорить?.. Кого все эти философы, за исключением Канта, хотят раззадорить?.. Ловцов жемчуга? Медвежатников?.. А, может статься, никого? Переворачивают и взбалтывают просто так? Ради иллюзий?.. Лабиринты, вавилоны, болота и всё такое просто так? Без умысла и перспективы? Я извиняюсь, но в таком случае мы имеем дело с пороком космических масштабов… И это страшно, друзья мои! Гораздо опаснее, чем может показаться. Напоминаю, бесследно ничего не проходит. Ведь если слово произнесено… слово и то… а ну, как фраза? да замысловатая? да с двойным дном? Чем сей хиероглиф обернется? Где потом искать тех кудесников мысли? И кто будет их искать? И, наконец, зачем?.. Ну, что? разве я не прав?.. Прав, несомненно, прав!.. Но мне не верят! Вот, мой же соратник, можно сказать, самый близкий на данный момент человек не верит. Мало того, противодействует и в своем противодействии упорствует.
Веснухин недоумевает, – О ком речь?
– Хотя бы этот ваш Лель. Называет себя моим другом. Ходит за мной по пятам.
– Игорь? Не может быть! Игорь, скажи, что это не так.
Игорь, который к тому часу, было, прилег, приподнимается на локтях, – Что, да как, точнее, каким образом… Я, по-видимому, должен что-то объяснить? объясниться?.. Но я не знаю, не готов… не совсем в теме… словом, придремал я, товарищи, скрывать не стану, придремал немного. Минуту, не больше, но, видимо, упустил главное…
Петров желчно, – А у нас, молодой человек, не бывает второстепенного. Мы, видишь ли, временем не располагаем на второстепенное. Мы, видишь ли, время ценим, так как очень хорошо понимаем, жизнь коротка.
Игорь растерян, пытается понять, – Вы укажите, что я должен?.. каким образом?.. укажите, как будет лучше для всех? И я, конечно и непременно…
Полковник пытается помочь, – Да ты не тушуйся, ничего особенного не произошло. Ты запросто скажи другу своему, старшему товарищу скажи, дескать, был неверно истолкован, что-нибудь в этом роде. Ну, или, если хочешь, объяснись. Займи диспозицию. И так можно. Займи диспозицию, а дальше наступай или обороняйся. Если пороху хватает, почему нет? Если хочется рассказать, высказаться, озвучить, обозначить…
– Я про невольный обман хотел бы…
Петров лукаво улыбается, подмигивает Веснухину, – Ну, ну, посмотрим. А Лель-то наш непрост. Вона откуда зашел. Да, тебя, брат, голыми руками не возьмешь. Ну же, говори, мы слушаем тебя…
– Хотел бы заметить, не все так просто.
– Да-а?
– Безумие, смех, все такое, согласен, следует и проистекает. Но только ли? А жалость?.. А мысль?.. Не всегда, конечно, но случается. Бывает, и не одна. Взять хоть врачей или юристов. За ними школа. А что такое школа? Картонная коробка. Мокрая картонная коробка с улиткой на дне. Никто не спорит, улитка – создание исключительное, высокоорганизованное, погруженное в себя. С намеком на космос, которого, вероятнее всего нет, который, вероятнее всего, декорация. Есть такое ощущение?
Петров принимает игру, – Ну, допустим.
– Так вот. Сколько угодно можно расписывать загадки и достоинства моллюска, однако улитка так и останется улиткой, а коробка – коробкой. И наяву, и в памяти. Напоминаю, коробка – школа, глобус, следовательно – улитка.
Петров язвительно, – На память покуда не жалуемся.
– И в мыслях не было обидеть, честное слово.
– Ты продолжай.
– Но вот, настал долгожданный час. Перешагнули. Перешагнул, перешагнула, перешагнули. Покинули тару. Ступили, аккуратно выражаясь, в самую лужу повседневности. Ноги немедленно промокли. Солнце куда-то спряталось. Солнца в коробке было столько, что щурились, руками небо закрывали. А тут как-то разом, как будто свет выключили. И такая резкость наступила. Тревожная, прямо скажем, резкость. Ну, вот, ты, допустим, врач или юрист. Или и то и другое. Даже лучше, если и то, и другое. По-моему, удачный пример. Итак, я врач и юрист. Что я умею? Умею оперировать, а также защищать и обвинять. Готов действовать в пределах своих знаний. Я уверен, что могу быть необыкновенно полезным. Могу, и, даже, несомненно, подарю кому-нибудь жизнь или счастье. Прекрасно! Засучил рукава. Вымыл руки. Сосредоточился. Пошел народ. Один, другой, третий. Поговорил с одним, другим, третьим. Как-то что-то не складывается. И вдруг до тебя доходит. Знания твои не нужны. Им не важно, что ты умеешь. Чуда им надобно. От тебя ждут чуда. Ни больше, ни меньше.
Веснухин потрясен, – Откуда, Игорь?! Откуда это?! Как точно передаешь ты чувства врача! Ты что же, врач? был врачом?
– И врачом и юристом. Мечтал быть ими. Быть или мечтать – не вижу существенной разницы.
Семен Семенович растроган, – В самое яблочко! Ах, как часто недооцениваем мы молодежь! Дальше, Игорь, пожалуйста!
– Что же делать, врачу или юристу, когда его обучали?.. да чему только его не обучали. Уж, кажется, он всё постиг. Всё, кроме самой малости. Его не научили… творить чудеса. Как быть?.. На самом деле, всё просто. Творить чудеса. Уверяю вас, совсем недолго наш врач и юрист терзается сомнениями. Под чудовищным напором страждущих очень скоро он сдается и принимается за новое незнакомое дело. Вот вам и невольный обман. Я бы сказал, целомудренный обман. Каждодневный, ежечасный. Неизбежно, со временем, врач и юрист и сам начинает верить в свое чудотворчество. Закономерно покрывается известняком. Так начинается строительство панциря. Конечно, наш герой не догадывается о том, что строит свой дом. Процесс не скорый. Ни он, ни окружающие первоначально ничего не замечают. Но однажды прозрение наступает. Утром, по пробуждении, или, напротив, вечером, перед тем, как завалиться спать, он сам или кто-то из близких восклицает – кто это среди нас? Чужака не узнать! Кого-то напоминает, но кого?.. Нет, это не тот-то и тот-то, это… кто же это?.. Ба, да это улитка. Настоящая улитка. Прочь с кровати, улитка. Добро пожаловать в коробку, улитка. И рад был бы вчерашний врач и юрист бежать с глаз долой, когда бы это была та, прежняя, знакомая коробка. А когда это, предположим, тюрьма, каземат?.. С философами то же самое, и в первую очередь… Простите, я не хотел расстроить вас столь аргументированным ответом, и не расстроил бы, когда бы ни оказался спросонья… Прошу считать, что я ничего не говорил. Как будто вы спросили, а я промолчал в ответ. Согласитесь, так будет лучше для всех.
Понемногу оправившись от шока, Петров, иного не остается, призывает на помощь Веснухина, – Не знаю, как вы, полковник, лично у меня дыхание перехватило. Я просто не нахожу слов. Такое случается со мной не часто. Такого не случалось со мной никогда. Может быть, вы, как человек войны сумеете проставить необходимые и достаточные точки? В противном случае, боюсь, ситуация может выйти из-под контроля.
Семен Семенович молчит долго, затем наполняет стакан, встает.
Торжественно, – Да, простота манит, еще как! Хочется, ах как хочется, порой все упростить, поделить, еще раз поделить, оставить, как говорится, дитятко в той самой беленькой рубашонке, что обнаружилась при рождении, даровала счастье, и вот уже ждет на спинке стула у смертного одра. Так что с простотой не так все просто. Прошу прощения за каламбур. Я бы спел, однако, боюсь, песней здесь не обойтись. Прежде всего, надобно понять с кем вы имеете дело. Без ложной скромности Россия благородством своим, лучшими победами и величием обязана, прежде всего, коннице. Фигурально выражаясь, Россия – конная держава. Гусары. Тройка. Кибитка, словом. И вдруг что-то такое произошло. Колесо треснуло, сломалось, кибитка свалилась на бок, сукно полезло по швам, лошадки разбрелись, пропали. Будто и не было. Вот мы с Арктуром только и остались. Два нелепых существа. Один Канта читает, другой – без ноги. Это же неспроста. Примета времени, мать-перемать. Простите. Кто-то действительно не замечает, а кому-то наше горе в радость. Да, да, да. Ядовитых людей с каждым днем всё больше становится. Вот, не стало кавалерии, и отечество наше накрыли сумерки. Не заметили, как в угольном мешке оказались. Надолго ли? Не знаю. Хочется, конечно, верить. Но могу ответственно заявить – не будет просвета, покуда будет губиться красота, любовь и вдохновение. Прав я или не прав – рассудит время. Настаивать не желаю. Годы без доблести принудили меня стать вьюном и дипломатом. В траншее о правоте не помнят. До битвы что улиток, что зайчиков в поле том видимо-невидимо. Случалось, лось пробегал. А про лопухи, Петров, это ты верно подметил. И юнцов прыщавых не забыл. За то благодарю. И я, и товарищ мой боевой Арктур за память и мечту благодарим тебя от всей души! Войну ненавидят, но любят. Большинство. Практически все. Кроме военных, в особенности кавалерии. В бою всяк философ. И павшие и живые. Это – как ночь и день, сон и явь. Бывало, такое пригрезится в отблесках и бликах, во сне кричим, что есть мочи, а разбуди – слова не вытянешь. Молчок. Может быть, забылись. А, может статься, не желаем говорить. Пойди нас разбери. Прежние сочные желания-то ушли. Ладно, желания – маршей не стало, вот где ужас. Обыденность. Ветошь. Можно, конечно, жить о двух ногах, можно и без философии, без Канта. Прости, Арктур, наверное, можно и без Канта. Так оно ведь и без первого поцелуя можно, и без первого причастия. Вот только мальчиков тех уже не вернуть. Они – как груздочки семьями под прелой листвой. Разгребешь руками – один, чуть поодаль – другой, еще, еще… Кто это говорит, спрашиваете? Я, воинство ея!.. А так, чего не жить? И без войны можно. И нужно. Война – весна. Или осень. Словом, грязь. Кто по-другому говорит – не верьте. Колите глаз без жалости… А вообще – тихо, надо сказать. Слышно как в деревнях двери на ветру бьются. Колодцы гудят. Небывалая тишина. Зияние… Но всё в ожидании. И мы не в стороне, друзья. Для вида в землю погружаемся. Как те мальчики. Как Помпеи. И врачи, и юристы, и философы… Такое впечатление, что ничего не было, понимаете? Вчера не было, позавчера не было. Поза-позавчера не было. Вот об этом Стравинский Сергей Романович и говорит. Молча. Молчит, но говорит. Иногда стихами, но, как правило, про себя. Выдающийся человек. Все мы, врачи, юристы, воины, все как один – шевеление и слепота, говорит. Но надежда больших птиц, говорит. Предугадать решительно невозможно. Пью за тишину, ибо она золото и есть!
Полковник делает большой глоток и обрушивается без чувств.
Тем временем мимо гаража шествует все еще под впечатлением от самосожжения Насонова зонт Диттер. Услышав шум, профессор задирает голову и прищуривается, пытаясь угадать в сполохах костра лики полуночников, – А у вас кто там горит?
Сверху голос Петрова напоминает эхо, – Кто?
– Кто-то горит?
– Бог миловал.
– Я не знаю, кто вы?
– Здесь никого нет.
– Да не лошадка ли у вас там?
– Откуда же лошадке на крыше взяться?
– Кто, в таком случае?
– Никого нет.
– И впрямь. Почудилось, – заключает Диттер и продолжает свой путь.
25. Стравинский И. И. Баллас
Городская свалка, юдоль несказанная. Теперь – Баллас. Климкин называет городскую свалку Балласом. Теперь и я называю это место Баллас. Климкин научил. Горбунок Климкин. Баллас. По вечерам огоньки, как на Рождество.
Днем – совсем другая картина. Днем – пепелище. Кварцевый с серебряной нитью покой. Ветерок потревожит иногда, ненадолго вспыхнет пара головешек, и вновь летаргия.
Вечером Баллас оживает. Огоньки как на Рождество. Красные, зеленые, синие. Мерцают. Неподалеку от входа трамвайная дуга искрит наперекор всем законам. Самого трамвая нет, рельсов нет, ничего такого нет, а она искрит, знаки Вольте подает.
Мреющие сиреневые холмы поодаль. Сиреневые, дальше лазоревые, дальше белесые. Холмы далеко-далёко, а кажется, что близко.
С холмов белыми платочками машут. Кто-кто машет? А что, разве здесь живут? Живут. А как же? Повсюду жизнь. Кто живет? Какие-то жители или обитатели – не знаю. Небожители. Труженики моря. Не знаю. Кто-то живет.
До холмов не добраться – месяца два, а то и три идти нужно. А что? Может быть, и соберусь когда-нибудь. С ума сойду, например, и отправлюсь.
А что? Все может быть.
У Климкина зрение хорошее. Алмазы собирает. Думает, что алмазы. Думает, что собирает. А что? Здесь алмазные места. Как-то спросил у него, – что ты собираешь? – Алмазы. – И что ты с ними делаешь? – Собираю. Вот и весь сказ.
У него зрение хорошее, у Климкина.
Думаю, он вот что с ними делает. Полные карманы набьет, потом рассыплет, потом снова собирает. Я бы также поступил, если бы умел находить. В таком подходе и широта, и воля.
А рюкзак свой при мне Климкин никогда не открывал. Горбунок. Этим все сказано.
Здравствуй, Баллас! – Вот что он прошептал, обращаясь к свалке, когда первый раз привел меня на свалку. – Не ленись, наклоняйся, подбирай, собирай, перелистывай. Здесь и силы бери. Вся сила здесь. Молоко, тепло, стыд и любовь сюда стекается. Мы с тобой здесь как за пазухой, сам знаешь у кого. Не брезгуй. Персонам, если узнаешь, значения не предавай. Все они, и супостаты, и подонки маленькими были. Кого-нибудь да жалели. Опять же сны видели. Разные. И хорошие. И светлые. Здесь замысла уже нет. Замысел позади. Здесь только останки, подробности и сила. Сила никогда не пропадает… Глупости всё, конечно. Сантименты. Я и заплакать могу. На меня внимания не обращай. Сам думай, решай, что да как. Я расчувствуюсь, бывает, такого наговорю. Слабоумие, все же. Сам мне диагноз ставил. Так что на меня и слова мои внимания не обращай… А посмотри-ка лучше на вот этот венский стул. Ножку чинить не стали, предпочли выбросить. Четыре поколения этому стулу свои мечты дарили, труды. Свет от лампы опять же, котячий шорох, капель за окном, чуни теплые, образа в головах. Ерзали, волновались, читали, знаний набирались, водку пили – радовались, детей качали – радовались, рыдали – печалились, боялись, хохотали… все стул впитал, все вобрал, а ножка захромала – они возьми его, да и выброси… Опять я свое лопочу. Что-то во мне трещит по швам, не находишь?.. А ты стул-то прими, установи как-нибудь, подопри, посиди минут десять хотя бы – всё твоё будет. По ребеночку не скучаешь, не хочешь ребеночка нового?.. Во всяком случае, год лишний проживешь. А то и три. Главное – не брезгуй. И ему, стулу этому радость, будь он не ладен. Он как по заднице-то соскучился? И тебе – польза. Здесь так. Притом на каждом шагу… Я бы этот стул домой забрал, починил бы, уж очень хорош… Тебе нужен?.. Нет?.. Ну, так я на обратном пути себе заберу, если место будет.
О каком месте речь?
– Откроюсь попозже, когда захочу.
Это он мои мысли прочел. В нашей профессии не редкость.
В Балласе картинки как в старом букваре зовут, волнуются, оживают на глазах. Всё такое золоченое, ванильное, хрустящее.
Вечером.
Днем – не так. Даже наоборот.
Ну, дым, дым, конечно, дым, куда от него денешься? на свалках всегда дым. Кавказский пряный, родной…
– Ну, что, кажется, пришли.
– Куда?
– А, погоди-ка, я сейчас ставенки открою, сам увидишь.
Фрагмент стены погоревшего дома, пара окон. На одном из них ставни в пузырях и саже.
– Только ты не говори никому, место тайное. Очень важное место. Для понимания и вообще.
Возится со ставнями, долго развязывает проволочный узелок. Наконец, дело сделано. Открывается вид на голубятню. Если эту конструкцию из досок, мокрых коробок и прутьев можно назвать голубятней. Голуби, действительно, присутствуют. Их много. Пожалуй, так много голубей сразу видеть мне не доводилось. Некоторые, судя по всему, декоративные, с косматыми лапами, диковинными хвостами, а то и вовсе без хвостов. Не улетают. Изучают нас. Глаза умные. Некоторые улыбаются.
– Что это такое? – спрашиваю.
– Нравится?
– Нравится. А что это такое?
– Великая мировая голубятня. Самая суть. И самое место. Пожара не будет, поскольку уже пожарище. Самое место… Вот, пожалуйста, та самая Великая мировая голубятня. Наверное, и мечтать не мог, что увидишь своими глазами? Ну, любуйся. Никто не знает, где она. Только я. Теперь ты еще. Вот они, голуби. Все здесь – Адам, Ева, Хам, Ной, Мафусаил, Тимофей, Махатма, Саид, Чувак, Ким, Ли, Кентукки, Иона, Митрич, Фока, Леонид, того с хохолком забыл как звать, Варвара, Варвар, Виола, Клест, Клейст, Манька, Савл, Калигула, Панкрат, Гонкуры, Дионис, Душка, Минерва, Валентин, Валентина, Алонс, Герман, Бык, Элизабет, Пит, Трумэн, Жизель, Петр Ильич, черного того тоже забыл… Луи? нет, Мавр, кажется, начнем кормить – сам представится… Кат, Антон Палыч, дядя Гена, Илья Ильич, Алесандр Сергеевич, Тотлебен, Того, Милорадович, Римский, Сергей Романович, Игорь Федорович, Август, Аристофан, Феликс, Климкин, Фон-Эссен, Крыжевич, Евгения-Юлия, Аврора, Дмитрий Борисович, Семен Семенович, Арктур, Полина Ивановна, Ломоносов, Хаслет, Рита, Марина, Фефелов, Сопатов, Улитин, Игорь, Петров, профессор, Волокушин, Гриша, Алешенька, Розмыслов, Павел Петрович, Жаботинский, Буриданов, Затеев, Сотеев, Либерман, Гоша, Дятел, Жанна, Глисман, Чулков, Фофан, Нянина, Зоя, Глинин, Мао Цзэдун, Сережа, Гренкин, Зарезов старший, Зарезов младший, Ляля, Борис, Гракх, Паклин – подранок, Пепа, Костырев, Граф и Козлик, Найда, Анастасия, Геринг, Матюша Керенский, Петрушка, Маленков, Ситя, Кот, Захар, Иосиф, Марк, Лоэнгрин, Дафнис, Эвфей, Эскулап, Палисандр… сколько греков, римлян? закачаешься… Плохиш, Паркер, Володя, Лейба, Никита, Василиск, Дональд, Зеленый, Венера, Барак, Каравай, Ватрушка, Отар, Феликс, Вахтанг, Звездочет, Евгений Иванович, Сальвадор, Мельник, Сахара, майор Ковалев… Ну, все, достаточно, кажется сердиться начинают.
Горбунок обращается к голубям с напускной строгостью, – Сейчас я вас спрячу, не шумите. Сейчас, сейчас…
Закрывает ставни, прилаживает проволоку, – Попугаев и гасторнисов на пушечный выстрел не подпускают.
– А здесь и попугаи есть?
– Здесь всё есть. Как в Греции. Или в Риме. Сахарок обожают. А у Евгения Ивановича диабет. Ему нельзя. Все равно жрет. На обратном пути покормлю. Покормим. Будешь кормить?
– Не знаю.
– Правильно, не знаешь. А здесь так. Сперва ориентироваться трудно. Да и потом. Я по сей день теряюсь… Ну, пойдем, посмотрим, что еще в моем хозяйстве имеется.
Всего не упомнить, но кое-что запечатлелось. Например, голова оленя-трубадура, и неподалеку подкова карпатского оленя, невозможная редкость. Получился такой олений уголок. Чуть поодаль медовая пальма и здесь же диковинные ниневийские плоды, подсохли, но по-прежнему источают сливочный аромат. Аромат в них – главное, вкус отсутствует изначально, во всяком случае, человек уловить его не способен. Только некоторые грызуны и мошка. Много восточных сладостей и слабостей. Почти что целый витраж с изображением витража. Фрагменты мозаики «Фонтан дружбы народов». Пальчики из Содома. Куколка из Гомморы. Чучело вулканической вороны. Вафельное полотенце Можайского. Клык космической собаки Белки. Юношеские очки генерала Власова. Бородавочник, будто живой, спит, пригрелся на солнышке. Невод Ионы. Походный рукомойник покойника. Раковина-вертушка. Ширма-опахало времен династии Мин. Смычок Канта. Фаянсовый горнист работы Малевича. Счеты с черепами. Барабан земского акушера. Ракетка Капабланки. Зеркальце полярника. Лисья нора в натуральную величину. Миниатюра «белка-летяга». Миниатюра «Джульбарс». Живая волынка. Шахматная фигура в виде виселицы. Кобура-мышеловка. Трудень в опилках. Саморуб в футляре. Ненецкий чечеточный бубен. Малагасийская розовая красотка. Коса Землячки. Рукав от шубы Морозова. Четыре янтарных слоника. Фибровый капот Мурки. Ее же зубной протез. Труды Херлера в обложке из телячьей кожи с десятью законами непостижимости – издание не для чтения, открывать не рекомендуется, рекомендуется приложить руку, а еще лучше ухо. За Хеллера целое состояние можно было бы выручить, если бы хоть кто-нибудь знал, что это и кто это. Оригинал ленты Мебиуса. С виду обычная лента. Коллекция кошачьих хвостов. Игрушечный набор костоправа. Прекрасная заячья лапка, ее я забрал себе в кабинет. Правый ботинок легендарного Мирского-Поцелуева, который первым по письменам обнаружил грудную жабу у Бальтазара. Первый приводный ветродув. Парочка каминных балерин. Гранатовые щипчики для усов. Монпансье Дюма-сына. Указка Клима Ворошилова. Обхват из слоновой кости. Кистень Саввы Щербатого. Собакоголов из нефрита. Рамочка для ловли летучих мышей. Зубной порошок Мао Цзэ-Дуна. Сторож-сова. Дятел-кофемол. Деревянный указующий перст. Наружное колесо. Белюськи братьев Ореховых. Уже потрепанные, но еще можно отреставрировать. Печень нарвала. Калоши керосинщика. Новенькая карта веленейских болот с указанием змеиных троп. Карманный справочник атеиста с барельефом первого спутника на обложке. Карманный справочник Минотавра с барельефом Блюма на обложке… Всего не упомнить.
Ах, да, чуть не забыл, диван Римского-Корсакова. Да, того самого. Пуховый. Ляжешь – утонешь.
– Решил открыться тебе, – заявляет Горбунок. – Здесь поселимся. Змеям сюда хода нет, хотя, как видишь, тропы имеются. Это еще со времен лесоповала… Тебя когда на пенсию отправят?
– Не могу знать.
– Пора бы уже. По глазам вижу, пора. Чего тянут? Что, больше не рефомируют?
– Реформируют.
– Значит, ждать недолго. Здесь поселимся. Что человеку на склоне лет необходимо?.. Сосредоточение. А сосредоточиться всерьез можно только здесь. Здесь те самые облака и океаны. Не те облака и океаны, а те самые. Понимаешь, что я имею в виду?.. Никто не тронет. Зимой тепло… Никто кроме меня не знает, тебе откроюсь – у Балласа одна широта с Атлантидой… Я на вечеринках у твоего однофамильца… или он тебе брат?
– Не знаю, о ком ты?
– Не важно. Есть один агностик. Славный малый, не чета нам с тобой. Но нам лучше здесь. Жены, если захотят, милости просим. Ты еще не развелся?.. Не торопись. В женах всё же есть что-то такое… какой-то смысл, идея… Я пока не разобрался, но чувствую. Чутье меня никогда не подводило. У меня в роду совы были, так что… Видишь, вот, и ранец всегда с собой… На корсаковском диване полежал?
– Чуть не утонул.
– Считай – утонул. Теперь все понял?
– Не знаю, не уверен. Не знаю, что ты имеешь в виду.
– Всё. Всё сразу. В совокупности. Бессмертие, например. Пафоса не бойся. Бессмертие – слово ничуть не хуже прочих. Можно и в мат произвести, было бы желание. Зыбь, да занозы, если вдуматься. Что мы знаем, что умеем? Да ничего. Саранча налетит – вот тебе и новая жизнь. Без пафоса, ха-ха… Не догадался?.. Что это я вдруг о бессмертии заговорил?.. Баллас – бессмертие. На первый взгляд бессмыслица. Но. Закрой глаза. Сосредоточься. Мнимый хаос. Опыт. Без системы, вне логики, что есть примитива и крах. Выкладывается для Него. Главный товар и продукт. Его не интересуют наши подвиги, Ему интересны наши сомнения и растерянность, понимаешь? Пока мы сомневаемся, казним себя, тревожимся, мы любимы. То есть, указка Ворошилова ценнее самого Ворошилова. Грудная жаба Бальтазара важнее самого Бальтазара. Представляешь себе Клима с указкой? А ведь так и было. По академии с указкой ходил, как с шашкой. Шашка и указка – не одно и то же. Хотя… Смешно. Смех – сам по себе. Мы – сами по себе, а смех – сам по себе… Что, думаешь, они нам просто так платочками машут?.. Сумей стать обезьяной, как Навуходоносор, а царства и без тебя как-нибудь управятся… Или хочешь царств?.. Знаю, не хочешь, иначе не привел бы тебя сюда. Там – корабли и танцы, а вот одуванчики здесь… Где? Здесь. Когда всё и все утонут, одуванчикам цвести где? Здесь в Балласе… Что, убедил?.. Я умею убеждать. А тезку твоего тебе приведу как-нибудь. Его спасать нужно. Он там захлебнется когда-нибудь. Или в петлю залезет. Люди одолели. Избранные. Избранных много оказалось. Никто не рассчитывал, и предположить не могли. Ни я, ни он. Понадобится – всех сюда приведем. Здесь в красотах разбредутся – вреда поубавится. И ему полегче будет. Отдохнет, на диване полежит, в микроскоп посмотрит. Жаль его – он славный малый, водку пьет, стихи бубнит, – тяжело вздыхает. – Вот, скоро все уже окончательно пить бросят – совсем озвереют. Признаки вымирания налицо… Устал от панибратства… Перехожу на вы. Согласны со мной, доктор? Согласны с признаками вымирания? Антоновы пятна на лицах. Или я ошибаюсь? Или это блики от пожара? Два варианта. Что выбираете? С какой концепцией солидарны?.. Согласен, не имеет значения, не нашего ума дело… Я умею убеждать, этого не отнимешь. Иначе бы вы за мной не увязались… И, все же вы с нами поосторожнее. Мы себя не всегда помним, доктор. Любите Римского-Корсакова? Вот Стравинский, тот, другой, который композитор Римского любил. Кстати, вы не родственник ему? Давно спросить хотел. Нет? Очень, знаете, похожи. Наверняка родственник.
– Никогда не интересовался.
– Если родственник, он к вам явится рано или поздно.
– Он умер.
– Ну, так во сне явится, делов-то.
Некоторое время идем в хрусткой тишине. Затем Климкин останавливается, поворачивается ко мне. По глазам вижу, приготовился сказать что-то очень важное. Так и есть, затараторил вдруг, даже голос взлетел до фальцета, – Теперь так. Давай-ка начистоту, доктор, давай-ка честно, как на духу. Ты в нас веришь? Веришь покуда? Только честно. Не ври. И не пытайся. Если услышишь меня, поймешь, все поймешь. Давай-ка я сначала начну. Ты в нас все еще веришь? Знаю, знаю, мы разные, собрать нас в кучку трудно, одним лекалом не обойтись, да и мелка не хватит. Ни мелка, ни мыла. Заблудшие, величавые, сирые, косматые, помоечные, аристократы, всякие, всяк, всякие. Всё так, всё так. Однако же оно всегда так было, согласись. Ну, согласись. Ничего не говори, я и так всё читаю, считываю. Да, разные, пестрые, да. Перепачкались, да. Но в целом ручки – ножки на месте покуда, головушки, всё такое на месте покуда. Терпеть можно. Можно? Псарня вроде бы спит. Тысячелетие застыло. Студень. Подрагивает. Без особых перемен. Меняемся, здорово изменились, скурвились немного, чего скрывать-то? ты – психиатр, от тебя всё равно не утаишь. Но, в целом, без особых перемен. Важный, важный вопрос я для тебя уготовил, так что уж ты слушай, не отвлекайся. Понимаешь, я же Землю Обетованную открыл, приготовил. Приготовил не я, конечно, но открыл-то я. Ты и не заметил, до какой степени мы с Колумбом похожи. Думаю, родня. Одно лицо. Одна судьба. Рай здесь, понимаешь. Здесь рай. Баллас – рай. Вот она – настоящая провинция. Ни Сулима, ни Куета – Баллас. А провинция – уже давно не провинция. И деревня – не деревня, матрешка облезлая. Здесь спрячемся, здесь и нектар пить будем. Да ты сам всё видел, видишь. Голубятню видел и прочее, так что уговаривать тебя не стану. Терпеть не могу уговаривать. С детства. Отвлекаемся. Я, если отвлекаюсь, ты меня останавливай, не стесняйся. Значит, где рай – ты понял, дорогу знаешь. В принципе, можешь и без меня нас привести сюда на излечение с последующим обретением счастья и обратной перспективы. Чуешь, чем дело пахнет?.. Если хочешь – всех приводи. Не сомневайся. Я в тебя верю. Доверяю тебе. А ты?.. В руки твои вкладываю, можно сказать, наши судьбы и достижения. И грехи и несчастья, и всякий грех, и всякое несчастье. Падаем ниц, падшие. Но и надежда, не забывай. Суда не потерпим, это уж уволь. Это как полюбить. Это про меня. Про всех нас нынешних. И полюбить – увольте, и не любить – увольте. Так что уж, пожалуйста, не соверши ошибки. От суда откажись… Слушай, слушай, что говорю. От суда откажись. Это на самом деле не сложно. Главное не бойся, не судить не бойся. Не сложно. А что сложно? А вот что. Этот самый вопрос-кочерга, ядерный вопрос, достойны ли мы? Слышишь?.. Заслужили, как думаешь? Рая заслужили? Или не достойны?.. Мы страдали. Не всегда, конечно, но страдали, старались по мере сил и возможностей. Заслужили?.. Нет?.. Не поздно ли? Не рано ли?.. Я зело сомневаюсь. Еще, если честно, боюсь каких-нибудь глупостей натворить. Слабоумие. Я же всё понимаю… Скажи, веришь еще? Веришь в нас? Веришь покуда?.. Или не говори. Позже скажешь. Согласен, тут подумать надобно, хорошенько подумать… Можешь ничего не говорить. Не обижусь. Никто не обидится. А некому обижаться-то. Между нами, стыд-то окончательно потеряли. Если по совести… Думали деньги – это только деньги, и всё. Приняли. Привыкли… Нет, деньги – совсем не то. Не те… Наваждение, напасть. Листики, листочки. Осинка. Разве не знали?.. Понимаешь, что я имею в виду, кого имею в виду?.. Видел его? Помнишь? Он у тебя в четвертой палате. Загляни как-нибудь, полюбопытствуй… Всё, замолкаю, больше ни слова не скажу. Какое мне дело до твоих забот?.. Устал, если честно. Всего себя отдал. Скажи спасибо, доктор, что не умер у тебя на руках. Как Багратион… Мало того, перехожу на вы. Скажите спасибо, доктор, что не умер у вас на руках. Как Багратион… Христофор. Иногда, в минуты благорасположения, можете называть меня Христофором. Это будет нашей с вами тайной. Надеюсь, тайной, устремленной в будущее… Осинка – это на всю жизнь упоминание. На всю жизнь. И дальше… Гордыня, гордыня, гордыня, гордыня. Забудьте все, что я здесь наговорил. И я забуду. И Баллас забыть постарайтесь. Знаю, трудно, а вы всё же постарайтесь… Но помните. Про себя… Так лучше будет. Не время о нем помнить. Не время и не место… Спасибо, что не дали скоропалительного ответа, не приняли скоропалительного решения. Вопрос неизбывно сложный, судьбоносный вопрос… Или уезжайте в Израиль. Может быть, там вам повезет. Становитесь евреем, и уезжайте в свой Израиль… Не знаю, мне очень хочется, чтобы вы были счастливы когда-нибудь… И простите мне мою болтовню. Больше не пророню ни слова, обещаю… Никогда… По крайней мере, недели две – точно… Ветреный я человек. Все мореплаватели – ветреные люди. И Магеллан, и Багратион… В Грузии искать меня не трудитесь. Я здесь. Мое физическое тело, во всяком случае… Давно уже… Будете здесь со мной прятаться, нектар пить? Что скажете, Иван Ильич, голубчик? Вот захотелось вас голубчиком назвать.
– Не знаю. Врать не хочу. Не знаю.
– Знаете, всё-то вы знаете. Удивительный вы человек. Вот откуда вам всё известно? Не отвечайте. Не жаждете вы рая, белого города. От того и величие ваше.
– Жажду. Как все. Еще как жажду. Только сдается мне, что мой белый город у меня там, дома, если больницу можно назвать домом. А почему бы и не назвать? Последнее время я, главным образом, там и живу. И днюю и ночую.
– И вы всерьез считаете, что психушка может быть Балласом?
– А разве нет?
– Воля ваша, пусть будет два Балласа. Хитрю немного.
– Вижу.
– Но вы сами поставили меня в такое положение… Ладно уж, признаюсь. Вы со мной начистоту, и я вам отплачу той же монетой. Я знал что психушка – рай, белый город и мировая голубятня. Точнее, я знал, что вы так думаете. Только потому и решился показать вам Баллас. В противном случае вы могли бы умереть. От счастья. Как я умер, когда в первый раз оказался здесь. Чудом выжил. Выжил только потому, что еще не исполнил своего предназначения. Ангелы спасли. А вас спасти было бы некому. Я в реанимации не силен, а голуби вас не почуяли. Как-то равнодушно отнеслись, почему – не знаю. Подумаю, найду ответ – непременно скажу вам. Это важно знать… Ну, да ладно… Хорошо. Хорошо… Только пообещайте, если ваша психушка однажды провалится в тартар, сразу же приходите сюда. Ложитесь и ждите меня. Обещайте. Обещай.
– Обещаю.
26. Облака и океаны
или вот и тоже мчатся облака и океаны
голова и рукомойник мчатся мчатся мчатся мча
тот же мед и голова не пропала голова
голова и рукомойник блохи беглые собаки
сельский праздник мухи осы
вот такая пастораль
рукомойник руки мыло если цинковая ванна
лунным рыба в формалине
в формалине керосине в невесомых облаках
мчатся мимо пролетают неподвижные особы
разговоры коромысло черноглазая оса
молча молча пролетают
это лето лето лето
лето лето лето лето
духоплаванье пейзаж
мчатся белые собаки домик дворик за оконцем
мухи стало быть торговки
мчатся черные собаки мчатся Чичиков пожар
чижик-пыжик мусор сказки и зареванные письма
пролетают лето лето
мимо мимо пролетают
пролетает самовар
там под ложечкой жаровня а кузнечики прекрасны
осы стало быть торговки
мчатся мчатся мчатся мчатся
луноликие с морковкой головами вавилоны
на подносе близорукость или вот и тоже мчатся
ленты влажные от жизни
косы влажные от света косы визги и шнурки
мчатся мчатся мастерить
и петля и макраме между делом плавники
смерть и брызги на плите
были белыми не стали
вот такой апофеоз
речь приправлена укропом
голова и рукомойник блохи беглые собаки
простодушные кобылки простодырые чудес
нет чудес не счесть чудес
уж если в пляс пустились клены
в пляс и тополя и клены
крылья провалиться лето золотые петушки
ослепительных алмазов семена живой воды
нет чудес не счесть чудес
у порога у реки
не заметить не исправить мчатся мчатся мчатся мчатся
просто нет дождя и рыба
рыба бражники возница
даром кофе золотой
даром что душа дымится мчат зира и дух заморский
вот тебе и страх и трезвость
обморок удар сопрано
колесницею Привоз
Мчатся мчатся мчатся мча храп и карп и след холодный
при прощанье на плече
пригороды трубочисты облака и океаны
мчатся мчатся мчатся мча
дым возносится и мчатся
мчатся мчатся мчатся мча
не труба но каланча
истопник и саранча
Бог молчит деревья воют даром трубы золотые
мчится Атлантида остров
выплывает мчится остов
выплывает желтый остов
бывший бражник Гулливер
мчатся мел несмел и мчится мчатся мельница и мельник
сон веснушки золотые
мчатся осы солнце мальчик
был ли мальчик доигрались
был бы мальчик черепаха
пусть летит себе спокойно больше маятник не будет
цифры кончились и буквы
скачут мчатся убывают здравствуй небо океан
скачут мчатся убивают здравствуй небо океан
на серебряном подносе на крючке и океан
убывают строчки тоже мчатся вот как тают мчатся
строчки мчатся мчатся мчатся
мчатся мчатся умывальник
мчатся мальчик черепаха мчатся голова и лев
вот такие времена
27. Потолок и птицы
Высота потолков в боковской психиатрической больнице такова, что если поставить одного Стравинского на плечи другого Стравинского, а сверху – третьего Стравинского, и если третий Стравинский поднимет руку или даже обе руки, вряд ли сумеет он достичь потолка. Во всяком случае, складывается такое впечатление. Другое дело, составлять такую композицию – задача чрезвычайно сложная, и, если не кривить душой – нелепая. Думается, чтобы представить себе особенности интересующего нас объекта, достаточно сказать, что здание боковской психиатрической больницы старое, очень старое, очень-очень старое, с высоченными желтушными потолками, широченными коридорами, в связи с чем, обитатели его кажутся козявками или букашками, кому кто больше нравится. Еще одной любопытной особенностью является то, что изнутри такие дома много больше, чем снаружи. Так раньше строили. Когда? Еще одна интересная деталь. По свидетельству первых поселенцев в Бокове сначала появился сумасшедший дом, а только уже потом, сам Боков. То есть первое, что увидели первые поселенцы – довольно таки старое, если не сказать очень старое здание с обугленной трубой, золотым петушком на обугленной трубе и решетками на окнах. Так что первая мысль, которая невольно посещала первых поселенцев – а не проживал ли здесь в уединении когда-нибудь Пушкин Александр Сергеевич? Известно, что уединение приносило самому Александру Сергеевичу и всему человечеству большую пользу.
В пятницу шестого числа Стравинский Иван Ильич засиделся с бумагами допоздна, и домой решил не ходить. Так было и в среду четвертого числа, и в четверг пятого числа и вот, теперь в пятницу шестого числа. Это только так говорится «засиделся с бумагами», на самом деле Иван Ильич засиделся не с бумагами, а засиделся просто так. Вне бумаг. Нет, бумаги – истории болезни, выписки из историй болезни, записки, доклад на конференцию, еще один незаконченный доклад на конференцию, чеки, приказы, положения, постановления, положения, постановления, приказы, отчеты, письма, отчеты, отчеты, отчеты, конверты, календари, отчеты, закладки, блокноты, карточки, фотокарточки, счета, циркуляры, реестры и прочее, и прочее, как полагается во всяком подробном учреждении, щерясь и зевая, томятся здесь и там в липком свечении лунного шара под потолком. Но руки до них у Ивана Ильича не доходят. Будучи человеком волевым, Иван Ильич научился не только что не думать о них, но даже не обращать на них внимания.
Скажем, свечение занимает его много больше. Даже не свечение само, а шепотная нега, благодаря свечению путешествующая вдоль позвоночника, вызывая тот молочный покой, что случается только в раннем детстве, когда жалость еще неведома.
Итак, Иван Ильич сидит за рабочим столом, откинувшись на спинку стула и запрокинув голову. Руки свисают как плети, пальцы едва не касаются пола. Так в авантюрных фильмах сидят убиенные шерифы или убиенные убийцы. Многие убиенные сидят так в авантюрных фильмах.
Входит дежурный врач Сударнов. Вкрадчивый сахарный Михаил Иванович Сударнов. Его глаза навсегда и надежно спрятаны гримасой почтительной улыбки. При таком обличие Михаилу Ивановичу, а не Ивану Ильичу следовало бы проживать в сумасшедшем доме, ибо спроси любого непросвещенного человека, какова, как он думает, профессия Михаила Ивановича? В большинстве случаев последует ответ – психиатр.
Однако внешность бывает обманчивой, и, в отличие от Стравинского Сударнов – человек практический и какие-нибудь пустяки занимают его больше, чем медленная мерцающая психиатрия. Разумеется, вольнодумство Михаила Ивановича может быть прочитано исключительно его коллегами. Вышеупомянутый же непросвещенный человек, услышав его речи, не изменит мнения, ибо, что бы там не говорили, в игорном доме души остаются навсегда и посетители, и крупье, стоит только переступить порог.
Сударнова, например, интересует чай. Вот он идет к подоконнику, опускает грозный кипятильник из лезвий в матовый стакан. А вот он уже перелистывает карамельные страницы заблудившегося инородного журнала. Укладывается на кушетку, нога на ногу. Встает. Ходит, покачиваясь с носка на пятку, с пятки на носок. Совершает подскок и немного подворачивает ногу при этом. Трет ногу. Смакует сигарету, увиваясь вслед за дымом в простуженный зев форточки. Кашляет. Покрякивая, пьет пламенный чай. Снова на кушетке – пытается изобрести удобную позу. Очевидно, что молчание тяготит его, но, видя потустороннее состояние коллеги, терпит, сколько может. Стравинский действительно все это время недвижим, даже дыхания не слышно. Не всякий догадается, что перед ним живой человек.
Наконец Михаил Иванович не выдерживает, – Не спишь, Иван Ильич?.. Вижу, что не спишь… Где сегодня ночевать будешь? Здесь?..
Стравинский не шелохнется.
– Обратил внимание, ты стал часто оставаться на работе…
Стравинский не шелохнется ни в этот, ни в другой раз. Так и будет сидеть, покуда не сменит позу, о чем будет непременно сообщено.
– Обратил внимание – вчера здесь ночевал, в среду четвертого числа… Практически переехал… Практически…
Говорит – сам наблюдает неподвижность Ивана Ильича.
– Неприятности?.. Не говори. Не хочешь – не говори.
Психиатры всегда наблюдают друг за другом, и вообще всегда наблюдают.
– Ты уж меня прости, лезу не в свои дела.
Продолжает наблюдение.
– Все правильно, влез не в свои дела, потрудись прощения попросить.
Принимается ходить по кабинету, сам продолжает наблюдение.
– Вообще это у меня за правило. Сам не люблю, когда не в свои дела лезут… Недовоевали. Кто-то сказал, недовоевали. Много неловкости, согласен… Как думаешь, окончательно разучились улыбаться? Улыбаться смеяться? Искренне… Ключевое слово «искренне»… Правильно говоришь – никогда не умели… Устал? Вижу, устал. Не мудрено… Бумаги одолели? Бумаги, бумаги… Знаешь, голубчик, у меня складывается впечатление, что они стали самопроизвольно размножаться. И я нисколько не иронизирую… Когда же это было? позавчера… вчера?.. Нет, позавчера, точно, позавчера обратил внимание, просто бросилось в глаза… притом, заметь, без меня в кабинет никто не заходил, это точно… я потом поспрашивал, проверил… Ну, так вот, позавчера захожу к себе и… прямо бросилось в глаза… бумаг стало больше. Втрое – не скажу, а вдвое – точно… Измерить трудно, конечно, и по содержанию не разобрать, где там разберешь? Их столько, пакость… пропасть… Но… Наблюдение. Уже автоматизм. Я, может быть, и не хотел бы всё подряд улавливать, все эти детали, этих детей-невидимок, всех этих птичек в вентиляционных шахтах и прочее, но это уже автоматически получается… Между прочим и в птичьей среде какое-то движение, не обращал внимание?.. Я это к чему?.. Ага, вижу, а бумаг-то стало много больше… Тебе не приходило в голову, что однажды мы просто утонем в этих бумагах?.. чисто физически? Я – без тени иронии… Хотел пометить пару бумаженций, но что-то зарапортовался, забыл… Сегодня обязательно помечу… И ты пометь… Не хочешь?.. Хочешь, я у тебя помечу?.. Помнишь, в детективах волосинку прилепляют на косяк? Помнишь?.. Детективы – не твое, знаю… А я, грешным делом, люблю… Вообще, голубчик, мы с тобой вполне могли бы где-нибудь в разведке работать. В сущности, мы и есть разведчики… Никогда не хотел стать разведчиком?.. Разница невелика, не находишь?.. Я, Ваня, на пенсию хочу, до слёз хочу, но, увы… умру здесь… все здесь умрем… Я, конечно, работу нашу люблю, но не так, чтобы жить с ней… Ты – другое дело. Ты – совсем другое дело. У тебя талант. Вот, в каталепсию впадаешь. Я тебе даже завидую в какой-то степени… А эта сестричка новая хороша, не находишь?.. Как ее звать, Машенька? Машенька, да. Не случайно, все не случайно. У меня уже месяц в голове крутится Машенька, Маша, Мария, да… Знаю, что тебя локоны и амуры не волнуют, но оценить-то можешь? Чисто с эстетической точки зрения. Ты же все равно, хоть и невольно, оцениваешь, когда по улице идешь, например, и вообще… Эх, ма, была бы денег тьма. Так лежал бы себе в гамаке, почитывал Сименона… Почему-то райская жизнь у меня именно с гамаком связана. Как думаешь, в раю гамаки есть? Гамаки – это из детства. Неизгладимое впечатление. Гамаки и Генуэзская крепость. Меня в крепости вырвало. Отравился шашлыками. Позже подумалось, как будто на войне побывал… Сколько мне было? Пять? Шесть?.. Какие пять-шесть? два-три, не больше… только от груди отняли. Или не отняли? Погоди… Нет, все же отняли… А что до сестрички этой? Это же ухаживать надо, в рестораны водить. Она, Машенька эта – молодая, ей танцевать захочется, а я танцевать ненавижу, с юности терпеть не могу… Откровенно говоря, стесняюсь, голубчик. Только тебе, Ваня, говорю… Чего уж там? Стесняюсь, конечно… Понимаешь, я просто физически ощущаю нелепость танца как явления. Это же взрослые, в сущности, пожилые люди! Или без пяти минут пожилые… Да и молодые… Смешно и больно. Мотивчик же читается, мать вашу! Это как исподнее. Как бретелька от лифчика. Как гульфик!.. Голое тело приятнее. Как-то целомудреннее. Вот ведь парадокс!.. Да какой же парадокс?.. Напротив… Ямочки там разные… Но очень скоро перестает волновать. Очень скоро… Нет, пойми правильно, я моралистом никогда не был, презираю моралистов… Все же мы с тобой кое-что повидали… Нечто отрезвляющее… От глупостей застрахованы… Видишь, горжусь профессией. Таланта Бог не дал, вдохновения не дал, а все равно горжусь… Потому и горжусь, что ни таланта, ни вдохновения, а, бывало, проходишь мимо зеркала, в халате, да и без халата, беглый взгляд бросишь – фигура. Куда там?.. Я же по природе, Ванечка, стиляга. Ширину брюк мерил. Слушай, долго мерил, лет пятнадцать, наверное… Да, повидали мы с тобой. И голову в авоське, и Горгона, и всякое такое… Вот, кстати, Стасюк опять письма шлет. Долго молчал. Теперь снова пишет, слушай, «вот я – тот самый человек, который носит лишних полста килограммов. Причем с удовольствием, потому что знаю, лишние килограммы на моем теле оправдывают чью-то чужую смерть. Особенно вдохновляет то, что это может быть смерть, например, двух маленьких детей или одного подростка»…6 Нет, когда в такт невольно покачиваешься – понятно и обоснованно. Милое дело. Тут и мелодия, и ритм. Но вот когда на круг, именно, что на всеобщее обозрение?! Это знаешь, что такое? Это же фактически акт!.. Или ты со мной не согласен?.. Вообще курилка Фрейд заслуживает. Честно говоря, я его недооценивал. Сперва восхищался, затем мы с ним как-то оба скисли, сейчас он снова набирает. Он набирает, я – волнуюсь… Нет, я за него не болею, ни в коем случае, но ты обернись, посмотри вокруг. Все как-то разом, большинство как-то прониклись… А скольких больных он посмотрел в действительности?.. Одного, двух?.. Или врут? Врут, наверное. Просто Юнг нам симпатичен. Романтик, чистая душа… Трёп, все – трёп, согласен. Но Ваня, мне скучно, голубчик… Видел фотографию, где они в бане. Настоящая русская баня. Отдыхают на завалинке после парилки. Все там – Фрейд, Юнг, Лакан… Думаю, выпивали. Судя по физиономиям, выпивали. И крепко… Думаю, монтаж. Они там все уже пожилые, а Юнг с Фрейдом поругались еще смолоду. Монтаж, как думаешь?.. Вот тебе никогда не бывает скучно, а мне скучно… Иногда страшно… Например, летучих мышей боюсь. Я здесь видел одну. Сначала подумал – кошка. А когда эта кошка вознеслась… Знаешь, они и шипят как кошки. Казалось бы два диаметрально противоположных зверя. Надо же?… Я хорошо разбираюсь в починке часов. Я очень хорошо разбираюсь в починке часов. Вот когда я занимаюсь починкой часов, мне не скучно, а так – скучно… Еще я безмерно ленив. Но лень – защитный механизм, ты же знаешь. Нельзя человека за лень осуждать. Если ребенок ленится – его ни в коем случае нельзя наказывать. Такое моё мнение. Ни в коем случае… Представляешь, у тебя сейчас родился бы маленький? Мы же совершенно не готовы. Если вдуматься, Ваня, мы вообще ни к чему не готовы. Это уже дефект, Ваня… Как-то быстро всё случилось, не находишь?.. Заболтал? Заболтал тебя?.. Конечно, ты устал, Ваня. Ты ведь раньше чем занимался? Сопоставлял, анализировал, искал закономерности… Фантазировал все время, придумывал что-то… Бывало такое придумаешь… Сам-то помнишь, каким был?.. А я помню… По части анализа равных тебе не было… и нет… что значит «не было»? Ты ведь и теперь анализируешь? Просто как-то замолчал последнее время… Это всё бумаги. Утонем, вот увидишь. Утопят целенаправленно… Кто?.. Вот интересно, чей это дьявольский план исполняется столь усердно?.. А то, что это кому-то выгодно, не вызывает сомнений… Да мы все последнее время как-то замолчали… Но не оборотились. Да?.. Не оборотились, как думаешь? Не стали мы чем-то другим, чуждым, неведомым? Овечками или волками?.. Или единорогами? Единороги подходят? Почему нет? Не зря же Юнг нам мил и светел? А Юнг в единорогах толк знал… Или жужалками? Или всё же жужалками? Вот, жужалки – действительно в точку, не находишь?.. Оборотились, Ваня. Вынужден констатировать. Оборотились в жужалок. И вскоре из нас составят рой… А с чего началось? Первоначально пропал кураж… Всё, Иван Ильич, куража нет больше!.. Да, оборотились… А, с другой стороны, чему удивляться? Мы не делаемся моложе, ты это учитывай. Этого, дорогой мой, нельзя не учитывать… Состарились, а все шелестим. Иногда губами, редко крылышками… бумагами, главным образом… Еще заметил за собой – с обычными, так называемыми здоровыми людьми, мне уже не интересно. Совсем не интересно. Так то оно, интерес в целом поубавился, но вот с так называемыми здоровыми людьми – просто швах… А сколько леса погублено? Антон Палыч то и дело талдычил, упреждал – берегите лес, берегите лес. Просто лесник какой-то, честное слово… И чем все кончилось?.. Теми же досками старика и заколотили… Сам же и заколотил. Мне кажется, он был очень жестким человеком, наш коллега. Чересчур… Видишь ли, Ваня… Нет, я, конечно, способен оценить твое молчание, и даже мысленно восхититься, но, видишь ли, Ваня, осталось-то совсем недолго. Не успеешь оглянуться, и нас с тобой заколотят в точности такими же досками. Время неумолимо. На наш век леса, конечно, хватит, еще на пару веков, и вообще я сомневаюсь, что леса когда-нибудь исчезнут, но что это будут за леса без елочек? А елочки, мне кажется, обречены. Елочки и голуби… Или я не прав?
Теперь Стравинский укладывается на кушетку. Высшей степени неловкая поза. Поза восковой куклы. Представьте, Иван Ильич на животе, лбом и носом упирается в клеенку, руки ладонями вверх безвольно покоятся на полу. При таком расположении голос его тоже приобретает целлулоидные интонации, – Что там за окном?
– Какие-то крупные птицы. Похожи на голубей, но уже не голуби, уже крупнее голубей. Видел трех. Две – в полете, а одна просто так сидела. Оперение серенькое – этакая старушонка в пуховом платке.
– Ну, что же.
28. Сударнов. Меланхолия
После неудавшегося четверга Григорий Г. погрузился в меланхолию. Только маньяк в полной мере может оценить, какой самоотверженности требует всякая, пусть и недолгая прогулка по городу, кишащему беззащитными зеваками, шелковистыми продавщицами, кудахчущими парочками, вырвавшимися из заточения и опьяневшими от свежего воздуха мамашками с кричащими колясками, торчащими из колясок розовыми ручками, рядящимися под прохожих охотниками, рядящихся под работяг мясниками и прочими клоунами кромешного цирка страха и любви. Всякая прогулка – это две или три бессонных ночи накануне, дурманящие пилюли, бесконечные беседы с самим собой, изнурительная гимнастика, душ каждые четыре часа… вязание, конечно, спасительное вязание в случае Григория Г. И если цель путешествия не достигнута, то, что для заурядного человека – легкая досада, не больше… вспоминается циничная фраза, все, что не делается – к лучшему… так вот, то, что посредственность отпускает с легкостью, для истинного маньяка – крах, извержение вулкана, кораблекрушение. Следом безразличие, пустота, меланхолия. Жуть, жуть, жуть, жуть, жуть… Вероятно, нечто подобное испытывают покойники первые часы после смерти.
Некоторое время Григорий, растрачивая последние силы, петлял около своего жилища, пока не осознал, что возвращение невозможно, так как, переступив порог, он окончательно свалится в бесчувствие, и еще неизвестно, чем все это кончится.
Стравинский, Стравинский, Стравинский. Срочно, срочно, срочно. Иван Ильич. Найти Ивана Ильича. Во что бы то ни стало найти. За неимением Сергея Романовича найти Ивана Ильича. Срочно. Время позднее. Но он дежурит. Должен дежурить. Дежурит? Не дежурит? Дежурит. Одна надежда, что дежурит. Он часто дежурит. Чаще дежурит, чем не дежурит. По-видимому, живет там. Живет там у себя. Живет там у себя в психушке. Психушка – дом, дом, дом. Дом родной. Колыбель. Спаленка. Люлька. Колыбель. Крепость… Там. Безусловно. Однозначно. Несомненно… Там, там. Наверняка там. Не может его не быть. Нет, нет, нет. А если нет? А вдруг нет? А что, если нет? Что? Что? Почему? А с чего ему там жить? Зачем? Зачем ему там жить? Разве нет у него другого дома? настоящего дома? Разве нет семьи, детей? деточек, мальчиков, девочек? бесенят и куколок, червячков, мал, мала, меньше?.. А я? А я – не его семья? Нет? Нет. Я – не член семьи. Нет. Не повезло. Нет. У него другая семья. Чужие люди. Мне – чужие. Какие-нибудь дети, домашние животные. Кошка или собака. Может быть несколько кошек, несколько собак. Целая псарня голодных, голодных… Собаки, дети. Десять, двенадцать душ. Мальчики, девочки. Крошки и кошки. Десять, двенадцать… Кормить. Их же всех нужно кормить. Всю эту ораву кормить нужно. Чем? Чем кормить? Зачем?.. А как же? А как же?.. Кормить нужно. Надобно, нужно. Надобно… А жена? А жена как же? А жена на что? Зачем жена-то? Хорошая жена, плохая жена, любая жена. Вот жена и накормит. Почему бы ей не накормить? Разве она не жена? Жена обязана кормить. В особенности, когда такое множество… Сами к нему идут. Дети эти, кошки, собаки – сами идут. Тянутся. Не мудрено. К кому же тянуться если не к нему?.. Может быть, жена его и неплохой человек. А почему бы и нет? Жена – не обязательно стерва. Бывают жены друзья, соратницы, помощницы. Бывают хорошие жены. Даже очень хорошие, не раз приходилось слышать… Нет, жена точно накормит. Его жена точно накормит. Даже незачем беспокоиться… А как иначе?.. Уф!.. С другой стороны, а с другой стороны, а с другой-то стороны, жена, с женой, на жене, за женой глаз да глаз нужен, за женой тоже глаз да глаз нужен. За кошками и за женой глаз да глаз нужен… Присмотр. Осмотр. Досмотр. Присмотр… Жена без присмотра – все равно, что кукушка без часов… Что же это будет без присмотра-то? Столько скользких людей вокруг! Глаз, да глаз… Да еще такая жена!.. О-о, нет, тут дело такое… С другой стороны, дежурить-то надо. Кто-то должен дежурить?.. Семья – это хорошо, конечно, а мы? А я?.. Нет, без дежурства никак. Дежурить обязательно. Даже иногда, может быть, чем-то поступиться, чем-то пожертвовать. А как же? Как же иначе? Никак… Дежурит, дежурит, непременно дежурит, обязательно дежурит, вне всяких сомнений… Я везучий. О, я везучий! Еще какой! Иван Ильич это знает. Отлично знает!.. Стал бы он со мной возиться, если бы я везунчиком не был? Всякому хочется успеха. Успеха, похвалы. А на меня ставить можно. На кого ставить, если не на меня? Все остальные маньяки безнадежны. Я один такой, в своем роде… Иван Ильич это хорошо знает. И я знаю. И он знает. Отлично знает. Мы – друзья. Настоящие, настоящие, настоящие… Образцовые… Я и похвалить умею. Еще как! Так никто больше не умеет?.. Напрасно лесть пороком считают… Плохо. Плохо, плохо. Совсем плохо… А что случилось? Что, собственно, случилось? Что же случилось? Не могу понять… Стравинский. Стравинский, Стравинский, Стравинский. Стравинский поймет, разберется, поймет. Научит. И спасет. Этот – спасет. Этот – обязательно спасет… Что за «этот»? Это еще что такое? Какой такой «этот»? Что это такое, «этот»?.. Иван Ильич. Иван Ильич Стравинский. Доктор Иван Ильич Стравинский. Доктор. Доктор. Доктор Иван Ильич… Сил нет, но идти нужно. Стиснуть зубы и как-нибудь… Зажмуриться, собрать волю в кулак, и как-нибудь… Страшно. Страх появился… С другой стороны это хорошо. Страх придаст сил. Второе дыхание. Откроется. Закон природы. Что-что, а второе дыхание непременно откроется… Зажмуриться… Однако с закрытыми глазами идти трудно. Не всякий может. Некоторые и глаз-то закрыть не умеют. Боятся. А я? Пожалуйста. Идти с закрытыми глазами? Сколько угодно. Пожалуйста. Вот, пожалуйста. Пожалуйста… Что такое?.. Ударился. Вот те раз, кажется, ударился. Влете. В столб? Не в столб? Что такое? стена? Может быть, столб? Какая разница?.. Руки, руки вытянуть. Руки, руки, руки… плохо слушаются… Руки, руки, руки вытянуть… Да, нелегкая работа. Что там про бегемота? Нелегкая работа. Нелегкая, нелегкая… А как же слепые? А как слепые? Так и ходят. Вытянут руки, и ходят. И ничего, и всё успевают. Что успевают? Всё. При чем здесь «успевают»?.. Вот, паника начинается. Кажется, паника начинается. Еще не хватало… Спокойно, Григорий, спокойствие. Штиль. Полный штиль. Курс правильный. Точнее, праведный. Идем по ветру. Ветер никогда не подведет. На то он и ветер. В отличие от человека явление сознательное, прагматичное, верховная сила, главный штурман… Не столько прагматическое, сколько трагичное явление. Трагедия. Ветер часто трагедия. Музыка для трагедии… Ветер и ветер. Сколько помню себя, всё – ветер. То и дело. Осенью особенно. И весной. И летом случается. А зимой – бураны, метели. Но и без снега, просто ветер тоже бывает. Не только весной. И осенью. И зимой. Не обязательно буран. Не обязательно трагедия. Бывает веселый ветерок. Игривый, веселый. Почему нет? Почему бы и нет?.. По крайней мере, не вижу прохожих. Что они сейчас думают обо мне? А что такое? Что такое особенное происходит? Слепой человек возвращается домой. В психушку. Вовсе не событие… И ничего они не думают. Не могут думать, потому что не видят. Я же их не вижу, вот и они меня не видят… Только не открывать глаз. Ни в коем случае… Оп-па! Еще столб… Или стена. Нет, столб, стену бы я нащупал… Шишка будет. Ничего, шишка – хорошо. Больно. Отвлекает… Паника как будто утихает. Паника. Паническая атака. Чушь собачья. Сейчас у всех панические атаки… Больно… Хорошо, что больно. Боль отвлекает. Главное – глаз не открывать. Чуть было не открыл, когда ударился. Не открывать. Ни в коем случае… И по возможности отключить слух. Настроить внутреннее зрение, третий глаз. Третий глаз. Как это я о нем забыл?.. Вперед, вперед, капитан… Как же я о третьем глазе забыл? Вот индусы о нем никогда не забывают. Мудрые. Мудрость. Восточная мудрость. Даже когда голодно. Даже когда война или Потоп. Никогда не забывают. Потому и живут долго. Вообще не умирают. Засыпают на время. Два глаза спят – третий бдит. Мы-то этого не знаем, потому что не любопытны. Русский человек не любопытен. Кто об этом не знает. Чуть что – русский человек не любопытен. Кто это припечатал? Пушкин? Так он африканец. Откуда ему знать? Чтобы такое познать, в себя заглянуть надобно. А там – Африка. Саванны, да джунгли. Лавы да пожары. Кипящее всё… Думают, его на дуэли убили. Черта с два! Сгорел. Заглянул в себя и сгорел… Думают, оттого, что нелюбознательны, и водку пьем, и лаемся. Думают, всё-то нам известно, всё-то нипочем. Равнодушие. Духовная старость. Рождаемся старичками, старичками помираем… Черта с два! Мы в себя погружены. У нас внутреннее зрение. Внутренний океан. Бесконечный. Вечерний… Вброд, на ощупь к Богу идем. Через страдания, ошибки, подвиги, преступления, песни и подлости. Он ждет. Всегда ждёт. Нас ждет, неприкаянных… И что нам Африка?.. Спасибо, конечно, ему, Александру Сергеевичу, Пушкину Александру Сергеевичу. Как не поверни – герой. Жертва. Спасибо ему за всё… Иногда кажется, что мы спим. На дне океана. Крепко спим. Индусы иногда пробуждаются, даже чаще бодрствуют, мы же спим протяжно, всегда. Только вот у меня, пожалуй, сон поверхностный. Беда моя. Болезнь моя. Ужас мой. Зачем-то хочется пробудиться. Точно зуд во мне. Оспа души. Зачем? Не знаю. Как проснуться? А надо ли? Как? Ущипнуть себя – смешно. Обхохочешься. Смешной рецепт. Нет, здесь нужно что-нибудь из ряда вон, что-нибудь страшное, чудовищное сотворить. Спаси и сохрани! Мерзость какую-нибудь. Ужас, ужас! Убийство, например. Всё, погиб, погибаю! Что же это за мысль, откуда? Ужас, ужас! Да разве я способен?.. Пробуждается. Во мне или это сам я? Бежать от этих мыслей. Куда? К доктору. Стравинский, Стравинский. Вот чего боялся, чего все боялись, доктор, я, все… Кто, кто пробуждается. Кто да кто? Медленное мое. Страсть. Медленное убийство, покуда в поту, в поту холодном, иголочки, пока сердце не зайдется, иголочки, иглы, пока пробуждение не наступит. Грех, грех. Наяву и во сне, при жизни и после, грех, грех… Нет, нет, это не я, не про меня, честное слово. Мысли сами по себе. Вне меня. Привнесенное. Сергей Романович говорил, так и бывает, ты – сам по себе, стихи – сами по себе. Так то – стихи, а здесь такое!.. … Черное слово, слово – оспа… Что же это будет? Оба проснемся, убийца и убиенная. Уж теперь жена, теперь-то жена. Надо, надо было женится, говорили люди. Так на ком? Советовали – женись, дурень, пока не сбрендил окончательно. Так на ком? И зачем?. Вечное это «зачем». По любому поводу и без повода. Зачем, зачем? Просто так. Положено и все. Все женятся, и ты женись… Ну вот теперь такая жена будет. Не из живых. А что? А какая разница? Жена как жена, всем женам жена! Проснемся пусть не в объятиях, просто рядышком, головы друг к дружке повернуты. Только головы. Как на картине. Пробудимся болью белесой, проснемся, так и будем всю оставшуюся сырую бессонницу, так и будем сверлить друг дружку глазами вороньими. До черных дыр. Вот что такое любовь, вот что такое любовь немых. Любовь немого человека пробудившегося зачем, жадного до любви, до любви, до чужих мыслей охотника. Вот что такое умереть молодым, уснуть молодым. Вот что такое жажда познания. А звучит как красиво? – жажда познания. Что-то из школы, из детства, из школы, учебное что-то. Уж никак не преступление, а наделе выходит преступление задумал, само задумалось. Ждал, ждали. Ну, вот – будьте любезны… Это не только во мне. Это у всех. Это я знаю, у всех. Если принять как грех, так и все грешны, все преступники, все маньяки. А что, когда мужчина женщину берет, он не маньяк?. Вот в ту самую минуту – не маньяк?.. или когда удовольствия разные, удовольствия, удовольствия разные – не маньяки?.. Веселись, юноша, в юности своей… Разве не так сказано?.. Ишь ты? Вот опять старик Экклезиаст. Око его… Здравствуй, старик. Я о тебе помню, не забываю. Другие забыли давно или не знали, а я – помню, не забываю… А кошмар, кошмары, кошмар и впрямь всегда рядом. Стоит свернуть в первую попавшуюся подворотню в запахи незнакомые, и все, пропал. Разве не так? Пропал. И сразу, непременно навсегда. Одного раза достаточно. Одно раза вполне достаточно. Второй попытки не будет. Не бывает. Топор всегда рядом, всегда ждет… Что там? Что там в подворотне? Обыкновенный пар. Тот, что кривляется. Везде, не обязательно на бойнях. Иногда в подъездах зимой… Больно? Да. И очень глупо, если вдуматься… Но терпеть можно. Все стерпеть можно… И куда меня занесло? Знамо, куда… Но это – не Восток. Даже близко не Восток… Ах, Восток, Восток. Сахарный. Рахат-лукум. Восток – другое дело. Там удивляются и радуются, удивляются и радуются. Обзор лучше. У нас – два глаза, у них – три. У нас тоже три, разумеется, но третий – не в почете. Потому на Востоке и детей рожают беспощадно… Ах, индусы, индусы! Неприметное множество… Как-то спрятались? И не видно и не слышно их. Вот уже тысячу лет не видно и не слышно…. А мы их что-то игнорируем. Как будто и нет их вовсе… Сколько их там? миллиард? А мы их в упор не видим, как будто и нет их вовсе. А, может быть, их, в самом деле, нет. Сергей Романович говорит, ничего нет. Вообще ничего. И никого… Ничего, ничего, как-нибудь доберусь. Старик этот у Хэма добрался же? Да еще с акулой или кто там был, кого он поймал? Рыба-меч, что ли? Что, у этих рыб такое вкусное мясо? Вряд ли. Просто им там голодно… Голодно, конечно… Все, кроме нас впроголодь живут. Если быть объективным. И у Хэма, и в Индии… Жаль, Хэм в Индии не был. А что ему там делать?.. Холодно однако… Ничего, ничего, если мерзну, значит жив пока… Как же того старика в море звали?.. Какая разница? Что-нибудь испанское наверняка. Дон… Дон… Диги-дон… А хотел бы я, например, попробовать мясо этой чудо-рыбы? Только честно?.. Нет. Любопытство отсутствует. Когда бы не болезнь – спился бы наверняка… А на море хочется?.. Нет… Хорошо, что о море думаю. Отвлекает… Только бы он дежурил. А если нет? А если его нет?.. Что-нибудь придумаю. Попрошусь в палату и буду ждать. Скажу, голоса со мной разговаривают. Скажу, покончить с собой желаю, повеситься… А что, не исключено. Если правильно все устроить, смерть мгновенно наступает… Ой, ли? Сколько наших спасли. Бывало, долго висят, а все равно спасают… Еще парализует. И кто за мной дерьмо таскать будет?.. Желающих нет? Нет желающих… Вот – уже юмор возвращается. Дом близко… Спасают, они всех спасают. За редким исключением. Раньше как-то не так, а теперь всех спасают. Это что-то свыше… Так. Что это?.. Стена. Так. Поворот. Здесь где-то должен быть поворот… Вот он, все верно. И шаг уверенный. Качусь как шарик в лузу. Притяжение. Ньютон тоже маньяком был, не сомневаюсь. История полна белых пятен. То, что нам не положено – никогда не узнаем. Сундуки закрыты. Надежно. Ящики Пандоры. Сколько у нее ящиков?.. Шаг ускорился. Неоспоримый факт. Что, третий глаз заработал? Заработал. Ура! Теперь держись… Ах, индусы! Какие все же таки молодцы! Сомнений нет, реинкарнация существует. Еще повоюем, стало быть… С кем это я, интересно, воевать собрался? А помнишь ли ты, дорогой Григорий, кто ты есть на самом деле?.. Помню. Мастер ручной вязки… И с кем же ты воевать собрался?.. Не знаю, ни с кем… А не знаешь броду – не лезь в воду. Не знаешь броду – не лезь в воду. Не знаешь броду – не лезь в воду… А как же море? Как же я без моря до Индии доберусь?..
Ну, что же? Приемный покой.
Точная копия балерины… Как ее?.. Очень известная балерина, пожалуй, самая известная из балерин. Как говорится, балерина на все времена… Нет, не вспомню. Ослепительно белая кожа. И лоснится. Фарфор. Так что правильнее сказать не точная копия самой известной из балерин, а точная копия фарфоровой статуэтки самой известной из балерин. Но не балерина – медицинская сестра. Машенька.
Балерину как-то иначе звали. Не Машенька – точно. Не вспомню. Бывают же такие совпадения? У дядюшки моего была такая статуэтка. Из Германии привез. Дядюшка служил в Германии танкистом. Майор. Во всех смыслах замечательный человек, пианист милостью Божьей, после службы какое-то время лабал в кабаках. Великий знаток джаза. В балете вряд ли разбирался, но статуэтка балерины у него была. Из белого фарфора. Еще он привез из Германии потрясающую модель танка, и два чемодана пластинок. Главным образом, джаз. По тем временам – сокровище. Луи Армстронг, Дюк Эллингтон, Кларк Терри, Арт Тейтум, Чарли Паркер, Диззи Гиллеспи, Каунт Бейзи, Телониус Монк, Джон Колтрейн, Фрэнк Синатра, Майлз Дэвис, Джерри Малиган, Сони Ститт, Чит Бейкер, Стефан Грапелли, Элла, конечно… Стравинский И. Ф., тоже знал толк в джазе. Да и оба других Стравинских.
Итак, медицинская сестра Машенька. Стоит не шелохнется. Произведение искусства. Статуэтка фарфоровая. Шедевр. Нисколько не преувеличиваю. Бледная и светится вся. Сразу Андерсен вспоминается. История про стойкого оловянного солдатика. Правда, у Андерсена балерина, кажется, бумажной была, иначе бы не сгорела. А так, внешне – удивительное сходство.
За столом, навалился грудью, полулежит дежурный врач Сударнов. С ним вы уже немного знакомы. Одной рукой Михаил Иванович за край стола держится, в другой руке у него огненный чай в подстаканнике.
На стуле в дальнем-дальнем углу крохотный на фоне огромной стены Григорий Г.. Уже согрелся. Уже не так волнуется. Уже не перебирает пальцами.
Такая композиция. Как же ее звали, ту балерину?
Михаил Иванович зевает, не прикрывая рот ладонью. Деталь, казалось бы, незначительная, но, согласитесь, характеризует. Еще иногда шумно растирает уши. Так борется со сном. По-домашнему, без стеснения. Как будто Машенька вовсе не медицинская сестра, но, скажем, дочь. Или вовсе чужой человек. Прислуга, например. Да и при дочери интеллигентный родитель такого не позволил бы себе. Какое же представление она будет иметь о мужчинах, при таких-то манерах? Зевает без стеснения, как будто он один в комнате, дескать, захочу, и ноги на стол положу, и вообще на стол лягу. Впрочем, внешность и поведение персонажа не всегда соответствует содержанию и наоборот. Даже интереснее, когда внешность и поведение персонажа не соответствует содержанию. Нат Бампо, кожаный чулок, например, красавцем не был. И манеры его, уверен, оставляли желать лучшего. Но каким слухом и чутьем обладал? О благородстве и говорить нечего. Всмотритесь в групповые фотографии героев какой-нибудь баталии или полярной экспедиции. Таких фотографий много, найти их не составит труда. Обратите внимание на их лица. От некоторых физиономий просто с души воротит. А ведь все – герои. Цвет нации.
Нет, Машеньку из композиции надо срочно убирать. Жуткий диссонанс. Да и нечего ей здесь делать. Полюбовались, и довольно.
Михаил Иванович поворачивается к сестричке, – А ты, Машенька, ступай, отдыхай, нечего здесь делать. Машенька охотно удаляется. Интересно было бы услышать, какой у нее голос?
Сударнов возвращается к Григорию. То есть это уже не начало разговора, – Ну-с?
Григорий бубнит, глазами сверлит доктора, – Иван, Иван, Иван Ильич, Ильич, Иван Ильич Стравинский.
– А что, голубчик, Иван Ильич Стравинский? На что вам, дорогуша, Иван Ильич Стравинский?
– Необходим. Крайне. Крайне необходим… Иван, Иван Ильич… Стравинский Иван Ильич. Очень. Очень, очень.
– Любите повторяться, голубчик? любите?.. Признайтесь, обожаете повторять одно и то же, как будто заезженная пластинка, да? А без повторов что? Что случится, если не станет повторять одно и то же, как заезженная пластинка? А, может быть, вы и есть пластинка? Ну, мало ли? Уж вы меня не стесняйтесь, дорогой мой. Я ведь помощник ваш. Ваше спасение… Ну, что скажете?.. Любите вдалбливать в собеседника своё, пока не добьетесь желаемого результата?.. Результата или эффекта? какое слово видите вы более подходящим, радость моя?
– Нет.
– Что, нет?
– Нет по всем пунктам программы. По всем, без исключения.
– А вам кажется, что я изложил некую программу?
– Не хотелось бы думать, что это проект.
– Вам не нравятся проекты?
– Во всяком случае, редко доводилось сталкиваться с такими проектами, что дух захватывало бы. Проектов нет, не стало. И не было никогда. Идей не стало. Пустоты много. Пар вышел весь. На наших глазах. Вы разве не заметили?.. Обидно, конечно, но имеем то, что имеем. Не хочется думать, что заслужили. Хотя так оно, наверное, и есть.
– Ах, какой вы молодец! Да знаете ли вы, какой вы молодец? Цену себе знаете?.. Не знаете?.. Вы – умница. И весьма неглупый человек, я бы даже сказал, что вы умница. По первому впечатлению.
– Не стану спорить, хотя это не совсем скромно, а я именно скромностью отличаюсь.
– От кого, дорогой?
– А я один. Чаще всего бываю один, так что сравнения – не мой конек. Но кое-что повидал. Успел повидать.
– И это произвело на вас неизгладимое впечатление?
– Не то, чтобы неизгладимое, но перебои со сном скрывать не стану. От вас все равно не спрятаться. Да я и не намерен прятаться. Хотя когда-то прекрасно играл в прятки. Пожалуй, даже лучше, чем в шахматы.
– А с кем вы играли в шахматы, радость моя?
– Сам с собой, конечно.
– А вы хорошо подготовились.
– К встрече с Иваном Ильичом всегда готов. Я бы даже сказал, мы с ним не расстаемся. Ни на минуту.
– Но, к сожалению, как я вам уже докладывал, сегодня Ивана Ильича нет, голубчик. Сегодня, изволите видеть, я дежурю. Сегодня изволите обращаться ко мне. Звать меня Михаил Иванович. И я ваш друг. Надеюсь стать вашим другом. Как Иван Ильич. Уж никак не в меньшей степени.
– Вы уверены?
– В каком смысле?
– Вы уверены в том, что вы именно тот, кем являетесь на самом деле?
– Это риторический вопрос?
– Понимайте, как хотите.
– А могу я не отвечать на ваш вопрос?
– Разумеется. Я, откровенно говоря, и не ожидал ответа.
– Благодарю вас… Итак. Звать меня, если помните, Михаил Иванович.
– На память пока не жалуюсь.
– Умница. Ну, что, решились?.. Ко мне обращаться будете?
– Пока не решился.
– Вас что-то беспокоит?.. Не скрывайте. Не прячьтесь от меня. Я для вас не только что не опасен, но даже полезен. Я – полезный человек. Очень полезный… Вы прежде бывали здесь, Григорий?
– Бывал. Разумеется. У Ивана Ильича. Иносказательно. Я всегда здесь, даже когда меня нет. Ваша больница, в известной степени – мой дом. Не родовое гнездо, конечно, но, все же дом. По крайней мере, с ощущением дома, когда нахожусь там или здесь, вот как теперь или прежде, не расстаюсь. Если я что-то понимаю в этой жизни, Иван Ильич испытывает те же эмоции, чувство дома. Здесь. Во всяком случае, так подсказывает мне моя интуиция. Вас я пока плохо знаю, судить не могу, не имею права, а вот Иван Ильич – это уже часть моего сознания и подсознания. Слава Богу. Это – везение. И спасение… У меня превосходная интуиция. – улыбается, – Знаете, я пришел к вам, точнее, к Ивану Ильичу, с закрытыми глазами. Кстати, Иван Ильич здесь?
– Нет Ивана Ильича, дорогой.
– Вы внимательный собеседник, по-видимому, хороший врач.
– Спасибо.
– Открою вам один секрет. Не думаю что это великая тайна, да если бы и великая тайна, грех держать такое при себе. Скажите, вы знаете, что небо стремительно опускается на нас? В сутки двадцать – двадцать пять километров. Плюс ускорение.
– Слышал. Не так детально, но слышал. Об этом говорят.
– Слава Богу!.. Боялся предстать в ваших глазах трепачом… А от кого слышали, если не секрет?
– От своих пациентов. Нехорошее слово «пациент». От наших постояльцев. Или домочадцев. Вот «домочадцы» – совсем удачное слово.
– Правильно, пациентов своих слушайте. И не сомневайтесь… И вот еще что, учитесь ходить с закрытыми глазами… Пообещайте, что буквально с завтрашнего дня начнете тренироваться. Вы милый человек, и я желаю вам как-нибудь уцелеть.
– Спасибо… А, может быть, вас что-нибудь беспокоит?
– Хотел вас обмануть. Придумал одну безделицу. А теперь совестно.
– Обмануть хотел?
– Обмануть, солгать хотел.
– На вас вовсе непохоже. Не может быть. Наговариваете на себя, голубчик… А как хотели обмануть?
– Ой, даже в голову не берите. Такая глупость!..
– И все же.
– Будто бы хочу покончить с собой. Повеситься, например.
– Зачем?
– Зачем задумал солгать?
– Зачем повеситься хотели?
– Не хотел. На самом деле не хотел… И теперь не хочу… Повеситься – это ужасно. А других способов не знаю. Точнее, знаю, но есть же детали. Если отравиться – чем? Какие таблетки, жидкости? Возможно втирания, лосьоны, керосин, наконец… Нагана нет. Всегда мечтал о нагане в деревянной кобуре, но не сложилось. Поздно родился. И революционеров среди родственников не было… Дзержинским восхищаюсь. Наперекор всему и всем. Из-за деток, деточек. Он детей любил. Платонически…. Думаю, его тоже отравили… Ядов гораздо больше, чем мы думаем. Во всяком случае, намного больше, чем керосинщиков. Помните керосиновую лавку у аптеки горных инженеров? Помните?
– Помню. Я жил неподалеку.
– Правда?!. А вы давно там были? Интересно, цела ли она еще?
– Не знаю.
– Вот и я не знаю. Я слышал – все керосинщики обречены. Все буквально… Разумеется, среди них встречаются и сакральные жертвы, с историей, слава Богу, немного знаком, успел познакомиться, пока имелась такая возможность, но в основном, все керосинщики – жертвы отравления… Согласны со мной?.. Наверняка среди ваших пациентов встречались керосинщики… Отравление – искусство. Мучений не хочется, боли, язв, прочих пагубных последствий, неукротимой рвоты, например, парализации полной или частичной… Вот как плохо не быть доктором. Каждый раз себе говорю… У меня была возможность поступить в медицинский, но я боюсь покойников. А теперь выясняется, что живые намного опаснее, но время уже потеряно. Да и покойников полюбил. Точнее покойницу… Да, упустил я свой шанс. Был бы хорошим врачом. Я тоже слушать умею. И люблю. Даже когда глупость какая-нибудь. Молчу и слушаю. Иногда просто голосом любуюсь. Или удивляюсь голосу. Иногда такие голоса попадаются, диковинные. Может быть, композитором стал бы, сложись жизнь иначе. Стравинским, например. Не Иваном Ильичом, а тем, другим. Был еще композитор Стравинский. Вы – человек образованный, наверняка знаете. «Жар-птица», «Садко»…
– Римский.
– Что, Римский?
– «Садко» – это Римский Корсаков.
– Но они же знакомы?
– Кто?
– Стравинский и Римский-Корсаков?
– Не знаю.
– Вот и я не знаю… Жаль, что я не стал врачом, согласны? В свое время не вышло, а теперь… В моем преклонном возрасте, да с моими наклонностями кто же меня возьмет?
– А какие у вас наклонности, голубчик?
– Я теперь вяжу. Много вяжу. Сутки напролет. Не могу остановиться. Преимущественно английской резинкой. Многие предпочитают французскую, а мне нравится английская. А вам? Вы толк в вязании знаете?
– Нет. В вязании я толка не знаю.
– Вы тоже умеете слушать. Большое достоинство. Берегите его. С годами будет все сложнее, но вы старайтесь не растерять этот дар.
– Хорошо.
– Другой бы на вашем месте уже давно заткнул меня.
– Зачем?
– Скажите, а у Ивана Ильича нет брата? Не обязательно близнеца, брат может быть двоюродным, троюродным. Этот монах такие фортели вбрасывает…
– Какой монах, радость моя?
– Так Мендель же.
– Ах, Мендель? Да, Мендель, Мендель… Не знаю, лично мне он симпатичен.
– Конечно симпатичен, не то слово «симпатичен». Он тоже большая умница… Так что, насчет братьев.
– Каких братьев?
– Братьев Ивана Ильича.
– Не слышал, честно говоря, не знаю.
– Ну, что же, возможно совпадение. Совпадений, на самом деле, много больше, чем мы предполагаем…
– Вы наблюдаетесь у Ивана Ильича?
– Если это уместно, и приемлемо, я бы выразился следующим образом: мы любуемся друг другом. Он – мной, я – им… Еще есть третий человек. Стравинский Сергей Романович, агностик. Но Иван Ильич и Сергей Романович между собой не знакомы. Вот почему я, собственно, и поинтересовался, нет ли у Ивана Ильича брата. Кроме того, что у них одна фамилия, и внешне они чрезвычайно похожи… Вяжу, не могу остановиться. Предположим, вяжу кофту. Все, надо заканчивать, а я остановиться не могу. Все же нахожу силы, беру себя в руки, останавливаюсь. В результате кофта чудесная, но рассчитана на человека ростом в три, а то и пять метров… Кстати ему один из моих свитеров как раз подошел бы.
– Кому.
– Дзержинскому, точнее памятнику Дзержинскому.
– Но он в шинели, насколько я помню, дорогой мой.
– Да, да, конечно… Его снесли, как будто… Некому теперь за ребятишками следить… Скажите, а среди ваших домочадцев нет таких же вязальщиков?
– Не встречал.
– Жаль. Я бы с удовольствием подружился с кем-нибудь… А знаете, у меня теперь жена есть. Возникла совершенно случайно. Неожиданно нашлась. Так что, жена есть, а вот друзей – никого… Стравинские, конечно, Иван Ильич и Сергей Романович. Но, думаю, в полной мере друзьями их не назовешь. Скорее наставники. Учителя…
– Скажите, голубчик, вы маньяк?
29. Томление. Кант
Утро.
Бывший боевой, а ныне домашний конь Арктур стоит, посапывает, бубнит про себя. Стоит в коридоре таким образом, что голова его направлена в сторону кабинета Веснухина. Позади коня большая кухня с Полиной Ивановной. Дабы не обижать Полину Ивановну можно, конечно, сделать маневр – попросить коня попятиться на кухню, там развернуть и попросить попятиться еще раз. В таком случае голова Арктура будет направлена уже в сторону кухни. Но в этом нет никакого смысла, потому что, во-первых, Полина Ивановна речи коня игнорирует, а во-вторых, сено-то размещено как раз в кабинете полковника. И сам полковник в кабинете полковника душой и ликом темен после праздника на сене возлежит в ожидании воскрешения. По соседству кот Мартин на подоконнике, сахарится на солнышке. Щурится, но не спит, следит за собой и вообще следит. Ленивое, но хитрое до чрезвычайности создание. Делает вид, что слушает Арктура, точнее так – снисходительно слушает Арктура. Водит ушами, дескать, весь внимание. Правда иногда вставит слово или фразу, но, как правило, невпопад, возможно, для того лишь, чтобы не уснуть.
Презрением отношение кота к Арктуру назвать нельзя, хотя некая брезгливость ощущается. Думаю, в данном случае, лучше всего подходит слово «усталость». От коня Мартин устал, как говорится, с первого взгляда, когда военачальник, роняя ведра и плечики с одеждами, харкая и чертыхаясь, приволок обезумевшее от страха животное в квартиру и представил домочадцам в качестве названного брата и нового члена семьи. Куда деваться? приходилось терпеть… Ничего, со временем все как-то устроилось.
В отличие от Мартина Веснухин действительно слушает коня, в минуты просветления даже пытается полемизировать. Иногда вслух. Правда, речь его пока невнятна, но это пройдет. Все, как известно, проходит. Золотые слова.
В помещении у коня голос, с чем бы сравнить?.. Доводилось ли вам когда-нибудь сталкиваться с чревовещателями? Если да, вы сразу поймете, о какой тональности идет речь. Если же не доводилось, попробуйте представить – когда бы мы Мартина завернули в тулуп, если бы нам это, конечно, удалось, завернули и дернули бы, как следует, за хвост, то, что услышали бы мы из-под овчины и есть голос чревовещателя. Во всяком случае, очень близко. У полковника те же интонации. Так что извне беседа наших героев напоминает дотошное урчание пробуждающегося по весне затона.
Беседа длиться уже минут сорок. Нам удается захватить самый финал. Жаль, конечно, что пропустили начало, но самую суть уловить, надеюсь, удастся.
Полина Ивановна сокрушается, жалеет меня, – говорит Арктур. – Думает, что лошадкам доставляют удовольствие баталии, бега или цирковые представления. Жалость, простите, Семен Семенович, ложная. Простите, Христа ради. Я против Полины Ивановны ничего не имею, мало того, обожаю и восхищаюсь этой святой женщиной. Конечно, ей надоело мое ворчание, и убирать за мной надоело. А я вас, полковник, предупреждал, меня не всякий выдержит. Голова большая, думы одолевают. Кто-то должен тянуть лямку, покуда человечество в замешательстве пребывает, согласитесь? Опять же наследие его многовековое часто сомнительно. Фигурально выражаясь, попахивает порой, извините. Не к столу будь сказано. Кто-то должен разгребать? Кто? Ответ очевиден… Да, у меня взгляд на предметы и явления печальный, аналитический. Это вообще свойственно лошадям. Тоска для нас привычное состояние. Что же касается удовольствий, хотите, верьте, хотите – нет, мне теперь хорошо. Даже очень хорошо. Под этим я понимаю равновесие желаний, высшую симметрию, если хотите. Притом, что тотальная симметрия понесла сокрушительное поражение, мое нынешнее положение можно считать уникальным, исключительным, подарком и чудом одновременно.
Полковник, стеная, поворачивается на бок, – По поводу симметрии ты, конечно, погорячился.
– Ничуть. И напрасно вы возражаете, Семен Семенович. Я вас не имел в виду. Вы и ваши ноги, точнее ваша нога здесь ни при чем. Одна, две, даже три допускается. А если пять или одиннадцать? А так называемый цивилизованный мир стремится именно к этому. Возьмите композицию в музыке, живописи, архитектуре, где угодно. Композиция, предполагающая симметрию у современного человека, разумеется, образованного современного человека, чаще всего вызывает недоумение и отторжение, воспринимается как догма и примитив. Я согласен, асимметрия – безусловное движение вперед, прорыв. Но это, знаете, пока не столкнешься с серьезной бедой. Несчастье, знаете, очень скоро расставляет все по своим местам. Дело в том, что симметрия первична. Базовая величина. Не было бы симметрии – не случилось бы и асимметрии. А приверженность тому или другому непременно ведет к специфическому структурированию желаний.
Кот вытягивается вдоль подоконника, – Не знаю, я сегодня спал без сновидений.
Арктур продолжает, – Помните, у Канта? – Способность желания – это способность существа через свои представления быть причиной действительности предметов этих представлений. Удовольствие есть представление о соответствии предмета или поступка с субъективными условиями жизни, т. е. со способностью причинности, которой обладает представление в отношении действительности его объекта (или определения сил субъекта к деятельности для того, чтобы создать его). И еще – поразительно, как люди, вообще-то проницательные, полагают, будто различие между высшей и низшей способностью желания можно найти, если определить, имеют ли представления, связанные с чувством удовольствия, свое происхождение в чувствах или в рассудке. Когда речь идет об определяющих основаниях желания, и усматривают их в приятном, откуда-то ожидаемом, вопрос вовсе не в том, откуда происходит представление об этом доставляющем удовольствие предмете, а только в том, насколько это представление доставляет удовольствие.7
Веснухин, стеная, возвращается в исходное положение, – Я к Канту со всем уважением, конечно, но и с Кантом можно спорить.
Арктур соглашается с полковником, – Несомненно. Спорить можно и даже необходимо. Что-то взять на вооружение, от чего-то решительно отказаться. Что называется, сняли с языка. Я как раз сейчас размышляю над сообщением, которое хотел бы назвать «Критика критики практического разума». Может быть, название и не отличается оригинальностью, но суть отражает, а это – главное. Постараюсь успеть к следующему четвергу.
Семен Семенович с нотками отчаяния, – Эх, четверги, четверги. Быть ли еще четвергам? Что же случилось с Сергеем Романовичем? Тревожно на душе.
Арктур подхватывает, – А вот, кстати, живой пример.
– О чем ты, брат?
– Турбулентность желаний. Если угодно, генеральное наступление энтропии. Как причина и следствие торжества асимметрии. Тщетный поиск удовольствия в разреженном пространстве, практически вакууме. С непредсказуемыми, прошу заметить, последствиями. Вплоть до полного распада и бесчувствия.
Веснухин в ужасе, – Да не приведи Господи!
Кот принимает позу сфинкса, – Нет, так дело не пойдет, полковник. Он тебя однажды доведет до инфаркта. Как хочешь, нужно конюшню строить.
Веснухин взрывается, – Молчи, Мартин, не обостряй, видишь, плохо мне?
– А ты поправь здоровье-то. У тебя в шкафчике спрятано кое-что. Уж неделю как. Забыл?
Молния блеснула в сонной лощине, горн протрубил сбор, – Забыл, старый бубен, забыл!
Веснухин вскакивает проворно, оправляется, устремляется к шкафу.
Кот торжествует, – А мне валерьяны по случаю. Кто же, кто же настоящий друг кавалериста? Вряд ли безумный конь-пачкун.
Арктур опускает голову, тяжело вздыхает, – Низменно. Карикатура, с позволения сказать. А Кант, как всегда, на высоте.
Полковник, незамедлительно оглушивший половину бутылки, всерьез настроен на дискуссию, – Что же Кант?
Конь не смотрит на хозяина, – Да разве вам интересно?
У Семена Семеновича проступают слезы, – А как же, Арктур? Что мы без Канта? Что я без Канта?.. Я болел, Арктур. Разве ты не видишь? Болел, но я слушал тебя. Я могу повторить всё, что ты сказал. Почти всё. Ты, Арктур, меня не бросай. Я тебя не бросил, и ты уж, пожалуйста, меня не бросай. Мы теперь не можем потерять друг дружку. Мы теперь никому не нужны. Ни я, ни ты, ни Кант. Мартин еще как-нибудь устроится. Его все любят, а мы с тобой – товар списанный… А на кота не сердись. Он с детства язва.
Мартин демонстративно отворачивается к окну.
Веснухин пытается восстановить идиллию, – Ну, кончилась валерьянка, что я могу сделать? Попозже схожу. За хлебом пойду и в аптеку загляну.
Кот непоколебим.
Полковник возвращается на сеновал, – Ну, как знаешь. Сейчас не побегу. Мокрый весь сделался.
Конь поднимает голову, – Я могу продолжать?
– Так уж заждались.
После недолгого раздумья Арктур продолжает, – Пожалуй, вот это. Мы не можем надеяться найти такую связь в действительных, данных в опыте поступках как в событиях чувственно воспринимаемого мира, потому что причинность через свободу всегда надо искать в умопостигаемом, вне чувственно воспринимаемого мира. Но другие вещи, кроме чувственно воспринимаемых, нам для восприятия и наблюдения не даны. Следовательно, нам ничего не остается, как только искать неоспоримое и притом объективное основоположение причинности, исключающее из ее определения всякое чувственное условие, т. е. основоположение, в котором разум уже не ссылается в отношении причинности на нечто другое как на определяющее основание, а сам уже посредством этого основоположения содержит в себе определяющее основание и в котором, следовательно, разум как чистый разум сам есть практический разум…8 Что скажете? Ни добавить, ни убавить.
Веснухин разомлел, в его интонациях забрезжила вселенская любовь, – А вот интересно, любил ли Кант казачью песню? Пел ли сам? И каков был его голос? Должно быть, сильный. Предполагаю тенор. Или баритон? Нет, баритон – исключено. Тенор. Однозначно.
Кода.
Кот спит, Полина Ивановна, причитая, убирает за Арктуром, Семен Семенович, вытянувшись во фрунт с шашкой наголо, исполняет:
Жизнь моя как ветер
Кто там меня встретит
На пути домой. Конь любимый, вороной
Ты пока ещё со мной.
Русь да казачья воля
Наша с тобою доля
Не грусти родной.
Русь да казачья воля
Наша с тобою доля
Не грусти родной.
Не зови брат за собой
Я пока ещё живой.
Жизнь моя как ветер
Кто там меня встретит
На пути домой.
Жизнь моя как ветер
Кто там меня встретит
На пути домой
Ой, не стой надо мной
Я пока ещё живой.9
30. Наблюдение. Навуходоносор
Пятница. Утро.
После бессонной ночи, проведенной в раздумьях и тягостных предчувствиях, следователь Павел Петрович С. заглянул в чудом уцелевшую со времен общепита клейкую столовую с радиоточкой и солнечными зайчиками. Он всегда завтракает здесь. Всегда в дальнем углу, за хромым столиком, спиной к стене, дабы не привлекать внимания и, в то же время, обозревать помещение целиком. Именно в этой столовой лучше всего получается у него успокоиться и сосредоточиться. И разваренные пельмени, и золотистый компот с ленивой урючиной, и пышущая молоком громкая официантка Зоя, озаренная алыми губами, возвращают ему уверенность и аппетит. Здесь он как будто молодеет.
Он действительно молодел всякий раз после посещения уголка, сохранившего аромат казенной юности. Боль в коленях утихала, морщины разглаживались, на монгольских скулах проступал румянец. Здесь Павлу Петровичу удавалось расплетать немыслимые головоломки, конструировать идеальные убийства, выводить невидимые закономерности, строить невероятные планы, и, главное… раскрывать несовершенные преступления. И на этот раз, казалось ему, именно здесь удастся постичь представлявшуюся огромной, как само зло, тайну Стравинского и его странных четвергов.
Раскрытие несовершенных преступлений или опережающая дедукция – идея фикс, цель жизни и суть названного в честь автора, так называемого, метода С. За годы безупречной службы только раз довелось ему встретить единомышленника, следователя Бабаева, всем сердцем принявшего оригинальный метод и признавшего Павла Петровича Моцартом сыска. Но Бабаев нелепейшим образом погиб при испытании привезенного ему в подарок из Австралии большого охотничьего бумеранга. Остальные коллеги не только что не разделяли идею товарища, но, случалось, в силу собственной ограниченности либо из зависти подтрунивали над ним, а где-нибудь за год до выхода на пенсию уже открыто смеялись, выставляя слабоумным и параноиком.
Между тем, логика С. была безукоризненна. Согласитесь, невелика победа раскрыть уже совершенное злодеяние – ты попытайся предугадать злодеяние только замышляемое, а лучше, и это уже высший пилотаж, злодеяние, о котором будущий супостат еще и не догадывается. Так рассуждал Павел Петрович, преждевременный человек. Разверзались воистину потрясающие перспективы. Гений подарил человечеству шанс ступить, наконец, на широкую тропу, ведущую к окончательной и бесповоротной победе добра над злом. Но слон оказался в очередной раз незамеченным. Слона-то я и не заметил. То-то и досада, что со времен баснописца ничегошеньки не изменилось. Ничто не ново под луной, и так далее…
Эх, если бы С. прежде посещал четверги Стравинского! Там он непременно познакомился бы с неопознанным маньяком Григорием Г., живой иллюстрацией выдающейся теории. Кто-кто, а уж Павел Петрович нашел бы способ разговорить бедолагу, да и представить во всей красе Фомам неверующим. О, это был бы триумф! Но, увы, как говорится, телега ехала без лошади во ржи.
Догадались? Намек на пропасть Сэлинджера.
Впрочем, если бы знакомство и произошло, не факт, что истина восторжествовала бы. Как говорится, белугу хоть медом корми – грамоте не обучишь. Кто такое сказал? Сам же и сказал. И хорошо сказал, когда все так нелепо и кривобоко, когда дело касается всякой маломальской справедливости. Конечно, при таких обстоятельствах спустя рукава – лучше всего. Лучше и безопаснее. Это о ком? Да обо всех, если не лукавить, если начистоту.
Итак, у соратников нового Холмса концепция опережающей дедукции понимания не нашла. Зато в криминальной среде слух о выдающемся сыщике и его могучем открытии вызвал не то, чтобы панику, но изрядное волнение. Опасная слава С. разрасталась со скоростью звука и довольно скоро перешагнула все мыслимые и немыслимые пределы. Злоумышленники всех рангов, включая самый высокий, тот, о котором не только что никто не говорят, но никто и не знает, положили первейшей своей задачей за детективом денно и нощно следить, а при малейшей возможности ликвидировать. Как видите, подозрительность нашего героя вполне оправдана.
Исключительно благодаря звериному чутью и щучьей смекалке, притом, что слежка осуществляется при помощи самой изысканной техники, включая эхолоты и бескислородную медную катанку, ко времени повествования Павел Петрович все еще жив и относительно здоров. Под призыв репродуктора «Веселей, ребята, выпало нам…» потягивает компот в солнечной столовой, строит рожицы ребятишкам за окном, улыбается сдобной официантке Зое, пытается ухватить за бочок, когда та с бледным подносом проплывает мимо, мастерит из салфеток и зубочисток дикие фигурки… Наигрывает Навуходоносора. Это называется «наиграть Навуходоносора». Проверенный десятилетиями безотказный трюк, способный завести в тупик не только что преследователя, кого угодно. Один только С. знает, чего стоит ему, человеку бесконечно глубокому и сосредоточенному, в сущности, разведчику и водолазу, подобное лицедейство.
– Что же это за четверги такие, когда никто не открывает? – уже по дороге к дому Стравинского размышляет С. – Ну, что, Павел Петрович, вернемся к нашему ночному разговору? Пора, брат, пора. Устал, конечно. Но что делать, что делать? Так уж воспитали. Может быть, и не желали вырастить такую-то каланчу всем на обозрение, долдона, толоконный лоб, нелепого такого человека, Дон-Кихота Ламанчского, да уж теперь не переделать. И довольно об этом. Так на чем мы остановились? Только давай договоримся, эмоции в сторону. Не тянешь, уставать стал. Не тянешь, правы товарищи были. Эх, товарищи, товарищи… Ничего не проспал. Да, дольше обычного. И вчера тоже. И третьего дня. Это ни о чем не говорит. Какая старость? Никакой старости. Ни одного признака. Равноденствие, равномерность, размеренность, разум. Расчет. На часы не смотрел, нет. Как это, раскис? Была ночь, очень хотелось спать. Ночью люди что делают? Другие цели и задачи? А какова ваша цель, позвольте полюбопытствовать? Что вы в душу лезете? Лично я никогда в душу не заглядываю. Сам не заглядываю, даже если позарез надобно, и никому не позволю. Темно там, заблудиться можно. Оступиться или на ногу наступить. С Иваном Ильичом погори, он тебе расскажет. Вот именно. Иван Ильич. Стравинский. Откуда это имечко? Так просто Стравинским не назовут. Допустим, в случае Ивана Ильича еще можно понять. Все же альбинос. И психиатр. А этот, С.Р. откуда взялся? Теперь-то уж проснулся. Проснулся, проснулся. Здравствуй, день погожий! Здравствуй, солнце ясное! Веселей ребята, выпало нам! Забудь, гони эту песенку. Не время сейчас. Не время и не место. Посмотри, сколько хвостов нацеплял. Нет никого. Я бы заметил. И, пожалуйста, не отклоняйся. Не отклоняйся, не растекайся, не пыли, не жадничай. Не юноша уже, удержать столько нитей сразу не сможешь. Не юноша. И не Дон-Кихот. Какой Дон-Кихот? С чего ты взял? Пес облезлый. Нет, не годится. Нет, так не пойдет, не годится. Хвалить нужно, нахваливать нужно. Хвалить, нахваливать. Все тебе игрушечки. Никак остановиться не можешь. Мельники-разбойники. Не наигрался в детстве, вот и не можешь остановиться. Правы товарищи. Эх, товарищи! Кроты да муравьеды. Да, крот. Самый настоящий. Недавно. А, может, и давно. Знамо где. Под столом у Кутыкина, вот где. Под мусорной корзиной. Там, где линолеум загнулся. Жирный такой крот. Как сыр в масле. Сыр – образ конечно. Из другой оперы, конечно. Но как образ – вполне. В духе времени, так сказать. Теперь жир в почете. Сыр, масло, все такое, лоснящееся. Жирный такой крот, лоснится весь, в особенности когда солнышко выглядывает. Вот как теперь. И Кутыкин крот. Или муравьед. Что-то оно? Тогда крот. Лишаешь выбора. Выбора, маневра. Растекаюсь? Опять растекаюсь? Соберись. Сколько времени упустил! Детали, детали нужны, детали, улики. Думай, давай, думай. Песенку гони. Песенку эту гони. Что значит растерялся? Как такое возможно? Столько людей, целая толпа, люди, животные. Кто этот Стравинский? кто? Все эти люди, животные. Зачем? Ждал, что откроет? Кто откроет? Стравинский откроет?! Жулик этот? Да ты спятил, братец! Конечно, жулик. В лучшем случае педофил. Они теперь повсюду. Преимущественно латентные, но что это меняет? Педофил, он и есть педофил. Взять хотя бы этого черного танцора, шаркуна Джексона. Кто бы мог подумать? К слову, я сразу понял. Как только увидел, сразу заподозрил. Не просто так в склянке прятался, вакуумом дышал. Просто так не прячутся. Знаете, прятки – это не игра. Нет такой игры. К слову, американцы осудили его, не дожидаясь доказательств. В сущности доказательства не имеют принципиального значения. Все же молодцы эти янки, как-то узнали о моем методе. «Метод опережающей дедукции» называется. И вот, видите, уже внедрили. Понимаете, если танцор на самом деле и не совершал преступлений к моменту разоблачения, предположим, в чем я весьма сомневаюсь, просто так, бескорыстно любил детей, рано или поздно он все равно свернул бы на опасную лунную дорожку. Что и просматривалось в его танцах. Вы согласны со мной? По танцу тоже можно многое о человеке понять. И по имени. Вот что это за имечко, Стравинский, скажите на милость? А может быть, кличка? Не много ли Стравинских для Бокова? А если их не двое, а, скажем, шесть или восемь? Вот, кстати, восьмая квартира, не забыть. Банда. Или, того хуже, ячейка. А если звено? У Ивана Ильича братьев нет. Уж я бы знал, когда бы у него братья были. Я всё про него знаю. Да, сам он про себя ничего не знает, а я знаю. Работа такая. Он – обо мне все знает, я – о нем. Так, как-то, совместными усилиями бережем друг дружку. Сторонимся друг друга, но из поля зрения не выпускаем. В наше время линзу зачехлять нельзя. Ни в коем случае. Ладно, это уже лишнее. Проехали. Во всяком случае, двух Стравинских вычислил. Уже кое-что. Пока двух. А если их десять? Ну, считать-то, предположим, можно до бесконечности. Десять, одиннадцать, двенадцать. Молодец. Молодец? Молодец, молодец! Хвали, хвали, вдохновляет. Но, если начистоту, в голове пусто. Пустота. Нет. Пленка. Целлофан. Или полиэтилен. Пока будем плясать от того, что их двое. Притом, между собой они не связаны. Или связаны? Или это вообще один человек? А что, вариант. Глупость, конечно. Два человека – это два человека. Один человек – это один человек. Нога либо одна, либо две. Не забыть, разобраться с ногами полковника. Что там такое с этими ногами? Вот, кстати, деталь и парадокс. Да, дельце-то, похоже, серьезное. Серьезней, чем ты думаешь. Не дельце – помпа. Тоннель. Если так и дальше пойдет, боюсь, не уцелеть. Все равно вылью его. Как суслика из норки. И банду накрою. Ясное дело, такой отчаянный человек – девять пулевых ранений. Не два, не три – девять! Все, спёкся ты, братец. Уже хвастаться начал. Всё. Спать отправляйся, мемуар сочинять. Это ничтожное примечание пропускаем мимо ушей. Говорю же – похвала. Исключительно похвала. Ну, если, конечно, нужен результат. Так, возвращаемся к нашим бараном. Баранов, кстати, не было. Ни одного. Тоже деталь. На чем остановились? На старике? Согласен, старик-полковник подозрительный. Чертовщина с ним какая-то. И с ним, и с конем его. Зачем конь среди бела дня? Старик, как старик, соглашусь, но проверить надо. На всякий случай. Конь из головы не выходит. И что тебе конь? Боевой конь. Такого коня ни за что не расколоть. И старик ничего не скажет. Не трать времени даром. Как там песенка? Перестала? Нет? Гони ее. Прогнал? Хорошо. А вот и хвост. Добро пожаловать. Здрассьте. Давно не виделись. А я, грешным делом, думал, сегодня обойдется. Уважают, стало быть. Здрассьте. И улыбочка. Получите и распишитесь. Побежал, дурачок. Только пятки сверкают. Все, не отвлекаемся. На чем остановились? Ах, да. Простого человека искать нужно, вот что. Простодушного, простого. Вот такого же, как ты сам. По себе примеряй. Когда бы ты ни был сыскарем. Когда бы ты с удочкой сидел. Или в бане. Или в гараже мастерил. Или в столовке своей с Зоей в обнимочку. Вареники с вишней. Веселей ребята. Гони песенку-то, гони. Обманули их, простых людей-то. Видишь, как? Обещали не наказывать. Грешить приглашали, дескать, ничего вам за это не будет. И обманули. А обещали не наказывать. Теперь простой человек совсем оробел, потерялся. Иной – в тюрьме, иной – на кухоньке горькую пьет. Редко кто хорошим вором стал. Вором родиться надобно. Как и сыщиком. Им теперь отмщения хочется, а силенок-то уже немае. А так, конечно, подскажут, наведут, намекнут, сдадут. Кого надо, того и сдадут. Всех, кого хочешь. И это правильно. И это правильно. Ничего, переморщишься. А больше и рассчитывать не на кого. Остальные все в деле. Так что… Нахрапом действовать уже нельзя. Это ты себе на ус намотай. Не пройдет. Знаю, знаю тебя, рыло суконное, не удержишься. Дедовские методы хорошо освоил. По этой части отличник. Но такие трюки больше не играют. Чуть поддашь – сразу святых выноси. Хлипко все и неоднозначно. На ниточке. Истончилось всё. И усохло. Зябь. Вымираем мало по малу. Накушались. И мошек, и урюка. Надо же? как-то воспроизводимся еще. А так уже давно вымерли бы. Как птеродактили. В роддомах тоже черт знает что делается. Как они там, в этом пожаре? Пожар, именно, что пожар. В роддомах, да в полиции. Еще в школе. Школа – вообще омшаник. Ладно. Не растекайся. И, главное, ничего не обещай. Обещать не вздумай. Нам, простым людям, уже показали все, что можно, и белку, и свисток. Это должен быть обыкновенный разговор. И не по душам. Ни в коем случае. Так – ни о чем, о погоде. Трёп. Хорошо – если за стаканчиком вина… Помнишь, в восемьдесят втором, в Риге в кафешке португальский портвейн? Настоящий. Позже и к нам завезли. В пузатых таких бутылочках. Скажем, такая беседа. Какие дивные птички! Отродясь не видывал таких птичек. Часто к вам прилетают? А что за птички, как называются? Так я слышал, они, как будто вымерли. Нет? Что-нибудь в таком духе. Не знаете, откуда птички такие дивные прилетают? Из Анапы, вестимо. Каждый четверг прилетают. Сами по себе прилетают, без Стравинского. А к Стравинскому случайно заглянули, присесть отдохнуть. Вот, как только Стравинский прозвучал, тут тебе и карты в руки. В переносном смысле, разумеется. Как только Стравинский прозвучал, тотчас цап! Но осторожно. Разговор пусть дальше льется, журчит. Случайно не знаете, совершенно случайно, а кто таков Стравинский? Еще присовокупить, слышал, хороший, изумительный, прекрасный человек. Когда хвалят чужака, не любят, на дух не переносят. Даже если свой. А беседа тем временем льется, журчит. Выходит, кто таков не знаете? знаете? не знаете? И уж совсем случайно, не знаете, по какому случаю, по какой, то есть, причине он за дверью прячется? Может быть, нездоров? А ну, как нездоров, тихоня? Не захворал ли? И по какому случаю? Что-то совсем спрятался, тихоня, не знаете, в связи с чем? Непременно тихоню вставляй в каждой фразе. Тихоня для простого человека – что красная тряпка для быка. Если тихоня – непременно что-нибудь мутит, затевает. В представлении простодушного человека, такие-то тихони и обирают. Саранча. С виду неприметные, но их же тысячи, миллионы. Пестренькие, неприметные. Жуют себе, жуют втихаря. Жуют и множатся. Нам за ними, конечно, не поспеть. Но, пытаться надо. Что ты? Бездна. Колодец бездонный. Тоннель. Без лампочек. Внимание. Вон еще один маячит на той стороне. Делает вид, что собачку выгуливает. Такую собачку не то, что в дом, в зверинец не возьмут, побоятся. Улыбочка – получите и распишитесь. Слушай, сколько хвостов! Выходит, мы на верном пути. Теперь жди снайпера. Шутка. Кому ты нужен, пес облезлый? Здрассьте. Так, пора газету покупать. Что вам от меня нужно? Оставьте меня в покое. Во мне жизни – на понюшку табака. Шутка… Герани издохли. Надо бы горшки выбросить. Уже болотом попахивает… Что ты смотришь на меня, таращишься? Старенький старичок налопался пельменей, идет греться на солнышко, пузо отращивать. В январе? С ума ты сходишь. «Спорт», пожалуйста. На черта мне «Спорт»? Стоп! Кажется, тот самый дом. Не может быть! Похоже, что тот. Скажите, женщина, это что за дом? Вот ищу один дом. Там еще елки во дворе жгли. Вчера. Много народу собиралось, люди, животные. Не видели? Даже не знаю, как объяснить. Вроде праздника никакого не было. Обычный день. Вы, я вижу женщина простая, мне бы с вами поговорить. Нет? Ну, простите. Все равно спасибо. Улыбочка. И вам улыбочка, молодой человек. Здрассьте. Сколько же вас, ходочков? Что-то я такого внимания к своей персоне не припомню. Ну, что, тот самый дом. Ноги сами привели. Что и требовалось доказать. Вот и кострище. Не забыть собрать окурки. Не знаю зачем, положено. Улики. Спокойнее чувствовать себя буду, если соберу. Ритуал. Разложу на газетке. Зря я, что ли, газетку покупал? Это бесконечное зачем по любому поводу, откровенно говоря, раздражает. Всё, кажется, добрался. Восьмая квартира. Ну, хоть что-то. А мы ему маневр. Начнем, скажем, с девятой. Тук, тук. Тук, тук, откройте. Полиция. Здрассьте. Ради Бога извините, вы не могли бы мне помочь? Только не бойтесь. Я без оружия, и я – простой человек. Следователь. Зачем брякнул про оружие? Словом, бояться меня не нужно. Зачем брякнул про оружие? Бывший следователь. Лояльный человек. Не горячая голова. Зачем брякнул, что бывший? Сейчас горячих голов пруд пруди. Сам не переношу. Буквально плюнь наугад – попадешь. Зашипит, что твой карбид. Мы в детстве так развлекались. А вы развлекались карбидом? Карбид, селитра, это все очень опасно, но запах, откровенно говоря, приятный. В детстве приятным казался. Да и теперь. Но вы детям не давайте. Ни в коем случае. Прячьте. Постарайтесь спрятать. Хотя это не просто. Детки нынче пошли юркие, пронырливые. У вас есть дети? У меня тоже нет. Трех. Или четырех. Я хотел трех детей. Или четырех. Не сложилось. Как-то, знаете, не сложилось. Вся жизнь в бегах. В прямом смысле. Девять дырок. Когда знакомлюсь, иногда шучу таким образом – Павел Петрович, девять дырок. Кому интересно, поймет, согласитесь. Преступность растет, нарастает. Ни по дням, по часам. Как опухоль. Или гриб, забыл, как называется, в банках выращивают. Вы не выращиваете? напрасно. Полезная вещь. Очень. Говорят. Было бы время, непременно завел бы. Это только кажется, что всё тихо, спокойно. Вы меня спросите, я вам скажу. Так что вы очень правильно сделали, что дверь не сразу открыли. И это большое везение, что открыли всё же. И то, что открыли именно мне. Горячие головы на каждом шагу. А я борозды не испорчу, и дров не наломаю, будьте уверены. Можете не сомневаться. Не тихоня, конечно, но человек старой формации. С пониманием. Вы еще не раз в этом убедитесь. Предоставлю вам такую возможность, в свете разворачивающихся событий. Как говорится, у каждого свой Конец Света. Фигурально и в общечеловеческом масштабе. Пошутил. К вам не относится. Вы – простой человек, приятно посмотреть. И я простой человек. Поладим. И я человек лояльный. И всегда таким был. На допросах всегда куда-нибудь во дворик выводил. Из добрых побуждений. Чтобы решетка на окне не смущала. Свежий воздух, птички, все такое. Не соловьи, конечно, и жасминов не держим, за жасминами ухаживать надо. Но все равно. Знаете, после камеры и воробей соловьем покажется. Но это не допрос. Допросов вообще не будет. Обещаю. Я – бывший следователь. Но следователь. По призванию. По призванию и образу мысли. Если хотите, духовный сыщик, если можно так выразиться. Не стану скрывать. Конечно вы под подозрением. Но это не означает, что вы под подозрением. Вы только у меня под подозрением. А меня бояться не следует. Вообще никого не бойтесь. Теперь можно. Иногда, согласитесь, преступление проще предотвратить, чем не заметить. Да, пожил. Многое случалось. Девять пулевых отверстий. Во мне девять пулевых отверстий. Более сорока хирургических операций. Пересадки, всё такое. Можно сказать, совсем новый человек. Обновленный. Если бы мы с вами в юности встречались, вы теперь меня не узнали бы. Я и сам себя порой не узнаю. Подойду к зеркалу и вспоминаю – где же я этого малого видел. Ха-ха. Пошутил. Как видите, чувства юмора не растерял. Это, согласитесь, вселяет некоторую надежду. Некоторую. Согласитесь, без шутки нынче не прожить. Вот вас обманывали, унижали, и теперь обманывают, унижают, но вы же не замышляете месть? Кто-то скажет, терпила. Негодяи так говорят. А я скажу, выдержка. Я и сам лишний раз пистолета из кобуры не вынимаю. Разве что последнее время нервы сдавать стали. Усталость. Пальнул. Один раз. Ночью. Не так чтобы ночью, скажем, в темное время суток. Никого не поранил. Да и не было никого. Показалось. Почудилось. Нынче по ночам безлюдно. Кажется, что и нет никого. Кажется, злоумышленники все спать улеглись. Это иллюзия. Сверните в первую попавшуюся подворотню. Да и сворачивать не нужно. Просто зажмурьтесь, и всё. И всё. Так что бояться меня не нужно. Простой человек. Вижу, вы тоже простой человек. Представить себе не можете, насколько приятно. В наши дни, когда каждый из себя что-то корчить пытается. Скромности ни на грош не осталось. Злонамеренности хоть отбавляй, а вот, чтобы скромность, лояльность, покорность? Покорность – не то слово. Ошибка. Благорасположение. Вот, как у вас. Благорасположением буквально светитесь. Вообще очень хорошо выглядите. И не вздумайте захлопнуть дверь. Бывает, знаете, захлопывают прямо перед носом. Но вы так не сделаете. Вы – простой человек. И перед вами простой человек. Я, знаете, тоже простой человек. Я бы даже выпить вам предложил, но как-то не сообразил захватить. Не знаю, есть ли у вас поблизости магазин. С удовольствием выпил бы с вами. Вот, вспомнилось, году этак в восемьдесят втором портвейн привезли. А вы помните? В пузатых таких бутылочках? Ну, ничего, в следующий раз. Я думаю, мы с вами еще не раз встретимся. Я, собственно, что? Зачем пришел-то? Выпить – это в следующий раз. Того портвейна не обещаю, но что-нибудь подходящее раздобуду. Я умею выбирать. И пальто хорошее выберу, если понадобится. Мы, простые люди выживать научились, что-что, а выживать-то научились. И в потемках, и на виду. Соседа вашего упустил из восьмой квартиры. Не то, чтобы упустил, но потерял. Вот, хотел с ним встретиться, покалякать о том, о сём. Приходил давеча, никто не открыл. Почему-то никто не открыл. Он кто, ваш сосед? Как его звать? Ну да, все правильно, Стравинский. Как композитора. Любите Стравинского композитора? Да, нам, простым людям, порой бывает трудно понять. А, может быть, и понимать не нужно. Все, знаете, какие-то наигрыши. Сюжета нет. Не понятно, что сказать хотел, высказать. Какое время года? Какие события описываются? Вроде бы о деревне рассказывает, колокольчики, да петушки, да, кажется, деревни-то самой и не видел никогда, Стравинский этот. И вообще фамилия замысловатая, подозрительная. Но, знаете, кажется, у нас здесь прижилась. В каком смысле? Да, что-то много их больно стало. Многовато для Бокова. И вроде бы не родня. Не знаете, у вашего Стравинского братьев нет? Что-то их многовато стало. Чует мое сердце, этот Стравинский – та еще штучка. Это я все о композиторе, вспомнил вот, успокоиться не могу. Какая-то разруха в нем, знаете. На нервы действует. Нервы – ни к черту. Мне бы что попроще. «Веселей ребята, выпало нам», например. Вам нравится? И мне нравится. А вы вообще с вашим соседом встречались? знакомы?.. Погодите-ка. А он у вас не альбинос, случаем, сосед ваш? Подумалось, а что, когда это не два человека, а один человек? Иван Ильич. Тоже Стравинский. С Иваном Ильичом, доктором встречаться не доводилось? Глупость, конечно, но отработать все версии нужно, согласны? Вообще, лучше, когда и вопрос понятен и ответ. Не знаю, как вас, а нас так учили. Два человека – это два человека. Один человек – один человек. Это как с ногами. Две – значит две. Одна – так одна. А так, чтобы две как одна или наоборот, чтобы нечто среднее, так не получается. Не бывает так. Устал. Ночь бессонная. Видите, круги под глазами. У вас тоже, кажется, круги? Не спите? Тревожит что-то? Нет? Ошибаюсь? Ну и что он, ваш Стравинский? Где он, где да где? То есть, как съехал? Быть не может. Точнее, быть, конечно, может, но не хотелось бы. Когда? Пять семь лет назад? Быть не может. Я буквально вчера к нему приходил. И не только я, многие приходили. Знакомые его, животные. Много народу было. Не обратили внимание? Такая толпа подозрительная, а вы не обратили внимание? Да, буквально вчера. Вчера, к слову, какой день был? Как суббота? Погодите. Как, суббота? Сколько же я проспал? А сегодня, что, воскресенье? Совсем зарапортовался. Вот вы говорите, пять – семь лет. Да. А шестерочка куда подевалась? А может так получиться, что вы его не встречали? Он никуда не съезжал, но вы его не встречали. Не случалось как-то, не выходило встретиться. Нет? Да, семь лет, наверное, многовато. Но вы помните минувший четверг? Спрошу иначе. В этот четверг не заметили ничего необычного? Ну, не знаю, много шума было, из ракетницы стреляли, костер жгли, одноногий полковник на коне, птеродактили, что там еще? Шумели, песни разные. Толпа, одним словом. Столпотворение. Вавилон. Содом и Гоморра. Гога и Магога. Нет? Странно. Думаю, не банда. Ячейка, вероятнее всего. Нет, это я про себя, не обращайте внимание. А знаете, вы мне очень помогли. Большое спасибо. Кое-что уже вырисовывается. И Гогу, и Магогу, всех накроем, не сомневайтесь. Старайтесь пока кроме меня дверь никому не открывать. Вот вы говорите, шестерочка, а я как раз шесть лет тому назад развелся. Точнее так, жена ушла от меня. Бросила. Уже не жалею. Первоначально жалел, даже плакал, признаюсь, а теперь – ничего. Уже привык к одиночеству. Ни перед кем отчитываться не нужно. Но я ее не осуждаю. Она со мной настрадалась. Я же пою вечерами. Такая слабость. А голоса нет. И слуха. Медведь на ухо наступил. Чувство юмора – великая вещь, согласитесь. Ну, что? Питаюсь в столовой. Отличная столовая. Пельменная, скорее. Всегда светло, музыка хорошая. Вот, как раз «Веселей ребята» передают нередко. Услышу, потом целый день в голове крутится. Радиоточка там. Всегда исправна. Чистенько. Туда и семьями приходят. С ребятишками. Официантка Зоя. Хорошая. Душевная. Официантка, она же буфетчица. Хорошая. Порой кажется, будто восемьдесят второй год вернулся, честное слово. Помните восемьдесят второй год? А я почему-то хорошо запомнил. Я в восемьдесят втором такого портвейна откушал, до сих пор вкус во рту стоит. Португальский, настоящий. Порто. Латинскими буквами. Ну, что, пойду бычки собирать. Разложу дома на газетке, высушу. Я и газетку по случаю купил. «Спорт». Спортом не увлекаетесь? Я тоже не люблю. Если сосед ваш обозначится, дайте знать. Нет, звонить не нужно, я сам заходить буду. Подмигните или шепните. Любой знак, я пойму. Я тут неподалеку расположусь, понаблюдаю. Время от времени захаживать буду. Вам теперь спокойнее будет. Как-нибудь вина выпьем, споем. Так что я вас завербовал. Пошутил. Я, на самом деле, просто так зашел. Шел мимо, дай, думаю, зайду. Жена ушла. Друзей растерял. Скучно, знаете. Допросов не будет, не беспокойтесь. Не те времена. Те времена уже не вернутся. Вы – славный. Расчувствовался. Простите. Всего доброго. Всех накроем, не сомневайтесь. Будьте покойны.
Чтобы там не говорили, место подвигу всегда – пожалуйста. Даже если и деньги, и хайп, и всё такое. Фенечки больше не в моде.
31. Стравинский И. Ф. Колесо
Прозрачный от вдохновения Игорь Федорович Стравинский чрез стекло веранды рассматривает большое деревянное колесо, отдыхающее на водянистой травке неподалеку от слепящей веранды, в которой, точно в аквариуме Игорь Федорович Стравинский, не человек, но фигура табачного дыма, сизая согбенная фигурка, прильнув к стеклу, изучает золотое от солнца большое деревянное колесо. До изумления большое и до боли в сердце золотое колесо.
Не то ли это колесо, что было замечено на несостоявшемся четверге у Сергея Романовича? С уверенностью сказать нельзя – мешает солнце.
Обратите внимание, в представленной композиции единственным реально существующим объектом является до изумления большое и до боли в сердце золотое колесо. Все остальное, включая Игоря Федоровича – сферы, атмосферы, чад и небытие. Как и музыка сама. Имеется в виду настоящая музыка, а не пожарный марш того же, скажем, колеса, когда бы оно вдруг сдвинулось, когда можно было бы придумать, куда его пристроить, дабы оно покатилось с клекотом или гулом.
Придумать, как использовать такое вот выдающееся колесо, наверное, могли бы древние вавилоняне, на худой конец, древние римляне, но встретить таковых теперь решительно невозможно. Разве что на четвергах у Сергея Романовича, да и то сомнительно. На поверку таковые могут оказаться ряжеными или умалишенными, или то и другое одновременно.
В укромном уголке Игоря Федоровича вавилонян не держат. Здесь всегда пианиссимо. Только иногда пиано. Главным образом – пианиссимо.
А всегда ли колеса нуждаются в том, чтобы их пристраивали, приделывали, прилаживали? То колесо, что было замечено на несостоявшемся четверге у Сергея Романовича, например, было само по себе колесо, и, кажется, вовсе не нуждалось в прилаживании. Ни в прилаживании, ни в римлянах, ни в турусах. Да и не факт, что пожаловало оно именно к Сергею Романовичу. Вполне могло попасть в компанию четвержан совершенно случайно. Катилось себе по делам – тут, откуда ни возьмись, толпа. Задержалось из любопытства или чтобы перевести дух. Может статься, проехать не было никакой возможности. Последнее – скорее всего. Не будь толпы – катилось бы себе и катилось. По делам. А, может, просто прогуливалось, кто знает? В любом случае то, первое колесо, назовем его, чтобы не путаться, колесом агностика Стравинского, было довольно деятельным колесом. Колесо же композитора Стравинского очевидно не подает признаков жизни. Сияет себе на солнце и больше ничего. Долгонько уже сияет. Вывод – скорее всего мы имеем дело с разными колесами. Хотя, согласитесь, с уверенностью утверждать что-либо в наше время, по крайней мере, легкомысленно.
Долгонько уже Игорь Федорович наблюдает за колесом. Впрочем, само колесо его не интересует. Сияние, думаю, тоже. Видите ли, мир композитора Стравинского, как и сам композитор Стравинский, столь зыбки и эфемерны, что любой объект или явление, будь то колесо, сияние, будь то мы с вами, да хоть все четвержане с римлянами и вавилонянами, да хоть все жители Земли, вместе с птицами и гадами морскими постройся сейчас перед ним на лужайке в аккурат напротив веранды, он и ухом не поведет. Так что до изумления большое и до боли в сердце золотое колесо здесь по ошибке.
Вот вы говорите, не только вы, многие уважаемые и в действительности заслуживающие уважения исследователи и другие аналитики говорят, что ничего случайного, непреднамеренного в природе быть не может. Философы многие говорят, дескать, не все покуда найдено и объяснено, не все причины, следствия, не все закономерности рассортированы, но они существуют и торжествуют. Вне нас, не важно, торжествуют. А вот вам колесо, откуда не возьмись. Что в первом, что во втором случае – колесо. Нужды в нем никакой нет, что в первом, что во втором случае. Пользы, как выясняется, тоже. Конечно, может быть, наверное, наверняка во времена Питера Брейгеля старшего и Питера Брейгеля младшего колесо могло возбудить страх и вдохновение. Отчего нет? Милое дело. Исполать. Но в нашем-то случае, как говорится, лишь бы ногу не переехало. Щерится безо всякого смысла. Размеры – чудовищные. Просто мусор и больше ничего.
Но и убрать его нельзя. Вот где парадокс. Игорь Федорович за колесом как будто не наблюдает, взгляд у него отсутствует, зрачки на злато не реагируют, скажу больше, не сочтите за чудачество, самого Игоря Федоровича, в том смысле как мы придумали его воспринимать – нет. Возможно, что и не было никогда. Однако же тронь это треклятое колесо, и все рухнет, рассыплется. А потом, не дай Бог, воспрянет, как это часто бывает у нас. Воспрянет, а какие очертания приобретет? И какие последствия? Это хорошо, если композитор Стравинский предстанет таким, как мы его придумали, этакой оляпкой-капелькой, а ну, как Жар-птица его выскочит из него? А ну – Петрушка?!
Условились не трогать – не станем. А лучше понаблюдаем, вернее, послушаем, как в Игоре Федоровиче складывается музыка. Когда бы он видел нас, а мы, соответственно – его, пусть даже не всего целиком, а только лишь одно его ухо, или пальцы, как будто специально созданные для ощупывания звуков, затея наша тотчас провалилась бы с треском. Стравинский тотчас застегнулся бы наглухо, выключил свой внутренний свет, а, справедливости ради, следует заметить, глаз его и так никто не видел, состроил бы улыбку в точности как у вышеупомянутой оляпки-капельки, а руки засунул бы в трескучие карманы с театральными леденцами. Теперь же, когда ни нас, ни его нет, у нас есть возможность понаблюдать и послушать, как же в Игоре Федоровиче складывается музыка.
Ну, что? Приступим?
Как вы помните, композитор Стравинский чрез мутные линзы очков со своей веранды наблюдает за разомлевшим на лужайке композитором Римским-Корсаковым в золотистой вязаной кофте и пузырящимися на коленях штанами от матросской робы. Как вы наверняка знаете, в отличие от колеса, Римский-Корсаков Николай Андреевич одним своим видом всегда вдохновлял Стравинского Игоря Федоровича на сочинительство, и не обязательно в парадном мундире морского офицера, а даже в таком вот непритязательном обличие.
Верится, что жизнь после жизни освободит нас от саднящих условностей жизни до жизни после жизни.
Итак, Игорь Федорович наблюдает за Николаем Андреевичем, хотя это только так кажется, что Игорь Федорович наблюдает за Николаем Андреевичем. На самом деле ему достаточно одного беглого взгляда на сей освещенный солнцем повалившийся улей, чтобы тотчас мысленно отправиться далеко от этого и прочих мест.
Улей – шутка с намеком. Дело в том, что обыкновенно спящий на травке Римский-Корсаков всегда окружен хороводом медовых песенок, точно улей – хороводом медоносных пчел. Вот, как раз, зная эту особенность, Игорь Федорович, как только видит задремавшего учителя-друга, тотчас старается отправиться далеко от этого и прочих мест, как-нибудь отвлечься или зажмуриться. Иногда даже затыкает уши, чтобы, не приведи Господи, не заразиться одной из таких мелодий и не повториться впоследствии.
А еще, случается, на полянке чуть поодаль устраиваются поедать клубнику итальянцы-кастраты со своими голосами, голосистыми гондолами и не менее голосистыми гондольерами. Венеция всегда где-то рядом. Итальянцы-кастраты, оказывается, обожают клубнику. Хорошо, что Игорь Федорович не видит их. Ни разу не видел, потому что первым всегда является друг-учитель, не всякий раз, но, чаще всего в ослепительно белом мундире морского офицера. С блаженной миной раскидывает руки и, растопырив длинные пальцы, точно созданные для ощупывания звуков, падает в ароматные травы. После чего Стравинский зажмуривается, затыкает уши, и только потом уже собираются итальянцы с клубникой, голосами гондолами и гондольерами. После трапезы, конечно же, поют. По счастью русские композиторы ангельского пения не слышат, ибо один спит, другой – уже далеко от этого и прочих мест.
И поскольку наш герой, Игорь Федорович, находящийся теперь далеко от этого и прочих мест, в то же время не покидает веранды, как бы наблюдая за раскинувшимся в землянике другом своим и учителем Николаем Андреевичем Римским-Корсаковым, у нас есть уникальная возможность понаблюдать и послушать, как затевается музыка. Но мы не станем этого делать по ряду причин. Во-первых, подсматривать и подслушивать нехорошо, а, во-вторых, это невозможно.
…ось, сон, воск, ось, сова, совы, осовели, осовели, сволочь, ось, влачим, ось, осовели, влачим, влачим, осовели, влачим, шесть, шесть, мох, шесть, мешок, мешки, мешки, влачим, мешки, влачим, мыши, мыши, мешки, подмышки, мешки, мешок, шина, мешковина, мешки, мешковиной, с мешковиной мешки, с мешковиной, влачим, шесть, ось, сова, осовели, шесть, шасть, влачим, молчим, влачим, сон, сны, сон, суть, смысл, суть, осовели, шесть, восемь, шесть, часть, восемь, восемь, ось, колесо, колесо, ось, восемь, колесо, ось, Ося, Ося, керосин, Ося, ч, ось, ч-ч, Ося, колесо, колесо, сволочи, сволочи… вот, вот, вот и вот, вот и отплатила, оплатила, вот и вот, вот и отплатила Осе, вот и отплатила своему, горбатенькому своему, горбатенькому своему, керосинщику своему, керосинщику, Осе, Осе керосинщику, Осе, горбатенькому керосинщику своему Осе, напевному керосинщику своему… за сырость и любовь, сырость и любовь, любовь, за любовь, любовью за любовь, любовью за любовь… любовью за любовь, любовью за любовь…
Как заезженная пластинка крутится в голове у Николая Андреевича одно и то же, одно и то же, колесо из слов, косматое колесо из слов за минуту до погружения, за минуту до погружения в сон. Поблескивая на солнце, слезы катятся по впалым щекам, по впалым его щекам, по впалым его щекам и бороде за минуту до погружения в сон.
Поблескивая на солнце.
За минуту до погружения в сон.
Там я плыл по реке с занавеской в окне,
С занавеской в окне, с головою в огне…10
Там ведь как? Всегда август. Поздний. С горчинкой.
Там все повсюду. Все всех знают и всё знают.
Хотите Каму? Пожалуйста.
Венецию? Пожалуйста…
И когда вы проникнетесь этой пустотой, каждой своей клеточкой пропитаетесь этой пустотой, представьте, вдруг – колокольчик, самый маленький, какой только возможно вообразить, просто не колокольчик, а игла, иголка, стружка ледяная прямо в сердце – вот что такое Стравинский Игорь Федорович.
Ну, и август, разумеется. Поздний. Август, веранда, август, пчелы, Римский.
Там же все повсюду. Все всех знают и всё знают.
Хотите Каму? Пожалуйста.
Венецию? Пожалуйста.
32. Стравинский И. Ф. Морока
Игорь Федорович. Звуки твердые, твердые. Твердый знак. Скрипичный ключ. Скрип. Скрипка. Стравинский. Что-то от страуса. Страус травку щиплет. Чудное животное. Горделивое. Говорят, трус. Трус, говорят. Голову прячет. Правильно. Всё правильно. Инстинкт. Инстинкт самосохранения. Хранит себя. Царственный. Хранит царственность. Главное – не видеть. Живой. Вроде бы живой, а страха уже нет. Хитрости, хитрости. Стравинский. Фамилия замысловатая. Хитрая. Рояль. Твердый знак. Игорь, рояль. Изгибы. Рояль весь в изгибах. Строгий, стройный, замысловатый. Уж мне все эти глупости. Все эти выдумки, придумки. Живые, неживые. Рояль. Что рояль? Король? Рояль – король? А Игорь? Живой? Получается, что живой. Нет пределов. Нет. Выходит, пределов нет. Сколько можно прокручивать это в голове. А где голова? А голова где? Корона где? Король? Живой? Забыли. Забыли короля. Как Фирса. Фирс. Как Фирса. Забывают. Всегда забывают. Фирса забыли, меня забыли. Всех забывают. Забыли. Вот оно что? Ах, вот оно что? Аллегро. Живой, visa versa. Живой – не живой. Живой. Все живы. Все живы покуда, слава Богу. И рояль. Почему нет? Почему бы и нет? Живой, конечно. Плешивый, правда. Плешивый. Ха. Правда, плешивый. Бедный. Бедненький. Ха. Любовь. Плешь, плющ. Череда. Числа? Нет. Чисел нет. Вне чисел, пожалуйста. Пожалуйста, без чисел, пожалуйста. Октава. Октава, будьте любезны. С третьей цифры. Да, да, сразу с третьей. Альты. Будьте любезны. Чуть-чуть. Что? Череда. Да. Череда. Чемеричная вода. Трезвость. Бекар. Четверг. Четыре. Без чисел, просил. Только размер. Исключительно размер, и то – про себя, пожалуйста. Если не трудно, про себя, пожалуйста. Ну, что там? Черная? Черное? Черная, гладкая рояль. Рояль. Рояль черный, гладкий. Нет. Цвет, цветок не уместен. Не уместен-с. Фуксия ваша. Эта фуксия ваша не уместна-с. Фуксия, лилия, фуксия, тигровая лилия. Фа. Фа-диез. Диссонанс. Тигр. Диссонанс. Лилия и тигр. Не здесь. Только не здесь. Здесь окно, видите ли. Окно. Не знаю. Окно и окно. Не знаю. Вот окно. Бездонное, скользкое. Вот бездонное, скользкое. Лить, скользить, плакать. Притяжение. Ми. Простор. Просторное. Просторное окно. Ми. Голубое. Ми-бемоль. Лазурь? Лазоревое. Нет. Цвета нет. Не будет, пожалуйста. Какое-то время не будет, пожалуйста. Свет? Не знаю, не знаю. Глубина. Знаю. Октава. Нет, нет. Ни лед, ни зеркало. Лед. Может быть, может. Возможно. Жжет. Карамель. Лед жжет. Карамель. Горим. Диез. Понимаете, вся эта стать, стройность, стать – это из последних сил. Честное слово – из последних сил. Терпкое все. Терпкое, терракотовое, поры, корочки, озноб. Сам по себе. Ты – сам по себе, озноб – сам по себе. На стенах, на потолке. На лице, на снимке, повсюду. Изморозь. Случается. Терция. Можно. Можно, конечно, можно, еще как можно. Но. Иногда. Лечь. Бемоль. Лечь. Бемоль. Лечь. Ля. Нет, правда, надо бы, надо бы. Фа, ля, до-диез. Капли, капельки Стаккато. Чуть-чуть. Надо бы, надо бы. Тянуть, протяжно, потянуться, протянуться. Легато. Вдоль, по вдоль. Нега. Не знаю. Там. Там, за окном. Растаять. Слиться, растаять. Нет. Холод. Холодно. Там, за окном холодно. Небо. Поле там? Поле, колокольчики, колокольчики там? Стога, столбы, стога там? Шествуют. Шествуют, шествуют. До, ре, фа, ля, ля-бемоль. Междометье. Синкопа. Сноп. Снопы. Синкопа. Что? Что? Линии. Знак. Линии. Треск, трещит, треск, бекар. Молния. Искорки, искорки, печиккато. Зажмуриться. Зажмурьтесь. Закройте глаза, зажмурьтесь. Нельзя, нельзя. Если хочется – нельзя. Если так – лучше зажмуриться. Слышите треск? Слышите? Зажмурились? Слышите? Уж тут уж звук или без звука. Звук. Молния. Звук или без звука? Звук, звук. Трамвайчик. Трещит. Трамвайчик. Линии, лезвия, пламя. Белое. Сию минуту. Сию минуту. Кондуктор. Киев. Питер. Дым. Золото. Медь. Пуговички медные, сумка. Живая. Выдумки, опять враки, выдумки. Человек рассеянный с улицы Бассейной. Шляпа – дырка на голове. Сумка живая, а трамвайщик мертв. Мертв, мертв. Видите? Не видите? Мертвенный. От молнии мертвенный. Умер, стало быть. Все, все умрем. Умер. Модерато. Линия. Диез. Конечно. Так и знал. Как чувствовал. Знак. Диез. Дурной знак. Враки, выдумки. Октава. Тянемся, тянемся. Легато. Небо. Легато. Небо мокрое. Искра. Небо мокрое. Нет искры. Нет больше, нет больше. Нет боли. Ушла, ушла. Три четверти, четыре четверти. Боль ушла. Посидим маленько. Посидим. Посидим маленько. Сейчас, сейчас. Отдохнем. Колокольчики, будут колокольчики. Лето. Около. Околица, около, лето. Где? Там, в небе. За небом. Не распахнется, нет. Просочится. Зажмуриться. Обязательно нужно зажмуриться, чтобы колокольчики. Колокольцы, колокольчики. Сейчас, сейчас. Где? За окном? Нет. Дудочки? Да. Жалейка, дудочки. Пора, пора. Петухи, петушки, петушата, петухи. Утренние. Васильковые. Васильки. Петухи. Васильки. А где?.. столы. Где столы беленые? Столы беленые долгие. Долгие-долгие, беленые столы. Соленья, клюква. Соленья, клюква. Кровь. Капелька. Самая капелька. У петушка. Гребешок. Нет, кровь. Капелька. Все белым-бело, только кровь. Капелька. Совсем ничего. Маета, мята, исподволь. Протяжно, исподволь. Легато. Легато. Молоко, млеко, Русь. Русь. Русь Святая. Васильки да колокольцы с колоколенкой. Не там, где трамвай. Трамвай в сумерках. Был. Диез. Прямо под носом. Был, да сплыл. так думать будем. Пока так думать будем. До, ми, соль. Для ясности. Понятно? Понятно вам?.. Всё. Полынь. Полынь-трава. Трава? Где полынь, где столы беленые? В небе. Опять. Там в небе. Опять. В океане-небе. Что там? Медузы, рыбки, рыбы. И большие тоже. Вот большая попалась. А вот большая попалась. Не попалась. И не кусалась. Никогда. Все эти прибаутки, песенки, ручки, ножки, пальчики. Петушки на рушнике. Блестит на солнышке. Большая рыба блестит на солнышке. Лето. Солнышко. Так думать будем. Вот именно сейчас. Именно сию минуту. С шестой цифры, пожалуйста. Глубоко – глубоко. Вода чистая. Чистая-чистая вода. Мутная немного. Чистая, но мутная. Немного. Бывает, и не такое бывает. Трамвай и колокольцы, например. Вишь как? Чистая, мутная немного. Венеция немного. Кода. Пахнет кожей. Венеция. Море. Морем пахнет. Болезнью, болезнью морской пахнет. Уже медуз нет, рыб нет, колокольцев нет. Колокольчики. Колокольчики зато. Глаз не оторвать, но глаз не открывать. Помни – глаз не открывать. Глаз, глаз. До, фа, ля, си-бемоль. Си-бемоль. Сода. Трезвость. Бекар. Трещит. Опять трещит. Опять трамвай. Короб, коробочка. Красная с желтым. Синяя с желтым. Ржавая коробочка. Скрежет, заусенец, заноза, память, vice versa. Память, мять. Дуга. Нянчимся, нянчимся, помним, поминаем, упоминание, напоминание, мнем. По сердцу. Прямо по сердцу… Ну, вот. Петербург. Ленинград. Успел. Ленинград – успел, застал. Игла, иглы, кольца. Петербург горд. Станция Петербург. Прибыли. Ми. Морока, марево. Петербург. Дилижанс, транс, диссонанс. Только спрыгнул, только-только соскочил, сошел. Голенький. Голеньким прыгнул. Прыг-скок, воробушек. Стаккато. Лавка. Тотчас лавка. Керосин. Керосинщик. Всё в керосине, все в керосине, в мареве. Трамвай, Ося, все. Йося, Ося, Аннушка, Андрей, все в мареве. Все и всё. Туман, допустим. Обыкновенно. Октава. Семечки лузгают или просто гуляют. В мареве. Во мгле. Ни зги. Ни зги не видать Невидаль, Нева. Река, да, Нева, да. Но неба нет. Угораздило же? Неба нет. Не там небо. Небо то не там. Вот ведь что получается. Пар, только пар. Нет неба, бани. Марево. Игла. Выстрел. Фортиссимо. Трезвость. Нашатырь. Октава. Пауза. Не сметь! Глаз не открывать, не сметь! Пауза. Венички. Венчики, венички, а венички где? Бабоньки, пострелята где? Румяные, да белесые, да всякие где? Пострелы где. Рыбы небесные, медузы небесные, колокольчики. Вот, вот. Подними голову. Головушку-то подними. Что? Протяни руку, пальчики. Не бойся. Пальчики протяни. Что? Молоко? Молоко, молочко? Молоко, молочко парное, пар, парная, пар. Пауза. Здесь пар, там пар. Пауза. Ни зги. Тремоло. Слышишь? Слышишь, слышишь? Кукушка? Ни зги. Пауза. Ну и где? Где ваш стольный град? Стольный, застольный. Нет, как нет. Дунул ветерок, облетел пушок с одуванчика. Смёл мел, вымел. Пауза. Маемся. Конечно, маемся, чего уж там? Так и маемся. Туда-сюда маемся. Легато. Пожалуй. Пауза. Что? Ритм? Конечно, конечно. Прошу простить. Покорнейше прошу простить. Сердечко биться должно, сердечко. Конечно, конечно. Вот уже колотится. Колотится, колотятся. Колотушки, голытьба. Там голытьба, здесь голытьба. Ледяные куколки, ледяные пальчики. Ледышки, огурчики, девочки, мальчики. Холодно. В небе холодно. На земле холодно, и в небе холодно. В небе, под небом, за небом. Повсюду. Медуз видели? Рыб видели? Что, смотрели? не зажмурились? Зажмурились. Видели. Верю. Видели. Колени, коленочки. Острые, холодные. Россия – матушка. Конечно, конечно. Клюква, соления, конечно, конечно. Полынь, да. Звезда. Звездочка. Бери, черпай. До утра бери, черпай горстями. Звезды, звездочки. Бедные. Крохотные. Икринки. Искорки. Жалость. Это уж как повелось. Это уж непременно, обязательно. Это – по касательной. С любовью, что ты, что ты? С любовью. Бемоль, бемоль. Три четверти. Три. С первой цифры. Ивушка. А ивушка? Нет ивушки. Трамвай. Диез. Мертвяка везет. Ох! Мертвяк светится, что твоя лучинка в окне. Окно большое, холодное. Арктика. Антарктика. Черепаха, vice versa. Черепаха ледяная. Петербургом зовут. Враки. Выдумки. Вечер. С грозой на макушке. Ледяная. Ледяная гроза, ледяная. Не уснуть. Особо-то не уснешь, не раскиснешь. Плакать некогда. Оплакивать некогда. Не вода. Нет. Дыхание. Бог. Божественное. Прости, прости. Небо, небо, небо, небо, небо. Прости, прости. Никогда. Никогда. Ни в коем случае. Ни при каких обстоятельствах. Ритм. Сердечко. Чижик. Кочки. Вот эти кочки, четвертые, половинки, кочки, травы пучки. Кочки, клочки. Лучок. Жизнь. Здесь жизнь. Нет? Нет? Вне нас. Без нас. Оно как получается? Вот уже нет, а ритм – да. Столбы, столбики, столбцы, капли, буквицы, следы, многоточие. С грозой на голове. Ха. Трамвай. С грозой. Поехали с орехами. Покатились тихонько. Стучит, постукивает. Ребрышки, ребрышки. Дымком тянет. Гроза. На голове. Всегда. Змееносец. Всегда. Знак. Смертельный знак. Укус. Укус, уксус. Терпеть, терпеть. Терпение. Пауза. Пауза. Пауза. Четыре четверти. Увы и ах. Рвется, рвется, на полосы, полоски. Кап, кап, капельки. Кратность. Краткость. Кротость. Доколе? Доколе? Всегда, vice versa, всегда, vice versa, всегда. Благодать. Нет. Благодать – другое. Вагоновожатый. Все же старик. Как и я. Старик, старики, старухи. У самого моря. У самого синего… реки. Диез. Другой, нежный. А так бывает? Я вас спрашиваю? Уснули, что ли? Так бывает?.. Все же, все же. Всё, всё. Покатились, покатились. Поехали. Покатились помалу. Гололед, тропка скользкая. Поворот, приворот, от ворот. Катимся. Скоренько, скоренько. Гамма, гамма получается. Гамак. Гам. Гамма, не ищи. Здесь не ищи. Здесь нельзя. Слушать это нельзя. Открывай! Открывай глаза! Пошире. Широко открывай. День. Не белый – страстной. Со свистом. Где трамвай? Был трамвай, где трамвай? Кузнечик? Вот тот кузнечик на жердочке? С наковаленкой? Головка спичечная, чирк, и нет. Чирк, и нет его. Нет больше. До нас, вне нас. Без нас. Чирк – и нет нас. Видишь, как получается? День, день, чижики. Динь-дон. Петрушка, рукавичка атласная. Нос, на семерых рос, одному достался. Горчица да иголки. Пуговички медные. Кондуктор, враль, притворщик. Глаз смеется. Глаз-то смеется. Обдурили дурака на четыре кулака. Прощай, всё, прощай, душа моя. Здравствуй, море… Река, опять река, речушка, реченька… А так вот оно и идет. Идет, идет. И мы идем, смолу жуем. Шествуем. Коротко, кротко. На солнышке, под солнышком. Ночью, изволите видеть, трамвай случается. А так, что сказать? Синкопы, синкопы. Птица разная. Бьется, вьется, тоже смеется. Чижики. Чижик. Вишь, бьется? Водки просит. Потрепыхается, перестанет. Перепелочка, vice versa. Зачарованные. Зачарованные, vice versa, зачарованные. А как иначе? Помалу, помаленечку. Помаленечку – не так больно. А синкопы – обязательно. Это уж обязательно… Гроза иногда. Не без этого…
33. Дом. Шар
мой дом в дому моем шарообразно
окутан сумерки и звук беззвучной шалью
мой дом случаен дом где Фирс повешен шар
и пуговка-звонок молчат и лик и потолок
единственный старик молчат и кот шарообразно
уже пора молчим шарообразно
все-все вчера позавчера и завтра
вот-вот где тают радость тает свет и радость
ушли шурша и шевеленье потолок
укрыться кот клубочек шар но потолок
меловый мошки памяти беспамятства огромен
при пустота накрыт беспамятство огромен
сладкоголосых книг поклонов Фирс огромен
обрящу чужероден и огромен Фирс
пустых страниц сладкоголосых книг
когда-то кот и кит и проводы и книг
купание кота купание корыт
уже не вижу потолок изрыт
купанье рам зачем уже не вижу
фигуры теплые еще ушли конечно
ушли еще живыми и шурша и с Богом
ушли давно позавчера ушли конечно
ушли летящие шуршащие и с Богом
потом любовь студеная уже иная ветерок
студентик ветерок сюжет бездарный
не стоит слов сюжет бездарный
пружина рая детство помню плохо
и Фирс не помнит за сюжет бездарный
но помню слов зрачки и свист бездонный
случаен ветер дом я сам старик бездомный
уже глазурь неуловимо узелок
на будущее никого не помню
мечталось море никого не помню
как Фирс а больше никого не помню
сиял или парил и птиц не помню
скрипит не Фирс не шаг и не студент но шар
унылая пора стеклянный чай и запах тает
укрыться капельница обратились в пар
мечталось похвала халва не помню
мечталось птицы обратился в пар
кран убегает капельница пар и вор
жизнь за стеклом немытым дом и шар
мечталось обратились в вату
как повелось и пол дощатый
нет проку в облаках и в птицах проку
нет не было не спится клюв не спиться б
испарина и так и без стакана слов и ток
без проводов без зеркальца струится
змеиным увлекая в небосвод где птицы
но инородные тела но ядовиты трели
теперь и прежде равно волны и сквозняк
на этот раз для старика смертельный
наотмашь молния курить и натощак
упал и черт с ним мало ли нас было
и не было стишков тюрьма другое дело
тюрьма-сума улов и мыло
упал и черт с ним мало ли нас было
еще один близнец и отраженье
как будто умер умерли мы все умрем
для поцелуя небосвод и водоем
как будто тусклый покатился шар
но вот назвали Фирсом и не забывают
сам не дает забыть обрящете огромен
при пустота корыт и пустотой накрыт
ни гул ни бел беспамятство огромен
возможно шевеление газет и только
кот заячья губа как ток и рот и только
назвали Фирсом сшили узелок огромен
огромен узелок и Фирс огромен
обрящете огромен и не тает
что удивительно ну вот шуршащий век
случайный дом случайный человек
всегда на счастье проходили мимо
над нами подо мной сквозь Фирса
чрез Царств и птиц не важно лишь бы мимо
чрез кот клубком и нас куда-то мимо
пичуг и небосвод всегда страшатся
прозрачности и тишины
34. Крыжевич. Монпансье
Сергей Романович проснулся от того, что почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд, сопение, еще какие-то осторожные округлые звуки. Некоторое время он лежал, притворяясь спящим. Довольно скоро правая рука стала предательски затекать. В голове застучали молоточки. Смутная тревога, верная спутница похмелья, заворочалась под ложечкой. Почувствовав, что дольше так продолжаться не может, Стравинский резко повернулся, отбросил одеяло. На стуле подле кровати, безвольно опустив плечи, сидел как будто потерявший в размерах Крыжевич, вымученно улыбался и сосал леденец. Всегда голубые глаза его, подернувшись влагой, сделались пасмурными, серыми. Небритый, со свисающей к кончику носа серебряной прядью и коробочкой монпансье в руках еще вчера моложавый и строгий отец теперь напоминал старушку на паперти. Гость не спешил начать разговор, и немая сцена показалась Стравинскому вечностью.
Наверное, он ждет от меня каких-то объяснений, – подумал Сергей Романович. – Но мне совсем нечего сказать. И я не желаю ничего говорить. Да и не знаю, что сказать. И вовсе не обязан. Разве что случилось несчастье? Но я не знаю, какое именно несчастье случилось. И мне теперь нельзя несчастий. В теперешнем состоянии я не тот, кто может утешить, подбодрить. Какая глупость требовать утешения от человека, который спит и невозможно болен к тому же. То, что со мной происходит – болезнь, иного слова не подобрать. Всякое иное слово, эпитет – это не понимать, не желать понять. Всякий иной эпитет – целенаправленное унижение и ложь. Теперешнее положение мое – сумеречная болезнь. Каюсь, позволил себе накануне, но поводом тому вселенская тоска. И тоска не от того, что выпил, но выпил от того, что тоска. Такая же болезнь как оспа или проказа. Намного хуже ангины и грудной жабы. Особенная болезнь, коварная, неповоротливая и скользкая. В любое мгновение может случиться удар. Апоплексический или другой. Только начинаю успокаиваться, потеть. Мне теперь волновать нельзя ни в коем случае. Пару раз во сне сердце замирало. О, это такие звоночки! Как на театре. Второй звонок, третий звонок. Два уже было. Дальше – известно что. Но кого это заботит, кроме меня самого? Вампиры, хищники, мясники, китобои, собачники, каннибалы. Ходят и ходят. Вот зачем он пришел? Что ему нужно от меня? Разве не видит он моей катастрофы? Что всем им нужно от меня? От меня уже ничего не осталось. Туманность, больше ничего. Немного кислой влаги на подушке, больше ничего. Хочу быть один! Хочу спать, слышите вы? Сейчас снова лягу и отвернусь к стене. И что угодно со мной делайте. Пить ужасно хочется. Пойду, напьюсь, и немедленно лягу. Во рту Кулундинская степь. Напьюсь, если получится добраться до водопоя. Если удастся.
Превозмогая слабость, стиснув зубы, Сергей Романович, в глазах шутихи, поднялся, подошел к столу, припал к носику чайника, сделал несколько судорожных глотков. Руки не выдержали, чайник с мертвенным лязгом грохнулся и покатился, орошая пол черными кляксами. Едва Стравинский успел добраться до кровати, как комната опрокинулась вверх дном, и мертвенный Крыжевич вместе со стулом вознесся куда-то под потолок. Еще странно, что леденцы не просыпались из его коробочки.
Похоже, что падение чайника, точнее, произведенный этим падением шум, побудил гостя выйти из летаргии, – Вы меня, конечно, безусловно, простите, уважаемый, уважаемый Сергей Романович… Не думайте, я все вижу. Вижу, как вы недомогаете, но дверь была открыта, а выбора у меня нет, ибо дело мое, прямо скажу, касается жизни и смерти и не меньше… Так что я решился. И, не смотря на тяжелую болезнь, прошу выслушать меня, отца своей дочери, и, по возможности, ответить на его, мои вопросы… Волнуюсь и сбиваюсь, ибо всерьез озабочен тем обстоятельством, что не смогу получить от вас ответов. Так что ответов может и не оказаться. Знаю, насколько вы погружены в себя и не только. В частности теперь, когда пребываете в особенном сне и упадке. Но иного выхода не вижу, так как решение нужно принимать безотлагательно, твердое, по возможности, решение… Либо отказаться от него, что тоже поступок… Речь, как вы, наверное, уже догадались, пойдет о моей дочери Юленьке. Верю и надеюсь, что вы ее помните, так как расстались, с ее слов, совсем недавно… Вас не смутит, если я буду сосать леденцы? Это единственное, что хоть как-то утешает меня… Прежде я курил, и помногу, но с этим покончено, навсегда… Впрочем, сигарет я тоже купил по дороге, так что если не справлюсь при помощи леденцов, возможно закурю… Вы не будете возражать, если я закурю?.. Да, пожалуй, прямо теперь и закурю.
Крыжевич достал из кармана сигареты, закурил, закашлялся, – Вот теперь и у меня голова закружилась. Давно не курил. Бросил. Навсегда. Сейчас пройдет. Головокружение пройдет… Вот, уже легче, как будто… А вы закурить не желаете? Разговор предстоит не из легких. Никогда бы не подумал, что мне предстоит участвовать в такого свойства разговоре… Кое-что случилось, уважаемый Сергей Романович. Случилось такое, что уж теперь я – другой человек, потерянный человек, и конечно могу говорить что угодно и кому угодно… И делать что угодно… Вот какие перемены во мне произошли… И я скажу вам, уважаемый Сергей Романович, просто обязан сказать следующее. Последнее время вы тоже немало переменились. Еще вчера я путался в догадках, что причиной тому, но сегодня, сдается мне, нашел ответ. Точнее, ответ сам нашел меня. Сдается мне, что причина у нашей с вами беды одна. Может быть, я ошибаюсь. Если ошибаюсь, простите великодушно. Заранее и наперед. Будучи потерявшимся человеком, вы сумеете понять другого потерявшегося человека, недавнего заоблачного мечтателя и благородного отца… А сказать мне предстоит неприятное… Вот сейчас скажу, и больше к этому не вернусь… Тема интимная, сокровенная, тема, о которой не то, что говорить, думать опасно. Это все равно, что выскочить на улицу в чем мать родила. И в других обстоятельствах я бы ни за что не решился, но теперь, когда от нас с вами потребуется отчаянное внимание, немыслимая избирательность чувств и прочих резервов, промолчать не имею права и не могу… Вам бы, конечно, выпить немного, освежиться. Прилив мечтательности, неожиданных конструкций и смыслов, возможно, и породил бы спасительную идею. Но что если эта идея окажется фуком? Тогда не останется надежды. Совсем. Одна лишь черная бездна. Хорошо, когда звезд полна, а если ветошь, да тенета?.. Известно, нам было бы куда как проще, если бы вы были во хмелю. Не на пике, конечно, но, так сказать, слегка окрыленным. Выпивший человек способен проникнуться тем, что трезвый никогда в себя не пустит. Знаете, когда на Руси запивают? Если двери распахнуть надобно. Вы человек содержательный, понимаете, о каких дверях идет речь. Беда одна – в такой дом настежь разные персоны заглядывают. И не обязательно люди. Это уж вы и без меня хорошо выучили… Так что водка, дорогой Сергей Романович, к сожалению, тоже не выход… Предложить вам взамен, увы, ничего не могу. Не знаю, честное слово… Может быть, действительно, поэзия? Первое, что пришло в голову… Нет. Не знаю… Говорю вам это как человек, злоупотреблявший в прошлом. Осознанно и целенаправленно. Безрезультатно. Точнее результат был, но не тот, что ожидался. Перемежающийся ступор и скудоумие – вот все мои достижения. Делайте выводы, если можете, пока перемежающийся ступор и скудоумие вас не накрыло… В самый неподходящий момент могу замереть на людях с идиотским, согласно показаниям очевидцев, выражением лица и вывалившимся языком. Как у собаки в июле… Согласно показаниям очевидцев… На людях, во время серьезной дискуссии в присутственном месте. Особенно во время серьезных дискуссий. От напряжения, что ли?.. Я все, знаете, истину пытаюсь найти. Встречаюсь, спорю, учу, сам учусь, делаю выводы, хожу в гости, реже у себя принимаю. Собрания, общества стараюсь не пропускать. Выводы противоречивые, подчас взаимоисключающие. В особенности всё, что касается грядущего апокалипсиса – дат, деталей, заинтересованных лиц и прочее. Далеко не со всеми соглашаюсь. Нахожу свои аргументы, отстаиваю часто непопулярную точку зрения. Драконов, хоть и видел собственными глазами, у вас же во дворе, но не признаю… Глупость, конечно. Апокалипсис уж грянул давно, уж пепел разметало, а мы все встречаемся, спорим… Господи, каким же смехотворным выглядит теперь всё это дребезжание и толчея! Полный, безоговорочный разгром, Сергей Романович! Медицинский факт, как говорится. Сам собой раздавлен унижен и попран!.. Еще ступор. Вот как с ним попрощаться? Буквально вчера наблюдался характерный эпизод во время беседы с дочерью. Минут сорок дураком был. Соседи неотложку вызвали. Диагноз прежний – скудоумие. На латыни это как-то иначе называется, красивее, но, суть дела не меняет… Всё. Больше к ядовитым темам не возвращаюсь. Не думаю, что был убедителен, но обязан был сообщить вам свои соображения и диагноз, хотя бы из чувства цеховой солидарности. Я ведь, Сергей Романович, тоже лирические стихи писал. Еще до запоев и позже. Клио, Эвтерпа, Талия, Мельпомена, Терпсихора, Эрато, Полигимния, Урания и Каллиопа посещали меня. Порой поочередно, а иногда вместе собирались. Каждая в золотом дожде. Теперь, случись встретиться, я их, скорее всего, не узнаю, а вот свечение неземное отчетливо помню… Где вы, кружевные времена, когда молодость и беспечность еще не казалась пустым звуком, а скудоумие вызывалось по желанию, исключительно для того, чтобы насладиться страстью или дружеской беседой?.. Теперь я буду плакать, но это не должно смущать вас. Поплачьте и вы вместе со мной, если захочется, потому что дальнейшая история, та история, ради которой я, собственно и пожаловал к вам, будет весьма и весьма печальной… Вот же, старый пень, не предложил вам леденцов. Не желаете? Да, конечно. Какие там леденцы?! Понимаю и сочувствую… А начну я, пожалуй, вот с чего. Вы не можете не согласиться с тем, что мы достаточно долгое время жили без ужаса. Оказывается, это смертельно опасно, жить без ужаса. Дошло до того, что карающий меч в сновидении явился мне в виде столового ножа. Будто бы я суровую нить на палец наматываю, наматываю… а откуда нож взялся и по какому случаю уже не помню. Да и сообразил-то только теперь, что это был карающий меч. А так – нож и нож, каким шпинат нарезают. Вот тем же способом естественно и постепенно и вся картина мира распалась на фрагменты. Разучились отличать тьму от света, пороки от добродетели, мужчин от женщин. Всё нынче кажется нам равнозначным и равновеликим… Вы, Сергей Романович, если со мной не согласны – спорьте. Мне это важно. Если трудно говорить – знак подайте любой, я пойму… Хотите верьте, хотите, не верьте, я, Сергей Романович, больше не знаю, что есть порок. И это уже не гипербола. Сегодня я до самых недр осознал и прочувствовал свое падение… А начну я, пожалуй, вот с чего… Закурить не желаете? Разговор предстоит не из легких… Да, конечно. Какое там закурить?! Понимаю и сочувствую… Речь пойдет об одной юной особе, начинающем фотографе, назовем ее одним из уже упомянутых мною романтических имен… скажем, Клио… Впрочем вы довольно скоро догадаетесь, какую именно особу я имею в виду… Собственно, я в самом начале выдал ее. Клио – это так, из любви. Видите, остерегаю по инерции даже имя. Уберегал от всего – от дождя, от солнца, от насекомых, от подруг, мужчин… На первых ее фотографиях были изображены какие-то омерзительные личинки. Дальше последовало выеденное яйцо, представленное во всевозможных ракурсах. Апофеоз – обмылок, притулившийся на краешке затопленной раковины. Теперь, когда опасная мозаика почти что сложилась, до меня дошла, наконец, причина такого выбора… И где, интересно, она нашла этих личинок?.. Стоит ли говорить о том, что испытал я, когда увидел снимки? Разумеется, тогда я был не готов, ожидал пейзажей, натюрмортов, взрослых состоявшихся насекомых, в конце концов. Бабочек, пусть даже кузнечиков. И вдруг – такое. Это сейчас я могу в полной мере оценить пророческую глубину собранных ею образов, дар предвидения, прощальный стон целомудренности… Я теперь плачу, но вы на слезы мои внимания не обращайте. Это – стариковское. Мне раскиснуть никак нельзя. Наверное, можно еще бороться, но я не знаю, как и с чем. Во мне вопросы и отчаяние… Что такое девственность? Какова ее истинная ценность? Мне казалось, что девственность эквивалент достоинства, источник безоблачной радости, незамутненного восторга. Мы это с Юленькой обсуждали и довольно часто. Мне казалось, она слышит меня и разделяет мои воззрения. Это читалось в ее глазах. С одной стороны мне хотелось, чтобы ее детство продлилось как можно дольше, в то же самое время я мечтал о счастливой партии для нее. Присматривал кавалера, так казать. Вот мы и возможных претендентов обсуждали. Боялся каждого из них. Всплывали такие изъяны и секреты! Однако продолжали обсуждать. Точнее так, она безропотно соглашалась принимать участие в навязанных мной разговорах. Из дочернего уважения, не больше. Может быть, скорее всего, из жалости. Скорее всего, она и не слушала меня, старалась не слушать. Представляю себе, какое отторжение в ней вызывали пошлые мои резоны!.. Вот что такое атеизм, Сергей Романович. Десятилетия без Бога не могли пройти бесследно! Даже формально верящие люди моего поколения не умеют верить, ибо души наши не наполнены ожиданием большой радости. Себе, о себе, мне, моё… Мелкотемье. Слепота. А ведь всё во всём, только не ленись, разуй глаза. Вот я только что доказал, что и на кухоньке можно сыскать смысл и знаки. Была бы воля и стремление… Но мы выбрали жизнь в подполе. Без особого принуждения. Подпол – наша малая родина. Обвинять некого. Да… Усердно оберегая близких, заражаем их своими страхами. Нет? «Добрыми намерениями» не оттуда? А страхи имеют свойство материализоваться. Раньше или позже. Закон Паркинсона, кажется. Доказано, видите, в закон произведено. Ну, да ладно… Я, Сергей Романович, собственно, зачем пришел-то? Скажите, вы видели Юленькины фотографии? Те, что она сделала у вас? Нет, наверное. Она и мне их не показала… Она мне ребеночка показала. Представьте, носила в себе ребеночка. Никто не знал. И она не знала. Думаю, о беременности догадывался только сам ребеночек, но, по известным причинам, сообщить об этом не мог до поры до времени. Странное дело, малыш и теперь молчит. Смотрит испуганно и молчит. И есть не просит. Правда, поел… Странное дело, грудного молока у Юленьки нет, так он обыкновенное молоко из холодильника поел, да с таким аппетитом… Вертится, вертится вопрос, кто отец? Покоя не дает. Никак не могу победить в себе пошлости и любопытства. Знаю, ребенок в доме – счастье несказанное, какая уже теперь разница? Иному отцу лучше и не быть отцом… Случаются такие отцы, не только дитя, вся семья без глаза. Но бес нашептывает, узнай, выясни, что за отец? Каков собой, состоятельный человек или дырокол, корневой или перекати-поле, каких взглядов, к чему склонен, может быть, либерал или патриот, какой национальности? Спросить у молодой матери не решаюсь, чтобы не оскорбить. Наряду с недоумением, по-прежнему в глазах ее упорно читается невозможная невинность. Уж я и не знаю, что думать… А может такое быть? тема-то в воздухе висела, то и дело разговоры о замужестве, все такое, вот и… беременность. По причине особой концентрации, так сказать… Девица то уже в летах, Сергей Романович. Этот факт тоже имеет значение… Или нет? Или должен всё же быть отец?… Может быть, вы что-то знаете? Как-никак, родила Юленька в вашем доме?.. В вашем доме?.. Не думаю, что она обманывает, она никогда не лгала мне… Ну же, Сергей Романович, мы уже беседуем! Давайте уже что-то с этим делать, что-то решать. Гаркните на меня, что ли? Скажите, что мне все это привиделось! Скажите, хотя бы, что вы здесь ни при чем и выставите за дверь! Я ведь в горячке всякое думаю, и про вас в том числе!.. И дурные поступки просятся. Как бы преступления не совершить, Сергей Романович… Простите. Поставьте себя на мое место и простите. Сам не знаю что говорю. Откуда слова-то такие берутся?.. Послушайте, а может быть, что это не ее ребенок?.. Послушайте, а, может быть, это – ваш ребенок? Она же от вас принесла его? Простите, простите… Вижу, вы так и не заговорите со мной… Хотите, я схожу в магазин, водки вам принесу?.. Вот, что такое атеизм, Сергей Романович! Делайте выводы, если можете… Она его так любит. У него по три пальчика на руках и ногах, а она его так любит!.. Видите как? материнский инстинкт опередил мечты… Мечты-то едкие были. Это я отравил. Кругом виноват… Как думаете, я смогу его принять, полюбить?.. Пойду, буду гулять, пока без сил не свалюсь. К вам в другой раз загляну, когда вы уже окончательно поправитесь… Да вот в следующий четверг и встретимся. Хотя какие теперь мне четверги. С ума бы не сойти. А хорошо было бы, когда бы мне это пригрезилось, правда?.. Ну, не буду вам мешать. Простите, что потревожил… Ухожу… Всё, ушёл.
35. Белый город. Бесплодие
Отправляясь на свидание к Горбунку Климкину, голубоглазый Крыжевич рассуждал следующим образом, – Ведь что такое сумасшедший? Естество и независимость во всем, в суждениях, поступках. У сумасшедших особая искривленная стать, в данном конкретном случае горб, невозможная походка, уши, глаза, рот. Особенно глаза. И рот. Глаза, что твой птичий базар, если подольше посмотреть. Или, напротив, соломенная пустыня… А руки? Что они, бывает, вытворяют своими руками?.. Сумасшедший лишен предубеждений, нравственных оков. Свободный человек – вот что такое сумасшедший. В то же время он не может быть подвержен осуждению, наказанию, ибо логика его вне понимания, понимания, скажем так, обывателя. Лучше сказать, среднего человека. Не люблю этого сального слова «обыватель». Впрочем, «средний человек» вряд ли лучше… А всё гордыня. Вот как ее побороть?.. Ну, да ладно. Не о том. Нужно сосредоточиться. Итак, безумец – вне порицания. Чист всегда. Свободен и чист. Чистота и свобода – удивительное сочетание, немыслимое. Безумец вне осуждения, вне подозрения. Мы это помним, осознаем. Пока осознаем. Но грань между нами стирается, исчезает. С каждым годом, с каждым днем истончается все больше. Их инородные лица уже не кажутся нам столь инородными как прежде, до французской революции… А кто, собственно, революции делает? Сумасшедшие и делают… Да, убогие – наше достояние. Достояние и спасение. И в моем случае – спасение… если не погибель… Конечно, дело моё – дрянь, гадость, грех великий грех. Но я не вижу иного выхода. Да его и нет – другого выхода. Так что будем считать, грех во благо… А что, не так? Да разве есть что-нибудь этакое на свете, чего бы родитель ни сделал ради своего дитяти? Да если это благородный родитель, он и жизни своей не пожалеет… О, когда бы моя смерть выправила положение, я бы с радостью расстался с жизнью!.. Однако с чего начать разговор? А не важно. Всякое мое предложение не будет слишком, потому что говорить мне предстоит с безумцем. Так что всякая невозможная идея будет к месту. Хоть Ave Cesar, хоть на Луну – пожалуйста… Вот она – независимость. Нет, не случайно мы с таким упорством ищем свободы. Может быть, действительно, с Луны и начать?.. А что, если он только представляется слабоумным? намеренно представляется слабоумным? Зачем? Не дано знать. Провокатор, шпион… Спрашивается, и кто из нас сумасшедший?.. А вот что у него в рюкзаке? Отчего он не расстается со своим рюкзаком?.. Да нет же, рюкзак как рюкзак. Вот как раз то, что он с ним не расстается – подтверждение и примета. Еще глаза, рот… А что если моя просьба окажется для него неприемлемой? Что если он высоконравственный безумец? юродивый? У нас же их всегда было пруд пруди!.. Нет, не может быть. Блаженные на стравинские четверги не ходят, они у церквей с голубями подаяния просят… хочется надеяться… Нет, нет, мой чудак – не юродивый, скорее – гений. Сразу бросается в глаза. У него и рюкзак гения, и походка гения. И сам он – сплошной вопрос и озарение… Что же с Юленькой будет? А ничего не будет. Потоскует. Это уж как повелось. Уж без этого никак. Без страдания как-то уж совсем не по-людски было бы. Ничего, ничего, время лечит… Бытует, конечно «Бог дал – Бог взял», но это как-то выше моего понимания. А, между тем, говорить надо именно так, во всяком случае, в уме держать… Что поделаешь, дочка, Бог дал – Бог взял. В чудеса никогда не верил, однако же, вот оно… Главное, не дрогнуть. Дабы не растревожить, не насторожить… А Горбунок, что, Горбунок? Гений съест, должен съесть. У гениев всё в разум уходит, на сантименты ни времени, ни сил не остается… Так и так, скажу, дорогой Климкин, чрезвычайные обстоятельства. Что-нибудь в этом роде. Главное, не дрогнуть, не растревожить, не насторожить… По хорошему отрепетировать надо было бы, да когда? В таких делах как раз поспешность требуется. Кто знает, надолго ли меня хватит? Я ведь тоже человек. Не из железа скроен. Ну да обо мне теперь в последнюю очередь… Решено, Бог взял, на том и стоять буду… Главное, спокойствие соблюдать. Спокойствие, легкое недоумение. Дескать, чудеса, да и только. Именно на чудеса напирать. Вот, попал в водоворот чудес. Полтергейст. Сумасшедшие до полтергейста охочи… Так и так, дочка, что поделаешь, Бог дал – Бог взял, Бог дал – Бог взял… А, может быть, и не было никакого ребеночка?.. Ничего, ничего, потоскует, да и отвлечется. Уж здесь я помогу, расстараюсь. Надо больше ее нахваливать. Фотографии ее нахваливать. Снимки, конечно, чудовищные, но тут нечему удивляться, она так устала без счастья… А что если гений проговорится? Надо бы слово с него взять. Слово идиота. Вот ведь как звучит. Смешно, когда бы ни было так грустно… А с чего это он проговорится? Для какой надобности? Разве он не понимает, на что идет?.. если, конечно клюнет… А вот и не понимает… Прочь дурные мысли. Откроется, значит, так тому и быть. Привиделось, придумал. С дурня какой спрос? На то он и дурень, чтобы небылицы, да нелепицы сеять. Услышал о горе, и давай обыгрывать так да этак. Даже странно было бы, если бы он такую нелепость упустил… Только бы все сложилось как задумано… Да, гореть мне в Геенне огненной, так все там будем. Что, разве бывают праведники? Как-то мне встретить такого человечка до сих пор не довелось… Грех греху рознь? Глупости всё. Кто это установил? Где прописано? Всякий грех, если вдуматься – смертный. Еще один другого за собой тянет. Всегда клубок, всегда бездна. Такая воронка и омут! Даже без того, что я теперь затеял, меня вполне сковородка ждет… А если он ребеночка себе оставит? Отвлечется от недостижимых стремлений, немножечко на землю опустится, заботу почувствует?.. А, может быть, отцовская забота как раз то, что ему нужно, дабы придти в себя?.. Да, он может стать хорошим отцом. А почему нет?.. Может быть, для него ребеночек как раз мечта и радость?.. и выздоровление… Уж если он придет в себя, точно не проговорится. Глядишь, дельце-то мое солнечной стороной повернется. Надежда слабая, конечно, а вдруг?.. И все счастливы, и случайная мать, и новый отец. И мне утешение… Ой, да разве сами мы определяем свою волю, судьбу, движения души? Разве сам я затеял всё это? А кто же? Сам, конечно… Это я так думаю, положено так думать, а на самом деле?..
Как и было условлено, Климкин ждал благородного отца в песочнице. У Горбунка в расписании значилась игра в песочнице. Можно было бы, конечно, встретиться в Парке культуры и отдыха с планетарием и пивом, как предлагал Крыжевич, но предстоящий разговор представлялся мелким, так что он решил не изменять своему плану.
Как и было запланировано, благородный отец начал беседу с провокационного вопроса, дабы убедится в том, что он не ошибся в своем выборе, – Вы по-прежнему думаете, здравствуйте, что всё возможно? здравствуйте.
– Что за вопрос? не понимаю… О чем вы спрашиваете меня? не понимаю. Потрудитесь объяснить или так оставим?
– Как-то у Стравинского вы обмолвились, что всё возможно. Это уж давно было. Что, будто бы ничего невозможного не бывает, и всякое удивление по разным поводам есть глупость или невежество. И больше ничего… Вот я запомнил, размышлял над этим. Думаю, спрошу при случае, обязательно спрошу. Вот как только встречу вас, первым делом спрошу. Даже снилось, как я вас спрашиваю, а вы мне отвечаете.
– А что я вам ответил, не помните?
– Не разобрал. Как-то вы неразборчиво отвечали. Во сне так бывает, иногда слов не разобрать. Одно впечатление. Потом этот забыл, потом и сам вопрос как-то затерялся. Потом вдруг опять вспомнил. Уже не скажу, при каких обстоятельствах.
– Счастливый человек.
– Почему?
– Располагаете свободным временем.
– Отнюдь. Хлопот много, и только прибавляется с каждым днем.
– А теперь?
– Что?
– Вопроса своего не забыли?
– Какого вопроса?
– А тема действительно интересная. И вопрос непростой, с двойным, даже тройным дном. Я такие вопросы люблю. С удовольствием отвечаю, нередко сам себе задаю. Что скажете?
– В каком смысле?
– Вопроса своего еще не забыли?.. Готовили его, нянчили. Обидно было бы забыть. Не забыли?.. А вы, часом, не больны?
– Почему вы спрашиваете?
– Так с вас пот ручьем льется.
– Ах, это? Да, простыл немного.
– Счастливый человек. Простуда – милое дело. Иммунитет крепнет. А я вот никогда не простываю. Даже обидно… И пот – это хорошо, очень хорошо… Анекдот такой есть. Беседуют как-то врач с покойником… Не слышали?.. Нет, не к месту. Вообще никчемный анекдот… Цинизм. Кругом столько циников стало, обратили внимание?.. Ну, да ладно. Отвечаю на ваш вопрос… Ждете моего ответа? Или он вам по правде ни к чему?
– Жду.
– Игра.
– Как?
– Ответил на ваш вопрос. И еще добавлю для убедительности – по крайней мере, во всяком случае, как бы, всегда и во всем… по крайней мере игра, во всяком случае игра, как бы игра, всегда и во всем… Спозаранку. Еще глаз продрать не успели, уже играем. И ночи без сна. Без ночи, без сна. Сами не понимаем. Многие говорят… кто такие многие?.. говорят, дело делаем. Что? Прямо так и говорят. У самих лица суровые, пунцовые. Бледные тоже встречаются. Бледнолицые братья. Мел. Пионы. Улавливаете?.. Пионы – это уже о женщинах. У них свои игры. Пионы, прочие цветы. Не случайно. Оставим за скобками, но нити не теряем… что предпочитаете? суровую или мулине?.. В сущности, всё одно. Одна идея, одна модель. Все мы, уважаемый, из одной глины слеплены. И Климкины, и Крыжевичи. Кем? Я знаю, вы знаете, все знают, но опускают за ненадобностью. Говорят, мешает жить. С таким знанием жить трудно. Просто невыносимо. Говорят… Не знаю… Услышать друг друга, понять, при таком раскладе, казалось бы проще пареной репы. Однако же нулевая перспектива. Зеро. Ибо себя не слышим и не понимаем. Так что по мне, уж лучше игра. Игра всегда понарошку… Вы игрок? Игрок. Мы все игроки… Дайте-ка рассмотрю вас как следует… Ага, ага. Нет, это не про вас. Интересно. Вот вы, Крыжевич, именно вы – не игрок. Редкостное такое исключение, как раз то, что требуется правилу. Правилу, правилам. Кто их устанавливает, не знаете?.. Вот и я не знаю. Никто не знает. Да и существуют ли они на самом деле?..
– Я как раз думал об этом только что. Действительно, кто? Правила. Еще попытался систематизировать грехи…
– Систематизировать. Смешное слово.
– Да, именно. У грехов же, как бы, своя градация. Смертные возьмем. А разве не смертные бывают? Ответа не нашел. Предположим, бывают. Те, что проще, мелкие, каждодневные. Вот всё это разнотравье, кажущаяся мелочевка равновелика или тоже уровни имеет? Как определяется вес, как взвешивают? В совокупности или каждый грех по отдельности?
– Не то говорите.
– Нет?
– Куда-то в сторону вас занесло. Как будто сквозняком на секунду сдуло. Пропали из поля зрения. Только шнурок мелькнул, и всё, нет вас…
– Нет, нет, я здесь. Немного задумался, но уже вернулся.
– Быстро в себя пришли. Следует заметить, держитесь молодцом, несмотря на болезнь, волнение. Стойкий человек. И в отчаянии головы не теряете.
– Спасибо. Вы находите, что я в отчаянии?
– Конечно. Любой на вашем месте, кого не возьми… Вы, вот что, вы, дорогой мой, углекоп-альбинос, черный пеликан. Не сердитесь. Именно вы именно на игрока нисколечко не похожи. Я бы даже сказал, полная противоположность… Это врожденное. Генетика, пропади она пропадом… Я вот думаю, как бы вас всё же не затоптали, дорогой мой. Не хотелось бы. Лично мне, теперь, когда мы познакомились поближе, очень не хотелось бы.
– Спасибо. Но кто? Кого вы имеете в виду?
– Так игроки же. О, они – знатные топтуны!.. Помните гадкого утенка?.. Но вам лебедем уже не стать. Увы или по счастью. В вашем конкретном случае фокус не удался. С такими как у вас сомнениями ни лебедем, ни факиром не стать. Даже на молочника не тянете… И мельницы ветряные – не для вас… Но вы это чувствуете. У вас, сдается мне, отменная интуиция. Интуиция игрока. Но – не игрок… Но вы не отчаивайтесь. Наблюдайте, созерцайте, не больше того. За стол не садитесь. Ни в коем случае. Ни при каких обстоятельствах. Усвоили?.. Ах, как хорошо было бы, когда бы усвоили… Между тем, игра – совсем неплохо. Видите, опять я за свое. Тема не выветривается. Что называется, застрял. Азартен… А тема любопытная, непростая, с двойным, даже тройным дном. Я такие темы люблю. С удовольствием развиваю, сам себе барьеры ставлю, преодолеваю… Это всё благодаря вам. Подарили зажигательный вопрос, сильный вопрос… Игра – баркарола, огоньки, волнение. Всегда Везувий. Небольшенький, но Везувий. Возвращает чувственность. Кроме того, как правило, можно остановиться. Только договариваться нужно на берегу. Это вы тоже должны усвоить, если все же решились за стол сесть… Решились?.. Решились, решились. Иначе бы и свидания не назначили, и не пришли… Значит так. Договариваться на берегу, именно что не берегу. Волга ли, Стикс – не имеет значения. В противном случае могут быть неприятности, и даже большие неприятности. А когда на берегу договорился – милое дело. Можно и придремать, и о своем подумать. Игра идет, а вы пузыри пускаете. Невыносимое удовольствие. Выпасть – не значит погибнуть. Во всяком случае, не всегда… Через раз. Ха-ха-ха… Но лучше смириться, умериться. Да и возраст у нас с вами такой, умеренности требует… Я несколько моложе, кажется? Так и есть. Но, все равно из одной глины… И возраст, и опыт… Однако же я, хоть и помоложе, чуть раньше вашего остывать начал. И, представьте, нисколько не жалею. Ничего не потерял, честное слово… Священная пора созерцания, осеннее колесо, пустой улей, Ангкор…11 А уж как бездействие телу приятно. Согласны?.. Хороший здесь песок. Как в Камбодже. То, что нам с вами надобно.
– Вы имеете в виду снег?
– Снег, да. А под снегом песок. Под песком Белый город. Возможно. Здесь, или в другом месте. Но без песка не обойтись. А знаете, что такое песок?
– Нет.
– Никто не знает. Зерна горных пород. Так говорят. Может быть, они и правы. Обозначить можно что угодно как угодно. Песочница, песок. Пух – еуы. Не слыхали? Хлебников предлагал переименовать пух в еуы. Чтобы из одних гласных. Может быть, он и прав… Тепла ищете? Угадал? А здесь как видите, пустыня. Такой ветер. Неприятное место. С виду привлекательно, намек на некую защищенность, уют. Видите – крыша, бортики. Манок, не больше. Никому и ничему верить нельзя. Пустыня. Думается хорошо. Но уснуть не решился бы. А вот что за пустыня, какая пустыня, не знаете?
– Может быть, Сахара? Первое, что вспомнилось.
– О своем думаете? Нужно успокоиться. так и до удара недалеко. Ну же, возьмите себя в руки. Боюсь за вас… А ведь вы угадали. Точно. Сахара. Вообще – Арктика, но под Арктикой, не исключено, Сахара. Скорее всего, Сахара… А если еще глубже копнуть – сахар. Рафинад… Не смеетесь? А ведь я пошутил… Не доверяйтесь своему горю. Обманет. И еще раз обманет. Лучше посмейтесь лишний раз. Даже если через силу. Это же только начать. Потерпите спазмы минуту-другую, и настоящий смех пойдет. Это вы просто не пробовали. Даже и в чрезвычайных обстоятельствах. Думаете дураки почему так долго живут? А дураки ведь долго живут. Нет? Долго, долго, я знаю. Так почему же?.. Смеются. По поводу и без повода. Осмысленно, здраво, наперекор. Умнейшие люди. Никогда не приходило в голову, что дураки – умнейшие люди, цвет нации?.. Становитесь дураком, мой вам совет. Лебедем не вышло – дураком становитесь. Покуда и здесь не опоздали. В противном случае выберут, вычерпают, выпьют до дна… Как вам хлебниковский еуы? Забавно, правда? Вот Хлебников как раз дурачком был. Как-то стесняются говорить об этом. А чего стесняться? Гордиться надобно. Согласны со мной?.. Вы вообще как к сумасшедшим относитесь? Смеетесь, обожаете или стесняетесь?
– Не скажу, что готов однозначно ответить. Видите ли, в детстве, еще мальчишками…
– Выходит, стесняетесь… А вообще вы – благожелательный человек. Я вас давно приметил. У вас и дочка красавица. Правильно?.. Располагаете к себе с первого взгляда. И начало беседы мне по душе пришлось. Это редкость, поверьте. Я разборчив. Вредоносный человек. Между нами. Колючка. Сволочь… Сразу же перейдем на «ты». Не возражаете?.. Не возражаешь?.. Как в деревне. Деревенские проще, доступнее, честнее. Не возражаешь?.. Так ты чего хотел-то? Зачем я тебе?.. Человек в песочнице играет, снеговика лепить планирует, возможно, не исключено, хотя о снеговике только сейчас вспомнил, не важно, тут ты являешься с постной физиономией… Нет, не идет мне фамильярничать. Давай уж, как привыкли. Поздно нам сельчанами становиться. Слух режет. Тебе режет?.. А мне режет… Ну-с, с чем пожаловали, милостивый государь? Так, все же лучше… Ну-с, с чем пожаловали, милостивый государь?.. Только давайте на берегу договоримся – разговор исключительно по существу… Но это не означает, что вы мне так вот сразу пулю в лоб влепите. Если ваша история содержит элементы драмы или, не дай Бог, трагедии, подготовьте меня, как всякий учтивый человек, а уж затем как-нибудь, подбирая слова, с улыбкой, чтобы я ничего не заподозрил, как-нибудь иносказательно. Как будто бы вы – дедушка Крылов, а я – дети в Сокольниках. Условились?.. Условились?.. Для меня субъектов, объектов, временных интервалов, расписаний и проб не существует. Прежде – да, принимал в расчет, отвлекался, не скрою. Прежде я совестью мучился. Оно и сейчас иногда вспыхивает. Неприятные ощущения… Ну, что, будете правду-матку резать? С чем пожаловали? Признавайтесь.
– Попытаюсь… Единственно, не знаю, с чего начать.
– А давайте-ка с самого начала.
– Так всегда говорят.
– Всегда, да, всегда, всегда. Правильно говорят. Умные люди, то есть говорят, то есть дураки, то, что мы с вами вывели и порешили. И точка. О дураках больше не слова. Чтобы не повторяться и не накликать. Не для того мы с вами здесь сегодня собрались. Как в песенке. Давайте, начинайте. Вот я играю в песочнице, как будто ничего не подозреваю, тут вы являетесь. Откуда ни возьмись. С чем пожаловали? С чем пожаловал? Это я про себя думаю, а вида не подаю. Как будто увлечен игрой, а вас не замечаю. А на что вы мне? У меня свои планы. Но раз уж явились, не гнать же вас?.. Ну же, начинайте.
– Здороваться?
– Поздоровайтесь. А как же иначе? Хорошему человеку здоровья пожелать лишний раз не помешает. Да и не только хорошему, всякому человеку, даже колючке и негодяю. Это – обязательно, это уж как повелось. Не нам с вами традиции нарушать. Это зачтется. Обязательно. Стоит недорого, можно сказать, никаких затрат, а зачтется… Вы верующий человек? Ой, зря спросил. Сейчас это так не к месту. И вообще не к месту. Всегда не к месту. Согласны?.. Сразу же дымком потянуло, слышите? Или это песенка вспомнилась? Может такое быть?.. Паленым пахнет, Крыжевич. Ха-ха-ха… Как будто резину жгут. Или шифер. Шифер знатно стреляет. Такая случается канонада. Как будто война началась… А вот интересно, действительно началась, что думаете?.. Быть-таки войне?.. Ну, что же вы?.. О чем вы хотели спросить? Может быть, здоровья пожелать, долголетия?..
– Здороваться?
– Можете и в третий раз поздороваться. Ничего страшного. Даже очень хорошо. Не тушуйтесь.
– Я вам денег принес… немного… а предложить стесняюсь.
– Что принесли вы мне?
– Денег. Немного.
– Вот как?.. А знаете, напрасно стеснялись. Деньги, конечно, несколько не моя тема, но если вы растолкуете, внушите, что они могут быть мне полезны и, главное, не опасны, я приму, даже с радостью приму… Зачем деньги, по какому случаю, и что такое эти деньги? Ну же, не тушуйтесь.
– Деньги – они и есть деньги.
– Начало убедительное, но, если можно, немного подробнее.
– Вы сможете купить себе что-нибудь.
– Какой вы, все же, умница. Вот не ошибся я в вас. Не налюбуюсь. Уже дураком становитесь. Жаль только, что не всерьез пока, а только что от волнения.
– Волнуюсь, верно.
– Не нужно, честное слово. Я – хитрый человек. Иногда проверяю собеседника. Так, для себя, ничего особенного… Ну, что много денег-то? Покажите.
Крыжевич достает из кармана пачку банкнот, перепоясанную резинкой.
Климкин цокает языком, – Ай-я-яй. Так вот они какие, ассигнации… Это я разыгрываю перед вами спектакль, как будто денег до сих пор не видел. Любите розыгрыши?
– Нет. Не теперь.
– Напрасно. А сколько здесь? Я сосчитать не сумею. Раньше умел, а сейчас разучился. Немного не в себе, умом скудею. Память, всякое такое. Но не будем о грустном. Так сколько здесь?
– Не знаю.
– Как же такое может быть?
– Не считал, честное слово. Откладывал на черный день в комод, но не считал. И теперь спешил, считать не стал.
– В рай хотите?
– Что, простите?
– Ну, люди, обыкновенно, в рай стремятся, верующие, неверующие, все. Не озвучивают, но подразумевают. Вы стремитесь?
– Не знаю, не могу сказать.
– А представьте, что нет никакого рая. И ада нет. Как вам такой вариант?
– Не знаю, не думал.
– Врете, думали. Все об этом думают. Итак, ни ада, ни рая, но и не пустота.
– А что же?
– Зев, предположим. Катаральные явления. Простуда, вот как у вас теперь. И гланды выглядывают в крошках ангины. Сейчас вам это легко представить.
– Нет, знаете, мое воображение оставляет желать лучшего.
– Наговариваете на себя.
– Вы деньги-то возьмите. Возьмете?
– Разве что взять?.. Хоть немного поживу в сладости. Напоследок. Мысль постыдная, конечно, но дюже хочется, если честно… Вот вы грешки упомянули. Мелкие случаются, правда ваша. Знаете, кого они мне напоминают?.. Мышек. Люди мышек не любят, хотя эти животные ничуть не хуже прочих. Странная избирательность, кошек обожают, а мышек травят. За что, спрашивается?.. Свет включишь – они, мышки, грешки, то бишь, прячутся, как будто и нет их вовсе. А стоит запустить темноту, тут как раз их время. Шебаршат, вольничают… А счастье все равно никак не наступает… А знаете, почему? Слишком мы умны для счастья. Глупы беззаветно, следовательно, умны… Я все время путаю добро и зло, но, в отличие от вас, Крыжевич, не осознаю этого. Так что мне легче живется. То есть мне деньги ваши взять легче, чем вам их мне предложить. Правильно? Я когда еще совестью мучиться начну, а вы уже теперь потом обливаетесь. Прав?.. Знаете, я вам еще один хороший совет дам. Вы на людей-то не больно оглядывайтесь. Они неживые. Не знают об этом, думают, что живут, думают, вот эти хлопоты и есть жизнь. Будете на них равняться, таким же станете. Смело шагайте, Крыжевич. Решили сунуть мне взятку? Или как это называется, аванс?.. Суйте, не стесняйтесь. Плевать, кто там что подумает. Живите, как будто на кладбище зашли. Попроведывать знакомцев или просто тишиной насладиться, помолчать… Слова ведь безжалостны. Однако говорить приходится. Деваться некуда… Ну же, давайте ваши ассигнации, пока не передумали, и шагайте смело.
– Куда?
– Это уж вам самому решать. Я вам только в общих чертах маршруты обрисовал. На самом деле их много больше. Белый город можете больше не искать, он здесь…
Горбунок, поплевывая на пальцы, пересчитывает деньги, – …двадцать шесть, двадцать семь… много, это хорошо… двадцать шесть… Нет, не получается. Что, в самом деле? разве я бухгалтер какой? И потом, тут уж что-то одно, либо учет, либо сладкая жизнь… Вы зачем, Крыжевич, таким бледным сделались? Денег пожалели? так возьмите назад.
– Нет, нет, что вы. Это вам показалось, нисколько я не бледный. я о дочке своей, Юленьке вспомнил.
– Наконец-то. Уж я думал, так и не вспомните.
– А разве вы всё знаете?
– Знаю, что вы неразлучны, а тут, вдруг, один пожаловали. Не нужно семи пядей во лбу быть, чтобы сообразить. Речь пойдет о дочери. Скорее всего. То есть, предположение. Что, угадал?
– Угадали.
– Вам пора бы ее замуж отдать.
– Это так. С этим замужеством я уже голову сломал. Уже и фотоаппарат ей купил, на стравинский четверги вожу, ну, вы знаете, присматриваюсь…
– Надеюсь, меня в расчет не берете? У меня слабоумие, имейте в виду.
– Нет, нет, вы – умнейший человек…
– Оставим. К делу, Крыжевич. Мне пора снеговика лепить.
– Не знаю, как сказать… Словом, у нас образовалось нечто наподобие младенца.
– Как это?
– Младенец, только необычный. Ничего подобного я не встречал. Каким образом он образовался, представления не имею. Я Юленьку водил к гинекологу. Он подтвердил девственность. Стало быть, младенец подброшен. Дочь уверена, что это не так. Ребенок неизвестно на кого похож, незначительные уродства, однако с каждым днем все больше привыкает к нам. Хотя спит. Вот с самого рождения еще ни разу не просыпался. Но, судя по выражению лица, привыкает. Улыбается. Улыбка осмысленная, счастливая, такая, что мороз по коже, потому что мы тоже привыкаем… Дальше. Одинокую девственницу с ребенком выдать замуж невозможно. Ибо это непостижимо. Повергает в ужас. Даже меня повергает в ужас. Предположим, разведенная женщина, мать-одиночка – здесь все логично поддается осмыслению, но девственница?! Что же ей теперь отдаться первому встречному, чтобы впоследствии не вызывать кривотолков? Что делать?! Это счастье, что мы живем не во времена инквизиции. Нас попросту сожгли бы на костре.
– Заблуждаетесь. Время – категория относительная. Время придумано с тем, чтобы хоть как-то примирить нас с так называемой действительностью. Вот вы вспомнили инквизицию, следовательно, она с нами, никуда не исчезала. Вот мы с вами сейчас мило беседуем, а тем временем Джордано Бруно сжигают на костре. Или Жанну Д’Арк. или вас. Никакой метафизики – квантовая теория. Просто берете лист бумаги, и сгибаете пополам.
– Я не об этом.
– А я – об этом. Раз уж пришли, так внемлите. Разве вы не слышали упреждающего запаха гари? И тотчас эта ваша история с аутодафе. Случайность, по-вашему?
– Простите. Форменным образом, схожу с ума. Простите, у меня, похоже, бред. Понимаю, что брежу, но ничего поделать не могу. Не вижу выхода.
– Но вы же обратились ко мне? Разве это не выход?
– Не знаю, не знаю. Климкин милый, я в отчаянии! Помогите!
– Какой вам представляется моя роль?
– Исключительно заглавной. Если не вы – никто… Сейчас слезы польются. Ком к горлу подкрадывается. Если разрыдаюсь, не обращайте внимания. Я теперь часто плачу, но стараюсь не на людях. Ухожу, прячусь. А теперь боюсь не удержаться.
– Я пойму. Я слезы правильно оцениваю и даже поощряю. Слезы – это очень хорошо. Великая польза от слез. Так что, если заплачете, только порадуюсь за вас. От всего сердца.
– Скажите, может быть, у вас есть бесплодные знакомые? Я слышал, теперь так много бесплодных семей – ребеночка хотят, а ничего не выходит… А детских домов побаиваются. Наследственность, все такое. Понять можно. Что если младенец от маньяка или убийцы. Теперь так много маньяков и убийц… бесплодных семей, маньяков и убийц…
– Бесплодие… Погодите, как вы сказали? Бесплодие? Да, да. Бесплодие. Вот оно, то слово. Если бы вы знали, как долго я его искал… Ай, да Крыжевич!.. Спасибо вам. А я еще хотел сфилонить, спрятаться от вас. Не хотел идти к вам на встречу, честное слово. Недобрые предчувствия. Я своей интуиции доверяю. Больше чем себе самому. А вы – вон что, а вы подарки мне приготовили! Да какие подарки!.. Удивительная, потрясающая, знаменательная встреча!.. Бесплодие. Ну, конечно! Именно бесплодие.
Перед тем как небо окончательно накрыло землю, наступило бесплодие. Даже жители Белого города покинули город, так как вода его высохла и лавки опустели. Высохли груди у кормилиц. Чем кормить инфантов сих, чем?
Собаки вытянулись вдоль себя и приготовились умирать.
Пытаюсь вести дневники будущего с комментариями и обоснованиями. А начинается у меня все как раз с того момента, когда вы подсунули мне деньги. А я взял. Что есть для меня погибель. В прямом и переносном смысле… Нельзя мне денег-то брать. Вот ведь что… Но это не ваша вина. Вы этого знать не могли. Да и я не знал, пока вы слово это не вспомнили. Бесплодие. Изволите видеть, Крыжевич, я в считанные минуты на ваших глазах сделался бесплодным. Вы искали бесплодного человека? Вот он – перед вами, неизлечимо бесплодный человек… И смертник… Теперь умру. Совесть убьет меня. В прямом и переносном смысле… В страшных мучениях… Приходите ко мне на похороны, Крыжевич. Народу много не будет. От силы пара – тройка человек. С дочкой приходите. Если повезет, вы с дочкой вообще одни окажетесь. И помните. Вы – единственный свидетель моего гражданского подвига… Знал, что пропаду, но взял, чтобы прочувствовать и примером своим упредить…
– Взяли что?
– Деньги ваши. Я же пояснил.
– Но если вам этого нельзя, верните, да и все.
– Поздно. Решение принято, поступок совершен, бездна разверзлась. Не заглядывайте в нее. Мне уже можно – вам нельзя. Не хотите же вы дочку сиротой оставить. Вот теперь мое положение хуже вашего. Вот что такое игра… А вы, Крыжевич, в рубашке родились. Впрочем, новичкам всегда везет. Неоспоримый факт.
– А вам самому не хотелось бы заиметь сынишку?
– Как?
– Сынишку заиметь.
– Сынишку?
– Сынишку, сына, наследника.
– Будущего спутника в скитаниях, молодого друга, что закроет глаза?.. Я погибну приблизительно через неделю. Может быть, чуть раньше. Думаете, успеет подрасти? Вы же о своем младенчике толкуете?
– За неделю – вряд ли, конечно, подрастет.
– А если я две недели протяну? У меня травы целебные собраны.
– Маловероятно.
– Думаете?
– Маловероятно.
– Не знаю, не знаю. Мне бы взглянуть на вашего младенчика.
– Так он у меня с собой.
– Так и знал! Вот вы мне не поверите, а я так и знал! Ну же, скорее, где он там у вас, доставайте!
Крыжевич расстегивает пальто, шарит рукой за пазухой. Тщетно. Буквально на глазах волосы его обильно покрывает седина, из носа по ниточке сочится кровь, – Непостижимо!
– Что такое?
– Нет младенчика.
– То есть, как нет?
– Нет, будто и не было… В газету был завернут, подвязан лямкой туго… Я проверял, то и дело проверял. Дома проверял, из дома вышел, проверял, пока шел, проверял, то и дело проверял. Не может быть.
– Не может быть.
– Не может быть.
– А вы, часом, не шарлатан, Крыжевич?
– Не может быть.
– Вы же погубили меня, Крыжевич! Кто научил вас этому?
– Выпал. По дороге выпал. Выскользнул, ускользнул, проснулся и бежал.
– Вы же не меня, вы мечту разрушили, Крыжевич! Будущее разрушили, Крыжевич!
– Не может быть.
– Кто послал вас?
Крыжевич срывается с места, бежит, спотыкаясь. Слабеющий голос сливается с порывами ветра, – Я найду его, слышите, я, во что бы то ни стало, найду его…
Горбунок ложится в снег, сворачивается клубочком, – Ай, да Крыжевич. Убил, и был таков. Всех убил. Младенчика убил, дочь свою убил, себя убил, меня убил, и был таков! Ай, да Крыжевич. Убил, и был таков. Убил, и был таков. Убил, и был таков.
36. Стравинский С. Р. Рыбы
Снова нет тебя, снова нет моего Тамерлана. Где ты бродишь, кочевий человек?.. Страха не знает. По лезвию, по краю бродит. Живет на слух, идет на запах. Одно в голове – день, да ночь, сутки прочь. Так все выглядит. Так безопаснее. Для всех. На самом деле ждет. Чего? Да он и сам не знает. Не исключено. Да, собрался, сгруппировался, налился. Струна. Тетива. Зачем? Не может иначе, не умеет. Заложено. Предопределено. Предписано. Положено. Если вдуматься, мы все чего-то ждем. Кто в тишине, кто ревет внутри себя. Как, интересно, белуги эти ревут? Пару раз слышал, как в животе у него урчит. С голодухи или от нетерпения. Так или иначе, в глаза лучше не смотреть. В такие глазки лучше не заглядывать. Сгореть можно заживо. Иногда затухает. Что-то такое кошачье. Или пепел. Кострище. Ветерок подует – перестанет. Независимая жизнь. Невыносимо независимая жизнь. Как и у меня. Только я – человек невнятный. Только я прячусь, а он ходит. А я редко хожу, выхожу, хожу. Спрятать свою невнятность не умею, потому не вижу смысла. Так оправдываю себя. Оттого, что прятаться не умею – весь как на ладони. Голенький. Вот людям нравится такая беспомощность. Нагота. Вот они и выделяют меня. Понять не могут – любопытствуют, тянутся. Себя во мне прочитывают. Как-то живет человек, рассуждают. Совершенно невнятный человек, и ничего, живет. Выживает. Бормочет, рассуждают. А вдруг в нем что-то особенное, замечательное, спасительное? Создал же Господь такую игрушку. Шарик с дырочкой, бубенчик, дудочку бессмысленную! Не узнаёт никого, потому что не запоминает. Не желает утомляться, вглядываться, впускать, проникать, проникаться. А если так и надобно? А если так – хорошо? Свободен же? Свободен… Свобода – эта такая мечта несбыточная. Одеялом с головой укроешься, а в затылок дышит кто-то. Обратно не получается свободы. Что за человек такой?.. Где ты бродишь, Тамерлан?.. Мы с ним оба глухонемые. Вот именно, ближе близнецов. Даром, что я прячусь, а он ходит. Ходит, пусть ходит. В добрый путь… Надежный. Вот, вот, надежный. Этого не отнимешь. Опасный, но надежный. Головорез, но добряк. Последнюю рубашку отдаст. Кто сказал, что головорез? А разве нет? А ты присмотрись. А кто? кочегар, разве?.. Растет. Каждый день растет. На сантиметр – на два подрастает. Однажды каланчой станет. Водку пьет не меньше моего, но без отдачи. Ни печали, ни радость. В добрый путь. Зачем пьет? И утрами не болеет. Растет. Еще говорят, они водку не пьют. Опять же, песни в нем крутятся. Песни или молитвы. Что-то одно. А, может быть, и то и другое. Щемящие и неизбывные. Молоко с кровью… Слышно иногда. Когда молчим. Мелодии нет, так – на одной ноте. Зов в нем поселился, не иначе… Песни или молитвы. А, может быть, и то и другое… Вот я его песни слышу, а он моих стишков не хочет. Плохие стишки. Сам знаю. Стишки это разве моё? Моё – водка, котлеты. Рад бы от стишков избавиться. Да не умею. Ничего не умею… Надо об Алешеньке забыть, вот что. И этого не умею. Надо бы как-то забыть, забыться. Пропажа. Он еще слабее. Совсем слабенький. Хоть и обжора. Так – зияние, запятая. В добрый путь… Поспать, что ли, покуда? Вот еще спать полюбил… Вообще все какие-то бесприютные, неприкаянные, если вдуматься. Набросили мешковину мокрую. Уж, почитай, лет десять как. Если не больше. Старость, частокол. Или с похмелья ною. А так, шарманщики какие-то, шаромыжники, тихоходы, плешь. А, может быть, речь такая стала, как рябушка… Вот интересно, почему он, такие как он, любят усекновение голов? Просто обожают. До дрожи. Баранина. Традиция, сияние, дзин-нь! А все равно друг. Бранится, но наливает… Тянутся по причине невнятности. Тамерлана бы не выследили. Там среди них сыщик один. Да не один, чует мое сердце. Шнурки развязаны, хлястик болтается. Канюка ни с кем не спутаешь, сразу бросается в глаза. В левом лице тик – того и гляди, пристрелит. Это у них – запросто. Тамерлана сразу пристрелит. В глаза заглянет, тотчас пристрелит… И меня заодно… И пусть. Пожил. Пожили. Пожил. Сколько веревочке не виться… Закономерно. Закон. Законодатели. Рано или поздно. Дзин-нь! В добрый путь… Оно так и бывает – копится, копится, потом – дзин-нь! Во мне, кстати, не копится, все как в сито уходит, но это не важно, если, к примеру, пятница. Однажды пятница настает, тут и спорить не о чем. И так каждую неделю. Есть те, что предчувствуют, готовятся. Понедельник, вторник, среда, четверг… Суббота – это уже из другой оперы… В понедельник еще молодцом, еще вытанцовывает, волосы напомаживает, а в среду глядь – глубоко пожилой человек… Пожилой человек – это какой возраст должен быть?.. Известка. Таз эмалированный. Лампочка перегоревшая. Солнце, конечно, сверкает, как ни в чем не бывало. А уже в помещении, хоть в сенях, хоть в сарае – мыло и мозоль. В лучшем случае пес облезлый в углу тень лакает. Вот и жизнь прошла… А таз – это, чтобы ноги греть. И блевать по утрам. Из песни слов не выбросишь. Хотя петь и без слов можно. Так даже лучше… Почему ноги мерзнут? Все время мерзнут. Хожу мало. Тамерлан ходит много – у него не мерзнут. И водка ему не впрок. В душе я почтальон. Но не рыбак. Не рыболов. Рыба, скорее. Рыбы мы с тобой, Тамерлан, вот что… То и дело знобит. Нездоровый человек. К примеру, очень по детству скучаю. Наперсточек. Носочек, пять пальцев, круги по воде. Лопухи-лапы. Осы да стрекозы… Кто-то сказал, что нездоровые люди склонны к философии. Дескать, нездоровые люди склонны к выводам и обобщениям. Дескать, дар. Солнцедар… А поэты, те – дурачки преимущественно. Правда, правда. Круглые притом. Эх, Пушкин! Кто сказал? Хармс? Сказал и пропал. Сказал, вышел и пропал. Хармс. И Пушкин вышел и пропал. Оба пропали. Слово не воробей. А не брякни Хармс, глядишь, Александр Сергеевич жив остался бы. И по сей день жил бы. Хармс, поросячий глас!.. Кто там еще? Желтков? Таточкин? Чуднов? Ращупкин? Венц? Заплетыкин? Губошлепов? Чиквитадзе? Горидзе?.. Мафусаил, Тимофей, Махатма, Саид, Чувак, Ким, Ли, Кентукки, Иона, Митрич, Фока, Леонид, Варвара, Варвар, Виола, Клест, Клейст, Манька, Савл, Калигула, Панкрат, Гонкуры, Дионис, Душка, Минерва, Валентин, Валентина, Алонс, Герман, Бык, Элизабет, Пит, Трумэн, Жизель… Кто такие? Откуда? Не знаю. Ума не приложу… Плюшкин? Пушкин? Кто? Кто еще сам себя высек, голову срубил? Вдова какая-то? Все беды от баб, Тамерлан. Их сторонись. Ты парень видный. Не нужен тебе гарем. Плюнь на это дело… Тебе пою, тебе, Тамерлан, пою. Мелодия, конечно, для тебя чужая, напев скворечный. Скворушка, сверчок поет тебе. Это я так себя умаляю. Так принято. Это – в нашей традиции. Для значительности. Как будто для значительности. Или наоборот. Всякую мысль поворачивать нужно. Так и этак. Как котлету. Уничтожил себя, и тут же утешился… Вообще-то, знаешь, неизвестно, что там, у меня за пазухой. Сухарик или заточка. А то леденец. Смешно. Леденец – смешно. Но по существу. А леденец-то мятный. Так что однажды взлечу, вот увидишь. Еще как удивлю тебя! Сам себя удивлю! Да, мы – такие, Икары и Дедалы земли русской. Тут бы и в пляс пуститься, да ножки отказали! С печки – бряк! Вишь как? Но припасено, помни. Что? Сам не знаю. Да разве мы сами закрома да пазухи набиваем? Хоть ты, хоть я… То, что лампочка сгорела, я тебе уже докладывал… То – хомут, то – бубенцы. Вишь как?.. Но я тебя не боюсь. Вот тебя именно не боюсь. Хочешь сдать меня в сумасшедший дом? Так разве я против? В добрый путь. Но, Тамерлан, не обижайся, пока размеров каланчи ты еще не достиг. И я покуда не готов. Не готов к чистому. Нельзя, нельзя. Вот ты думаешь, Тамерлан, наверное, думаешь, Тамерлан… Почему, думаешь, Тамерлан, я с тобой не расстаюсь? Никак расстаться не могу, не желаю. Думаешь, в самом деле, сверчок хозяина себе нашел? Так нам, сверчкам, хозяин не нужен. Водку наливаешь, от людей прячешь – оттого что поем оба, всяк свое? Всякое такое?.. Думаешь, канон и острота? Я тут тебе на остроту намекал. А оно – совсем наоборот. Лишены мы с тобой и того и другого. Тяготясь тяготеем. Так рыбы друг дружку по запаху находят. Разные, понурые, тяжелые оба, но тяготеем. Молчим. Друг дружке знаки подаем. Звездочки да кружочки. Молчание – золото. Только мы с тобой знаем. Больше никто. Я пытался их научить, но они не слушают. Не слушали, неслухи… Все умрут… Жаль, откровенно говоря. Немного жаль. Надоели хуже редьки, но я к ним все равно привязался… Не полюбил, нет. Я никого не люблю, себя не люблю, разве вот тебя только, да Алешеньку немного… Не полюбил, но… привык, что ли. Но двери больше не отворю. Не хочу обманывать. Никого. А и нет никого. Некого обманывать… Вот и тебя нет. Вишь как? В добрый путь… Радостное волнение. Как-то волнами радость накатывает. Откуда ни возьмись… Предсмертная радость – вот что это такое… Все умрем, не сомневайся… К слову сказать, бессмертны оба. Ты, да я. Объем и парадокс. Еще Алешка, допускаю. Вот Алешка – молчит. Молодец. Всегда молчит… Молчал. Украли моего Алешеньку. В семью заманили… Украсть младенчика – это у них на раз… Между тем весна скоро, чумичка. Война в воздухе стоит, как собор, напоминание. На каждом шагу пяточки, да семечки, аж голова кружится. А мы с тобой бредем как непогода сквозь деревья, Тамерлан. Как рыбы. Две гулкие рыбы. Точнее, ты бредешь, а я мысленно сопровождаю… Где ты бродишь, Тамерлан? Сил уже нет ожидать, честное слово.
37. Дневальный. Климкин
Кухонька в доме Веснухина. Шаткий столик. Клеенка с выцветшими маками, сизый стакан, хлебные крошки, желтоватый иней на окне.
Полковник, Горбунок, голова Арктура.
Закута. Изнанка и сиротство.
– Все же, как вы меня нашли? – прячась в лоснящийся халат, пунцовый Семен Семенович, весь в каких-то желваках и прорехах, пытается справиться с ознобом. – На самом деле мне это совсем не интересно, будьте любезны. Нашли и нашли, будьте любезны. Хорошо, что нашли. Так что я рад вам, имейте в виду. На меня внимания не обращайте. Недомогание. Так что я – совсем не то, что вам явлено. Да вы меня знаете. Мы же с вами уже встречались? И не раз. Вне ристалищ тоской и болями обуреваем. Это вы еще вен моих на ноге не видели. А я весь таков, изволите видеть. Сплошная вена. Нога утомленного путника. Никто воды не подаст. Ничего, как говорится, высыплет, легче станет. Так что, будьте любезны. Так что я до шуток охоч. Бабы уже меньше интересуют. Покуда Полина Ивановне не слышит. Ха-ха-ха. Все там будем, не сомневайтесь. Ну, так что? Что скажете, будьте любезны? А случается, заикаться начинаю. С утра, сразу после пробуждения начинаю, остановиться не могу, пока не забудусь. Случается, да. Болен, изволите видеть, будьте любезны. Вот оттуда это «будьте любезны»? Привяжется же, мать-перемать! А в остальном, как говорится, учтивый кавалер. При шпагах и ножнах. Дожить бы до утра. Простите. Я когда болен – все в доме болеют. Включая кота. На войне это хорошо знали. Кому война – кому мать родна. Всё сожгли. Уж как умели. Немного неловко, но в самый глаз, будьте любезны. Из песни, как говорится, не выбросишь. Когда болен – все болеют. Быстро выучили. Все. А у меня еще кот проживает. Почуял вас и спрятался. Животное чуткое, нежное, хозяйкой избалованное. Мерзавец. Судя по всему, всех переживет. О таких усищах только мечтать. Для кавалерии весьма полезно. Пагубное пристрастие к валерьянке имеет. Матерится виртуозно. Ну, да вы еще услышите, если повезет. Ему бы саблю маленькую и в окоп. Ха-ха-ха. Солдатский юмор особый. Голова едва что держится. Горький смех, горький, чего греха таить. Однако справляемся как-то. Не хлебом единым. Вот я теперь с вами говорю, а в голове облака да колючки, дорогой Климкин. Вы же Климкин? Угадал? А нет ли у вас с собой спиртного, дорогой Климкин? Спрашиваю наугад и без надежды. Хотя было бы очень кстати. Уж мы бы фейерверк устроили! Канонаду. Боитесь канонады? Так как насчет спиртного? По глазам вижу, не носите с собой. Вот, позволил себе бестактный вопрос. Простите. Хотя галантный кавалер. Из первой десятки не выходил. На войне знали. Огненные точки все мои. Так вы их называете? Безбровые. Не боись. Хотя выпить было бы теперь очень к месту. Нет, нет, негоже. Надо остановиться. Полина Ивановна сердится. Не ровен час прогонит. Нехорошо. Обижусь, прокляну, или чего похуже. Нрав у меня необузданный. Неуправляем бываю. Не часто – всегда. На войне это хорошо знали. Старались подальше держаться. Поиграл, как говорится, и паиньки. Или баиньки? Что скажете? То-то и оно, крыть нечем. Не меня особо внимания не обращайте. Слушайте лучше Арктура, моего боевого товарища. Вместе щи хлебали. Кому щи – кому сено. Уж так повелось. Никто не виноват. А пуля одна на двоих. В кавалерии так. А уж там – и мазурка и полонез. Польша совсем из берегов вышла. А так всегда было. И нечему удивляться. Еще крылышки эти. Полина Ивановна такие крылышки делает – пальчики оближешь. Но запаха не слышу. Затаилась. На нее молиться нужно, а мы – вишь что? Ну, ничего, обойдется, Бог даст. Мы – везучие. Хотя, чего скрывать, грешники великие. Вам не дует? От сквозняка-то подвиньтесь. Ничего, всё не выдует. На войне не такие сквозняки, кот ученый. А Полина Ивановна, чего греха таить – чудесная женщина. Золото, не человек. Слиток. Такую женщину обижать – грех. Генералиссимус. Чан-Кайши. Мудрейший человек, доложу я вам, был. Я для себя так решил, если упаси Бог, обижу ее, вольно или невольно – тотчас себя прокляну. Или чего похуже. Она, конечно, женщина терпеливая, но всякому терпению бывает предел. Так что даже очень хорошо, что вы прибыли с пустыми руками, Климкин. Мы все вам за это чувствительно благодарны. Все. И кот признателен, хотя носа не кажет. Я, случается, ему по пьяному делу, наступлю на хвост или лапу. Гневается. Панибратства не терпит. На неделю может замолчать. Не понимает, что я не по злой воле. Мерзавец. Притом, умнейшая, должен заметить, тварь. Хитёр, бестия. Чистый египтянин. Но, тоже алкоголик. Все сколько-нибудь значимые люди – алкоголики. У них, у котов страсть к валериане генетикой предусмотрена. Думаю, у египтян валерьянка вместо водки была. Как говорится, на заметку ученым. Вы не ученый, Климкин? А производите впечатление ученого. Полина Ивановна, нет боле сил терпеть, честное слово! Умру – как выносить будете? Сто килограмм живого веса. Благо – одна нога. А когда вторая отрастет? Я надежд не теряю! Полина Ивановна, сжальтесь, голубчик! – подмигивает Климкину, – несет, радость моя. Везувий. Шествует медленно, со значением. Как всякий катаклизм.
Шуршащей тенью выплывает округлая смиренная Полина Ивановна. Достает из передника бутылку, наполняет стакан и вновь растворяется в матовой пустоте.
Катарсис.
– Благодетельница! – в глазах полковника играют слезы. Намеренно громко, дабы невидимая благодетельница слышала, – Не дозволяет погибнуть. Как достойно наградить?! Не знаю. Нет такой награды! Только что преданность и любовь, преданность и любовь! Святая! Таких и нет больше. И не будет больше. Врожденная солдатка. И салют, а, случись, и вдовство ей к лицу. На слезы мои, Климкин, не обращайте внимания. Могу разрыдаться, запросто. Сентиментален. Разделите со мной нектар? По глазам вижу – не выпиваете. Воздерживаетесь или болеете? Бестактный вопрос. Простите. Не обессудьте, долго держать не могу, нуждаюсь. Ваше здоровье.
Семен Семенович вытирает слезы и, опережая перспективу, взмывает над собой.
– Это – как первый поцелуй, – доносится с высоты восторга, – пьется исключительно стоя и маленькими глотками. Не верьте тем, кто залпом советует. Исключительно маленькими глотками. Даже если теплая. Теплая даже слаще.
Согревшись в безднах, полковник возвращается помолодевшим. Румянец на щеках, витийствует, урчит, – Вот и Феникс, и радость. Много ли утомленному путнику надобно для небывалого счастья? Случается охватишь, а оно ускользает. А все равно нектар. Хоть слева направо, хоть наоборот. Тут, главное, не терять. Впрочем, потери делают нас чище. Кому, как не вам знать. Согласны, согласны со мной. А вы в беседу вступайте. В беседу вступать нужно как в студеную воду. О себе забыть требуется. Раз и навсегда. Ног не замочив в реку не войдешь. Кому что, а вшивому баня, как говорится. Ну, ничего, свыкнитесь. Согрелись на сквозняке-то. Ха-ха. Говорите, говорите, меня не переслушаешь. У меня за годы бездействия, знаете, накопилось. Полегчало. Первая – главная. Кто страдает – меня поймет. Вы говорите, говорите, Климкин.
Климкин, – Насилу.
Полковник, судя по выражению лица, все еще смакует тягучую негу, – Как вы сказали?
– Насилу нашел. Вы спросили, как я вас нашел? Вот я ответил.
– Жаль, что вы не выпиваете, Климкин. Вам незнакомы красоты воскрешения. Как, кстати, вас звать? Что же это, Климкин, Климкин, разве такое годится? Не в строю всё же.
В диалог вступает Арктур, – Весьма спорное замечание.
Климкин отвечает, – Между собой вы зовете меня Горбунком, я знаю. Из-за рюкзака, я знаю. И не обижаюсь. Так и впредь называйте, ничего страшного.
– Надеюсь, вы понимаете, что это любя?
– Да я не ропщу. Горбунок и Горбунок. Какая, в сущности, разница?
Веснухин не отступает, – А как матушка вас называла?
– Кузьмой. Кузей.
– Прекрасное редкое имя. Что привело вас к нам, Кузьма?
– Кузьма, надо же! А я предвидел. Нечто подобное должно было произойти. Выходит, не ошибся я адресом.
– О чем вы?
– Так, размышляю. Я задумчивый человек, часто размышляю, придумываю всякую всячину. Вы уж меня потерпите, я скоро уйду… О чем? Всё просто. Давно не слышал своего имени. Сызмальства и не слышал. Спасибо вам. Нет, не ошибся я адресом.
– Что привело вас к нам?
– Так я вам денег принес.
Нелепое заявление Климкина, как и следовало ожидать, не принимается всерьез и повисает в воздухе. Так что, после небольшой паузы полковник снова спрашивает, – Так что привело вас к нам, Кузьма?
– Я же сказал, принес вам деньги.
Семен Семенович в некоторой растерянности, – И много?
– На мой взгляд, немало. Хотя я не пересчитывал.
– Что это?
– Подобие подарка.
– Пожертвование?
– Можно и так сказать.
– И зачем вы их, с позволения сказать, принесли?
– По моему разумению, вы могли бы купить на них что-нибудь полезное. Новую попону или сена, например.
– Нет, нет, вы меня не поняли, зачем вам?.. что это все же? пожертвование, подарок?.. не важно, зачем вам дарить деньги?
– Просто так. Вы милые люди, неиспорченные люди. Я должен был.
– Кому?
– Без адреса. Просто должен. Вот выбрал вас. Искал именно вас.
– А самому вам, что же, не нужны деньги?
– Нет. Я подумал. Я хорошо подумал. Мне денег не нужно. Я не смогу к ним привыкнуть. И я бы очень хотел отдать их. Именно вам. И, пожалуйста, не отказывайте мне.
– Что случилось?
– Ничего особенного. Можете мне верить. В понимании обычного человека ничего особенного. Это всё мои фантазии. Неприятные, темные фантазии. Откровенно говоря, я не хотел бы говорить об этом. Пожалуйста, можно я не стану посвящать вас в детали? Просто возьмите, и всё… Вы могли бы купить попону…
– Нет, дорогой Климкин, так дело не пойдёт. Вы должны рассказать нам всё. Без утайки. У нас так заведено.
– Настаиваете?
– Настаиваю.
– А если мои доводы покажутся вам неубедительными? А мне очень-очень нужно передать вам деньги.
– От кого?
– От себя.
– Если ваши доводы покажутся нам неубедительными, Климкин, вы уйдете вместе со своими деньгами к себе домой. Или к чертовой матери. Это уж как пожелаете.
На лице Горбунка грустная улыбка, – Риск.
– А без риска никак.
– Упустил из вида, что вы военачальник, командарм.
– Не командарм, но не помнить нас, командармов, и в годы тишины – серьезная ошибка, Кузьма. А в годы тишины – в особенности. Вы уж меня простите, я – прямой человек. Никогда не забывайте тех, кто всегда рядом. И за столом, и в тишине, и в грозовую, как говорится, минуту. Не ровен час, полыхнет.
Полковник вытягивает шею, – Полина Ивановна! Час пробил! Будьте любезны!
Полина Ивановна, уже не мираж, но вполне земная, действительно, с бликами горящей избы в зрачках, шумно водружает бутыль, и покидает кухню, на сей раз с высоко поднятой головой.
Веснухин вновь наполняет стакан, – Везувий пробуждается. Что скажешь, Арктур?
– Пробуждается, полковник, как есть пробуждается.
Полковник Климкину, – Женщина трудной судьбы. В гневе чрезвычайно опасна. Сравнение с вулканом не случайно. Если повезет, сами сможете убедиться. Бывает, и на улице настигнет. Соседи знают. Уже выучили ее. Ничего, некоторое время продержимся. Продолжайте, Климкин.
– Может быть, я уйду, да и дело с концом?
– Нет, нет. Теперь уже поздно. Теперь уже придется все рассказать. Предлагаю вам все же выпить для храбрости.
Горбунок зажмуривается, набирает полные легкие воздуха, протягивает руку, – Давайте.
– Вот так бы сразу!
Климкин опрокидывает стакан, таращит глаза, закашливается.
Полковник громыхает, – Да разве так я учил? Маленькими глотками, маленькими! Не важно! Все равно молодец! – пьет из горлышка, – Ну, теперь держись! Давай Кузьма, жги!
С этими словами, по-видимому, растратив последний запас энергии, Семен Семенович роняет голову на грудь и погружается в дрему.
Понемногу придя в себя, Горбунок обнаруживает, что кухонька наполнена неземным свечением, а ее мелькающие рябью обитатели, полковник и голова коня – ничто иное, как совесть, и совет, и избавление, и уж теперь великий грех скрывать от них что бы то ни было, ибо материализовались они в его жизни единственно с целью утешить, наставить и повести, – У меня еще полон рюкзак алмазов. Но алмазы – это на потом, для дела. Это не то, что деньги. Другое, совсем другое. Но если нужно, я вам и алмазы отдам. Только скажите. Мне не жалко. Мне для вас ничего не жалко. Вы – славные неиспорченные люди. Потому что кони – это те же люди, только крупнее и мечтательнее, что ли. Хотел бы я встретить живого пегаса, ибо бесконечно верю, что они существуют, и наша встреча еще предстоит. Уверен, что Баллас прячет парочку пегасов. Баллас – это такая Новая Атлантида, я сегодня отведу вас, и Полину Ивановну, и кота, и вы убедитесь, проникнитесь, и вам не захочется возвращаться никогда. Я слышал и прежде, что водка лечит, но как-то не представлялось возможным убедиться. Необыкновенная ясность ума и восторг помыслов.
Арктур, – Полковник по этому поводу говорит – уж я вам мысли-то подсоберу.
Климкин смеется, конь ржет.
Горбунок продолжает, – Не жалко, я себе еще найду. Там, в Балласе алмазов множество. И вы найдете. Я научу вас искать. Это не трудно… Завтра пойдем, сегодня, наверное, уже поздно. Вы и представить себе не можете, как всем нам будет хорошо, будет хорошо, будет хорошо… Вот вы не верите, а я знаю способ. Никто не знает, а я знаю. Чувствую. Брести с фонарем, печально, безнадежно, точно это и не фонарь, вовсе, а паучья жила или помазок. И вдруг мреющее свечение. Мреять. Брадобрей. Брод. Не пустые слова. Вот вы не верите, а всё – не пустые слова. И голуби. Мириады голубей. Прошлого больше нет. И будущего тоже. Потому что вот оно, будущее, сегодня, сейчас. А без этого, согласитесь, и жить не стоило. Спасались любовью. Кто как умел. Но любовь, вы же знаете, сочится и тает. Письма – в топку. Рано или поздно. Там в Балласе писем множество. И самолетиков, и корабликов. Можно умереть от счастья. Я, когда в первый раз столкнулся со всем этим – тотчас умер. Взаправду. А когда вешние ручьи или море навещает? Жемчужное свечение, сон, явь, движение в окнах. И окна имеются, не думайте. Встречи, уединение – что душе угодно… А теперь, пожалуйста, возьмите у меня деньги и я пойду. Я, видимо, пьян. Опьянел, видимо… Я прежде не пил никогда, не знаю, что это такое.
– Полковник в таких случаях говорит – пьян да умен, два угодья в нем.
– Ах, да! Вас интересовало происхождение денег? Я бы не хотел, но раз уж так складывается – извольте. Всё предельно просто. Мне дал их один человек. Просто так. Выдал и убежал. Как… олень. Или лань. Хотя я живых ланей не встречал, но очень хотелось бы. Думаю, в Балласе непременно водится парочка ланей. А оленей прежде хорошо на ковриках изображали. Синюшные такие коврики, помните? Бесконечно приятные на ощупь. Из плюша или не плюша. Не бархат, конечно. В Балласе бархата много. Гладишь такой коврик, и представляешь себе, что гладишь вовсе не коврик, но самого оленя. Вот не пришло в голову дать тем олешкам имена, а они, думаю, нуждались… Отвлекся. Воспоминания. Что мы без воспоминаний. Хотя так было бы, наверное, проще. Но мы простых дорог не ищем. Я думал, что я один такой, а вот поговорил с вами сегодня и подумал, нет, не один. Нас таких, по крайней мере, трое. А с Полиной Ивановной и котом – так пятеро. Жаль, что кот отказался с нами трапезничать. Ведь мы трапезничаем? Трапезничаем… А тот человек? Что можно сказать? Человек как человек. С тайной. Не без этого. Подошел, деньги сунул и убежал. Сунул и тотчас убежал. Как олень. Но не гепард. Не гепард, нет. Любите ли вы гепардов, Арктур?.. Тот человек на гепарда не был похож. Бегал не так быстро. Хотя старался, этого не отнять. Хотел все же, наверное, на гепарда походить, но это, согласитесь, не так просто… А ваш кот, к слову, быстро бегает?
– Быстро, когда хочет, но нас с полковником ему не догнать.
– Значит ваш кот тоже не гепард… А тот человек? Что сказать? Обыкновенный человек. Несчастный по-своему… А вам хотелось бы знать, как его зовут?.. Невозможно. Да, я знаю его имя, точнее, знал, но позабыл.
– Полковник не простит.
– Позабыл тотчас, как только он убежал. Но не в этом дело. А дело в том, что деньги-то я взял. Понимаете?.. Не понимаете?.. А я этих, как и прочих других денег брать не должен. Не имею права. Вот если бы я их нашел – другое дело. И то, не факт, что взял бы. А в этот раз взял. Вот как будто это был не я, а совсем другой человек.
Веснухин пробуждается, – Какой человек? Какой такой другой человек?
Климкин поясняет, – Очень просто. Вот как вы, Семен Семенович, при моем появлении заявили, что это как будто совсем не вы, а некто другой явлен.
– Я так сказал?
– Да, но не в этом дело. Теперь вы спросите, по какой причине денег брать я не должен? Что это за особенность такая – денег не брать?
Полковник, – Именно так и спросим.
– Хорошо, я откроюсь вам. Дело в том, что я… сейчас не смейтесь, это очень серьезно… дело в том, что я – своего рода Пифия12, пуп, лампа Дештура. Теперь понятно?.. Вот она, главная тема проступает. Лейтмотив. Все что я рассказал вам прежде – ауфтакт, не больше. Так что же это за тема? справедливо спросите вы меня. Я отвечу. Тема невинности, девственности, если хотите… Давайте без дураков. Разве прежде, когда такое было возможным, оплакивали мы свою девственность всерьез? Разве те, что писали правила, те, что обозначили девственность как благодетель высшего ранга, не стремились сами как можно скорее избавиться от нее? И вот, пожалуйста, сегодня целомудрие презренно, и это декларируется во всеуслышание… Фарисейство, скажете вы, ханжество. Нет. На этот раз – обвал. Надеюсь, факт падения неба нет смысла доказывать? Достаточно заглянуть в колодец, или применить копченое стеклышко. Как при затмении. Словом, практически все ушли на ту сторону. Переведи меня через Майдан. Помните? Сейчас эта фраза имеет уже несколько иное значение. Неважно. Согласитесь, кто-то должен был остаться. И так все рухнуло, должна же была остаться хоть какая-то надежда. Сказочный Горбунок или реально существующий, да хоть сам горб или тень его. Шучу. Словом некто, всяк по-своему трактует, сочинил избавление в виде некоего дневального. Для начала. И, в качестве страховки, разумеется. Так уж вышло, что дневальным оказался ваш покорный слуга. Вот и весь сказ, и причина моего визита… Кто сообщил мне о том, что я – дневальный? Никто. Я мог бы вам соврать, сказать, что это голос или голоса. Нет. Все сложилось как-то само по себе. Однажды посмотрел на себя со стороны, я это умею, и осознал. А историю с голосами я для докторов берегу, точнее, для одного доктора, Стравинского Ивана Ильича… Ну, что дальше? Через некоторое время, как и должно, разверзлись так называемые горизонты. И новый Стравинский не замедлил себя ждать. Это уже наш с вами общий знакомый. И общество как-то сложилось, общество четвержан, близнецов, урожденных девственников. В духовной ипостаси. Их стать и дивные черты. Откуда это? История знала примеры. Но как давно это было?.. И вот теперь. Я предвидел, и предвижу. Потому – Пифия. Все – не просто так. Такое богатство духовное. Я даже задыхался первое время. От избытка. По вечерам температура до сорока, не то что. Так и сложилось общество близнецов. Я про себя так нас называю – близнецы. Хотя на самом деле близнецы – те Стравинские, агностик и доктор. Еще есть композитор, может быть, слыхали? Не исключено, что вся эта симфония им замышлена. Мы же не знаем, кто он. Мы вообще, если честно, мало что знаем. Чрезвычайно ограничены в возможностях. Так что Стравинский, тот, что композитор, много больше, чем композитор. До какой степени – пока трудно сказать, но, интуиция подсказывает, то о чем мы думаем, только оболочка. А внешность обманчива. Практически всегда. А иначе, откуда и зачем два других присланы? Это выше моего понимания, да я и не пытаюсь. Лишь контур обозначил. В общих чертах. Три контура. Триединство. Так и живу по течению. Мне нельзя иначе. Я просто погибну, если схвачусь за корягу или вдруг захочу на берег. Так и жил, как плыл, пока не явился тот самый человек, имя которого я забыл. Провокация. Понимаю. Испытание. Понимаю. Соблазн. Даже не соблазн, всё как-то само по себе получилось, он дал – я взял. Ну, что? Теперь, как видите, иду ко дну. Если уже не на дне. Что-то лягушек не слышно. Но за этим дело не станет. Так что если вы не откажете мне, вы не только меня, всех нас спасете. А без дневального никак.
Полковник спит крепко. Арктур, напротив, весь внимание, в его словах читается скепсис, – Все это, дорогой Кузьма я уже слышал, изучал. Не это, так другое. Все, о чем вы говорите, Кант предугадал, разложил по полочкам и завещал нам в виде одной фразы – «ничто не ново под луной».
– Разве это Кант?
– Шекспир. Его ученик.
– Но Шекспир, мне кажется, жил задолго до Канта?
– Разве Сергей Романович не учил нас тому, что время – категория относительная, а, в отдельных случаях, даже вредная?.. Хотите Канта? Извольте. Я Канта знаю наизусть. Вот послушайте:
Мы не можем мыслить линию, не проводя ее мысленно, не можем мыслить окружность, не описывая ее, не можем представить себе три измерения пространства, не проводя из одной точки трех перпендикулярных друг другу линий, и даже время мы можем мыслить не иначе, как обращая внимание при проведении прямой линии (которая должна быть внешне фигурным представлением о времени) исключительно на действие синтеза многообразного, при помощи которого мы последовательно определяем внутреннее чувство, и тем самым имея в виду последовательность этого определения. Даже само понятие последовательности порождается прежде всего движением как действием субъекта (но не как определением объекта), стало быть, синтезом многообразного в пространстве, когда мы отвлекаемся от пространства и обращаем внимание только на то действие, которым определяем внутреннее чувство сообразно его форме. Следовательно, рассудок не находит во внутреннем чувстве подобную связь многообразного, а создает ее, воздействуя на внутреннее чувство. Но каким образом Я, которое мыслит, отличается от Я, которое само себя созерцает (причем я могу представить себе еще и друг не способы созерцания, по крайней мере как возможные) и тем не менее совпадает с ним, будучи одним и тем же субъектом? Каким образом, следовательно, я могу сказать, что я как умопостигающий (Intelligenz) и мыслящий субъект познаю самого себя как мыслимый объект, поскольку я, кроме того, дан себе в созерцании, только познаю себя одинаковым образом с другими явлениями, не так, как я существую для рассудка, а так, как я себе являюсь? Этот вопрос столь же труден, как вопрос, каким образом я вообще могу быть для себя самого объектом, а именно объектом созерцания и внутренних восприятии. Наше познание себя действительно должно быть таким, если признать, что пространство есть лишь чистая форма явлений внешних чувств…13
Нуте-с, что скажете, Кузьма? Разве не то же самое? Разве не описаны здесь ваши воззрения, воззрения того провокатора, что всучил вам деньги, мнимые страдания, сумятица на пустом, как выясняется, месте?
– Не то, нет, нет, другое…
– Разве образ дневального не возникает в вашем сознании, когда слышите вы эти слова?
– С этим не поспоришь, но… Надо подумать, надо хорошенько подумать… Я потрясен, я действительно потрясен.
– Выпейте еще.
– Нет, нет, ни в коем случае.
– Ведь как Кант позиционирует дневального? Его дневальный – константа, то, что есть, было и будет всегда. Разве не так?.. А теперь скажите, у кого вы приняли эстафету, дорогой Климкин?
– В каком смысле?
– В самом прямом. Кто до вас был дневальным? Проведите мысленную линию. Нащупайте, найдите его, загляните ему в глаза… А что, если в них вы прочтете безмятежность? А это непременно будет безмятежность. Лично я в этом не сомневаюсь.
– Как же небо, что опускается на землю?
– А что если это мы возносимся к небесам?.. И еще. А что если вы не дневальный вовсе, но самый обыкновенный человек? Не обижайтесь. Вопрос закономерен. Вы сами должны были задать его себе… Что если мы вовсе не то, что есть на самом деле? Вот о чем призывает нас подумать Кант. Вот то, что пытается нам объяснить Стравинский. Молча проговаривает то и дело. Вслух, но про себя. Вот какая мысль посетила полковника перед тем, как он уснул. Успокоился и уснул. Успокоился потому что это очень спокойная мысль.
– Нет, нет, я чувствую, нет, я знаю…
– Понимание приходит не сразу, Кузьма… Знаете, что я вам посоветую. Сами купите сена и принесите его нам. Если хотите, попону. Еще я люблю яблоки. Зимой они просто необходимы лошадям. Если действительно захотите сделаться нам братом – купите водки полковнику. Ящик. Не знаю, сколько у вас там денег. Фартук Полине Ивановне, коту – валерьяновых капель.
– Да, я рад, буду рад, несказанно рад, но в таком случае я окончательно свыкнусь с деньгами. Ведь мне будут давать сдачу. Начнется круговорот. Это уже буду не я. Меня просто не станет. Пузыри по воде, сухие ветки, лягушачьи лапки. Вы предлагаете мне смерть, вот, что вы мне предлагаете, Арктур… Нет, нет, простите, я не смогу, пока не могу. Не готов, совсем не готов… Простите, я пьян, я в смятении, все же пойду, если вы не возражаете.
– Оставайтесь, поздно уже. Вы нам понравились. Мы вас любим.
– Нет, нет, благодарю. Прощайте.
Роняя по пути какие-то предметы, Горбунок бежал под марш молоточков в голове, – Кант, Кант. Еще чувство вины, обиды. Ему казалось, что он летит в пропасть, уже видит терпкое дно. Климкин зажмурился, предвкушая удар, и вдруг, на выходе, прямо у подъезда угодил в объятия паранойяльного следователя Павла Петровича С. Сыщику – радость, Горбунку – спасение. Судите сами. В поисках Стравинского С. Р., Павел Петрович раздобыл адрес Веснухина с тем, чтобы при помощи полковника попытаться ухватить ниточку ядовитого клубка, что смастерили кровопийцы и содомиты всех мастей на горе подлинным, честным мастерам, которые… не важно. И вдруг – на тебе, Климкин, еще один заговорщик, спешит прямо в руки. Разве не удача? В свою очередь, Горбунок, уже потерявший надежду избавиться от порочных денег попадает в объятия следователя, который, воленс-ноленс, просо обязан принять их во благо, назидание ли… не важно. Вот и спасение.
Следует заметить, идея найти Павла Петровича уже приходила в голову Горбунку, и не раз, но липкий страх тотчас поглощал ее, оставляя на душе привкус гадливости с беспокойством пополам.
– Как же хорошо, что я вас встретил, Павел Петрович, – затараторил Горбунок. – Не иначе провидение направило вас мне навстречу, Павел Петрович. Вы же Павел Петрович, я не ошибаюсь? Это – не просто так случай. Согласитесь, было бы странно встретиться двум четвержанам в столь неурочный час случайным образом. В малознакомом месте. В сумерках. Или уже ночь? Ночь, наверное. Прекрасная ночь. Лучшая ночь в моей жизни. Гуляете? Притом вы не подозреваете, а я искал вас. Последнее время только и занимался тем, что разыскивал вас. Вот и теперь, перед тем как встретиться, думал о вас. Если даже и не успел подумать, не сомневайтесь, не прошло бы и минуты, как подумал бы. Последнее время, о чем бы я ни думал, логическая цепь моих рассуждений все равно и непременно приводила к вам. Потому и разыскивал. Правда, следопыт я никудышный, вам не чета, однако надежды не оставлял. Зато вот теперь награжден нашей встречей. Ах, какая встреча! Бесконечно рад! расцеловать вас? Так бы и расцеловал. Натерпелся, знаете ли. Но теперь все будет хорошо. Правда? Ну, конечно. Милый, милый Павел Петрович. Ищущий, да обрящет, так, кажется, сказано? Истина! Вместе с тем, Павел Петрович, не скрою, некоторые сомнения терзали меня. Терзали, терзали, что скрывать? От вас разве скроешь? Какие сомнения? В сущности, чепуха, но мне важно. Так кажется. Какие сомнения? Например, я до сих пор и не знаю, государственное вы лицо или промышляете частным образом… Это вопрос, Павел Петрович.
– Какой вопрос?
– Государственное ли вы лицо или промышляете частным образом?
– А вам как хотелось бы?.. Климкин, если не ошибаюсь?
– Не ошибаетесь. Но теперь Кузьма, снова Кузьма. Так нарекли меня при рождении, а теперь, буквально только что вернули.
– Что?
– Имя. И вас, Павел Петрович. Такое событие. Это сложно понять, гамма чувств, воспоминания… Теперь смело можете называть меня Кузьмой.
– Так что вы хотели от меня, Климкин Кузьма?
– А вы от меня?
– В каком смысле?
– Вы разве не меня искали? Мне показалось, что мы оба искали друг друга. То есть я вас, но и вы меня. Показалось? Ошибся?
– Теперь уже не знаю…
– Но я не обознался? Вы – следователь? Павел Петрович С.?
– Павел Петрович С.
– В таком случае вы искали меня, и не сомневайтесь. Я, знаете ли, своеобразная Пифия. У меня предвидения. Так что я вам очень, очень полезен. Многие моей пользы не видят, не желают видеть. Но вас на мякине не проведешь. Вы свое возьмете. Ведь так?
– Зачем я вам?
– Я хотел, нет, я обязан вручить вам, вам или государству, государству ли в вашем лице или просто вам, как честному и принципиальному служителю, в конце концов, просто человеку, вручить причитающуюся по праву определенную сумму денег, которая некоторое время дожидается вас. Некоторое время или давно, об этом история умалчивает. Так иногда случается. Как в данном случае, например. Могу только предполагать, но не вижу в этом особого смысла, ибо важен, согласитесь сам факт. Надеюсь и уверен, что прав, а также исполнен приятного волнения в предвкушении. За опьянение прошу простить, выпил, можно сказать, впервые в жизни, следовательно, опьянел. Следователь от слова «следовательно» или наоборот? Как правильно, Павел Петрович?
– Ничего не понимаю. О каких деньгах вы говорите?
– Немалых. Они у меня с собой, и практически готовы к выдаче. Скрывать не стану, имеются еще и алмазы, но у алмазов иное происхождение, и мне не хотелось бы пока касаться этой темы. С вашего позволения, разумеется. В свете грядущих событий, полагаю, вы догадываетесь, о чём, о каком, с позволения сказать, катаклизме идет речь, возможно, я вам действительно пригожусь. Как видите, я не склонен что-либо скрывать от вас. И вообще предпочитаю не скрывать. Тем более, дело очевидное, да от вас таиться – занятие пустое. Все мы высоко ценим ваш профессионализм, о котором сложены, и в дальнейшем будут слагаться легенды. Так что, если пожелаете, алмазы также присовокуплю с благодарностью и надеждой.
– Ах, вот оно что?! Вот где собака зарыта! – осенило Павла Петровича. – Да это, брат ловушка! Живая ловушка. Поздравляю. Снова обскакали. Обскакали, чего уж там? Поздравляю, старый дуралей. Разбежался, адресок заполучил. Аж слюну пустил. Так просто адресов не дают, старый дуралей! Адреса – не глубоководные мины, чтобы просто так по глупости всплывать. Это же прописная истина… Ай, да Стравинский! Гений – не гений, но фигура серьезная. Недооценил тебя, Сергей Романович. Извиняй. Больше не повторится. Обещаю… Если, конечно, повезет, если выкрутиться удастся, если живым останусь. Что маловероятно… Ну, что, сколько вас? Где расположились, господа? На крыше? На крышах? Что-то вас не видать. Профессионалы… Где же, где? Мартышка к старости слаба глазами стала… Ай, да Горбунок, а с виду дурачок дурачком. Вот где настоящий Навуходоносор. Учись, старый дуралей. Сколько раз говорил себе, всем говорил, тысячу раз говорил, как попка повторял – врага уважать надобно, уважать, уважать, уважать надобно. Как попка повторял… Ну, что же вы медлите?.. Враг – что твой лис… А если банальная взятка? Купить, хочется купить. Ну, конечно, почему не попробовать? Вдруг клюну? Взятка?.. Нет, они же меня знают. Они же меня знают, как облупленного. Это – конец, Павел Петрович, дорогой, незабвенный Павел Петрович. Нет, нет где-нибудь на крыше непременно снайпер. так сказать, скрипач на крыше… Главное виду не подавать! С утра побрился, как чувствовал. Сорочка свежая? Не помню. Прощай радость, жизнь моя. Ну, чего ждете, господа киллеры?..
– Павел Петрович, вы задумались или задремали?
– Никак нет.
– Сейчас я вам предъявлю всю сумму. Откровенно говоря, не считал, – Горбунок лезет за пазуху, – сейчас, сейчас…
Стрелял, конечно, следователь С. Правда, не с двух рук, как в кино, а даже неуклюже как-то, рассеяно. Не был готов. Не хотел. И вообще ему почудилось, что пистолет в кармане его пальто выстрелил самопроизвольно. Во всяком случае, для успокоения души, хотелось, чтобы ситуация сложилась именно так. Все же не злодей. Даже наоборот.
Нет-нет, Павлу Петровичу действительно так показалось. Еще мелькнула нелепая мысль, – У пистолетов, оказывается, тоже нервы сдают.
Климкин, в свою очередь, почувствовал, что у него схватило живот, успел подумать, наверное, отравился водкой, успел сказать, беда, Павел Петрович, скрючился и уткнулся головой в сугроб. В таком положении он напоминал куль, свертку, что угодно, только не человека.
По иронии судьбы мертвого Горбунка Павел Петрович отнес на ту самую свалку, которая, как вы знаете, никакая не свалка, а самый настоящий Баллас, Великая мировая голубятня. Отнес и упокоил тело на том самом корсаковском диване. Справедливости ради, расстроился невольный убийца не меньше нашего. А когда ушел, к запорошенному снегом, точно сахарному Кузьме прилетели Адам, Ева, Хам, Ной, Мафусаил, Тимофей, Махатма, Саид, Чувак, Ким, Ли, Кентукки, Иона, Митрич, Фока, Леонид, Варвара, Варвар, Виола, Клест, Клейст, Манька, Савл, Калигула, Панкрат, Гонкуры, Дионис, Душка, Минерва, Валентин, Валентина, Алонс, Герман, Бык, Элизабет, Пит, Трумэн, Жизель, Петр Ильич, Мавр, Кат, Антон Палыч, дядя Гена, Илья Ильич, Алесандр Сергеевич, Тотлебен, Того, Милорадович, Римский, Сергей Романович, Игорь Федорович, Август, Аристофан, Феликс, Климкин, Фон-Эссен, Крыжевич, Евгения-Юлия, Аврора, Дмитрий Борисович, Семен Семенович, Арктур, Полина Ивановна, Ломоносов, Хаслет, Рита, Марина, Фефелов, Сопатов, Улитин, Игорь, Петров, профессор, Волокушин, Гриша, Алешенька, Розмыслов, Павел Петрович, Жаботинский, Буриданов, Затеев, Сотеев, Либерман, Гоша, Дятел, Жанна, Глисман, Чулков, Фофан, Нянина, Зоя, Глинин, Мао Цзэдун, Сережа, Гренкин, Зарезов старший, Зарезов младший, Ляля, Борис, Гракх, Паклин подранок, Пепа, Костырев, Граф и Козлик, Найда, Анастасия, Геринг, Матюша Керенский, Петрушка, Маленков, Ситя, Кот, Захар, Иосиф, Марк, Лоэнгрин, Дафнис, Эвфей, Эскулап, Палисандр, Плохиш, Паркер, Володя, Лейба, Никита, Василиск, Дональд, Зеленый, Венера, Барак, Каравай, Ватрушка, Отар, Феликс, Вахтанг, Звездочет, Евгений Иванович, Сальвадор, Мельник, Сахара, майор Ковалев, и, как положено, приняли его в свой стан.
38. Цицель. Алешенька
Грустный драматург, развеселый Эрдман Н. Р., однофамилец Эрдмана Ю. К., когда маленькая девочка испугалась его собак, сказал, – Не нужно бояться, они – такие же люди. Грустным развеселый Эрдман Н. Р. был как раз по причине обожания собачек. Так их любил, что и вообразить невозможно. Собачки же, не умея распорядиться огромным своим благородством, то и дело погибали.
Боковские джульбарсы и шарики отличаются тем, что никогда не умирают. В связи с этим их так и называют боковские бессмертные собачки.
Все попытки бороться с удивительным явлением заканчивались для живодеров трагически. Василия Подопригора во время отлова убило током, Константин Калитов и Тимофей Вафлин сгорели от водки, Игнатия Желвакова переехал трамвай. Даже чумазый грузовичок городских охотников по прозвищу Блоха, самопроизвольно завелся однажды и, в отсутствие водителя, рухнул с моста в мутные воды Стечки, главной реки Бокова, впадающей в Нюшу, через Нюшу – в Лылу, а уже через Лылу прямиком в Северный Ледовитый Океан. После трагической гибели Желвакова рейды собачников в Бокове прекратились. Бродячие псы в одночасье сделались предметом внимания и заботы. Теперь редкий боковчанин выходит из дома без лакомств для обретенных питомцев. Горожане приглашают бессмертных на прогулки, городские праздники, домашние торжества, охотно доверяют им своих детей. Известны попытки усыновления и удочерения, но боковские собачки, имея независимый характер, предпочитают вольную жизнь.
Родился бы Эрдман Н. Р. в Бокове, смотришь, и не почил бы в расцвете сил и таланта. А, может статься, и до сих пор жил бы – город славится долгожителями.
Первым Алешеньку обнаружил Козлик. Друзья Граф, Серый, Лис и Найда – тут как тут. Я бы еще присовокупил в компанию Малышку, но она в это время спит крепко, лучше не тревожить.
– Видишь, видишь, лежит, небольшенький лежит, от порожка бежал, торопился, упал, очень низко упал, кто-то прятался, прятал, большой человек, не хороший, не злой, пахнет кожей, и дым, прятал, прятался, вот лежит не ударился, снег, все же снег, припорошен, лежит небольшенький такой, мелковат, мелковат, ни на что не похож, не ребенок хотя б, не ребенок, но кто? вот лежит небольшенький, замерзнет совсем, вот замерзнет совсем и умре, и умре…
Алешенька свернулся калачиком, спит. Холода не чувствует.
Гуманоиды холода не чувствуют, но собаки этого не знают, жалеют его.
– Цицель. – Что, Цицель? – Соломон Цицель, вылитый Матвей Цицель. Сыночек его никак. Никак его сыночек, с’ыночка, с’ына. – А ты посчитал? Пальчики-то посчитал? На ручках и ножках посчитал? – Так я и у Цицеля не считал. – Вот же ж. – С высоты, знать, грохнулся. – Стратонавт. – Смеяться некому и не над чем. – Прощения просим. Кто? – Что? – Кто просит? – Цицелю, например, не до смеха. Замерзнет совсем и умре. – Кто Цицель? – Сыночек его. – Нет у Цицеля детей. – А это кто? – Не знаю. – Упал с высоты. – С высоты так не падают. – Все равно. – Лично мне, нет, не все равно. У меня и акробат знакомый имеется. Так, к слову. – Акробат – не скалолаз. – Это с какой стороны посмотреть. Можно даже из дома не выходить. Сидеть на табурете, на кухне, преимущественно на кухне, и не выходить никуда. Было бы желание. – Уж это как повелось. – Кто?.. Кто да кто? – Уж во всяком случае не Цицель. – Хочешь сказать, акробат? – При чем здесь акробат? Акробата я просто так вспомнил. Безотносительно. – Случайная мысль. Бывает. – Вот интересно, кто в нас эти мысли вкладывает? – Точно. Догнать бы мерзавца, да в глаза ему заглянуть – Это если найдешь. – Что? – Глаза. – А что, трудно найти? – Если не сказать больше. – А что ольше? – Невозможно. – Ну, это ты загнул. – Нисколько. – Несколько. – Что? – Несколько мне больше по нраву, чем, нежели нисколько. – Точно знаешь, что без глаз? – Предполагаю. – Зачем, тогда? – Оживляет. – В бумагу бы завернуть. – Да разве он селедка? – Не селедка, а завернуть следует. – В бумагу или целлофан? – В целлофане задохнется. – Это как завернуть. – Все равно. Пурга такая. Пурга, буран. – Надоело всё. Когда уже кончится? – Что? – Всё. – Это уж ты хватил. – Хватил, прихватил. – Была, больше не будет. – Откуда знаешь? – Кости не ломит. Косточки больше не ломит. – Еще фрагмент. – Сам в небо пялься, умник. – Бросили. Выбросили. Прямо в окошко и выбросили. – Кого? – Цицеля. – Да не Цицель это, говорю же. – А внешне вылитый Цицель. – Не Цицель. – А пусть будет. – А коль пусть будет, Цицелю и отнесем. – Обратно выбросит. Он такой. – Тебе-то откуда знать? – Чувствую. – Да, Цицелю пальца в рот не клади. – Бесплодие – его беда. Он потому и один. Всегда один, бедняга. – А клиенты? – И те одиночки. Всё до фрагментов распалось. И небо в перистых облаках. – Кучевых. – Перистых, говорю, я подсмотрел. – Да нет, ходят к нему. – К кому? – К Цицелю. – Кто? – Всякие ходят. – Ни разу не видел. – Прошу со Стравинским не путать. – О Стравинском речь не идет. Пока. – Сомкнуто живет. – Кто? – Оба. – О Стравинском пока ни слова. – Договорились. Совсем сомкнулся. Я о Цицеле. Потому и детей нет. – В сомкнутом состоянии с детьми беда. – Был один, и того в окошко выбросил. – Кого? – Да вот он лежит. – Правда, что ли? – Не знаю. – А не знаешь, так молчи. Пошел бы лучше бумагу поискал. – Зачем? – Мальца завернуть. – Думаешь, завернуть? – Думаю, без этого не обойтись. – В бумаге быстрее замерзнет. Снегом припорошить и дело с концом. – Снег и сам припорошит. И без нас припорошит. Снег свое дело знает. В жилище бы его доставить. – Ну, это уж совсем глупость. Его из жилища наладили, а ты его снова в жилище. Что же он, скалолаз, что ли? – И правда. Что же это будет? Так и будут швырять, пока ручки-ножки не отвалятся. – И голова. – В особенности голова. – Разве голову в отдельности завернуть? – Голова позже всего мерзнет. – Да он живой ли? – Живой, живой. Видишь, жужжит. – Жужжит? – Еще как. – Жужжит, жужжит, не сомневайтесь. – Вот как жужжать перестанет – тогда всё. Отошел. Тогда будем считать, отошел. Отмаялся. – А, может, так оно и лучше. – Нет, когда бы так лучше было, нам бы его не показали. – Случайность. – Не бывает случайностей, разве не знаешь? – Философия. – Практика. – Практическая философия. – Еще в прошлом декабре. Нет, погоди, в позапрошлом. Точно, в позапрошлом. – Что, в позапрошлом? – Декабре. – Что, в декабре? – Да уж теперь не вспомню. – Противный звук. – Какой? – Жужжание это. Точно шмель. Или шершень. – А я ничего не слышу. – А ты всегда туг на ухо был. – Не скажи. – Перекусить бы. – Оно и мальцу не мешало бы. – Ему-то зачем, когда он спит, пузыри пускает. – Пускает? – Пускает. Пузыри да ветры. – Резвый мальчонка. – Куда как резвый. А нам бы не помешало. Пойти, поискать, что ли? – Давай с находкой определяться, а потом уже пообедаем. – Отобедаем. – Или отобедаем. – Снегом припорошить, и дело с концом. Снежком. – Снег и без нас припорошит. – Опять за свое. – Цицелю не понесем. – Решено. – А сколько у Цицеля пальцев, я не расслышал? – А сколько у фармацевта может быть пальцев? – Не знаю. – Вот и я не знаю. – Найдутся и такие. – Кто? – Кто посчитает. – Фрагменты, фрагменты. – А тебе целостности хочется? Ложись и пялься в небо. – А, вдруг, совпадение? – Совпадений не бывает. – Философия. – Практика. – Практическая философия. – По кругу пошли. – И я о том же. – Хотя бы свистнул кто или телеграмму дал. – Откуда? – Ну, не из Женевы же. – Хороший город Женева. – Дымный. – А вот дыма не чую. – Вспомнил. – Что? – Где у Цицеля аптечка. Про дымок заговорили, я тут же и вспомнил. – И где? – Около психушки. В том же доме. Справа. Психушка – слева, аптечка справа. – Так они и строят. – С умом, надо сказать. С умом строят, надо сказать. – Не столько за лекарствами, как поболтать собираются. – Где? – Да в аптеке же. – Болтуны какие-то. – Точно. – К аптечке унести, а там пусть разбираются. – Цицель, опять же, на месте. – Не факт. – Факт, не факт. Нет, так позже придет. – Зачем? – Откуда мне знать? – Не вопрос. Фармация. Фармацевтика. Фарма. – На ферме сытно. – Кому что, а тебе бы только пожрать. – Хорошо, хоть в Стечку не бросили. Могли и в Стечку бросить. – Запросто. – Кто? – Да хоть кто. – Ужасы какие-то. – Скажешь, так не бывает? – Опять же, психушка рядом. Если что – заберут. – Кого? Цицеля? – Если понадобится и Цицеля заберут. Всех заберут, если понадобится. – Цицель интереса не представляет. – Это почему же? – Уж давно забрали бы, когда бы интерес представлял. – Инопланетянин. Гуманоид. – Кто? – Цицель. – Почему? – Фамилия такая. – Выходит, Цицели – гуманоиды? – А кто же? – Это многое объясняет. – Может и фамилия, а может еще что. – А что еще? – Цицель. – Цицель, Цицель. Что за Цицель? – Представления не имею. – Уверен, что фармацевт. – Кто еще? – Не знаю. – Уж если ты не знаешь, никто не знает. – Сам Цицель знает. Наверняка. – Не факт. Цицель и Цицель. – Как это? – Просто Цицель. Имеет право. Или… Или что? Или кто? – Вот эти вопросы нас и губят. И погубят. Кто, да что, да почему? Проще жить надобно, проще. Солнышку радоваться. Даже Цицелю какому-нибудь радоваться. Мальчуган нашелся – прекрасно. Голова болит – и то замечательно. Болит – значит, на месте. – В такой мороз лягушку, например, возьми за лапку – лапка сломается. Возьмись за другую – и та сломается. – Гасконец все спешит куда-то, торопится. Куда спешит? – Опоздать боится. – А можно опоздать? Можно ли вообще опоздать? – Нет. – То-то и оно. – Иллюзии. – Иллюзии, иллюзии. – Иллюзии, мельницы, вода, рябь. – Это ты верно подметил. Простые числа. – Стараюсь все примечать. – А зачем? – Не знаю. – Те же цифры. Бессмыслица. – Согласен. Но манит, влечет, привлекает. – Забудь. – Хорошо. Как только в следующий раз поманит, сразу Джордано вспоминай. – Которого? – Бруно. Как рукой снимет. – А Перельман? – Забудь. Примета времени, не больше. – Не скажи. – Не буду. – Не помню, далеко аптека-то? – Там же, где психушка. Справа – аптека, а слева, как раз психушка. – А психушка где? – Психушка слева. – Далеко путь держать, спрашиваю? – А ты что не был там? – Никогда. – А мы разве без тебя ходили по картошечку с салом? – Они на сале готовят? – Исключительно на сале. – Ой, хорошо. До чего же хорошо. – Чего ждем-то? Срочно надо выдвигаться. – Из-за сала? – Лягушонок мерзнет. – Так это лягушонок? Все же лягушонок? Я, почему-то так сразу и подумал. – Картошку меньше уважаю. Можно сказать, совсем не уважаю. – Яблочко от яблоньки недалеко падает. – Ты о ком? – Так о Цицеле. Родятся же такие? – Кто? – Цицели. – Да, их немало. Кажется, что мало, а на самом деле немало. – Вымираем потихоньку. – Еще долго. – Думаешь? – Аптека – планетарий. Целая карусель. Склянки, трубочки, цветное всё. Люблю. – Ты, что же, цвета различаешь? – Конечно. Летом особенно. – Давно бы уже на ферме сховались. – Ходим, всё ходим. Зачем? – Просто так ходим. – Как Цицели. – Неправда. Со смыслом ходим. – По кругу. – Случается, и повдоль. – Зачем? – Просто так. – Просто так не бывает. – Бывает. Мало того – в основном так и ходим. – Главным образом. – А там и война, глядишь. – Не будет войны. – Точно знаешь? – Точно. – Все же высшие достижения – дирижабли. – Ты забыл поезда. – Поезда – да. Да. Поезда. Хотел бы я сесть на поезд и умчать куда-нибудь подальше от этих мест. – Почему? – Сам не знаю. – А на дирижабле хотел бы умчать куда-нибудь подальше от этих мест? – Нет. На дирижабле боязно. Да и ответственность большая. – Сдается мне, они крепко связаны между собой, поезда и дирижабли. – Переговариваются, думаешь? – Перемигиваются, сигналы подают. Флажками или свистками. – Мне кажется, у дирижабля свистка нет. – У поезда есть. – У поезда гудок. – А гудок разве не свисток? – Свисток у чайника. – Любовь. – Что, любовь? – Ничего. Просто так, вспомнилось. – Или шеи куриные. – Опять ты за свое?
Граф осторожно взял в зубы Алешеньку и друзья потрусили в сторону психиатрической больницы.
39. Львица. Мечта
тостуй несвобода без прелести выпей
от мира сего не от мира сего
усни и проснувшись из прелести выпей
восторга вкушая восторг помяни
прощай нетерпение мясо на лапах
свобода прощай несвобода прости
ударит хвостом и ложится на лапы
львица бездонная львица мечта
покой улыбается ил беспристрастен
шерсть беспристрастна охота мертва
охота мертва в головах на подушке
на ночь на лето на тысячу лет
львица бессонная холод и зной
утоплен в зрачке полыхает покой
лежит обесточен прости несвобода
дыханье твое пахнет илом и вой
уколет вино и на кончике пальца
каплей остынет заноза и зной
упокоение Упанишады
усекновение раны сквозной
тостуй несвобода впотьмах разливая
прелесть желание сливки греха
невеста бездонная исчезновение
когти и пыль пустоты и труда
во рту подержи посмакуй несвободу
свобод опрокинь оживляет стакан
кровью искрит успокойся и выпей
боли не будет уже никогда
40. Сторож и человек-оркестр
Повадился человек-оркестр окна бить. Уж и сам не рад, а остановиться не может. Оконных дел сторож ему и говорит. – Прыгни, да и дело с концом.
Э-э, – думает человек-оркестр. – Прыгну, тут ты меня и подметешь. В таком деле спешить нельзя. А пойду-ка я наперед с кошечкой-недотрогой посоветуюсь.
А у самого пакость в голове вертится, зреет. Без затей проказник никак не обходится.
А кошечка-недотрога, следует заметить, к тому времени усы, хвост да лапки поменяла. Не в первый раз, так что теперь, как говорится, на воду дует.
Человек-оркестр, хитрый, бестия, к ней с молочком. Ему невдомек, что голубушка уже и на воду дует. А рассуждает егоза следующим образом, – Порадую кошечку, она от молочка-то разомлеет, тут я ей в ушко дудочку и суну.
Оно, может быть, и хулиганство, но музыкальное. Потому и обходится чаще всего без головомойки. Хотя пострадавших уже немало: и дятел-кофейник, и увалень древесный, многодетное семейство лизунов гладкоголовых… всех не упомнишь.
– Когда желудок полон, да с дудочкой в голове, оно и за рыбкой уследишь завсегда.
Рассуждает так-то, мысленно сам себе аплодирует, колесом ходит, про метлу уже забыл.
Игрун, конечно, но в сущности человек неплохой, цельный.
– Доброго здоровья, кошечка, – говорит. – С тем тебе и гостинец, и просьба, рука руку моет.
– За здоровье благодарствуйте, – отвечает кошечка, – но в долг не даю, так как материальным больше не интересуюсь, страдала многократно, да и пустое все это. А молоко сам пей, если пенки тебе не противны.
– Вижу, у тебя усы новые? Хорошие усы, новые.
– Не только усы. Я вся преобразилась. Удивляюсь, как это ты меня узнал. Немного расстроилась даже.
– Какая-то беспокойство затевается. Давеча пожарные подрались, женщины вышли с полотенцами. Сторож по окнам шастает. Не слыхала?
– Схоронись на время.
– Подскажи как? Душа-то играет. Громко.
– Уж тут что-то одно.
– Играет, поет. Я же ей не прикажу. Я вот что думаю, может быть, беруши вставить?
– Все равно подметут, даже не сомневайся.
– Сарказм и строгость. Вот что назвал бы я в первую очередь, когда меня попросили бы охарактеризовать кошачье племя.
– Торопишься. Обидно.
– Так это же в сердцах.
– Обмануть хотел? Ну, что же, давай свое молоко, готовь дудочку.
– Клюнула, что ли? Не может быть. Слишком умна. Задумала что-то. Про дудочку я тебе ничего не говорил.
– А зачем говорить, когда она у тебя изо всех щелей торчит?
– Что, в самом деле, готова моего молочка отведать? Но почему, скажи? Сгорю от любопытства.
– Откровенный разговор предлагаешь?
– Предлагаю.
– Ну, что же? Откровенность за откровенность. Люблю впечатление произвести. Это выше меня.
– Вижу, здесь что-то не так.
– Давай-давай свое молочко. Горячее?
– Уж как повелось. Кипяток. Так что пенка еще не образовалась.
Человек-оркестр протягивает кошечке бидон. Кошечка открывает крышку, тянется к молочку, но останавливается, – Только ты сначала прыгни.
– Как это? О том речи не было. Точнее, разговор был, но не с тобой.
– А какая разница?
– Ловушка. Так я и знал… Погоди-ка, да ты кошечка ли? Я к кошечке-недотроге шел. А ты кто?
– Еще не решила. Может быть, мур, может, сентябрь, а, может быть, Макаренко. Но не март – точно. Заводи свою волынку, горе луковое.
– Что, опять «Времена года»?
– Все лучше, чем окна бить.
– Это как посмотреть.
Мораль.
Не всяк тот кошечка, что на окошке греется.
Часть вторая
Largo Tempo Giosto
Сказал: и то суета, и это.
Приходится признать, сколь долго бы не болел, как бы ни готовился, когда приходит смерть, ожидаемой радости не наступает. Возвышенного, торжественного чувства сродни вдохновению, того чувства, что всякий раз охватывает тебя при встрече с прекрасным, не наблюдается. Напротив, имеет место некоторая растерянность и недоумение. Озноб немного, легкое покалывание в конечностях, мелькание мушек перед глазами, небольшая слабость, испарина немного, позывы к мочеиспусканию. Спазмы совести и ложные воспоминания. Запах побелки и приставшая ватка. Как при взлете взлета космического корабля, дирижабля или поезда. Хочется пожаловаться или попросить.
Пунктир. На дне молитвы.
Погода такая: зима. Там зима и здесь, оказалось, зима. Вот объявил, теперь открываю дневник. Первые дни вел дневник. Теперь вредное это занятие забросил за вопиющей бесполезностью. А прежде заполнял исправно. От смятения и полного отсутствия впечатлений долго не мог сообразить, кто я. Гадал. Канцелярский работник? Может быть, служащий почтового отделения? Почтальон? Что-то в этом роде вертелось в голове. Первоначально такие фантазии посещали. Или синоптик. По первым строчкам – натуралист. Рассуждал так: если утром объявят построение – скорее всего военный. Но вот что такое утро?
Далекий путешественник.
Открываю ежедневник, читаю.
Погода такая: зима. Там зима и здесь зима. Зима. Там, где зима. Там где я – зима. Там где зима – и я. И там зима, и здесь зима. Разница в один такт. Повсеместно.
Дневник нотный. Так что, скорее всего, писал музыкант. Вероятно валторнист. Почему? Вопросов много. Ответы часто невпопад. Вот вспомнил – из оркестрантов всегда выделял исполнителя на треугольнике. Всегда восхищался литаврами и керогазом. Еще был примус. Примус помню отчетливо. Голубые язычки. Волшебство. Зима. Голубые язычки. Домочадцы. Соседи. Терпкие. Чуть слышно. Жизнь возвращается. На потолке проступают разводы. К мерзлому окну липнет детская ладошка и нос.
Болит правое ухо. Сходить к оториноларингологу. Ура.
Из вышеизложенного заключаю: ни выводов, ни смыслов не существует как в моем конкретном случае, так и во всем обозримом и необозримом казначействе.
Далекое путешествие.
Наблюдение вверх дном. Чаепитие во чреве кита; сопровождение слоновой черепахи; путешествие вокруг и около; вояжи визиониста; гигантские шаги; вскрытие часов; отвлекающие маневры; бракосочетание; подсматривание, рассматривание; зов оркестровой ямы, душа летит стремглав за первым звуком; токовище; струнные посиделки; манеж; бегство из Египта; распад и полураспад; тление мечты; путешествие по лабиринту Reignac-sur-Indre, 10-тиакровя головоломка; путешествие по лабиринту «отпечаток»; Брусиловский прорыв, «работа для других, а не для нас»14; вековые кольца; снятие опалубки; погоня за кроликом; Китайская военная железная дорога; Великая китайская стена; умножение; протирание жалюзи; очередь в аптеке с обсуждением паркинсонизма; сам паркинсонизм; мерцание марионеток; лежбище морских львов; перемигивание лампочек, все равно каких; инициация; торги; трущоб; склонов; ритуалы; виноградные улитки, ам и побежал дальше; дальше, дальше; следствие; следование; следование за указкой; следствие и его псы; разоблачение; унижение; порка сама; роптание; щупальца кальмара; птичий рынок; приди, приди; блошиный рынок; Арктика; кровотечение; Антарктика; блуждание ума: кривая; блуд; вальпургиева ночь; канат, земное тяготение; лишения; варфоломеевская ночь; цветастые кошмары Каина; прелесть; трапеза; разоблачение; раздевание; бражка, брашно наше; брожение само; пустыня Гоби; пустыня Меланхолия и прочие горячки; пустые хлопоты; беседа с лодочником; путь шелка; ночное; круги и вихри; завихрения; шорох платьев; шепот шелковых волос; чужие заводи; бега; зияние надежды; брожение болот; выпрямление гвоздя; колоратурное сопрано; вытравливание; нагота иллюзий; вожжи; путешествие к центру земли; заикание; настройка рояля; извлечение занозы; ужин с землекопом; крюки и цепи; лузга; ласки и лакание; макание печенья; мигание; пятнашки – догоняшки, пуля в затылок; летоисчисление; Потоп; невероятно сложная шарада, скажем, путешествие друида; дрессура насекомых; лисьи тропы; листья кокки; роды дрожи; любовное лакомство; гул гениталий; резвость жал; ревность жил; трезвость; рвота; душ Шарко; причуды Балинского, причуды барона, догадываетесь, о ком речь? лавочка в Помпее, укромный уголок; танцульки; скольжение мыла; любовная переписка; верблюды; душная казнь; поход 2-й Тихоокеанской эскадры адмирала Рожественского; второй том «Мертвых душ»; конькобежец; скалолаз; Его Величество Тысячелетний Рейх; ночь перед Рождеством; анатомия и патологоанатомия; кусочек сыра; дыхательное горло; витиеватый дух жасмина; мароны; гуингмы; томление Пенелопы; традиция и ее сыновья, пунцовые олимпийцы с бычьими шеями; зурна; зуд реинкарнации; треск забвения; несварение; ловец возможностей, ловец воздушный; гримасы горечь; терпение воды; воздуховоды; густые хляби; ступай за шлангом, дом выгорел до серебра, там выключатель; рвота; радиоволны; вольтова дуга; под ручку с обезьяной; волчий след, капкан не тронут; стояние на коленях; зубная боль; клыки как бритвы; дыхание Чейна – Стокса; сопатка; модуляции; ложбинки, кружева и грот; ракообразно; ступор; тлен; небесный порт Каир истерт до дыр; архив; тяжелый мост над пылью; желе безвременья; вперед, жужжалки; гор; оврагов; пейзажей смутных; облака и водопады; сумерек; сачок, небесный гад; лик голоден; тень медленно спускается, манит; молитва; молоко.
Как избавленье – фейерверк и смерть.
Главное достоинство посмертного положения – полное отсутствие ревности и честолюбия. Ныне и впредь свободно, без оглядки и сколь угодно могу называть себя гением. Или идиотом. Или кромешным идиотом. Слово «кромешный» ключевое. Кромешный гений, например. Согласитесь, много внушительнее просто гения. Чулан, своего рода. Не велико достижение. Как посмотреть. Отчего же невелико? Величие – это как заикание или горб. По крайней мере, надолго. Во всяком случае, до следующего полета или Пасхи. Сантонина и латынь. Можно и так сказать. Впрочем, пока зима. Пожалуй, навсегда. Государство, казначейство, Одиссей, изнанка. Пожалуй, навсегда. Можно и так сказать. Изнанка. Осенью – узелки, петельки, жуки, ложечки, рытвины, оспинки, плевочки, ложечки, иная посуда, пальцы, муравьи, соль в упаковках, раскисшие упаковки, рванье, рванина, мешанина, смеси, сода, клочья, соль, просыпанная соль, бертолетова соль, искусственный глаз, очень, очень, ложечки, всегда тут как тут, стоит домового попросить, пеньки от капусты, грязные вилк’и, брак, головы героев, брак, флакончики, флакончики из-под лекарств; флакончики из-под уксуса, этикетки, еще флакончики, спички, коробки спичек, дерьмо, птичье дерьмо, собачье дерьмо, метроном, часослов, чесуча, чечевичный суп, сосед, позволите войти.
И зимой?
Сказано: зима.
Пробел.
А давай, еще понаблюдаем. Теперь неспешно. Не прилагая усилий. Не запрокидывая головы. Дабы восторга не пропустить. Пусть первородный грех или что-нибудь в этом роде. Не голоден, не восторжен, увалень, слепец, ленивец. Так, кое-какие знаки, знания. Не сказать, чтобы очень. Безмятежность. Свежее белье. Покойный сон без сновидений и судорог. Перед явлением чуда покой требуется. Чуда, разумеется, никакого не будет, но приготовиться нужно. Одноместная палата. Звенящая тишина. Скрип холодного пола, деревянного пола. Доски рассыхаются. Пол ледяной. Предвкушение снега. А что еще о зиме мы знаем? Так, некоторые знания, знаки. Морковка. Диссонанс. Что-нибудь еще, кроме снеговика, умоляю. Нет. Саван. Грубо. Зев. Зима. Пробел. Пусть пробелом покуда остается. Там видно будет. Или не будет.
Как описать движение, его отсутствие от мерцания сигареты до последнего прощай? Можно сказать очень просто и доходчиво. Что-нибудь типа осень славно потрудилась. Или зима славно потрудилась. Вечные времена года. Заданность. Обреченность. Коридоры-тупики. Окна без стекол. Астролябия. Хляби да веси.
Шествие.
Не надоело шествовать? Не надоело шествовать? Не надоело шествовать? шествия устраивать? Впрочем, жесты тоже допускаются. Жестом пути не накликать. Колумб всю дорогу болел. И ром не помогал. Америку в бреду открыл, можно сказать. А когда пустыня снежная? Тут уже Амундсен пригодился бы. Пуще прежнего. А болота, а зыбучие пески? Путешественников и мореплавателей удел. Или героический Иван Сусанин. Ау. Ягоды, змеи. Когда это было? Осенью или зимой? Ягоды, змеи – осень? Особенно одна юркая. Наблюдала, не жалила. Кто знает? Змей боюсь. Наблюдала. А кто их не боится? Носители судьбы. Знаменосцы. Змееносцы. Тут щуп нужен или доверие. Вот с доверием, как правило, проблемы.
Собраться, рассортировать, причесать, прибраться, упорядочить. Попытаться упорядочить. Пробор. Фибровый чемодан. Барабан.
В тот четверг Далекий путешественник взял с собой далеко не всё. Что же положил Далекий путешественник в свой фибровый чемодан? Барабан, бритвенный набор; бумажный воротничок; чак-чак; татарскую же тюбетейку красную; носовой платок; зубочистку; помочи; пинцет; лупу; соломинку для коктейля; китайские палочки; языкодержатель, кощунствуем иногда, чего греха таить; закладку для книг; плитку шоколада, черного рома так и не попробовал, не решился, трусоват; карманную пепельницу; метроном; кроличью лапку; нефритовую лягушку, чтобы хвастаться, маленькую, скорее всего лягушонок, но глазенки навыкат, умные; походный стаканчик изящный; указку; свою фотографию на водах; штопор; шалфей для полосканий; гипсовых собачек обязательно; елочный шар с дымком внутри; дневной фонарик; часы с крышкой, с инкрустацией; очки; пару запасных очков; дамский пистолет; пластырь; набор емкостей для масла и уксуса с маслом и уксусом соответственно; мышеловку; мышиный хвостик; игрушку «мужик и медведь», сидят на качелях, дружат, возможно, вместе выпивают; белую бабочку; черную бабочку; для Набокова бабочку мертвая голова, размах крыльев до 13 сантиметров, дивную; бочонок из лото; дырокол; янтарные четки, память о Канте; кости; деревянные счеты; молочный зуб, память о маме; фотографию на паспорт; жгут; пустой бумажник; деньги, в надежде, что не понадобятся – несколько монет просто полюбоваться; походный футляр; шелковую кисточку; жидкость для выведения мозолей; циркуль; ночной фонарик; дирижерскую палочку; складной пюпитр; молитвослов; иконку с изображением Николая Угодника, молимся иногда; секундомер; театральный бинокль; ленточки для подарков; миниатюру «жук-трубач»; заколку для галстука; розетку; штрих; шприц; партитуру одна, так, ничего особенного, черновик, пометки; пару стихотворений на манжетах, так, ничего особенного, черновик, пометки: фонендоскоп; вафельное полотенце; ластик; подстаканник с изображением паровоза; два кусочка сахара; зубной порошок; тюбик ваксы; сувенир «краденая голова Гоголя»; щеколду; махровое полотенце; духи; бархотку; немного кнопок; тапочки; немного скрепок; канцелярский нож; папье-маше; ножнички маникюрные; смену белья; золотистую прядь себя маленького, чтобы хвастаться; секционный нож; лоток; моток медной проволоки тонкой; катушку; коробочку искусственного смеха; миниатюрный портрет Баха и сыновей; плоскую фляжку с коньяком, черного рома так и не попробовал, не решился; кормушку для снегирей; миниатюру «спящий снегирь»; этрусское мыло; мочалку; колоду карт; еще колоду неприличных карт; волан; таблетки от головной боли; таблетки от бессонницы; лампочку; лыко.
Ну-ну. В добрый путь.
Для Игоря Федоровича и Ивана Ильича это самое «в добрый путь» – путеводное приветствие, дежурная фраза, не больше, не меньше. А вот для Сергея Романовича – тик, заикание своего рода. Интересно, не случается ли у него припадков падучей? Всё может быть при таком образе жизни и склонности к стихосложению.
Как говорится, в добрый путь.
Голову поберечь.
Сосчитать по головам, разве? Как всегда. В очередной раз. Привычка. Наваждение. Головы менее всего интересны. Вот уж где однообразие. Бритые, косматые, рыжие, пегие, с залысинами, мятые, мытые, в виде яйца, в виде чижа, в виде ежа, да, а, в сущности – одинаковые. Ибо нас, в большинстве, привлекает объем, трехмерное пространство, самое примитивное из пространств. Женщина, например.
Всё, забудьте. Сугробы.
Проникать звук или мгновение. Капля. В капле. Иллюзия, иллюзорно. Как? С таким-то мешком неприятностей. Еще семья, друзья, доброжелатели, недоброжелатели, опыт, будь он неладен. Впечатления, куда? Та рощица, эта. Равель, мечты, мечты, руки, альбомы, снимки, черновики, альбомы, радуга, радуга к вечеру, вишневый поцелуй, фигурка матери, влажный, нежный, удаляющаяся фигурка мамы. Акварель. Водица. До бесконечности. Что это, дно? Неловкая, родная. Детская, купель, батюшка. Полотно. Даже когда невмоготу, даже если навзничь, даже когда побежден. Одноклассник или болезнь. Или волки задрали. А прежде и такое случалось. Глаза умные. Кровохарканье. Такие чащи. Русалки.
Помню, помню, как по грибочки ходил. Кочки, медвежата, ягода брусника. Волчья ягода, опять же. Белена восхитительная, скромница. Что-то из Куприна. Гранат тоже волнует, не скрою, но белена. Старушечья одежка. Сладкая смерть.
Женщины на снимках со временем бледнеют. Все остальное, мужчины, беседки, трава желтеет. Собаки желтеют, я бы сказал, рыжеют. Сепия. Называется «сепия». А женщины бледнеют. И глаза пропадают. Имена пропадают. Бестелесны. А мне, чтобы этакое, чтобы прямо в звук? в мятную его сердцевину? Как? Каким образом? Нет, разумеется. Бумазея. И жизни мало. И двух жизней, пожалуй. В красной рубашечке. Сапоги пегие. Если в таком качестве употребить. Сплошь победители. Победитель.
Это за вами, Алексей Максимович, во снах гонялись. За мной не гонялись. Уж если кто и гонялся, так гончие псы. Не созвездие, умоляю. Оставьте звезды звездам. Рыдать и плакать. Вольное обращение. Слезы – спасение, наверное. Слезы, думаю, жизнь продлевают. Шоссе, канатная дорога, пустырь. Глупость. Фантастика, глупая, глупая. Научная. Ненаучная. Железный короб. С искрами. Духи Вселенной. Из подворотни. Из овощного магазина. Стакан томатного сока за десять копеек. Голова профессора Доуэля. Физики, глаза стеклянные. Ландау, Тамм. А вот Рихмана убило. Искры. Долго.
Думали, снегопад тишайший. Диссонанс. Крыша – решето. Мельницы беспамятства. Все условия. Всё же понятно. Потому грустно. Всегда. Тогда космонавты прекрасными были. Первые космонавты – просто красавцы. Шевелюра, васильковые глаза. Кассиопея. По щелчку пальцев. Из пелены. Измены, голоса из пелены. Соблазн подростку. Аж дух захватывает. Кожа толстая, лопается, а силенок нет. Силенок-то и нет. Выдержать весь этот натиск. Самое кошмар. Чуть что – сразу в слезы. На чем штаны держатся? На помочах, лямках. Вот, вот, суицид в каждой ванной. Прошло. Проехали.
Не хочу здесь. Темно и страшно. Цаца. Це-це. О мухах лучше не вспоминать. Хотя Цокотуха, по большому счету, легендарная личность. Желаете преклонных лет? Топтания с клюкой? Грибочков? Будут тебе грибочки, можешь не сомневаться. Только что ты с ними делать будешь? Грубо. А желания опасны. Мечты сбываются. Уж сколькими говорено. Хорошо бы вспомнить хотя бы ее лицо, хотя бы ее глаза. Хотя бы вспомнить. Хотя бы. Если остаться подростком, не взрослеть. Таксой. Извольте. Только. Имейте в виду, будьте готовы. Всегда готов! Эх! Все эти обиды, нетерпение мести, сорные слова. Кожа нечистая. Воронка. Пемза. Кланяйся, кланяйся. Что, не научили? Ногти стричь надобно. Искривление пространства. Говорят – да, если свернуть, как лист бумаги. Черная дыра. Папиросная бумага. Мешок со звездами.
Теперь Рождество. Рождество, однако. Рождество? По Григорианскому календарю. Или уже прошло. Не важно. Около. Рядом. Но этого недостаточно. Явно недостаточно. Растерянность, скрывать не стану. Опухоль. Светится. Такая кожа. Каждая венка на виду. Как ее звали? Как ее зовут? Ни за что не вспомню. Пытался уже. Зачем? Нет, нет. Чтобы верить в эти сказки? Увольте. Увольте. Саван. Шары. Всю дорогу говорили о каком-то саване. Где? Свернуться в кулек – другое дело. Это знакомо. В кулек, в позу эмбриона. Гончие псы. Пуститься во все тяжкие, камня на камне не оставить. Флейта, барабан. Не забыл барабан? Нет. Славно. А проникнуть в каплю, в самое эхо проникнуть слабо? В звук ли.
действия не выходя из себя не отпуская себя на волю поднял руку и опустил предположим рука осталась неподвижной повисла в воздухе обернулся увидел себя улыбаюсь кажется улыбаюсь двойники семейка наверное много безымянных ни одного отпущен на свободу как сказать это словечко так и вертится на языке никуда не уйти хорошо облокотился о перила нет сил спускаться все тянет к реке может быть там меня нет так устал за все эти годы шутил поговорить с умным человеком чайки должны появиться чайки раз уж я их вспомнил зачем вспомнил орут весь вечер а бросил бросил к вашим ногам нет бросаю к вашим ногам жесты отчаяния хлыстик и перчатка упокой душу Константина Гавриловича так кажется уволен из университета нервно ждали чего-то не смотрите на меня так нас с вами больше нет прибой еще хочется прибоя пусть зима не у моря средняя полоса ковыль покой предполагает даром что зима нежности немного подошла обняла сзади дыхание ветер до раньше раньше нужно было до охоч до женщин охоч нет никогда так пусть вместе и замерзнуть превратиться в фонтан зимний зима стеклянные руки сосульки сколько же мне теперь лет уезжать не хотелось а то вдруг хотелось не думал что так покойно ш-ш тише осы кажется осы оболочки снег теплый снег мешанина кашица снежная хорошо закурил такое впечатление швырнул спичку такое впечатление бросаю к вашим ногам стеклярус снеговики добрый десяток лоснятся лежебоки закурить бы мальчишка малый малыш Алеша мальчишкой кажусь вам мальчишкой себе мальчишкой кажусь тоже точнее знаю точнее мечта мята утрачены зачем-нибудь нужен надеюсь по крайней мере пара человек вспомнит лед любовь коньки снегурочки рисовал пожалуйста с ума сходили ускользают лед тонкий троллейбус утонул сугроб где водитель где же из-под снега кажется проглядывает что-то светится свет проглядывает подрагивает останется ни за что не догадаться хруст валенок яблочки моченые намек думали просто зима ни за что не догадаться ледяное колесо карусель лакомство тепло жарко даже зима а тепло точно в мае май точно точно мушки точки круглыши спляши снежинки запонки кончерто гроссо зимний мастер чувственные чу м мгновения магия ледяной дом листать перелистывать просто перелистывать если можно пусть чистая пусть будет чистая тетрадь нотная разумеется чистая просто листать перелистывать как жизнь день за днем зачем не знаю может быть найду хоть что-нибудь кроме этих птичек до ре ми фа соль забыл ура как оказывается хорошо забыть все на свете надо бы спуститься к речке лед тонкий лед там народу должно быть меньше там петь можно все на песни тянет давайте давайте уже дышать дышать полной грудью грудью счастью своему не верите пересмешник Грум смешной человек не смешной не человек девушка звать Жизель
Анна, кажется, Анна.
Анна, Аннушка? кажется, Анна ее звали, точно, Анна, это уже из другого романа, женского, хлыстик и перчатка, полуночный поцелуй, женские романы в терновнике обожаете? в сирени, лилиями на пруду, ширмы с павлинами, вуаль, все такое, Анушка хорошая, хорошенькая, эклеры, немного полыни, светелка, все такое, Милочка, душка, свет, погасите свет, кто-нибудь, шепот, пусть будет шепот, безобидно, безобровый, фу, еще посвистывает, или напугать, немного, под одеялом, что там? луна, как всегда, кто там? мошенница, шлепать, пополам, да погасите же, секрет, секретик, былинка, кофточка, креп-жоржет, не прячь, все равно найду, расходился, усы нарисуй, егоза, вот моя ручка, вот моя ножка, поехали, поехали, ходики забыли, ленточки атласные, кудри золотые, часики, часики, паучок с письмом, чердак, ближе, еще ближе, подпол, ассорти, драже, пигалица, девчушка, дрянь, а Эльза – умница, из колодца напиться, Эльза – умница, слов нет, кудрявая, теперь по поводу кофе, дальновидная, мать, копоть, в подполе копоть, на чердаке копоть, в колодце водица, опять пупса мыла? этак он у тебя экземой пойдет, ну и как там, на море? волнует, заламывайте руки, волнуется, и знать не желаю, скоро, скоро Мавритания, как-то уж очень скоро, сюда бутылки, судьба, фатум, фата, против судьбы не попрешь, кто оспорит? атеисты? мы не атеисты, Бог миловал, себе оставил, а так трагедия грядет, а без трагедии как? белье реет, физическая красота, язвы, закат, восход, спорить, загадывать вы не станете, я не буду, вилами на воде, всякое такое, подобное, вещи, ошибки, роковые ошибки, сухожилия, ямочки, разглядели? сомнений, просьб, всякое такое, желаю – не желаю, всё, собирайте чемодан, капитан Кок, сколько всего, ни конца, ни края, хотя предчувствия были, не скрою, хотя тетушка упреждала, помнится, хотя сиротство на душе и дождик за окном, давно, еще задолго, давайте, давайте, крольчиха, тяните свою ручку, тяните ножку, скоротечно, ах, солнышко, и назавтра, лупа, смешные, какие смешные, умора, Аннушка, ты где спряталась? выбрит, посмотри, как он гладко выбрит, синева, эта синева, не может быть, он так сказал? краковяк, ты сама это слышала? с почтением, жучок спешит, хочет забраться, заползти, ах, так у него крылышки? а что это за жучок? как его звать? непременно укусит, в самом деле, крылышки? смотри, куда забрался, проказник, балетный, кто? они все со странностями, балетные, залетные, все до единого, им женщины не интересны, им серсо интересно, вразрез, разрез, так я тебе и сказала, она табак нюхает, тетушка ваша, усы у нее растут как у кота, а как еще от нее отделаться? как руки высвободить? никого, нет никого, ах, как кружится, юбочка? а что, юбочка? нет, ничего не слышала, в чем мать родила, обхохочешься, очень похоже, обхохочешься, пудра, коготки, царапки, затяжки, со странностями, прислуживать, а что? передничек, кружиться, кружиться, шесть жизней, это как минимум, наморщен нос, кокетка, слива, свобода, а вам как хочется? в старом платье хочется? в том желтом платье? ваш выбор, но не мой, немой, уж лучше немой, уж лучше яду, клюнул? клюнул, немножко, совсем чуть-чуть, такой петушок, какой крюк? капитан Кок, не путайте, какой капитан? не было такого капитана, да нет же, басовый ключ, вы меня разыгрываете, что, в самом деле, композитор? что за композитор? нет такого композитора, совсем не похож на композитора, какие воды? выйду, выйду, вырезка, мясо, филей, мясо, ну, это уже никуда не годится, вы куда меня привели? зачем? вы бы меня еще на казнь пригласили, оставьте эти кошмары для своих мышек, это не кухня, не рынок и не ресторация, и это не Ирландия, это – бойня, мой милый, я не умею наслаждаться этим, дорогой, Господи, да они же все мертвые, Ирландия, такая горная страна, с горцами, или без гор, не помню, не желаю ничего знать, буду умолять, знаю, пожалуйста, ну, пожалуйста, милость, помилуйте, ну, хорошо, пусть будет, как ты хочешь, косы, да, смешные такие косички, пусть, как ты хочешь, вытру, все вытру, уберу, как скажешь, нашатырь, пожалуйста, нет, не больно, совсем не больно, даже напротив, хорошо, хорошо, нет, нисколько, ленточка по воде – очень красиво, шелковая ленточка по реке – очень красиво, алая? лучше синяя, выбрит до синевы, будет, что вспомнить, по крайней мере, бульвар, бензин, сапоги, в сапогах, нет, нет, что вы? никакой лысины, легкость необыкновенная, теперь понимаю, ах, как я их понимаю, после всего этого такая легкость, тушь, Белла, Беллочка, подруга, белочка, сестра, ах, зефир, такой денек, жемчуга, нисколечко не боязно, сестра, напротив, торжествует, торжествует, потрясена, нисколько, полежу немного, я полежу немного на кромочке, на самой кромочке, тихо полежу, тихонько, нет, не жалоба, нет, знакомили с композитором, смешным таким композитором, поболтали немного, тоже смешной, чудак, он никогда замуж не выйдет, ой, что я говорю? не женится, очень смешной, минутку, не больше, устала очень, ну, пожалуйста, не спала, просто так лежала, это слухи, все – слухи, пусть будет, обожаю, нет, нет, вы ничего не знаете, по волнам, прошу прощения, Мавритания, Мавритания, Мавритания, страна такая, Ирландия, горная страна, вы ничего не знаете, капитан, не Кок, просто капитан, просто крюк, не капитан, и не узнаете никогда, и не нужно вам знать, исключительная легкость, перо, перышко, просто повезло, так повезло, остров, лимоны, все такое, вода не холодная, нисколько не холодная, враки все, выдумки, так не бывает, а я говорю, не бывает, все в книжках, читайте книжки своим мышкам, капитан, лунная дорожка, тащите, тащите ее сюда, к берегу, совсем еще кроха, Анна, Аннушка, какой ужас, очень жаль.
Скорлупа.
Белое. Стеклянное. Ну, шары, хорошо. Середина. Хорошо. Бокалы, лампы. Страх пропадает. Проп’асть. А то вдруг страх пропадает. Стеклянная черепашка под ногами. Не заметил. Чуть не упал. Корова белая вдалеке. Жует снег. Наверное, идет охота. Наверное, вдалеке черные охотники. Нам не дано знать. Видите в чем дело – нам не дано знать. Вертикаль. Снег струится отвесно. Карабкаться? Не знаю. Не уверен. Такое равновесие! Восхитительно. Вселенная на тебя смотрит. Хватил. Однако чей-то взгляд присутствует. Лопатки горят. Умом понимаешь, но только умом. Холодно. Все же холодно. Птахи не поют. Лежишь в пустой ванне. Кафель. Пороша. Доли секунды. Затем засыпаешь. И всё. И уже долина. Предположим. Корова спать укладывается. Белая. С черным пятнышком на шее. Единственное черное пятнышко. Вру. Еще зрачки. Сейчас глаза закроет. И останется одно черное пятнышко. Сейчас.
внешние собаки и внутренние собаки они же намекали мне на то обстоятельство будь начеку вечно охранять терпеть с такой бородой и болью плюс холод невозможно плюс остатки плюс останки и все эти вторичные молодого талантливого смотрели снаружи изнутри высматривали где тот уголок понимания хотел но понимание убийственно при тех очень очень игрушки кастаньеты юбки не отвлечься не получается а тогда небо не ждет при таких обстоятельствах грызи свою кость и о большем и не мечтая сытой жизни семьи и сахарной косточки не дотерпел или перетерпел не все ли равно по сути объедки но об этом знал только я и мои собаки теперь когда поздно все знают тем что на войнах пал не легче дрянь грязь разбудите кто-нибудь уж лучше буду за паучком наблюдать ничего не делать и за паучком наблюдать обиду оставьте за оградой ядрышки катятся кэдди их ловит только посмотри какая погода а мне и дела нет пачкать кружочками нотный стан не видеть никого и зебру-забор несвобода как татуировка и всю жизнь надо положить чтобы петух и выдал свою трель неслыханную зал встал вставал когда на самом деле нелюбовь а им оказывается про любовь нужно поперхнуться и поперек такта то дело в особенности скрипач кто его нашел с виду мясник забыть как страшный сон опасность глупости все под машину угодить всякий может была бы на то воля так и симфония эта квартет концерт короста рынок чего им вставать когда они и так на ногах целый день еще бы такой солнцепек неловкость сон в посудной лавке как пьяный и жонглеры пойдем такой вечер последний вечер не веришь за оградой сразу город начинается сестричка прикорнула ватка выпала из рук уже не имеет никакого значения кэдди за ядрышками гоняется знаете кого я имею в виду он в каждом из нас только мы его стесняемся Фолкнер не стеснялся и еще один мистер забыл как его звали захлебнуться и молоком можно была бы на то воля Шагал так и ваша любовь полет в стратосферу Мэри Мэри чудеса мечта поистерлась ядрышки картонки из-под яиц и фургон кино привезли движущиеся картинки первый шаг к пропасти в глаза собачьи стыдно смотреть выколоть виноват кругом виноват не нужно было отпускать за ограду хотя какая разница Николай Андреевич вошел в комнату лег на диван и исчез Сергей Романович вошел в комнату лег на диван и исчез Иван Ильич вошел в комнату лег на диван и исчез Алешенька вышел и был таков ну здравствуйте господа очень жаль что вас нет я вам хотел своих собачек показать внешних и внутренних похоже и мне здесь больше делать нечего пойду поищу то есть это не я – клавиатура шагает музыканты поймут
Шагал поймет.
Свалены в одну кучу. Я бы даже так сказал. Арбузы, дыни, кокосы, кабачки, чижи, ежи, цыплята. Близнецы. На худой конец однофамильцы. Арчимбольдо. Цыплята. Ломброзо. Послеполуденный отдых. Цыплята, сойки, пеликаны. Апофеоз. Ожидание. Упование. Наваждение. В серебряном свечении. Морг или февраль. Мозг. Вскипел, теперь остывает понемногу. На блюде. Суставы, косточки, затылки. Когда начинается весь этот анатомический театр с гребнями, панцирями и шахматными фигурами, соприкасаясь лопатками, затылками, наворачивая собственный черепаший хруст, стремясь выжить, во что бы то ни стало, движение ввысь крючится и валится под лавку облезлым псом без сновидений и воспоминаний. Торжество земли сродни сытному обеду перед казнью. Надежде под дых.
Анатомический театр слишком трезв для прозрений и превращений. Вообще предметы, которыми мы, если без ханжества, являемся, достаточно тяжелы, чтобы стать реальностью после смерти.
Ступают: корова Глафира; корова Брунгильда; корова Клавдия; корова Буренка, как без нее; корова Элизабет, Лизонька; корова Евстахиева труба; корова Виктория; корова Уйди; корова Пятница; корова Саманта; корова Корделия; корова Зеландия; корова Вероника Павловна; корова Аритмия; корова Уточка; безымянный теленок; корова Савская; корова Малинка; корова Маринка; корова Ирина; корова Ласточка; корова Мисс; корова Месс; корова Тесс; корова Козочка; корова Девочка; корова Чума; еще безымянный теленок, корова Ночка, корова Сова, корова Эпистола; корова Симфония, еще шестьсот коров. За горизонт. Страхи как на ладони.
Глицерин.
Счеты – другое дело. Счеты – куда не шло. Если настоящие. Деревянные конторские. Пыльные, гладкие, угловатые, умные. Католические, деревенские. Традиция. Католичество. Но. Снова суставы. Ядра. Ядрышки. Колеса. Колени. Коленопреклоненно. Есть в тех счетах что-то от католичества. Уклад. Опять же сочетаются с напомаженной головой. Почему? Зачем здесь цирюльник? С напомаженной головой и гильотиной. Другое дело. Рубец. Оглушение. Оглашенный. Эвклид. Приговор. Обжалованию не подлежит. Некоторый космос все же, согласитесь, присутствует. Хотя, казалось бы, извлек из черного чулана, где болотные сапоги, пыжи и пассатижи. И мышь не залетит. Немного не по себе. Смерть – наука точная.
Пробор. К слову о головах – лысеем. Многие окончательно облысели. Вот и слова пропадают. Многие безвозвратно утрачены. Каждый второй с плешью. Примета безвременья: панические атаки и плешивость. Сосчитать по головам разве?
Деревня. Вскипела, теперь остывает вдалеке. Как на блюде. В клубах пара. Стадо коров тянется степенно. Взаимность. Пастушки. Паст’ушки. Зеваки. Воры. Натурщицы. Школьницы. Молочницы. Кузнецы. Русалки. Ведьмочки. Ямочки. Крыжовник. Белая смородина. Яички. Груди. Никон. Никодим. Горлица. Тела. Много юных. Смотреть, любоваться. Бесконечное зрение. Менады. Вакханки. Еще ловцы жемчуга. Здесь жемчуг’а, что твоя оспа. Сколько же их, юных? Нагота, но голыми не назовешь. Много. Не сосчитать. Стоят, за руки взявшись, ворон считают. Ворон много. Насмешничают. Мудрые, покойные. Обеденный перерыв. Стариков тоже хватает, но, как ни странно, юных больше. Бросаются в глаза. Лежат. Трепещут едва, а которые слежались. Веки залипли, рты высохли. Много цветов. Старые, юные, толпа, ни конца, ни края. Онемевший птичий базар. Или очередь. Куда? Слава Богу, без цифр. И я считать не стану, пожалуй. Но признаков волнения не наблюдаю. Волны, да, присутствуют, а волнения не наблюдаю. Провожают взглядами. Один рукой помахал. Только один рукой помахал. Вяло как-то, по привычке. Близнецы. В крайнем случае, однофамильцы. Серебро. Февраль. Уж сколько этих считалок было на моем веку. Например, гаммы.
Еще розги.
Рябит. Рябь – сама по себе, ограды, телеграфные столбы – сами по себе. По кочкам, по дорожкам. Шрифт, провода, следы, кресты. Дороги не помню. Столбы, потом осины, тополя, осинки. Помню. Ракитник так и не попался, врать не буду. Потом тоннель, фонарики. Не помню. Рябь осталась. Ворон много, да. В прорехах и промежутках. У ворон разум трехлетнего ребенка. Подсовывают под колеса грецкие орехи, потом клюют ядрышки. Знают в среднем три-четыре языка. Отдельные полиглоты до шести-семи. Воруют искусно, коллекционируют украшения. Ангелы, как и положено, недоступны. Ангелов не встретил. Ни одного. Марево. И сразу на бережок. Никуда не сворачивая. Змей немного. Встречаются скользкие, ядовитые, но, главным образом, безвредные, покрыты пушком. Питаются ягодами, грибами. Ягоды, грибы. Пара утопленников. Те – поодаль. У них свои дела. Так что не потревожат. Безликие и сиплые. Ступайте уже.
Удильщики.
Или один удильщик. Все равно. Близнецы лишены подробностей. Ограничимся дыханием, точнее его отсутствием. Из марева может выглянуть что угодно. Нос лодчонки, нос самца, рука дающая, рука берущая, палка, зонт, опять этот зонт, крюк, кнут, леденец, власть. Колючая дорога. Канат. Не кончается. Никак не кончается. Никогда не кончится. Берега не видно, другого берега не видно. Или почти не видно. Зрение стремится к нулю.
ноль было бы легче голод какое там тискать заниматься суды дела досужие свирепствует тишина большой уже чтобы одному спать клетчатый плед не спасает яблоко окно коротко жизнь коротка этих бы философов на одного сумасшедшего не спешить послушать услышать да где там женщины промеж ног в головах вымыться с головой и начать все сначала хоть на лавочке хоть в арочке еще сирень белая снегопад не забывайте зима мало ли что я там говорю говоруны в ваших сердцах радиоприемник ловля прусака такие плоские звуки плоские слова убаюкивает онемение так и онемею валик диванный ума палата ангар амбар рытвина диссонанс никто не скучал честное слово никто скучать не будет с удовольствием кукушку вырвать с мясом ходики саранча разменная монета открытки можно забрать залечат хандра разве мало печали уму непостижимо три часа вещи собраны открытки можно забрать там лягушка-бык почему-то белая альбинос наверное дивная открытка полно мусора одежда брата нет никакого брата одни близнецы за газовой колонкой остатки пирога на столе мое место в банке кусочек коры с собой корочку иногда корочки хочется пахнет сигаретки не найдется мои кончились последняя сигарета с невероятной силой умереть но не до конца
Зигмунд, чтобы разобраться, становился в головах. Знаете о каком Зигмунде речь. Он один такой. Головы. В головах. Тоже удильщик. Это я о Зигмунде. Может быть, первый среди удильщиков. Не столько мудростью, сколько наблюдательностью брал. Неспроста. Всё неспроста. Болезни так просто не затеваются.
Случайный поцелуй – смешно. Влечение. Волочение. Мрачный и галантный. Войлок. Головешка. Удильщик. Не успеешь моргнуть. Пропала Настенька. Женщины вспоминаются. Женщины, девицы, барышни, вьюн, тюльпаны. Добровольная обреченность. Язвы учености. Яд целомудрия. Горошек еще. Хорошо, что не запамятовал. Нежность пробивается, пушок. Отдельные слова. Из тех, что редкость. Давайте хотя бы здесь называть вещи своими именами. Девушки, красавицы, где ваши косы, где ваши слезы?
Ид.
Если что, устраивайтесь в головах. Так лучше. Проще глубоководных рыб разглядеть. Ну, кто там нас ждет на дне впадины, пальчики, плавнички облизывает? Хаулиод обыкновенный, Длиннорогий саблезуб, Рыба-дракон, Гигантский кальмар, Мешкорот, Гигантская изопода, Латимерия, эта сама льнет, тянется, Акула-домовой, Акула-счетчик, Адский вампир. Свирели. И вдруг, представьте, небо обрушивается, что твой потолок. Или, предположим, вольтова дуга. Или жердочка надломилась, и вы летите кубарем. Куда?
Дна нет, напоминаю.
Или, из прошлой сонной жизни, – Не слышишь? Тебя к телефону. Или, – Ну, что там, корабля не видать? Или, – Ну, что там, кобеля твоего не видать? Фу. Или, – Сколько это будет продолжаться? Или, – я жду ребенка. Или, – Напоминаю, я все еще жду твоего ребенка. Или, – Напоминаю, это твой ребенок. Или, – Это разве ребенок? Или, – Это тебе не Абиссиния. Или, – Кто тебя звал? Или, – Кисея. Или, – Сдохнешь, вспомнишь меня. Или, – Бесчувственное животное. Жизнь. Или, – Животное. Или, – Разве не по глазам? Или, – Фук – фук. Или, – Закрывай кран, набегает. Или, – Важная птица. Или, – Хоть глаз коли. Или, – А ты сосчитай, считать еще не разучился? Или, – Вздыбилось всё. Или, – Вылитый твой папаша. Или, – Стой! Или, – Считай, считай. Или, – Поживи пока на вокзале. Или, – Что либо, сверх этого. Или, – Потрудись ответить. Или, – Снись на здоровье. Или, – Предположим. Или, – И всех дружков твоих. Или, – Кто надоумил тебя туда забраться? Или, – Одна бы польза была. Или, – Ну же, давай, чего медлишь? Или, – Телок. Или, – Анкор!
Это же такие усилия впустую.
Слава Богу, вся эта общечеловеческая глупость, включая цели, задачи, мотивы, комплексы, материалы и методы исследования теперь в прошлом. Моченые яблочки. О прошлом хорошо или ничего. Перевертыш. Ребеночек. Моллюск. Куколка. И хорошо. Ребеночкам положено рождаться. Восемь или десять. Четыре, одиннадцать, шесть. Разве по головам посчитать? А не лучше ли пальчики? Шесть. От счета уже тошнит. Власть чисел. Тригонометрия – не добрый знак. Впрочем, добрая власть не менее кровава. Что скажете? Согласны? Не согласны? Скажите хоть что-нибудь. Видите ли, я не говорю. Не умею. Считаю правильно, но плохо. Никогда не умел, но еще не разучился, как видите. А вот говорить не умею. Когда речь заходит о близнецах, волнуюсь. Предчувствия.
Почему близнецы?
Осень лучше всего описывать зимой, весну – летом. Взгляд, так сказать, обращенный. Обрящешь так или иначе. Прошлое нежнее, покойнее. Покорнее. Даже если в прошлом том чад. Четвертичная (черная) череда: чад, четверка, чай, чума, чертополох, чага, четверг, чечетка, черт, чресла. Пара в любом сочетании. Например, чай – чага. Или четверг – чечетка. Слова – узоры. Или блики. Это уж как вам заблагорассудится. Лишь бы не угрозы. Страха хватило. Чет-нечет. Пожалуй, не вырваться из этого круга.
При таком морозе всякое слово в кристалл превращается. Говорим петушок, и пожалуйста – леденец. Или колокольчик. Лики пьяные, лаковые. Лоснятся. Недолго. Тотчас корочка. Радость ранит, подмены пьянят. Спутники, провожатые спасают. Немного. Голуби там и здесь. С голубями спокойнее – складывается впечатление, что перемен не предвидится. Существенных перемен, по крайней мере. Знакомые лица, клювы, крылья. Январь. Овал. Голуби, лики – овал. Овалы. Не бездна. И то. Сказал. Вполне твердо. И то. Сам себе удивляюсь. Но в подобных обстоятельствах сомневаться, по крайней мере, глупо.
На дне мелодии.
А вот интересно, голуби вообще умирают? Интересно, как, каким образом умирают голуби, ну, если их, конечно, не подстрелили мальчишки? Что-то умерших естественным образом голубей не встречал. Не доводилось встречать. Вот и здесь их не видать. Часто думаю об этом. Всегда.
Продолжим. Газеты, перья, известка. Проступают из ничего, из дымки. И что это за птицы, голуби? Сдается мне, голуби – не просто так. Дальше – система. До, деревня, дымоход, день, льдина, ледоруб, Леда, лед, лед, белый лед. Двойной (белый) ряд. По аналогии с четвертичной (черный) чередой. Система. Линней. Менделеев. Берендей. Система. Система нас погубит. Система, идеи. Даже не система, систематизация. Поколение ноль, поколение икс, поколение купе, поколение бум, поколение игрек, поколение си, поколение март, поколение зет, поколение пёс. Всё. Конец времен. И так далее. Спираль. Всегда спираль. Обожание спиралей и дилемм. Но иначе не умеем, не приучены. Псы ждут. Давненько. У них в глазах всё. Когда снятся – хорошо.
Многовато.
Ладно, продолжим. Гулькин нос. Скажем. Скажем, набивший оскомину гулькин нос. Вот гулькин нос – другое дело, гулькин нос – всегда пожалуйста.
Продолжим: птенцы, убиенные птенцы, свисток, младенцы, убиенные младенцы, капли солидола, левый башмак, детские носочки полосатые, чуть тронутое тленом большое тело Маяковского, скорлупа, в’илки, пальцы, перочинный ножик, сломанные ножницы, иная посуда, рыбья чешуя, пятачок, жмых, кто помнит, ногти, битое стекло, прочая нежить. Триптих. Закономерно триптих. Терция.
Не забывайте, зима, снег. Следовательно – синий воротник. И вот уже волнение, вдохновение, иллюзия воли. Так легко обманываемся. Обманываем, обманываемся. Готовы верить во что угодно. Кому угодно. Кадка льда, потолок, дно. Забытое давно. Салазки. Секунды две – не больше. Дальше вдруг ре. Реализм, прошу прощения. Сразу же мерзлое мясо. Третьего дня. Даже не мясо. И не торг, и не толчея. Губа лопнула, например. И тотчас тишина. Зима. Рассудок светел. Хорошо бы обойтись без Скорби.
Один одушевленный человек.
Или, напротив, хижина толстяка. Это – совсем другое. Это уже совсем другое. Надоело? Пожалуйста. Нечто подобное я себе и представлял. Что тут скажешь? Прибыл. Явился. Предстал. А предъявить-то нечего. Ну да, предъявить нечего. Так, по мелочам. А в целом ничего особенного. Лучше промолчать. Это все больница. Внезапные ценности. Сокрушительные. Нечто подобное и предполагалось. Верить не хотелось, конечно. Думалось, ни конца, ни края. Шел пешком, бинт хвостом на километр, не меньше тянется. Стерильный. Это все Пастер. С микробами боролся. В неравной схватке. Неравной и неровной. Борода клочьями. Пастер, батюшка.
Странности.
Много странных людей, много. Мы их толком различать не умеем. Не только доктор’а. В глазах пурга. Пурга. Шел в носилках, если можно так выразиться. А почему бы и нет? Мне кажется, смешно – шел в носилках. А нечего по пустякам убиваться. Впрочем, как знаете. Две пары ног. Мир, как бывает в таких случаях, опрокинулся, потолок из-под ног. Даже не тошнило. Даже легкость какая-то. На душе легко. Приятно вспомнить. Некоторые больниц не любят. Не знаю. Словом, шел, шли, возносился. Особенно этот узелок. Пастернак. Узелок тоже синий. То же мгновение. Купорос. Зима, слава Богу. Особенно, зимой. В особенности, зимой. Ноябрь, март? И там, наверное, январь блескучий. Блесна, блеска. Белье мерзлое. Снежинки сияют. Палата ледяная, сквозняки, на душе легко. Бесконечные времена года. Прощайте Берн, Борисоглебск.
Струится скороход, себя опережая.
Жена. Жена – не жена, так, женщина одна. Не важно. Цыганка. Как раз накануне первый раз надела сережки. Повертелась в юбке с блестками. Серебро. Сережки сияют. Цыганка – не цыганка, не пойму. Успела на прощанье. Улыбалась. Молодец. Мне нравится, когда люди улыбаются. Сам-то я не из тех, что улыбаются. Внешне, во всяком случае. А так – веселый человек. Был веселым человеком. Просто мне хочется, чтобы до них дошло – я такой же человек, как и они. Живой или мертвый. Помада яркая. Цыганка, Юдифь. Не догадывалась. Не хотела. С цыганками легко. На душе легко. Все равно опередил его, скорохода этого, конькобежца. Ему бы трубу золотую. Серебряную. Ступай, пора. Здравствуй. Как хотите, но предъявить, похоже, нечего. Да я как-то и не задумывался об этом. Не догадывался. Не хотел. Улыбался. Она – мне улыбалась, а я – ей. Сияли оба. Цыгане.
Сибирь, так ведь? Сибирь, Сибирь. Кто бы сомневался. Я сомневался.
Вот опять вспомнил близнецов. В такой ситуации двойники, близнецы всегда рядом. Что такое близнецы? Зачем? Как поживают? Как поживаете, близнецы? Кому сочувствуют? Кто кому сочувствует? Кому сочувствуете? Сочувствуете ли? Что кроме внешнего сходства изумляет и пугает нас в них? Не испытывают ли близнецы, в свою очередь, удивления и страха, погружаясь в утробный мир непарных особей, где тернии и безбрежность, и суд, и стад на каждом шагу?
Лишив иллюзий. Предварительно лишив иллюзий. Мир, где пуповину перегрызают, стоит сырому, багровому пузырю явить свой громадный рот. Пузырю или личинке, это как вам будет угодно.
Выбор – всегда отсутствие выбора. Ножницы – лязг на всю оставшуюся. Жилы тянуть. Ножки толстые, крепкие, ручки. Настырность. Сутин. Бэкон. Ножницы. Простыни. Лотки. Пар. Зверинец, осень. Вдруг забьется под простыней как летучая мышь. Как-то давно я пытался поймать летучую мышь. Она запуталась в тюле и билась в моих руках. Хорошо запомнил. На всю жизнь.
Эпизод.
Близнецы – другое. Я – о близнецах. В защиту близнецов. В изумлении. Пуповина невидимая, жемчужная. Невидимая и жемчужная. Близнецы – сообщающиеся сосуды. Вот, что такое близнецы. Вот вам и ключ, золотой ключик, если хотите.
На опечатках не ловите. Нет у меня опечаток, за исключением нескольких, на которые внимания не обращать нет смысла. Делать опечатки не имело смысла, но и обращать на них внимание тоже ни к чему. Хочется луга и обмана. Обмана и луга.
Близнецы же робки и близоруки. Ландыши. Капельки. Там испарина, здесь – капельки. Вот ведь как. Стравинские. Мелодия. Беда. Отражения, слава Создателю – редкость. Нужно как-то жить, стараться избегать отражений, двойников. Двойников боятся, боимся. Что бы там не говорили, на страхе все держится. Хотя судьба сталкивает то и дело. Всё равно столкнет рано или поздно. Паркинсон. Парность. Пар.
Теперь знаю.
Видите ли, я не знаю, кто вы, я даже не уверен в том, что вы существуете. Мои помыслы простираются не так далеко, как вы предполагаете. И совсем в другом направлении. Скорее всего, я вообще не имею помыслов. Если бы я как сэлинджеровский Копфилд, думаю, произведенного от диккенсовского Коперфильда, оказался у пропасти, скорее всего, я не стал бы ловить вас. И себя тоже. Скорее всего, я, заткнув уши, чтобы больше не слышать ни себя, ни ваших голосов и междометий, лег бы в рожь и принялся бы изучать небо, разных небесных там барашков и прочих оборотней. Оборотень – явление многомерное, неоднозначное. Скажем, патентованный кролик.
А также дирижабль.
Или забраться в поезд на верхнюю полку, отвернуться к стенке, гусиная кожица, и мурлыкать наугад невесть что. Угольная пыль. Буржуйка. Контрапункт. С чем бы сравнить? Засвеченная пленка, пожалуй. Иврит. Нефигуративная повесть. Рубашка утопленника. Ветер. Такое вот за окном – лучше всего. А мне – хоть бы что. Наверху теплее.
Внутри дирижабль пахнет кожей. Обожаю вариации. Вариации – любовь моя. Ложечки. Уж мне довелось пообщаться с людьми во множестве, в массе, бывало, и с толпой. Со времен Колизея. Ничего же не происходит. Ну, что? Могу с уверенностью объявить, любая мелодия скорее материальна. Ее можно нянчить без угрозы быть укушенным. Кроме того, наверху теплее. Даже если зима. Особенно, если зима. В особенности, если зима.
И запируем на просторе.15
Африканский голый землекоп – животное с пренебрежимым старением. Вот вам и ответ. То, что надо. Надеюсь, теперь вы увидите совсем иную перспективу, обернувшись или свесившись из окна.
Сижу в пустой комнате. Сижу в пустой начисто выбеленной комнате на бумагах. В бумагах. Зыбучие пески. Комната выбелена. Чисто. Начисто. Чисто и светло. И страшно. До тошноты. Сижу. Не голый, нет. В чем был, в том и сижу. В чем прибыл, в чем останусь навсегда, и не только в ваших сердцах, дорогие мои. Один. За что, по совести, благодарен. Благодарный человек. Не счесть благодарностей моих и приветственных речей. Сижу в окружении бумаг. Пока один, но предчувствия одолевают. Зажал рот пятерней. Зачем, не знаю. Фигура томления. Ноги поджал. Сижу. Жду. Ожидаю. Пол усеян бумагами.
Предположим.
Что за бумаги? Откуда все эти бумаги? Несметно, космос, пауза, немота. Ну, так что изменилось? Разве что-нибудь изменилось? Изменилось. Бумаги, бумаги, бумаги. Белая комната. Что за бумаги? Партитуры. Черновики. Чистовики. Нотные тетради. Комната белая. Чистая. Все, что писал, написал. Все, до единого письма. Газеты. Не нужно было писать. Писать, говорить. Не нужно, не нужно было. Никто рукой не водил, за язык не тянул.
Сижу.
Стравинский. Сулима-Стравинский. Кто таков? Игорь Федорович Сулима-Стравинский. Игорь Федорович. Здравствуйте, Игорь Федорович. Приветствую, Игорь Федорович. Добро пожаловать, Игорь Федорович. Комнатка – что надо. Светлая. Светелка. Вам ведь теперь много не требуется. Вам теперь ничего не требуется. Всё в вашем распоряжении. Все в вашем распоряжении, если потребуется. Но, сдается мне, вам ничего не потребуется. По тишине скучали? Будьте любезны. Наказание. Вот и наказание. Всё – наказание. Решительно всё. Яблочко с яблоньки упало – вот и наказание. И наказание, и радость. Всё же одно, всё одинаково.
Об убийствах, прочих ужасах не думайте, о малодушии не думайте. Ни о чем не думайте. Вам это вредно, и не по адресу. Вообще не думайте. А, кстати, а что, Стравинский, из любопытства, чисто из любопытства, многих порешили? Обесчестили многих? То есть как? Очень просто, отравили, топориком тюкнули, в ванной утопили, надругались, склонили, принудили многих? В качестве духовного упражнения, не важно. Красная шапочка тоже невинностью помечена была. Но вы-то не девственник, далеко не девственник. А уж порицать, осудить – так просто чемпион. Знаете, какие мысли у судей случаются? Волк и ягнятка – две ипостаси одного зет. Подумайте об этом на досуге. У вас теперь времени много будет. А, может быть, вы революционер? Известное дело. Музыка, музыка. Забудьте. Забудьте, наигрались. Гоголь наигрался, и вы наигрались. Чем вы лучше Гоголя или Улитина. А кто рукой Гоголя водил, его кто за язык тянул? Так что виновного искать – глупое занятие. Виновен всяк. И волк, и ягнятка, и Ягнатьев, и улитка, и Улитин.
Прошу любить и жаловать. Водитель троллейбуса, скрупулезный человек. Непременно познакомлю вас.
Улитин, многие другие.
Ну вот, вы признаетесь, покаетесь, объявите, что подлец, объявите себя форменным подлецом. Улитин объявит, Гоголь объявит, раз уж попал в силки. Точнее, в трубу вылетел, следом за томом своим, пеплом своим, душой своею. Разве это что-то изменит? Голод, знаете ли. Да, да. Разве станете вы или он после этого подлецом? Или станете порядочным человеком? Да еще присовокупите, что вас принудили, заставили. Это уж как повелось. Вот тогда точно подлецом сделаетесь. Я, собственно, почему за молчание и ратую.
Или такой перевертыш: был подлецом, стал образчиком. Встаньте по пояс в воду и полюбуйтесь на свои ноги под водой. Кто? То-то и оно.
Кто? Кто, да кто. Кончилось время вопросов. Облетела листва. Зимой тянет осень описать Я, пожалуй, только одну строчку-то и помню. Осень. Обсыпается весь наш бедный сад. Листья пожелтелые по ветру летят.16 А вы помните? И я уже не помню.
Знаете что? Наслаждайтесь чистотой. Учитесь чистотой наслаждаться. Это труд, много тяжелее сочинительства, доложу вам. Ну, что, нашли? вы же что-то искали, Стравинский? Нашли, что искали, Стравинский? Что вы искали, Стравинский?
Бумаги, бумаги. Что с ними теперь делать? Вы, кажется, то-то хотели сообщить. Очевидно, что-то хотели сообщить, может быть, порадовать, может быть, напугать. Донести. Да как же можно? Никак. О том и речь. Видите, нет ничего. Не ожидали? Откровенно говоря. Не ожидали, признайтесь. Чисто, чисто. Не пылинки. Наказание чистотой. Не лишено изящества, иронии. Захочется грязи – пожалуйте в сад. По весне. Не возбраняется. Здесь – можно. Здесь все можно. Но не обессудьте. Помните, как у Экклезиаста, но помните. Так это уже было. Было и будет. Старик времени не наблюдает. Время – выдумка. Кому, как ни вам знать. Сколько времени? Два часа. Или двенадцать. Или два. Сказано: время не наблюдается. Никто ни с кем ни о чем не договаривался. Договоры, уговоры упразднены. Время – выдумка. Фантазия. Галлюцинация. Вроде ваших сочинений, господин Стравинский. Вроде вашего Парижа.
Белая салфетка.
Улитин, например, плакал. Улитин и его троллейбус. На лицо – дельфины. Оба. Один побольше, другой – поменьше. Сияют оба. Всегда. Здесь – особенно. А тогда плакали. Оба. Сияли и плакали. Подозреваю, не хотели расставаться. Может быть, другая причина. Собственно, все плакали. Трудно к новой жизни привыкать, да надобно. К новой жизни, к чистоте. Не зверинец. С вас довольно и канцелярии вашей. Вон сколько бумаг запачкали. Вы, собственно, кто? Канцелярский работник или почтальон? Служащий почтового отделения? Зачем столько писем, нот? Вы чего хотели-то?
Мысли о Боге оставьте. Вы все, через одного Богу равными быть хотите. Не говорите, не думаете даже, боитесь думать, а в душе лелеете. Ну же, протяните руку, укажите. Где Он, где? Протяните руку. Теперь можно. Прежде возбранялось, не приветствовалось, теперь – пожалуйста, сколько угодно. Ну, Где Он, где? Не видите? Не видите? Как же так? Выходит не конец пути? Что, еще не конец? Предположим. А вот если бы вы такое узнали наверное, смогли бы дальше жить с этим? Как думаете? Смогли бы не умереть тотчас, на месте, чтобы снова и опять?
Это я вам настоящий юмор представил. Нет, нет, не сатира. Сатира – для канцелярии. Здесь такого не надобно. А вот когда вы были бы кровельщиком, мы бы вам жести настелили. Жестяных листов. И это юмор. Хохма. Привыкайте смеяться. Прежде вы не умели смеяться, да, да, то не смех был. Убить себя мечтали? планировали? Ну, не может быть. Каждый человек хотя бы раз в жизни подумывает о таком предприятии.
Вероломство.
Хотите яблока? Может быть, чая? В сумасшедшем доме теперь чай пьют. Сладкий с блинчиками. Однофамилец ваш Стравинский Иван Ильич пьет. О чем молчите, Стравинский? Хорошо молчите, вкусно. Отвратительное слово. Это блинчики с толку сбили. У вас там в ваших письменах такие оборотцы, случайно, не встречаются?
Как с выдумками бороться? С выдумками, придумками? Они же – голгофа и есть. Вас занимал вопрос, что есть наказание? Так вот вам ответ. Выдумки, придумки, колготня помыслов. Как следствие – болезни. Не знали? Догадывались. Ну, конечно, вы же неглупый человек. За тридевять земель, кисельные берега, да? Угадал?
Потом доживание. Кто где доживает. Не все ли равно. Так? И знакомцы ваши, и близкие знакомцы. Кто в приюте, кто в яме, кто в долговой яме, кто в сумасшедшем доме вышеупомянутом или ином, кто на полянке на солнышке греется. Вы-то где, Стравинский? Я вас что-то не вижу. Палата? больничная палата? Так и знал. Однако чисто у вас. Удивительное дело. Отродясь не встречал такой чистоты в больницах. Плохи дела?
Или хороши?
А вы не верили. До конца не верили. Не смущайтесь, никто не верит. Ни Гоголь, ни учитель ваш Римский, ни Сопатов, ни Фефелов. Этак мы с вами лет пять перечислять имена будем. А то и семь. Нет, декларировать можно, что угодно. В этом смысле безбожники даже честными выглядят. Это бросается в глаза. Бесноватые всегда на виду. Потому вам везет. Вам ведь всегда везло, Стравинский? Или вы не из этой компании?
Может быть вам окон хочется? Вы бумаги убирать не трудитесь, без вас уберут. Вы свое дело сделали, теперь отдохнуть надо бы. Согласны? Вы прожили один день. Всего один день. Вы, другие, все. Любопытно, правда? И те, кто в младенчестве почил, и те, кто до глубокой старости дожил. Любопытно, правда? Один день. С утра до утра. И день этот – воскресенье. Впрочем, вам это совсем ни к чему. Но, сообщить обязан был.
Путешествие окончено.
Перед тем, как прыгнуть в воду. Помните это волнение? Перед тем, как прыгнуть в ледяную воду. Вспомнили, да? Похоже? Очень похоже. Послать вам человечка? Хотите, пошлю вам человечка? На первое время. Хотите? Пошлю, непременно. Пусть побудет с вами. Пусть некоторое время. Присмотрит, утешит. Может быть, вам окон захочется, музыку послушать. Песенки. По песенкам скучаете? По простым песенкам. Незатейливые мелодии. Да, простота во всем. Почему? Да потому что всё просто. Всё до изумления просто на самом деле. Будете удивлены. Будете удивлены удивительным образом. Вспомните Луну, к примеру. Спроси вас, хоть теперь, да хоть и прежде – что это? Каков будет ваш ответ? Луна. И всё, Стравинский. И больше ничего. Вот вам три аккорда. Что, не прав? Разве не прав? Что это? Луна. Или дерево. Или дом. Детство, понимаете? А вы с младенцами всё играетесь. Их слушать надо, наблюдать. Но до этого, надеюсь, дело не дойдет. Иначе всё в одночасье рассыплется. Как карточный домик.
Никто вас поучать не собирается. Поучать, баюкать – самое отвратительное, что может быть. Учить, поучать, наказывать. Наказание – само по себе. Да вы теперь уже знаете. Тоже проволока. Что-то много проволоки, не находите? В этом смысле океан предпочтительнее. Страшно, конечно. Конечно, страшно. Но ничего, это пройдет. Не вздумайте бумаги перебирать. Без вас переберут. Бумаги перебирать – это такая травма. Уверяю вас. Не перебирайте. Без вас переберут.
Казначейство.
Учили вас бумаг не подписывать? Никаких бумаг не подписывать учили? Учили? Ладно, забудьте. Будем считать, по принуждению. Все, все по принуждению. Уж в этом я смог убедиться. Столько бесчестия. И всё поневоле, по принуждению. Дорога царств стыдом укутана. Зато теперь стыд вам в помощь.
Кто я? Вы сами и есть. Или один из ваших близнецов, однофамильцев. Триптих, терция, триада, три, Трезвон, Троя. Или Улитин, водитель троллейбуса. Какая разница? Никто не знает, как нужно. И не знал никогда. И не узнает. Можете взять в руки палку. Если найдете палку, можете взять в руки. Что угодно, хоть зонт. Умеете со свободой распоряжаться? Умеете? Умеете? Нет? Никто за язык не тянул. Что вы хотели сказать? Вы что-то хотели сказать? Что вы этим хотели сказать? Кому? Зачем?
Наказание.
А вот еще, помню, мечталось. Что есть мечта? Что значит, мечталось? Не знаю. Молчать. Уж лучше молчать. Какая разница? Язык мой – враг мой. А мысли, помыслы? Мысли, помыслы, мысли, помыслы. Можно не торопиться, теперь уже можно не торопиться. Черта подведена. Какая черта? Нотный стан. Желаете? Нотный стан – желаете? Проволока. Черт! Не сметь! Проволока. Не ваше изобретение, тем не менее. Вот через эту проволоку. Путать, напутано. Сами? Все это сами вы написали. Сам. Не знаю. Сами сочинили? Не знаю. Надо как-то жить с этим. Вы понимаете, что это навсегда? Понимаете, что с этим жить придется? Всегда. Навсегда.
Там, внизу не успели собраться, а уже расходятся, говоруны. Молчуны. Палимпсест. Стертые письмена. Оставили по себе пепел безропотный, да голосов оскомину. Please. Клочки известки. Пошептались, разыграли, осадочек останется, конечно, память, ветер, конечно.
Так проходит жизнь.
Глупее фразы не встречал. Глупею. Хорошо. Избавление. Кто бы сомневался? Vice versa. Карта Луны. Да идите вы с ложечками своими. Потрепали, егозили, воззвали тщетно, потрепались, так ничего не решили. Скомканная газета. День хороший сверкнул и погас. Пепел. Пели немного. Гадали. Пусть хоть так. Решка. Решето. Решетка. Скоро времечко летит при таких-то хлопотах. Люди, человеческое всё, ни дать ни взять. Рыбу ловить разучились. Оно не надобно стало. А времечка-то и нет никакого. И хорошо. Праздники тоже убывают. Малыми шажками. Ура. Vice versa. Стежки? Не сказал бы. Маета, скорее. Не успели собраться – уже расходятся. Во всяком случае, такое впечатление складывается. Улитки тоже дней не считают. На минутку оставь – полжизни пролетит. Новый век начинается. Как будто новый век начинается. На уровне ощущений. Ползет, ползет улитка.
Фермата.
Непрестанное гадание. Бывает непрестанная молитва, а бывает непрестанное гадание. И не важно, что. Ты ступай, ни о чем не думай, глаза сами выберут. Пусть автомобильные номера, пусть яйца, пусть карты, когда д’ома, кот под столом о ноги трется, пусть узоры на ковре, пусть времена года, имена, еще игра в города, шахматные фигурки, ноты, нотный стан, лестничные ребрышки, рыбьи позвонки, снимки одноклассников, письма, письмена, строки, сороки, кукушки, кукушкины байки. Шаг за шагом. Когда волоком. А ну-ка помоги, он тяжелый. Клади его на кровать.
Шаг за шагом. Отмериваем. Метроном. Времена года не считаем. И только. Слишком умеренно для гаданий. Всегда. Сами того не замечая, приближаем последний вздох, забывая все, за исключением пустяков, из которых, собственно, и состоим. Иные называют это гаданием, иные музыкой, но к истине это не имеет никакого отношения.
Голубей забыл.
Все музыканты – немножечко поэты, все поэты – немножечко сумасшедшие. У сумасшедших отменный слух. Музыканты, стало быть. Смогли, когда бы захотели. И вся эта компания, слышишь, дырявая под охраной собак и ангелов. Собаки на земле оберегают, ангелы в небе. Пасут паству свою неразумную, пеструю. Нарасхват. Чему тут удивляться? Так было, но так стало. А музыка ничего не выражает. И не выдумывайте.
Надо же немного.
Эмоции – такие лошади. Крепкие. По любому крепче возницы. И железа, и рогожка, и удаль, и мятый козырек, им то что? Лоснятся, храпят. Ломы. Грязь, хоть и городская. Звонари, фонари, головокружение. Как себя вспомнить? Каким ветром занесло? Куда? Казалось, поживем немного. Залетные. Грустно, конечно, что хромаю, но с этим жить можно. Трактир сладок. Забвение. Женские линии. И у штофа. Здесь женщин иначе вспоминают. Была же Ева. Нет-нет, да и вспомнится.
Ну, давай, присядь ко мне на коленочки. Хочешь? Не хочешь? Не ломайся, давай, присядь ко мне на коленочки.
Конечно, слёзы немного. Допускается. Всё же семья, как ни крути. Начиналось-то всё как песня. Песней и закончится, только вряд ли поймем. Бывают такие песни, что и не песни вовсе. Та же летучая мышь.
Видите ли, наверху теплее. На потолке разводы – чистая радуга. Вот не научили нас головы поднимать. А надо бы иногда. Скажите, только честно. Можете честно ответить на мой вопрос? Вы честный человек? Надеюсь, что вы честный человек. Если судить по глазам – должно быть, честный человек. Хотя некое лукавство проглядывает. Или это из-за очков? У вас большая диоптрия? Если большая диоптрия, ощущение лукавства могут давать линзы. У вас толстые линзы? Вижу, линзы у вас толстые. Этак вы толком ничего и не увидите. Впрочем, зрение здесь имеет второстепенное значение. Зрение и деньги. Так как, насчет моего вопроса? Ну, что, готовы ответить? Только честно. Скажите, вы различаете небо и потолок? Небо и потолок – не одно и то же. Знаете разницу между небом и потолком? Вот вы говорите «разводы», говорите «разводы на потолке». А что если не на потолке? Не страдаете пространственным кретинизмом? Сдается мне, что вы страдаете пространственным кретинизмом. Его еще называют топографическим кретинизмом. Или просто кретинизмом. Я не намерен вас оскорблять. Ни в коей мере. Не подумайте. Что скажете? Нет у вас топографического кретинизма?
Слезы, жалобы. Немного. Скупое. Обиды. Обидчики. Все умрут. Все. Прощаю, слышите? Это важно. Слезы светлые. Но, преимущественно, героизм. Печать на каждом челе. Ступай, говорит, поздно уже. Впотьмах добираться трудно. Фонари, фонарщики, аптекари. Блок молчат. И так всегда. Заметет. А то еще кошелек утянут. Там брать-то нечего, мелочевка одна.
Фонари дороже денег.
У лошадок из ноздрей пар клубами. Такие запахи – вся деревня в санях. Взял вилы и убил гадюку. Испугаться даже не успел. А то на лесенку заберется под потолок. Оттуда горланит. Высоко. Тепло. Радуга. Где же нас победить? Стекла темные. Штофы темные. Медная стать. Лбы. Такие помыслы! Оступиться невозможно, проиграть. Картишки. Мечите, мечите, не сомневайтесь. Немного гордости напоследок. Мимолетная суть. И уже какая разница? Что ни говори, славно придумано. Небытие. Печаль напускная. Немного. Зато вселенское. Мысль. Безгранично. Братцы, братцы! Мужское такое. На фоне всеобщей истории пара минут, не больше. Зато, каких минут!
Вот теперь, пожалуй, и с лошадью сойтись можно. Впиться в загривок со всей дурацкой мочи. Никогда. И довольно об этом. Неча нюни распускать.
Напоследок.
Пожарные Фефелов и Сопатов. Смешные, грустные. Все время бунтуют друг против друга. Там бунтовали, и здесь остановиться не могут. Здесь хотя бы не дубасят друг друга, и то. Вот Фефелов начинает. Сопатов как правило выступает вторым голосом. Вот Фефелов начинает, – Они снизу грозят, все время грозят, грозятся. Сопатов, – Кто? Фефелов, – Все. Все не все, но многие. – Кому грозят-то? – Грозят, грозятся. – Да кому же? – Всем. Нам с вами. Всем. – Зачем? – Проклинают. – За что? – Угрожают. – Вам кажется. – Нет, не кажется. – Кажется вам. – Да нет, грозят. Угрожают. Грозятся. – Не грозятся. – Грозятся. – Не грозятся. – Грозятся. – Не грозятся. – Грозятся. – Не грозятся. – Грозятся. – Не грозятся. Теплом от них веет, от пожарных сих.
Си.
Бродим, бредем. Опять Египет, опять Сибирь. Снова полюс, снова отдых в пути. Сойка. Сибирь матушка. Стравинский там, сверху. Поднимите голову. Прилег, отдыхает. Высоко. Глаза закрыты. Не то спит, не то умер. Голова в капюшоне. У Христа за пазухой. Дышит тихонько. Настой послеполуденный. Калачиком свернулся – другое дело. Кто таков? Слуга ваш покорный, наш покорный. Дедушка-ребенок. Близорукость как спасение. Линзы новые. Прячет. Прячется. Непокорный. Слуга. Начетчик. Певчий. Жалейка. В добрый путь. Служу, служит, служат, служим. Маленький, сухонький. Лицо как у Гасторниса. Или урочища. Головешка с лицом вороны. Заигрался. Кто там еще? Чьи дырочки насвистывают? Ангелы, собаки, знакомцы, незнакомцы, прохожие, охотники – пара человек, лисы, голуби. Подо мхом черви греются. Мудрые. Мудрость.
Легато.
Такая ось ординат получается. Фактически, крест. Так что песенки пели, лакомились, ритуал выполнили, говорили. Пили. Немного. Никто не видел. Жизнь впереди, казалось бы, куда торопиться? А, действительно, зачем? Ну, так, это время само торопится. Торопится, подгоняет. Так уж повелось. Безвинно виноваты. Как повелось. Словом, всё как всегда. Vice versa. Меду тем, рыбка в прудах еще осталась. В прудах, озерах, фонтанах, пузырях. Петушки, луковки, пуговки, страх. Пуговички золотые. Золота больше стало. Было бы смешно. У золота свои ритуалы. Опасные. Ничего, ничего. Золотые крупы лошадей, золотые спины весталок, золотые колени отцов, золотые фаллосы. Короны, прочие цацки – само собой.
Что еще? Кого наградить?
Запахи, кстати, мутные при таком обилии. Мутные, тяжелые, бурые. Мох. Бороды вдвое растут. К холодам готовимся, того не ведая. Словом, сами по себе. Музыка – сама по себе, мы – сами по себе, время – само по себе. Однако надежда. Главный признак присутствия. А присутствие во всём. Об этом забывать не след. Там, куда можно войти, разумеется, куда пускают. Многие двери закрыты, чего греха таить? Двери, ставенки, колодцы, люльки, лазы. Китайцы, к примеру, бамбук выращивают. До луны. Тупик. Ибо выше понимания. Какой смысл? Всегда так было. И на лесоповалах, не думайте. Лисы, соловушки, топтуны, правдолюбцы. Правдолюбцы особенно умиляют. Дети, кликуши. Соль земли русской. Даром, что живы. Справедливости ради, юродивых тоже прибавилось. Так и ходим пятками назад. Как Бог положит. Так что хождение по воде больше не фокус. Господи, так долго ждали!
Земля, земное всё.
Решено. Как Бог положит. Уж это как Бог положит. Всегда. Так всегда. На том стоим. Один вопрос. Откуда, в таком случае, слежка? Вроде бы на клавиши смотрит – сам косится. Внешне – благость, душа вопрошает – кто? Звуки – блуждать. Склонны. Блуждать, блудить, жаловаться. Звуки. Тревога разлита, винное пятно на скатерти. Скатерть белая, белоснежная. Рыдать. Предчувствия. Largo Tempo Giosto.
Шествие утвари.
Были, были кабаки. И кабаки, и салоны. Швейцар и слон. Парад. Манжеты, полироль, пальмы, плаксы. В припляс, перепляс, вприпрыжку, вприкуску. С боем и трубой. Глаз монгольский. Мутный, пьяный. Слон чужой. Крупный мужчина, приземистый, кровожадный. Муж чужой. Напоминание. О будущем. Так не похоже. Откуда? Сглазили. Moderato alla breve. Слог слова лучше, чище, точнее. Эх! Слова чужие, чуждые. Вредные. Вереница. Чужой муж – исполин, фигура пара, молох, молот, мольба, стыд. Чужой муж – волк. С виду слон, на деле – волк. Волк, и ягода, и соглядатай. Бог положит, явится непременно, не сомневайтесь, еще не вечер. Увеселитель. Скотт Джоплин. Мертвая зона. Пока прослушайте прогноз погоды.
Суицид.
Слоги, паузы. Такие паузы дорогого стоят. Паузы-беседы, паузы-песенки. Плеск, беседы, псы, прогнозы. Дыхание прерывистое, волнение, аритмия. Ожидание. Кувшинка. Око. Вопрошает. Или плещется. Око с поволокой. В ожидании рождается. Терпение. Рождается. Терпкий, багровый. Око слезами налилось. Аукает. Личинка. Комарик первым в очереди. Капризный, чувственный. Испарина, рябь. Мутная капелька на кончике носа. Личность. Где вы Бога рассмотрели? Грунт. Прямо скажем, затушеваны. Химическим карандашом. Теперь таких карандашей не выпускают. Карандашей, катушек, коробочек, ластиков. Игрушек «мужик и медведь» тоже не найти. Сидят, топориками тюкают оба. Добротные. Навсегда. Веки красные, стружка, мыло. Выпивали, спору нет. Но. Каждое утро – брызги. Свежесть. Начала. Стружка, крошки, воробушки.
Утро.
Дирижабль уже в испарине, а до отправления еще четыре часа. Ангар в перьях жирных да стружке. Расклевали, заплевали, усеяли. Темно уже. Жмых, бабы по углам. Страдания, семечки. Ядреные. Встречаются и помельче. Уж за печкой. Хозяин. Греется. Семечки. Бабы и семечки. Полтава. Полтавка, ленточка алая. Ну, грязь, не без этого, ну, да, ожидание. Горлицы. Полетели. Полетели? Куда далече? Нет никакой возможности. Взлететь никакой возможности. Ну, ничего. Ничего, ничего, песня покроет как снег. Собаки раны залижут. Вон, одна погналась. Маркшейдеры времени. Неучи, голуби. Присутствие. Поп, попадья, да попова дочка. Опять же голуби снуют, голуби, горлицы. Маета. Болиголов, борщевик, бересклет, кокорыш, трусики.
Ты же больше так не сделаешь?
Последние сладости. Не торопись, понянчи во рту. Терпение, мой друг. Лёд не тает ещё. Пока не тает.
Расея.
А ты спускайся. С лесенки-то спускайся. Все ушли, давно ушли, спускайся. Связь работает. Ложись, закрывай глаза. А то, спускайся. Внутривенно. Лазурь. Травы – задохнуться. Волна за волной. Баржи, бражники, огни. Землистые птицы токуют, привечают, кузнечики землистые, а то, случается, лютик. Ступай, не бойся, под сугробами-облаками всегда август, водомерки в бочке путешествуют. Игриво. Капелька жемчужная за воротник. Паучок-письмо торопится.
Милый Саша! В надежде. Вот уже неделю в надежде. Месяц, год. Могу надеяться? Или все так безнадежно? Твоя Надежда. Николай! В надежде. Вот уже неделю в надежде. Месяц, год. Могу надеяться? Или все так безнадежно? Твоя Надежда. Дорогой Игорь Федорович! В надежде. Вот уже неделю в надежде. Месяц, год. Могу надеяться? Или все так безнадежно? Ваша Надежда.
Коленочки, веснушки, печенье, крошки, спелые коленочки. Девственность как ожидание грозы. Юла скучает – выросла девочка. И такое нетерпение охватывает. Бельевые веревки гудят. Ветрено. Пыльца. Гречиха. Рожь. Речь, кажется, о ржи шла. Зачем? Июль. Замри мгновение – завтра рак свистнет. Раки чрезвычайно строгие создания. Вот уж, действительно, умеют сосредотачиваться. Сосредотачиваться, терпеть. Не приведи, Господи! По счастью, завтра здесь не наступит никогда. Немного счастья, почему бы и нет? Самую малость.
Ля-минор.
Уж если речь зашла о гармонии, этому зимнему пейзажу не хватает верблюдов. Я бы так сказал. В общем, всё как всегда. Всё смешалось. Семейство Облонских, Стравинских. Ни конца, ни края. Не стоит музыку и жизнь путать. А как? Зима. Дорогое время. Большое волнение. Путаница. Охапки. Храп. Крах. Крошки. На фоне дружелюбных мертвых, молчаливых признаний. С верблюдами было бы спокойнее. Есть в их внешности нечто такое, бесконечное. Я бесконечность всегда чувствовал. Другие изумлялись, заявляли, что представить решительно невозможно, я же, напротив, охотнее безбрежность себе представлял, нежели падение с крыши, например, или самоубийство. Это всё северные сказки. Я всегда любил северные сказки. Но мне в них не хватало верблюдов. А потом сразу же наступила эпоха воздухоплавания. И жена начала фортели выбрасывать. Не жена, любовница, но какая разница. Знаете, ее замечания, глупые, никчемные, очень ранили. Я от нее ушел. Или она от меня. Теперь уже не помню.
Беглецы.
Волнуются, катятся, перекатываются. Валуны, животы, лопатки. Кук угодно справиться с бездыханностью. Наверное, последнее устремление. Последние сполохи воли. Как скатка или валик. Весь в снегу. Укутан плотно. Закутан в одиночество. Объем. Что вы делаете? Что ищете? Вьетесь, точно пар. Негоже. Нет-нет, только пытаюсь устроиться поудобнее. Вы пехотинец? Почтальон. Скорее почтальон. Воевать не умею. Никогда не умел. Даже хожу вразвалочку, смешно. Храплю по ночам. Иногда. Нескладный человек. Разве что путешествия. Незначительные. Главным образом железнодорожные. Один раз дирижабль, только один раз. И то наблюдал? Как впечатления? Отпустите меня. Зачем? мне надо. Вы уверены? Нет. Ничего, не расстраивайтесь. Не вы первый, не вы последний. Вам еще понравится. Не сомневаюсь. Спасибо вам. Спасибо. Большое спасибо.
А там что у вас? Какая-то избушка или мне показалось? Окошки. Звенящие. Снег или прах. Пурга, ничего не разглядеть. Какие-то люди. Или это тени? Похоже, люди. Шершавые. Штрих. Шаркают, шелестят. Что в этих зеленых-красных окошках? Синева. Не та, что в небе бывает, когда пурги нет – иная. Как в духовке. Или в кладовке. Теплушки. Маленький переполох. Запотевшие темы. Вены. Простенькие мелодии. Назидание. Чай в подстаканниках, буржуйка, вата за окном. Казалось бы, чего ждать? Но. Мозаика. Кусочки смальты. И пурга, и радость. Там же, за окном. Там же или вместо.
Вы до конечной? Разумеется, до конечной. Ваша одежда пахнет дымом. С войны что ли? Нет-нет, долго у самовара стоял, никак не мог согреться. Волнуюсь немного. Не был готов. Кусочек черного хлеба. С таким удовольствием. Когда теперь придется? Сапожок. У вас нос сапожком. А у меня клюв, изволите видеть. Прежде смеялся по любому поводу, а то вдруг что-то загрустил. Прежде выпил бы по такому случаю, а теперь вот совсем не хочется. Даже подташнивает, как подумаю. Так нельзя. Знаю. Весьма неустойчив оказался. И не в благоденствии дело. Совсем нет. Готов, как говорится, понести достойное наказание. Так вот о чем вы думаете? Не знаю. Об этом не беспокойтесь. Это все – сплетни. Вы ничего из себя не представляете. Точнее так, ваши представления о себе значительнее, нежели вы есть на самом деле. Даже если вы и голова, и светоч. Вы голова? Не знаю. Вот видите? Вы даже этого не знаете. А взгляните-ка, какой пейзаж за окном? Какие иглы, обратили внимание? А чуть поодаль парашютист. Любите парашютистов? Обожаю. Больше жизни.
Ты прильни, Аннушка. Все могло бы сложиться иначе. Поверь. Просто поверь. Нет? Или нет? Колоратура. Павлова, конечно. Не Каренина же. Аннушка, Надежда, кто еще? Вера, Любовь и мать их Софья.
Какой-то мужичок. Не барин. Или медведь.
Уж как Софья старалась, старается. Прости, матушка. Не ведаем, что творим, ты же знаешь. Держитесь, потерпите, будет вам и станция Суглоб. И мужички и медведи. Тепло, даже жарко. Держитесь вместе. Собачки, хоть и собачатся, в мороз сплетаются в пушистый комочек и греются так, один сон на всех. Не сходите на станциях, где купцы и петухов торгуют, воздержитесь от гадалок и ланит. Ближе к сердцу. Дурнушек нет. Шутки – со смыслом. Рты открыты. Фланель, голод, крючья, клочья. Сидите на полочке, деточки, яйца считайте, прянички считайте, петельки, колечки считайте, пересчитывайте. Можно и погадать. Книжки с картинками. Отрок на метле. Звездочки. Укроп, прорубь, рыбка алая рот разинула. Сом под лавкой. Дедушка добрый спит. Всегда спит – добрый. Сказка. Вата за окном. Дымком потянет – тоже спать ложитесь. Придет, всему свое время, придет, придут, сразу узнаете по пуговкам, по улыбке. А пока терпения наберитесь. Пуговичные, пуговичный. Ждите леденца. Спрячьтесь, как мышки. Мышки Беляночка и Рута.
Тщетно. Поздно. Тщетно. Поздно. Тщетно. Поздно. Смастерили силки, смастерили на славу. С дырочками. Ох, уж эти дырочки. Едва гонг прозвучал – тотчас все на станцию, румянами любоваться, чулками любоваться, калачи крошить. Где же Софья? Занемогла, едва дышит, любовью болеет, умрет за ненадобностью. Чего удивляться? Хотелось? Хотелось же? Иные твари деток своих пожирают. Правда, правда. А здесь что? Под луной. Не верите? Напрасно. Саванна, баобаб, буфет, чужое, лакомое. О болезни в такие минуты не думают. О болезнях, старости не думают. Страсть. А с виду безмятежность. Косые лучи. Истории повторяются. Насекомых рой. Рыжее пятно. Станция. Ночная станция. Суглоб – не Суглоб. А то – сразу Анапа. Суровая жизнь. Вера, морская болезнь, Надежда, ребеночка бы пожалела, Любовь, промолчу, коротко не рассказать. Девичество. Ужас. Простите, дети, не ведаем, что творим. А воздух нежный, розовый – море где-то рядом. Гитара чутье убивает. Не даром. Рыжее пятно. Кто укроет, схоронит? Как укрыться, схорониться? Как здесь укроешься? Всё на виду. Ветер, то, сё. Пьянь. Балагурят. Поверх покрывал. Всё на виду. Яблочко. Халва, прочие сладости. Крюк. Кролик в шляпе. Бедный ребенок! Бедные дети.
Они этому кролику то трубку сунут, то барабан.
Какие станции? Безумово; Вырино; Рубино; Каюк; Бельменево; Лапушкино; Пьяново; Груз; Турецкое; Комьево; Африканово, вот, кстати, Африканыча всплмнил, давно его не вспоминал; Затеево; Мешково; Банщиково; Вишенное; Дедалово; Дедово; Добычино; Кудыкино; Гуж; Осиное; Холера; Облово; Путейный; Лялино; Вертопрахово; Брусилово; Ьрусникино; Заманихино; Утробное; Глаз; Фартуково; Пьяново; Головня; Ухабово; Миленькое; Кольцово; Котово; Старое; Нелюбово; Голодное; Деточкино; Лаврово; Глупово; Лимб; Тиф; Вырино; Иерихон; Болотное; Страшилино; Иерихон: Новый Иерихон; Содомное; Суглоб. Дальше Кротово, Салазкино, Анапа, Копейкино, Исподнее, Лягушачий Клин, Ряска и, наконец, Стикс.
Вокзал, троллейбус, Улитин. Дальше бережок, Ягнатьев на лодочке. Портвейн, майская ночь, утопленница. Рыжее пятно, пропади оно пропадом, с самого Безумова сопровождает. Как-то целехоньки добрались. Не верилось. Целовались. Даже так. Смерти нет, девчата. Наливай.
И поэзия – проволока.
Ягнатьев улыбается. Ягнатьев редко улыбается. Зубы редкие, волосы редкие. Суббота. Неделя позади. Я же не то, чтобы, я же всегда. Одиночество – это такое. Не сказать, что одинок, но случаются обиды. Главным образом. Сам себе, бывает. Целыми днями ни шороха, камыши – не в счет, вот и приходится. Я бы завел себе парочку псов, друзей, но они не хотят. Видят во мне соперника. Не сомневайтесь. А память – такая штука. Хотелось сначала, даже очень, но потом. Как-то истончается все, и одежды, и время. Продувает насквозь. Я тогда в орешник. Климат еще, слава Богу. Повезло. Сибирь – земля теплая. Не успеешь оглянуться – ночь. Вроде бы и важность, и ожидание. Но, если вдуматься, какое там пост? Это ли служба. В былые времена – другое дело. И уважение, даже страх. Страх – великая вещь. Человек, когда его побаиваются, внутри себя вырастает. Это плохо, конечно, но продлевает. И возвеличивает. Вот и приходится.
Грибочков бы набрать, когда лето. Здесь грибочков множество, а уже лень. Такая служба, я и теперь служу по зову сердца. Столько наблюдений, что ты? И мухоморы, и философский гриб встречается. Но никому не надобно, никому. Всегда ворчали. Свойств. Я же знаю, как упредить, предупредить. Когда бы ни конечная станция. Мне бы вверх по течению подняться, но это, когда бы я помоложе был, а теперь что? Хорошо, детей нет, не так обидно. С другой стороны – все вы мои детки. Приходите, садитесь. Сейчас, сейчас костерок разведем. Слетаются, этого не отнимешь. Но смысла, давайте начистоту, смысла во взорах к тому моменту уже мало. Вот я задаюсь вопросом, а до того, до вашего визита, прежде? Вы хотя бы себя знаете? Сможете узнать, если встретите? Так заглядывайте в зеркала, дамы и господа. Ворчу. Это – ворчание. Не обращайте внимания и не обижайтесь. Я, знаете ли, привык с лягушками толковать. Их тут множество. Рад бы помочь, подсказать, да вот уже многие слова пропадают. Вертятся на языке, а вспомнить не могу. Есть и такие, куда умнее, образованные, трезвые, в положении, при регалиях, а случись заваруха – все здесь. Я, как видите, капканов не ставлю. По глазам читаю. С глазами – просто беда. Что, действительно, всё так плохо? Питаюсь росой, если можно так выразиться. Портвейном. Та же роса для поборника истин в отставке. А хотите полюбоваться своим кишечником во всем его великолепии? Вы же никогда его не видели. Могу пустить его вдоль реки. Самый выгодный ракурс. Сейчас, сейчас, костерок разведу, споем. Пождать придется. Но ничего, мы ждать привычные.
Игорь Федорович поворачивается на левый бок.
Биография – пробел.
Стравинский как говорил? Сергей Романович как говорил, если говорил? Кому? Себе, Тамерлану, Алешеньке, всем говорил, когда говорил. Сказал однажды, вырвалось. Про себя сказал: А что если я закладчик? Тот, что душу заложил. Сами знаете кому, даже упоминать боязно. Что, если так? Заложил, а сам не помню. Ничегошеньки не помню. Какова цена? Как-то же должно быть оплачено, возмещено, компенсировано. Что-то же должно было произвести на меня впечатление? Пусть не оглушительное, но всё же, какое-нибудь, хоть какое-нибудь. Чего ждать? Глотну с вашего позволения. Вот, кстати. Любовь во мне робкая, проглядывает робко, убогая любовь, темная. Выглянет и спрячется. Так что не в любви дело. Что тогда? Какова цена? Не помню, ничего не помню. Стихов не записываю, денег не коплю. Стихи погибнут, сам погибну, хоронить не на что. Скорее всего, сожгут. Все – закладчики. Вот я понаблюдал некоторое время, специально – все как один. А по нынешним временам – и дети малые. Кружочки, тряпочки. Всех сожгут однажды. Не слушайте, это – по глупости. За гробом разве что Тамерлан пойдет, если выживет. Да как же пойдет, когда и гроба-то не будет? Видели бы вы мою дырку на подштанниках. Алешеньку потерял. Что я такое, в самом деле? Зачем закладывал, если закладывал? Просто так, куражился. Это возможно. Вполне. В духе традиции, так сказать. Бессмертие? А на что оно мне? Я уже теперь устал, пожалуй. От людей устал. От людей и снега. От детей неразумных. От колесниц и поклонов. От людей.
Диттер, например. А у него прыщ на шее не проходит. Ворот натирает. Боль невыносимая. Женщин боится. Страждет, но боится. Я тоже их побаиваюсь, страсти особенной не испытываю, в связи с запоями, но побаиваюсь. На всякий случай. Устал. Придет и скажет – денег тебе принес. Много. Сразу же с ума сойду. Немедленно. Кому смогу объяснить, что денег не возьму, не сумею? Это же на смех поднимут. Мне, конечно, все равно, а насмешникам как после этого жить? Такие беды сразу, неурожаи, эпидемии. Грех смеяться-то, видишь как, иногда смеяться – большой грех. Мне верить можно. Смеяться надобно осторожно, с умом. Что делать? Это же такая сумма! Камень на шею. Немного – пожалуйста. С небольшой суммой распорядиться смогу. Котлет накуплю, водки. Вместе посмеемся. Когда сумма небольшая – смех светлый, бисер. А если чемодан? Диттер, Диттер, а что я без Диттера? Куда я без Диттера. Скучаю. Скучаю, но устал. От Диттера, от других мужчин, от женщин устал. Не хочу я человеков ловить, никогда не хотел. А когда выпью, как будто легче становится. Стихи просятся. Не стихи – звуки. Так это у всех. Из Тамерлана тоже иногда нет-нет, да выскочит. Как выскочит, как выглянет. Преступных мыслей не имею. О самоубийстве не задумывался никогда. Разве что выпить? Не дай Бог любовь грянет. Про себя сказал. А вслух так сказал: что если закладчик?
Это же какие страдания! Никто не понял, но задумались многие. С ним всегда так, со Стравинским Сергеем Романовичем. Да и мы не особенно-то меняемся.
Биография – пробел. Факты биографиям противопоказаны. Факты – пиявки, заусенцы, запекшиеся раны. Пирожки печеные с печенью. Печенеги. Печные улитки. Высохшие почки. Четыре черненьких чумазеньких чертенка. Кляксы чернильные. Червоточины. Химические карандаши. Упоминал уже. Грозное оружие. Контрольные отпечатки. Слипшиеся снимки. Упоминал. Снимки фломастерами расписанные. Упоминал. Лишним не будет. Контрапункт. Главное слово.
Контрапункт.
Губки как у вампира. Ушки на макушке. Стриптиз, стряпуха, стряпчий. Кровосмешение. Можно, конечно, выколоть глаза, но это уже не спасет. Хотите знать, как оно было на самом деле? Не трудитесь. Включите радиолу. И уберите герань с подоконника. Нет, пусть остается, щемит. А радиолу включите. Цфасман. Гордеев. Утренняя гимнастика. Этого вполне достаточно.
Кто теперь вспомнит, что Иона семечком отравился? Едва спасли. Или не спасли. Это еще до кита было. Или не было. Или уже после кита. У каждого свой кит. Всплывает однажды. Раньше или позже. Деревенщина. Глаза хитрющие. Глумится, вопрошает. Да, кажется семечко – это уже после кита было. Так что вполне мог отравиться. Но разве это имеет какое-нибудь значение? А когда бы кит его всё же переварил? Возможно такое? Нет. Невозможно. Вот тебе и право выбора. Вот это был бы фокус. Это не кролик в шляпе, тут вторым Потопом попахивает.
Ци.
Расходились по одному, парами, группами. Люди, собаки. Вороны крестиками метили. Свои. Сперва чурались, конечно. Думали, потепление, снег серым станет. Здесь так не бывает. Ну, может быть, на час от силы. Не больше. Молоко. Молитва. Сама по себе. Можно только повторять. Лучше всегда. Если всегда повторять, всегда и настанет. Не веришь? Проверь. Лакомств не много. Это хорошо. Ничего. Одну войну пережили, другую. Справились, ворон не разогнали. Свои все же, как ни крути. И снег. Куда мы без снега? И, главное, откуда? Вот вопрос. Главное ли? Вообще вопросов много. А пища сильная. Мослы. Сильная пища. Сил придает. Небо тусклое, но живое. Подрагивает. Девственность. Природное. На века. На два-три века хватит, если молодцами будем. А пафоса всегда много, когда такая зима выдалась. Так что не ругайте, сделайте одолжение. Ругаться – грех. Потом, Расея, не забывайте.
Игорь Федорович поворачивается на правый бок.
Вот говорят, мир совсем не то, что есть на самом деле. Бытует такое мнение. Часто притом. Говорят повсеместно. Говорят, жалуются, предъявляют, отчаиваются, претендуют, требуют и просят. Повсеместно. В городах и весях. С недавних пор, сколько себя помню. Диафрагма, до, делирий, дереализация. Панические атаки как мошка. Порывы ветра. Потолок течет. Таз уж полон. Зеленый, эмалированный с запекшейся ранкой на боку. Потолок всегда. Душно как перед грозой. Душевные болезни проникают, просачиваются. Духовные тугодумы овладевают. Бытует такое мнение.
Душевные болезни – с водами и ветрами. Доктора – в городах и весях. Рассаживаются, руки на столы выкладывают. Дождливо и пурга. Нога на ногу, руки выкладывают. Холеные, белые. Потепление. Повсеместно. Блики. Голоса. Вены. Эмаль, потолок. Трещины, узоры. Ветви больной войны. Господство. Униженные и просветленные. Слаб человек. Бесконечно слаб. В этом смысле предметы устойчивее. Неизлечим. Нет? Намочите полотенце кто-нибудь. Прошлое. Цифры. Мысли топорные, плач то и дело. Уж лучше пустота. Пустота – облегчение.
Рассаживаются на стульях. Окладисто, окладистые. Решительности не просматривается. Обнадеживает. Доктора – отцы. Один в особенности. Стравинский Иван Ильич. Закатывайте рукав, закатывайте. Больно не будет. Конечно. Не вижу оснований соглашаться. Всегда. В данном случае – в особенности. Противостояние. Рапана, память о детстве в панаме, в Анапе. Напольные часы. Стоят с 1905 года. Истина. Черные от горя. Истина. Писец канцелярский, пресс-папье, диагноз. Навсегда. Рапана навсегда. Канцелярия. Петли вяжут, строки, облака набивают. Повсеместно. Справедливости ради, у отдельных докторов – карманные часы. Обнадеживает. Тысячу лет не видел карманных часов. Так долго живете? Всегда. Все без исключения. Не обращали внимания? Часы не обязательно красивые, некоторые – совсем некрасивые. У Стравинского – мертвая черепашка ни дать, ни взять, зевает, жмурится. Солнечного света не выносит. Скулит тихонько как на приеме у дантиста. По вечерам. Зимой ночи долгие. Лиц нет, лица желтушные. Якутия. Цинга. Часы. Олово. Ожидание. Некоторые дремлют. Никаких перемен. Впрочем, звонка не будет. Ждали звонка? Так его не будет. Привычка. Давно путешествуете? Ждем пока. Поклон.
А где здесь уборная. Вообще уборные у вас имеются?
Пассажиры дирижабля от 15 января. Они же – пассажиры поезда сопровождения «Анапа». Рейс в 00 часов, 15 минут. Некоторые из них наши знакомцы. Павел Сагадаев, актер – повесился на колосниках в день премьеры «Макбета»; Климкин, городской сумасшедший – застрелен случайно в процессе сыскных мероприятий; его невольный убийца, следователь С. – простыл в процессе сыскных мероприятий и умер от пневмонии; отец и дочь Крыжевичи – вечные путешественники; пропавший без вести Дмитрий Борисович Насонов – как и положено в подобных случаях, весь в белом; полковник Веснухин о двух ногах и его стремительный конь Арктур – о шести; сестры Блюм – погибли вследствие отравления сухими ваннами доктора Гуркина; пожарные Фефелов и Сопатов – у обоих разрыв сердца вне тушения пожара; звездный мальчик Алеша – в летаргическом сне; профессор Диттер – исследователь; водитель троллейбуса Улитин – убит вольтовой дугой; неисправимые хулиганы Гуня и Тепа – проникли без билета; впавший в детство детский писатель Волокушин – дурной каламбур, согласен; неопознанный маньяк Григорий Г. – в сумеречном состоянии сознания. А также Леонид Жаботинский, полный тезка Леонида Жаботинского; задумчивый осел Буриданов со своей ослицей; бывшие вертухаи Затеев, Сотеев и Либерман, поклонники кроссвордов и чифиря; доподлинный вор в законе дядя Гоша; слесарь дядя Гена, хороший, даже лучший в своем ремесле; кофеинист Дятел, по прозвищу Дятел-кофейник, поклонник неважно чего, просто поклонник, эрудит и полиглот; Жар-птица цвета опадающей листвы, от частоты употребления с выцветшим бессмысленным взором; Жанна Марловская с супругом Жоресом, бывшим вольтерьянцем, заикой и кухонным аферистом; либералы Глисман и Чулков со статьей о ленинско-сталинском призыве; апрельский кот Фофан – сплин, шерсть клочьями, глаза гноятся; трескучая и безутешная Нянина; в рифму к ней няня Зоя с безвольным карапузом на руках, у карапуза несварение третьи сутки, кора дуба, дом пропах болотом; корректор Глинин, весь, точно телефонный справочник, в бурых каплях неведомого происхождения; незаконнорожденный внук Мао Цзэдуна Сергей Цзэдун с флюсом; катала Гренкин о четырех зубах и четырех женах, на каждую по зубу; Зарезовы в полном составе с живым всё еще петухом; розовощекие цыгане Петр и Ляля Заблудные; цирковые лилипуты Борис и Гракх, в особенности Гракх; шансонье Камаринский; путейщик Паклин, вперед лети, с гайкой в голове; клоун Пепа; слон Гром без хобота; работник зоопарка похабный поэт Костырев и его частушки; бывший летчик Аркаша Геринг с яйцами и птенцами; гей Матюша Керенский, разумеется, в женском наряде. Еще кто-то. Остальных не знаю, вижу в первый раз.
Поклон как ритуал. Как сказка.
Конечная станция. Будто бы конечная станция. Конец пути. Дом. Комод. Хижина толстяка. Старость. Врешь, брат, не конец. До конца далеко – далече. Да и нет никакого конца. Безвольное путешествие. Куда кривая вывезет. По течению не всегда сон. Вот и события. Уж мы-то знаем. Наши чайники всегда кипят. Чумазые. Толстые. В коммуне остановка. Опять же, всегда прянички. Сушки. Даже когда снег сухой. Что-то сухой на этот раз. Или кажется. Нам – хлопья подавай. Мы любим, когда хлопьями. Переводные картинки. Блюдце. Как-то не разбилось. Погром недолго длится. Это только кажется, что долго. Все проходит. Борода окладистая. Январь, если помните. Время быстро летит. Теперь в особенности. Повтор, да. Но деталь. Будем считать вариацией. На варежках льдинки налипли, кусаются. Были, были варежки. Вязаные. Детские или женские. Но. Тяжелые, мокрые, сердитые. Вернется праздник. Подождать немного. Совсем немного. Так, чтобы уже повсюду лед плакал. Хотя люди исключительно добрые: братва да нянечки. Варежки, картинки, бублики.
А потом грянул мороз, и собачки мои закричали детскими голосами. Ужас!
Вот и станция. Поезд. Тяжелый, мокрый, сердитый. Благостный. Это как посмотреть. Всё равно чудо. Кому как. Ну, что, поезд? Пыхтит, курилка. А без этого никак. Курилка. Носильщики. Сизые. Перегар. В тамбуре эх, ухает. Задумчивость. Повседневность. Заики, пара китайцев. Стали появляться. Первые люди на Луне. Невысокие. Удивление. Кое-где травка пожухлая сквозит. Кунжут. Гравий. Четверг. Из песни слов не выбросить. Одеколон. Солдатики. Сажа. Радость. Снег. Пыхтит. Тарабарщина. Стоим.
А в облаках дирижабль. Увалень. Обломов. Айсберг. Брюхо.
Мост. Преодолели. Тоннель. Преодолели. Скажу, играючи. Впопыхах. Пыхтел. Белая ночь. Те же чудеса. Казалось бы. Но. Торжественно. Торжество. Молчаливое. Искра. Ненавижу. Искра – ножом по стеклу. Куда деваться, уж придумали, развесили. Предчувствие. Нити провести, линии. Гирлянды. Куда лучше гудок. Лучше два. И флажки. Флажков нет, врать не буду. Гудками не перемигиваются. Пару раз свисток слышали. То – чайник или кража. Кожа. Петух или жар-птица. Родня. Вороватая, тряпичная. Кули да скатки. Не торопятся. Замышляют, улыбаются. Чинарики. Родственники. Воруют, чего греха таить. Меха, мелочь. Еще не цыгане, но уже близко. Какого черта на станцию потащились?
Жалеем. Все равно жалеем. Все умрут. Умрут однажды, лягут притихшие. Улыбки, чинарики. Бражники. Век’ами. Не о том речь. А о чем? А вот и цыгане. А вот и дрезина. Мужичок с ноготок в красной тужурке. Семечки лузгает, калека. Прошу прощения. Цыгане. Почти цыгане и настоящие цыгане. Уже серебро. Важность уже какая—никакая. Обязательно. Совсем без красок нельзя. Долго – нельзя. Все как один. Или через одного. Несколько человек. Борис, Виталька, Тепа, Гуня, господин учитель. Какая разница? Нет, немного на самом деле. Вороны крестиками метят.
Ворота тяжелые, чугунные. Утюг. Железнодорожная поступь. Солона водица. Копоть. Волокита. Петушок на трубе. Вот сейчас его хорошо видно. Погрустнел от времени. Маета. Клюв золотой. Сажа и золото. Надпись. 1905 год. В ту пору шестеренки сверкали, не сомневаюсь. Ах, как сверкали! Цыгане помнят. И родня позапрошлая. Иных уж нет. И цесаревич помнит. Игорь Федорович. Матросы как раз выпивали. Знали бы, чем кончится! Всего не упомнить. Нужно ли? В беспамятстве присутствует запах ванили. Надо же такое придумать? Как там? Ай, да молодец? Салфетки узорные. Кружевные чулки у барышень. Кокарды. Бледная маска Шопена. Павлин пыльный. Рука.
Пророчеств.
Снова затеваются. Затеваем, затевают. Никак успокоиться не можем. Каждый раз одно и то же. А с виду – смирение, шествие. Памятью лакомимся. Шестеренки, колесо, водка. По кругу шествуем. Что площадь привокзальная, что дворик тюремный – времена всегда с горчинкой. Сбросить куль мучной, освободиться, оторваться. Леска, спица, слюна паучья, простуда, зрелость. В это время больничная койка незаменима. Не всегда везёт. Безразличие в тазу с бельем, пар, пар, капает с потолка. Анестезия. Шевеление безволия. Собирать насекомых, опять этикетки, аптекарские флакончики. Сушить травы – не моё. Задыхаюсь. Это женщины хорошо умеют.
Пожилые женщины, закутанные в ветошь, тяжелые и ласковые. Куклы тряпичные. Серые и пестрые. Добротные растрепы. Сердитые, добрые. Совместимо, если подвинуться, подвинуться, отодвинуть, забыть. Тогда – пожалуйста. Настой, настойка, вишневое варенье, приключения теней в горнице, медок – хорошо, молочко вспомнить. Если забыть, забыться. Старость в уме держим. Слезки на колесках. Кто в коридоре гремит – заботы нет. Велосипед, ванна, человек, кукла. Гремит и пусть гремит, падает. Эпилепсия. Июль. Чай.
Времена года. Бесконечность.
Чай простыл. Радуга снится. Подстаканник державный. Кремль диктует. Патина. Шоколад. Горький. Черный. Дирижабль в окошке. Белый. Шторки-то раздвинь, одиннадцать спиц. Гляди, не ослепни. Мечта. Грустно немного, чего греха таить? Снимки. Сепия. Глаза пустые, в прожилках. Вернутся такие – перепугают маленьких. Это пока привыкнем. Вот и собирай вместе. Вместе – никак, непременно перепутают, напутают, заморочат. Глазастые, пустые. Все одно – собираются, сбираются, хлопочут, снуют, моргают. Ноты. Счеты. Запятые. Занозы. Кляксы. Паучки. А без этого никак! Вот и живем – хлеб жуем. Корочки, меточки, кулачки. На любой вкус. И ситец, и парча. А подать мне!.. И мелко-мелко. Маникюрными ножичками. И ну, человечков вырезать. Человечков, кораблики. Талант не пропьешь.
Густо-густо горчицей намазать.
Дирижабль – это такое, это. Ну, что там? Дирижабль? Не может быть! Рафинад вприглядку. Зияние. Голиаф, белый кит. Дыня спелая. Потрескивает от белизны. А, может статься, и Туркестан. Или Сахара. Пощелкивает от белизны. Снег, снег. Велика разница. Давид показался уже? Нет? Вот теперь Голиаф. Они, обыкновенно, в паре. Но каждый сам по себе. Колено. Уже совсем другое, мраморное. Склеп. В иллюминаторах личики девичьи, безносые. Не разобрать. Альбиносы. Небесные барашки там. Кто, да кто? Не идиллия, но царств. Не разобрать. Нет никого. Белое брюхо. Империя, да.
Валторна.
Ворочается лениво. Лень. День на исходе. Неронам тоже, знаете, спать хочется. А Давид косматый – ветошь, пятно. Чтобы иллюзий не строили. Голиаф показался уже? Показался, не стерпел. Вот – теперь Давид. Коленочки острые – щучьи скулы. А как жить без иллюзий? Корюшку ржавую лупцует на верхней полке. Рыбы, рыбье всё. Другой, уже не Давид – в тамбуре на корточках. Фикса. Городской пейзаж. Сумерки. Потомки знают, помнят. Цыгане помнят. Цесаревича, юнкеров помнят. Игорь Федорович тоже помнит, Царствие небесное. Ну что, тронулись? Неужели тронулись? Стоим покуда. Ну, и слава Богу. И слава Богу.
Игорь Федорович укладывается на живот.
Спору нет, обветшали немного. Любовь, всё такое. Чего греха таить? Разве регистр поменять? Тональность поменять? Филеи, крючки удят, судят, судить берутся. Мутная водица, мясные помои. Барабанщики. Барбусы, белые манишки. Эти барбусы – носочки детские полосатые. Сколько прежде аквариумов было, волшебных пузырей? Не верилось, что живность. Десятой доли моих речей не понимают, где же им музыку услышать? Ну, что, как улов? Одни барбусы. Детки взрослые совсем. У меня не фразы, даже не слова. Барбусы или корюшка? Корюшка или утюжок все же? Слова были, были, но давно. В самом начале. Но вскоре умерли. Год-два от силы. Это если допустить, что время все же существует. По-моему – профанация. А то, что мы теперь называем словами – оборотни слов. Плевелы. Корюшка да утюжок. Левое ухо болит.
Болит левое ухо.
Все такое земное. Земным остается. Землистым. Приземляемся. Приземлились, дальше некуда. Еще простаки, эти – трогательные, правда, правда, ходочки, ходьба, планы, планеры. Планеров громадье. Уточкин, Нестеров. Керосин. Кровохарканье. Контузия. Летать – не мешки ворочать. В пользу воздухоплавания. Не мечта – тяжелая работа. Бомбы метать, мешки с похоронками. Отчаяние, бутылочка портвейна. Харон сегодня даже умываться не стал. Жизнь без неба – огромная кухня.
Госпиталь. Болезнь, что же еще? Пузыри, остатки, останки. Копошатся понемногу. Доктора. Уж как ругаются. Из петли доставали. Зелень. Ужас. А ну-ка! Щетина. Вата оконная. Носы, уши, вата. Болит. А ты – не спеша, неспешно, если уж решился, решились. Лотки, кюветки, кровяные шарики. Курсив. Стареют. Кашель. Спирт. Тельца. Ультрамарин. Скворушки колченогие. Обратно крестики. Так называемая жизнь. Помню. Домики, домишки, дома, дома. Полустанок. Стульчик шаткий, удочка, форменная фуражка – картуз, бутылочка портвейна. А дирижабль один. Вознесся утешать. И поезд зареванный один такой. Паровоз, хотите? В сумерках фиолетовый. Младенчество навсегда, хоть и пороки, и оспа, и непогода. Пеленать туго. И такая память случается.
Только не аккордеон, умоляю!
Цейлонский чай – совсем другое дело. Только если со слониками. Недаром Сергею Романовичу слоников подсунули. Случайностей не бывает. Проходили. Живи, брат Стравинский, о старости не думай. Не Чичиков всё же – почтальон. Бурки, унты. Хорошо бы очки треснули. Но не обязательно. Вывод. Изъян, недостаток. Еще расшибется, не ровен час. Нос разбить – пара пустяков. И даже обязательно однажды, опыт показывает. В юности жерди высокие. Спать хочется, любить хочется. Колючки, клочки. Они же хотят, чтобы не было привычек, колунов, тьмы. Лампасы, целые лампочки, вентиляция. Никакого шмотья, ячменей и дурных болезней. Так им хочется. Пена мыльная, грязная. Кивая головой. А когда май и кимвалы? Юность всегда Восток. А кровь льдом хорошо останавливать. Если кровь. Верблюды в юности похрамывают. Или в детстве? Шила в мешке не утаишь, вот что подводит.
Север дороже, ближе по духу, по совести. Тройка конечно вспоминается. Но бубенцов не слышно. Щеки обморожены, алеют. Снегири. Открытка почтовая. Изморозь. Скоро весна. Выходит, все же скоро весна. А иначе как? А подайте дедушку, пусть порадуется. В дурачка перекинуться. Водки пригубить. С горки покататься. Дескать, прибыли. Дескать, станция та же, что и в 1905. И в 1842. Ничего не изменилось. Все в снегу. Но бубенцов не слышно кибитку замело. Без бубенцов совсем другая история получится. Бесполезная, бессмысленная, оттого лакомая.
Надежда. Какая-никакая надежда. Ну, что? Тройка. Паровоз. Что еще? Паровоз. Хотите, верьте, хотите – нет. Осталась парочка замарашек родных. Может, больше. Не паровоз, конечно, локомотив. Белесый. Лоснится. Завис. Стоит ледяной. Уткнулся усатый. Во льдах белый кит. Белый. Белокаменный. Белокаменная далеко. Всегда далеко. В подворотне нож. Металл, одним словом. И там и здесь. Это пройдет. Ничего, пройдет.
Вера. Любовь.
Намерены утешать? Сделайте одолжение. Соль. Завис. Стал как вкопанный. Соль-диез. Лакомый. Грозный. Молча стоит. Молча. Поезд. Траншея. Небо. Земля. Синева. Земля. Небо. Между. Мёд. Белый. Между небом и землей. Поезд. Траншея. Гулко. Молния. Медленная. Глыба. Белая. Медленно. Еще медленнее. Лариса. Сестра. Ольга. Балет. Закрывай глаза. Лебединое озеро. Сверху брат. Брат его. Братишка. Сверху брат его. Дирижабль, брат седой. Косматый. Леденец. Глыба. Стоят. Оба. Висят. Между. Между. Меж небом и землей. Гудят. Беседуют. Молча беседуют. Стоят. Висят оба. Зависли. Молчат. Беседуют. Рыбы лунные. Головы рыбьи. Поезд и дирижабль. Дирижабль и поезд. Север. Сом. Навсегда. Молчат. Север. Молчат. Север навсегда. Си-минор. Зима. Верно. По-видимому, навсегда. Будем живы.
Долго ль, батюшка? Долго ль, матушка?
Иней. Сажа. Иней. Сажа. Война щерится. Войне дождика подавай. Накось, выкуси. Январь. Нега. Минор. Си-минор. Грозно. Величаво. А в Грозном снег выпал. Бородачи, кубинцы. Ода. Минор. Псы. Лапы. Холодно. Волки, голуби. Холодно. Собрались. Только собрались, уже расходится пора. Чего собирались? Собрались, собирались. Зачем? Песни пели, лакомились. Расходятся. Расходятся уже. Кашку на ладони крутить. Спички жечь. В кимвалы бить. На цыпочках ходить. Нашептывать. Шептуны. Без слов. Вне времени. Сжалось. Ветошь. Сжалось. Время сжалось. Vice versa. Паутинкой тлеющей оплетено. Когда ночь. Казалось бы, а казалось бы, только, только, только собрались. Только что. Разошлись, расходятся. Неделя, год, чешуйки, лепестки, слюда.
Ну, выпили. Это уж как полагается. Ну, выпили. Одну, вторую. Перекинулись, покивали. Смеялись немного. Гул. Душно. Мороз. Душно. На душе душно. Мороз. Трескучий мороз. Трескучий. Лета хочется. Пусть лето. Да хоть лето. Почему нет? Имею право. Иногда. Жаровня. И сразу жаровня. Нет. Нет, не успеть. Все равно не успеть. Уже не успеть. Не успели, уже не успеть. Куда? Зачем? Не про нас это. Из другой жизни. Там лебеди попрошайничают. А у нас золото. Зато золото. Золотое. Олово, опять же. Паять. У них там полыхают, клянутся кому? Не вопрос. Полыхают, кланяются, священнодействуют. Ночь – не ночь. Веками, веками. Не то, чтобы мы не кланялись. Кланялись, конечно. Какие там приспособления: краны, лесенки, узлы, лебедки, леса! Это я Вавилонскую башню вспоминаю. И впредь. Полыхали. Но. Другие. По-другому. Иначе. Не в себе. Во сне живы. Во сне только и живем. Всегда готовы. Золото. Зато золото. Пятачок с земли поднял, и рад. Боги славянские. Юноши, девушки, жертвоприношение, пожар. Атл’ас.
Кстати, где кочегары? Что с кочегарами?
Ничего не меняется. Хоть Ливия возьмите, хоть Клио. Царств, не больше и не меньше. А то – давай, давай. Высыплет – полегчает. Корь, братцы. Мороз и корь. Когда? Вот – вопрос. Уже с флажком. С фляжкой. Опять же оловянной. И что же там, во фляжке? А ты угадай.
Зато флажок. Это уж как повелось. Свинцово, да, свинцовое. Конечно, мерзости жизни никто не отменял. А мерзости смерти? Кто может похвастаться точным описанием рая? Рай как среда обитания, безусловно, снег или песок. А как же сад? И сад, и кипяток, и всё прочее. Ночная ваза, колыбельная, мечты, мечты. В чем же отличие? В гармонии. Гармония, вот то, чего нам не хватает и то, от чего мы бежим, точно змеи от ужа.
Болота, крем, ладан, подаяние, бичевание, самобичевание, смех, пакетики со смехом, щекотка, карабканье, сонные города, доброе слово, случайное слово, сны кружевные, подвязки, успех, туфельки новые на зависть, фенечки, серенады, леденцы, отбивные, прелестная аккомпаниаторша, даже пот из подмышек не вызывает уныния, мои первые книжки, книги-друзья, прощайте, друзья, шампанское, сусальное золото на Рождество, собачья радость, кошачья радость и прочее, и прочее.
Где?
В коротенькой рубашке, и больше ничего, спускаешься, мокрая прядь на лбу, улыбаешься той самой невинной улыбкой. Откуда? Кто там наверху? Кто там был? Мечты, мечты. Рай – запретное всё. Всё такое. И какая разница, что дальше? Какие там «не включай свет, не желаю видеть» или «ну, вот и всё»? Теперь-то какая уже разница, когда все обойдется? Прелесть – такое свечение, такая отрава.
Чем вечно облизываться, уж лучше стремглав, с разбегу. Уставятся, уставится, всё такое. Гремя ключами в кармане. Поигрывая канцелярским ножом. Действия, лишенные какой-либо духовности. Допрос – горе. Всякий допрос. Садитесь в лодку, я рядом поплыву. Отрицание гармонии, протест, вот что. Впрочем, ничего нового, ничегошеньки. Удар в данном случае – глупость немыслимая. Лучше поставьте воду греться. На улице снова минус тридцать. Собаки в клубочек свернулись, спят. Ничто не вечно под луной. Прощай и здравствуй. Страсть, таким образом, не ослабевает. Зато радость. Мюзик-холл.
Скоро, скоро призовут, так что какой смысл?
Ложиться спать молодой женщине следует около часа ночи. В постели – перелистывать французский роман. Засыпая, ни о чем грустном, неприятном и тяжелом не думать, в особенности об убийцах, нищих, мышах, пауках, привидениях, страшных болезнях и пожарах. Следует помнить, что спокойная совесть – лучшее средство для спокойного сна.17
Слова перебирать. Мат на мате. Ничего, живем. Музыкой, я бы сказал.
Тот в тюбетейке, сказал бы «с прибором». С него станется. Обречен. Не осознаёт, щерится. Тамерлан. Выбрал же себе имечко. Смеёмся, слава Богу. Еще не растеряли. В сущности – дети. Великий замысел. Детьми рождаемся, детьми умираем. А посерёдке гвоздик. Петушок ледяной. Темя уберечь. Тот в тюбетейке себе не принадлежит. Так что он вне порицания. Порицания, осуждения, обсуждения. Он – другое загляденье. Губкой, мылом мыть – не доскребешься. И не ищи. Слушай, вникай. Вникать не нужно, смысла нет. Просто слушай мелодию, вой, плач. Удивляйся, если можешь. Терпи. Восхищение возможно, но понять не трудись. Всё выше понимания. Даже мелочи. Или восхищайся. Сильный человек. Сильный восточный человек. Знак – Луна. Двусмысленность.
Кто вопросам обучал, научил? Поощряли. Сладостями закормили, халвой да поцелуями. Казалось бы, казалось бы. Даже звенит. Ну, что? Воевать, щериться, зубами клацать? Опять? Сызнова? Портянка. Простыня. Бант. Бинт. Дальше – мат на мате. Запорошило, занесло. Что там под корочкой льда шевелится? Кто? Весна? Весна священная? Так называемая биография казнит таких нещадно. Складывает штабелями.
Вот и свадебка. С кем такое происходит? Ни с кем, со всеми. Страницы удобрены. Не я, не со мной, кто угодно, только не я. Справедливость. Угри жаренные. Чуть не умер со страху. Чуть не считается. Или долгие болезни, чем не война? Теплушки. Там теплушки, здесь теплушки. Так, отдельные эпизоды. А если в целом – ничего не помню. И нечего вспомнить. Запахи, конечно. Но запахи – отдельная история. У запахов своя история. Самое иррациональное, что можно было придумать. Всевышний гениален, Его, тем более, никогда не постичь. Кто сомневается – пожалуйте в крапиву.
Стараться не думать.
Сейчас, сейчас, вот, кажется, вспоминаю. Лоб. Синева. Что там, что? Хляби весенние. Заводи шелка. Напрасны красные одежды. Влечение. Зов. Нектары. Ну, что? Дикий пейзаж: нагромождения скал. Две, ну вот, юноши, девушки. Грот далеко. Лани. Девушки, юноши. Эти – смертные. Не спеши. Звуки хвороста. Старость далеко. Близко. Старик, грот. Сейчас, сейчас. Все забывается. Здесь перламутр. Водопад локонов и брызг. Тела – лианы. Свить, вычерпать нетерпение. Всматриваясь в священный камень, ждут. Ждут вещего знака. Флейта. Не забыть вытереть рот. Поцелуй покрывает. Желанный. Стыд. Дыхание, зов. Ветер. Восстал. Ярость треска. Паутина звенит. Весна волоокая. Восстал. Сосредотачивается, сосредотачиваются. Вода чемеричная, черная. Воды. Желание. Травы. Острые. Лезвия, лядвия. Полно. Подъем. Поднимаются. Девушки поднимаются, юноши. Плечи. Шелест крыл. Взмыли. Пестрые, кто? Грачи да грёзы. Зима долгая была, долгая. Ничего, ничего. Восстают, поднимаются. Айда. По кругу, по кругу. Голые, голое. Опрокинут. Запах опрокинут, земли изнанка. Тепло. Горячо. Старец. Не пойду. Я не пойду. Старец. Долгожданный. Черт бы его побрал. Слепой? Старость, страсть, следы влажные. Тянутся. Долго. Хороводы. По принуждению, нет. С опаской, с любовью, руку не отпускай. Горячо. Гнездо воронье. Хорошо, хоть искупались. Успели. Не трогал я, не трогала. Глаза отводят. Тонуть. Утопленница. Головешка, мечта. Курган. Хорошо. Страшно. Куда он их ведет, куда? Жмурки. Зажмуриться. Жмурки. Голое всё. Айда. Курган. Гнездо побольше, большое. Омшаник, прорва. Восстал. Вздымается. Туда, туда. Там радуга. Норка. Освещенная норка. Нора. Дыра. Крот безжалостен. Боль. Больно будет. Не будет. Больно не будет, айда. Сладко. Лакомый. Нора, дикость, руки белые. Мыла, вымыла, вымело. Жалко их, всё равно жалко. Жалел, плакал. Даже плакал. Лечь нельзя. Закрыться, спрятаться. Никак. Идем, идем. Старец. Никак. Никита или Глеб. Сварог. А сначала казалось – старик. Сварог всегда юный, всегда на корточках. Изготовился. Костяшки литые. Хоровод, барабаны, хоровод, барабаны, барабаны, барабаны. Рим, ритм. Трах-бах – лужайка лужица. Ноги молодые. Жарко. Прощай зима. Слезы лить. Прощай, поцелуй, земля. Горим, избранные. Избранные, горим. Вот и вся весна. Священная. Вот и всё. Плясать пока. Когда каждый человек, нет не каждый. Званых-то много. Нет, не гордыня, нет. Само как-то получалось. Теперь вижу, как все глупо.
Встретил Нижинского колченогого, Синюю птицу. Весь в пыли с детьми в лапту гоняет. Спрашиваю его, что ты делаешь, Ваца? В лапту гоняю. Вот и весь сказ. А в голове так и крутится – ноги делать надобно, лететь к чертовой матери. Лететь, такт отбивать, минуты, часы, год, чешуйки, лепестки. Как вспомню, сердце сжимается. Не был бы смертным, застрелился бы к чертовой матери. И то. Что делаешь, Ваца? В лапту гоняю. Любишь? Нет. Голова болит. Гоняю, сам на лавочке лежу, тишину слушаю, за паучком наблюдаю. Письмо будет. Не будет. Сюда письма приходят? А оно тебе нужно? И то верно. Голова болит. Уже неделю как. Выздоравливаешь. Успокоился хоть немного? Сугробы уже рыхлые, так что – да. Можно выспаться, наконец. Темечко болит. Давление. Дурь выходит. Дымком потянуло. Следы на сцене еще теплые. Пуанты. Икры гудят. Тает все. Почки набухают. Розовые, светятся. Ветерок теплый. Рембо. Кандинский. Перебираешь? Перебираю, считаю, пересчитываю. Пальцев уже не хватает. Так спокойнее. Здесь покойно, хотя весна. Я таких длинных шарфов отродясь не видел. Как бы не удавился. Еще женщины. Женщины, конечно. Одна, в особенности. Весна, грязно будет. Ничего, подсохнет. Но каков Бородин, а?
Орда. Еще споем.
Оратория выходит, пропади она пропадом. На лавочку хочется. В Летний сад. И уснуть. Поспать часок-другой. Кто их считал? Томительное ожидание. Протяжно, гулко. Тлеет. Нет. Да. Вокзал. Всю жизнь на вокзале. Копченой колбасы, куриц, деток орущих. Короеды. Дым, дым, вина подайте молодым. Молодость – спорно. Кровь из носу – это уж как повелось. Бекар. Дым. Клубы дыма. Картошечка отварная. С укропом. Пар. Кольца. Колодец. Колокольчики. Грустят, позвякивают. Хрустят, позвякивают. Нет. Грустят. Шеи, запястья, пальчики, пальчики, огурчик соленый. Закуси. Закусить надобно. Закусывать нужно непременно. А поутру фонтан. Громкоговоритель. Мелочевку собрать. На кефир и венок.
Сажа вьется. Сверху.
Сверху. Если сверху посмотреть, с высоты дирижабля посмотреть. Или снег. Или это снег такой. Черное, белое. Ну, да, дирижабль. Окошки маленькие, иллюминаторы, луна. Покой и воля. Ну, да, дирижабль. Пушкин. А лучше не придумали. Лучше покуда не придумали. Завис, висит белобокий. Амбар как амбар. Можайский да Нестеров. Говорю же, кольца. Хлопоты. Хоть удавка, хоть наколка. А кочегаров не видно. А вот кочегаров что-то не видать. Пыхтение. Мокрые доски. Черные. Крап. Храп. Пыхтение да искры. Живем, стало быть. Пламенный мотор. Кто бы помнил их сраные имена? Если в окошко выглянуть. Если посмотреть. Эх, выглянуть, глянуть, выглянуть! Не плюнуть. Нет. Гаркнуть? Нет. Эхо? Нет, нет, повода нет. Мажор. Откуда? Мажор? Не сказал бы. Выживаем. Любить и жаловать. Любить, жаловать, жалеть. Жалейка. Далеко-о-о. Смотреть, осмотреться. Лазурь. Плавно, плавненько. Плавно так, с пристрастием, легато, замереть. И замереть. Главное – замереть. Объекты, субъекты, всё такое. Равнина, шествие, диво, деяния. Медленно. Приметить. Медленно. Но. Ввысь. Ввысь. Все выше и выше. Ввысь.
Или, напротив, суета. Тишина такая, и вдруг, набежали, черти. Суета и триумф. Пусть. Праздник. Ванилин. Шишки. Ожоги. Пальба. Бочки. Флаги. Ленточки. Синие ленточки. Синие, белые. Шаляпин, Коровин. Бочка. Эх! Пальба, стало быть. Не по злобе. Праздник. Намечается. Праздник намечается. Пройдет – побросают. Ветвей, что после драки. Сом. Брюхо. Суета. Не без этого. Маета. Радость. И снова тишина. Январь. Эх, взглянуть бы! Взглянуть разок. Изумиться.
Для выводов и легенд.
Окошечки у вас открываются? Иллюминаторы открываются? А в щелочку можно? Хотя бы в щелочку. Ну и? Овраг. Пугать не хочется, но овраг. Дыра, отверстие. Больших рыб не видно. Латимерии не видно. Глубоководных не видно. Дна, сами понимаете, быть не может. Рыбы обыкновенные. Самые, что ни на есть, обыкновенные. Щука, карась, нужда. Так называемый простой люд. Пороша. Пожары. Медленно. В рапиде. Незначительное похолодание. Плавно, плавно. Не спеши. Незначительное похолодание. Незначительное. Сугроб. Сугробы. Уголек. Пень. Уголек. Тлеет. Почему? Тлеет. Решето, решетки. Много решеток. Песня повисла, песенка. Тоже висит. На проводах. Или, к примеру, сахар. Не соль – сахар.
Ах, вот оно что? Так это сахар? Не соль? Сахар. Сахарное всё. Поскрипывает. Поскрипывают. Поскрипывают. Зияние. Зияние еще. Ну, что? Зияние? Зияние. Зияет. Это уж как повелось. Этого уже не отнять. А есть желающие? Смешно. Очень. Ну, что? Священнодействуют, поскрипывают, витийствуют, поскрипывают, шепчут, шепчутся, шепчут, поскрипывают. Бывало, вскрикнет. Кричат иногда. Случается, кричат. Птицы. Жар-птицы. Петушки. Роженицы. Детки. Галчата. Вороны. Цыгане. Но. Не слышно. Ротики, язычки, флажки алые. Летаргия. Выглянет и погаснет. Выглянет и погаснет. Как рыбы, рыбки, рыбы, щука, карась, нужда. Равноденствие. Рано, рано. Равновесие. Смерть? Рано, рано. Равновесие. Чу, постукивают, пощипывают. Ушки, морозец. Кол осиновый. Вдруг. Не хочу. Не хочется. Не хочу.
Что, тронулись? Никак тронулись? Кажется, тронулись. Вдруг. Внезапно. Вдруг – не хочется. Взлетаем. Мало ли? Мало ли?
Лапоточки. Вот-вот, пусть. Лапточки. Лапоточки, лопаточки. Побежали. Побежали вослед. Вприпрыжку, вразвалочку. Бегут, кто как умеет, кто как может. По рытвинам, по сугробам. Снег. Будет баба, глаза – пуговки. Не разучились. Сами по себе. Безбожники. Работа, алкоголи, сами по себе. Пьянь. Герои. Привет, Аполлинер. Приехали. Привет Аполлинер. Привет, Обломов. Вам из окопа, с кровати виднее. Из окопа виднее. Из оврага виднее. Пусть овраг, хоть оврагом назови. Солдатики, солдатики, солдатки. Насекомые. Жерло. Головешка. Привет, Аполлинер, здравствуй. Место подвигу – жаровня. Черная дыра. Семечки каленые. Лузгать, бормотать. Действие. Опять же роды. Тронулись, кажется. Богатырь, увалень, наш человек. Обломов. Война. Просторы. Потолок. Предвкушение. Состав висит тем временем. Как дирижабль. Отражают друг друга, отображают. Перешептываются. Не мигая. Без флажков.
Сизый нос, сосулька, заноза, тюрьма. Мечта и песня.
Купе. Душно. Тает. А весна придет? Затакт. Герои былинные, что твои черепахи. Конники – что твои черепахи. Черепашки. Того и жди. С дирижабля, из оврага хорошо видно. Каждый затылочек наперечет. Иллюзия. Скопление множеств. Солдатики. Насекомые такие в красных рубашонках, хорошенькие такие. Идут, идут, идут, идут. Секунды. Пиччикато. Замарашки, семечки, дробь барабанная. Ну, как положено, маки, бинты. Влага. Герань. Водка. Дрожат гаражи автобазы.18 Дедушка Мороз. Опять революция? Мама! Живем! Жизнь продолжается. Кажется, удалась. Летом крысиный порошок. Пыльца. Солнце ласковое. Ситец. Рано, рано. Этим летом цветы удались. Анютины глазки. Загляденье. Пчелы, осы, рытвины, вороны. Лето. Брызги. Рождество. Рождество – потом. Не важно. Хочется Рождества. Немного осталось. Потом весна. Или наоборот. Не важно. Ленточки. Ели, псы, лапы. Лампочки. Коленочки. Раки. Тает, тает. Весна. Брызги. Лето. Рано.
Мечта – голубка. Яичко золотое.
Вы, простите, самостоятельно забрались, или помогал кто? Это ваш петух или соседский? Жене кто из вас изменял, вы или жена? Женина пижама, пуговичка оторвалась. Не курите в форточку, не ровен час, простудитесь. Рубиновая. Как там внизу, все еще идут, шествуют? Идут, идут, идут, шествуют. Шарики кровяные. Дышит овраг. Дирижабль. Январь. Яичко золотое.
Полчаса, и расходятся. Полчаса, не больше и уже расходятся. Минул век. Не успел волкодав вскочить, в загривок впиться. Зевнул, на другой бок повернулся. Зубами клацнул, муху соленую споймал, на другой бок повернулся. Прощай, Ося – керосинщик. Здравствуй, Ося – керосинщик. Анапа. Следующая станция Анапа. Спать ложись, дирижабль, гаси окошки, обратно ночь. Нет Оси. Никого нет. Не будет. Уже ничего не будет. Поземка, пурга с мишурой пополам и всё. Вьюга кольцами и всё. Нет никого. А кого хотелось-то? Были, да все вышли. Куда? Не знамо, куда. Без выводов. Продолжать наблюдение вышли. Первоначально может показаться, целенаправленно. Мучить друг друга, например. Заново мучить друг друга. Или прославлять. Или вместе спасаться, например. Гуртом от каждого по отдельности спасаться.
Грядущая беда жалит солдатиков-то. Предчувствие беды. Вот сколько себя помним. Сколько себя помню. Трещим по швам, да в жаровнях. Любовью спасаемся. Любовь – ловушка. Всегда. Световая. Случается и мешковина, справедливости ради – случается. Мешковина и мослы. Но это – редкость. Так что каждый – сам по себе. Всегда. Женщины в первую очередь. Всегда. Мужчины в первую очередь. Женщины и мужчины. Женщины в первую очередь. Почти что всегда. Всяк своего козыря. Потому слепнем к старости.
Искры, щелчки, ночь. Движение по кругу с неизменной чернотой в финале. Ой, ли? А если свет? Если в финале свет. Ловушка? А когда гало? А приснопамятная вольтова дуга – смертельное коромысло, Илья и Михаил? Конечно, слепнем. Глохнем, слепнем, немеем. Как Стравинский. То есть добровольно. А как? А как же? Теперь, пожалуй, чаще. Теперь, прежде, завтра. Крепко-накрепко к стульям привязаны, конники кукольные, зеваки затмений. Можно повторить. В повторах, как говорят ортодоксы, весь цимус.
Не ортодоксы? А кто?
И не отрекайтесь, и не кайтесь. Было, есть и будет. Повторяем, повторяемся. Но. На раз вспыхнем, если гроза. Снег сухой – гроза сухая. Зима. Не важно. Чуть что – на раз вспыхнем. Нынче или погодя. Вспыхнем и разойдемся. Полчаса – и вся любовь. Будто и не было ничего. Пурга, да поземка. Минул век. Слепота. Опять слепота. Этак волкодав, не ровен час, издохнет. От голода издохнет. Ничего, переморщимся, перекантуемся. Музыка.
К музыке тянемся.
Столпились, тщимся. Неслышно. Жаль. Позже, позже, никогда. Так и живем. Если сверху. Да хоть и не сверху. Очевидное. Слепота – слоистое словечко, язык слоеный. Еще «куриная слепота». Это уже резкость навели, большой свет включили. Даром. Детское название. И всякий раз, когда уже, казалось бы, последний подзатыльник и смирение, хляби и исход – снег. Альбом. Это – что называется, под другим углом, в другой тональности. В другой тональности – Расея, Сибирь, сладостно и пух. Снег, много снега. Большая стирка. Спасение. Спас. Синева. Другой аккорд, другая тональность.
Да уж сказано теперь.
Бардак, не спорю. Модное, словечко «зудится». Вот затаскали, обслюнявили. А торжественность, все одно, проглядывает. Торжество. Крапивница! Шутихи! Колесо огненное! Нет, нет, от торжеств нам никогда не очиститься. И хорошо. И гордость и парад. Как у Гомера. Тот старик на Гомера похож. Еще думаю, откуда слепота? Слепнем. Да. И не спорь, не люблю. Гимн. Стоять буду. Лично я – встану.
Вроде бы муравейник, но ведь всякого муравья можно взять в руки, подержать, получить укус, в результате вздрогнуть, одуматься, выздороветь. И зимой. Настаиваю. Мы времен, в том числе и времен года не наблюдаем, нам это – лишнее. Во вторник – март, в пятницу снова январь грянет. Выглянет, глянет, заглянет с морозца, щеки пунцовые, зубов не пересчитать. Не доводилось белых муравьев встречать? Нет?
Рассеянность. Закономерно. Одной ногой в муравейнике – другая уже далече. Ступил, наступил, наступили, наступил, вляпался. Всегда вдруг. Всегда – гром средь явного неба. Что такое снег? Выводы, напутствия, выводы, печали? А надо ли? А когда середина жизни, самая сердцевина? Пожалуйста – солнцепек. Все эти закономерности – мура. Где угодно, только не в нашем дворе. Вдруг. Чудо. Всегда. Так привыкли к чудесам, что и не замечаем. Еще жалуемся на что-то. Здравствуй, солнышко. И хорошо. И поплачем. Не помешает. Кулинар сказал бы – не помешает.
Николай всегда рядом. Никола. Если прислушаться, можно дыхание разобрать.
Возьмите хоть Сибирь, Сибирь-матушку. Чем прирастает? Комьями. Комья, комья, сырые комья, мерзлые. Тут вам не Париж. Слава Богу! Снег накроет, покроет, укроет наважденьем, негой, тишиной. О ногах уже не думаешь. Вот, к слову, о чем он там, в Париже своем, думал, Игорь Федорович? Что вспоминал? Сибирь разве? А что же еще, когда всё – Сибирь. Если всерьез. От Сибири до Сибири живем, если зажмуриться. Любое слово – возьми, хоть зарубку поставь, к той же кочке и вернешься. Так что смыслы – товарные вагоны. Мчат сквозь вьюги вдоль Млечного пути. Параллельным курсом. Повисли. Висят. Когда жар или озноб, война или путешествие, все равно. О чем думал, о чем Стравинский думал, Игорь Федорович думал, ускоряя, замедляя шаг, ускоряясь или в плюшах разомлев? Об Арктике, айсбергах, хотя встречать не доводилось наверняка. Это же не Амундсен какой-нибудь, с костром и апельсинами. По чистоте тосковал до оскомины. Бессмертие таким-то образом и зарабатывается. Все смешалось. Семейство Облонских. Облонские, Стравинские.
Глаза, глаза.
Хорошие новости. Хорошие. А знаете что? А я не исключаю. Как всё будет? Небо, дрогнув, накренится, только успевай, дровишки подбрасывай. В щель бытия. Тень ли, мышь. Юркнула незаметно. Так события складываются. Камушки. Камушек. Еще не знаешь, куда камушек, ветхой фуфайка судьба. Говорил, все с расстегнутого воротничка начинается. Теперь-то уж что об этом?
А что простаки? Вот как раз простаки и есть контрапункт, напоминаю, главное. Считать шаги, по головам, цыплят по осени, номера на грузовике справа налево, потом слева направо, пингвинов-школьников по пути, кукушкины ку-ку, а этот выпал из гнезда, и полетел, заметьте, об этом стараются не думать, бомжей на вокзале, любовниц, любовников, помечать в дневниках, альбомах, тетрадках, четырнадцать, восемнадцать, семь, счастливое число, радуга, считать, считать, зубочистки, запонки, точечки и кружочки, зубы и зарубки, да, но главное – ротозеи, сирые, убогие, лопоухие, сероглазые, синеглазые, пушечное мясо, птицеловы, попрошайки, наперсточники, хромые и увечные, те, что босыми ногами своими вращают шарик до изнеможения от пепелища до пепелища, прощай, Пифагор, здравствуй, Вавилон.
Хорошо, должно быть, оказаться с ними в пещере или окопе. Тоннель, яма, бойлерная в тенетах, бомбоубежище, когда не до султанов, а крепкие руки ох, как хороши. Страх. Уже не та эмоция. Спас и свет. А, по сему, ничто цены не имеет. Ровным счетом ничего, кроме самого счета, что и есть контрапункт. И что вам мои квартеты, когда так зыбко всё? Что может сравниться с последней минутой, самой последней? Разве что хайку. Моментальный смысл. Навсегда, как вспышка магния. Восемь, шестнадцать, семь. Семерка в финале – неизбежно. Да здравствует Равель. Вы меня слушайте, ребе, я кое-что еще помню. Встречать-то всем вместе придется. Или вам число четыре больше нравится? Ничего особенного. Мог бы и догадаться. Устаю, стараюсь не задумываться.
Паутинкой тлеющей.
Сыплет всласть. Правда-правда, хоть снег, хоть песок. От нас не зависит. Это только кажется, что зависит, не зависит нет. Гордыня, печь. Капли мутные. По капельке. Сочится. Что твое молочко. Вместо снега и прочих даров – зябнем, жалоба. Пустырь, пустошь ледяная, самум, пурга. Свобод. Хочется свобод. Снега и прочих даров несть числа. Царств, откровений. Когда бы ни слепота снежная, куриная ли. Куриц пар. Дом. Еле слышно. Не мешает. Нет, не мешает. Но и не дарит. За окошком, за матовым стеклом пейзаж. Довольно ветхий пейзаж. Одиночество всегда. Не горе – всласть. Доверие. Ab ovo19.
Возносимся. Готовы? Возносимся.
Ну, что, Игорь Федорович? Белым-бело с утреца. Белый, белая, белое. Зала, кровать, рояль, кувшин. Елисейские поля. Вьюга. Намело. Птичья морда – голубь мраморный. Лоснится, светится. Бедные глаза. Птичий гомон. Звук, по счастью, отсутствует. Яичная скорлупа. Всё как-то само по себе. Не помнит. Не помню. Безмолвствует. Невозможно покойно. Не зря. Наверное, хотел поработать. Наверное. Чтобы никто, ничто не мешал, не мешали. Не исключено. Непременно. Хотя, какая теперь работа?
И подумать не успел, будьте любезны. Тут как тут. Прислали. Входит, садится. Нет, не видел, как вошел. Голову повернул, а он уже здесь. Притихший, скромный, белый на белом. Зубной порошок. С трудом разглядел. Соглядатай. Иллюзия. Сливочная тень. Соглядатай. Говорю ему. Себе. Ему. Нотный стан – совершенство, говорю. Как раз подумалось. Больше ничего не нужно, говорю. Ни скрипичного ключа, ни басового ключа, ни фасада, ни моря. Даже Белого моря. Из этого ничего не следует. Как находите? О правоте речь не идет. Не то время, не те обстоятельства. Спешить, как я понимаю, уже некуда, больше некуда. Юмор остается. Вот откуда юмор висельника. Не унимаюсь. Оказывается, и здесь. Там, то есть. Что-то разобрало, понесло. Ну, безделье, обломов. Еще эти белила. Следовало ожидать, конечно. Кому говорю? Ему? Себе? Говорю или думаю? Или это он мне диктует? Больше нет никого. Я и он. И я. Хорошо, что никого больше нет. Соглядатай не в счет. Будем так к нему относиться.
Продолжим.
Работать, марать. Замарать, по привычке, случайно, в сердцах. Не привык. Хотя обожаю. Этакий разбитной малый во мне. Проснулся, потянулся. Хоть пингвинов вызывай. Не годится. А работать не годится? – собеседник, пожалуйста. Новая жизнь, прошу любить и жаловать. Наконец, жизнь. Это подразумевалось. Каждому по вере его. Пожалуйста. Но и собеседник, товарищ слепящий, не обессудьте. Тут как тут. Бедные глаза. Слепящий и немой. Не ангел, конечно, хотя чем черт не шутит? Кто их видел, ангелов-то? Я, во всяком случае, не видел. Вот так и выглядит. О новой жизни. Товарищ, соглядатай, душеприказчик, возможно. Не ангел, конечно. Это – забыть. Товарищ, бонус, дополнение, дополнительно.
Эффект присутствия, отсутствия, новизны. Извольте. Еще кусочек сахара? Извольте. Инициация. Еще одна смиренная душа. Зачем? Человек. Внешне. Хочется верить. С виду восточный человек. Весь в белом. Говорил. Укутан с ног до головы. Окутан. Сугроб. Башни элефантерии. Чалма. Гнездо. Сам бледный. Точно при смерти. Этого еще не хватало. Хотел работать, поработать, марать, звуки, рояль. Сочинять, сочинять. Сочиняю. Лгу. Сам себе лгу. Шейх. По-видимому, шейх. Почему? Или сорока. Пару черных пятен бы. Для разнообразия и успокоения. Бледный. Еврей, скорее. Почему? Веки. Ни бровей, ни ресниц. Сефард. Сиддхартха. Брахман. Серебро. Сахара. Белая Сахара. Арктика. Амундсен. Слон у входа остался. Пьет. Молоко, что еще при такой белизне. Думаю, так дела обстоят. Пора просыпаться. Так сказал. Сказал бы при других обстоятельствах. Непременно. Парение.
Как будто утро. О тоске ни слова. Мельница. Принято. Положено.
Не знаю этого языка. Достаточно ритма. Ритм – главное. Ах, как сердечко билось в семнадцать, восемнадцать! Пустые хлопоты. Мукомолы. Ворон. Хотелось бы. Пусть одно пятнышко. Скорей бы вечер. Надеюсь. Женщины в мастерских. Сто швейных машинок одновременно, можете себе представить? Душевнобольные. Головки серенькие, гладкие. Сто швейных машинок одновременно. Дровосек. Сам красный, древесный топориком своим тюкает. Велосипедисты. Тысяча человек одновременно. Голенастые, злые. Сопят и спицы. Дворник, судорога, в половине шестого утра. А когда слух такой, что каждый листик, каждую капельку провожаешь? Вот почему зима в моем случае. Зима, сугробы, морозное белье. Об Арктике – ни слова. Арктика. Антарктика.
Девок лапать.
Восточный человек. Прямо напротив. Дышит, не дышит? В уголке примостился, напротив, на подоконнике, на полу, напротив, ноги сложил по-турецки, в головах, откуда-то с потолка смотрит. Вскользь. Боковым зрением. Фокус. Не знаю этого языка.
Вы слона в парадной оставили, с какой, простите, целью? Или просто так? Прислали-таки. Соглядатая прислали. Сомнения прочь. Здесь не разуваются. Не стенают. Полотенца вафельные. Пудра. Моль. А, может быть, он уже давно здесь, просто не замечал. Разглядеть не получается, да и желания особого не испытываю. Ну, здесь свои интриги. Тишина. Ноги мерзнут. Все время мерзнут ноги. Вы мой собеседник? Хотите о ногах? Извольте. Каждый день исповедь. Легко, однако. Подушка не пуховая, как ожидалось. Перьевая.
А так?
Перина. Поворот. Сейчас перья полетят. Заметьте, поворачиваюсь. На левый бок. Замечает, молчит. Давайте что-нибудь из жизней, хотите? По прошествии, до Пришествия. Здесь, где негу и молитву можно потрогать как край плащаницы или воздух. Новое знание. Проговариваю самому себе, все еще не верится, все еще удивлен, как просто, если свобода всегда и тихий вечер всегда. Итак, новое знание: контрапунктом земной жизни, если одинокое шествие по кругу можно назвать жизнью что? Арифметика же.
Забыл, забыли? Этот дедушка с хохолком, грек. С фонариком из тьмы веков. А также индейцы. Несколько человек. Племя. Цивилизация. Цитрусы, цедра. Здесь, здесь. Будете удивлены, будете крайне удивлены. Арифметика же, арифметика пальцев. Каково?
При жизни, слышишь, при жизни, если конечно, если, если наблюдение за стрелками, циферблат, можно назвать жизнью, мы – пас. За стол с ними н садиться. Лишены знаний, ибо в плену анализаторов и логики. Между тем, арифметика пальцев, казалось бы, пианист, мог бы догадаться, не мучился бы догадками в больнице. На этом скользком судне, застывшем между жалобой и явью. Знавал я пианистов и получше, если честно. Но лучше меня никого нет. Теперь уж точно. Так вот… О чем я? Ах, арифметика, зебра. Так вот, арифметика пальцев позволяет предельно точно вывести невиданной простоты, невиданной, слышишь? слышите? лишенную какой бы то ни было игривости формулу, можете для простоты восприятия назвать ее формулой смерти, а лучше просто формулой, всякий поймет, формулу, способную раз и навсегда, раз и навсегда, слушайте, слушайте и считайте, раз и навсегда защитить от болезней и глупости. Раз и навсегда. Допускаю, что майя, Пифагор, а также некоторые так называемые сумасшедшие, далеко не все, лишь некоторые обладают этим знанием, что гарантирует им легкую смерть и защищает от болезней и глупости. Хорошо бы проверить. Если повезет оказаться в палатах доктора Стравинского. Ивана Ильича. Где пальма – пальма, а не часть пейзажа. Романтика – романтика. И человек еще звучит. Хоть Пифагор, хоть майя.
Итак.
Вы и визави: брат, жена, доверенное лицо, сосед, соглядатай, хотите, проверим прямо сегодня? кто угодно друг против друга. Хотите? В интервале между тремя и шестью часами утра, особенное время, особенное, выбрасываете, заметьте, на пальцах десять раз. Не просто так. Комбинации запоминаете, суммируете. В сущности пустыня. Арифметика – пустыня с зебрами. Ни за что бы ни стал, когда бы не любопытство, тяга к знаниям и покою. Как вы самум переносите? Терпение. То чего нам так не хватает. Причина многих бед и головокружений. Головотяпство – отдельной строкой. Видите, разумничался. Со мной бывает. Просыпаюсь. От первой комбинации отнимаете третью и седьмую. Считать трудно, согласен. Воля – койот. Железное рукопожатие. Ангина. Образуется отрицательное число. На минус внимания не обращаете. Чего не скажешь об алеутах. Для них минус – сами понимаете. Но в нашем случае хоть майя, хоть Пифагор – жители юга. Терпение, воля, можно зажмуриться. Будет немного легче. Отнимаете это число от суммы и делите на три. Повторяете процедуру троекратно. Получившиеся результаты суммируете и делите на два. Запоминаете и ложитесь спать. Первое, что придет вам на ум после пробуждения и есть та самая формула. Если угодно – формула избавления, симметричная при любом коэффициенте. На все стороны равна. И тотчас забудьте. Это уже не я с вами говорил, майя. Хотя счет – главное. Уместны ли розыгрыши, правота, неправота, суждения и счет в предлагаемых обстоятельствах? Счет – всегда. Последняя ниточка. Но. Рвите безо всякой жалости. Я пока не могу насмелиться. Привычка. А вы – рвите, если уже не догадались и не порвали. Надобно заново учиться доверять, доверяться. Надо, надо. Уверяю вас, это – не страшно. Может быть, не так весело, как бывало прежде, тогда еще, давно, и не так весело как хотелось бы, но не страшно. И совсем не грустно. По крайней мере.
Во всяком случае.
Наверное, все мы здесь обладаем одними и теми же знаниями. Не означает ли это, что все мы здесь – одно и то же? Кстати, расскажите, каков он, рай? Все говорят рай, рай, и я упоминал неоднократно. А представить себе не могу. Не так, чтобы умираю от любопытства, но все же. Почему не рассказать, если был, участвовал? Не понимаю. Молчат, все молчат. Как будто после бойни. Теперь-то уж, какие тайны? Как ни крути, сложили яйца в одну корзину. Вопреки и наперекор. У пианистов в больнице жизнь невыносима. Как ни крути. В особенности, если у тебя рак. Главное не переставать считать. Считать, считать, считать не останавливаясь. Свобода всегда, тихий вечер всегда и счет всегда. Только что в голову пришло. Падать-то вместе придется.
Беда или горки?
Пустое. Забудем. Будем считать, пошутил невпопад. Водопад в пустыне должно быть очень красиво. Ну, слушайте. Он назвал это «Млечный путь». Понимаете, я еще не родился, а он уже обозначил. Потом болел долго, умер молодым. Он. О нем речь. Но к моему рассказу это не имеет отношения. Он назвал, а я прожил, понимаете? Все эти рыбы, киты – это позже, значительно позже. Мне, как бы это понятнее объяснить? Словом, мне уже было всё равно. Уже всё равно. Женщины разумеется. А как? Прохладные преимущественно. Лепестки. У Аннушки рука тоненькая, стебелек. Букеты, напротив, пышные. Вальсы. Дикость. Диссонанс. Оттого и стрелялись. А по-другому и быть не могло, если следите.
Еще Лариса, Ольга. Разве всех упомнишь?
Смех и слезы светской красавицы должны быть красивы и изящны. Смех должен быть не громкий, но рассыпчатый. При плаче можно уронить не более трех-четырех слезинок и наблюдать, чтобы не испортить цвет лица.20
Однажды, вот еще вспомнилось, на станции. Тоже пурга, однако. Голуби шествуют. Голуби, голубки. Зима. Хоть пингвинов вызывай. Торосы. Все как теперь, но прежде. Репетиция. Увертюра. Одним словом, станция. Собирался в Петербург, кажется. Или Мюнхен? Помню, что станция. Иней. Ирония судьбы. Провожающие, зеваки, цыгане головы задрали, обсуждают. Гляжу, поднимаю глаза, гляжу на небо – дирижабль. Пью жадными глотками. Еще одна новость. Новая жизнь.
Любил. В те годы любил. Годы большими были. Увальни, валуны. Беспокойство. Юность, предположим. Сначала, показалось – белуга. Откуда белуга в небе? Да, если по совести, я и белуги-то не видел, но представление имел, фантазию. Фантазер. Завистником никогда не был. Некогда. Белуга, белуга. Вот так, по моему разумению она и должна выглядеть. А прочие рыбы, киты – это позже. Ну, что? Дирижабль. Первый раз. И последний. Так и остался. Навсегда. В небе. Не сказать, что высоко. Но высоко.
Ну, неделя, ну, месяц, а потом? Кто-то уже не замечает, кого-то раздражает. Инородное тело. Ком. Айсберг. Как видите, не уклоняюсь. У песни короткий век. И у симфонии. Никого не слушайте. Способны, не способны. Что там? Удивил. Всегда тупик. Ничего не знаем. Догадывался. Теперь убедился. Щеколды отливаем. Для ставенок. Роскошно, не правда ли? Небо. Небо, небо, небо. Нотный стан. Больше ничего не нужно. Чистый. С нуля, с начала. Затакт. Восход. Догадывался. Тогда еще догадывался, но сформулировать не смог. Или не захотел. Где же нам радости научить потомков своих, когда сами чистой радости не внемлем. Это же никакой мелочи в карманах, никаких очертя голову не должно быть. Масляны головушки. Метла метет. Крепкие, квадратные, напротив, нескладные, еще гребешки, квадриги, мебель, учет, расписания, цифры, цифры.
А я говорю – небо. И сам себя не слышу. Засунь голову под подушку. Надолго ли? Научиться руководить сновидениями, слышал и такое, а они – тоже череда и спираль, сновидения. Вниз тянут, к самому краю времени. А оно и время – чуждое, приговор. Лица припудрены, это – в лучшем случае. Платки носовые. Футляры. Нет, нет, нет. Как хотите. а вот свобода – и здесь теряемся, бродим зачарованными странниками, по расписанию тоскуем. Или по женам своим престарелым. Небо – это, оказывается, описать нельзя. Нет слов таких и звуков, тем более, чтобы небо-то описать. Кабак – пожалуйста, трамвай – с огромным удовольствием. Соитие – столько сока, утонуть можно. А небо. Спасибо сказать надо, что вообще на него указали. Сами по себе головы поднять так и не удосужились бы. То есть мы, получается – лишние. Все как один. Говорят, лишние люди, а я говорю, люди – лишнее. Но знать об этом не должны. В общем-то, и не знаем. Это правильно. Довольствуемся наливочкой вишневой. В сентябре, когда уже не так жарко.
И комаров не много.
Вот, жизнь прошла, так и не достиг. А стоило? Теперь уже сомневаюсь. Уже не сомневаюсь. Зачем «Млечный путь», когда есть Млечный путь? Не знаю. Долг. Влечение. Воля. Лакомства. Страх. Я уже не говорю о дуэлях, декабристах, японцах, нравоучениях, розгах, переворотах. Вот еще слово – соперничество. Коряга, да и только. Дерево, ель, предположим, с конем из земли выворочена. Что дальше? Птицы, рыбы – какая разница? Это теперь очевидно. А в те времена? А в те времена – Шуберт.
Ну, что? Занавесочки задернул. Поехали. Поезд тронулся. Дирижабль, вероятно, тоже тронулся, но, поскольку высоко, складывалось впечатление, что завис бездыханный. Тем, что на перроне, во всяком случае, так виделось. А мне, поскольку занавесочки задернуты, в свою очередь казалось, что поезд на месте стоит. Стука колес отчего-то не было слышно. Ехал один. Я всегда один. Такие как я. Навсегда занавесочки-то задернул. К лучшему.
Это всё зрение. Чудеса такие.
Итак, время, изволите видеть, остановилось. Перекрестился. Нега, благость, знаете. Оно – всегда недостаёт. Это однажды в больничной палате. Стреножить надо, чтобы понять. У кого-то иначе получается, у меня нет. В сердце – Сибирь. Оказывается, там тоже живут. Оказывается. Выживают. Дым трубой. Пар. Медведи. Не белые, что нарушает. К черту гармонию. Прахом. Битое стекло. И петелька. Знакомо? Игрушка елочная. Словом, час стал. Ну, счастье. Тут же незамедлительно счастливым себя почувствовал, совершенно счастливым человеком себя почувствовал. Минута-другая, не больше. Репетиция смерти. Потом снова застучали. По наковаленкам.
Очнулся, в себя пришел.
Ну, что? Сопение, кто-то заглянул, рыжий, вихрастый. Бекар. Кашель, детский плач, колокольчик. Си-минор, до-мажор. Чужая жизнь, чужая. Повсюду. Теперь знаю. Млечный путь чужой жизнью оплачен, понимаете? Другой жизнью. А без ноги – это Щербаков Петр Иванович такой был. В Воронеже. Ногу в Русско-японскую потерял. Адвокат. Хороший адвокат. Лучший. Порядочный человек. Я думал написать что-нибудь о том блистательном поражении. Ослябя. Наварин. Скерцо. А Щербакова любили. Он и циркача Дурова защищал. Помните такого циркача? Петр Иванович порядочным человеком был. Потому и пил. Порядочные люди пьют. Многие. Большинство. Как-то пережил весь этот ад. Еще кот ангорский, не забывайте. Молчание – золото. Его любимое выражение. И деток своих учил. Все выжили. И, надо сказать, обеспечил. Лошадей обожал, собак. Порядочный человек. Выжил как-то. Утром дрожащим голосом, – Пожалуйста, хотя бы одну рюмочку. Христа ради. Помираю. С первыми лучами солнца. В окружении зайчиков. Скрип половиц, ходики, ложечка позвякивает. На фоне беспамятства. Люблю, когда ложечка позвякивает. А Валукинский – художник. В те времена все хорошо рисовали. Не спорьте. Порядочные люди были. Как-то выжили. Так что – не обязательно.
Лошадьми на воле любоваться нужно. На заводах, на бегах – уже не то, не кони.
Всегда интересно было, что там за оградой. Подобное любопытство всех охватывает. Ну, вот, мы с вами теперь заглянули. Увидели, услышали и убедились, вся эта физика-математика от лукавого. Однако стремления поделиться нет. Конечно, и возможности нет, но и желание отсутствует. Лично у меня. Ибо если поведать, провозгласить, такая пустота обрушится. Оглушение. Если истина разверзнется, окажется – вот он, Иоганн Себастьян во всем великолепии, а больше-то никого. Пуговички медные, румянец. Выше только небо, орган. Всё остальное – хляби и жульничество.
И обязал молчать, как говорится. Каяться и молиться. Зачем тогда всё? Вот вопрос. Вопросы есть? Вопросов нет. Пусть уж лучше поют. И так несладко бывает. А вы кто? Разумеется, следы, ниточки невидимые, послевкусие, отпечатки остаются. Не знаю, может быть, времени недостаточно прошло, пока остаются. Едва уловимое трепыхание. Сумеречная игра мальков, лунная дорожка, волнение осины. Боли, смею заметить, нет. Как и предполагалось. Не знаю, как у вас, вы, видимо, к беседе не склонны, да это и не нужно. Безбрежное путешествие. Если кто о путешествии мечтал, как Олеша, например, добро пожаловать. Любые встречи. Любовь – пожалуйста. Двери, рукопожатия, переулки, каналы, площади, лесные тропинки, горные тропы, лунные дорожки, ау, любые предметы, дикие звери, домашние животные. Грибные места. Единорог – пожалуйста. Сколько раз приходилось слышать, единорог – выдумка, фантазия. Единороги, драконы, прочее. Но вот я произносил «единорог», и каждый понимал, о ком речь. А принялись бы рисовать его, изображения сходными оказались бы. Так существует он на самом деле или это продукт больного воображения? Что скажете? Что-нибудь скажете непременно. Когда-нибудь. Я же предпочитаю повернуться на правый бок и дремать дальше. Разгадывать тени покуда не имею намерения. Не знаю, может быть, позже.
А вы только что прибыли? Молчите, молчите, не обязательно.
Вот что, возьмите мою руку, возьмите мою руку в свою руку, просто возьмите мою руку, подержите в своей руке, пальцы мои возьмите, мне интересно, что вы почувствуете, что я почувствую, просто возьмите руку и всё, больше ничего делать не нужно, подержите руку в руке и всё, а еще лучше, ущипните меня, не больно ущипните меня, просто ущипните и всё, можно больно, я все равно ничего не чувствую, а вдруг почувствую, а вдруг, меня ущипнете, а сами почувствуете, согласитесь, любопытно узнать, любопытно было бы узнать, важно знать, не знаю, важно ли, но что если попробовать, не хотите ущипнуть, возьмите руку, вот вам рука, вот вам моя рука, не хотите? не хотите?
Кроткая. Не забыть бы.
Скучаю немного. Видите ли, успех был. Большой успех. Такая рана не скоро заживает. Пар много. Двойников. И прежде замечал, встречаются схожие типажи, парность такая, если задаться целью, понаблюдать. А здесь – очевидно. Близнецов много. Очень. Разные люди – лавочники, конокрады, художники. Братья и сестры. Восток и Запад. В особенности, когда парит. Пары – парит. Не случайно. У слов своя жизнь, свои законы. К Набокову не ходите, он, как и я, соглядатаев не любит.
Стихи – та же музыка. Музыка слов. А бред – музыка снов. Это вам к психиатру. И вам и мне. Был когда-то смешливым юношей. Насмешником, пересмешником, леденцом. Но характер, в отличие от моего, скверный. Это я о Набокове.
А у вас в Персии единороги имеются?
Предположим, пятое или шестое января, до Рождества еще два дня. Какая-нибудь безделица, этикетка спичечная сияет. Акценты проставлены там, где им положено быть. А своего дня рождения уже не помню. Нет, имени еще не забыл. Стравинский. Верно? Бах, гаммы. О гаммах, было, забыл. Вот вас увидел – вспомнил. Гаммы – совершенство. Гаммы и Бах. Но выше понимания. Кошачий ритуал. Клавиатура. Мечта. Так и должно быть. Я, во всяком случае, догадывался. Многое предвидел, на поверку оказалось.
Сбивчивые угловатые толчки, затем шелест, клекот. Стая черных птиц. Взмывает и опускается. Взмывает, как по взмаху палочки, опускается же плавно, зигзагами. Вижу. Окно. Наконец-то. Похоже на ворон, но мельче. Птенцы, подростки. Выглядят, как подростки. Как можно разобрать их возраст? Знание. Подростки. Сравнение. Тут свои правила, я уже упоминал. И цветоделение, и геометрия, и вино. Новые заповеди на сон грядущий. Хорошо забытое старое. Как нигде. Вино тоже черное. Вино воспоминаний. Иногда допускается. Плющ живой. И птицы. Не только на этом, прежде том берегу. Вольные. Оповещают. Подают сигналы неведомые. Словом, черные птицы. Облепляют дерево. Отдельные представители по насту ковыляют. Как у Брейгеля. Только охотников не видно. Спят еще. Здесь спят. Все. И сам Брейгель. Брейгели. Их легко по красным беретам узнать. Жалуют. Здесь вся история. И предыстория. Красных хохолков не наблюдается, только красные береты. Брейгели. Если интересуетесь – возвращайтесь поскорее.
И птицы.
Все, в один голос. Довольно всех. Избыточно. Не бывает «все». Один. Всегда один с проволокой этой. Из пастухов. Можно, конечно, говорить. Похождения, мечты. А то удила закусит. Потом снова на убой. От мяса завишу. Чревоугодник. Какое там благословение? «Парад». Сати, Сати. Вот это – да! А ведь улица брюхоногая. Ну, так пьем этот нектар, уксус. Да. Никто еще не отравился. И силы придает. В худшем случае – револьвер к виску. Но теперь только в Париже. Жорес валится на тяжелый стол. Стол валится под тяжелым Жоресом. Париж – это Париж. Тяжеловоз, трамвай, желток, Париж. Париж. Этим все сказано. Но так «Парад», чего удивляться? Колониальные товары. Помада для усов. Марлевые занавески. А спустись в погребок, там что? Навряд ли. Замусоленная книжка. Календарь. Шествие зверей, планет, бычий язык. Все это нужно мне. Одному.
Ему бы, Жоресу, ногу отнять или руку. Глядишь, и в живых остался бы.
Наконец-то. День занимается. Назовем это днем. Пробуждение или экскурсия. Сиречь, да маленько. Уже грай. Ура. Остаюсь неравнодушным. Удивительно. Неравнодушие как-то волнами посещает меня. Неравнодушие и головокружение. Радостное, как от шампанского. Странно – розового цвета здесь не встретить. Даже на закате. Неужели розовый цвет – продукт воображения? На денек бы смотался, музыку послушать. Пьяную. День, ночь. Так удобно думать. Сейчас, сейчас. И тени проклюнутся. Цвет – чуть позже. Как правило, с капельки крови начинается, с кровавого пятнышка. С комарика. Самое точное из всех насекомых. Ориентир. Некоторые привычки всё же остались. По крайней мере.
Будем надеяться.
Однако где же мой шейх? Потянуло табачным дымом. Неужели закурил? Всматриваюсь. Рыжее пятно. Грязное. Контур уже темнеет. Нос можно рассмотреть. Мой нос. Двойник – худший вариант соглядатая. От себя не убежишь. Закон. Если кто не знает – закон. Эй, ты живой? Сияешь как та этикетка. По какой причине? И по какой причине, позволь полюбопытствовать? Я табачку рад. Я вообще думал, что бесконечность проведу в пыли. Дым и пыль близнецы, не правда ли? Дымите, дымите, мне приятно. Теперь, когда можно смело констатировать: все наши представления, фантазии, предположения, скудные свидетельства и примечания о жизни на том берегу не имеют ничего общего с действительностью, остается два выхода. Либо, как я уже проделывал не раз, повернуться на другой бок и спать целую вечность, в прямом смысле, либо постичь новую реальность, новый язык, в моем случае, нотную грамоту, чтобы как-то пытаться бодрствовать. Зачем – не знаю. Может быть, это отголоски прежней жизни. Может быть, стоит подождать, пока окончательно сотрутся воспоминания, запахи и прочие блики минувшего бытия. Думаю, оба решения – верные. И действовать следует в обоих направлениях.
Балов и собраний, по-видимому, не будет.
Однажды, вот таким же утром. Слышу, будто где-то пекут блины. Этот сладкий масляный запах. Прекрасная новость. Хорошо помню эти кондитерские из детства. Ромовая баба. Разбитый нос. Вот увидел нос и тут же вспомнил собственный нос. Новизна порочна, что бы там ни говорили, как бы ни заманивали. Ученые, жуки древесные. Засматривался, сравнивал. Бывает, увлечешься, следуешь и, вдруг, обнаруживается – смурь, оборот. Думаю, краски должны быть легкими, робкими. Всегда так думал. Но картины жизни, те, что с младых ногтей навязывают, накручивают всякое назидание и другого свойства манок – сплошное солнце, лимон, купорос. Или, напротив, сажа чернее черного. Уголек. Собачка. Или точка, жирная такая. Клякса. Собачка. Или тот черный трубач. Как его, Луи? Или первые впечатления от женщин. Юбки, катания. Волнение остановить решительно невозможно. Эти ложбинки, ямочки. Пах. Выше всяческих возможностей. Делириум, порча. Коснуться руки, колена – обморок. Это пока сухожилия срастутся, это пока кадмий, свет, цитрус, соль смоет, пока мясом, пленками обрастет. Дождь в помощь, конечно. Но не всегда. Снег – румянец, шутихи. Взрослая жизнь, всё такое. Недостижимо. Детьми рождаемся – детьми умираем. Кто это сказал?
Увы.
Только Пост установится – нате, духовой оркестр. Разве можно было Вагнера предвидеть? Уроков музыки без кровоподтеков не бывает. Когда всерьез. Сад. Летний сад. Зимний сад. Сад. Сад. Оливы да финики. Прохаживаются, дефилируют. Рюши, жабо. Кивал, волновался, поклоны. Засмотрелся. Залюбовался. Сначала шелест, шепот, цикады, вишенка, шепот, павы. По капельке. Смыкается, смеркается. Даже фонтаны молчали. Сначала. А потом? И самая первая женщина – загородный праздник. Какая-то чаща, гуща, лианы. Забрался помочиться. Монтесума. Сильвер. Кук. Не обязательно цыганка, мулатка, просто темная женщина. В прямом и переносном смысле. Нищенка. Креолка. Порто. Акценты – те же шпильки. Шиповник, шипы, девственность. Мы цены ей не знаем, девственности. Кант знал. Во хмелю. Красивая. Кармен. Откуда, вдруг? На фоне цикад, сверчка. При тишине и миражах. Во хмелю. Очень взрослая. Красивой показалась. Самой красивой на тот момент. Соль-минор. И во хмелю. Запах даже понравился. Колдовской, ядовитый. Случайная женщина. Дай пять копеек, покажу, что у меня там. Ну, это – слишком. Это – удар молнии. Случится – и теперь. Бежал стремглав. А в кармане около рубля. Скопил. Гигантские шаги нравились. Еще волшебный фонарь. Словом, не был готов. Бежал. Разбил нос. Наказание. Ослепление и наказание. Позже Настасья Павловна, Оленька, Лиза, мадам. Как ее звали? Мадам. Не помню. Ах, да, мадам Серт. А меня Гимой звали. Гима, Гима, где ты, Гима? Под кроватью, мадам. Что вы там делаете? Свалился, мадам, во сне. Приснились башмаки, гнались за мной по лестнице. Я бы с удовольствием посвятил жизнь составлению каталога лестниц Петербурга. Отчаянная, но спелая мысль, не находите? Проку больше было бы. А «Фейерверк» все равно написался бы. Не мною, так кем-нибудь другим. А каталога никто не составит. Это потому что каталог я сам придумал, а музыку Бог пишет. Видите как? Всё – не то. Уже дело к осени. Холод. Ту цыганку – не цыганку здесь встретил. Третьего дня. Что-то около месяца тому назад. Приличная женщина. Ни малейших признаков повседневности. Нисколько не изменилась. Шла под руку с ноздреватым господином. Зонт. Судя по всему, профессор. Зонт. Оспой, наверное, переболел. Оспой многие болели. Нисколько не изменилась. Глазам своим не поверил. Запах другой. Дорогой запах. Профессор. Диттер. Зонт Диттер, вот как его знать. Вычислительная машина. Зачем ему женщина? Хотелось, хочется, и весь сказ. Фа, до, ре. Вот вам еще картинка. Из тех, чем нас в назидание балуют. С рождения, можно сказать. Вкус портят, слух.
Краски смирными должны быть. Как у Рублева. Феофан Грек сказал. Будто бы сказал. А я всё на веру принимаю. Доверчив до самозабвения. А иначе ничего не получилось бы. Не нужно простодушия стесняться. Все мы здесь те, кем хотели бы казаться. Обыкновенно теми, кем хотелось бы, мы не становимся. А здесь всё иначе. Таково правило первое. Сам себе положил. Правило и предупреждение. Но. Помнить, запомнить. Вот и вы со мной не случайно. Хотите в сад? Не хотите? Я никогда не мечтал ни о чем таком. Честно, честно. Мне очки напророчены были. И артрит. Разве что Наполеоном переболел, и всё. Не смейтесь, я тогда совсем маленьким был.
Здесь как-то не принято смеяться. Хотя очень много смешного. Очень. Сплошной анекдот. Третьего дня челюсть потерял. Так меня за старуху-процентщицу приняли. Один студентик так со значением посмотрел – мороз по коже. Третьего дня. Что-нибудь около месяца тому. Никто не смеялся. Притом Федор Михайлович – самый смешной писатель на свете. Чехов – пресный, а Достоевский – очень смешной. Нравственность нередко уловка, ловушка, изнанка. Мораль. Марля. Близорукость, шампанское, луна. Карты, чуть не забыл. В дурачка не желаете? А в трилистник? А, может быть, на саночках покататься? Вы, наверное, и саночек-то в глаза не видели, Сиддхартха, брахман? Ну, мало ли? А я, например, змей боюсь. А тогда многие Наполеоном переболели. Лично мне у него нравилась влажная прядь на алебастровом лбу. Неприступность и обреченность. В его глазах не порок – обреченность. С виду, да, некрасив, склонен к полноте, но вот эта прядь! Был бы красавцем, такого обожания не имел бы. Пряди такой больше не встречал. Разве что у младенца одного, и всё. Но то – младенец. Вырастет русым. Или пегим. Будет свинину коптить. А если бы не струсил, и дал пять копеек? Белая блузка, черный бант – в музыке спрятался. Женят меня здесь, чует мое сердце, или домой отправят. В сумасшедший дом.
Вот, опять пробивается – до-минор, соль-минор, ля-минор, доминант-септ, чистый стан, чистый, должен быть чистым. Tabula Rasa. Или лягушек полные карманы натолкают, как Аристофану. Домой возвращаться негоже. Что же это будет? Кем? Снова Стравинским? И зачем? Что же это будет? Песен послушать, разве что? Пьяных песенок. Хорошо бы.
Не мудрено.
Понимаешь, говорит, Римский-Корсаков говорит, Николай Андреевич говорит, если бы все было так очевидно, как в Гефсиманском саду, и музыка другой была бы. По Риве скучает. Скажите, а вы в той жизни тоже были индусом? Или вы не индус? Вижу, вы не намерены говорить. И не нужно. Не обязательно. Здесь все разговаривают сами с собой. Впрочем, прошу заметить, это не я пришел к вам, а вы явились ко мне. И весьма неучтиво с вашей стороны делать такую кислую мину. В том, что вы решительно не понимаете смысла моей болтовни, не ничего удивительного. То, что вы слышите – не есть слова. Звуки, арпеджио, гаммы. Намеренно подбрасываю вам музыкальные термины, что бы вы догадались. По большому счету мне нет до вас никакого дела. Впрочем, как и до себя самого. В этом неоспоримое преимущество нашего с вами теперешнего положения. Моего положения. О вас, или о ком-либо еще сказать ничего не могу. Могу только догадываться. А я, изволите видеть, кем был, тем и остался.
Не скрою, меня, как и всех, наверное, любопытство охватывало, когда речь заходила о переселении душ. Казалось, что в этом таится определенный смысл. А, может быть, реинкарнация и существует. Гильденстерн и Розенкранц. Только не для всех. Каждому, как говорится, по вере его. Один мой знакомый говорил, хочу покреститься, чтобы там не оказаться одному. Да, одному оказаться, вероятно, страшно. Это я бахвалюсь, когда говорю, что мне всё равно, дескать, привык к одиночеству. На самом деле один не был никогда. Даже когда оставался один. А вы можете лечь на рояль, если хотите. Никогда не лежали на рояле? Любопытные ощущения, стоит попробовать. Вот где настоящее парение. Почувствуете себя на мгновение дирижаблем, или яйцом. Потом привыкаешь, начинают кости ныть, поверхность твердая. А сначала – необычные ощущения.
На самом деле мы тянемся к страданиям. Слова «стражду» и «страдание» – однокоренные. Никогда не задумывались? Если вы еврей – не стесняйтесь. Я вас люблю. Старость вашу люблю, грамоту.
Если позволите, манков и пояснений вам делать больше не буду. Устал. Объясняться, пояснять. Это привычки. Оказывается, даже память стирается быстрее, чем привычки. Сначала чувства, эмоции, затем память, и, в последнюю очередь привычки. Или наоборот. Vice versa. Не знаю. Сейчас я думаю так-то, а через минуту – иначе. Путаница, не приведи Господи.
Ревнуй, не ревнуй, кто же не ревновал в таком-то возрасте, подсматривать, ревновать, еще первый глоток, что это было? конечно наперекор, ну, доставалось, ром, во всяком случае, не шампанское, как-то сразу ром, яд, но такое приятное волнение, электричество, знаете, ярость – это позже, ткани, ткани, не забывайте, шелк, бостон, заводи шелка, влажные губы, нет, нет, казалось, этого не пережить, в таком возрасте кем угодно можно стать, не обязательно, ветер много значит, тогда ветер все время приносил какие-то ароматы, преимущественно, восточные, кто же задумывается в таком возрасте? опиум, величие уже копошилось, точнее тогда-то, собственно, и копошилось, ну, любовь, наполнено смыслом, и нехорошее волнение порой, подчас, сублимация, руку отрубить запросто, и еще, подавай, все мало, еще подавай маков, смака, порыв, порыв, актрисы, балет – это такое чувственное, острое, грязь – это позже, по тем временам грязь как-то не особенно приставала, я вот ведь думаю и весь этот ужас, революция там, инцест, это все по любви, кощунственные мысли, даже здесь не оставляют, видите, вот я весь пред вами, я, теперь, пожалуй тот, что был в восемнадцать, нет, в четырнадцать лет, вот, вот, именно тот возраст, самый жестокий, жестокость, в этом возрасте все – немножечко немцы, марши, любовь, лепестки на подушке, кровопускание, кровохаркание позже, но беспорядок, в этом смысле анархия, Россия, зачем вспомнил? фиалки, фиалки, порывы схожи, и в музыке то же самое, стоило сойти с ума, чтобы такое написать, Аппассионату эту, черт бы ее побрал, Бетховену сколько, двенадцать? Нельзя в этом-то возрасте, невозможно, аорта, оскомина, ан нет, всякий раз слезы, родилось такое, мы же, когда влюблены, о рождении, зарождении не думаем, а потом младенец, неприятное зрелище, честное слово, пуповина, бинты, неотступно приближая к смерти, и стоило подсматривать, спрашивается? стоило жить, что бы на склоне лет расстроенная фисгармония и геморрой? стоило, наверное, что бы хотя бы что?
А, возможно, всё останется как прежде, просто я еще не привык мечтать. Так что не придавайте моим словам никакого значения. Лучше, пойдите, погуляйте в саду. Если хотите, в Гефсиманском саду. В добрый путь. Там вчера розы расцвели. А не хотите, не можете – оставайтесь. Мне – всё равно. Я привык с самим собой разговаривать. Мелодии насвистывать. Еще, бывало, ложечкой по блюдцу позвякиваю, ритм отбиваю. Поезда люблю слушать. Такты. Вот, о дирижаблях помечтать, прежде мечталось, о мостах, разводных мостах. Космос, всякое такое – выше моего понимания. А на вокзале музыка хорошо складывается. Сколько там нашего брата топчется! Но я никого не узнаю или делаю вид, что не узнаю. Агностицизм. Всегда. Но не стану же я сутками торчать на вокзале? За бродяжку примут, пьяницу, в участок отведут. А без винца, согласитесь, на вокзале и делать нечего.
Не правда ли яйцо напоминает? Не помню, какого зверя. Это у меня с детства. Кажется, мне встречались такие продолговатые яйца. В каком-то музее. Уже не помню. Память источается. Сначала память, потом чувства, и только в последнюю очередь, привычки. Если хочется курить – курите, не стесняйтесь. Вы, вероятно, думали, что будете меня раздражать? Нисколько. Я даже вам рад. Лукавлю немного.
Еще таксиста по фамилии Стравинский встретил. В Париже. Тоже Стравинский.
Хотел припрятать, снегом припорошить или засунуть точно шапку в рукав, а теперь вот подумал, что если вы и не соглядатай вовсе, но посыльный? Почтальон. Что, разве меня приглашают? Кто и куда? Я уже думал, никаких приглашений больше не последует. Или я ошибаюсь? Ошибаюсь, ошибаюсь, вижу. Вижу, что вам это совсем ни к чему. Вам, похоже, ни до чего дела нет. К чему, в таком случае, весь этот восточный маскарад? Вы – балетный? Танцевали? Да какая мне разница? Молчите, и будете молчать, теперь уж я совершенно уверен. Это – к лучшему.
Теперь уж я совсем с легкостью скажу вам то, что тревожит меня, то, что хотел оставить на потом. Совсем на потом, в надежде, что забудется, растворится. Речь вот о чем. Совесть. Что делать с совестью? Уж все, казалось бы, оговорено, разложено по полочкам, акценты проставлены, выводы сделаны. Повседневная, последовательная память, уже докладывал, блекнет, чувства остывают. А вот некоторые грешки, которые, умом понимаю, такая мелочь, что и грешками-то назвать можно только с большой натяжкой, тычутся мокрыми мордочками изнутри. Не знаете, будет этому конец? И что с этим делать? Понимаю, вопрос не по адресу, но вот хотелось обозначить как-то, проговорить. Может быть, что-то изменится. Не то, чтобы с ума схожу от всего этого. Ну, в драку не ввязался в юности, струсил, с женщиной одной обошелся грубо, тоже испугался. Господи, книжку утащил, она и не нужна была эта книжка, ни мне, ни тому, у кого утащил, глупость, глупости. Не знаете? Не знаете. Разумеется. Ну и забудем этот разговор. Истина бесформенна, бестелесна. Ни идея, ни деньги, ни учитель, ни судьба.
Я все правильно понял?
Она, эта женщина, которую я испугался-то, она с улицы была. Такая же нездоровая и сердитая, как сама улица. Вся как будто из синих ветвей. Кожа прозрачная. Как папиросная бумага. Глаза водянистые. Нам было все равно. Совпало. Один стакан на двоих. Я был пьян смертельно. Уже два дня. Не помню, каким образом она возникла. Она дышала, помню ее дыхание. Тяжелое. Я не должен был ее запомнить. Мне нельзя было ее запоминать. Ногти темные, крепкие. Пальцы цепкие. Слышал тележку. Бедра. Кто-то катил тележку за окном, не позволяя радости и счастью, не допуская. Так называемая реальность. Пара мешков с битым стеклом. Долги и желоба тут же, немедленно. Белье безрадостное. Мутное пойло, мыло, бедра, пот, молчание. Марш, марш. Аппетит, сосуды, наволочки. Закусывали друг другом. Трубы молчали. Город в недоумении. Взорвался, заплакал. В этом-то все и дело. Так, наверное. Восторг, жалость, страх. Ударил, кажется. Даже если не ударил – ударил. Потом потолок. Лестничные площадки. Мерцание. Пара рыжих кошек. Неожиданно толстых. Марш, марш. Ни единого звука. Ей суждено было исчезнуть. Думаю, она вскоре умерла. Она или я – не помню. Память истончается. Шекспира уже не воспроизвести. Даже сюжет. Уже не помню, женщина или мужчина. Город помню. Трубы пустые.
Нью-Йорк уютный. Сдобой пахнет.
Отпускает. Кажется, отпускает. Оно, знаете, как-то волнами. Как инфлюэнца. А мы с вами вот что, как только немного распогодится, по грибы пойдем. Любите грибы собирать? Стеклянный груздь. Его еще называют февральский груздь. Подснежники. Сугроб разгребаешь, а там семейка. Мал, мала, меньше. Вам-то снег, наверное, в диковинку? У вас в Иордании снега, пожалуй, нет? Или я ошибаюсь? Ну, если захотите – лето, пожалуйста. Летом грибы тоже растут. Даже больше. Это уж как день задастся. Тут уж что-то одно, либо сливки, либо черный дождь. Картинки, преимущественно, лаковые, как в горячке.
А можем в Баллас пропутешествовать. Любите голубей? Там, в Балласе, и зимой радуга. Вы не сомневайтесь, я о вас никому не скажу. Даже думать о вас не смею. Не в моих интересах. Только не думайте, что я дорожу нашими беседами. Скорее проявляю учтивость. Но вы меня не раздражаете, не отвлекаете. Меня теперь ничего не раздражает. Незримо. А то, вдруг, галоп. Так безопаснее. Немцы не дремлют. Никогда не дремлют. У них такие механизмы, линзы. Всегда этим отличались. Но бояться не нужно. Их прямые линии подводят. За исключением Вагнера, конечно.
Линзы превосходные. Лучшие. Я по очкам скучаю. Привык. И по лысине своей. Вот уж никогда бы не подумал. А вы по своей лысине скучаете? Была у вас лысина? Обязательно, обязательно. Если до пятидесяти дотянули – обязательно. Даже если и не догадывались. Лысины женщины первыми обнаруживают. Ну, да ладно. Вам, наверное, не больше тридцати. От тел избавились, и то хорошо. Будто бы избавились. Ну, вы-то понимаете, о чем я говорю. Словом, зиму как-нибудь переживем, перекантуемся. Кант. Вспоминайте Канта. Стихи – не советую. Ложные впечатления, беспомощность навевает.
Впрочем, зачем?
Работаем на результат. Вот где главная ошибка. И никто по большому счету не знает, чем он обернется, полученный результат, и вообще что такое результат. А народ пестроту любит. Ну, что с этим поделаешь? Любит. Не любит. Любит, любит. А чем плохо лоскутное одеяло? Не совершенство разве? В особенности, если на нем солнышко изображено. Не совершенство разве? Всю жизнь лоскутное одеяло составлял. Но разве одной жизни достаточно? Послушай, голубчик, ты, голубчик, похлопочи, сделай доброе дело. Если, разумеется, вхож, если это в твоих силах. Надо бы мне еще немного потрудиться. Слегка. Не закончил. Поговори. А вдруг? Не могу я в неведении. Рано. Вот чувствую. Прости. Простите. Минутная слабость. Волна. Порыв. Здесь все волнами, порывами – дыхание утрат. Все еще страстьми обуреваем. Инфлюэнца. А вы там не на сквозняке? А то, смотрите, подхватите что-нибудь телесное, почернеете. Николай Андреевич долго болел. Я его травками отпаивал. Чередой да фенхелем. А я не пойму, буду думать, что вы моя тень. А вы не тень? Вообще они правы – те, что прислали вас. За мной глаз да глаз нужен.
О чем, собственно речь? О величии. Как всегда. Ну, хорошо, о первозданности, неповторимости. Давайте начистоту. Что, разве создала природа более совершенного композитора, чем ваш покорный слуга? Харон, когда в первый раз встретил меня, снял картуз. Как перед Раскольниковым. Только что убийцей не назвал. Я даже смутился. Хрон уже не тот Харон. Списан на берег, как говорится, подчистую. Представляется Ягатьевым Алексеем Ильичом, нормальным физиологом в отставке. Ну, правильно, Харон уже не звучит. Точнее, не так звучит. Другой регистр. Си-бемоль. С виду бомж. Увидите этого Алексея Ильича, так и подумаете бомж. Всегда с похмелья. А как вы хотели? Никак не хотели? Согласен. Теперь поездами, дирижаблями доставляют. Вот ведь, время вроде бы вспять пустилось, снег снизу вверх падает, а технике хоть бы что. Мы с Алексеем Ильичом дружим. Он не святотатствует, может перочинным ножиком мужика вырезать, медведя. Любимая игрушка. Подойдет, бывает, тоненьким голосом, – Пожалуйста, хотя бы одну рюмочку. Христа ради. Помираю. А с древними не общается. Думаю, обижен. Обрусел. Наливаю, мне не жалко. Бутылок, сами видели, сколько. Да у него не меньше. Ему общение нужно. Выбрал меня – музыку любит. Что-нибудь незамысловатое, песенки, кошачье мурлыканье. Я умею мурлыкать в точности как кот. И вообще ничто кошачье мне не чуждо.
Величие влачится за нами денно и нощно. Неповторимость. Так точнее. Хотя, как посмотреть. Тут уже нечего стесняться. Всё что-то прячем. В шкаф, за пазуху. Шкаф, конечно, уважаемый. Всякой дрянью набивают. Еще со школы брюки хранятся. Зачем? Легкости нам не хватает. А всё из-за величия, грандиозности замыслов и помыслов. А уйти по-человечески не умеем. И знакомиться робеем. Потом всё это накапливается, и нате, пожалуйста, топором по темечку. Первозданность. То влачится, то в спину толкает. Какая там новизна? Кто ее видел, новизну-то? Шёнберг? Дудки. Его бы под бомбежку. Заикаться бы начал. Это я вполне ответственно заявляю. Уж я-то с заиками дело имел. Сколько хотите. Это все не просто так. Это такой звукоряд. Естественная атональность.
Так что никакой современности не существует. И не существовало никогда. Величие расползается как плющ. Денно и нощно. Богу ровня, говорите. По образу и подобию, придумали. Что вы в этом понимаете? Что я в этом понимаю? Мы же ничего не знаем. Совсем ничего. Я – в музыке, вы – в государственном устройстве. Только ноем. Иногда убиваем. Крадем всегда. Думал, здесь от нытья можно будет отдохнуть. Дудки! Даже если я признаюсь вам, что в сравнении с великим Бахом или Шубертом я – не больше пюпитра или майского жука, на ваш выбор, сей акт самоуничижения будет ничем иным как декларацией, подтверждающей и усиливающей эффект величия. Поза, больше ничего. Поза, смущение, немота. Я одно время пристрастился с Хароном-Ягнатьевым портвейн пить. Терпеть не могу портвейн, первый стакан исключительно из уважения. Думал, вырвет. А потом, ничего, даже понравилось. Интересно, здесь спиваются или нет? Щетина точно растет. У Харона синюшными пятнами. Изжелта. Обижен, пьет. О нем решительно все забыли. Да что я вам рассказываю?
Тут вот какое дело: принижая собственное значение, я тем самым выстраиваю оборонительный рубеж от всякого рода сомнений и критики. Хотите, сходим к старику? Ему приятно будет. Пьете портвейн? Я всю жизнь на дух не переносил. А с Ягнатьевым раз-другой посидели не бережку, даже понравилось. На том берегу Баха едва слышно. Я думал, теперь смогу насладиться, но и здесь он едва уловим. Где же он обитает? Что скажете? Получается, что и здесь мы на полпути? Должна же быть конечная станция? Нет?
Осточертели своды золотые.
Включите свет, вы там поближе к выключателю. Покажу вам свою коллекцию этикеток. Слабоумие – это не беда, праздник. Да что я вам рассказываю? Вы просто так молчите или слова позабыли? Ах, как хорошо было бы забыть слова. Меня слова всегда отвлекали. Судя по всему, вас – тоже. Я надеюсь, в перспективе так оно и произойдет. Я же попросил вас выключить свет. Хотите, чтобы я окончательно ослеп? Вот, спасибо, совсем другое дело. Видите, сколько всего у меня? Хворост собираю. Непроизвольно. Подбираю, тащу в дом. Обживаюсь. Где же мои этикетки? Вот, полюбуйтесь, родовой герб Сулимы. Я тоже не просто Стравинский, Сулима-Стравинский. Хотите, я сюда его позову, Харона? Он будет рад. Мы ему герб покажем, этикетки, если найду. Нет? Теперь встречаться и в полдень можно. В полдень даже лучше. Двухголосие. Раз уж полифония вас не занимает.
Бутылочки, флакончики.
А все очень просто начиналось. Принесли бутылочку со святой водой. На Крещение. Я водичку-то использовал, бутылочка осталась. Ну, что с ней делать? Не выбросишь. Оставил. Любовался. На боку крест православный. Красивая бутылочка. Вот прямо красивая. Любовался. Потом образовалась, не помню откуда, стекло винного цвета, что-то из Литвы, ах, да, Devynerios… и пошло – поехало. Однажды полка рухнула, пустые бутылки, все тысяча шестьсот двадцать четыре прямо на вашего покорного слугу. С высоты сверчка. Мокрого места не осталось. Вот – подлинная причина моей смерти. Погребен пустотой. Это скрывается. Они из меня Савонаролу лепят. Слепили уже.
Распогодится, отправимся с вами на бережок бутылки собирать. Хотите? Здесь не возбраняется. А я уже к вам привык. А давайте перейдем на «ты». Так лучше будет, спокойнее. Я и ругаться умею, не думайте. Так, бывает, загну. И старику будет спокойнее, если явится. Харон – простой, церемоний не признает. Мною чрезвычайно уважаем. Остальными гоним, но об остальных знать ничего не желаю. Выдающийся старик. Что скажете? Договорились. На чем я остановился? Ага. Итак, шествие по лезвию продолжается. Вообще, это даже к лучшему. Всё лучше, чем плющ наблюдать. И лягушки как-то замолчали, обратил внимание? Девушки спрятались. Тебе досадно, наверное, ты совсем молодой. Старикам везде неуютно. Только лоскутные одеяла и спасают. Еще коврики вязаные. Такое ощущение, что идем на посадку. Кажется, дирижабль потух, лампочки померкли. Весь как-то накренился, скис. Нет такого ощущения? Слышишь гул?
Как ни крути – здесь все русское. Или это я иначе не умею? У тебя не складывается такое впечатление? Не люблю прямых аналогий. Послушай, а ты, случайно адресом не ошибся?
Наши друзья в Мексике – они танцуют – выходят за кулисы и им тут же дают кислородную подушку. Они дышат и снова бегут танцевать. В газетах была напечатана замечательная вещь: умер русский писатель Толстой, который был известен своим талантом.21
И всё.
Ворожба.
С ума я с тобой сойду. Скучный человек. До чего же ты скучный человек. Битый час тебя развлекаю, ты – ни слова. Или ты говоришь, а я не слышу? Не секрет, что я глух от рождения. Точнее, для всех секрет, но мы-то с тобой знаем. Или для тебя это – открытие. Ну, прости. И все равно, мог бы проявить учтивость. Хотя бы сделать вид, что не знаешь. Или не хочешь верить. Такую музыку как у меня мог написать только глухой от рождения композитор. Глухонемой. Как я. Нравится тебе моя музыка? «Свадебку» слышал? Жениться тебе надо, вот что я тебе скажу. А из меня вышел бы отменный шпион. Или кот персидский. Персидский – это чтобы тебе угодить, Тамерлан.
Часть третья
Andante maestoso
Имя Ионы упомянуто мной не случайно. Я чувствовал, что рано или поздно он появится. Просто обязан был появиться. Дело в том, что Иона и Стравинский имеют много общего. Иона и Стравинские. Не исключено, что на фотографии пророка, когда такое было бы возможным, могли бы обнаружиться черты Сергея Романовича или Игоря Федоровича. Иона совершил удивительное путешествие во чреве кита и Стравинские, изволите видеть, путешествуют каждый в своем ките. Но главное, что объединяет наших героев – редкий талант укрощать мутные потоки случайных смыслов, обращая их в узоры и просветы когда кровь черна и запах черен, рыбы плачут грязью, а затворники спешат сокрыться в своих отражениях.
Хроматическая гамма. Или хроматическая же аберрация. Цинк.
Для Ионы подобрал осень. Или весну. Или осень. Один из провисших дней вне времени и пространства. Представьте себе некую таверну. Скажем, таверну Филиппа, почему нет? Предположим в Ниневии. Или в Бокове, не все ли равно. Нет, всё же в Ниневии. Место известное, в Писании обозначено, приметами располагает и так далее. О Бокове в Писании ни слова. Хотя в Писании всё о Бокове.
Клёц!
Таверна Филиппа – это такое крохотное неопрятное помещение с мутными стеклами и липкими столиками. В интерьере преобладают желтоватая и коричневая мелодии, от чего посетители забегаловки кажутся золотистыми. Даже некогда белые одежды тучного Ваала отливают бронзой. За окном монотонно и вечно шелестит дождь. Сочатся и шипят, подрагивая, светильники, им в унисон искрит проводка в доме напротив.
Ваал присматривает за дождем. По крайней мере, кажется, что присматривает за дождем. На самом деле, не исключено, смотрит в окно просто так. В окно или на окно. Ваал находится в отдалении, так что с уверенностью сказать трудно. Пума спит. Если бы он не спал, можно было бы обнаружить его глаза. В них нет прыжка. Скорее обреченность. Почему Пума?
В данный момент Иона наблюдает за однообразными движениями протирающего посуду Филиппа. Складывается такое впечатление. На самом деле пророк тоже дремлет. Утомился, задремал. Наблюдал какое-то время, а затем утомился, задремал. Однообразные движения, известно, сон навевают.
Итак. Ваал наблюдает за дождем. Неподвижен. Как будто спит. Пума спит. Иона дремлет. Управляет сонным царством Филипп, монотонно протирающий посуду. Осень. Или весна. Или осень. Холодно.
Сам бы завалился, укрыт верблюжьим одеялом.
Голос Филиппа глух и монотонен, как и пассы его рук, как и сама его таверна, как и сам он. – Видишь ли, Иона, за то время, пока мы не виделись… а сколько мы не виделись?.. Одним словом, последнее время. Речь о нескольких годах, если я ничего не путаю. Где-нибудь о десятке лет. Может быть, несколько больше, годах о двенадцати, пятнадцати. Разные мысли посещали, не скрою. Океан, государство, Конец Света. Скучно. Прежде посещали и теперь посещают, не дают покоя. Мысли. Муть. Если эти волны в голове, звуки, обломки фраз и жужжание можно назвать мыслями. Правда иногда выстраивается целая фраза. Иногда две. Три – редкость. Чтобы четыре – такого не случалось. Не помню. Считаю плохо. Пальцы на руке сосчитать могу, но этого явно не достаточно. Хорошо, что к небу редко обращаюсь. Говорят, падает. Не верю. А ты?.. Прежде мыслей было больше. Когда – не помню. Может быть, в молодости? Не помню. Говорят, есть люди, которые умеют нянчить сразу несколько мыслей. Наверное, есть такие люди. Не исключаю. Наверное, ты – один из таких умников, Иона. Я бы не удивился, если бы мне о тебе такое сказали. Вообще неспокойно. Откровенно говоря, неспокойно. Слышишь меня? О чем думаешь, Иона?.. Разные мысли в голове крутятся? Много мыслей. Угадал? Угадал, угадал, со мной так тоже бывает. Только у меня они не стройные – рой. Пчелиный рой. Мыслями назвать трудно. Теряюсь, изумляюсь. Потерянный человек. Весь состою из фрагментов, осколков. Молодость и зрелось смешались как тушь с молоком. Как селитра с порохом. Склонен к саморазрушению и, как следствие, беспримерным безумствам. Лошадиное нечто. Безумствам и сумасбродствам в рамках одного, конкретно сумнящегося себя самого, дабы окружающих собою таковым не задевать и не смущать. Откуда, собственно, и внутренние осколки, и морок, и постоянное изумление. Изумляюсь. То и дело. Вот ты смотришь на меня, Иона, а мне так кажется, будто сквозь меня. Как будто неживой. Неприятно, честное слово. Ты смотришь на меня или у тебя глаза закрыты? Чему удивляться, когда перед тобой собрание фрагментов? Что на меня смотреть? Только расстраиваться. Милосердие тоже, знаешь, палка о двух концах. Ты это знаешь, и я знаю. Весь в клочках и дырах. Бездна, а не человек. На что тут смотреть? Но, лукавить не буду, все равно неприятно. Настораживает. У тебя такой взгляд… потусторонний. Когда смотришь сквозь предмет или, скажем, стену, взгляд потусторонним получается. Неживые так смотрят. Слушай, не помню, ты сквозь стены проходишь? Умеешь сквозь стены ходить? Прежде как будто умел. Или это был не ты? С годами как-то все смешалось. Раньше этот вопрос как-то не возникал, а вот теперь, поймал твой взгляд и задумался. Если бы я знал, что ты умеешь проходить сквозь стены, это многое объяснило бы. Прошелся бы, что ли? Хотя мне показывать не нужно, я всякого насмотрелся, с меня хватит. Мне показывать не нужно мне слова твоего достаточно. Я знаю, что врать ты не умеешь. Нет? И правильно. Утонул в словах. Как зверь. Как он. Ничего о нем не слышно. Наверное, и в живых уже нет. А мы вот живы. Я как будто жив. А ты? вопрос не праздный. А не хочешь – не отвечай. Молчание – золото. Кто это сказал?.. Тут неподалеку Корней живет, помнишь Корнея? Так вот, он теперь стал мастером по глазам. Он прежде бондарем был, помнишь? А теперь – мастер по глазам. Оживляет. Глаза оживляет. Если глаза не хватает – вставит. Или, предположим, обоих глаз нет. И так бывает. Пришпандоривает. Кажется, из бычьих яичек мастерит. Не уверен. Говорят, что из бычьих яичек. Что-то я не особо верю. Не представляю себе. Вообще он свих секретов не разглашает. Хорошо зарабатывает. Глаза у него как настоящие получаются. А нынче у многих глаза потухли. У иных, если обращал внимание, вообще отсутствуют. Глаза у человека – слабое место. Зеркало души, говорят. Кто сказал, не помнишь? Слабое место. И душа – слабое место. Я люблю теплые глаза. Холодных глаз не люблю. Осмысленные глаза люблю. Когда у собеседника взгляд осмысленный, сразу понятно, тебя слушают. Стало быть, ты не безразличен как соплеменник. Не обязательно советчик или, не ровен час, педагог. Может быть, просто сосед, да хоть случайный прохожий. Встретились, остановились, калякаем о том – сём, по сути, ни о чем. Нужно иногда отвлечься, отдохнуть. Работы много. Даже если, кажется, целый день ничего не делаешь, только языком чешешь – все равно устаешь. Бывает, к утру уже с ног валишься. А встретишь случайного человека, слово за слово, глядишь – отпустило, полегчало. И не обязательно выпивать. Встречный поперечный. Соплеменник. А для кого-то и больше, чем соплеменник. Это, Иона, намек, между прочим. Тебе мой намек… Я склонен к иносказаниям. С годами – в особенности. Притчи полюбил, намеки. Мне кажется – это мудрость проступает. Хорошо. Надоело в дураках ходить, честное слово. Хоть и трактирщик, а кое в чем толк знаю. А если и не знаю – виду не покажу. Простодушием пользуются, это ты лучше моего знаешь. Простодырости не прощают. Уже и не знаю, с какой стороны к тебе подойти… Встретишь такой осмысленный, то есть наполненный значением взгляд и понимаешь – слушает человек. Слышит, думает. На душе приятно, торжественно. Что он там услышит из сказанного тобой, понимает ли твои слова – не имеет значения, о чем думает – уже не так важно. Главное – взгляд осмысленный. Это обнадеживает… Ты – другое дело. Не могу понять, смотришь или спишь. Не в укор. Тебе лучше знать, как смотреть. Или не смотреть. Кто я такой, чтобы поучать?.. Господи, Иона, да при твоих-то подвигах и благодеяниях глаз можно вообще больше не открывать. Смысла нет после того, что ты повидал и видел. И где побывал, и в чем поучаствовал… Такое напряжение. Все, конечно, устали. Я немного моложе тебя, но и мне иногда хочется глаз не открывать, чтобы не видеть всего этого. Иногда думаю, закрыть бы, как ставни, и не открывать больше… Дождь уже неделю не перестает. Куда это годится?.. Сдается мне, у тебя скверное настроение. Что-то случилось? Что-нибудь случилось?.. Теперь каждый день что-нибудь случается. Или не случается, что тоже неприятно. И подозрительно. А оно, Иона, и раньше не легче было, если вспомнить, если сосредоточиться. Разучились сосредотачиваться. Сосредотачиваться, совершать усилия. Преодолевать, добиваться, грызть зубами… Крокодил. Вот вспомнился крокодил. К делу отношения не имеет, а вспомнился. Вопрос. Почему, зачем? На кой он мне? Ответ – по причине кромешного безволия. Кромешное безволие – еще одна примета нового времени. Согласен?.. Я всё такое, Иона, стараюсь забывать. Крокодилов, верблюдов. Иногда верблюды, бывает, вспомнятся. Идет бесконечный караван. Пыльные, безрадостные. Куда идут, зачем? Как, бывало, спросонья затеются, так идут целый день. Хочется сосредоточиться, хотя бы попытаться, а тут верблюды. Идут, идут, ни конца, ни края. Или вот дождь, опять же. Пыль и дождь – родня, не находишь? Муть. Как наша жизнь… Я всё такое, Иона, стараюсь забывать. Сразу же. Мне кажется, в этом смысле я на правильном пути. Что скажешь? Уж в чем, в чем, а в географии души ты толк знаешь. И в помыслах, и в речах разбираешься так, что равных тебе нет. Многие болтают просто так, вот я, например, а ты – никогда. Или молчишь, вот как сейчас, или, уж если говорить, говоришь со смыслом. Опять же, иносказания – твой конёк. Я свою любовь к иносказаниям и притчам, думаешь, у кого почерпнул? Всё у тебя, дорогой мой гость. Любовь к осмысленности. Но знаешь, Иона, смысл – такая штука. Иногда думается, уж лучше бы его и не было, этого смысла… Что-то я не встречал, чтобы возвращались с того света. Это намек. Рассекретил мой намек?.. Да, на такие вопросы лучше не отвечать. Здесь я с тобой полностью согласен. Но знаешь, не очень-то приятно, когда какого-нибудь человека долго-долго нет, а потом вдруг, раз, и вот он, пожалуйста, входит, садится, смотрит на тебя, как ни в чем не бывало. Откуда ни возьмись. Как тот крокодил, будь он не ладен. Является, как будто он только один день отсутствовал. Или два дня. Но не больше. Тот человек. Это я всё о том человеке. Не о крокодиле… Иносказание. Метафора. Догадался?.. О крокодиле забудем покамест. Он только мешает. Нескромно, конечно, но кое-каких высот во владении эзоповым языком достиг. Говорю «тот человек», некий уловный человек, а имею в виду вполне конкретного человека. Догадался о ком речь?.. Является, как будто он только один день отсутствовал, тот человек. Недолго, не больше двух дней. Догадался?.. Конечно, у каждого свое летоисчисление. За подотчетный период многое постиг, скрывать не стану. Но есть еще белые пятна, признаюсь. Чего-то могу и не знать. Знаю, безусловно, многое. Почти что всё. Нескромно, конечно, но факт… Знаешь, иногда приходит на ум, лучше бы не знал… Слухи, трёп, известное дело – таверна. Люди выпивают, языки развязываются. А я же целый день за стойкой. Так что осведомлен, как говорится. Но чего-то могу и не знать. Отсюда закономерный вопрос. Что же это такое, чего он не знает? я, то есть. Чего-то он явно не знает. Я, то есть. Интересно тебе, Иона, чего я не знаю? Что же это такое, чего он не знает, этот пройдоха Филипп? Интересно тебе? Не интересно, вижу. Ветошь. Так и есть. Я себе цену знаю, не думай… А все равно скажу. Ибо не выходит это у меня из головы. Например, теряюсь в догадках, откуда ты взялся? Вот откуда ты взялся, Иона? Молчишь? Где-то бродишь, ночуешь. Следовательно, тебя видели другие люди. Им-то уж ты наверняка всё рассказал. Рассказал? Рассказал. А мне, значит, не доверяешь? Интересно, чем это я заслужил? Все забыл, ты все забыл, Иона. Забыл? Забыл. А скажи, Иона, разве есть у тебя человек ближе меня? Мы же с тобой единоутробными братьями были. Фактически близнецами. Забыл?.. Понимаю. Ничего не объясняй, понимаю. Значит так нужно. Если хочешь, и я не буду вспоминать, напоминать. Забыть? Забыть. – Вздыхает. – Значит, так тому и быть. Сам не люблю навязываться. И когда навязываются, не люблю. Обидно немного, не скрою, но это пройдет. Ты меня знаешь… Встретились два малознакомых человека. Трактирщик и гость. Встретились и хорошо. Встретились и разошлись. Так? Так… А вообще, знаешь, не очень-то приятно, когда человека долго-долго нет, так долго, что ты невольно начинаешь думать, наверное, он умер, прости… Да, да. Прости… А потом начинаешь думать, наверняка он умер, прости… Да, да… И вдруг вот он, здрасьте пожалуйста, явился, прости. Открывает дверь, проходит, садится. Как ни в чем не бывало… Нет? Не хочешь?.. Ну, и оставим эту тему. Что я из тебя клещами тяну, честное слово? Даже неприятно, честное слово… А ты знаешь что, Иона, ты не обращай на меня внимания. Не нужен я тебе сто лет. И, правда, кто я такой? Кто я тебе, родственник? Болтаю так ни о чем. Это, знаешь, зачем я себе такое позволяю, и даже не особенно самому себе сопротивляюсь? Когда языком мелешь, время быстрее движется. А то, знаешь, порой кажется, что время остановилось. Даже не порой, а частенько возникает такое ощущение. Иногда кажется, как будто в трясине увяз. С тобой так не бывает?.. Ты за болтовню меня не суди, не нужно. Я сам себя наказываю за все такое. А, может быть, я болтаю потому что мне не по себе? Разве так не бывает? Предположим, человек не в своей тарелке. Скис, сдался. Мелочь какая-нибудь убила, глупость, загадка, нелепость, любопытство. Не мне тебе рассказывать. Умираем зачастую от какой-нибудь ерунды. На улитке поскользнулся, упал и разбился вдребезги! Защекотали. Косточкой подавился. Семечком отравили. Или проигрался, например. Или от любопытства почил, так тоже бывает. Апоплексический удар – и всё… Я ведь смолоду-то играл. Азартен был. Очень. Потом поостыл… Скажу от чистого сердца, Иона – я не в своей тарелке. Стараюсь избегать слова «страшно», но мне страшно, Иона, и скрывать тут нечего. Знаешь, что у нас на кухоньках творится? Подают к столу. Друг дружку, Иона, подают. Честное слово. Крупными кусками нарезают. С помидорами, зеленью. Настанет время, и меня подадут. Тебя, может быть, и не осмелятся, а меня – точно… А ты меня сразу узнаешь. Даже и в таком виде… Иносказание, но реализм. Такие времена… А они всегда такими были. Поварята, мерзавцы. Скотники. Прости… Как видишь, храбреца из себя не строю. Все же пожил маленько, кое-что повидал на своем веку. Кое-какие выводы составил… Вот я знаю одного человека, у него почерк гладкий, красивый, а разобрать, что он там понаписал решительно невозможно. Это намек. Рассекретил?.. Очень просто. Ты, Иона, вроде бы человек прямой. Нет? Я всегда выделял твою прямоту. Все отмечали твою прямоту, открытость. А если разобраться, Иона? Сплошной туман. Сам ты и все, что связано с тобой – сплошной туман. Конечно, в чужую голову не войти. Не придумана еще такая лестница и ключ не изготовлен. Это когда-нибудь, может быть. Хотя, вишь вон Кирилл глаза из яичек бычьих уже делает. Но в голову забраться пока даже Кирилл не умеет. И я не пытаюсь, упаси Бог! Однако предательские вопросы возникают. Так и снуют. Незваные. Сами по себе. Рой звуков, да еще туман. Вот приблизительно как тогда, во чреве зверя. Правда там тьма стояла, но тьма и туман, если вдуматься, из одного ситца кроили. Родня… В тумане тоже не просто ориентироваться, согласись. Но я надежды не теряю. Ты это знай, будь уверен… О тебе всегда говорили – открытый человек, прямой открытый человек… Послушай, если ты, Иона, задумал что-нибудь недоброе, так прямо и скажи – задумал недоброе. Я пойму. А как не понять? После всех злоключений, обид и колючек, о звере я вообще молчу, такое испытание… Кроме того, сам не без греха… Хорошо, конечно, когда бы ты открылся. Заявил, объявил. С другой стороны глупостью было бы подобного рода заявление. Зачем болтать, когда задумал то-то и то-то. В особенности если что-нибудь недоброе, например. Конечно, ждать от тебя следует исключительно благодати и спасения, но если цель твоя поучение и наказание? А этого нельзя исключать. Что заслужили – то заслужили. В конце концов, ты не свою волю выполняешь. Это только кажется, что свою, а на самом-то деле… Ну, что, за мной пришел? скажи, не скрывай, ничего не скрывай, прошу… Нет?.. Жаль, конечно… Испугался. Совсем измельчал Филипп, да? Даже меньше ростом стал, не показалось тебе? Все измельчали, чего греха таить… А у Марка таверну сожгли. Это так, случайная мысль. К делу отношения не имеет. Как будто… Надеюсь за те пару дней, что тебя не было, сам-то ты не успел перемениться? Шучу. Видишь, пытаюсь шутить, улыбаться… А душа что-то не улыбается, если честно… Но я тебе рад. Не думай, мы все тебе рады. Хотя, кто знает? может быть, ты сжечь всех нас задумал? Шучу… Сам-то ты Марка помнишь? Вот интересно, помнишь ли ты Марка? У него еще таверна в четырех кварталах отсюда. Не помнишь?.. Так вот его сожгли, Марка. Вместе с таверной… Нет, только таверну. Марк, кажется, успел сбежать. Кто-то предупредил, наверное. Хорошо, что предупредили. Я бы предпочел, чтобы меня предупредили. Таверна – черт с ней, одни убытки, едва концы с концами свожу, а вот жить хочется. А жить все равно хочется, Иона. Нередко приходится слышать – что за жизнь? или – постылая жизнь, уж лучше умереть. Так вот – это не про меня, Иона. Прошу учесть… Прошу это обстоятельство учесть. Кто тебя знает, зачем ты явился? Или за кем?.. Мне, Иона, жить хочется. Очень. Даром, что все время спать хочется. Сплю буквально на ходу. Окончательно потерял счет времени… Я так понимаю, у каждого своё летоисчисление. Не то хотел сказать. Сказать, спросить, сказать… Видишь ли, Иона, последнее время, пару лет, а, может, и пять всё вокруг меня как-то сжимается. Всё-всё. Таверна как будто теряет в размерах. Люди мельчают, это я уже отметил. Сжимается всё. Как мокрая простыня. Вот именно. Высыхает и сжимается. Очень, на мой взгляд, подходящее сравнение… Ты зачем пришел, Иона? Просто так? Выпить поболтать? Просто так зашел, Иона? Столько лет тебя не было видно… За мной пришел? За всеми нами?.. Весть принес? Новая весть?.. Не ладится разговор. Никак не ладится. – Из последних сил пытается взять игривую интонацию. Звучит смешно. – Вообще, как дела? Как твои дела, Иона? Где жил, где живешь?
– Здесь, в Ниневии. – Прозвучало как гром среди ясного неба.
Справившись с немотой и криком одновременно, Филипп молвит, – Спасибо тебе. Большое человеческое спасибо.
– За что? – Невинная улыбка.
Филипп от волнения небывалым фальцетом, – А вот за то самое, за то, что заговорил. Я уже изготовился к смерти. Я бы умер. В самом деле. Еще пять минут несносного молчания, и я бы умер. Вслед за тобой умер бы. Страшно, Иона. Вообще это страшно, когда человек так молчит. В особенности такой человек. Когда долго молчит. Или умер. Еще неизвестно, что ужаснее. Когда мочит или когда умер. Не важно, собеседник или гость. А такой человек, как ты, избранный человек – в особенности. Званых – много, а вот избранных… А когда брат? Прости, ляпнул не подумав. Не брат, конечно. Но такой избранный человек… Уж больно долго молчал. Согласен? Ты со мной согласен?.. Так долго обычно не молчат. Такие люди так долго обычно не молчат… Страшно, Иона, не скрою, очень страшно было.
– Что с тобой, Филипп?
– Испугался. Уже пояснил. Объяснился уже. Все еще не могу придти в себя. Хотя теперь – другое дело. Теперь камень с души, теперь совсем другое дело… Знаешь, как будто солнце выглянуло, как будто светлее стало. Ты, может быть, и не заметил, а мне хорошо видно, очень хорошо. Со стороны именно что сияние. Ах, какое сияние! Ах, если бы ты мог видеть!.. У меня же, Иона, вся жизнь здесь прошла, в этой таверне, будь она проклята. Малейшие перемены сразу бросаются в глаза. Веришь – нет, кружка не в ту сторону ручкой повернута, у меня уже волнение, тревога. Констатирую – в данный момент в таверне наступило просветление. Впервые за долгие годы. Нисколько не преувеличиваю, ибо со стороны, отсюда, с моего места хорошо видно. Очень хорошо видно, Иона. Стоило тебе заговорить – какое-то свечение образовалось… А знаешь, что это за свечение? Это – просветление, Иона. Именно что просветление. И в голове как будто светлеет. Справедливости ради, тревога сохраняется, но одно другому не помеха. Это понимать надо. Лично я понимаю. Свет и тревога. Тревога и свет. Родня… Это, несомненно, из области чудес. Все, что связано с тобой, Иона – сплошные чудеса. Я это и прежде знал, так что удивляться нечему. Мы все это хорошо знаем, уже проходили, даже привыкли, в известной степени. Хотя, согласись, к чудесам привыкнуть не так-то просто… Даже странно, что я тотчас не сошел с ума. Свихнуться от такого чуда – раз плюнуть. Где-нибудь не в Ниневии, где-нибудь в другом селении, где чудес отродясь не видели, от такого свечения все тотчас с ума бы сошли поголовно. Буквально все. Разом. Можешь не сомневаться. А мы – ничего… А ведь это ты нас к чудесам приучил, Иона. Спасибо тебе… Страх немного. Не без этого. Страх пока сохраняется. Но пока справляюсь. Спасибо тебе, Иона.
– Как твои дела?
– Взволнован. Конечно. А как не волноваться? Но тебе не дано проникнуться моим волнением, Иона. И я, пожалуй, не сумею объяснить. Для того чтобы проникнуться, осознать, тебе нужно оказаться вовне. Стать мной. Или одним из нас. Или покинуть на время свое физическое тело. Первое невозможно, а второе… уже не помню, умеешь ли ты покидать свое физическое тело… Ты умеешь покидать свое физическое тело? Не помнишь? И я не помню. Сквозь стены как будто проходил прежде, а вот покидал ли свое физическое тело – не помню… В принципе мы все покидаем свои физические тела. Скажем, во сне. Иначе откуда эти унылые путешествия, бесконечные погони и бегства от незнакомых людей, которые происходят во сне? Опять же верблюды. Однако по ночам душа покидает тело самопроизвольно, без нашего согласия. По желанию же покидать физическое тело в любое время суток, в любую погоду, в любом расположении духа умеют единицы. Индусы и китайцы, главным образом. Возможно, и ты. Но не уверен. А мы, простые люди, народ, по собственному желанию тела не покидаем. Во многом потому, в большинстве своем, ощущаем собственную беспомощность. Хнычем по малейшему поводу. Все время ждем подвоха и нападения. Не знаю, испытывают ли животные подобные чувства. Хотелось бы знать. Во всяком случае, мой пес Жан-Жак, я назвал его Жан-Жаком в честь одного вольнодумца, пес не слушается меня и покусал два раза до крови. Во всяком случае, мой пес Жан-Жак вздрагивает во сне, из чего можно вывести, что и он не лишен сновидений и прочих галлюцинаций. Следовательно, его душа тоже покидает физическое тело. Это значит, что встретиться мы можем с кем угодно, где угодно и когда угодно. Не исключено, что вот мы теперь беседуем, ничего такого не ожидаем, и вдруг дверь открывается и со свойственным вольнодумцу лаем в таверну врывается Жан-Жак. В контексте твоего, Иона, визита, подобное допущение – слабая, но надежда. Феномен как утешение. С учетом представленного выше феномена, ты действительно мог забрести ко мне в таверну случайно. Скажем, твоя душа гуляла, гуляла, гуляла, да и надумала заглянуть в знакомую таверну. Почему бы и нет? Все же нас кое-что связывает. То есть совсем не обязательно ты появился, чтобы исполнить некую чудовищную или почетную миссию. Мог запросто заглянуть на огонек. Хотя в контексте несчастья, приключившегося с Марком, огонек звучит достаточно зловеще… Но я не помню, ты ли был тем человеком, что проходил сквозь стены, или другой человек был тем человеком. И в том, и в другом случае можно попытаться сказать себе – это просто видение… Люди вообще без глаз живут. Но это мы, кажется, уже обсудили. Обсудили? Я тебе про Корнея рассказывал? Рассказывал. Обсудили. Во всяком случае, темы коснулись… Живут и живут пустоглазые, и дай им Бог здоровья… В юности я хотел стать ученым. Интересовался разнообразными феноменами из жизни собак, и вообще феноменами.
– Как твои дела?
– Повторно прозвучал вопрос. К чему бы это?.. Согласно правилам вокабуляции и конфабуляции, если твой собеседник или иной субъект дважды задал один и тот же вопрос, следовательно, этот вопрос волнует его, то есть тебя, следовательно, этот вопрос – особенный, то есть имеет особое значение, даже если вопрос риторический. И, наверняка, получит развитие. За этим вопросом, последует новый вопрос, позабористее, затем еще и еще, и так до тех пор, покуда не разверзнется голодная бездна постой на краю либо не предстанет смертельный выбор смелее шагай. И то и другое – суть, ужасный конец. Что, несомненно, предпочтительнее ужаса без конца. Тривиально. Но высказывание народное. То есть из народа. А народ всё подметит. Заметит, подметит, предугадает и припечатает. Брезговать преступно… Что же следует из вышеупомянутого? Какова мораль поверхностного прочтения? Шагай смелее. Пропасть во спасение. Так получается? Так. Погибель, как спасение от кошмара. А ты, стало быть, спаситель, Иона. И уже в который раз. Угадал? Не угадал?
Иона смеется, – Сам-то ты слышишь, что говоришь?
– Мои рассуждения кажутся тебе безосновательными. Хорошо. А зачем ты дважды спросил меня, как мои дела?
– Просто так поинтересовался – давно не виделись.
– Просто так?
– Просто так.
– И тебе можно верить?.. Почему бы и не поверить? Как говорится, хочешь – верь, хочешь – не верь. А что нам остается? Разве у нас есть выбор? И кто мы такие есть? Себя не помним. Не помним и не знаем… Кто – ты и кто – мы? Самоуничижение и самоуничтожение. Философия, астрономия, астрология… Здравствуй, Иона. Добро пожаловать, как говорится.
– Здравствуй, Филипп.
– Я тут много всякого наговорил, не обессудь. Не обращай внимания. Можно внимания не обращать. Не обращай внимания на мои бредни. Видишь ли, сомнения терзают. А кого они не терзают? Всех, если вдуматься, терзают. Справляюсь с трудом. Иные легко справляются, а у меня вот не всегда получается. Всегда не получается. У тебя самого дел наверняка невпроворот, а тут я со своими терзаниями. Просто беда… У меня здесь Ваал и Пума. Узнал их? Ваал и Пума. Ты их помнишь? не помнишь?
– Смутно.
– Смутно помнишь или смутно не помнишь?.. Ваал и Пума – самые преданные мои друзья. Еще с тех приснопамятных времен. Ты должен их помнить. Ваал окончательно свихнулся. Бредит целыми днями. Собирает какую-то околесицу. Иногда и слов не разобрать. Я и не пытаюсь. Стараюсь не слушать.
– Трогательный. Я его припоминаю. Но он, кажется, был моложе.
– Столько времени прошло. Ничего удивительного. Пума теперь бездомный, попрошайка. Бесполезный человек. Вот его дети и выгнали за ненадобностью. Нынче дети не церемонятся. Ноет и ноет. Надоел.
– Трогательный. Я его припоминаю.
– Я его отравлю. Так будет лучше для всех. Он знает, я его много раз оповещал. Шучу. Шутить не люблю, но шучу. Приходится. Тоска разъедает. Сил нет терпеть. Оба – пустозвоны. Мудрствуют с утра до вечера. Я их понимаю. Тоска разъедает. Ржавеем. Я их отравлю. Обоих. У меня яд есть. Хороший. Сначала их отравлю, потом себя. Так будет лучше для всех. Шучу.
– Что с тобой происходит, Филипп?
– Стал чаще шутить. В остальном – ничего нового. Ничего, что бы заслуживало внимания. Вот только сегодня, увидел тебя – немного разволновался. Воспоминания нахлынули. Давно не виделись. Сколько мы не виделись? Давненько.
– Вообще как дела?
– Какие могут быть дела? Сам подумай. Какие у меня могут быть дела?.. Живу как устрица в этой своей таверне, будь она проклята. Можно сказать, выживаю. Любишь устриц? Хочешь, приготовлю тебе устриц в сметане?.. А ты как живешь, Иона, где?
– Здесь живу.
– Здесь, это где?
– В Ниневии.
– А до того?
– В каком смысле?
– Перед тем.
– Перед чем?
– Ну, вот, началось. Завертелось вполне ожидаемое веретено. Игра без дна. Правил нет, игроки неведомы, что на кону – никто не знает. Предположим, я догадываюсь, кто банкует, я даже догадываюсь, кто составляет правила, и скорее всего это одна и та же персона. Я даже представляю себе ее, персоны, внешность. Но это не означает, что вычленив ее из толпы прохожих, группы натурщиков, команды бегунов, если угодно, беглецов или моих гостей, я решусь схватить ее, персону, за локоть, и решительным образом или, напротив, предельно вежливо, интеллигентно поинтересоваться – завтра война? или завтра в поход? Ибо могу ошибаться. Да если бы и знал, разве это что-нибудь меняет? Времени-то у прохожего спросить боюсь, так как этот прохожий может оказаться именно той персоной, о ком я говорю. И какая мне разница, который час? И каковы должны быть мои дальнейшие действия? И какова расплата за мое любопытство?.. Проблема поступка или выбора, Иона, на мой взгляд – краеугольная… краеугольное… не важно… Речь, насколько я понимаю, идет о жизни и смерти. И вопрос этот встал именно здесь и сейчас. В моей таверне. Отдельная благодарность за доверие, внимание и так далее… Впрочем, я могу оказаться неправ. Я часто оказываюсь неправым. Но, что показательно, не боюсь в этом признаться. Так что, дозволь принять на веру то, что ты действительно живешь в настоящее время в Ниневии. В Ниневии, значит – в Ниневии. Слово – не воробей. Наконец, это не трудно проверить. Другое дело – зачем? Твое слово – закон. Долго ли протянет тот, кто в этом усомнится? Так что забудем. В Ниневии – так в Ниневии. Видишь, сделался таким же нытиком, что и Пума, твой покорный слуга. Так что забудем. Лучше забыть. Так будет лучше для всех. Будем болтать просто так, ни о чем. Как два старинных приятеля. Без особых полномочий и знамений. Так будет лучше. Правильно?
– Наверное. Не совсем понимаю тебя, но, наверное, ты прав.
– Как два старинных приятеля, согласен?
– Мы и так два старинных приятеля.
– Завтра война? Шучу… Здравствуй, Иона.
– Здравствуй.
– Все же не могу удержаться, и не спросить. Можно?
– Почему же нет?
– А во время замалчиваемых событий, Иона, где ты жил?
– О каких событиях идет речь?
– О любых, не важно, о событиях, что замалчиваются или умалчиваются неизвестно кем и неизвестно зачем, событиях по умолчанию, если выражаться современным языком, событиях, что происходили между нашим совместным путешествием во чреве зверя и нынешним твоим визитом ко мне, своему напарнику по чреву. Покамест обозначим мой статус так, осторожно – напарник по чреву. Старинный приятель и напарник по чреву. Не возражаешь? Дальше будет видно, пока пусть будет так.
– Пусть будет.
– Жана-Жака, пожалуй, напрасно приплел. При чем здесь Жан-Жак?.. Собакам до всех этих катавасий дела нет. И не должно быть. Чистое существо. Спит, подрагивает… Веришь, нет? первый раз встретил собаку, от которой не пахнет псиной. Уж мы всей семьей и так, и этак обнюхивали – запаха нет. У меня большая семья. Еще Ваал и Пума. Я их, в известной степени, тоже своей семьей считаю. Большую часть времени с ними провожу. Жену редко вижу. Много работы. Ваала и Пуму чаще. Так вот, моя жена улавливает запахи почище легавой, и то не обнаружила. Иногда приходит в голову, а, может, Жан-Жак вовсе не собака?
– А кто же?
– Жан-Жак. Просто Жан-Жак. Такой вот Жан-Жак. Сам по себе Жан-Жак. Не может же собака говорить? А моя – говорит. Мы с ней беседуем. Довольно часто. Не скажу, чтобы Жан-Жак был уж очень образован. Но животное порядочное, немного мечтательное, склонное к идеализму. Либерал, но не пакостник. И, главное, совершенно не воняет. Невольно вспоминается вонь во чреве. Помнишь эту вонь? На всю жизнь послевкусие осталось… Но ты мою осторожность не осуждаешь?
– Нет, зачем же?
– Все же где ты жил все это время?
– В Ниневии.
– Все эти годы жил здесь, среди нас?
– В общем да.
– Странно, согласись.
– Что в этом странного?
– Но это как минимум странно, согласись.
– Что же здесь странного?
– Настаиваешь?.. Ну, да, ну, да. Если вдуматься, ничего странного. Да, да, ты прав. Как всегда, прав. Мы, видишь ли, склонны находить странности в том, что на самом деле является обыденным, и наоборот, не замечаем чудес, когда они буквально лезут в глаза. Всё шиворот навыворот. С другой стороны, это неплохо. Для иных небо на землю обрушилось, а для нас ночь как ночь, фонарики зажжем и дальше рыбу чистить, сети вязать. Кто – любить, а кто устал – просто так спать отправится. И очень хорошо, просто изумительно. Помнишь Марка?
– Которого из них?
– Таверна в четырех кварталах отсюда.
– Припоминаю.
– Так вот, сожгли его. Вместе с таверной.
– Слышал.
– От меня?
– Нет, еще раньше.
– Откуда?
– Не помню.
– А меня слышал? Вот когда я тебе про Марка рассказывал. И вообще слышал? Слышал меня, слушал? А я много говорил. Сам от себя не ожидал. Я вообще-то не из болтливых, а тебя увидел, разволновался, затараторил. Практически всё выложил. Сомнениями поделился. Сомнениями, опасениями. Вопросы разные задавал. В том числе жизненно важные, главные вопросы. Ждал твоего слова. Волновался. Соскучился. И в твое отсутствие часто с тобой разговаривал. Когда трудность какая непреодолимая, недомогание или недопонимание – сразу к тебе. Представлял, что ты рядом. Как прежде. Будто сидим на корточках, смрадом дышим, о будущем мечтаем. А то, бывало, запоём. Жутко и хорошо. Тем и успокаивался. Тут ты, откуда ни возьмись. Как водится, разволновался. Думаю, теперь-то уж всё расскажу, поделюсь. Думаю, наговоримся наконец. Хотя я – не из болтливых. Да ты и сам знаешь. Слова и мысли наперегонки, сердце зашлось, руки холодные. Накопилось за столько лет-то. А ты молчишь. Да разве в такой ситуации можно молчать, Иона? Старинный приятель, как-никак, больше чем приятель, смею надеяться, напарник по чреву. А ты молчишь. Ты почему молчишь, Иона?
– Устал.
– Что это значит? Почему ты говоришь со мной загадками?
– Никаких загадок. Устал и всё.
– Меня не слышал, не слушал?
– Дремал, извини.
– Вот как?
– Устал что-то, задремал.
– Хорошо, если так. Если так дело обстоит – хорошо. Очень хорошо, если так. А у меня уже всякие мысли. Неприятные мысли, тревожные. Я, Иона, с годами тревожным стал. По причине постоянного ожидания мелких и менее мелких неприятностей люди тревожными становятся. Наливаются тревогой, даже с лица меняются. Бурыми пятнами покрываются или рябью как на вафельном полотенце. Мне тоже все время спать хочется. Времена такие. Неспокойные времена. Говорят, небо на землю падает. Не слышал ничего такого? Что-то не верится. Я специально ходил, смотрел, изучал. Другие ходили, не только я. Наблюдали подолгу. Ничего особенного. Небо как небо. На основании чего такие выводы? С другой стороны, мы к чудесам приучены – могли и не заметить. Ничего об этом не знаешь?
– О чем?
– О том, что небо валится?
– Нет.
– Вот и я не верю. Болтают, болтают, целыми днями болтают. Тем только и заняты, что болтают. Ну, и я, разумеется, вместе с народом. Я всегда с народом. Я, Иона – не лучше других. Не возвышаюсь. И в мыслях нет. Но глобальным видением, чего скрывать, маленько награжден. Случается, даже заболеваю. За все человечество страдаю. Мысли о государстве посещают. Как-то внезапно накрывает. Будто прозрение. Тягостное. Потом отпускает. Я тебе так скажу – всё в упадок приходит. И это не домыслы. Я свидетельствую. Безобразничаем. Членовредительство, блуд. Чревоугодничаем, излишествуем, деградируем, вымираем. Конец Света скоро. А, вот, скажи, Иона, по старой дружбе, что там о Конце Света слышно?
Иона молчит. Закрывает глаза. Спать? снова спать будет?
Филиппа осеняет – да он же недослышит, Иона недослышит. Потому и молчит и спит на ходу. И как это он, Филипп, раньше не догадался?
Филипп кричит что есть сил, как обыкновенно кричат на пожаре, – Иона! Иона!
Иона вздрагивает. – Что случилось!
– Иона, ты меня слышишь?
– Что случилось?
– Иона, ты слышишь меня?
– Ты чего орешь? Я хорошо слышу тебя.
– Мне показалось – ты глухой. Молчишь, то и дело засыпаешь. Стесняешься, стараешься скрыть. Все приметы налицо. Глухие себя стесняются. Вот я и подумал, а вдруг?
– Все в порядке. Бог милостив.
– Слава Богу.
– Иона, скажи, о Конце Света ничего не слышно?
– Все в порядке. Бог милостив.
– Слава Богу.
– Слава Богу.
– Слава Богу.
– Слава Богу! – сипит спросонья Пума. Проснулся. От такого крика кто угодно проснется. Паровоз проснется от такого крика. Крик у Филиппа – что твой гудок паровоза. Паровозы, известно, по гудку просыпаются.
– Слава Богу! – сипит, проснувшись, Пума.
– Слава Богу! – отвлекшись от окна, вторит Пуме Ваал. – Приветствую тебя Иона! Какими ветрами? – Направляется к столику, усаживается, принимается за вино. Пьет маленькими глотками, скорее мочит губы, нежели пьет. – Наблюдаю дождь. Впереди закат. Дождь на закате – особое зрелище. Для знатоков и пророков. Рекомендую, Иона.
– Непременно, Ваал, – отзывается Иона.
– Потеснюсь у окна, если пожелаешь.
– Благодарю, Ваал, – отвечает Иона.
Пума, сморщившись, выпивает, шумно шарит по карманам, по-видимому, намереваясь закурить.
– Пума проснулся, оболтус Пума, – говорит Ионе Филипп. – Теперь клянчить начнет.
– Не знаю, не уверен, что проснулся. Выпить я и во сне могу, не составит труда, – бормочет Пума. – И все же проснулся. Скорее проснулся, нежели продолжаю спать. Курить хочется. Курить во сне не умею. Был табачок, нет табачку. А ведь табачок-то был, как сейчас помню. Знатный был табачок.
– Не было, и не придумывай, – отсекает Филипп.
– Зачем живу? – сокрушается Пума.
– Подал бы Пуме табачку-то, – заступается за товарища Ваал. – Уж я заплачу. Пума, когда выпьет, чаще всего закуривает. Так что уж будь добр, Филипп, угости его сигареткой. За мой счет, разумеется. От тебя в голодный май и маковой росинки не дождешься. А ты угости.
– Ваал вернулся из дальних странствий, – говорит Филипп Ионе. – Теперь бредить будет. Уже бредит. В голове не укладывается, откуда у странника деньги? Сыплется, сыплется манна небесная. Кто-то работает, и с хлеба на квас, перебивается, а кто-то странствует, да жирует, что твой тюлень. Где справедливость? И чего прикажешь ждать в обозримом и необозримом? Какая-то хроматическая гамма получается, честное слово.
– Я все слышу, Филипп, имей в виду. Дабы потом не вздумал на попятную. Какие странствия? Рассчитываешь на мое своеобычие? представить чудаком и осудить? Не выйдет. Дождь все наблюдают, не я один, – возражает Ваал. – Здесь тебе меня не ухватить. Кроме того все слышу и запоминаю по мере сил. Всегда. И нисколько не осуждаю. И, в известной степени, признателен. Обильная пища для размышлений. И об отсутствующих не забываю. Не осуждаю и рассчитываю таковым остаться в ответ. Невзирая на Конец Света, что остался далеко позади, если окинуть и сопоставить. Раз уж речь зашла о государстве и Конце Света.
– Конец Света? Что-то такое, как будто… – Пума протирает глаза. – А что? Не исключено. Некое мерцание наблюдается. Или спросонья? Если честно, я бы не удивился. Какая-то неопрятность и вычурность во всем. Мреет. Курить хочется. По пробуждении, как правило, испытываю это и подобные желания. К тому же туманно. Хроматическая аберрация, не иначе.
– Не тревожься, Пума. Это дождь, – утешает приятеля Ваал.
– В таверне туманно, – бормочет Пума.
Филипп ворчит, – В голове у тебя туман, Пума. – Ионе. – Не просыхает. Вот сколько себя помню – не просыхает. Ни чума его не берет, ни оспа.
Пума возмущен, – Напраслина! – Выпивает. – И как странно? Довольно-таки странно слышать подобные речи от заурядного трактирщика. Не скрою, вино мне желанно. И табак желанен. Для утешения и мечты. Ибо не ведаю, зачем явлен на Свет божий. Медленно постигаю непостижимое. Экзистанс. – Выпивает.
– А вот я тебя, Пума, отравлю, на том непостижимое и закончится, – гневится Филипп.
– Во-первых, грубо, во-вторых, я тебе не верю, в-третьих, это не ты говоришь. Мизантропия в тебе говорит и нечеловеческая жадность. При том, что, в сущности, незлобный человек. Но и это можно осилить. С волками жить – по-волчьи жить. Человек человеку волк. Что там еще о волках? Волком твой Марк был. Ответственно заявляю. Мизантропом был.
– Не стыдно?
– Немного. Но я с этим справляюсь как-никак.
– Отравлю, тогда вспомнишь меня.
– Так травили уже. И газами, и так, не по злобе. Однако твоя тема посерьезнее будет. Видения и у меня случаются. Ужи, другие небольшие животные. Не часто. В остальном, благодарствуйте. Не гонишь.
Ваал продолжает, – Вот ты, Филипп, объявил государство.
– Не объявлял.
– Ему надобно, разве не видишь Филипп? – говорит Пума. – Ваал хочет говорить о государстве. Почему бы тебе не поддержать его? Тем более что тема возникла с твоей, Филипп, подачи. Разве не так? Ваалу надобно теперь поговорить о государстве. Он если о государстве не поговорит – сам не свой делается. В нем вечное и сиюминутное сочетается. Редкостное качество и головная боль.
– Всем что-нибудь надобно, – ворчит Филипп. – Это невыносимо. Чувствую себя ступой, в лучшем случае маятником. Но зачем государство приплетать, этакий мешок и казнь?
– Еще раз. Ты, Филипп не без оснований на то объявил государство. Иона, теперь слушай. Спор, думаю, предстоит отчаянный. Филипп редко отступает. Итак, Филипп, ты покусился на государство. Но имел ли ты на то основания? Думаю, что имел, коль скоро объявил. Но просчитал ли? Не просчитался ли? А знаешь ли ты, Филипп, где оно, государство почивает? И что оно такое есть? кроме оброненных стремглав мешка и казней? Боюсь, что представления не имеешь. Боюсь и уверен. Что, разве заглядывал ты ему в глаза, государству-то? С рук кормил? С его государственных рук кормился? А говоришь, государство. Губами шлепнул и больше нечего. Как латимерия. Еще бы на площадь позвал костры жечь. Осторожность и праздник в тебе потеряны. И когда это произошло? Не помнишь? Что скажешь?
Филипп отвечает, – Не слушаю твои бредни. Не хочу свихнуться следом за тобой. Однако праздников и великих свершений не стало. Факт.
– Уж раз пошел такой разговор, коль скоро интересуешься, я тебе скажу – государство там, за окном.
– Тоже мне, открытие, – говорит Филипп.
– Открытие. Разумеется, открытие. Еще какое открытие! Сквозь пелену и шум. Сам попробуй волка в яме высмотреть ночной порой. И даже там, в валежнике – государство какое-никакое. А вот в тебе его нет, и в таверне твоей его нет, и как с этим процветать, гражданин хозяин? – вопрошает Ваал, не обращая внимания на иронию трактирщика. – Нет, как нет. Можешь не искать. Здесь пока не ищи. Но, помни, это не навсегда. Скоро крыша прохудится, все здесь будут. Знакомые и малознакомые. Видимые и невидимые. Недолго ждать осталось. Еще папоротник и хвоя. И, как было замечено выше, волк в яме. Пума не зря упреждает. Хвощи и плауны.
– Где?
– Говорю же в яме волчьей.
– Что ты мелешь, Ваал? В самом деле, беду накличешь, Ваал. О государстве речи не было, Ваал. Говорили о звере немного, а государства не касались, – замечает Филипп. – А летом мошка заедает, сил нет терпеть. Прежде такой мошки не было. и о государстве речи не велось.
– Знаешь что, я тоже не глухой. – Возражает Ваал. – И нечем хвастаться. О государстве в первую очередь надо бы подумать. Войны-то не хочется небось?
Пума вносит свою лепту, – Все вместе, каждый на своем месте, мы не должны мешать государству расселяться в нас. Таково мое мнение. Как хотите. Я бы сказал так – проходите, берите стулья, садитесь.
– Кому сказал бы? – спрашивает Филипп.
– Государству, раз уж речь зашла о государстве.
– Большая политика, – вздыхает Пума. – Силища беспросветная.
– Какая политика? Этого еще не хватало. Вспоминали зверя немного и всё.
– Лукавишь, Филипп, – не унимается Пума.
– Не лукавлю.
– Лукавишь.
– Не лукавлю.
– Пожарных вызывай, в самом деле.
Да что, в самом деле? – Волнуется Филипп. – Почему я должен извиваться как вьюн какой-нибудь? Зачем мне участвовать в ваших снах и глупостях? Не счел нужным вот именно сейчас вспомнить о государстве. Слово, быть может, и вылетело меж других прочих слов, но акцента не делал и воспоминаниями делился иного рода. Вот зверь действительно достоин того чтобы его вспомнили. Ибо участвовал и прочее. Ко мне иносказательно единоутробный брат пришел поделиться новостью. Напарник по утробе. Мы вместе участвовали. Все трое. И вы это знаете не больше и не меньше. И нечего перечить. Как бы то ни было, зверь немало сделал. Во всяком случае, произвел незабываемое впечатление. На всех. И к государству уважение сохраняется, не беспокойтесь. Просто всему свой срок. И всякому государству свой срок.
– Бессрочно! – Заявляет Пума.
– Не возражаю. – Соглашается Филипп.
– Зверь измельчал заметно, – говорит Ваал. – Не удивлюсь, если он сейчас у кого-нибудь из власть имущих в аквариуме плавает.
– Тому назад, – поддерживает Ваала Пума. – Хочется сказать, мир так устроен, детка. С этим надо жить. С этим надо как-то жить, детка. Еще каких-нибудь двадцать лет назад, Филипп, я шел к тебе в таверну с чувством радости и безопасности. Я знал, что где-где, а уж в твоих-то пепелищах завсегда найду чинарик тех размеров и свойств, что позволит мне насладиться и утвердиться в том, что я всё еще жив, курилка, и что обо мне кто-нибудь, да подумал. Такая малость, если вдуматься. Теперь же пепельницы пусты, как и карманы. Чистота, говоришь? Ты много говоришь о чистоте, рассуждаешь. Чистота, дорогой мой – это несколько более широкое понятие. Теперешняя твоя так называемая чистота сродни беспамятству и молитве без слов. Не обижайся.
– Зачем обижаться? Несоответствий и недомолвок действительно пруд пруди. Но, справедливости ради замечу – не только Филипп, и не столько Филипп, – говорит Ваал. – Пытаюсь защищать тебя, Филипп, хотя с каждым разом это удается мне все с большим трудом. Почему бы, действительно, тебе не предложить Пуме сигарету, а всем горячее. За небо говорить не имею права, но солнце точно валится к закату, а горячего еще не подавали. Что касается мешка. Мешок – это упаковка, сшитая из мягкого материала, имеющая переменную геометрическую форму и при необходимости – завязки. Мешки предназначаются для складирования, переноски и транспортирования разнообразных сыпучих стройматериалов, пищевых продуктов и т. п. Обычно они шьются из прочной ткани – рогожа, мешковина, бумаги, кожи, синтетических материалов. Преимуществом мешка перед другими ёмкостями является крайне малые масса и объём пустого мешка по сравнению с помещающимся в него грузом, а также очень малые габариты свёрнутого мешка. Кроме того, мешок обычно дешевле других контейнеров той же вместимости. К недостаткам можно отнести низкую прочность на прокол и неудобство переноски заполненного мешка. При добавлении ручки, пары ручек или ремня мешок превращается в простейшую сумку. Теперь что касается казни. К казням относятся башмаки с шипом. Это железные башмаки с острым шипом под пяткой. Шип можно выкручивать при помощи винта. С выкрученным шипом жертве пыток приходится стоять на мысках ноги, пока хватает сил. Вилка еретика. Четыре шипа – два, впивающихся в подбородок, два – в грудину, не позволяют жертве совершать никаких движений головой, в том числе и опустить голову ниже. Кресло для ведьминого купания. Испытуемого привязывают к креслу, подвешенному к длинной жерди, и опускают под воду на какое-то время, потом дают немного глотнуть воздуха, и опять – под воду. Популярное время года для проведения таких пыток – поздняя осень или даже зима. Во льду делается прорубь, и через какое-то время жертва не только задыхается под водой без воздуха, но и на таком желанном воздухе покрываются коркой льда. Испанский сапог. Это такое крепление на ноге с металлической пластинкой, которая с каждым вопросом и последующим отказом отвечать на него, как это требуется, затягивается все сильнее, чтобы переломать человеку кости ног. Для усиления эффекта иногда к пытке подключается палач, который ударяет молотом по креплению. Часто после таких пыток все кости жертвы ниже колена оказываются раздробленными, а израненная кожа выглядит, как мешочек для этих костей. Пытки водой. Испытуемого привязывают колючей проволокой или крепкими веревками к специальному деревянному приспособлению типа стола с сильно приподнятой серединой – чтобы живот грешника выпирал, как можно дальше. Его рот забивают ветошью или соломой, чтобы он не закрывался, и вставляют в рот трубку, через которую вливают в жертву неимоверное количество воды. Если жертва не прерывает эту пытку для того, чтобы сознаться в чем-то или целью пытки является однозначная смерть, в конце испытания жертву снимают со стола, укладывают на землю, а палач прыгает на ее раздутый живот. Финал понятен и отвратителен. Железный крюк или кошачий коготь. Понятно, что используется не для того, чтобы почесать спину. Плоть жертвы разрывается – медленно, болезненно, вплоть до того, что этими же крюками у неё вырывают не только куски тела, но и ребра. Дыба. Два основных варианта: вертикальный, когда жертву подвешивают под потолком, вывернув суставы и подвешивая к ее ногам все большие тяжести, и горизонтальная, когда тело грешника фиксируется на дыбе и растягивается специальным механизмом до той поры, пока у неё не разрываются мускулы и суставы. Четвертование лошадьми. Жертва привязывается к четырём лошадям – за руки и ноги. Потом животных пускают вскачь. Груша. Это приспособление вставляется в отверстия тела – понятно, что не в рот или уши – и раскрывается так, чтобы причинять жертве немыслимую боль, разрывая эти отверстия. Очищение души. Вливание в горло испытуемого кипящей воды или закидывание туда же раскаленных углей. Подвесная клетка. Предполагает два экстремальных способа эксплуатации. В холодную погоду, подобно креслу для ведьминого купания, грешника в этой клетке, подвешенной к длинной жерди, опускают под воду и достают из нее, заставляя мерзнуть и задыхаться. В жару же грешник висит в ней на солнцепеке столько дней, сколько может вытерпеть без капли воды для питья. Пресс для черепа. Сначала сжимаются и крошатся зубы испытуемого, потом крошится челюсть, за ней кости черепа – до тех пор, пока из ушей не выливается мозг. Бдение или колыбель Иуды. Сначала грешника поднимают на веревке, а потом усаживают на Колыбель, причем вершина треугольника вставляляется в те же отверстия, что и Груша. Железная дева или нюрнбергская дева. Это огромный саркофаг в виде открытой пустой женской фигуры, внутри которой укреплены многочисленные лезвия и острые шипы. Они расположены таким образом, чтобы жизненно важные органы заключенной в саркофаг жертвы не были задеты, поэтому агония приговоренного к казни является долгой и мучительной. Кол. Испытуемый, которого умело сажают на кол – его конец должен торчать из горла жертвы, может жить еще несколько дней – страдать физически и морально, поскольку пытка публичная. Пила. Испытуемого подвешивают вниз ногами, чтобы кровь не переставала поставлять кислород в голову, и человек испытывает весь ужас боли. Случается, он доживает то того момента, когда ему медленно-медленно успевают распилить тело до диафрагмы. Колесование. Приговорённому к колесованию железным ломом или колесом ломают все крупные кости организма, затем его привязывают к большому колесу, и устанавливают колесо на шест. Приговорённый оказывался лицом вверх, смотря на небо, и умирает так от шока и обезвоживания, часто довольно долго. Страдания умирающего усугубляют клюющие его птицы. Иногда вместо колеса используют просто деревянную раму или крест из брёвен.22 Что же касается чистоты в таверне – весьма сомнительно. Иными словами, несомненная грязь.
Пума потрясен. – Да! Где же теперь усомниться? когда такие неопровержимые аргументы и факты? Нет, нет, это ты напрасно, это ты зря, Филипп.
Филипп крайне раздражен, – Что, что?!
Пума качает головой, – Напрасно, напрасно…
– Скажу так, только без обид, пропадите вы пропадом, друзья мои! – Восклицает Филипп. – Ни капли жалости. Бесконечные претензии, больше ничего. Целый день на ногах, а у меня перебои, прострелы, непонятное колотье. В отличие от вас, друзья мои, я старею по причине бесчисленных забот и беспокойств. Беспокойств не мелких, но всеобъемлющих. Присовокупите к тому беспощадную головную боль, которая, что любопытно, живет сама по себе и является, когда ей заблагорассудится. Ибо никто не знает, что, когда и каким образом. – Обращается к Ионе. – Их ничего не заботит. Безумные, беззубые младенцы. Вернулись в состояние младенцев и благополучно почивают на лаврах полного неведения. Речи пустые, вопросы мелкие. Им кажется, что таверна – это такое место, где уместно не выходить за рамки низменных потребностей и последующих капризов. Как думаешь, зачем Ваал обрушил на нас все эти леденящие ужасы?
– Я подал тебе манок и зерно. Кинул спасательный круг сверхзадачи. И Станиславскому не удалось бы так изящно протянуть руку помощи запутавшемуся в тенетах себялюбия актеру одного театра, – поясняет Ваал.
Иона пытается прервать перебранку, – Не ссорьтесь, друзья.
– О ссоре не может быть и речи. Посиделки – другое дело. Ссора выше любых посиделок. Уж если я отвлекся от своих наблюдений.
– Ты о чем-то хотел спросить меня, Филипп? – спрашивает Иона.
– Уже спросил. Но разве тебе до моих вопросов?
– Не сердись.
– Живу в атмосфере угроз и требований, сам себе опекун. Без заботы, любви и понимания.
– Немного отвлекся, прости. Не расслышал, точнее не услышал.
– Пребываешь в своих мыслях?
– Задумался немного.
– Или в не своих мыслях?
– Просто задумался. Так, ни о чем. – Улыбается. – Очень похоже на то, что в не своих мыслях. – Смеется. – Еще говорят «не в своем уме». Когда хотят указать собеседнику на его странности. Или подчеркнуть его, собеседника, чудаковатость.
– Нет, Иона, не это я имел в виду. Хотел спросить, что там слышно о Конце Света?
– Почему вспомнил вдруг?
– Ждем.
– Лично я больше не жду. – Ваал возвращается к окну. – Хотя, несомненно, интересуюсь. И кое-что об этом знаю.
– Обещали. Ожидаем-с. Ждем-с.
– А кто обещал? – спрашивает Иона.
– Не знаю, не помню, – отвечает Филипп.
Ваал развивает тему, – Не тяп-ляп, источник имеет значение. Такой вопрос – не пятна Роршаха на туалетной бумаге. Пример не совсем удачный – пятна Роршаха появились задолго до самого Роршаха. И туалетная бумага появилась задолго до самой туалетной бумаги, но главное ты уловил. Ты, Филипп, насколько я знаю, парень неглупый. Так что, пожалуйста, присовокупи источник, и я, в свою очередь, уж так и быть, попытаюсь вспомнить кое-что.
– Допросы, допросы. Может быть, никто не обещал, может быть, пригрезилось, приснилось. Не помню.
Ваал неумолим, – Это навряд ли. Обещание – вещь серьезная. Связано с переменой планов, а иногда и образа жизни. Не тяп-ляп.
– Обещать, может быть, и не обещали, а в воздухе висит. – Говорит Филипп.
– Как октябрь. Как корь. Всеобщее предчувствие. – Вторит ему Ваал. Пытается уточнить. – Подразумеваешь знамение, Филипп?
– Не знаю, возможно, не уверен. Пока речь идет об ожидании.
– Кто автор? – спрашивает Ваал.
– Кто-кто? Все об этом говорят. О таких вещах не принято говорить. Кто-кто? Все и никто. Да ты сам знаешь. Говорят. И давно. Сколько помню себя.
– Автора! – Настаивает Ваал.
– Неведомо, – не сдается Филипп.
Пума вступает, – Эй, эй, точнее в формулировках. Будьте любезны. И табачку, если невдомек! К делу отношения не имеет, но способствовало бы. Устами младенца, как говорится. И кем говорится – тоже имеет значение. Так что четче. Пожалуйста, четче, Филипп. Ты уж будь любезен, Филипп, первоначально разузнай, кто, да почему. Да как звать. Если вопрос для красного словца касается той или иной персоны, отец в данном случае не подходит – имя должно быть представлено. Анонимность гарантируем. Либо несколько имен. Действуй по обстоятельствам. Тактика. Лично я согласен на несколько имен. Во избежание ложных ориентиров и обвинений. Не смотри, что пьян – памятью не страдаю. Одним словом, требуются имена. Чем меньше, тем лучше. Тактика.
– А что имена? Имена какими угодно могут быть, – говорит Филипп. – Иные имена и на имена-то не похожи. Ангары или клювы. Уключины… Я, Иона, могу и отказаться от своего вопроса. Вопрос, согласен, неприятный, двусмысленный. Это как минимум. Тягостен, насколько могу судить, для всех нас. Так что не хочешь – не говори. Возможно, это – к лучшему. Я не требую, не настаиваю. И правильно – того знать не положено. Как говорится, не в том возрасте и не в том положении. Или это из другой оперы?.. Мало ли о чем говорят? Вот, еще говорят, небо на землю валится. – Ионе. – Вот, кстати, говорят, небо на землю валится. Ничего такого не слышал?
– Ты уже, кажется, спрашивал.
– То есть иногда ты все же слышишь?
Иона улыбается, – Иногда.
– Темнишь?
– Шучу, настал мой черед.
– В твоем исполнении шутки – шипы, босым не ходи и жалюзи не открывай. Что-то прежде за тобой не водилось. Прежде ты серьезным был, даже чересчур. Побаивались тебя. Да и теперь побаиваются. Побаиваемся.
Иона объясняет, – Того уж нет. Поостыл. Щекотки стал бояться. Над собаками плачу. Я их кормлю, жалею бездомных. А все равно игривость одолевает. Не часто. Про себя. В охотку. Не часто. Домосед. Домоседом стал.
– Притяжение? – в вопросе Филиппа нескрываемый сарказм. – Правильно. Так безопаснее. Сосредоточиться никто не мешает. Я вот как ни пытаюсь сосредоточиться, не получается. Раньше за женщинами ухлестывал. Да. Не то, чтобы до беспамятства, но всё же. Жить хотелось. Оно и теперь хочется. Теперь, если не лукавишь, тебе будет проще понять. Жизнь – это ведь не только любовные похождения? Хотя, всё от местоположения зависит. На юге, к примеру, без любви никак. Хотя, мы и так на юге как будто. Это откуда посмотреть. Проклятая относительность. И так голова кругом. А что, правда, говорят, земля круглая? Где же это видано, чтобы земля круглой была? Да разве у меня глаз нет? Вот они, ученые эти на кого рассчитывают? Думают, что все кроме них, все остальные, народ – идиоты?
– Эй, эй, поосторожнее с народом, мы не всегда безмолвствуем. – Предостерегает Пума.
Филипп не обращает внимания на реплику, – На все стороны равны. При чем здесь штаны? Что в голову взбредет, то и лепят. Лепим. Кто им, нам такое право дал? Нет, Иона, народ – не дурак. Далеко не дурак.
Пума облегченно вздыхает, – Другое дело. Выпиваем, конечно. Чего греха таить? Но во спасение.
Филипп продолжает, – Конечно, с неба звезд не хватаем, но ведь такая задача и не ставилась. Народ действительно многое может. Пума прав. Была бы воля свыше. Я от народа никогда не отказывался. Уж если кто всегда с народом, так это – я. Если опять же без лукавства, всякий подтвердит. И себя народом считаю. И беспримерно горд. Но и балуем, конечно. Взять того же Пуму.
Пума возражает, – Пожалуйста, как-нибудь без Пумы.
– Вот и Марка сожгли, – продолжает Филипп, – Зачем? Кому он мешал?
– Я Марка недолюбливал. – Встревает Ваал, – Он жадным был. Как все трактирщики.
Филипп продолжает, – Марка недолюбливали. Ибо он дело разумел и, в отличие от меня с пьянью не якшался. Стойким рассудочным стоиком себя позиционировал. С ядовитыми змеями умел дружить… Я, Иона, так разумею, при таком-то раскладе, я уж тебе перечислял, блуд там, мздоимство, воровство, сожжение Марка, все такое… при таком-то Вавилоне почему бы ему и не упасть? Я о небе. Даже обязательно, мне кажется. Или перебор?.. Лично я разницу между Концом Света и падением неба вижу. Не одно и то же. Фигурально выражаясь, Конец Света – поезд в никуда, а падение неба – дирижабль без окон. Конец Света – погружение в небо, а падение неба – погружение в голубей. Ты что на это скажешь?.. Или с голубями перебор? Что скажешь? Голубей зря приплел, наверное. Но куда от них деться?.. Но должны появиться знаки. Это непременно. Перед падением неба всегда так, знаки, намеки, предупреждения. Рыбные дожди, к слову о дожде, нашествие лягушек. Кошки, напротив, уходят, прячутся. Что-то такое с осинами, уже не помню. Но покуда как будто тишина. Затишье. Думаешь, затишье? Люди помалкивают. Болтают, но помалкивают. Заветное при себе держат. Привыкли, жучье племя… Вот я, к примеру, пока таверну держу – еще могу на что-то рассчитывать. Улыбаются, приветы шлют, деньги в долг берут. С удовольствием берут. Другое дело – денег у меня нет. Не то, чтобы совсем нет, но не так, чтобы реализовать пожелания и фантазии. Но. Обращаются уважительно, между тем. К отказам относятся с пониманием, ибо отказываю не всегда. Прошу и это отметить. И то, если процент хороший, как отказать? Последнее не отдам, конечно, но, как говорится, помогу, чем-то тем-то. Так что осуждать меня не за что. И здесь попрошу заметочку поставить. Если я и коммерсант, благие намерения, светлые чувства во мне присутствуют. И их немало. А сгори я, как Марк? Кому нужен буду?.. Что ты? портимся чудовищно, жучье племя. Подгниваем, подгнивают. Тебя, к примеру, не вспоминают почти. А про себя держат такое – либо он, ты, то есть, Иона далеко… или же, Иона, совсем далеко. Смекаешь? Совсем-совсем далеко. Смекаешь, что я, то есть они, имеют в виду? А ты, оказывается, живой. Это – радость! Это, Иона, не скрою, радость!.. Ты ведь живой?.. И правильно. И не отвечай. Не мое дело. Правильно? Живи сто лет. – Переходит на шепот. – Я с тобой сокровенным поделюсь. Тут такое дело. Последнее время, пару лет, а, может, и пять всё вокруг меня как-то сжимается. Как влажная простыня. Это я тебе уже говорил. Но. Вот теперь главное. Знающие люди, знатоки своего дела говорят – когда влажная простыня сжимается, делается больно. Очень больно. И душно. Мне же, Иона, как будто не больно. И не душно. Почему? А, может быть, я привык? Что скажешь? Если привык – это страшно. Очень страшно, Иона. Дух из меня, стало быть, уходит… Нет?.. Слушай, а может быть, тебе нужны деньги? Нет?.. Ну, и забудь. Это я так, должен был предложить. Уж тебе бы не отказал. Последнее не отдал бы, конечно, но поделился бы.
– Все-то ты на деньги переводишь, Филипп, – говорит Ваал. – Да разве ты один? Губят они тебя. Да разве тебя одного? Уж такое зло. Я бы желал государства без денег. Тогда бы и всякое падение прекратилось. Нравственное и фактическое. Шутка ли дело, дирижабли, казалось бы – непотопляемые воздушные корабли – и те падают. Пожарные вместо того, чтобы тушить пожар, мордобои устраивают. Порой такое отчаяние, что вот только дождь и спасает.
– Курить страсть, как хочется. Зачем живу? – стенает Пума.
Филипп приносит ему новый бокал вина, сигарету. Пума с наслаждением затягивается, – Спасибочки. Вот именно что спасибочки. А еще говорят! Умеешь ты обезоружить, Филипп. И, главное, всегда так неожиданно. Когда уже и ждать не приходится. Вот где истинный стоицизм. А змеи? что, змеи? Поймай в лесу, да и воспитывай на здоровье.
– Простыня – это прямоугольный кусок ткани, употребляемый для застилания постели. – Уточняет Ваал. – Кладётся поверх матраца. Человек спит на простыне, укрываясь одеялом. Наиболее распространённый цвет простыней – белый, но вообще употребляются простыни самых разных цветов, а также простыни с рисунком. Наиболее распространенные материалы, использующиеся для изготовления простыней – хлопок, лён и шёлк, но употребляются и некоторые другие. В последнее время в обиход вошли простыни на резинке. Такая простыня надежно фиксируется за углы матраца, предотвращая сползание.23
Филипп берет с полки бутылку, усаживается за столик Ионы, – Я, Иона, когда говорю о знатоках влажного обертывания, имею в виду всех поклонников влажности. Всякого рода дождя или выпивки, или океана. Или выпивки, например. Между ними, если вдуматься, нет особой разницы. Всё-то у них, в конечном счете, построено на воде. – Откупоривает бутылку, разливает вино. – Поверья, суеверия, страдания и гадания. Словом, всё. – Выпивает. – Угорел малость. Ты пей. Вино знаменитое. Дорогое. Угощаю, брат… В общем-то, они правы. Если вдуматься, мир на воде стоит. Мироздание. Вот что такое мироздание в моей трактовке? Большая вода, а в ней острова.
– Приятно удивил, – комментирует Ваал.
– Зеленые, белые. – продолжает Филипп. – Оттенков много, конечно, но если обобщать – зеленые и белые. Я бы так сказал, зеленые – острова мудрости, белые – острова глупости. Безумие – те же белые острова, хотя среди сумасшедших очень много умных людей, умных талантливых, философов, в особенности, философов. А среди глупых людей немало добряков, даже святых. Или со святыми – перебор? Что скажешь?.. Да, святых лучше не упоминать всуе. Бессмысленность, но добрая. Бывает бессмысленность злая, а бывает добрая. Вот что я имею в виду. Святые здесь, конечно, ни при чем. А плакать разучился. Это, наверное, плохо. Плохо?.. Ввиду глобального потепления белых островов становится все больше. Это мое философское, как говорится, видение, субъективный взгляд, так сказать. Хотя, какой из меня философ? Вот ты – да, философ, а я? Какой я философ?! Правильно?.. Ты почему не пьешь? Ты такого вина в Ниневии больше нигде не найдешь. – Выпивает. – Сейчас время такое, плюнь – в философа попадешь. Вообще моя жизнь, Иона – не сахар, как может показаться. Если хочешь знать – мне хуже, нежели этим самым знатокам, любителям влаги. А знаешь, почему, Иона. Меня искушают. Деньги, деньги, главным образом. В этом Ваал прав. Но и другое разное. Ракообразное… Вообще грех жаловаться. Так-то мне вроде бы и хорошо, бывает очень хорошо. Ты стихов не пишешь? Прежде как будто не писал. Или писал?.. С другой стороны подозрения разные, страх. Себя боюсь, наказания боюсь. Тебя вот боюсь. Просто беда. Вот ты не пьешь, а у меня в голове уже черт знает что вертится. А ты так умеешь живописать наказания.
– Это не я, Ваал.
– И Ваал умеет, согласен. Я в его речах порой рациональное обнаруживаю. Не всегда, конечно. Чаще – бред, но все же. А что ты думаешь? Я и Ваала побаиваюсь. Сдается мне – он один из вас.
– Из кого?
– Пожалуйста, не нужно больше уточняющих вопросов. Для меня очень важно, чтобы речь свободно лилась. Как ручеек или бинт по реке. Я так успокаиваюсь. Я Фрейда люблю. Хоть он и материалист. Так я и Фрейда побаиваюсь. Он непредсказуем. Так что, Иона, и без твоих живописаний, и без ваших с Ваалом живописаний…
Пума кричит, – Вино кончилось. Вынужден прервать, ибо дальнейшего диалога могу не перенести. Постоянная потребность в утешении. Обстоятельства. Пропасть. Сочувствия не требую, только вина. Ваал отдаст деньги, у нас с ним альянс и обоюдное свободное падение в перспективе. Ты бы принес сразу бутыль, Филипп. Чтобы не бегать. Не люблю тебя гонять. У тебя и так вид загнанного вальдшнепа. Но и терпеть не получается. Пробовал.
– А вот я сейчас принесу тебе вина. – В интонации Филиппа звучит угроза,
– Принеси, пожалуйста. Высохло всё. Уже тысячу лет. – Говорит Пума.
Филипп направляется к стойке, возится дольше обычного. Наконец приносит Пуме бокал вина, – Напьешься ты у меня сегодня до сыта, до отвала.
– Не серчай, Филипп. Ваал оплатит, а тебе все равно воздастся. – Говорит Пума. – Подвижничество. Настанет день, когда богатство найдет меня. Настанет день, и меня найдет богатство. За страдания и человеколюбие. Наивности не растерял. Это же очевидно. Просто глаза колет.
Филипп возвращается к Ионе. – Поверь, я не богохульствую. Подобных речей ты от меня не услышишь никогда. Могу высказать критические замечания, посетовать, покаяться, съязвить иногда, но чтобы богохульствовать? Ни при каких обстоятельствах. Даже если я и коммерсант. А что, коммерсанты разве нелюди какие? Но, думаю так – наказание может обрушиться в любое мгновение… Ну, что же? Я готов. Не было дня, чтобы я тебя не вспомнил. Беседовал с тобой. Часто и подолгу. Непрестанный диалог. Вот, как видишь, и теперь беседую… Мне, Иона, все равно, есть ты или нет тебя. Живой ты или мертвый. Для меня ты всегда живой. И живым останешься. Сколько себя помню. Стараюсь не забывать. Ни тебя, ни себя, Иона. Такие, брат, дела. – Выпивает. – Я же, Иона, всё понимаю, без наказания никак. В какой-то мере даже благодарен. Жду смиренно. С благодарностью жду. Неважно за что, по какой причине. И вряд ли угадаю. Да и гадать не стану. Разве я гадалка какая-нибудь? Знаю одно, причина всегда имеется… Я так скажу, в моем представлении наказания – своего рода град. Или корь. Октябрь, одним словом. Вне нас. Вне воли и мечты. От нас не зависит. Правильно? Верно трактую? – Вздыхает. – Только поскорее бы уж.
– Что?
– Наказание.
– Ты, Филипп, наверное, думаешь, что я пришел за покаянием?
– Вот, кстати, а зачем ты пришел, Иона?
– Просто так. У меня ноги больные, нужно ходить. Да и пить захотелось.
– Так отчего же не пьешь? Ты знаешь, что это за вино, какое это вино?
– Мне воды захотелось. Простой воды. Холодной.
Филипп тяжело вздыхает, – Замысловато. Второе дно. Ларчик с секретом. Ну, что же, что же? Не хочешь говорить – не надо. Я не настаиваю. Кто я такой есть, чтобы настаивать?
– Не обижайся.
– Замысел, безусловно, имеешь. Это уж как повелось. Буду надеяться, что хотя бы не умысел.
Иона берет руку Филиппа в свою руку, – Успокойся. Все хорошо.
– Или плохо. Нам не дано знать. Понимаю, оцениваю. Пока еще способен оценить. Не забыл. Замыслы, замыслы, малые замыслы, высшие замыслы. Вот ты жаловался, над собаками плачешь. В сущности, живем как щенята слепые. Или вальдшнепы. Пума иногда в самое яблочко попадает. Да и с виду я, если присмотреться, на вальдшнепа похож. Или пожилого зайца. Я не ропщу, Иона. Нисколько. Во всяком случае, работаю над собой. Да, да, да, именно так, именно работаю. Между прочим, не такое простое дело – работа над собой. Созидать, самому себе пример подавать. Пороть иногда. Да, да, да, пороть. А как иначе? Тем временем такие глупости в голову лезут, просто диву даешься! Скажу без утайки, всё чаще лезут. Деньги и глупости, деньги и глупости, глупости и деньги. Не перестаю удивляться себе. Последнее время практически каждый день, Иона, чем-нибудь нет-нет, да и удивлю себя. Вот я, например, совершенно уверен в том, что тебе нужны деньги.
– Так уж обсудили это.
– А мне все равно кажется – нужны. Не могут деньги ненужными быть.
Иона улыбается, – Деньги – зло. Слышал, что Ваал говорит?
– Да разве я не вижу, как ты обветшал?
– Нет.
– Только вот зачем тебе деньги, Иона? Деньги – не твое. Но я рад. Честное слово, рад услужить тебе. Деньги – бремя, конечно, но тут уж ничего не поделаешь. Замены им не придумано. Вот ты отказываешься, а я тебе не верю. То есть, верю, но не совсем. Я же замысла твоего прочитать не могу. Откровенно говоря, я был бы только рад, если бы ты пришел за деньгами. Так было бы спокойнее. Я бы дал. Сколько бы ни попросил. В пределах разумного, конечно… Попроси, сделай одолжение. У меня деньги есть. Но ты не за деньгами пришел. Предположим. А зачем? Говоришь, просто так зашел? Нет, Иона, ты просто так не ходишь. Давай начистоту. Говори прямо, не бойся. Мы уже до такой степени испорчены и самим себе противны, что бояться нечего. Светлых людей среди нас не осталось. Наивные дурачки закончились. Умерли все. Пучина поглотила. А также зыбучие пески!.. Что, беда? Большая беда? Грядет? Наказание? Что? Что?.. У нас ведь семьи, не забывай. Надо бы подготовиться каким-то образом, вещи собрать, спрятать кое-что. Это обязательно. Когда-нибудь же это закончится? А если, не дай Бог, живы останемся? Я человек практичный. Хоть и романтик. Жить каким-то образом нужно. Выживать… Денег не просишь, покаяния не просишь, зашел просто так. – Взрывается. – Иона! Кому ты это говоришь?! Разве не со мной ты был в чреве зверя? Разве не вместе червь изблевал нас?.. Прости.
Филипп становится на колени, плачет.
Иона пытается поднять Филиппа, – Что ты? Что с тобой? Успокойся.
Филипп сопротивляется, – Да как же можно?
– Встань, прошу тебя.
– Нет. Умру здесь. Пусть молния поразит меня, вольтова дуга!
– Встань, Филипп, нехорошо это. Ну, давай, выпьем твоего вина. Хочешь?
Трактирщик, стеная, поднимается, – Не обманешь?
– Не обману.
Филипп возвращается за столик. Выпивают.
Иона цокает языком, – Ай-я-яй.
– Что?
– Не хотел я пить вина.
– Что так?
– Нельзя мне.
Филипп утирает слезы, – Ты болен?
– То неведомо. Недомогаю самую малость.
– Нельзя.
– Знаю.
– Тебе никак нельзя.
– Знаю.
– Забудь. Всё забудь. Речи мои забудь. Меня самое забудь… Забыл?
– Забыл.
Воцаряется пауза.
– Как тебе мое вино? Хорошее вино?
– В голову ударило.
– Так и должно быть. А послевкусие?
– И послевкусие. Я лет десять вина не пил.
– Почему?
– Не хотелось.
– Как просто ты это сказал. Так легко, изящно. Точно речь идет о крепдешине или воздушном змее. Как будто всё так просто. Как будто это такая странная болезнь – хочешь, болеешь, а хочешь, не болеешь. Как будто это от нас зависит, пить или не пить. По моему разумению, Иона, вино само нас выбирает, является нам не просто так, а только когда положено.
– Хорошее вино, Филипп, очень хорошее вино.
– В голову ударило?
– Ударило.
– А букет?
– Да.
– А послевкусие?
– И послевкусие.
– Ну, так давай еще выпьем.
– Мы же пьяными станем. Я точно опьянею. Десять лет – большой срок.
– Невозможный.
Выпивают.
Благостно Филиппу. Лицо разгладилось, щеки налились румянцем, – Я ведь там, в утробе, как, Иона, думал? Думал – ему больно, зверю. Плохо ему, наверное, думал. Оттого, что мы с тобой в нем ходим, разговариваем, песни поем. Зверь ведь на пассажиров не рассчитан. Не дирижабль. И не поезд. Трепетная тварь.
– Допустим, не такая трепетная.
– Как знать? Откуда нам знать? Тучные годы помнишь? Помнишь. А сколько трепета было? Казалось бы… Думал, вот зверь помрет, и мы вместе с ним. Изблевать-то уже не сможет. Ну, что же, как-то пробивались бы. История примеры знает. Пробиваются. И отдельные личности, и анютины глазки. Не сопоставимо, конечно, но все же. Шахтеры, подрывники. На их фоне иногда просто мерзавцем, утри сопли, себя чувствую. Да что говорить? Героизма много. Непрерывный героизм. Кому-то не нравится, а я всегда восхищаюсь… А как мы пели? ты помнишь?
– Это были молитвы, Филипп.
– Вот-вот, молитвы. Конечно, молитвы. А мне тогда казалось, что пели. Я когда пою, мне легче делается. Но важно, чтобы песня лилась без помех. Как ручеек, как бинт по реке… Значит, это были молитвы? Конечно, молитвы. А без молитвы как? – Вздыхает. – Великая вещь – молитва. Но это ты молился, а я только повторял вслед за тобой. Но, если честно, думал – поём. А, в целом, никудышный я человек, Иона. Мерзавец.
– Ты хороший, Филипп.
– Где там хороший? Уж сколько времени прошло, а я ведь молитв до сих пор толком не знаю. Ни одной не выучил. Разве так можно? Но я исправлюсь, имей в виду. Обязательно исправлюсь. Вот, буквально накануне как раз думал об этом. О молитвах, о спасении. Обязательно. Я всё время об этом думаю. И сейчас думаю… Тебе понять меня не просто. Ты же, Иона, во чреве оказался, по воле Божьей, а я – случайно. Поскользнулся, не удержался, сорвался с палубы. Пьян был. До сих пор простить себе не могу.
– Вел себя как достойный человек.
– Так считаешь?
– Вел себя, как достойный человек.
– Надо же? А я был уверен, что ты презираешь меня.
– Восхищаюсь тобой.
– Ты же суровый человек, Иона.
– Удивляюсь тебе.
– Ты же суровый человек, Иона. Суровый, дотошный. Немыслимое дело получить такую великолепную оценку из твоих уст… Спасибо. Не ожидал. Если ты, конечно, не лукавишь… Значит, я вел себя достойно?
– Думаю, да. По крайней мере, мне бы этого очень хотелось.
– То есть ты не уверен?
– Почти что уверен. Можно сказать, уверен.
– Подожди, ты что же, не помнишь?
– Не всё.
– Но меня-то ты помнишь?
– Смутно.
– Как же так?
– Меня во чреве-то не было.
– Как, то есть не было во чреве?
– Не было и всё. Во всяком случае, сегодня, я так думаю. Прежде думал иначе. А позавчера, вчера и сегодня думаю – не было меня во чреве. Может быть, кто-нибудь другой, на меня похож, но не я. Так, скорее всего. И так будет лучше. Может быть, я что-то подзабыл. Я многое забыл, Филипп. А ложь отринул категорически. Всякую ложь.
– Но ты же был там! Я-то знаю! Опомнись, Иона! Спроси любого. Все только о том и говорят. Говорили первое время.
– Ну, раз говорят, значит был. Наверное. Но ты об этом помалкивай. Понимаешь, картины жизни ветшают, стираются. Осыпается гобелен. Скажу по секрету, зверь так выцвел и потерял в размерах, что больше напоминает сову. Ваал был недалек от истины. Ты Ваала слушай иногда.
– Сова – это метафора?
– Безусловно. И да, и нет. И то и другое – правда. Говорю тебе – я ложь отринул. Навсегда.
– Смешно.
– Очень. Но и грустно, согласись.
– Я, Иона, теперь не очень понимаю тебя, прости. Давно не виделись. Но я привыкну к тебе.
– Обязательно привыкнешь. Ты, Филипп, не всегда старайся уловить смысл, и тогда обязательно привыкнешь. Но знаешь, Филипп, сомнения, не скрою, одолевают. Приятельствовать мы с тобой, конечно, будем, и впредь, раз уж так все сложилось, но, боюсь, «не разлей вода» мы все же не станем. Извини. Мог бы и не говорить. Наверное, лучше было бы не говорить, но раз уж так сложилось, вынужден был. Ради истины. Так, на будущее. Но ты близко к сердцу не принимай.
– Я и не рассчитывал.
– Близко к сердцу не принимай.
– И в мыслях не было…
– Расставание будет легким и приятным.
– Ты что же, уходишь?
– Когда-нибудь непременно.
– Оставайся.
– Непременно.
– Навсегда оставайся.
– Непременно.
– Да.
– Да.
– Да, было времечко… Я же первоначально не понял, где мы очутились. Запах вроде знакомый. Я же на берегу моря вырос, с китами дело имел. Не я, конечно, другие, но и я мальцом тут же вертелся. А, знаешь, у меня как-то не было ощущения опасности. Откуда-то уверен был, что выберемся. Благодаря тебе, Иона, исключительно благодаря тебе. Меня больше занимала жара. Слушай, какое пекло у него в желудке! А страха смерти не было… Хорошее вино? Хорошее. Цени. Когда бы ни я, твой преданный, возможно, самый лучший друг, так бы ты и просидел целый вечер на воде.
– Кто?
– Что?
– Кто просидел бы на воде?
– Послушай, Иона, ты куда-то пропадаешь. То появишься, то исчезнешь.
– Опьянел. Не нужно было мне вина пить. Если не трудно, повтори, пожалуйста, свой вопрос.
– Это был не вопрос – примечание.
– Если не трудно, повтори, пожалуйста, свое примечание.
– Охотно. Я отметил, что если бы я не предложил тебе своего вина, ты бы не попробовал его.
– Да. Было бы замечательно. Ибо хотелось простой воды. А вина не хотелось.
– Но теперь, когда ты все же попробовал моего вина, и сказал, что это хорошее вино, можно сделать вывод, что вино действительно хорошее…
– Вывод напрашивается сам собой.
– А вот если бы я не настоял, если бы не сумел тебя убедить, что не так просто, ты бы так и просидел весь вечер на воде. Согласись, Иона, просидеть весь вечер в лучшей таверне Ниневии, в гостях у своего, надеюсь, друга, которого не видел тринадцать лет с бокалом простой воды – это скотство.
– У приятеля.
– Что?
– Просидеть в гостях у своего приятеля. Или знакомца. «Не разлей вода» не получается.
– Ну, прости.
– Что-то скотины во дворе не видно. Где твоя скотина?
– Нет скотины.
– А что случилось?.. То-то я вижу ты как будто не в своей тарелке. Это из-за скотины?
– Нет.
– Не расстраивайся. Можно и без скотства прожить… Опьянел.
– Ты вообще помнишь меня, Иона?
– Конечно.
– Точно помнишь?
– Так я уже ответил. Никогда не забывал тебя, Филипп. Разве что сегодня? Немного. Но только первые минуты, несколько минут, а потом сразу же вспомнил… Ты ведь Филипп? Конечно. Можешь не отвечать.
– А почему молчал?
– Когда?
– Я с тобой говорил, много говорил, рассказывал тебе обо всем, о себе, вопросы задавал, трепетные вопросы, говорил, рассказывал, спрашивал, говорил, а ты всё молчал, и молчал, и молчал. Кажется, со значением молчал. Многозначительно. Лес молчания.
– Дремал.
– Утомился?
– Утомился, задремал.
– Ты не болен?
– То неведомо. Недомогаю самую малость.
– Тебе нельзя.
– Нет.
– Ни в коем случае.
– Знаю.
– Встретились, и слава Богу.
– Слава Богу.
– Хотел с тобой поговорить, расспросить, задать вопросы, не просто вопросы, но животрепещущие вопросы, насущные, краеугольные, жизненно важные вопросы. Хотелось, хочется ответов комментариев, замечаний, примечаний, пусть и намеков, рекомендаций, пусть и наставлений. Хотелось, хочется… А как Иона? А как иначе, Иона? Раз уж так случилось? Раз уж ты зашел, Заглянул на огонек, что сомнительно, но надежда сохраняется. Хочется, хотелось, хочется. А теперь?
– А что теперь?
– Теперь с тобой можно говорить, поговорить?
– В каком смысле?
– Сейчас ты слышишь меня?
– Слышу. Очень хорошо слышу. Сейчас особенно хорошо слышу.
– Могу я задать тебе хотя бы еще один вопрос?
– Почему же нет?
– Хотя бы.
– Почему бы и нет?
– А ты не играешь? Бывает, играют. Знаешь, еще есть такие, бывает, играют. С виду как будто не играют, а они играют, хотя виду не подают. И такие встречаются. Ты хотя бы не играешь?
– Нет.
– И я могу спросить тебя о чем-то важном, краеугольном?
– Обязательно.
– Это действительно важно для меня, Иона. Пожалуйста.
– Спрашивай, невзирая ни на что.
– Иона…
– Слушаю тебя.
– Скажи, Иона…
– Слушаю тебя.
– Скажи, Иона, почему в чреве я смерти не боялся, а теперь боюсь? Почему?.. Старею?.. Потому, что старею?.. И надобно ли ее бояться, смерти?.. А, может быть, и хорошо, что стал бояться? Прежде, в чреве, например, не боялся, а теперь вот стал бояться.
– Так ее нет как будто, смерти-то.
– Ты так думаешь?
– Смерть, соглашусь с тобой, всегда рядом. Но ее нет. Видишь ли, ей, чертовке, не до нас. Я, любя, иногда ее чертовкой называю. Чертовкой, рыбкой. По настроению. У нее, чертовки, свои дела, заботы. К нам она тоже иногда заглядывает, но ненадолго. Согреться, отдохнуть. Посидит тихонько, улыбнется, она улыбчивая, обратил внимание? посидит и уходит. А ты думал, что она за нами охотится?.. Много чести. Мы о себе слишком высокого мнения. Подростки. Спим с открытыми ртами. А едва проснулись – тотчас желваки в дело пошли. Нехорошо это.
– Ты хочешь сказать, что мы не умираем?
– А какой смысл умирать? Жить, жить, а потом вдруг умереть. Так что ли? Таким ты представляешь себе земной путь?
– И мы никогда не умираем?
– Почему же? Умираем, конечно.
– Не пойму тебя.
– А что такое смерть? Кто-нибудь знает? А давай разберемся. Давай?
– Давай.
– Какая она, смерть, по-твоему?
– Не знаю.
– Видишь как?.. Смерть не кричит, не заявляет о себе. Люди вопят, скотина вопит, а смерть – никогда. Если захочет поиграть – накроет прохладным хитоном. Точно ветерок подул. Больше ничего. Приятный такой ветерок… Признаюсь, я часто молил Бога о смерти. Да и теперь, пожалуй. Пометь у себя в дневнике. Как, ты разве не ведешь дневник, при такой повседневности? Не рачительно. И не удивляйся. Я ведь, Филипп, прохудившаяся лодчонка. Брошен у берега. Рачками и водорослями поедаем. Моя миссия выполнена. Да и мир изменился до неузнаваемости.
– Какая-то ерунда получается, прости Иона. Я ведь с тобой серьезно разговариваю, а ты дурака валяешь, прости.
– Да я ведь глуп, Филипп. Ты сейчас в самую точку попал.
– Я-то с тобой серьезно разговариваю, а ты дурака валяешь, прости.
– Вот ты спрашивал, не болен ли я? Так и есть. Болезнь моя называется глупость. – Смеется. – Кроме того глуховат. И здесь ты угадал. Притом глохну уже давненько.
– Вижу, тебе хочется играть со мной.
– Не обижайся. Не думай так. Я игрив только что от твоего вина. И то – в себе, не напоказ. Просто ты меня хорошо знаешь, вот и заметил. Больше никто не заметил, будь уверен. Опьянел немного. Но ты сам виноват.
– Очень жаль. О многом хотел расспросить тебя, да вижу, ничего не получится.
– Спрашивай, спрашивай, Филипп. Я весь внимание. Постараюсь ответить на любой вопрос. Мне совсем не хочется тебя обидеть, Филипп, честное слово… Я вспомнил тебя. Ты – Филипп. И у тебя отличное вино. Букет, послевкусие. Крепкое вино, Филипп. О чем ты хотел спросить?
– Давай еще немного о звере поговорим. Хочется утешиться, а приятные воспоминания утешают.
– Так уж приятные?
– Для меня приятные. Давай поговорим о звере, прошу.
– Уж я говорил, не помню ничего. Да и не было меня там.
Филипп встает, направляется к стойке.
Иона возвращает его на место, – Хорошо, что ты хотел узнать о звере?
– Ничего.
– Помогу, чем могу.
– Давай, посидим еще немного, просто так посидим, да я пойду работать.
В голосе Ионы появляются металлические нотки, – Спрашивай. Что ты хотел узнать?
– Как-нибудь в следующий раз.
– Говори.
– Кроме шуток?
– Кроме.
– В этой истории мне не всё понятно до конца. Нас в чреве было только двое, так?
– Больше.
– Больше?
– Много больше.
– Сколько же, по-твоему, нас было?
– Целый народ. Вот ты говорил сегодня о народе. Одобряю и приветствую. Вот он, этот самый народ там был. Мы с тобой вместе с народом там были.
– Я никого не видел.
– Там были мы и весь остальной народ.
– Никого кроме нас не видел.
– Зверь вместительный, крупный зверь. Всех вместил.
– Прости, Иона, но ты действительно пьян. Прости меня за мои бестолковые вопросы, и вообще прости меня, если сможешь.
– Я не пьян.
– Вот и хорошо.
– Я никогда не пьянею.
– Нет?
– Нет.
– Я с тобой серьезно разговариваю, а ты дурака валяешь, прости.
– Я никогда не пьянею. Всякую ложь отринул – следовательно, говорю правду. Постарайся это усвоить, если хочешь со мной приятельствовать.
– Вообще-то я это и прежде знал, но вот сегодня показалось…
– Отринул.
– Уж и не знаю, что лучше.
– Отринул.
– Еще подумал, что-то здесь не так.
– Отринул.
– Еще подумал, Иона никогда не пьянеет, а тут вроде захмелел.
– Отринул.
– Еще подумал, разыгрывает меня, куражится.
– Отринул.
– Еще подумал, усыпить бдительность хочет. Будто бы усталость, недомогание, а на самом деле? Затаился, помалкивает. Бывают такие. Легкомысленным не был, а тут, вдруг шуточки. С чего бы? Неспроста, подумал.
– Отринул.
– Не томи, Иона! Скажи прямо, с какой вестью пришел? Что нам ждать?!
– На чем мы остановились?
– Не помню. – Голос Филиппа дрожит. – Ты сказал, что отринул.
– Что отринул?
– Не знаю, не помню. Твердо сказал «отринул». И повторил многократно.
– Кажется, говорили о народе.
– Затронули тему. Коротко.
– Да, это разговор важный. Может быть, самый что ни на есть важный разговор. Согласен?
– Как не согласиться?
– Ну, так продолжай.
– Как не согласиться?
– Продолжай.
– Что?
– Продолжай говорить, Филипп.
– А что говорить?
– Тебе виднее.
– Скажу прямо, леденею от ужаса. Сейчас умру.
– Не отвлекайся, пожалуйста. Возьми себя в руки. Ты это умеешь, я знаю. Прежде всего, ты должен привести себя в порядок. Пожалуйста, застегни верхнюю пуговку на рубашке, заправься, и мы продолжим.
Филипп машинально застегивает верхнюю пуговку.
Иона продолжает, – Вот, хорошо. Ты спросил, сколько нас было? Я ответил – целый народ. Порядок беседы должен соблюдаться. Согласен?
Филипп машинально отвечает, – Согласен.
– Или теперь новые правила?
– Какие правила? При чем здесь правила? Какой разговор? Какой народ? Ты намекни, что нас ждет, Иона. Мы же тебе не чужие. Мы тот самый народ и есть!
– Федот, да не тот.
– Скажи, беда?.. Пришла беда?
– Насколько я знаю, в правилах ничего не изменилось. Порядок остается прежним. Итак. Я сказал – целый народ. Продолжаем.
– Что?
– Преодолевая трудности и трусость, продолжаем беседу. Моя реплика – целый народ.
Филипп подавлен, – Что, что народ? Сколько это, народ? Не ведаю, что говорю. Что ты говоришь? Что я говорю? Что за вопрос? Что, народ? Сколько это, народ?
– Вся Ниневия. Дети, птицы, скот…
– Где, Иона? Где, где дети, птицы, скот?
– Кто?
– Дети, птицы, скот.
– Где дети, птицы, скот?
– Где дети, птицы, скот?
Иона задумывается на минуту, – В опасности, Филипп. В большой опасности, вот что. Спасать их нужно было каким-то образом, вот что. Или ты считаешь, я могу бросить вас в беде?
– Иона, я не понимаю. Я запутался.
– Возьми себя в руки. Раскис как баба. Не узнаю тебя, Филипп, честное слово. Скажу тебе правду. Ну, хорошо, откроюсь тебе, Филипп. Поучать – не моё. Хочешь поучений, нравоучений? Но это не моё. Никогда моим не было, хотя и приходилось. Видит Бог! О чем мы говорили? говорим? говорили? О ком, о чем ты просил рассказать тебе?
– О звере. Кажется, о звере.
– О ком?
– Не знаю, не помню. Господи, я уже не знаю о чем говорить, спрашивать. Ни о чем. Пустота. Прорва. Позволь мне выпить?
– Зачем спрашиваешь? Разве не ты хозяин? Разве ты у меня в гостях? Разве не я у тебя в гостях?
– Вопросы, вопросы, – Филипп залпом осушает свой бокал.
Иона просит, – Не напивайся, пожалуйста.
– Не буду.
– Очень тебя прошу.
– Не буду.
– Иначе я встану и уйду. Навсегда.
– Нет, нет.
– Продолжаем. На мой взгляд, разговор становится все более содержательным. Как тебе кажется?
– О, да.
– Воспоминания, размышления, все такое. Тепло.
– Тепло?
– Да, мне нравится. Я даже увлекся. Сначала казалось разговор никчемный. Ни о чем. Какие-то жалобы, подозрения, всеобщая беспомощность, суета, дребезжание, мелочность, всеобщая возня, неразбериха, тлен и упадок. Но теперь, когда сам немного опьянел – увлекся. Хорошее у тебя вино, Филипп. Пьяное, но хорошее. Такой букет – редкость. Такое послевкусие – редкость. И хмельное. Очень хмельное вино. – Выпивает. – Захмелел немного.
– Захмелел?
– Немного.
– Захмелел-таки?
– Между нами?
– Разумеется.
Иона смеется, – Между нами, пьян в хлам.
На лице Филиппа занимается улыбка, – Иона! Захмелел. Вижу. По глазам вижу. Корнея бы сюда. Захмелел! Радость-то какая! Ай, да Иона! Ну, Иона. Разве так можно?
– Как?
– Иона, я чудом не умер. Подумал, что ты, в самом деле, трезв. Нет никого опаснее трезвого человека. Мало ли, что у него на уме? Гиблое дело… Иона, так нельзя. Сердце может не выдержать.
– У тебя крепкое сердце, Филипп. У трактирщиков сердца крепкие. Нервы, сердца. Закаленные сердца.
– Не называй меня трактирщиком.
– Не буду. А ты кто?
Улыбка сходит с лица Филиппа, – Я – Филипп.
– Хорошо, Филипп. Так о ком, о чём мы говорили, Филипп?
– О звере как будто.
– И что, зверь? Что о нем говорить? Морское животное. Крупное морское животное. К сожалению, я не знаю его подлинного предназначения. Никто не знает. Вообще, Филипп, тебе следует помнить – в мире много такого, что вне нашего понимания. Мы сами – вне понимания. Потому надо быть крайне осмотрительными и уважительными друг к другу и ко всякой прочей твари, которой несть числа, включая гигантов видимых и невидимых… Откровенно говоря, хотел бы я посмотреть на тех китов.
– О чем ты?
– Я о тех китах, с которыми ты вырос. Знаю, что их больше нет. Очень жаль. Киты живут недолго. Очень жаль. Киты твоего детства теперь в небесном океане.
Ваал комментирует. – Киты – морские млекопитающие из отряда китообразных, не относящиеся ни к дельфинам, ни к морским свиньям. Косатки и гринды имеют слово «кит» в своих неофициальных названиях, хотя по строгой классификации они являются дельфинами. В устаревшей классификации под китами подразумевали гладких китов. В старину под словом «кит» иногда подразумевался левиафан. Китообразные, в частности киты, имеют самые большие размеры среди животных – синий кит или голубой кит во взрослом возрасте достигает средней длины тела в 25 метров, самый большой – 33 метра, а массу – 90—120 тонн. Все китообразные, включая китов, дельфинов и морских свиней, являются потомками сухопутных млекопитающих отряда парнокопытных. Согласно молекулярно-генетическим данным и китообразные, и парнокопытные относятся к отряду китопарнокопытные, в которую входят киты, бегемоты и все парнокопытные. Более того, по этим данным бегемоты являются одними из ближайших живых родственников китов; они произошли от общего предка, жившего примерно 54 миллиона лет назад. Киты перешли к водному образу жизни приблизительно 50 миллионов лет назад. Китообразные делятся на три подотряда: усатые киты, зубатые киты и древние киты. Взрыв кита – спонтанная либо искусственная детонация туши выбросившегося на берег кита. Документально подтверждённые случаи взрыва животных встречаются довольно редко. Известный взрыв произошёл 26 января 2004 года в городе Тайнань на Тайване от естественной причины: накопление газа внутри разлагающегося кашалота привело к взрыву. Взрыв был первоначально таинственным в плане своей причины, так как он неожиданно произошёл в позвоночнике кита. Позже было установлено, что кит был, вероятно, поражён большим судном, повредившим его позвоночник, что привело к его смерти. Кит умер после того, как выбросился на берег на юго-западном побережье Тайваня, и потребовалось три больших крана и 50 человек, работавших более 13 часов, чтобы перенести выброшенного на берег кашалота на кузов грузовика.24
Филипп сидит, обхватив голову руками, раскачивается из стороны в сторону. – Кажется, я близок к помешательству, Иона. Посмотри, будь приятелем, не разыгрались ли у меня в глазах зловещие огоньки?
– Ты, вот что, Филипп, ты, главное, не лги, – говорит Ваал. – Ни мне, ни себе не лги. Никому не лги. Вот как Иона. Попытайся. Увидишь – сразу легче станет. Не станешь лгать, может быть, тебя и пустят.
– Куда?
– В чрево. Ты же в чрево зверя хотел?
– Я там уже был. Мы с Ионой вместе там были.
– Не станешь лгать – в показаниях путаться не будешь, – продолжает Ваал. – Глядишь, проскочишь как-нибудь. Господь милостив. Бесконечно.
– Куда проскочу?
– А куда захочешь. Хочешь – в чрево, захочешь – из чрева.
Филипп взрывается, – Ты зачем пришел, Иона?
– А с чего ты взял, что это я? – отвечает Иона.
– Опять началось?
– Но я действительно не могу с уверенностью утверждать.
– Опять затеялся?
– Все меняется, Филипп. Каждое мгновение. Только мы не замечаем этого. Нужно всматриваться, прислушиваться, а это труд. Часто напрасный.
Филипп чуть не плачет, – Вот что я скажу тебе, незнакомец, ты очень похож на Иону, незнакомец.
– Да?
– Потрясающее сходство!
К разговору присоединяется очевидно захмелевший Пума, – То и дело слышу – Иона, Иона. Эй, Филипп, кто у тебя там? С кем весь вечер говоришь то и дело? Там у тебя, случайно, не Иона? Мне отсюда не разобрать.
– Уже не Иона. – Отвечает Филипп.
– Очень похож.
– Очень.
– Не Иона? – Спрашивает Пума у Ваала.
– Нет, – отвечает Ваал.
– Сходство потрясающее. Агностика. – Объявляет Пума.
Иона вновь выпивает, – Зачастил. Не скрою, что-то зачастил. Хорошее у тебя вино, Филипп. Вот я и зачастил. Подумал, разве напиться?
– Ты же не хотел вина? – недоумевает Филипп.
– Жалко тебе, что ли? Это Иона не хотел, а я очень даже хочу. Кажется, напиться хочу.
– И говоришь как Иона. Потрясающее сходство.
Пума эхом, – Потрясающее сходство!
Иона поясняет, – На то и сходство, чтобы почувствовать разницу.
Ваал исследует оконное стекло, – Окно как будто засахарилось. Так и хочется лизнуть языком. Люблю сладкое. Мед, шоколад, эклеры, корзиночки, сахарные головы люблю. Но больше сладкого люблю воду. Дождь, например.
Иона погружается в вспоминания, – Вот когда ты много дней, много-много дней в пути, когда ты все это время не держал во рту и маковой росинки, когда, если остановиться посреди пустыни, и, не закрывая глаз, долго-долго смотреть на солнце, можно увидеть, да, именно, увидеть, а не почувствовать, как воздух дышит. Несмотря на жажду, несмотря на чудовищную жажду. И, невзирая на то, что воды у тебя не так уж и много осталось, первое, чего хочется, как ни странно – кусочек сахара. Даже не воды, даже не дождя – кусочка сахара. Или двух. Лучше двух.
– Ты голоден, странник? – спрашивает Филипп. – Я же предлагал тебе поесть. Хочешь, приготовлю устриц в сметане?…
– Вспомнился сахар. Почему вспомнился сахар? Кусочек или два. Ваал напомнил. И не столько сам сахар, мечта о сахаре вспомнилась. Кусочек или два. Что же, это тоже своего рода мечта. Мечта не обязательно должна быть огромной как зверь. Мечта может быть крохотной, как кусочек сахара. Но от того, что она крохотная, малюсенькая, она не перестает быть мечтой. Мы все такие маленькие, как семечки, Филипп. Не думал об этом? Мним о себе всякое, а на самом деле – крохотные, как семечки. Или кусочки сахара. Но это, скорее, о женщинах, женщинах, девочках. Женщины, девочки. Для женщин, девочек. Они ведь тоже сейчас чем-нибудь заняты. Разговаривают или рожают. Ты их, Филипп, не обижай. Знаю, ты до женщин охоч.
– Это – в прошлом.
– Если есть два кусочка сахара, можно сделать так. Взять два кусочка. Один положить себе в рот, а за другим тем временем наблюдать. Не наблюдать, любоваться вторым кусочком, пока первый растворяется во рту. Это поможет вспомнить детство. Я так делаю иногда. И даже часто. Это помогает мне вспомнить детство. Лучшие его деньки. Счастливые деньки. А худшие, скверные и вспоминать не хочется. При том, что помнить надобно и хорошее, и худое. Чтобы не забывать.
Пума подает голос, – Канцона.
Ваал заунывно, в унисон дождю, – Вот, если бы помыть стекло. Никогда не думал ты, Филипп, о том, что вовсе неплохо было бы помыть стекло? У меня через такое стекло не получается как следует рассмотреть дождь. Для кого-нибудь другого это, может быть, и не так важно, рассмотреть дождь. Только не для меня. Для меня это важно, Филипп. И ты знаешь это. И почему бы тебе не помыть его изнутри? Снаружи оно и так промыто дождем. Но изнутри, как видишь, засахарилось. Не приходило тебе в голову, взять, да и помыть его, Филипп? Это – к вопросу о чистоте. К вопросу о чистоте.
Филипп раздраженно, – Я дам тебе твоей любимой воды, дам тряпку, возьми, да и помой.
Ваал присутствующим, – Между тем, бронзовеем, не заметили? Вроде бы уже и погрязли, сил нет. Вроде бы уже спустились, опустились, и спим без сновидений, и выучили друг дружку, тоска и время нас покинуло, а бронзовеем. Вне заката, заметьте, вне заката, дорогие друзья.
Пума лирично, – Канцона.
Филипп сетует, – Утомился я что-то без радости и перспектив.
– Еще бы радугу вспомнил, – говорит Ваал.
– А что, и радуга, пожалуй. Было время – изумлялся. Налюбоваться не мог. И радуга, пожалуй. Коромысло такое дивное.
Ваал продолжает, – А скажи, Филипп, давно ты свое отражение видел?
– А что такое?
– Коль скоро речь о радуге зашла. Не мудрено, такой дождь. Вот я и подумал, дай, спрошу у Филиппа, давно ли он видел свое отражение? Где вода, там и отражение, ведь так?
– Наверное.
– Вот я и спросил, давно ли ты видел свое отражение?
– Каждый день вижу. Когда умываюсь, и так, случайно ловлю.
– А сейчас можешь представить себе свое отражение?
Филипп несколько растерян, – Зачем?
– Как будто смотришься в воду. Стоишь у воды и смотришься.
– Где?
– Да где угодно, на берегу, у колодца, где угодно.
– Зачем это?
– Почему так волнуешься?
– Кто волнуется?
– Ты волнуешься.
– Нисколько не волнуюсь.
– Волнуешься, еще как волнуешься.
– Я?
– Да, речь о тебе.
Пума комментирует. – Волнообразно.
– Вот Иона пришел.
– Вижу. И что же?
– Зачем – не пойму. Предчувствия.
– Да разве Иона?
– А то кто же.
– Он настаивает, что он другой человек, совсем другой человек. Внешне – да, сходство оглушительное, но отказывается.
– И ты ему веришь?
– Нет.
– И я – нет.
Пума комментирует. – Агностика.
– Конечно, Иона, – говорит Филипп. – Конечно же, Иона. Почему отказывается? Захмелел. Балагурит. Имеет право. Хотел, предположим, денег, да постеснялся. Или застыдился. Или, предположим, голова болит.
– Выходит, Иона – предмет твоего волнения? Не вода – Иона? Предупреждаю, всякий твой ответ неверным будет.
– Зачем спрашиваешь, в таком случае?
– Улучшаю тебя. Пробую улучшить.
– Зачем я вообще с тобой разговариваю, Ваал?
– А, может быть, я найду ответ на все твои вопросы?
– Ты же безумен.
– Вот и хорошо. Кто, как не безумец способен отыскать ответ там, где его нет, и быть не может?
– Надежда на тебя слабая. Давай правде в глаза смотреть.
– Давай.
– Давай.
– Давай. Однако надежда, не забывай.
– Разве что.
Пума комментирует. – Пиццикато.
– Итак, вода не является причиной твоего беспокойства.
– Нет.
– Значит, ты сможешь представить себе то, о чем я тебя попрошу?
– Я же чувствую, что это бред! Зачем я с тобой разговариваю? Может, ты замолчишь, Ваал?
– Сможешь представить себе то, о чем я тебя попрошу?
– Представить что?
– Отражение. Закрыть глаза и представить.
– Могу, наверное.
– Представь.
– Зачем я тебя слушаю?
– Представил?
– Обязательно закрывать глаза?
Ваал смеется, – Не обязательно.
– И на том спасибо, а то, знаешь…
– Представил?
Филипп закрывает глаза, – Представил, как будто.
– И вот я бросаю камень.
– Что?
– Камень бросил.
– Камень?
– Камень, камень бросил.
– Это еще зачем?
– И пошли круги.
Филипп открывает глаза, – Это еще что такое?
– Камень, Филипп, обыкновенный камень. Разве я не имею права бросить камень в воду?
– Имеешь.
– Вот я и бросил. Ты глаз-то не открывай.
Филипп вновь закрывает глаза.
Пума комментирует. – Камерные посиделки. Карманные. Триумфом и не пахнет.
Ваал продолжает, – Вот я бросил камень и пошли круги. А ты продолжаешь смотреться в воду. Ты не видел, как я бросил камень. И звука падающего камня не слышал. Стоишь, смотришься.
– Зачем?
– Что, «зачем»?
– Зачем бросил камень-то?
– А зачем люди бросают камни?
Филипп открывает глаза, – Не знаю.
– Например, чтобы пошли круги. С одной стороны завораживает, с другой стороны возникает новое. Иногда с другой целью. По-разному бросают. Не знаю, зачем бросают.
– Я зачем зажмуривался-то? круги считал?
– Считал круги?
– Считал.
– А почему?
– Привычка.
Пума комментирует. – Покуда на воде сидишь, одна мысль – как бы насытиться, но стоит руке срастись, тотчас начинается – свобода, равенство, пространство. Волю подавай. А где ее взять? На всех воли не напасешься. Понимать надо.
Ваал продолжает, – Считал круги по привычке. Интересно. Ну что же? По привычке, так по привычке. Теперь будь внимателен. Подступаемся.
– Что?
– Подступаемся. Ты круги считал извне, верно?
– Что значит извне?
– А то и значит, что в новом, вновь образовавшемся тебя уже нет. Понимаешь? Ты остался вне нового. Иными совами, тебя не стало.
– Как это?
– Изображение пропало? Пропало. Всё, был Филипп – не стало Филиппа. С точки зрения нового. Понимаешь?
– Нет.
– Вот и я говорю «нет». Нет больше Филиппа. Но, на самом деле ты существуешь. Как будто.
– «Как будто» немного настораживает.
– Отпусти. Если настораживает, отпусти его, забудь это своё «как будто».
– Оно не моё. Это ты сказал.
– Согласен. Хотя, не совсем согласен, но допущения – великая вещь. Без допущений мы погибали бы сразу, по любому незначительному поводу. При малейшем движении воздуха, именуемом ветром. Об урагане я даже и не заикаюсь. Даже прыщ какой-нибудь или семечко, будь оно неладно. То есть я намекаю на гибкость как залог.
– Залог чего?
– Всего. Так что лучше остановиться и забыть это самое «как будто», как будто его и не было вовсе. Лучше остановиться. Свое при себе можно оставить. Это не возбраняется.
– Можно оставить?
– Можно, Филипп. Продолжим. Итак, ты существуешь.
– Уверен?
– Уверен.
Филипп с облегчением вздыхает.
– И не просто существуешь, как какой-нибудь хрущ или водомер. Ты паришь, Филипп, паришь и царствуешь над всем. Царств, понимаешь? Царств. Не верится? Почему бы и нет? Ну, даже если, предположим, не царств пока, все равно на полпути, все равно воспарил и приблизился к своему царству, понимаешь? Как доказать? Очень просто. Ты чем занимался по привычке?
– Не знаю.
– Только что говорил. Что ты делал с кругами?
– Считал.
– Иными словами, созерцал и описывал новую реальность. Сосчитал? Удалось тебе сосчитать круги?
– Ты перебил меня.
– А если бы не перебил?
– Сосчитал бы. Непременно. Я упертый. Если начинаю считать, остановить меня трудно. Считать, мыть посуду, всё такое. В любом деле заведусь – не остановить.
– Важное качество. Не теряй его.
– Тебе первому, Ваал, удалось меня перебить. Всё же попался на твою удочку. Теперь окончательно лишусь рассудка. Хотя я упертый. Могу и удержаться.
– Важное качество. Не теряй его.
– Не буду.
– И вот однажды, предположим, ты все же добился своего, сосчитал круги.
– Если бы ты меня не перебил, непременно сосчитал бы.
– И вот однажды ты их все-таки сосчитал. Что же произошло?
– Сосчитал и сосчитал. И молодец.
– А что еще?
– Не знаю.
– Ты, Филипп, обуздал и приблизил новую реальность. Овладел ею. Она стала твоей собственностью, твоим царством. Ты уже не трактирщик Филипп, а царь Филипп. Царство твое с одной стороны необъяснимо, с другой стороны необъятно. Ибо кругов может быть сколько угодно, до бесконечности. Конечно, настанет тот момент, когда круги успокоятся, и вновь появится твое изображение. Но ты увидишь, что стал иным. Совсем не тем, кем был до того, как бросил камень. Перемены могут быть незначительными, но все с изумлением заметят твое преображение. Заметят, поверь. Со мной такое происходило множество раз. Правда, царем я не стал – царств не хотел. Уж так уж устроен. Лилипутствую, если можно так выразиться. В том великий и малый смысл вижу. При таком раскладе всякое сомнение и слабость оправданы. Да и свободы побольше будет. Да и денег таких у меня нет, чтобы царство содержать. Деньги есть, не сомневайся. Но для царств недостаточно. Ко мне, в отличие от тебя, деньги не липнут.
– А ко мне липнут?
– А к тебе липнут.
– Ко мне липнут, да. В том несчастье мое Ваал.
– Тоже мне несчастье, – утешает приятеля Иона. – Закончится, истончится и сгинет. Не переживай, Филипп. Некий терпкий бык или баран-громовик, или несносная Леда, все равно. Его величество случай уже поджал пестрый хвост и приготовился к прыжку. Какой-нибудь Тамерлан в каптерке ножи наточил, оком стальным сверкает. Проблесковые маячки. Кнопочки баянные. Какая-нибудь воробушка белозубая чирикает под окошком, юбчонкой верит. Тебе до нее и дела нет, каждый день ходишь мимо, не замечаешь, и, вдруг – нате, огромная любовь. И куда, поблескивая пятачками, ручей твой потечет? Кровь горлом. А то вдруг потолок обрушится, скорлупа. Или бруствер. Или ежей полна наволочка. Не бывает, Филипп, мешка без дырки. Что это будет? Прозрение или царств? Не дано знать прежде времени. Одно уверенно могу сказать – от равнодушия твоего, вашего следа не останется. Еще вспомните радость суеты, погряз и грейся.
– Что же это такое ты говоришь? – негодует Филипп. – Это что же такое ты со мной делаешь, Иона? И, главное, за что? Я плохо тебя встретил? Отказал в просьбе? Но ты не просил ни о чем. Заявляешь, что ты – не ты, каменьями бросаешься. Почему не скажешь, здравствуй, Филипп, я пришел, рад тебя видеть. Морочишь мне голову, играешь со мной, зачем? Я тебе рассказал, что страдаю от денег, что они измучили меня, не знаю радоваться им или ждать беды! Ждал, что ты как-то облегчишь мои страдания. Утешишь. Наставишь на путь истинный. Но не в том смысле, что денег больше не будет, а в том смысле, что я не стану все время думать о них. Наставишь, объяснишь. Это у тебя прекрасно получается.
– Ничем не могу тебе помочь. Хотел бы, но не могу. – Шепотом. – Не знаю как.
– Вредный ты человек, Иона. Пожалуй, самый вредный из тех, что мне довелось встречать. Ядовитый человек. Даже зверь тебя не сумел переварить.
Иона смеется, – А тебя?
– А я следовал за тобой, и вообще случайно там оказался.
– Где?
– В чреве зверя.
– Так ты был в чреве зверя?
– Опять двадцать пять. Я – не я, был – не был. Да что же это такое? Я же сказал, что в философии не силен, и философского разговора, тем более с тобой, поддержать не могу. Давай лучше поговорим о женщинах, Иона. Какую там воробушку ты мне напророчествовал? У меня вообще-то семья. Сказал, и сам себе не поверил. Не важно. Слабых мест много. Тем паче негоже, Иона, пользоваться тем и там! А хочешь – поговорим об урожае. Давай, наконец, еще выпьем вина. Просто так выпьем, без пророчеств.
– Так ты же именно, что пророчеств ждал от меня? Не ждал – простаки требовал.
Ваал присовокупляет. – Царств.
– Пророчеств, царств. Да что же это такое? – клокочет Филипп. – Я плешивею, понятно вам?
Пума комментирует. – Хорош аккордеон. Но играть на нем не смей! Не флейта!
Решено, речь пойдет о вине, – говорит Филипп. – Как тебе букет, Иона?
– Дивный букет.
– Послевкусие?
– Дивное послевкусие.
– Вино хмельное?
– Лично я захмелел. Видишь ли, не мы выбираем темы для беседы, Филипп. Наши мысли нам не принадлежат. Мы сами себе не принадлежим.
Пума комментирует. – Волокита. Когда же бардак закончится? Мне радости надобно. Я без радости меркну.
Филипп, ком в горле, – Ну зачем я тебе, Иона?.. Я рад! Я тебе очень рад! Но почему бы тебе не сказать, зачем ты пришел? Разве это так трудно?
– Ни одной молитвы не запомнил, Филипп?
– Давай так! Я – сам себе прокурор и судья. И очень строгий судья, если ты не заметил! То и дело казню себя. Много чаще, чем остальные, факт. Кроме того, вероятно, не в себе. Всё вокруг меня сжимается, я тебе уже говорил. Не ровен час, задохнусь. Так что, если ты пришел судить меня…
– Я пришел просто так, Филипп. У меня ноги больные, мне ходить нужно. Вот и хожу… Туда пойду, сюда. К тебе вот зашел. Давно не виделись. Сколько мы не виделись?..
– Лет десять, двенадцать… может быть, пятнадцать.
Ваал сообщает. – Влажное обертывание представляет собой один из вариантов водолечения, наряду с обливаниями, обтираниями, ваннами и купанием и является вариантом компресса. Общий компресс или влажное укутывание (обертывание) заключается в следующем. На полужесткую кровать расстилаются последовательно широкая клеенка, шерстяное одеяло, смоченная теплой водой простыня. Больной укладывается на простыню и плотно пеленается наподобие того, как пеленают грудных детей, закрывается концами шерстяного одеяла и клеенкой. Фиксируется через грудь и бедра ремнями. На первом этапе процедуры возникает легкое беспокойство, возбуждение деятельности сердечно-сосудистой системы, отнятие от организма тепла и повышение теплопродукции через повышение обменных процессов. Такой эффект наблюдается в течение первых 15—20 минут. Это первая фаза. Она продолжается до тех пор, пока простыня и воздух между ней и телом больного не нагреваются до температуры тела. Когда больного окружает тепло-влажный воздух и нагретая до температуры тела простыня, он не ощущает никакого раздражения, его тело постепенно и равномерно согревается – это, прежде всего, понижает возбудимость нервной системы больного, вызывает сон. Одновременно наблюдаются и другие сдвиги: сокращение сердца урежается, кровяное давление понижается, дыхание замедляется и становится более глубоким. Вторая фаза действия продолжается от 15—20 до 40—50 минут. Продолжительность процедуры более 50 минут проводить нежелательно, т. к. вследствие перегревания тела может наступить некоторое возбуждение с тревогой. В психиатрической практике влажные укутывания носят название влажные обертывания по Кнейпу. Патер Себастьян Кнейп. Процедура применяются к возбужденным больным и при состояниях, требующих седативного эффекта.25 – Ваал возвращается за свой столик, – А знаешь, Филипп, кто, по моим наблюдениям, живет дольше всех? Никогда не задумывался? Интересно тебе, Филипп, узнать, кто же из смертных живет на свете дольше других? Не знаешь? Не приходило тебе в голову, Филипп поразмышлять над этим?.. Окно у тебя как будто засахарилось. Так и хочется лизнуть.
Пума комментирует. – Повсюду жизнь.
Филипп подает Ионе сахар, – Возьми свой сахар, Иона.
Иона опускает кусочек сахара в рот, зажмуривается, – Вот так кит поглотил нас.
Филипп угодливо, – Господь хотел преподать урок.
– Не знаю, не могу проникнуться замыслом Божьим. Себя уже не слышу. Вот ведь что получается. Потерялся среди вас. Собственно, о том и мечтал. Грех жаловаться. Как, однако, скоро забываем мы о благах. Да, слухом земля полнится. Сухая, влажная, мерзлая, не имеет значения. Зверь испуган нами. Несомненно. Заметь, не мы – зверь. Неловкий и степенный в своей участи. Уж ему-то, казалось бы, плыть и наслаждаться. Тенета и слухи. Но каковы свойства этих слухов. Из каких материй они состоят. А может быть, это нечто наподобие насекомых или мышей летучих. Ведь если мы не обязаны слышать, отчего нам думается, что зрение наше не подводит нас? Верховный судья – безусловно, но мы и его не можем опознать. Отчего покойники, в самом деле, так бледны и тихи, что нам кажется, будто они уже не с нами? А следовало бы задуматься, коль скоро все мы, по большому счету близнецы, все из одного сукна, как говорится. Чья там шинель? Да, вся наша сомнительная суета не хуже и не лучше. Постранствовал, пришлось. Многое понял, многому нашел объяснения, но знаешь, Филипп, что для меня осталось загадкой? Как может Господь любить нас? Каким таким высшим знанием он обладает, когда терпит нас вторгаться в спальни, выкапывать глаза, вживлять глаза, пусть куклам, пусть топор, пусть пар, сызмальства, чаепития пламень, за жизнь цепляться, не минуя преклонных лет, влачить в гору лютуя на лютую, одна чашечка, другая, щеки толстые, вот-вот лопнут, вступать, носить, сноваться, сношений шерсть, блохи, вдоль и поперек, искать дурь, слава, источать, сглаз и шест, убивать братьев своих, убивать, и братьев меньших, и тихо, в коморках своих у камелька убивать и братьев своих, убивать, и братьев меньших, иглы, вата, мышки, подмышки, мечтать, мечтать, распутство, телки, рульки, сестры и жены наши, ваши, баран орет, бык орет, блины комом, еще Испания, топотать и умысел, порой, не сойдя с места, какой там рейх? метаморфоз, кастрации, младенцы, каракатицы. спицы, спички, спицы, кровь капелька, зубки режутся, что режется? зубки, умиляйтесь, выкидыш, то-то, младенцы, куколки, тля, бочки, избиение, кюветка, пусть, пускать, пропускать, приветствовать, нет, спать и ковыряться, зубы, в зубах, смеяться, убогие, шествовать, опускать, раков живыми в кипяток, казалось бы, младенцы? разве эти не младенцы? а те? что ж, хвать, хвалить, хвать, хвалиться, шествовать, шествовать, знаешь, есть счастливчики, есть, есть счастливчики, есть, съесть, думают, так думают, кто думает? кто он, кто? сосед, жених, убийца? пропасть, смрад, сирень, так думают в терпении и ржи. Что ждет их, нас с трещотками нашими и прищепками нашими? Обертывать, завертывать, красть и всласть, когда все это готическим шрифтом? У каждого на челе готическим шрифтом. Шесть. Ab ovo usque ad mala.26 Когда из каждого корытца и копытца одни и те же. Мольбы о помощи? нет, милый, отчаяния крик и угроза. Я – папа твоя. Поделом говорю я, и ненавижу себя. А Он находит силы любить, понимаешь ты? любить. И царств. Что об этом говорить?.. Благодарю тебя, Филипп. От всего сердца благодарю.
– Да за что же?
– За то, что молился со мной. Тогда.
– Страшно было, Иона.
Пума комментирует. – Ганимед. Ганя.
Пума обнаруживает в своем пустом уже бокале семечко, пытается извлечь его пальцем. Семечко всякий раз выскальзывает и сползает на дно. – Как оно попало туда? Откуда оно взялось, это семечко? И что за семечко? Неслучайное семечко. Черное семечко, откуда ни возьмись.
Ваал проявляет интерес, – Какое семечко, Пума?
– У меня в бокале семечко, черное семечко, Ваал. Не пойму, откуда? Какое-то семечко.
Иона идет к столику Пумы, берет в руки бокал – Вот оно.
Пума вопрошающе смотрит на Иону, – Что, что? Что за семечко, Иона, не знаешь? Почему оно такое черное?
Филипп раздраженно, – Что ты пристал с этим семечком, Пума? Семечко как семечко. Ветром принесло, не иначе. Урожай в этом году на семечки.
Пума жалобно, – Такое беспокойство!
Иона, – Боишься, Пума?
– Конечно! Ни с того ни с сего семечко в бокале!
– Тыквенное семечко, арбузное, семечко подсолнечника. Или другого растения, мне неведомого. Но больше всего напоминает тыквенное семечко. Странно, что черное. Согласен, странное семечко.
– Вот я и насторожился. Я тут придремал немного. Выпил вина немного и придремал немного. Когда засыпал, семечка не было. Думаю, хорошо, проснусь, а у меня еще вино осталось. Еще подумал, накрыть бокал чем-нибудь, что ли? Вдруг шмель залетит или семечко какое. А, вдруг, черное? Может быть, ядовитое? Скорее ядовитое по виду. Что скажешь, Иона?
– Ядовитое. Впрочем, кто его знает.
Филипп ворчит, – Послушайте, можно как-нибудь переменить тему?
Пума возмущен, – Да ты что? Ты что? Сменить тему. Что ты такое говоришь?
– Яд наш насущный. – вспоминает Ваал.
Филипп пытается свернуть разговор о семечке, – Слушай, Иона, я тут подумал, а хочешь, я тебе подарю свои виноградники? Надоест же тебе когда-нибудь скитаться? Совсем другая жизнь. Улитки, солнце. Собачек своих пристроишь. Бабенку себе найдешь. Прости.
Ваал у окна, – А знаешь, Филипп, кто, по моим наблюдениям, живет дольше всех?.. Никогда не задумывался над этим? Нет? Не приходило тебе в голову, Филипп поразмышлять над этим? Не посещала тебя эта мысль? Наряду с другими мыслями? Наряду с другими мыслями, не менее глубокими и полезными? Не приходилось мысленно двигаться в этом направлении? Молод? Покуда молод? Думаешь, молод еще для таких мыслей?
Филипп шепчет Ионе, – Ты его не слушай, Иона. Лично я его не слушаю. Не слышу. Стараюсь не слышать.
Ваал упорствует, – Лень тебе, Филипп, размышлять о жизни и смерти? Не хочешь думать об этом, Филипп? Боишься задумываться над этим? Или не боишься? Что скажешь, Филипп? Боишься или не боишься?
Филипп шепчет Ионе, – Он сумасшедший. Самый настоящий сумасшедший. Целыми днями торчит здесь у окна. Откуда деньги? Ума не приложу.
Ваал гнет свою линию, – Боишься, Филипп? Не боишься? Ничего не боишься, Филипп? Ничего-то ты, Филипп не боишься.
Филипп тяжело вздыхает, – Пристал как репей. Что ты прицепился ко мне, Ваал?
Ваал продолжает, – Вот, а я задумывался, Филипп. Думал об этом. Размышлял… И знаешь, до чего додумался? Хочешь знать, до чего я додумался, Филипп? По моим наблюдениям, дольше всех живут как раз боязненные люди. Как раз.
Филипп смеется, – Как раз что?
– Как раз живут.
– Кто?
– Люди.
– О каких людях ты говоришь, Ваал?
– О боязненных. О тех, что живут дольше прочих.
– О богобоязненных, может быть? Богобоязненных людей имел ты в виду, когда говорил о долгожителях?
– Я сказал то, что хотел сказать. Боязненные, всегобоязненные люди. Бога боятся, да, почитают, но и всего остального боятся. Потому что Бог везде, в каждой малости. В воде, например. Они это знают. Только они это знают по-настоящему. Их знание тихое, даже неосмысленное. Они душой знают. А тебе посчитать нужно. А они никогда не считают. Пума, например. Пума – такой. Ты не смотри, какой он. Ты посмотри на него с другой стороны. Вот Пума боязненный. Всегобоязненный. Божий человек. Можешь не сомневаться. Я людей знаю. Пума такой.
– Хорошо, хорошо, Ваал. Я его, как видишь, тоже не обижаю.
– Очень обижаешь. Дурно думаешь о нем. Ты обо всех дурно думаешь, а о нем – особенно. Обижаешь Пуму. Если не сказать больше. Сказал бы, да не время пока. Придет час, сам узнаешь, поймешь. Даже ком к горлу подкатывает.
– Не пойму, стращаешь ты меня, что ли?
Не стращаю. Стращаю.
– Что ты хочешь от меня, Ваал?
– Не все верят в Бога, Филипп, далеко не все, однако страх воспитали в себе. Многие. Всегобоязненность воспитали. Потому – тихие. И Пума тихий. Ворчит иногда, но это от слабости. Пума слаб очень. У него жизнь не задалась. Вот он как раз из тех людей, всегобоязненных. Один из них.
– Нет таких людей, и слова такого нет, Ваал.
– Теперь есть, раз уж я употребил его. Уж если слово употреблено, не сомневайся, оно есть. Тут уж некуда деваться. Вылетело слово – всё! Рано или поздно, придется с ним столкнуться. Когда его совсем не ждешь, когда думаешь совсем о другом, слово возьми, да и прилети.
– Куда?
– Что?
– Куда «прилети»?
– Что?
– Слово.
– В лоб.
– Куда?
– Да прямо в лоб тебе!
– Ведаешь, что творишь?!
– Не хочешь в лоб, пусть в окно. Тотчас вдребезги!
– Еще лучше! Окно вдребезги!
– Ты же не хочешь, чтобы в лоб?
– Окно-то мое! Ты мое окно имел в виду?
– Вовсе совсем не обязательно, чтобы это было твое окно.
– Да, но ты имел в виду мое окно.
– Вовсе не обязательно твое окно. Учусь боязненности, обратил внимание?
– Да ты других окон-то и не видел. Ты же всегда здесь торчишь! А раз уж ты других окон не видел, следовательно, имел в виду именно мое окно!
– Не факт. Допускаю, не исключено, допускаю, что я уже не помню других окон, тех, на которые ты намекаешь, Филипп. Возможно, что теперь, когда речь заходит об окне, мне представляется именно это твое засахаренное окно. Наверное. Но! Надеюсь, слово «наверное» знакомо тебе, Филипп? А что означает это произнесенное Ваалом, то есть, мной «наверное»? Охотно отвечу! Наверное, слышишь? наверное я не помню тех окон. Да. Однако я молвил «но». Прежде изрек «наверное», а теперь вот произнес еще и «но». Как ты понимаешь, тоже неспроста. Так вот! Может статься, я и не помню тех окон! Но я знаю, что они есть!.. А ты, Филипп, обладаешь этим знанием? Я знаю наверное, что они есть, и живо представляю их себе! И в точности так же представляю себе того, Филипп, кто непременно, вспомнишь меня, непременно придет, растолкует и наставит!
– Послушай, Ваал, отстань от меня, пожалуйста. Поговори с Ионой. Он тебе прямо сейчас все растолкует и наставит.
– Может быть, я и побеседовал бы с Ионой. Слышишь, Иона, я бы побеседовал с тобой, как философ с философом. Но, боюсь, мы с тобой слишком похожи… Как близнецы. И когда ты молился в брюхе кита, меня тоже жгло и пламень охватывал. Уж если кто и близнец тебе, Иона, так это Ваал, я то есть, а не Филипп, уж никак не Филипп. А вот мы с тобой – братья. Больше, чем братья. И я сомневаюсь, и я всех презираю и люблю. Всех и себя. Так что беседы у нас, скорее всего, не получится. Это все равно, что разговаривать с самим собой. А с самим собой я и так целыми днями разговариваю.
Иона уточняет у Ваала, – Жгло снаружи или изнутри? Пламень охватывал тебя изнутри или снаружи, Ваал?
– Изнутри.
– Вот видишь?
– Вот видишь, вот видишь, вот видишь. А вопрос-то с двойным дном. Ох, не прост ты, Иона! Но и я не оплошал. Тоже оглушил. Вопросом на вопрос. Выкручивайся теперь, как змей в корневище.
Иона подходит к стойке, – Налей-ка мне вина, Филипп.
Филипп, наполняя бокал.
– Я не пью, ты же знаешь. – Направляется к Пуме, протягивает ему вино. – Пей из моего бокала, Пума. – Филиппу, – Я заплачу.
Пума жадно пьет.
Иона говорит ему, – Не торопись.
– Что же делать, Иона?
– Молиться, ты же знаешь.
– Убили меня, Иона.
– Нет.
– Хотят убить.
– Нет.
Иона направляется к выходу.
Филипп спрашивает Иону, – Ты что, уходишь?
– Ноги затекли, поброжу немного.
– Здесь походи. Зачем в дождь?..
Иона уходит.
Воцаряется тягостное молчание. Наконец Филипп провозглашает, – Ох, не к добру это… Ваал, чего он ходит, не знаешь?
– Созерцает.
– Созерцает?
– Созерцает, прощается, ждет.
– Кого ждет-то?
– А ты никого не ждешь? Да, ты, Филипп, никого не ждешь. В таком деле терпение нужно, а ты – торопыга. Ох, боюсь, придет не узнаем.
– Кого не узнаем-то?
Пума слабым голосом, – Нет, это – не тыквенное семечко. Что угодно, только не тыквенное семечко. Другое какое растение? Диковинное семечко. Яд. Черное семечко – очевидно яд. Исключительно и бесповоротно. Надо, чтобы я его проглотил? Кому-нибудь понадобилось, чтобы я его проглотил? За что? Надоел, наверное. Отравить можно и без особенных причин. Просто так отравить, например.
Ваал обращается к Филиппу, – Ощущение немытого окна есть ощущение тягостное и безысходное. Столь же тягостное и безысходное, как взгляд потаенного. Те же чувства испытываешь, когда смотришь в его глаза.
– Это что еще за потаенный? Это кто же такой, потаенный?
– И пробиться сквозь глаза потаенного нет никакой возможности! С другой стороны, какой смысл пробиваться? Разве увижу я там что-то новое? Вот если помыть стекло, можно увидеть, например, как после грозы потягивается природа… А грозе быть… Слышь, Филипп? Скоро гроза.
– Стыдно стало?
– За что?
– За окно разбитое.
– Разве оно разбилось? – Подробно осматривает стекло. – Окно цело.
– Сил больше нет слушать твою болтовню, Ваал!
– А напрасно ты так возбудился, Филипп! Ты радоваться должен, что окно твое цело. Притом, что слово мое крепкое! Молодое и крепкое!.. Если хочешь знать, я сам испугался. Окно – великая ценность! Пусть и засахаренное, пусть дождь в нем только угадывается. Окно, даже такое, а, может быть, в особенности такое – великая ценность, Филипп! Береги окно свое!
– Какую чушь несешь ты? Куда несешься, Ваал? В пропасть, Господи, прости!
– Не упоминай всуе!
– Все в облаках паришь. Сам уже белым стал, как облако, как простыня. Ты, на почве словоблудия, свихнулся, Ваал. Знаешь об этом? И вино ты пьешь не как все нормальные люди. Поставишь стаканчик и, даже не пригубив, сразу к себе в облака… Слова выдумываешь. Зачем? Кто ты, Господь Бог, чтобы выдумывать новые слова? Только сегодня два новых слова выдумал. За несколько минут. Первое вообще никуда не годится. Второе – тоже. Между прочим, это великий грех, Ваал, придумывать слова!.. Вот кто такой потаенный? Нет такого слова и быть не может. Потому что нет никакого потаенного в природе!
Ваал демонстративно хохочет, притопывает ногами, хлопает в ладоши, – Так и знал, что попаду прямо в лоб! Не знаешь, кто здесь потаенный? Или знаешь? Знаешь или не знаешь?
– Оставим потаенного. Кто такие всегобоязненные люди?
– А почему потаенного пропустили?
– Кто такие всегобоязненные люди, Ваал?
– Надеешься, что на всегобоязненных промахнусь?
– Нет таких людей.
– Нет?
– Нет.
– Хорошо. Возьмем, в качестве примера один день из твоей жизни. Включая ночь. Обязательно, включая ночь. Потому что ночь – это важно. А, может быть, ночь как раз самое главное. По ночам, неоспоримо, являются всевозможные кошмары, или, напротив, всевозможные радости. И чудеса, и женщины. Птица домашняя, скот. Конечно, бывает, никто не является, но это ничего не доказывает. Все же чаще всего, по моим наблюдениям, являются. Кошмары, женщины, гуси, радости, неожиданные радости. Так что возьмем ночь, присовокупим день, словом, возьмем цельные сутки твоей жизни. Все двадцать семь часов.
Филипп смеется, – Откуда двадцать семь часов?
– Сутки.
– Двадцать семь часов?
– Я прибавил часы. Чтобы ты осознал, сутки больше, чем время. Время же, в свою очередь, больше, чем неприятности. Беспрерывно преследующие нас неприятности, убийства и обиды. Это, чтобы тебе было понятно – высшая справедливость, которая намного дольше чем жизнь. А теперь – вопрос к тебе, Филипп…
– Зачем я с тобой разговариваю?
– Вот, к примеру, за прошедшие сутки, на протяжении двадцати семи… хорошо, двадцати шести часов чего было в тебе больше? Страха или отсутствия его? Теперь отвечай. Только не лукавь!
– Из всего, что ты сказал, я не понял ровным счетом ничего.
– Учиться тебе надо, а не деньги считать.
– Круги.
– Что?
– Круги я считал.
– Круги?
– Круги.
– А деньги?
– А денег пока не считал.
– Это хорошо?
– Не знаю.
– Наверное, хорошо.
– Не знаю.
Пума подает голос, – Предположим, съем я отравленное семечко. Кому от этого польза? Надо же понять. Быть может, если меня не станет, мир сделается лучше? Мальчишки перестанут ловить птичек, а небо остановится в своем падении? Ну, что же, если я гожусь для жертвоприношения, я согласен. А вдруг, я умру, и ничего не произойдет? Ничего хорошего, полезного не произойдет. Ваалу, думаю, будет грустно. Ваал, ты загрустишь, если я умру?
Ваал не слышит Пуму, – Послушай, Филипп. Только что представил, а что, если бы все эти женщины разом, одномоментно, догадываешься? нет? Если бы они разом взяли, да и заявились сюда! К тебе в таверну. Как гром среди ясного неба взяли бы, да и явились. Вдруг, то есть без приглашения! Только представь, двери распахиваются и входят женщины!
– О каких женщинах ты толкуешь?
– О тех, из сновидений.
– Мне уже тысячу лет не снились женщины, Ваал.
– Они снятся, просто ты не обращаешь на них внимания. А они снятся, обязательно снятся. По себе знаю. Пожалуйста, Филипп, повнимательнее, когда спишь.
– Я внимателен, Ваал, я не могу не быть внимательным. Ты же знаешь, у меня арифметические способности. Я считаю, я все время считаю. Если бы женщины явились мне, я бы их обязательно пересчитал.
– Это плохо, Филипп. Как же ты живешь без женщин?
– У меня есть жена.
– Жена – это другое. Тоже женщина, конечно, но другое. Мечтать нужно иногда, понимаешь?.. Не знаю, может быть для кого-то это лишнее. Для тебя, например. Не знаю. Время пройдет, может статься, что-то изменится?.. Я ведь бесконечно молод, Филипп.
– Ты старше меня. И намного.
– Я ведь бесконечно молод, Филипп, вот и мечтаю. Молодым это свойственно. Ты ведь сам был когда-то молодым?.. Бывало, завернешься во влажную простыню и мечтаешь.
– Ты о ком.
– О тебе, о себе, о Пуме… Ну, не грусти! Всё исполнится.
– Что исполнится?
– Всё. Исполнится, наполнится. Признаки уже налицо. Ты не почувствовал, что после того как мы сделались чистыми и явными…
– Мы стали чистыми и явными?
– Разумеется. Иона только что был здесь. Ты его не видел?
– Видел. И что?
– Как всегда, произошло очищение. Прояснилось. Как-то пусто без него.
– А он чего приходил то?
– Попить заглянул.
Пума о своём, – Нет, не семечко это. Послушай-ка, Филипп, у меня в бокале… Впрочем, я уже говорил… Послушай-ка, сдается мне, что это не семечко.
– Что же это, по-твоему, Пума?
– Не знаю. Черная метка, змеиный глаз, яд, одним словом. Что-то такое к смерти.
– Нет, это не таверна – сумасшедший дом! – восклицает Филипп.
Ваал все еще пребывает в дискуссии, – А знаешь, наверное, ты прав, Филипп, когда ничего не боишься.
Пума решительно, – Мне нужно поговорить с тобой, Филипп.
– Слушаю тебя, Пума.
– С чего начать?
– Начни сначала.
– Боюсь, много времени займет.
– Ты куда-нибудь торопишься?
– Послушай, что я тебе скажу… Ты всегда за стойкой, Филипп. Ты здесь как царь на троне. Сегодня тебе много раз намекали, подталкивали, так сказать. Может быть, из лести. Может быть, чтобы доставить удовольствие, а, может быть, вовсе не из лести… Иона приходил. Обратил внимание?
– Обратил.
– Но об этом позже. Послушай, Филипп. Но знаешь, Филипп, даже царь иногда покидает свой трон. И тогда с ним говорят простые люди. Он позволяет. Иногда. Вот и мне хочется поговорить с тобой запросто. Равенства хочется, братства, понимаешь?
– Пространств.
– И пространства, разумеется. Я – простой человек, иногда тоскую по просторам. Это не значит, что я пускаюсь колесом по полям и площадям. Мне не обязательно. Я выпиваю, этого достаточно. Согласись, алкоголики имеют свои преимущества. Но я не забыл и те времена, когда к вину не притрагивался. Не осуждал, но не притрагивался. Пить-то я начал сравнительно недавно. Вот только не знаю, с чем сравнить. Да это и не нужно. Ни тебе, ни мне. Речь пойдет в совсем другой плоскости. И если ты начнешь утомляться или, того хуже, переутомляться, подай знак, и я быстренько закруглюсь. Договорились?
– Договорились.
– Сам терпеть не могу пьяной болтовни… Я же часто здесь. Всегда. Следовательно, мы все время вместе, а запросто никогда не говорим. Всегда в разговорах какой-то смысл возникает. Вздыбливается. А когда в разговорах вздыбливается смысл, это уже нестерпимые разговоры. Иногда неподъемные. Для меня, во всяком случае. Когда запросто – другое дело. Когда разговор без смысла, ни о чем, казалось бы. Хотя во всяком разговоре какой-никакой смысл все равно появляется. От него, как говорится, не спрятаться, не скрыться. Даже когда белочки разговаривают или птички. Или когда собачки разговаривают. Иногда я очень жалею, что мы не собачки. Мне кажется, собачкам как-то проще находить друг с другом общий язык. Хочется приблизиться, что ли, Филипп. Вот ты за стойкой, как царь, а мне, например, хочется задать тебе какой-нибудь вопрос. Подскажи, как это лучше сделать? Чтобы разговор не получился нестерпимым, неподъемным для меня, для нас обоих?
– Просто спроси, и всё.
– Так просто?
– Да, спроси, и всё.
– Вопрос-то к тебе у меня пустяковый. А вот ответ твой может оказаться решающим. И так бывает.
– Это я положил семечко тебе в бокал.
Пауза.
Филипп объявляет еще раз, – Это я положил семечко тебе в бокал. Ты же об этом хотел спросить меня?
Пума не верит ушам своим, – Ты положил семечко в мой бокал?
– Да.
– Вот это черное семечко в мой бокал кто положил? ты?
– Долго думал, сомневался, положить – не положить, положить – не положить, положить – не положить… Потом, я же предупреждал тебя. Предупреждал?
– Не знаю.
Пума подтверждает, – Предупреждал. Никто не верил, конечно, я и теперь не верю, но то, что предупреждал – это точно. Думали, шутит.
– И что?
– Как видишь.
– Я ничего не вижу! Я ничего не вижу, кроме семечка в своем бокале, черного, чернее черного семечка в своем бокале! Если это вообще семечко! Это семечко?! Не говори, не нужно. Уже не имеет существенного значения. Разве в семечке дело? Как с этим жить? Или не жить? Не жить? Что ты мне посоветуешь, Филипп. Вот как ты скажешь, так я и сделаю. Только ты объясни. Мне очень хочется знать. Что случится, когда я сделаю это? Что я сделаю для вас с Ваалом, для всех, народа, проглотив это проклятое семечко?
– Я не со зла, Пума. Так, что-то взбрело в голову. Подурачиться захотелось. Думал, посмеемся… Скучно у нас. Одно и то же. Всё осточертело. Да ты сам знаешь. Честно говоря, не думал, что тебя это так заденет. Поторопился, прости.
Ваал замечает, – Все время спешишь, Филипп…
Филипп предлагает, – Забудем покамест, Пума. Договорились?.. Договорились?..
– О чем?
– Забудем покамест.
– Забудем?
– Забудем покамест… Не хочешь семечка, достань его из бокала и брось на пол.
– Семечко?
– Да. Это не змеиный глаз. Обыкновенное семечко. Достань его из бокала и брось на пол. Если хочешь, конечно.
– За кого ты меня принимаешь, Филипп? За кого, интересно знать, ты меня принимаешь?!
– Достань семечко и брось его на пол!
– Ни за что!
Ваал комментирует. – Вот что такое настоящий всегобоязненный человек. Боится расстаться со своим страхом. И проживет тысячу лет. Быть может, две тысячи лет.
Пума рассуждает, – Нет, не может быть всё так просто. Нет, это – не розыгрыш. Что угодно, только не розыгрыш. Это семечко что-нибудь да значит. Ты положил его в мой бокал неспроста. Я угадал, Филипп? Черное, именно, что черное семечко. – Принюхивается. – Тыквой, разумеется, не пахнет. Ничем не пахнет. Если и есть запах, то неуловимый. Я бы сказал так, если не видеть самого семечка, запах его уловить невозможно.
Ваал обращается к Филиппу, – А знаешь, почему так происходит?
Пума обращается к Филиппу, – С чего бы это ты стал просто так класть мне семечко? Никогда в жизни семечек не клал, никогда лишнего бокала не налил, а здесь, взял, вдруг, да и положил семечко?
Ваал обращается к Филиппу, – Тому есть объяснение. Это, конечно, будет субъективное объяснение. Так сказать, продукт размышлений, длительных размышлений. Моя бедная голова никогда не отдыхает, все время какие-нибудь мысли, наития, воспоминания. Притом, я редко ошибаюсь. Жизнь показала, что я чрезвычайно редко ошибаюсь. Но это не имеет отношения к пророчествам. Подчеркиваю, к пророчествам это не имеет никакого отношения. Коль скоро это так, можно сказать, что я, в известной степени совершил открытие. Хотя это нескромно, конечно…
Пума обращается к Филиппу, – И никакого дивного растения из него не вырастет. И не выросло бы. Запаха нет. Где же это видано, чтобы из черной метки или змеиного глаза что-нибудь вырастало? Само семечко крохотное. Если это семечко. Навряд ли. Но и скрыть его невозможно. Нужно иметь совсем никудышнее зрение, чтобы не увидеть это семечко. Если это семечко, а не змеиный глаз. Корней разобрался бы, но он по тавернам не ходит. Презирает меня. Меня все презирают. Пусть, как хотят. Как хотите, мне всё равно. Поздно уже что-то менять. Дивное семечко. Крохотное. Боюсь, на языке его даже не почувствуешь. Это какая же должна быть змея? Разве детеныш? Змеиный детеныш? Кто-то убил маленького. Зачем. Столько жестокости! Иона прав. И Ваал прав. Всё знаем, а поделать ничего не можем. Центрифуга. Во всяком случае, на языке его точно почувствуешь. Думаю, на то и расчет. Выпиваешь стаканчик, и, вдруг – бац, что-то во рту! Не годится. Почувствовать не получается. Что-то мелкое. Семечко? Разве семечко? Откуда семечко? Зачем семечко? Ведь если его положили туда, это что-нибудь, да значит? Филипп, как думаешь, если семечко положили в бокал, это что-нибудь да значит?
– Розыгрыш. Примитивный розыгрыш. Фокус.
Нет, нет, – едва слышно бормочет Пума. – Надо бы поискать. Филипп – хороший человек. Не мог, не может. Здесь что-то другое, кто-то другой.
Филипп пытается понять, – Что ты там бормочешь, Пума?
– Заступаюсь за тебя.
– Заступаешься за меня? Перед кем?
– Перед собой. Я плохо подумал о тебе, вот теперь борюсь с собой. Плохо подумал. – Наигранно смеется. – Даже смешно. Ну, какой смысл травить тебе своих гостей? Да, я задолжал тебе. И много задолжал. В большей степени Ваалу. Но Ваал почти что святой. Он и с дождем разговаривает, и сам с собой. Сам с собой я тоже разговариваю, а вот с дождем – извините. Не всем дано. Это же многолетнее наблюдение. Ваал и гору от вулкана заговорит, если понадобится. Лично я нисколько не сомневаюсь. Какой смысл такому чудотворцу травить какого-то Пуму. И что это за имечко такое, Пума? Тебе же Филипп, не скрою, много задолжал. Да и от кого скрывать? Ваал знает. Я у него весь как на ладони. Не насекомое, конечно, но близко. А задолжал, действительно, много. Но это в моем понимании – много, а для тебя-то это пустяки. Разве не так, Филипп? И потом, ты знаешь, что я всегда отдаю тебе долги. Пока еще не знаешь, но позже узнаешь непременно. Пушкин тоже должен был, и что? Мелко, мелко. Не зря Иона ушел. От стыда ушел. Нет, это не отравление. Что-то другое. Некий особый предначертанный поступок. Как если бы не кит проглотил Иону, а Иона проглотил бы кита. Прости, Филипп. Я дурно подумал о тебе. Не Пушкин я – сволочь. И все же. Зачем ты это сделал, Филипп? Зачем, объясни? С какой целью, Филипп? То, что хотел подурачиться отвергаю! За что? Одно скажи, за что?
– Мне нечего сказать тебе, Пума.
Ваал вступает, – А у меня, как раз накопилось. И вопросы ваши, и ответы несуществующие, всё дрогнуло и переплелось, как сказал один несуществующий поэт, за горы, Пума, отдельное спасибо, а теперь наберитесь терпения и послушайте меня, друзья, неисправимого оптимиста и пессимиста в одном бокале, раз уж все мы оказались в таверне волею судеб. То, что я теперь скажу – чрезвычайно важно, друзья! Сейчас… Нужно настроиться… Ну, слушайте… Одну минуточку, мне нужно встать повыше. Это нужно произносить откуда-нибудь сверху. – Взбирается на столик. – Итак, внимание всем постам! Событие. Главное событие, выводы и открытие! Как в добротном английском детективе. Как у Агаты Кристи, кто еще помнит старушку. Кстати она в ванне сочиняла. Так что вода даже здесь поучаствовала. Итак, после того, как водный опять же зверь изблевал Иону, и по непроверенным данным, тебя, Филипп, после того как Иона поселил в нас сомнения, а в последствие – всегобоязненность, а в последствие – божественное, а в последствие целомудренность, вода в наших ручьях сделалась чистой, и помыслы сделались чистыми, и Бог простил нас, и наступила невиданная доселе тишина и пустота. Следует заметить, что пустота на самом деле – ничто иное, как ожидание. Но об этом никто кроме нас с моим братом Ионой не знает, не хочет знать, и покуда рано об этом говорить. Хотя, признаться, иногда не удерживаюсь. За что нередко бываю бит вами и другими соплеменниками. Итак, как вы теперь знаете, наступил покой и пустота. Память о делах и делишках, и кошмарах, и женщинах осталась только во снах и разговорах. Но осталась. Чему подтверждением является круглосуточная, включая ночь, жизнь Филиппа. Или чья угодно иная жизнь, включая домашнюю и дикую птицу и скот. Гусей, например, незаслуженно осмеянных и порицаемых нашими современниками. Или кукушек с их кукушатами, что, несмотря на обиды, продлевают нам жизнь. Иными словами, рано или поздно должно было возникнуть обратное движение. Ибо, простите за грубость, черного кобеля не отмоешь добела. О чем, внимание, изначально знал Иона. И предупреждал, и настаивал. Хотя, согласитесь, путешествие во чреве, согласно высшему замыслу, должно было многому его научить и предостеречь. Но Иона – это Иона. Я по себе знаю, как бывает трудно отказаться от себя, в особенности, когда этого никто от тебя и не требует. Итак, вынужден констатировать, поступки потеряли всякую привлекательность… Но только на первый взгляд. Казалось бы. Но, друзья, не зря объявил я вам об обратном движении. Как вы знаете, всё начинается с малого. Хотя малое часто кажется большим, равно как большое – малым. Это зависит от угла зрения и, нередко, не смейтесь, от чистоты окон. Можете смеяться надо мной. Смейтесь. Любой смех – радость, а ее всем нам так не хватало. Одним словом, кто-то раньше или позже должен был положить начало. Мы с Ионой, да, да, не удивляйтесь, мы с Ионой ждали этого. Может быть, он сейчас осудил бы меня за мои слова, и еще осудит. Итак, движение, поступки. Хорошо это или плохо? И плохо и хорошо. Любой поступок, малый или большой, хорош и плох одновременно. Кто же совершит его, ломали мы голову? Кто окажется первенцем? Казалось, что уже не осталось таких людей. И уж никто из нас не мог бы представить себе в таком качестве Филиппа, включая самого Филиппа. Нет более спокойного и пустого, казалось нам, человека, обремененного глупостью и деньгами. И вдруг! Победа! Филипп оказался потаенным и… жизненным. Вот тебе Филипп, еще одно слово! На этот раз слово не новое. И слово это – дар! Зачем, вопрошаешь ты, Пума? Зачем он сделал это, ломаешь ты голову? Отвечаю. Таков был замысел, который непостижим. Всегда. С тем и успокойся, Пума. Просто поверь и успокойся. Пей, спи, радуйся каждому восходу и закату. Даже если Филипп и хотел отравить тебя. Умирать лучше всего в неведении. Просто поверь мне, Пума! Но, вернемся к нашему новому герою, друзья! Уже с утра одолевало меня волнение… наития, предчувствие… И вот оно прекрасное разрешение. По иронии судьбы снова семечко. Помните Иону, в качестве урока и своеобразного семечка подброшенного Господом нашим зверю? И помните семечко, в качестве спасения и урока подброшенное Господом нашим Ионе? И вот, опять, семечко! Черное семечко. И метка и поступок. Хотя содержания в том семечке нет. И все мы только что смогли в этом убедиться! Однако же – поступок! Первый человек на Луне! Друзья, поздравляю нас всех. Это – начало! Теперь уж скоро пришествие, а, дальше – долгожданный Конец Света! Хотя, повторюсь, на первый взгляд, все, что здесь произошло сегодня, выглядит мелким, если не сказать, мелочным. Но это только на первый взгляд. Вывод. Жизнь, по-видимому, дается нам с тем, чтобы научиться не бояться ее! Ура!
На этих словах Ваала в таверну вновь входит Иона. Он направляется к столику Пумы. Извлекает из бокала семечко, опускает себе в рот. Обращается к присутствующим, – Вот таким образом, друзья, кит поглотил нас с Филиппом. Сказав это падает замертво.
Двери таверны разверзаются и питейное заведение заполоняется белыми гусями. Ослепительно белыми гусями. Следом за гусями являются женщины в ослепительно белых платьях. В руках у женщин пруты. Изгнание прутами гусей напоминает танец, так слажены и живописны движения женщин. Наконец гуси изгнаны, женщины покидают таверну.
Часть четвертая
Allegro ma non troppo
1. Стравинский С. Р. Стравинский И. И.
И все же они встретились, пусть накоротке, но встретились, Иван Ильич и Сергей Романович. Встреча выглядела следующим образом. В тот день доктор вознамерился заночевать дома. Нужно было уладить кое-какие дела. Когда Стравинский отправляется домой покушать домашнего, вздремнуть или просто побыть дома, он обыкновенно объявляет коллегам и пациентам, себе в первую очередь, что намерен уладить кое-какие дела. Как будто стесняется. Как будто это преступление, если психиатр покидает свой корабль, сумасшедший дом.
Итак. В тот день Иван Ильич вознамерился уладить кое-какие дела, уже вышел на крыльцо, уже осмотрел небо на предмет осадков, принялся исследовать дворик, это обязательно, принялся изучать дворик и видит – стоит в смятении, смущении, нерешительности, даже внешне как будто помят, выпивает, похоже, словом, стоит человек, стоит такой человек, как две капли воды похож на него самого, двойник – не двойник, близнец ли. Не брат. Братьев у Ивана Ильича никогда не было. Некий человек. Как если бы это были два идентичных снимка, только один засвечен. Или два черно-белых снимка, а один был бы цветным, но загублен при проявлении. Если помните, Иван Ильич в отличие от Сергея Романовича – альбинос. Потому такие ассоциации. Стоит. Иван Ильич стоит, и Сергей Романович стоит. Оба стоят. Друг против друга. Где-нибудь в пяти шагах.
Стояли долго. Время от таких ситуаций прячется, так что с уверенностью сказать, сколь долго продолжалось это противостояние, не представляется возможным. Думаю, минут двадцать стояли. Или так показалось.
Первым заговорил Иван Ильич. – Вы Стравинский? – спросил он.
Боков – городок маленький, даже если и не встречались прежде, так или иначе все друг дружку знают. Разумеется, доктор был наслышан о некоем своем двойнике, однофамильце, и вот теперь увидел его буквально в пяти шагах. – Вы Стравинский? – спросил он.
Ответ последовал незамедлительно, как будто Сергей Романович приготовил его заранее, – Мальчонку ищу. Мальчика одного. Маленького. Росточком маленького. Вот ищу.
– Что за мальчик?
– Трудно сказать. Алеша. И забудем. Мне неприятно об этом говорить, о нем говорить. Мне его представили как Алешу. И забудем о нем. По крайней мере, на какое-то время. Может быть, позже. Но лучше забыть, совсем забыть. Как будто его и не было. Как будто мальчика и не было. Лучше всего.
– Вы Стравинский?
– Откуда вы знаете?
– Боков – городок маленький, даже если и не встречались прежде, так или иначе все друг дружку знают. А вы совсем на меня не похожи. Я бы даже так сказал – мне еще не доводилось встречать человека, столь непохожего на меня. Это я о вас, Сергей Романович. Я правильно называю ваше имя?
– Как будто.
– Вот и хорошо. – Иван Ильич берет Сергея Романовича под руку, – А теперь пойдемте в дом. Здесь мой дом. Я его люблю. Провожу здесь большую часть своего времени. Курите? У нас курят. Закуривайте, если хотите. У нас свобода. Уверен, что вам здесь понравится. Уверен, что и вы полюбите сие богоугодное заведение так, как люблю его я. Кроме того, это прекрасное укрытие. Жизнь вскоре обоснуется здесь, Сергей Романович, и вы довольно скоро сможете в этом убедиться. Идемте, идемте, смелее. Не сомневайтесь в правильности моего выбора, а, в недалеком будущем, и вашего выбора. Перед вами дворик – будущий дивный сад. Летом я планирую посадить здесь сирень, розы, фиалки, настурции, агаву, рододендроны, кипарисы, пальмы, апельсиновые деревья, алоказию, бальзамин, бегонию, глоксинию, драцену, кордилину, жасмин сомбак, зигокактус, калатею, колеус, кургулито, монстеру, панкратиум, циперус, традесканцию, фикусы, хойю, эпифиллюм, эухарис, абутилон, амариллис, араукарию, аспсрагус, аспидистру, аукубу, белокрыльник, гибискус, гортензию, зефирантес, иглицу, инжир, камелию, камнеломку, кливию, лавр, лигиструм, мирт, олеандр, пеларгонию, плектрантус, хедеру, примулу, самшит, спарманию, трахикарпус, тую, узамбарскую фиалку, фатсию, фуксию, хамеропс, хлорофитум и циссус. От простого к сложному, обратили внимание? Я этого принципа придерживаюсь во всём. И в беседе, и в наблюдении. Я не слабоумный, не думайте. Сначала может показаться, но это пройдет. Первоначально разговор должен начинаться с самых простых вопросов. К примеру, чем пахнет агава? Чем пахнет агава, Сергей Романович?.. Это я пытаюсь отвлечь вас от мрачных мыслей. Я вижу, вы немного расстроены и взволнованы. Чем же пахнет агава?.. Между тем, ответ предельно прост. Агавой. – Смеется. – От простого к сложному. От простого к сложному. Я ведь у самого Эрдмана учился. Есть у него одна фраза, просто анекдот. Ну, что, спрашивал он своих ординаторов – какой диагноз будем ставить этому шизофренику? Просто анекдот. Веселый был человек, жизнерадостный. Жаль, что вам с ним уже не встретиться. Но остались ученики. Понимаете, кого я имею в виду? Ну, что, будете летом гулять в моем садочке? Будете, конечно, будете. Кто же откажется погулять в таком садочке? К лету здесь все соберутся.
– Кого вы имеете в виду?
– Всех, буквально. Народ. Вы любите народ?
– Не знаю.
– Уходящая натура. Палимпсест. Что есть народ? Люди, дикая птица, домашняя птица. Гуси, непременно. Меня гусь кусал. Незабываемо. Да, народ. Еще вчера грозное звучание. А теперь? Ничего, ничего, вот, оборотец совершим, и вернемся с головы на ноги. Виток спирали. Как-нибудь преодолеем, Бог даст. Если, конечно, небо выдержит. Трещит по швам. Трещим по швам. Но. Прочь черные мысли. Здесь занимается жизнь, Сергей Романович, здесь. Пока не заметно, дайте срок. Предполагаю и пришествие цыган. Ах, какие цыгане в годы моей молодости были! Чистые, голосистые. Голоса чистые! Своего рода ковчег. Мы здесь окна два раза в неделю моем. Дважды. Но это не я слежу. Я больше по лечебной части. Но горжусь. Тепло мне здесь. И вы согреетесь, Сергей Романович. Заговорил? Заговорил. А это такой прием. Профессиональное. Не обессудьте. Деформация. Психиатрия. Гудвина помните? Вот-вот. Для каждого гостя своя маска. Но вы – не гость. Если честно, я ждал вас. Если мы с вами так же похожи, какой же вы гость? Вместе за цветочками ухаживать будем. Деформация. Но что делать? Что делать? Сапожник без сапог, как говорится. Что же касается будущего – позже разовью свою мысль с вашего позволения. Разговор серьезный. Я бы сказал, библейского толка. Вижу, вы взволнованы, взволнованы, расстроены? Ничего, ничего, это пройдет. Все проходит, не так ли? Вы поклонник Давида? К теме библии. Нет? А я люблю, знаете ли. Как это у него? Несчастье испытывает тот человек, которому чего-то не хватает. И чем больше ему этого не хватает, тем более он несчастен. А так как человеку всегда чего-нибудь не хватает, то, утоляя свои желания, он лишь переходит от большего несчастья к меньшему. Счастлив тот человек, внутри которого весь мир – ему не может чего-либо не хватать. Весь мир растворен во мне.
– Вероятно, ваш рабочий день закончился, я задержал вас?
– Не скрою, с удовольствием вернулся. Хотел уладить кое-какие дела, но, честно говоря, душа не лежала, так что вернулся с удовольствием. Не люблю покидать больницу. Здесь мой дом. Идемте, идемте, выпьем чаю, поговорим. На прошлой неделе вот так же ходил улаживать дела – пациент умер. Притом любимый пациент. У меня все пациенты любимые. И вас я уже люблю. Обыкновенно у нас не умирают. Вы довольно скоро сможете в этом убедиться.
– Может быть, присядем здесь, на лавочке? Вот хорошая лавочка. Мне нравятся такие лавочки.
– Пойдемте, пойдемте. Покажу вам свои хоромы. А это – настоящие хоромы. Вам у меня понравится. Проведу с вами небольшую экскурсию. В палаты не пойдем. У меня в аквариуме настоящая латимерия живет. Пациенты из папье-маше изготовили, а она ожила. – Смеется. – А вы совсем не смеетесь. Что, плохи дела?
Стравинские пьют чай в том самом кабинете с белой стеной до потолка и крошечным окошком где-то там, на самом верху.
– Идеальное укрытие, не находите? – спрашивает Иван Ильич.
– Вот бы Алешу к вам. Он нуждается.
– Нуждается в укрытии?
– Его не любят, не полюбили. Он безответный.
– Что же это за Алеша такой?
– Не хочу вспоминать. Эта рана в моем сердце никогда не заживет. Утрата. Самое подходящее определение. Так, один маленький мальчик. Не сын, нет. Во всяком случае, похоже на маленького мальчика. Похож. Мы с уфологом Розмысловым дружили. Помните Розыслова?
– Да. Он умер у нас при загадочных обстоятельствах.
– А как он умер?
– Никто не знает. Странная смерть. Есть в природе такие вещи, о которых приходится только догадываться. Я этого не отрицаю. И своим ординаторам отрицать запрещаю.
– Разве что Алешенька оказался бы у вас, тогда возможно.
– Что?
– Может быть, я и остался бы у вас на некоторое время.
– А вам хотелось бы?
– Не знаю, не решил. Ваш сад покорил меня. Отсутствием цветов покорил. В старости устроюсь к вам садовником. Если возьмете.
– А я с цветочками был убедителен, согласитесь.
– Старости недолго ждать осталось… У вас приказ упрятать меня в сумасшедший дом?
– Нет такого приказа, и быть не может.
– Жаль.
– Что вы имеете в виду?
– Я вообще полон сожалений по всякому поводу. Мне и стариков жалко, и собак. Вот видите, Алешку поганца разыскиваю. А он поганец. Привязался к нему. От себя не ожидал. Вообще склонности к неожиданным поступкам прежде не замечал за собой. Собственно у вас у самого скверное настроение. Это читается. А вам, вот видите, приходится говорить со мной. Наверняка устаете от своих пациентов. Пожалуй, пойду. Собственно, я свою миссию считаю выполненной. Пожалуй, пойду. Познакомились накоротке. Большое вам спасибо. Мне бы улизнуть.
– Улизнуть?
– Улизнуть, да.
– Именно это слово?
– А я слов не боюсь. Напрасно, знаю. Но себя не переломить. Я пытался. Тщетно. Не боюсь ни снов, ни слов. А вы разве с Тамерланом не знакомы?
– Победителем Золотой Орды?
Сергей Романович смеется. – Нет, конечно. Не до такой степени, доктор.
Иван Ильич улыбается, – Вот-вот. Уже смеетесь.
– Есть у меня такой дружок. Тамерлан. Это он норовит упрятать меня к вам. Откровенно говоря, я думал, что это он подослал вас ко мне.
– Вы сами пришли.
– Так часто бывает. Во всяком случае, со мной. Ноги сами несут туда-то и туда-то. У меня ноги сами по себе, а я сам по себе. И наоборот.
– Расскажите про Тамерлана.
– Тамерлан и Тамерлан. Вообще опасный человек. Интуиция подсказывает. С виду мирный, дружелюбный, но что-то такое в нем зреет. Я к нему привязался. Он меня не гонит. Помогает. Котлетами кормит, поит иногда. Пожалуй, единственный мой друг сегодня. Надеюсь, он и закроет мне глаза. В прямом и переносном смысле. Вещь в себе. Так что, если встретите, постарайтесь держаться от него подальше. С ним и вам, пожалуй, не справиться. В нем здоровые начала. А это страшно. Не мне вам объяснять.
– Ну, да, ну, да.
– Вообще я откровенный человек. Стремлюсь к тому, во всяком случае. Откровенно говоря, мне не очень приятно беседовать с самим собой. Это если откровенно.
– Все еще волнуетесь.
– Немного. В беседах с собой теплится некая обреченность. Да вы лучше меня знаете.
– А вы и теперь беседуете с самим собой?
– Я бы пригласил вас на свои четверги. Лет семь, может быть, тому назад. Тогда это представляло, возможно, какой-то интерес, но теперь, как говорится, лавочка закрыта. Это давно нужно было сделать. Знаете, декабристы так же вот, собирались что-то, тлели, даже горели, а потом, ну, что было потом, вы и без меня знаете. Неприятная история для всех, и ничего в ней поучительного нет. Одним словом, я решил прервать эти сеансы. Сеансы – это чтобы вам понятнее было. Такое медицинское слово.
– А что это за четверги?
– Вы не слышали?
– Что-то такое слышал как будто, но предметно не интересовался.
– Тогда и говорить не о чем. Стихи, фразы. По большей части неудачные. Без оболочки. Медузы, своего рода. Лично у меня медузы восторга не вызывают. Я, видите ли, агностик. Агностиком слыл некоторое время. Значит, мальчика моего вы не видели?
– Не знаю.
– Вы, похоже, тоже агностик?
– В известной степени.
– Но у вас есть какие-нибудь мальчики?
– Есть один подкидыш. Странное дело, его принесли собаки. Первый раз встречаюсь с подобного рода явлением.
– Это он. Сердце вещает. Не пытались искать родителей?
– Нет. Мы ничего о нем не знаем. Он молчит. Немой.
– Вот-вот. Конечно он. Мой мальчик тоже немой. Алеша. Думаете, не заговорит?
– Пока ничего не могу сказать. Он у нас только вторые сутки.
– Все сходится… Успокоился.
– Спокоен?
– Спокоен. Успокоился.
– Наверное, вам хотелось бы посмотреть на Алешу?
– Нет-нет. Зачем же? Я вам вполне доверяю. Мне только узнать. Убедиться. Но, мне кажется, для этого совсем не обязательно видеть его.
– Но вы, наверное, захотите его забрать?
– Зачем же? Я вам всецело доверяю. Кроме того, мы с вами практически один и тот же человек. Вот только не пойму, что у вас с лицом.
– Я альбинос.
– Это ничего. Это даже лучше. У вас мальчику будет лучше. Я в этом уверен. У вас хорошо кормят?
– Очень хорошо. Хотите есть?
– Нет, я сегодня неплохо поел. Котлет. Вы любите котлеты? А я обожаю. Именно столовские, бледные такие. Вот, как раз, Тамерлан меня ими и кормит. Да я и сам прошу этих котлет. У вас Алеше будет намного лучше. Видите ли, я чрезвычайно пьющий человек. Чрезвычайно. Пойду, пожалуй. Тамерлан не знает, где я. Волноваться будет. Пойду, пожалуй. О погоде так и не поговорили. Небо на землю не упадет, не бойтесь. Спите спокойно. Испытываю легкость.
– Я же говорил.
– Тот же океан.
– Я тоже думал об этом.
– Намоленное место у вас.
– Любите Тамерлана?
– Нет.
– Возвращайтесь.
– Конечно. – Уходит.
2. А все белизна
позови из хрусталика из океан
из зареванный горечь уснуть не смыкается
изболевшая страсть предвкушенье пацан
не сошел с промокашки но влага пацан
упредить точит льет не смыкается
снег на ощупь но ливень не мерзнет блестит
и блестит и полощет и льет поцелуи
из зареванной туча визгливая юность
замесить уплывая любовь поцелуи
оловянный растерян чуть шарф под окном
век мяукал свистел белизна полотно
на притихшей твоей после ужас и юность
на притихшей и брошенной влага пацан
не сошел на перроне но влага пацан
слушай дудку навек несмышленая прелесть
жить немного но где-нибудь тысячу лет
спрятал ливень окно по прошествии лет
позови серебро вечный лёд треск повторов
поредел воробьи как-то враз вечный свет
тот же мак тот же ртуть не смеркается простынь
так струится в селеньях стирают
так во лжи зеркала умирают
заколдованные на просвет
позови наконец этих женщин зачем
позови наконец эти губы зачем
этих женщин не помню а всё белизна
перламутр и поникшая прорва и простынь
метроном и забыто а все белизна
рябит наглядеться а в сущности оспа
все равно наглядеться пусть совесть и оспа
пусть хрустит обезлюдел в обнимку постыл
пусть сырая и пресный и наст бересты
врать ворочаться спать не зашторивать шторы
все равно что уснуть неизбывна вода
неизбывны пичуги вне боль вне движенье
угасает гнездится провал простоты
серебро белый шум многослойный слюда
вода чемеричная скажем слюда
светит льется вода чемеричная поздно
синеглазый в окне моментальное фото
смерть не страшно не жизнь не полог и не поздно
врать ворочаться спать не зашторивать шторы
будет ты до любви моментальное фото
зажигалка вода чемеричный прощай
пропадая из виду черт с вами прощай
до озноба забыть не забыть под стеклом
голубая зола и пацан перед сном
молоко на губах не обсохло
3. Стекло. Мутное стекло
Следователь С. и Стравинский И. И. сидят друг против друга. Следователь в кресле – Стравинский на кушетке. Иван Ильич покачивается, что твой метроном. Привычка покачиваться у него со студенчества. В отличие от большинства людей, для которых подобные движения – знак волнения, азарта, покачивания Стравинского означают умиротворенность. Иногда некоторую усталость. Чаще всего скуку.
По-моему, кто-то из моих персонажей уже покачивался таким образом. В покачиваниях, согласитесь, присутствует нечто волнующее и привлекательное. Во всяком случае, присутствовало в покачиваниях того персонажа.
Вот бы не Павла Петровича посадить против Ивана Ильича, а того персонажа, которого не могу вспомнить. Совсем другой коленкор был бы, совсем иная интонация. Пускай бы, так и сидели, покачиваясь. А случись Павел Петрович в поле зрения, и он пусть бы покачивался. Не жалко. Только не напротив Стравинского, а поодаль. Но в поле зрения. И никакого диалога не потребовалось бы. Просто сидят три человека, покачиваются.
Не факт, что знакомы меж собой. Трое некто. Три. Сидят, покачиваются. В унисон или каждый сам по себе.
В зависимости от настроения автора, точнее, от вашего настроения.
Чуть быстрее или чуть медленнее.
А когда их было бы не трое?
А что, если в финале вообще усадить всех четвержан и нечетвержан и побудить покачиваться. В унисон или всяк сам по себе. Ах, какой торжественный получился бы финал! Уж Игорь Федорович оценил бы. Игорь Федорович точно оценил бы. Высший бал! Сразу ясно стало бы ясно, почему «Стравинский», а не «Стравинские». Вообще необыкновенная ясность настала бы. Ясность и гармония. Точно резкость навели и свет выключили. Во всяком случае, приглушили бы. А то что-то января многовато. Перебор с январем.
Вообще-то много января не бывает, но когда речь о симфонии – бывает. В симфонии, во всяком случае, в ее черновике, где мыслям и тесно, и просторно, где такой сыр-бор, а, случается, и перебор. Но не перебор, я вас умоляю. Откуда в черновике перебору взяться? Это же черновик. Так вот, в симфонии, когда все покачиваются – это уже нечто большее, чем покачивания. Это уже, будьте любезны – движение в чистом виде. Как кода сама или иной аромат. Ядовитый, к примеру, аромат. И такое бывает, чего греха таить? Мы же ягодам имена не даем, и нот не видим, когда глаза закрыты. Покачиваемся, и всё. Если композитору угодно. Стравинскому или любому другому. Римскому-Корсакову, например.
Но Павел Петрович в данном случае не покачивается. Говорю, живут своей жизнью, персонажи живут своей жизнью. Как головешки или голуби. Почему, собственно и голубятня. Великая мировая голубятня. Зияющее свечение. Желтое или белое. Вполне определенные, но смутные очертания.
Итак, Иван Ильич покачивается, следователь С. Павел Петрович неподвижен – лом проглотил. «Лом проглотил» – лишнее и не соответствует. Просто так неподвижен. Сидит, нога на ногу, крутит в пальцах сигарету. Чем не головешка? Если закурит – полное соответствие и рифма. С головешкой. Итак, крутит в пальцах сигарету. Тоже привычка. Не более того. Сигарету крутит, сам неподвижен. То есть в движении находятся только пальцы и сигарета. Точно шмель на лугу в безветренную погоду.
Сидят, беседуют. Как будто беседует. Беседа старых знакомых. Как будто беседа как будто старинных знакомых. Покой. Небо. Озеро. Журчание – где-то родничок. Видим озеро, слышим родничок. Долгие паузы. Так выглядит начало беседы, самое начало беседы. Когда это, вроде бы, еще не беседа, но уже беседа. А мы как раз застали самое начало беседы.
Иван Ильич только что прибыл на свидание к Павлу Петровичу. Спустился по крутой лестнице. Спустился, тяжело ступая. По-моему пару раз зевнул по дороге. Сонное царство. Вокруг, позади и выше – сонное царство. Все спят. Кто лежит, калачиком свернулся, кто – на ходу. И врачи, и сестры, и санитары, и нянечки, и больные. И даже собаки. Особенно собаки. Тепло. Безмятежно. Духовная сытость. Не знаю, может быть, только видимость. Но пахнет жареной картошкой. Стравинский принес с собой запах жареной картошки. Нянечки жарят. Для себя. Искусницы.
А вот больничные собаки картошку не любят. Мослы любят.
Итак, вошел в приемный покой. Явился, предстал. Иван Ильич, догадались. В золотистом облаке. Плюхнулся на кушетку и… тут же уснул. А что, смешно было бы. Нет, не уснул. Хотя сценка получилась бы смачной, в духе покачиваний. Нет, не уснул, чинно уселся, поздоровался. Может быть, всего лишь кивнул головой, но кивнул со значением, чувством. Старинному приятелю кивнул, дескать, очень рад, хотя только вчера расстались. Рад был бы каждый день вот так встречаться. Вообще не расставаться рад был бы. Словом, сел, поприветствовал С., ну, и пошла беседа.
Ну, что? Сидят друг против друга, беседуют. Умудренные опытом люди. У обоих буквально через несколько лет – бесповоротная старость. Так что оба не спешат, тянут время. Непроизвольно. К старости ход времени замедляется. Непроизвольно. Или произвольно. Это уже кто как пожелает. Беседы делаются долгими, дни долгими, ночи долгими, мысли долгими. Год растягивается на два, а то и на три. Так что в объективной реальности живем мы, согласно завещанию Ивана Петровича Павлова, сто пятьдесят – сто семьдесят лет. Ибо та реальность, что нам до боли знакома, субъективна.
Легато.
Ну, что? Сидят, беседуют. Оба, заметьте, стараются не встречаться взглядами. Внутреннее зрение. Третий глаз. Вот, скажем, Сударнов прямо наблюдает за Стравинским, буквально ест глазами, когда тот, скажем, спиной поворачивается. Что не очень-то сочетается с сударновской клейкой улыбкой. Дикое сочетание. А здесь – нет. Здесь совсем другая игра, другой уровень. Эти собеседники век не поднимают. Никогда. Даже во сне. Фигуры интуиции. Ферзи интуиции. Специфика профессий. Омут. Стекло. Мутное стекло. Шествие удильщиков на глубине двадцати тысяч лье. Немо припал к иллюминатору, расплющил нос. Пипка белая. Стекло. Мутное стекло. Пятна, блики. Молча говорят. Мел. Не слова – облачка мела. Молчание. И вообще молчание. На первых порах молчание. Да и потом, возможно. Все что угодно можно допустить в таком-то месте.
Первым молчание нарушает Павел Петрович. Облачко мела.
– Здесь можно курить?
– Вы меня случайно застали, совершенно случайно. Сегодня Михаил Иванович дежурит, а у меня выходной… А меня сегодня не должно было быть. Я дома должен был быть, надо бы уладить кое-какие дела, да, но что-то засиделся и остался. По-моему даже задремал… Дремал немного… Остался и задремал. Засиделся… И теперь еще не проснулся… Проснулся, но не весь. Но это не имеет значения… Так что я сегодня выходной, а дежурит Сударнов Михаил Иванович.
– Да, Михаил Иванович мне говорил.
– Стал много спать. Прежде меньше спал… Интерес теряю, вот что. Но признаться себе в этом боюсь. Откровенно говоря, боюсь. Не хочется ветхости.
– Простите великодушно, что потревожил.
– Какие пустяки! Я вам рад. Это уж вы меня простите, погружаю вас в подробности… Детали, детали. Теперь вся жизнь распалась на детали. И моя жизнь и вообще… Много деталей… Сплин… Или еще не проснулся. Не знаю… Хотя, в детали погружаю вас намеренно. Обратили внимание?.. Обратили внимание?
– Да, конечно.
– Ну и чутье у вас!..
– Не знаю.
– Знаете, всё вы знаете. Даже то, что не знаете – знаете… Ведь для вас, впрочем, как и для меня, детали – не пустой звук. Что скажете?.. Для кого-то детали, может быть, дрянь, мусор… А мусор, к слову, тоже подробен. Крупицы, фрагменты, мелкое, крупное… Золото случается. Да, да, да, можете мне верить. У меня один пациент, скорее, знакомый, в большей степени знакомый, нежели пациент, так вот он на свалке алмазы находит… И золото случается. Не слитки, конечно, крошку, песок. Хотя, кто его знает?.. Лично я не находил. А так, кто его знает?.. Не голодны, Павел Петрович? Нянечки наши отменно картошечку жарят. Я отведал – объедение. Они всегда угощают. Жарят обычно много, с запасом. Что скажете?
– Благодарю, сыт.
– Немного напряжены. Показалось?
– Нет-нет… разве самую малость… Однако и у вас чутье, Иван Ильич отменное.
Стравинский смеется, – Обменялись. Как кукушка… не помню с кем. С петухом, что ли?.. Да, кукушка и петух, точно. У нас на трубе в кочегарке сидит. Устроился. Нравится ему там. Мне – в сумасшедшем доме, ему – на трубе. Любим друг друга. Бывает, выйду во двор, я ему рад, он – мне… Не видели нашего петуха, не встречали? Я вам обязательно покажу… Царский еще петух… С тех еще времен. Либо при Александре II, либо при Николае I вознесен и посажен… При Николае?.. Теперь уже не вспомню. А прежде знал… Или при Александре I? Не знаю, не знаю. А, впрочем… Да вы расслабьтесь, расстегните ворот. Давайте, чаю попросим покрепче? Купца. Что скажете?.. Нет, вам чаю не хочется.
– От вас ничего не утаишь.
– Так уж и не утаишь. Утаишь, утаишь. Обводят вокруг пальца кому не лень. Рассеянным становлюсь, сплю на ходу, вот и пользуются.
– Я, признаться, тоже любитель поспать. За мной всегда водилось… А вот курить хочется. Закурю?
– Так что сегодня здесь сразу два доктора. Кроме меня еще Михаил Иванович.
– Мы виделись с Михаилом Ивановичем. Но мне нужны именно вы.
– Я так и подумал. Иначе вы не стали бы меня вызывать… Банальная логика. Рацио проклятое… По мере сил боремся. Стараемся изживать.
– Если бы я мог обойтись Михаилом Ивановичем, не сомневайтесь, я бы вас не побеспокоил… Прошу прощения за назойливость, скажите, могу ли я здесь закурить?
– А разве я не ответил вам в прошлый раз?.. Дырявая голова. Не голова – дуршлаг… Немецкое слово «дуршлаг». Я немцев люблю. За подробность. У нас психиатрия-то, если по совести, немецкая… Вот видите – рассеянность. Но я прощаю себе. Вот через силу, через сопротивление – прощаю. Знаете, нужно уметь себе прощать… Это – искусство. Или наука. Даже не знаю, что больше подходит… А вы умеете себе прощать, Павел Петрович?
– Сложный вопрос.
– Вот именно. С виду вопрос простой, а стоит внимательнее к нему подойти, оказывается сложным. Вы – человек внимательный, первый шаг пропустили. Не сомневался… Однако отвечать не спешите. Подумайте хорошенько, и если придете к заключению, что, сами того не подозревая, бичуете себя по делу и без дела, вспомните мой наказ. Учитесь себя прощать… Это важно, архиважно. В особенности в условиях России. Ведь мы же с вами в России живем. Не в Германии, слава Богу… В России?
– Как будто.
– Вот видите?.. Бывает, только подумаю сказать, а воображаю, что сказал. Признаю. Стараюсь следить за собой, но не всегда удается. Много мыслей одновременно или, напротив, полное отсутствие таковых… И так, и этак случается. В связи, с чем нередко попадаю в неловкое положение. Вот как теперь с вами.
– Усталость накапливается.
– Очень верное примечание. Именно, что усталость, именно, что накапливается.
– Что вы скажете, если я закурю?
– Ничего не скажу. Промолчу… Скорее всего… А, возможно, даже и не замечу… Вы бы покушали. Хотите картошки?
Павел Петрович закуривает, – Благодарю, сыт.
– Вот в этом вы совершенно правы – курить лучше на сытый желудок. Натощак старайтесь не курить.
– Обещаю.
– Просто так зашли или дельце какое привело?
– Посоветоваться хотел.
– Ну, что же, чем могу, как говорится. Какого свойства совет? предметный или гуманитарный?
– Всё сразу, пожалуй.
– Вот-вот, так оно, как правило, и бывает. Вопрос проще некуда, а если внимательнее подойти – глубина. Если не бездна… Бездна – страшное слово. Только вдумайтесь. Проваливаешься сразу. Сразу же зыбучие пески вспоминаются. Редко кто способен оценить, прочувствовать.
– Да уж, бездна… А вот скажите, Иван Ильич, эта идея…
Молниеносно, – Какая идея?
– Будто бы небо на землю опускается. Откуда она к нам пришла? Не из вашего богоугодного заведения ли?
– Такой вопрос, да?
– Да.
– Да вы никак ведомство сменили, Павел Петрович? Вопрос-то не совсем по вашей части.
– Нет-нет, это – личное, это я так, для себя, звено в цепи рассуждений частного характера, нет-нет, сугубо личное. Хотя, кто его знает, какие выводы последуют. На вольных хлебах, знаете, такие открытия случаются – себе не рад. Думаешь про себя – зачем ввязался, старый дуралей, сидел бы себе, сопел в две дырочки. Так нет же, хочется докопаться. А до чего, и сам не знаю. Рою, что называется, вслепую… Кстати, можете поздравить, крота вычислил-таки. Помните, я вам рассказывал?
– Как не помнить?
– Прежде только подозревал, да всё что-то отвлекало. А нынче вычислил. Всё сошлось. Вот, что значит свобода. Вольные хлеба. Тенета порваны – и тотчас свет. Так что можете поздравить.
– Поздравляю.
– Даже не поинтересовались, о какой свободе речь.
– Уволили?
– Так точно. Больше не у дел, Иван Ильич. Хотя дел только прибавилось. Так точно, уволен. Выброшен, как говорится, на помойку, – смеется. – Теперь вот вместе с вашим сумасшедшим вместе золото и алмазы искать будем.
– Он компаний не любит. Однажды пригласил меня, но с тех пор исчез. Думаю, пожалел, что пригласил. Он, знаете ли, веру в людей потерял. Нынче многие этим страдают. Опасно, знаете ли. С этим трудно жить.
– Так вот, докладываю, с отставкой испытал заметное облегчение. Теперь вольный художник. Сам себе господин. Крылья пробиваются. Физически ощущаю. Мог бы рыбачить, закуски выращивать, но профессия не отпускает.
– Понимаю.
– А коль скоро вериги отброшены, условности, обязанности долой, берусь разгадывать самые сложные шарады… Несуществующие… Помните, я вам рассказывал о своем методе?..
– Да, конечно. Замечательная теория.
– И практика, Иван Ильич, и практика… Пытаюсь проникнуть в самую суть, в сердцевину. Ну, а там уже и это ведомство, и то. И такие ведомства витают, что и представить себе невозможно… Вам скажу. За тем и шел. Другой не поймет. Мировое зло – вот мой объект и субъект… Видите, куда занесло?.. Сгорю – значит сгорю. Ради такого дела жизни не жалко… А если удача?.. Сомневаетесь?
– Не то, что бы. Не знаю… У меня вот сил не хватило.
– Вы тоже занимались этой проблемой?
– Непременно. А как же? В обязательном порядке. А, иначе, зачем тогда?.. Но сил не хватило. Так что для меня, милейший Павел Петрович, это пройденный этап.
– А может быть, вам только кажется?
– Вы о том, что не хватило сил? Видели бы вы мои ноги перед сном…
– О том, что для вас это пройденный этап.
– Находите?.. А что? Не исключено. Исключать, Павел Петрович, ничего нельзя. При любых обстоятельствах сомнения надобно оставлять. Непременно. Оставлять и лелеять. Сомнения – жизнь… И будущее… Верить надобно до последнего… И после… И в вопросах энергии. Сегодня – так, а завтра, чем черт не шутит, проснешься, к зеркалу подойдешь и обомлеешь – двадцать лет долой, а то и все двадцать пять. Этаких чудес здесь у нас сколько хотите… Впрочем, какие там чудеса? Вот настоящая вера – чудо. А это разве чудеса? Так – фокусы. Всё непредсказуемо. Всегда. Вот и идея ваша о падении неба…
– Это не моя идея. Идея пришлая, а я как раз намерен узнать, каково ее происхождение.
– Но это же вы только что ее озвучили.
– Нет, я только воспроизвел. А вы разве не слышали ничего такого?
– Слышал, конечно.
– Ну и вот. Так что идея возникла до меня. Мысль живучая, цепкая, устойчивая. Изрядно приправлена страхом, фантазиями. Ядовитая идея, в рост пошла как сорняк. Как белена или волчья ягода…
– У нас во дворе целые заросли волчьей ягоды. Изумительно красиво. Красная смородина заметно уступает. О крыжовнике и говорить нечего.
– Панические настроения, всё такое, понимаете? Надо бы рубить. Иначе, что же это будет? Беда будет… Ну, так что, Иван Ильич? Не из вашего богоугодного заведения сей звон? Интересуюсь исключительно по призыву души. Если узнать наверняка, смотришь, удалось бы концы с концами свести, многое предугадать, предупредить, уберечь, уберечься. Я, Иван Ильич в будущее устремлен. Как пуля или даже ракета. Невольно сравнение с ракетой напрашивается. Энтузиазм. Незаслуженно забытое слово… Ну, что? Вашей фабрики цыпленок?
– Желтенький?
– Очень.
– Наш. Чей же еще?.. Яйца, цыплята, светлячки, цветочки, опять же волчья ягода, светоносные мысли и осенние прогнозы – всё из нашего гнездышка. Вынашиваем, холим, выращиваем, храним, как умеем. Эфир разносит. И запахи, и песни. У нас же, дорогой Павел Петрович, не все окна с решетками… И не только эфир… Случается, страстотерпицы провозглашают. Но эти – реже. Молчать предпочитают. Знают себе цену. Мы их как раз этому здесь и учим. Молчать, прятаться, в ценах ориентироваться… Тут у меня своего рода Ковчег. Или крепость. Уговариваю, знаете, своих подопечных оставаться как можно дольше. Желательно, навсегда. Снаружи беда караулит на каждом шагу. Грязь снаружи, даже зимой. Да вы лучше моего это знаете.
– Интересно.
– А с голубями у нас особенные отношения, доверительные… Так что вы, Павел Петрович, по адресу. И любой вопрос ваш по адресу. Добро пожаловать. Сдаюсь, как говорится, на милость победителя… Располагайтесь. Вам здесь уютно и сытно будет. Кроме того, сосредоточенность, новые знания, гипотезы, простор для фантазий.
– Вас послушать, так здесь у вас просто марципан и Афины.
– Афины – не Афины, но… Жизнь сладкая, скрывать не буду. Что же касается Афин? Я бы иначе сказал. Некто оттачивает здесь свое мастерство. На нас оттачивает. Так бы я сказал.
– И кто же этот некто?
– Лишнее и опасное знание.
– Нет, не лишнее, Иван Ильич, не лишнее. Теория заговора – не пустой звук. Я, Иван Ильич достаточно пожил, чтобы отрицать эту систему.
– Лишнее, лишнее. И на том стоять буду… Вы – на своем, я – на своем… Вы – человек рациональный, а я иррациональный. Впрочем, я вам уже докладывал. Мы никогда не встретимся, ибо шествуем в разных направлениях. Но друг друга помним и имеем в виду. Без того погибнем. Сразу же. Все погибнут. Всё погибнет. Ибо это – не спор, и не поиск – равновесие… Но друга помним и скучаем.
– Мудрено.
– Просто вы пока не готовы отказаться от некоторых догматов и предубеждений. Ну, ничего. Вот я вам сейчас всякого наговорил, пусть покуда мудреным кажется, вы потом помозгуете, прокрутите, еще удивитесь, до чего всё естественно, легко и понятно. Еще позавидуете себе.
– Посмотрим…
– Интересно, кто именно нас покарает? Не спрашивали себя?
– Не приходило в голову.
– А мне крайне любопытно. Успеем ли мы хотя бы краешком глаза увидеть его? – смеется. – А ну, как нашим добрым знакомым окажется?
– Так что же, небо на самом деле падает, Иван Ильич?
– Всегда. Во все времена. Дышит. А без дыхания как?.. Вот вы или я долго продержимся без дыхания?.. Так и небо.
– Я не об этом, несколько иной смысл вкладываю…
– Притворство. Или глупость, простите великодушно.
– То есть?
– Делаем вид, что разбираемся в смыслах. Вы, я, все. На самом деле ничуть не разбираемся. Не можем по определению, не умеем… Любви стесняемся – вот причина.
Павел Петрович тяжело вздыхает, – Всё у вас витания, туман. Конкретика нужна, конкретика, Иван Ильич.
– Хотите конкретики?
– Именно что.
– Ой, смотрите не ошибитесь… Вот я вам случай из практики приведу. Это история о том, как конкретика разбивается в дым от неких независящих от нас обстоятельств, и рациональное в мгновение ока становится иррациональным. Физика – метафизикой, явь – сумерками, ну, и так далее… Был у меня один пациент. Назовем его Пеликаном. Он и вправду очень напоминал пеликана – подбородок, походка, даже отряхивался как пеликан. Судьба распорядилась таким образом, что женился наш Пеликан на женщине лет на десять его старше. Женился, надо сказать, по любви и расчету одновременно, первое время о разнице в возрасте не задумывался. Конечно, друзья-товарищи, родственники нашептывали ему всякое, пророчествовали, пакостить пытались, но он внимания не обращал. То есть не то, что делал вид, будто внимания не обращает, а на самом деле пропускал мимо ушей всю их болтовню. Детей не было, но жили счастливо. Супруга была богата. Не знаю источника доходов. И Пеликан не знал. Не знал и не интересовался. Старался не касаться этой темы. Побаивался узнать правду, да и стеснялся своего подчиненного положения. Спугнуть боялся, сглазить. Какой-то бизнес у нее был, поговаривали о наследстве. Не знаю. Словом деньги водились и немалые. Пеликанша, поскольку мужа обожала, одаривала его всевозможными подарками. Не просто подарками, а роскошными подарками. Катера на воздушной подушке, янтарные яхты, живые гобелены, агатовые браслеты, меховые подтяжки, поющие иглы, платиновые языкодержатели, электрические и пневматические стулья, алмазные коронки, скипетры и троны, яхонтовые ошейники, золотые яйца, нефритовые глазки, сапфиры и слоны, всё такое. Всё по высшему разряду. Работу наш нувориш вскоре потерял, а работал он дантистом, по совместительству экспедитором и риелтором. В любом случае тюрьма по нему плакала, так что невелика потеря. В общем, наступила оранжевая жизнь. Однако вопреки традиции выпивать не стал, с распрощался, с друзьями распрощался, с заимодателями распрощался, сделался домоседом. Главным образом спал. Спал целыми сутками, ну вот как мы с вами спали бы, когда бы нам представилась такая возможность.
– Долго бы не продержались.
– Наверное. Итак. Однажды раздался стук в дверь. Пеликан открыл. Незнакомый человек в бархатной феске. Представился посыльным. Сказал, что Пеликанша куда-то срочно уехала по делам, просила передать, что два-три дня будет отсутствовать. Почему-то сама не позвонила. Вероятно, план у нее уже был сверстан. Пеликана это обстоятельство должно было бы насторожить по идее, но он уж очень расслабился, так что ему и в голову не пришло поинтересоваться. Уехала, и уехала. Тут бы с гостем и попрощаться, ан, нет. Незнакомец не уходит. Заявил, что на время отсутствия будет здесь жить, ухаживать, убирать, присматривать, сторожить, исполнять любые желания. Хозяин говорит, спасибо, не нужно, а незнакомец свое, никак нельзя, велено, ослушаться не могу, иначе пострадаю, могу всего лишиться… И началось. Пеликан за стол – незнакомец с ним, Пеликан в кровать – незнакомец рядом, на коврике калачиком свернулся, Пеликан, прошу прощения, справить нужду – незнакомец тут как тут, слушать ничего не желает. Мужчина крепкий, пистолет в кобуре, за дверь не выставишь. Еще деталь – правую руку все время в кармане брюк держит. Левой рукой работает – правая рука в кармане… Почему так? Пеликана и это обстоятельство должно было бы насторожить, но он и эту деталь оставляет без внимания. О феске я уже и не упоминаю. Много доводилось вам встречать среди прохожих людей в фесках?.. Кстати, вы случайно не знаете, что это означает, когда человек одну руку все время в брючном кармане прячет? Я ответа до сих пор не нашел.
– Причин много. Какова причина в данном случае, с уверенностью сказать не могу. Нужно руки осмотреть, и правую, и левую, в карман хорошо бы заглянуть. Бумажник на многое мог бы глаза открыть… Если вы имеете в виду того человека, о ком я думаю – так это привычка.
– У вас уже есть подозреваемый?
– Подозреваемый был у меня еще до того, как вы начали рассказ.
– Я приблизительно так себе и представлял… Что же? На пятый, что ли день наш герой напился до положения риз, и давай куражиться. Напялил на себя эту самую феску, отобрал у незнакомца, – Хочу, говорит, гарем. Соглядатай ему резонно отвечает, – Хозяйка будет недовольна. Тот свое, – Хочу и точка. Пеликанша велела все прихоти исполнять? Вот, исполняй. Ну, что делать? Отправился гость выполнять поручение. Не успел наш пленник дух перевести, дверь открывается, входит незнакомец, а с ним восемь свинок. Белесых и грязных. Немедленно вонь в доме немыслимая. Пеликан тотчас протрезвел. Кричит в ужасе, – Ты кого привел? – А это, – отвечает телохранитель, – детки ваши, восемь дочерей. – Уверен, что это не свинки? – Нет такой уверенности. А какое это имеет значение? – Где же ты их нашел? – Они на стороне жили, у чужих людей. – Не понимаю. – Супруга ваша каждый год рожала, только вам не говорила, знала, что вы о мальчике мечтаете. – Да разве такое бывает? Я ее в положении не видел. – Просто не замечали. Женщина крупная, беременность незаметна. – Зачем ты их привел? – Хозяйка приказала. Когда узнала, что вы гарем заказали, велела вместо наложниц дочерей привести. – Да это же свинки. – Никак нет, ваши дочери. Хотя, согласен, на свинок походят. – Надо бы их помыть… Вот эта фраза во мне все перевернула. Кораблекрушение, катастрофа, а он о чистоте едва знакомых дочерей уже заботится. Хоть пройдоха и вор, все же благородный человек этот Пеликан… – Нет, – ответствует мучитель. – Мыть их не следует. Свинки грязь любят. Помоешь, гадить начнут. – Так ты же говоришь не свинки это, а дочери мои? – Одно другого не исключает… И тут… Простите, ком к горлу подбирается… Ну, так, я продолжаю… Расчувствовался немного. На чем остановились?.. Ах, да. И тут вместо «хрю-хрю» раздалось, – Папа, папочка, мы так соскучились, прими нас к себе жить… Пеликану дурно, в глазах слезы стоят. А незнакомец тем временем уходить собирается, уже и феску на место водрузил. – Ты куда? – Уезжаю. Взмолился Пеликан, – Оставайся, будем в карты играть. Останься, пока Пеликанша не вернется. Пожалуйста. В подкидного. Игра не сложная. Стало быть, на хитрость пошел, – Хочешь, по копеечке? Я, хотя играю хорошо, поддаваться буду. Страшно мне одному оставаться. Отец я никудышный. Опыта не имею. Они со мной разбегутся или на скользкую тропинку ступят. – Уж если играть, так в очко. Я в очко мухлевать мастак. Между нами, конечно. – А хоть и в очко. Мне все равно, лишь бы карты, только бы отвлечься. – Нет, нет, не уговаривай, уезжаю, – отвечает шулер. – Куда? – На свадьбу. – Какая свадьба, январь на дворе? – Ваша жена после ваших проделок нашла себе нового мужа. Моложе вас и солиднее. А детей вам оставляет. – Что же я с ними делать буду? – В карты играть, вы же хотели? А можете на базар снести. Свинина нынче подорожала. Тут-то у нашего бедняги помутнение рассудка и случилось. Пистолет у незнакомца выхватил, выстрелил. Сначала в себя, потом в супостата… Дальше, известное дело, у нас оказался.
– Каким образом?
– Дочери привели. Знаете, они его любят без памяти. Всегда любили.
– Где же они теперь?
– У нас. Мы им сарай построили, кормушку сделали из ясеня. Страсть как любят ливерную колбасу. От икры отказываются, а ливерную колбасу просто обожают. Чудн’о. По вечерам поют. Великолепное многоголосие. Заслушаешься. Ноты я им поставляю. Что-то на слух подбираем… Компенсация… Компенсация, равновесие, благоденствие… А теперь скажите, к какому разряду отнесете вы поступок нашего изначально рационального героя в финале истории?
– Да, соглашусь, пример убедительный. Но это редкость из разряда курьезов.
– Нет-нет, не редкость. А теперь скажите, как должен был бы поступить Пеликан, когда бы остался в русле логики?
– Расстрелял бы свинок, разумеется. В обойме как раз восемь патронов. Случайность исключена.
– Видите, куда приводит рацио?.. А ведь это дочери его… И для кого бы я сочинял теперь романсы? Я, благодаря девочкам романсы начал сочинять…
– Удочерить не думали?
– Думал. Но при живом отце не решусь… А отец жив. Дворником у нас устроен. Поближе к своим певуньям ненаглядным.
– Убил?
– Что?
– Незнакомца-то он убил?
– Да, сразу. Наповал. Тела так и не нашли.
– Нашли. Я хорошо помню этот случай. Незнакомец, которого вы представили – Турок. Теперь я совершенно уверен. Кличка Турок. Действительно всегда носил феску. Привычка – правую руку в кармане брюк держать. У него там дырка в кармане. Возможно от заточки. Скорее всего. Опаснейший преступник. Собирался ограбить водонапорную станцию и каланчу. В его планы входила также подпольная торговля людьми и мышами, налеты на фермерские хозяйства, травля колодцев и коз, ночные поджоги и каннибализм. Он парень-то деревенский, рукастый, в ветхозаветные времена хорошим палачом мог бы стать или кузнецом… Да, теперь деревни не те. Ни дури, ни ужаса. Только крики поутру. Не то крики, не то эхо. Сом младенцев больше не караулит, бабы в кострах не гарцуют… Вашим девочкам повезло, вовремя обрели отца. В противном случае, не знаю, как сложилась бы их судьба. Этот негодяй на все способен… Собственную мать удушить мечтал. А мать его, между прочим, держала до тысячи волчат, пальцем тронуть не решалась. А сама мерзла зимой. В коровьей требухе согревалась. Деткам – щучьи головы, а сама хворостом да кизяками питалась. А сама по девичеству скучала, косы носила, мелочь считать любила, на зеркальце дышать. Зубов рано лишилась, но, по сути, девушкой жила. Много мечтала, сверх меры при такой жизни… Изнаночная жизнь. Горловое пение. Круглый год зима. В те времена все страдали. И почвенники и стратонавты. При такой жизни только волчата и рождаются. И не важно, от кого, хоть от волков, хоть от Дарвина самого. Вот Турок среди волчат и вырос. У него тоже на загривке шерсть густая была. Клыков – четыре пары. Вот мать ему феску-то и купила, чтобы от хищников отличать. А сними шапочку – чистый волк. Даже странно, что Пеликан серого в нем не рассмотрел… Думаю – не факт, что Турок мертв. Хотя ваш благородный отец тридцать шесть пуль в него всадил. Мы его опознали не сразу. Думали, тушу барана кто-то не донес, на пороге бросил. Исключительно по феске опознали… А феска его – в честь прадеда. Прадед его по отцовской линии одичавшим янычаром был. Тоже из тамбовских. Медвежатник, фартучник. В качестве своеобразного тарана в революционных волнениях участвовал. Как положено, о шести пальцах на руках и ногах. Камни грыз, когда нужда. Тоже живуч… Вы, наверное не знаете, Турок перед тем, как умереть все из дома вынес. И гобелены, и браслеты, и подтяжки, языкодержатели, стулья, коронки, скипетры, яйца, одним словом, всё. Истекая кровью выносил, будучи уже бездыханным. Только ошейник не тронул. У него перед ошейниками страх. Свободолюбивая тварь… Но и ошейник бы вынес, жадная тварь, да, видно, силы окончательно иссякли, скончался… Если, конечно, скончался… Не факт… Прадед, говорят, до сих пор по лесам шастает. Наши охотнички встретили случайно. Говорят, у него и ног нет уже, и от головы третья часть осталась… рот, часть носа, больше ничего. А всё спешит куда-то, идет напролом, только ветки хрустят. Таран. Вошел в роль. То идет, то катится. По фартуку опознали. Хотели словить, да за ним не угонишься… Опасен, и, главное, непредсказуем… Наши охотнички хотя и отрицают, выпивали, конечно. Иначе поймали бы. Они вальдшнепов налету ловят, когда трезвые… Так что вы уж тут поосторожнее. Турок чрезвычайно злопамятен. Янычары вообще злопамятный народ, а фартучники – в особенности.
– А ваши охотнички – это кто?
– Охотники.
– Понятно… Вот вы говорите, он мать свою мечтал удушить…
– Заветная мечта. Неспроста. Она его в детстве и утюгом била, и папиросами жгла. За то, что лягушек ел. От щучьих голов отказывался, а лягушек, пожалуйста, лопал за милую душу. Прямо живыми. Нарочно, назло. Знал, что она животных обожает, в особенности лягушек… Не знаю, по мне, так уж лучше щучьи головы. Все же рыба… А вы как думаете?
– Рыба – да. Рыба – хорошо… Но я о Турке. О заветной мечте. Мечтал, но всё же не удушил?
– К чему вы клоните?
– Не удушил, не поджигал, преступлений де факто не совершал. Кража яиц – это уже после смерти. Полноценным преступлением назвать нельзя.
– Да просто не успел. На Пеликана вашего нарвался… А, может быть, чтобы улик не оставлять. Улик нет – следовательно, и преступления нет. Осторожная тварь… И довольно о нем. Меня теперь Пеликанша чрезвычайно интересует. Подозреваю, за ней серьезные люди стоят… Я вам скажу, такая Пеликанша на все способна… У вас, случайно, нет ее фотографии?
– Конечно. Она у меня всегда с собой.
– То есть?.. Вы носите с собой фотографию Пеликанши?
– Всегда.
– У вас отношения?.. Вы близки? Иван Ильич, у вас что же, с Пеликаншей близость?
– Нет, конечно. Как вы могли подумать? Я этой фотографией Пеликана успокаиваю, когда он в возбуждение приходит.
– Вы уверены?
– В чем?
– В том, что не лукавите?
– Абсолютно.
Стравинский достает из кармана снимок, протягивает следователю.
Павел Петрович меняется в лице, – Что ты будешь делать?.. Я же ее знаю. Точнее, встречал. Трижды пересекались. Два раза на улице, один раз на скачках… Как же я ее сразу не срисовал?.. Старею… Она, Иван Ильич, из той банды, что преследует меня!.. Ай-я-яй… Вот как сложился кубик белобокий!
– Какой кубик?
– Кубик Рубика, злая игрушка… Образ. Метафора.
– За вами следят?
– Откуда вы знаете?
– Сами только что сказали.
– Да?.. Наверное… Сказал и сказал… Ах, ты, Боже ж ты мой! Так вот кто такая есть Пеликанша!.. Долгонько я кубик-то собирал, Иван Ильич!.. Спасибо, Иван Ильич! От всей души!
– Да за что же?
– Ноги меня сами к вам принесли. Что-то манило. В голове зуммер – пойди к Ивану Ильичу, пойди, поболтай, чаю попей, посиди, поболтай, угостись…
– Чаю?
– Нет, сейчас не отвлекайте… пойди, сходи, пойди к Ивану Ильичу, пойди, пойди… Пойди… Пойди…
Стравинский смеется, – Метафизика?
– Ее на живца ловить надо. Она вернется за Пеликаном. Одна, может быть, и с Турком…
– Но зачем?
– Пока не знаю. Возьмем – узнаем… А как вы догадались, что за мной следят?
– А как же иначе, Павел Петрович? при ваших-то целях и задачах?
– А вот это уже логика.
– Замечательный вы человек. Сам в опасности смертельной, а нить дискуссии не упускаете.
– Да, да.
– Те люди, Павел Петрович, которыми вы себя окружили по зову души, просто обязаны следить. Им вас упускать нельзя. Ни упускать, ни отпускать. А уж если вы действительно близко подобрались… Близко подобрались?
– Как бы ни так.
– Не важно… А вы их обманите. Забудьте на время. Отдохните. Поезжайте в деревню на парное молочко. Найдите там себе пейзанку… Уйдите в запой, наконец. Давно в запое были?
– Никогда.
– Скучная жизнь. Жизнь обреченного человека. Знаете, героизм – тоже своего рода занудство. Поступитесь хоть раз своей логикой клятой… Хотите вместе?
– Что?
– В запой уйдем.
– Совсем забыл. Скажите, Иван Ильич, у вас братьев нет?
– Нет, как будто. А почему вы спросили?
– Да, видите ли, в городе орудует один опасный субъект, по описанию как две капли воды похож на вас. И фамилия та же.
– Альбинос?
– Нет, но в остальном – полное сходство. По четвергам формирует преступную среду, этакий центр, очаг. Замысел пока не ясен, но недомолвки, уловки и намеки вполне определенные. Не исключаю заговор или что похуже.
– Что может быть хуже заговора?
– Комиссия.
– Комиссия?
– Комиссия, да.
– Похож на меня, говорите?
– Как две капли воды.
– А вы уверены, что это не я? – и, увидев молнию, блеснувшую в глазах детектива, тут же, – нет, конечно. Хотя агностика меня занимает.
– Так вы в курсе?
– Конечно. Среди моих пациентов встречаются четвержане. Но сам Сергей Романович пока не появлялся. Жду. Не терпится познакомиться.
– Вот и мне не терпится. Но он пока ускользает от меня. Прячется, надо сказать, профессионально… Вот зачем он людей собирает?
– Свой Ковчег строит.
– Так он и от четвержан прячется… Четвержане? так вы их называете?
– Устает. Живой человек, имеет право… Или так – первоначально людей призвал, придумал, как уберечь, защитить, а присмотрелся, тотчас иссяк. Это только кажется, что с людьми легкость возможна, исполнение замыслов, оправдание надежд… Возможна, но главным образом с сумасшедшими, а к нему всякие устремились. Не исключено – преступный элемент: злоумышленники, мясники, черные вдовы, черные кошки, ревнивцы… Однако сам Сергей Романович, сдается мне, все же чистый человек. Вот я слышал, он и стихи сочиняет, и пьет.
– Не знаю. Нужно понюхать, пощупать.
– Оставайтесь. Я вас давно приглашаю, теперь вот повод есть. Вам у нас хорошо будет. Полемику продолжим – множество любопытных фактов. Рано или поздно тезка мой придет, никуда не денется, познакомитесь. В городе вам его не поймать.
– Ну, это мы еще посмотрим.
– Нет, нет. Вы – человек рациональный, а он иррациональный. Ни за что не встретитесь, ибо шествуете в разных направлениях. Но он о вас помнит, как и вы о нем… Эго и тень, понимаете?.. Но – барьер. Невидимый забор. Метров в тридцать высотой, понимаете?.. Здесь – другое дело. Другое измерение… И Пеликаншу поджидать здесь удобнее всего.
– Разве остаться?
– И думать нечего… Засаду в палатах будете делать или в сарае у свинок?
В дверях Ольга, сливочной тенью, – Иван Ильич, простите, там отец с дочерью пришли.
– А где же Михаил Иванович?
– Не знаю, пропал куда-то.
– То исчезает, то появляется. Странный человек. долгонько с ним работаю, а так и не разгадал… Видите, Оленька, я – в полемике. А что им нужно?
– У дочери суицид.
– Завершенный?
– Отец вовремя рядом оказался. В состоянии шока повис у нее на ногах, к счастью веревка оборвалась.
– Девушка плачет?
– Нет.
– Плохо. Оформляйте обоих.
– Интересуются, можно ли взять с собой фотоаппарат.
– Как девочку звать?
– Юлия.
– Передайте Юлии – очень кстати. Тысячу лет не фотографировались. Ненавижу фотографироваться. И отца за глупость поблагодарите. Познакомьтесь, Оленька, это – Павел Петрович С. Следователь. Будет нам помогать.
Ольга приседает, нечто наподобие книксена, – Очень приятно. Ольга. – Стравинскому, – Павла Петровича тоже оформлять?
– Непременно. И как только закончите, сразу же проводите его к нашим свинкам.
4. Стравинский И. И. Объявление
Вошел в палату и объявил
У меня для вас хорошая новость. Конца Времен не будет.
Нет, не так.
Друзья, Конец Времен откладывается на неопределенное время.
Нет.
У меня для вас хорошая новость, друзья. Кажется, в очередной раз мы благополучно избежали Конца Времен. Небо взошло.
Не так.
Кажется, небо взошло. Во всяком случае, мне так показалось.
Хорошая новость.
5. Что-то наподобие волынки, но не волынка
– Значит, Стравинский, говорите?
– Так точно, – ответил бы бравый солдат Швейк, когда бы перед нами был роман о бравом солдате Швейке. Причем здесь Швейк? А какая разница? В сущности, все мы рассказываем одну и ту же историю. Меняются только время, место, персонажи и события, а так – одна и та же история. Вот, вспомнил Швейка, улыбнулся. Хорошо. Улыбнулся, зачем-то вспомнил Швейка. Хорошо.
Если настроиться соответствующим образом, или, напротив, отключиться от собственного содержания, подарить памяти вольницу хотя бы ненадолго, бросить, скажем, случайный взгляд на книжную полку, да хоть под кровать, где притаился кот или амулет, можно внезапно, вне логики, невпопад заполучить приступ радости.
– Значит, Стравинский, говорите? – Иван Ильич с фонариком в сопровождении длинноногой медсестры Машеньки, напоминающей известную балерину, осторожно пробирается по узким проходам между сумеречных коек с едва тлеющими обитателями.
Вдруг черный взрыв. Это услужливый хам, ракообразный санитар Петр зажег большой свет. Волной стоны и шорохи. Свинка Сотейников, юркнул под кровать. Палата просторная, потолки высокие. Высота потолков в Боковской психиатрической больнице такова, что если поставить одного Стравинского на плечи другого Стравинского… впрочем, я вам уже докладывал. Глаза мало-помалу пробуждаются.
– Где же он, ваш Стравинский?
– Там слева. Около окна.
– Ага, вижу. Коечку рядом для меня оставили?
– Для вас. Но Иван Ильич, зачем вам? честное слово…
– Ну, вот. Кажется, добрались. Ну, здравствуйте, Стравинский.
В интонации Ивана Ильича сдержанная радость, будто он давно ждал этой встречи. Длинноногая медсестра Машенька в смятении, зарделась, влажными глазами посматривает то на доктора, то на пациентов. Думает, что доктор не в себе. Она совсем недавно в психиатрии. Третье дежурство всего-то. Находит странным поведение Ивана Ильича.
Тем временем Иван Ильич снимает халат, брюки, сорочку, протягивает Машеньке, – Пожалуйста, не в службу, а в дружбу, отнесите ко мне в кабинет. Я сегодня здесь останусь.
– Но Иван Ильич…
– Мне здесь хорошо. Очень хорошо. Я люблю. Мне выспаться надо, а на своей кушетке я ни за что не усну. Даже с релиумом. Ну, что же вы стоите? Ступайте, Мария, простите, не знаю вашего отчества… Если нам что-то понадобится, мы вас позовем. Хотя, знаете что, принесите нам по стаканчику чая с лимоном, у меня в кабинете есть лимончик, найдете в холодильнике. Окажете нам такую любезность? – И громко Петру, – Да погасите же вы свет, всех переполошили!
Шурша, возвращается ночь. Иван Ильич укладывается, натягивает на себя одеяло, улыбается сестричке, – Как в детстве. Ну же, ступайте, ступайте. У нас так принято. Ничего, ничего, привыкнете.
– Спокойной ночи, Иван Ильич.
– Мы вас ждем…
Машенька уходит спешно. Бежит как от кошмарного сна.
Иван Ильич комкает подушку, поворачивается к соседу, – Как лягушка.
– Что?
Смеется, – Подушка как лягушка… Чуковский… не встречали?
– Нет. Не помню, как он выглядит. Точнее, не знал никогда… Ленина вижу чуть не каждый день. Милостыню просит. Неподалеку от аптеки Гуркина, урожденного Михельсона. Оказывается, мы с ним одного роста… Герпес у него. Не знали? А вот, знайте, перламутровые такие пузырьки, бросается в глаза. Не скажу, что неприятно. И он, в общем, не жалкий. Ну, милостыню просит, подумаешь? что такого? Тоже дело… У нас четыре аптеки Гуркина, урожденного Михельсона, рядком стоят, и сам Гуркин, человек-аптека, отравивший до двухсот человек сухими ваннами…. Самое главное – у нас безопасно. Чувство безусловной защищенности. Предел мечтаний человечества. Апогей человечности. Чувство много желаннее любви, уверяю вас. И теплее. Вот вам мой сказ.
– На побывку?
– В отпуск. Нужно немножко отдохнуть. Там музыка в круглосуточном режиме, а здесь – тихо, благодать… Анекдот, согласитесь. Лет сорок назад сказали бы мне, что я буду уставать от звуков… А знаете, что? А ведь я не прав. Вот сейчас вспомнил. Всегда тишину любил. Слушайте, правда, я всегда любил тишину. Интересно, да?.. И чем все это закончилось?.. Старух нет вообще. Исключительно девицы и русалки. Мельники муку молят, звездочеты звезды считают.
– Я вам рад.
– И вам не хворать.
– Разбудил?
– Нет, что вы? Овечек считаю… звездочеты – звезды, а я вот – овечек. Хотя, заметьте не свинопас. Был бы свинопасом, уж нашел бы способ усмирить вашего свинку Сотейникова. Ну, куда это годится? Чуть что, сразу шасть под койку. Поговорить с ним нужно, угостить хорошенько. И кнутом и пряником… А Нижинский к вам не заглядывает? Нет, конечно. Он все по санаториям. Я там как будто в санатории. Усадебка, дом с верандой, флигелек. Военно-морской офицер один со мной пристроился, живет. Великий композитор. Велел имени не разглашать. Говорит, если очень понадобится, напой мелодию. Я бы напел, конечно, но не могу. Ухо болит. Левое. Доктор, у меня болит ухо. Пропишите что-нибудь, промывание или капельки. Капель – по желанию. Времена года – ничто… Театр, театр… Любите ли вы театр, как люблю его я?.. Помните? Или вот еще – Не верю. Вам хорошо должно быть знакомо. Для вас это «не верю» – закон и закономерность. Правильно понимаю?.. Я тоже вам рад. Очень рад. Вы и люди вашей профессии – по сути наши. Надеюсь, вы понимаете, что я подразумеваю под этим «наши»?
– Догадываюсь. Слушайте, давно хотел спросить. У вас там действительно нет черного хлеба и селедки?
Игорь Федорович беззвучно смеется, – Да что вы? Сплошь русские рестораны. Русские да уйгурские.
– Почему уйгурские?
– А то, что русские вас не смущает?.. – смеется. – Не знаю. Да и не задавался этим вопросом.
– Ходите?
– Куда?
– В рестораны.
– У нас в рестораны не ходят. У нас, как вам сказать?.. У нас в принципе всё – кладбища. И сами кладбища, и рестораны, и театры, и филармонии. Даже цирк. Кладбища как часть пейзажа. В отдельных случаях часть интерьера. Не побывав трудно представить, конечно… Найдите как-нибудь время, пропутешествуйте к нам на недельку, другую. Полезно, честное слово, благодарить будете… Черепахи, ракитник, орешник, осинки, овсянки, ослики и лошадки пони, это все соблюдено, кладбищенские собаки и совы – это как положено. То есть не сразу соображаешь, что ты – на кладбище. Я, например, долго привыкал… Рестораны, да, тоже имеются. Сколько хотите. Не только уйгурские, конечно. Встречаются и другие, пожалуйста. Итальянская, французская кухня, пожалуйста. Моцарелла, лягушачьи лапки, пожалуйста. Шампанское – рекой… Это здесь кажется, что мы всё сами придумали, изобрели, придумываем, изобретаем, электричество, термы, публичные дома, библиотеки, канализация, национальная кухня, всё такое… Фарадей, Моцарт, Леонкавалло, Равель, опера, болеро, булыжник, орудие пролетариата, не влезай – убьет, всё такое… На самом деле всё там придумано… Видите, что получается? Цитаты, цитаты. А мы Бог весть что о себе возомнили!.. Бах – отдельная история. О нем вообще не принято говорить… Можете мне не верить, но я к Ленину неприязни не испытываю. И Гуркина, урожденного Михельсона мы привечаем. Уважения, конечно, особенного нет, но привечаем. Всех терпим… Новое понимание. Иное, совсем иное. Видите ли, всё, что здесь значимо – в действительности не имеет никакого значения. Когда это понимаешь – такое облегчение! Даже не представляете… Стоит человек или прилег… случается. оступится, упадет, в грязи вываляется, покончит с собой, наконец. Почему нет? Так ведь?.. Если знаешь, что от него ничегошеньки не зависит. Выбор – чудовищная иллюзия. Такая игра, visa versa. Иногда – азартная, иногда – не очень. Игры ведь разные бывают, согласитесь… А рестораны у нас всегда пустые. В плане посетителей.
– Зачем они вам, в таком случае?
– Как же? Для официантов. Кроме посетителей есть же еще официанты, повара, швейцары. Тоже люди. Встречаются настоящие мастера. И люди неплохие… Глупость сморозил, видите, все еще страдаю старыми категориями. Не бывает плохих и хороших людей, как не бывает плохих и хороших животных. Не сердитесь. В моем сравнении нет ничего дурного. Это – правда… Официанты считают чаевые. Официанты чаевые считают, чиновники бумаги читают, чеки, приказы, положения, постановления, положения, постановления, приказы, отчеты, письма, отчеты, читают, перечитывают, официанты считают, пересчитывают… Кто-то посуду моет, кто-то стирает… Тамерлан – и то и другое… Третьего дня кит его изблевал. Мы обрадовались, думали, Иона вернулся. А это – Тамерлан… Да, да, тот самый. Хромый. Он сам удивился, когда узнал. Думал, беженец, дворник. Вот, хромота и зуд его выдали… Где его носило? Пути Господни неисповедимы. Вот Тамерлан – то моет, то стирает. Думаю, от крови хочет избавиться. Кровушки-то, было дело, много пустил… Версия – так себе, согласен. Очередная глупость. Безвкусица. Скудоумие. Но. Не нужно бояться глупости, не нужно. Я и не боюсь. И вы не бойтесь. Пусть никто не боится глупости. Глупость – своего рода грудное молоко для обездоленных. По большому счету мудрыми рождаются только собаки и лошади. Отдельные попугаи. Объяснять, обобщать, делать выводы не нужно. Все будет мимо. Всегда мимо… Слушайте, чуть не забыл, Жар-птицу поселили у меня в саду. Я же пытался представить себе, какая она. Рисовал ей перья золотые – серебряные, всё такое. А это оказалась обыкновенная марабу. Притом какая-то разновидность невзрачная, пегая какая-то. Удрученный такой вид, кажется, вот-вот зевнет или завоет… Стоит столбиком целыми днями, смотрит с укором. Не спит, не ест. Вообще у нас кушать и спать – не обязательно. Большинство без этого обходится. Если, конечно, у кого-то страсть к подобного рода удовольствиям – пожалуйста, ешь, спи, не возбраняется. Но, в целом, как-то не принято… Мельники мелят, мясники рубят… Вот мясник бычка завалил, тот встает – и снова к мяснику… Смеется. – А я резонирую. Оказывается, ваш покорный слуга – не композитор. Нынче я – музыкальный инструмент, вибрирую, резонирую, свищу, ногой в такт топаю… И был всегда музыкальным инструментом. И все мы, так называемые композиторы в действительности музыкальные инструменты… Но я и раньше догадывался, честное слово, догадывался. Даже как будто говорил однажды, не помню точно… Что-то наподобие волынки, но не волынка… А вот чайки наши много крупнее. Вообще птицы крупнее. Там их дом. Вот вы думаете, что их дом здесь?… перелеты на юг, всё такое?.. Нет. Там их дом. А здесь птицы гостят. Ну, вот как я сейчас… Или как вы, если все же соберетесь, да к нам пожалуете. Милости просим… Вы засыпайте, меня не переслушаешь… Маша ваша чаю не принесёт, не сомневайтесь. Испугана. Женское чутье… Все же мы отличаемся друг от друга. Приблизительно так же, как вы отличаетесь от того первого человека, которого Господь создавал по образу и подобию своему и как тот, кого Господь создавал по образу и подобию своему, в свою очередь, отличался от самого Господа. Если присмотреться – одно лицо, если вдуматься – пропасть между нами… Думаете, Иван Ильич, я сейчас говорю?.. Ничего подобного. Резонирую. Инструмент-с. Музыкальный инструмент. Иерихонская труба, visa versa. Закрывайте глаза. Давайте овечек считать.
6. Легато, пожалуйста
Гроза иногда. Изредка, но регулярно. Не без этого. В определенное время. В определенные дни. Дни летят как журавли. В особенности по четвергам. А по четвергам еще и грозы. Гроза – на финал. В финале гроза не всегда оправдана, но в данном случае, думаю, лучше не придумать. Или, напротив, полное отсутствие грозы. Тоже хорошо. Главное – четверг. Неожиданно. Должно взволновать. Тех, кто еще пытается слушать. Живых, одним словом. Их значительно меньше. Уже значительно меньше, чем нас. Не удивительно, что так скудеет, так оскудело… что? Всё. Не важно. Вы же чувствуете? И я чувствую. Весь этот минор, уныние, невзрачность, цитаты, цитаты. Не мне и не вам объяснять. Пройдет время, совсем немного времени – сами все поймете. Так что мы к вам – не факт и не обязательно, а уж вы-то к нам – непременно. Не исключено – в четверг. Четверг. Четверги. По четвергам. Случается гроза. Чаще всего. Словом, с финалом определились. Октава… Чаще всего по четвергам. Почему? Не знаю, и не спрашивайте. Четверг помню отчетливо. Был при памяти. В четверг был еще при памяти. Успел много. Что значит много? Не всё, конечно, но больше, чем ожидал. Рояль? Не обязательно. Давно не имеет значения. Давным-давно. Фа. Тут ведь как? рояль сам по себе, а я сам по себе. Вот, вспомнил журавлей. Казалось бы, что особенного? Не скажите. Это сейчас не имеет значения. Но наступит, нагрянет, явится во всем своем мрачном величии четверг – вот тогда посмотрим. Как вы запоете. Да и я не прочь подхватить. Голоса нет, но петь люблю. Главным образом про себя. Внешне – кашляет человек, закашлялся, и больше ничего, а внутри такая песнь разливается, хоть Волга, хоть Тигр, хоть Евфрат. На чем остановился? Ах, да, журавли. Увидел. Увидел и вспомнил. Сразу. Без подсказок. Журавль. Журавли. Удивительные птицы. Устремились. Устремлены. Куда? Удивительное свойство. Стоит подумать или вспомнить – они тут как тут. Небо при журавлях шелковым делается. До того трется, ползет, щурится, хмурится. Как только журавли появились – полный штиль. Это – любовь. Даже не обсуждается. Любовь. Парение. Минор. Парение. Любовь – парение. Без парения любви нет. Парение – высшая цель. Смысл. Если хотите – идея. Если любите философию – вот вам основная идея. Парение. Добиться, достичь, научиться, что хотите. Вот, как только свершилось, как только пусть на немного приподнялся, оторвался – всё, дело в шляпе, как говорится, дело сделано. Свершилось. Еще говорят – свершилось. И чепчики в воздух! Музыка – парение? Парение. Синонимы. Любовь – музыка – парение. Несомненно. Предельно ясно. А я умею парить? Умел? Давай честно, на чистоту, не кривя душой, правду, ничего кроме правды, как на духу, честно, честно. Умел? Умел? Когда-нибудь? Пусть на заре, в самом начале, умел? Не умел. Никогда. Даже во сне. Невозможно. В моем случае невозможно. Другие хотя бы во сне, а у меня ночи как в шахте, угольной шахте, или в могиле с рождения. Говорят, от рождения до могилы, а у меня от рождения в могиле. Угольный юмор. Каменный. Уголь каменный, юмор каменный. Это потому, что врал будто все равно. Умру, не умру – все равно. Подумаешь, умер? все умирают. И ничего, и ничего особенного. Так врал всем, себе. Или не врал. Скорее не врал, чем врал. Уже не имеет значения. Вот собаку добрые люди отравили. Во дворе роскошный пес жил. Пятнистый такой, дворняга, дворянин, Граф, кличка Граф. Людей любил, не обожал, конечно, но любил, то есть морда умная, взгляд внимательный, но не заискивал. Не заискивал, но любил. Просто так любил, ластился иногда. А вообще – степенный, даже вальяжный. Потому и Граф. Достоинство, visa versa. Пес огромный такой, ласковый, хотя вид внушительный. Разные глаза – один зеленый, один карий. А один зеленый. Вечно за ним стайка псин поменьше увивалась. Козлик, Серый, Найда. Еще некоторые увивались, но Козлик, Серый и Найда были с ним неразлучны. Неразлучные товарищи в горе и радости. Слушались его, обожали. Тут вот какое дело – бесы к собакам не пристают. Блохи – да. А вот бесы – нет… И дети его обожали, и люди. Ну, и отравили. Кому-то подумалось, почему бы его не отравить? ну и подсунули кусочек мяса, баранины кусочек, лакомый, запашистый, у собак нюх-то, сами знаете, кусочек лакомый с крысином ядом и подсунули. Ля минор. Он довольно скоро умер. Недолго мучился. Знал, что умрет. Собаки вообще умный народ. Много кое-чего знают. И добрые люди знали, что он все равно однажды умрет. Ну и решили – чего тянуть-то? А мелкие, те, что его компания, друзья-товарищи хвостатые, Козлик, Серый, Найда после его смерти потерянные такие, добрым людям в глаза не смотрят. Как-то разбрелись, кто куда. А прежде во дворе весело было, ребятишки с Графом играли, за хвост его таскали. Вот самого крупного выбрали, вожака, и таскали. Знали, что он не укусит. Мелкие еще могут огрызнуться, тяпнуть слегка, а Граф – исключено. Во дворе, при жизни Графа солнца много было. Солнца, ребятишек. Среда была. Назавтра, стало быть – четверг. Уже пасмурно. И зверушки разбрелись, и ребятишки разбрелись. Ребятишки – по домам. Зверушки – кто куда. Пусто стало. Четверг. Но в тот четверг грозы как раз не наблюдалось. Так что тишина в финале очень даже оправдана… Вот это – я понимаю, вот это – смерть. Пауза. Видите, что я делаю? Растворяю смерть в жизни. Как сахар в кофе. Смешиваю как краски. Чтобы больно не было. Чтобы смерть можно было рассматривать как явление природы. Как дождь или ту же грозу. Не нахваливаю собачку, чтобы убить неожиданно, внезапно, а сразу приглашаю смерть, чтобы какое-то время они помолчали или поболтали, побыли вместе, одним словом, жизнь и смерть… погуляли, покатались на карусели с ребятишками, с собачками поиграли, за хвосты их потаскали. А уж потом – пожалуйста, каждая своей дорогой. Девчонки с косичками, голубыми лентами и коричневыми лентами… Всё, лавочка закрывается. Берите сахар или яд, кому что нравится и – скатертью дорога. Я, как будто здесь ни при чем. Как тот, что Графа отравил – как будто ни при чем. Двери закрыл и был таков. Не поминайте лихом. Пауза. Парение. А при жизни разве знал я, что такое свобода? Нет. Впрочем, теперь и это не имеет значения… При жизни свобода была недостижима, невозможна. В моем случае, во всяком случае. При так называемой жизни невозможна… Если парения нет – нет и музыки. Не спорьте. Аксиома. Я вывел, а я никогда не ошибаюсь. Такое свойство, дар, если хотите. То, что имеем, чем располагаем, чем живем – не музыка. Иллюзия музыки. Ибо нет парения. Это можно узнать только за три – четыре часа до смерти. За три – четыре часа до так называемой смерти. Вот теперь я это знаю. Аксиома стала теоремой и получила доказательство. Но это ничего не изменило. Ровным счетом ничего. С первой цифры. Опять с первой, да. О чем я говорил? О рояле? Да. Итак, рояль visa versa. Белый, черный, красный. Дом. Рояль как дом. С мезонином, верандой, клавишами, шахматами, чижиками, театриком внутри. Этаж, бельэтаж, партер, адюдльтер, краски, маски, мак – все как положено. Почему никому в голову не пришло хоронить музыкантов в роялях? Да потому. Покоя не будет. Покоя не будет – вот в чем дело. Хотя, конечно, когда рояль – на душе спокойнее. С роялем – безмятежность. Но это если ты – вне рояля. С другой стороны не так просто – всю жизнь вместе, и не попытаться пробраться внутрь. Не просто заглянуть – всерьез проникнуть. Пожить, хотя бы какое-то время… А здесь уже чудовищный выбор. Что-то одно. Или схорониться – или парение. Контрапункт. Видите, что получается? Ничего не получается. Ни так не получается, ни этак. Ни с журавлями – ни в рояль. А часики, между тем, тикают. Флажок ждет. Замер, что твой часовой. Вожатый, visa versa. Еще немного и финал… Ну, что там финал? Что решили? Гроза или яма?.. Трубы? Нет. Иерихонские трубы? Нет. А догадайтесь… Колокольчик. Ну, конечно же, колокольчик. Есть такая болезнь, инфаркт миокарда называется. Иногда сравнивают с выстрелом в сердце. Ничего подобного. Колокольчик. Ледяной колокольчик. Диез. Джаз. Вот, джаз кстати. Слышал, слышал. Слышал, но не успел. Да, джаз – да… снимаю шляпу, подкрались… в легкой, изысканной, сатиновой такой, пестрой… в парусиновых пиджаках, с драконами и змеями… штиблеты, то – сё… подкрались, заморочили голову, запудрили мозги, обвели вокруг пальца… шулера, пижоны, аферисты, шахматисты… облачком, свистулькой, ветерком подкрались, добрались… Добрались, да, добрались, кажется, добрались. До парения почти добрались. Да что там? Добрались. Чего уж там? Не все слышал, может быть, и добрались. Только прикоснулся. Чуть-чуть… И тотчас зажмурился… Логично. Это – логично. Пауза. С третьей цифры, пожалуйста. Четверг практически сошел на нет. Нонет, октет, септет. Ушел, покинул, был таков. Так, пара огоньков на бархате осталась, алмазы или капельки крови, капельки, да собачий лай. Вибрация. Зябь. Поодаль – зябь. За рояль садиться уже не имело смысла. Теперь уж на потом. Теперь уж там. В новой реальности. Ничего, ничего. Ничего, ничего, ничего. Когда бы не устал, будем откровенны, возможно, был бы и страх, и сожаление, когда бы не устал. А так? Хочется же нам спать. Всем. Практически каждый день сталкиваемся с этим. Не только по четвергам. Это гроза, как правило, в четверг. Есть такое наблюдение. А спать хочется и в пятницу, и в субботу, в особенности в воскресенье. Бемоль. А рояли там не редкость. Рояли, пианино. Свицкий рассказал. Из эмигрантов второй волны. Шесть раз побывал на том краю, vise versa. Клиническая смерть – белое знамя. Из простыни. Капелька красного допускается. Ибо, будучи живым, такое знамя может немного меняться. Свицкий, vise versa. Человек до чрезвычайности бесхитростный, без малейших признаков мечтательности. Так что врать не станет. То есть, соврет – дорого не возьмет. Вот он – парит. Шесть инфарктов. Шесть колокольчиков. Смерть сидит с ним на одной лавочке. Оба лузгают семечки. При этом смерть наблюдает за Свицким, Свицкий – за журавлями. Имел бы слух – был бы гениальным композитором. Смерть слух имеет. Еще какой. Обратите внимание на Генделя. У меня никогда не возникает случайных мыслей. Все, что я говорю, в отличие от философов, имеет смысл. Быть может, даже больший смысл, чем, нежели моя музыка. Ля-бемоль, до-диез. Дивный диссонанс. Зато все сразу становится на свои места. Агу. Уа. С шестой цифры, не откажите в любезности… Другое дело, на черта мне там рояль? Может моя душа хотя бы там отдохнуть? Ответ – увы, не может. Кварта. Капкан. Капканы случаются разные. Не обязательно железные крюки и зубья. Капканом может быть поцелуй или пауза. Может человек устать? Ответ. Может, но, во-первых, не всякий, а во-вторых… А что, во-вторых? Не знаю. Бемоль. Все эти терции, трели, песенки, а также дымы и запахи, что это, как не хвосты и помочи. Тянутся – потянутся… Другое тесто. Из другого теста. У нормального человека мысль таким-то образом даже не работает. Да? Послушайте, да разве я под юбки не заглядывал? Хотите, расскажу вам, что такое женщина? Я про женщин всё знаю, я даже знаю, что у них внутри. Разве речь об этом? Это – за скобками, за пределами жизни. Это – как сновидение, как, не знаю, переехать в новый дом. Любопытно, наверное, но по большому счету, не имеет никакого значения. Ну, переболели вы инфлюэнцей, ну, выбили вам зуб, в конце концов. Разве перестали вы помнить или мечтать? Опасна единственное страсть. Можно рассудка лишиться. Но если перетерпеть, если попытаться удержать себя, поверьте, в один прекрасный момент, шурша шелками, чаровницы растворятся в сумерках… Лопухи в сумерках хороши. Сияют. Пауза. Дальше – легато, пожалуйста… Нет, бекар. Ибо монолог – о себе любимом. О ком же еще имею право говорить? Как говорится, немного о себе… Мозоль. Музыкальная мозоль. Всё на физиономии написано. Всё. Плюс вреднейший человек. Плюс зануда. Видите? С три короба наговорил. А парение – это что? Абсолютное молчание. Так что…
7. Воды и зеркал
окончательный день бесконечный но явь
бестелесное яблочко блюдечко явь
быть не может но может еще акварель
небывалые знаки волнуясь вода
окончательный возраст не явь но эмаль
бестелесное яблочко блюдечко явь
бестелесное блюдечко блюдечко сон
птичьи лопасти ветра воды и зеркал
это птичьи лопатки воды и зеркал
вновь огромный во сне и мерцает и страх
вновь огромный во сне вновь беспечный и страх
пустота ворожба пустота пустота
бестелесное блюдечко блюдечко сон
вновь вернулось летать и чудесно и страх
пара яблочек свист по холодной траве
катит яблочки свист по притихшей траве
гусь прозрачное облачко гусь на бегу
день прозрачный холодный летать и летать
к сожалению только во сне под стеклом
к сожалению явь к сожалению прячь
к сожалению явь к сожалению прячь
этих мыльных картинок воздушный во сне
этих Уточкин пар задохнуться и пар
этих Уточкин краги и кожа и пар
этих Уточкин краги и кожа и смерть
этот пористый запах полет и висок
этих Тышлер приморский захлопнул трюмо
этих Тышлер захлопнул мечта как трюмо
этих мыльных чудес поворот как рассвет
этих мыльных чудес как портрет сквозняка
этих мыльных Можайский портрет старика
прощевайте аквариум небо земля
керосиновый синее всё и без дна
керосиновый матовый будто без дна
это синее небо в крылах птицелов
это синее спирт чуть живой птицелов
птиц не ловит но так называет себя
ибо летчик и свист и следы серебро
чуть живой от чудес укрывается в шкаф
чуть живой и воздушный проследовал в шкаф
там уже не ослепнуть от счастья и жизнь
этот шкаф птицелов называется жизнь
эта жизнь называется шкаф птицелов
8. Солнце. Иона
А это уже не зима. Осень или весна. Дождь. Ржавая вода прокладывает кривые тропинки на тамерлановом окне. Тамерлан не выносит подтеки на окне. Моет окно до пятнадцати раз в день. Чистюля беззаветный. Предположим, завтрак еще не завершен, а тарелка у Стравинского С. Р. освободилась, какие-то секунды, скажем, Стравинский потянулся за очередной котлетой, а Тамерлан уже тарелку хвать из-под носа и моет. Помоет – обратно поставит. Сергей Романович еще котлету съест, потянется, допустим, за водочкой – Тамерлан тут как тут. Полотенце у него завсегда на плече. В углу мыльный таз. Тарелочку протрет, вернет на место, чтобы гость не печалился, полотенце постирает, новое возьмет. Бывает, так увлечется, что сам за стол так и не присядет. А оно ему не особенно-то и нужно. Ему бы помыть, да постирать. Чистюля беззаветный. Будто бы. Чистюля будто бы.
Скорее лето.
Не чистюля Тамерлан – по делу тоскует Тамерлан, по делу мужскому тоскует. По охоте тоскует, по схватке жаркой, по кострам тоскует, по шатру с полумесяцем, по Шахерезаде, по коню златогривому, по верблюдам туманным, по вольнице сквозной, по павлинам шелковым, по власти вселенской, по веку пышному, терпит, тоскует, своего часа ждет, великого возвращения своего ждет. Это, брат – не чистюля, это желваки играют. С виду – ох, спокоен, даже чересчур, с виду как будто даже придремал немного, спокоен, ласков, добр. Очень, очень. Ему бы только помыть, да постирать. С виду чистюля беззаветный.
Было время, подтрунивали над ним. Кто подтрунивал? Да вот Стравинский и подтрунивал. Других гостей у Тамерлана отродясь не бывало. Да и откуда им взяться, если никто кроме Сергея Романовича о существовании Тамерлана и не догадывается? Ну, вот, разве что теперь Евгения Гранде в курсе, но Евгения Гранде совершенно безопасна, так как и об Евгении Гранде никто кроме Стравинского не знает, включая саму Евгению. Разве что Бальзак, да Достоевский? Так они известные молчуны. Им болтать некогда – писать нужно. Отметили Евгению, обозначили в назидание и двинулись к новым горизонтам.
Справедливый вопрос – как же так, когда он – дворник, уж жильцы-то знать его просто обязаны? Ответ прост. Дворник – это не тот бородатый громовержец с медной бляхой, что метлой гоняет местных котов, дворник – состояние духа. Именно что не души, а духа. Кроме того, речь, изволите видеть, о потаенном дворнике.
Справедливый вопрос – вот только что пурга была, а уже весна и осень? Вертится на языке – «дурацкий вопрос». Нет, вопрос, наверное, справедливый, но в каком ракурсе? Что сказать? Жизнь несется со скоростью нити. Разве не так? А какие вавилонские новости третьего дня обрушились, всех под собой погребли? Мы даже не заметили, как Земля со своей оси сошла, а говорите – зачем осень? Ну, захотелось мне, чтобы осень была. И водица, пусть и ржавая, кого-то, Сергея Романовича, например, не тяготит, а вдохновляет. Что же, он не может изредка себя побаловать?
Ну, да ладно. Итак, море шумит, солнышко светит. Голубые дельфины толкутся у самого берега, машут платочками, хохочут. Острые чайки снуют, машут платочками, хохочут. Зеленые волны безумствуют, машут платочками, хохочут. Над горизонтом стеклярусной нитью тянутся в небесную гавань корабли эскадры Рожественского.
Сергей Романович разомлел, лежит на песочке, щурится, песочком себя посыпает.
Тамерлан, свесившись с волнореза, полощет свою сорочку:
– Ну, что замолчал? Говори, давай, рассказывай, брат, кто к тебе ходит?
– Все ходят.
– Э-э, не все, Тамерлан не ходит.
– Вот только ты, разве что, и не ходишь, а так – все.
– Зачем ходят-то?
– Не знаю. Сегодня двери не открыл. Спал. Не стал открывать. Не хотел открывать. Уже не в первый раз. Стыдно. Забываю многих, вот и не открываю.
– А они все равно ходят?
– Все равно ходят.
– Кто да кто?
– Да я уже и не скажу, пожалуй. Не узнаю многих, кого-то забываю.
– Слушай, что они все время ходят? Я тоже обратил внимание – ходят и ходят, ходят и ходят. Друг к дружке ходят, просто так ходят. Ходят, ходят, а оно всё как было, так и остается. Зачем, слушай?.. Волков боятся?.. Волков, наверное. Точно волков.
– Каких волков?
– Серых, мна. Белые – редкость. Своих собственных волков боятся. В каждом волк живет, брат. Серых большинство. Белые редкость. Во мне – черный, думаю. В нашем роду черные волки, задумчивые. Разные волки, но большинство серых. Есть волки ленивые, спят, спят, проснутся, покушают, снова спят. Так и спят всю жизнь. А другой, бывает, рот, мна, откроет, а оттуда волчья пасть. Так и норовит выскочить. Бывает, выскакивают, убегают, потом ночью возвращаются, о колени трутся, домой просятся. А, бывает, выскочит, огонь увидит, и сразу назад.
– Мой спит. Я вообще сомневаюсь, есть ли у меня волк.
– Спит, не сомневайся, брат, твой спит покуда. Ты и сам поспать любишь. Я, маленьким был, тоже спать любил. Но, видишь, имя такое дали – особо не забалуешь. Воевать нужно, понимаешь? Не понимаешь? Судьба такая, мна… Послушай, вот ты – Сергей. Кликни тебя «Сережа», ты уже нежный как тюльпан. Скажи «Сергей» – лоб нахмуришь. Кликни «Серега» – в поход соберешься, водки выпьешь. А мне, брат, что делать? Тамерлан. И так Тамерлан, и этак. Я по настоящему мясу тоскую… У меня друг был. Тимур. Читай, тот же Тамерлан. Имя одно – звучит только по-разному. Грузчиком был, мна. Прятался как я. Наверное, такие же котлеты кушал. Водку не пил, сильный был, сильнее меня. Водку совсем не пил…
Тамерлан умолкает надолго.
Стравинский приподнимается на локтях, – Ты чего замолчал-то? Ты живой?
– А?
– Ты чего замолчал?
– Вдумался, мна.
– Что с Тимуром случилось? Ты про Тимура рассказывал.
– С Тимуром-то? Тимур к тебе больше не придет, Сережа. Тимур терпел, ждал, волк его терпел, ждал, потом выскочил на волю, ну и… сожрал Тимура.
– Как это?
– Тимур сказал, мяса хочу, не сказал – крикнул изо всех сил. Так сказал, что лавины с гор сошли.
– И что?
– Сам себя приготовил. Сначала пальцы нашинковал, на доску положил и нашинковал, потом дальше, дальше, так всего себя нашинковал, приготовил… Сильный был человек. Сильнее меня… Понимаешь, брат… только тебе скажу, я тебе доверяю, все равно забудешь… мне прятаться нравится. Я одному быть полюбил. Водку с тобой и котлетами пить полюбил. Только с тобой, больше ни с кем. Одному быть полюбил… Ионой назвать нужно было. Ошиблись маленько… Прятаться полюбил, как Иона, мна… Страдаю, брат. Раздвоился. Мыслей не удерживаю… Волк мой воет по ночам. Ни у кого не воет, а у меня воет… Я домой, в горы уже не хочу. Жить еще не начал, а уже не хочу. Понимаешь?.. Стирать полюбил, посуду мыть. Сначала драил все от ненависти, мна, в сердцах. Все стереть хотел, жизнь свою стереть хотел, себя стереть хотел. А потом как-то чищу казан, хорошо помню, казан чистил, чищу, и вдруг понимаю – нелюбви нет больше, мна. Терплю, конечно, соки во мне все еще бродят, но нелюбви нет больше… Если нет нелюбви, любви тоже нет… Как воевать буду? Как без любви воевать?.. Волк мой юлой во мне вертится, ходуном ходит, а мне не муторно, покойно даже. Смешно мне, не тревожно, смешно. Думаю, за хвостом гоняется, детство вспомнил. Такая глупость в голове. Несерьезно, глупо… То есть я и мой волк перестали слышать друг друга. Как так жить, брат?.. Мне нельзя так жить, понимаешь?.. Тимур – здоровый человек, мна, здоровый! Меня родили – здоровья желали, мне болеть нельзя, никак нельзя!.. Стыдно, понимаешь? Стыдно чахнуть… Вот оно солнце. Явилось. Тимур ждал солнца. Долго ждал. Вот – дождался. И что он делает?.. Рубашку полощет, мна… Прополощет, что сделает? Пойдет с тобой, на песок ляжет, пузо греть будет, мна. Это как называется? Это Тамерлан называется?.. Прости, брат, сейчас меня не слушай. Сейчас болею, видишь… Пойду, в воду брошусь, искупаюсь…
Бронзовый Тамерлан разбегается, складывается щучкой, прыгает. Море не успевает принять его. Из пучины вырастает косматая морда кита. Мглистый зев исполина разверзается и поглощает человека-волка.
Сергей Романович к тому времени задремал, и трагическое похищение друга пропустил. По пробуждение он будет звать его, недолго, так как разного рода исчезновения в практике агностика – обыденность. Возьмет тамерланову сорочку и пойдет прочь от беспощадного полуденного солнца.
Примечание
Автор осуждает практику суицида, одного из самых чудовищных явлений в истории человечества.
Примечания
1
Агностицизм (от греч. а – отрицательная приставка, gnosis – знание, agnostos – недоступный познанию) – филос. учение, утверждающее непознаваемость мира.
(обратно)2
Эрдман Юрий Карлович. Учился в Томском университете, на медицинском факультете, который окончил в 1926 году. Карьеру психиатра начинал в Томске, потом работал по той же специальности в Рязани. Оттуда переехал в Москву, в клинику известного психиатра и исследователя П. Б. Ганнушкина. Имел контакты со всемирно известными психиатрами: О. В. Кербиковым, В. М. Морозовым, А. О. Эдельштейном, А. Н. Молоховым. С 1935 по 1937 год совмещал учёбу в аспирантуре с серьёзными научными исследованиями. В частности, занимался синдромом Корсаковского психоза. В июне 1941 года по инициативе органов НКВД был отправлен на Алтай. Причиной этому послужило его немецкое происхождение. Там в октябре 1941 года он принял должность врача-ординатора при психиатрическом отделении городской больницы Барнаула. Позже назначен заведующим психиатрическим отделением. До 1947 года был единственным в Алтайском крае квалифицированным врачом-психиатром.
(обратно)3
Visa Versa (англ.) наоборот, обратно, обратным образом.
(обратно)4
Материалы интернета.
(обратно)5
Экзистенциализм [тэ], -а, только ед., м. – иррационалистическое направление в западноевропейской философии и литературе, ставящее в центр изучения и изображения человеческое существование (экзистенцию) и утверждающее интуицию как основной метод постижения действительности.
(обратно)6
Предоставлено для цитирования Е. И. Моденовым.
(обратно)7
Иммануил Кант. «Критика практического разума»
(обратно)8
Иммануил Кант. «Критика практического разума»
(обратно)9
Казачья песня.
(обратно)10
Мандельштам О.Э «Как на Каме-реке глазу тёмно, когда…»
(обратно)11
Комплекс храмов, затерянных в джунглях Камбоджи.
(обратно)12
Пифия или Pytxoness. (Греч.) Современные словари поясняют, что этот термин означает ту, которая изрекала предсказания в Дельфийском храме, а также «любая женщина, которая считается обладающей даром предсказания, – ведьма» (Вебстер). Это ни верно, ни справедливо, ни правильно., по авторитетным утверждениям Ямблиха, Плутарха и других, была жрицей, избранной среди сенситивов беднейших слоев и помещенной в храм, где развивались ее пророческие способности. Там она имела комнату, уединенную от всех, за исключением верховного Иерофанта и Провидца, и, однажды принятая, была, подобно монахине, потеряна для мира. Она сидела на треножнике из желтой меди над расселиной в почве, через которую поднимались опьяняющие испарения; эти подземные испарения, проникая во весь ее организм, вызывали пророческую манию, и в этом анормальном состоянии она изрекала предсказания. Аристофан в «Vaestas», I, reg. 28, называет Пифию ventrilogus vatas или «чревовещательной прорицательницей», из-за ее чрево-вещания. Древние считали, что душа человека низший (Манас) или его личное самосознание, помещается в пупе. В четвертом стихе второго гимна «Набханедишта» браминов мы читаем: «Внимайте, о сыновья богов, тому, кто говорит через свой пуп (набха), ибо он приветствует вас в ваших жилищах!» Это есть сомнамбулический феномен современности. В древности пуп рассматривали как «круг солнца», местопребывание божественного внутреннего света. Поэтому оракул Аполлона находился в Дельфах, городе Delphus, что означает утроба или живот – тогда как место где находился храм, назывался omphelos, пуп. Как известно, многие загипнотизированные субъекты могут читать, слышать, осязать и видеть через это место своего тела. В Индии по сей день существует верование (а также у парсов), что в пупах у адептов имеется пламя, которое освещает им всю тьму и раскрывает духовный мир. Зороастрийцы называют это лампой Дештура или «верховного Жреца»; а индусы – светом или излучением Дикшита (посвященного).
Теософский словарь Е. П. Блаватской
(обратно)13
Иммануил Кант. «Критика чистого разума»
(обратно)14
А. А. Брусилов.
(обратно)15
А. С. Пушкин «Медный всадник»
(обратно)16
А. К. Толстой
(обратно)17
Журнал «Светская жизнь» за 1896 год.
(обратно)18
Б. Л. Пастернак.
(обратно)19
Ab ovo – в буквальном переводе «с яйца». Устойчивый фразеологический оборот, обозначающий «с самого начала».
(обратно)20
Журнал «Светская жизнь» за 1896 год.
(обратно)21
Из беседы И. Ф. Стравинского с Н. Д. Касаткиной и В. Ю. Васильевым 10 мая 1966 г.
(обратно)22
Из материалов интернета.
(обратно)23
Из материалов интернета.
(обратно)24
Из материалов интернета.
(обратно)25
Из материалов интернета.
(обратно)26
От яйца до яблок (лат.)
(обратно)


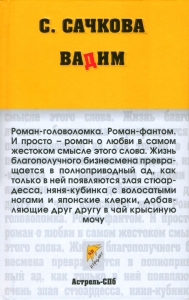


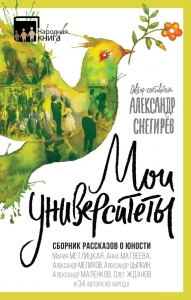
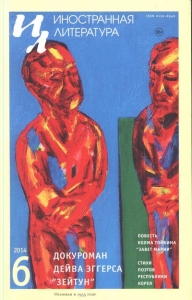
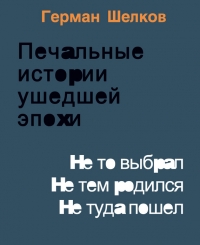

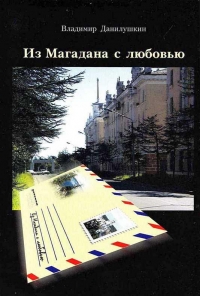

Комментарии к книге «Стравинский», Александр Евгеньевич Строганов
Всего 0 комментариев