Ольга Шумяцкая Я иду тебя искать роман Рассказы
Я иду тебя искать
I
После Его смерти она еще какое-то время танцевала. Недолго, лет десять — пятнадцать, не больше.
Он умер внезапно. Сам даже не заметил, как умер. Дело было на традиционном воскресном обеде. Каждое воскресенье мы собирались у Него в точно назначенное время. Обед сервировался по всем правилам этикета. Салфетки. Разумеется, не бумажные. Три ножа, три вилки, несколько бокалов. Скатерть белая. Цветных он не любил, говорил, что это плебейство. Одна из наших девушек варила суп, другая готовила второе, третья — десерт. Порядок приготовления менялся каждую неделю. Если, предположим, в прошлый раз Наталья жарила курицу, то в этот пекла пирог с яблоками и корицей (и то и другое она проделывала с мученическим выражением лица, так как готовить не любила и никто, кроме Него, не мог ее заставить это делать), а в следующий выходной варила щи, куриную лапшу или грибной суп. Да. Грибной суп.
В тот день Ольга как раз сварила грибной суп. Все сидели вокруг стола — каждый на своем месте, освященном Его желанием видеть нас во время трапезы в определенной симметрии, — и смотрели, как Он ест грибной суп. Не то чтобы нам запрещалось есть суп вместе с Ним. Просто так повелось: сначала ест Он, мы ждем, Он заканчивает, кладет ложку, произносит какую-нибудь оценочную реплику типа «Вкус мог бы быть более выраженным! Это же солянка, а не пюре!» или «Не хватает кислоты! В борще необходима кислота, разве я не говорил об этом в прошлый раз?» — после чего мы облегченно вздыхаем, хватаемся за ложки и, не обращая внимания на нехватку кислоты, плохо выраженный вкус и прочие недостатки, принимаемся за еду. Повторяю: так повелось. Ну и что? В каждой компании свои привычки.
Он упал лицом в грибной суп, съев примерно половину тарелки. Я не очень хорошо помню, как кто отреагировал на эту внезапность. Не помню выражения лиц. Ну бросились, конечно, подняли, прислонили к спинке стула. Стали обмахивать. Первая моя мысль, разумеется, дурацкая: «Поскользнулся, упал, очнулся — гипс». Как поскользнулся? Где? На чем? Каким образом? Сидя на стуле? Дурацкие мысли в экстремальных ситуациях — моя отличительная особенность. Но вот четкая картинка: Его голова откинулась назад, глаза устремлены на трещину в потолке, Ольга хватает салфетку и судорожными движениями принимается вытирать с Его лица коричневую грибную жижу.
Позже, когда тело уже увезли, говоря о Его смерти, обсуждая ее обстоятельства и то впечатление, которое она произвела на каждого из нас, мы испытывали странное облегчение. Выяснилось, что смерть — это минутное дело. Если не секундное. Даже если очень страшно или очень больно, можно пережить. Наталья выразилась в том смысле, что ранняя смерть — насилие над природой. Денис возразил:
— Слишком поздняя тоже насилие над природой.
Ольга просто скулила. Алена курила. Гриша подвел итог дискуссии.
— Умирать надо вовремя, — сказал он.
Оригинально. Гриша вообще очень оригинален. Но тут вдруг все замолчали. Застыли. Ольга перестала скулить. Алена — курить. Наталья — скручивать в трубочку салфетку. Денис — стучать пальцами по краю стола. Гриша поднял унылый нос и с испугом взглянул на меня.
— Ну да, — сказал я. А что я мог еще сказать?
Ну да, ну да. Вот в чем дело. Он не сумел вовремя умереть. Его смерть была слишком ранней и оттого неправильной. И от этой неправильности — неприятной. Лично нам — всем вместе и каждому в отдельности — неприятной. Не в том смысле, что смерть — в общем и целом очень приятное дело, а эта без спросу выбилась из общего бодрого, радужного ряда. Но каждый из нас лично чувствовал себя оскорбленным Его смертью.
Мы молча глядели друг на друга и понимали, что впредь больше никогда не будем говорить между собой о Его смерти. Почему? Суть ясна. Он так много требовал от нас, что сам должен был быть безупречным. И был. Правильный мальчик. Эталон. Застывшая идеальная пропорция. И вот правильный мальчик, эталон совершил ошибку. Умер не вовремя, неправильно, надругался над природой. Но Он не смел совершать ошибки! Это было предательством по отношению к нам, тем, кого Он так муштровал! И мы не собирались прощать Ему эту единственную случайную небезгрешность, в которой Он не был виноват. Природа виновата. Однако… Он нас разочаровал. Обидел. Оскорбил. Не посчитался с тем, как все эти годы выглядел в наших глазах.
Как Его назвать? Миша, Вася, Петя… Из соображений деликатности не хочется называть Его настоящее имя, тем более что оно такое необычное. Никто из известных мне людей такое имя не носил. Эксклюзивность имени являлась для Него предметом отдельной, очень внутренней гордости. Он никогда не говорил об этом, но мы-то знали. Этой своей гордостью Он, кстати, не отличался от обычных людей — всех этих Феликсов, Мадлен, Натаниэлей, Изабелл, пышно названных недалекими родителями в честь кинозвезд и покойных родственников и считающих, что эксклюзивность имени подтверждает эксклюзивность личности. Не отличался, а думал, что не имеет к ним, обычным, никакого отношения. В общем, я не хочу называть Его настоящее имя и придумывать другое тоже не хочу. Пусть будет просто Он: С большой буквы. Из практических соображений: чтобы на письме не путать Его с остальными местоименными гражданами.
Кстати, в тот самый день она и выскочила. В день смерти. В принципе ее появление стало еще большей неожиданностью, чем сама смерть. Короче, она пришла, встала в дверях и сказала:
— А вот и вдова. Не ждали?
В одной руке сумка с вещами, в другой — ребенок.
— Сходите за коляской. Я оставила ее в подъезде, — строго приказала она.
Гриша сразу вскочил и побежал вниз за коляской. На самом деле никакой вдовой она не была. Ребенок — не от Него. От первого мужа. Три месяца. Девочка.
— Интересно, — протянула Алена своим ленивым таким, немного скучным голосом. — Если ребенку три месяца, куда вклинился второй муж?
Действительно… Да, но откуда она узнала о Его смерти? Очень просто. Его выносили — она заходила. То да се, из какой квартиры, а не поможете ли коляску в подъезд завезти? Санитары помогли.
Есть на свете такие девушки, у которых на один сантиметр времени приходится чертова масса событий. Это девушки с повышенной вертлявостью жизни. Такую спросишь: как, мол, прошло утро? При этом не имеешь в виду ничего особенного. Просто хочется узнать: как спалось, как настроение, звонил ли любимый, был ли кофе достаточно горяч. Девушка открывает рот, и тут же обнаруживается, что за означенные два часа ей пять раз сделали предложение, украли кошелек, она попала в автокатастрофу, чуть было не эмигрировала в Америку, побывала в милиции на опознании особо опасного преступника и забыла накрасить один глаз. Именно из породы таких милых непосед была наша новоявленная вдова. Нам она не внушила доверия. Сразу стало ясно — аферистка. Потом оказалось — нет, не аферистка. Просто сумасшедшая. Глядя на нее, мы второй раз разозлились на то, что Он обвел нас вокруг пальца. И второй раз испытали облегчение. Обрадовались, что Его образ дал еще одну трещину. Был такой железобетонный, несгибаемый человек, не подверженный сомнениям и слабостям, человек твердых принципов и гранитной воли, которая твою маленькую слабенькую волю расплющивает на раз, как яйцо всмятку. Рядом с Ним всегда казалось, что делаешь что-то не то. В общем, Он заставлял держать спину. Не позволял расслабиться. В моральном смысле. Ольга после развода так ни с кем ни разу и не… скажем, не дружила. Несколько лет. Он говорил: «Давай-ка, матушка, без проблядовок. Я этого не люблю. Ко мне никого не приводи, да и к себе не советую». Ну она и слушалась. Можно, конечно, сказать, что Ольга — курица. Хорошо. Ольга — курица. А мы-то? Никому из нас и в голову бы не пришло Его обмануть. Может, именно поэтому теперь мы жаждали его развенчания?
Я не припомню, чтобы мы хоть раз собрались у Ольги, или у Алены с Гришей, или у Натальи с Денисом. О себе не говорю — квартира у меня холостяцкая, для нашей компании совсем не подходит. Мы собирались только у Него, и Он очень строго следил, чтобы не было чужих. Иногда, правда, удавалось кого-то протиснуть в наши сплоченные ряды, но только с Его одобрения. Однажды Алена привела подругу детства. Весь вечер Он молча наблюдал за объектом, а на следующий день позвонил Алене на работу и посоветовал тщательней фильтровать людей. Так и сказал: «тщательней фильтровать». Впрочем, что сказала о Нем подруга, вообще осталось за кадром. А интересно было бы послушать. Ну ладно. Фильтровали мы людей, фильтровали, и вот, пожалуйста. Айседора Дункан с посторонним младенцем на руках. Па-де-труа, по естественным биологическим причинам в тот знаменательный день превратившееся в па-де-де. Как будто Он сам наплевал на собственные правила. Потому и облегчение — теперь уж и у нас волюшка вольная. И сразу возмущение. Выходит, ему можно было? А нам? Выходит, Он нас обобрал? Обкусал нашу жизнь, как горбушку? Корочку поджаристую съел, а нам оставил непропеченный добропорядочный мякиш?
Нам бы горевать. А мы-то…
Причина возмущения крылась на самом деле не столько в том, что Он нас обобрал, сколько в том, что мы сами себя обобрали. Позволили себя обобрать. Посадили на свою голову Гудвина, великого и ужасного. Оставался вопрос: а если это любовь? Я имею в виду девицу с младенцем. Он что, полюбить, что ли, не мог? Еще как мог! Но в любовь почему-то никто не верил. Почему?
Поражали щеки. Круглые, штрифельные щеки потомственной пейзанки. Прямо шарики воздушные — не ущипнешь. И вся она была такая плотная, широкая, как будто ее только что вынули из маслобойки. Несмотря на балетное прошлое. Однако статус вдовы предполагал душевную травму. И она стала несчастной. Не сама, конечно. Мы помогли. Она, может, и не подозревала о том, что надо быть несчастной. Нет, не может быть, а точно. Она даже не старалась, чем вызывала в наших девушках чувство здорового возмущения ее цинизмом. За нее старался Гриша.
— Она такая несчастная! — сказал Гриша и посмотрел на нас своими печальными девичьими глазами.
У него всегда был въедливый взгляд. Еще в детстве — смотрит не мигая, будто душу вынимает. Хочешь не хочешь, а полбутерброда отдашь. А тут — особенно. Ольга, как обычно, кивает. Алена усмехается. Ей вообще все эти несчастные не очень, но надо ведь соответствовать. Против всех не попрешь. А все сидят и дергают головами, как китайские болванчики. Мол, да, да, такая несчастная!
— Надо ей помочь, — бормочет этот придурок Гриша.
И все — да, да, обязательно помочь, как же не помочь!
— Возьмем ребенка на себя! — пилит свое Гриша.
Все замирают. Это уж ни в какие ворота. Зачем нам чужой ребенок? Тем более от первого мужа? Но Гриша пялится своими сопливыми глазами, и все опять — да, да, обязательно возьмем! Как не взять?! Хотя внутренне ежатся и вместе со стулом начинают потихоньку-полегоньку пятиться от этого ребенка прочь.
Я молчу. Меня никто никогда ни о чем не спрашивает. Так повелось. Это потому, что я курю. А может, потому, что я сам всегда хотел, чтобы меня оставили в покое. А когда человек курит, получается, что он вроде бы занят делом и нечего тут к нему приставать с идиотскими вопросами. И вот я сижу в углу, занимаюсь делом и попутно думаю о том, как же все-таки велика сила инерции. Мы так привыкли хором кивать в ответ на благородные порывы. Интересно, когда мы будем делать головой те движения, что хочется, а не те, что нужно? И вот еще: сколько времени люди живут под инерцией чужой воли?
Да, но все-таки яблочные щеки и имидж убитой горем вдовы, меланхолической ундины… как-то не того… какой-то диссонанс в этом имеется… какая-то диковатость, сравнимая разве что с фуэте посреди шестиметровой кухни. Кстати, первый раз мы увидели ее танец именно на кухне, когда сели пить чай. Мы уже немножко пришли в себя, хотя общая пришибленность оставалась. Хотелось подкрепиться, и Ольга, слегка бодрясь, включила чайник и выставила на стол чашки — с красными и золотыми жар-птицами, милая старомодная привычка хозяина дома привозить посуду из провинции, с орнаментами местных народных промыслов, все попытки перевести его на толстостенные керамические кружки, купленные, между прочим, в не самых дешевых магазинах, оказались безуспешными. Итак, Ольга выставила чашки, ошибившись на одну. Чего и следовало ожидать. Наталья ойкнула и быстро убрала одну чашку в сушку. Алена передернула плечиком.
— А… может быть, вдова тоже хочет чаю? — пискнул Гриша.
— Вдове поставили, — процедил Денис сквозь зубы и, мягко нажав на плечо Гриши, опустил его на табуретку. Гриша заткнулся.
Вдова поставила коляску в коридорчике между кухней и туалетом и примостилась к ее ручке, как к балетному станку. Мы сидели вокруг стола и смотрели, как она сначала закидывает ногу на ручку коляски, а потом делает резкий поворот и откидывает ногу в сторону. Нога пролетала над столом, и мы испуганно хватались за свои чашки. Тут надо еще сказать, что мы не ожидали эстрадного выступления в день Его смерти. Мы вообще, если честно, его не ожидали. Тем более без предупреждения. Даже негуманно как-то. Все-таки мы скорбим. Натурально, все оторопели.
— Что это было? — спросила Алена, когда танец закончился.
Позже выяснилось, что в детстве нашу вдову водили в балетный кружок и это обстоятельство сильно повлияло на ее психику. Говорят, ее учила какая-то знаменитая балерина, вышедшая в отставку после Великой Отечественной войны. Старые балерины считают, что балет — это красиво. Не совсем так. В том смысле, что в жизни балетные па смотрятся довольно-таки диковато. Короче, проведя полгода в объятиях старой балетной грымзы, наша девочка поехала крышей. И ехала всю оставшуюся жизнь. Ну, простой пример. Она любила, закинув ногу выше головы, нажать, предположим, на выключатель. Или на кнопку лифта. Присутствующие вздрагивали. Привыкнуть к такому энергичному самовыражению было практически невозможно. С годами, особенно после нескольких родов, ее габариты размахнулись не на шутку и способность закидывать ногу несколько поослабла. С выключателей она перешла на дверные ручки, ведь дверные ручки расположены не так высоко. Тем не менее даже в случае дверных ручек приходилось подходить к ней сзади, обхватывать за талию и, сделав резкий рывок, так, что руки впечатывались снизу в ее тяжелую грудь и тонули там, как два жаворонка в тесте, приподнимать ее над полом. Дело нелегкое. Этим занимался обыкновенно Гриша, что привело его в неплохую физическую форму. Я всегда отлынивал, за что получал тычки от Ольги. Но мне-то зачем? Я и так два раза в неделю хожу в спортзал, чего и Грише всю жизнь желал от чистого сердца.
Тем временем вдова, оттанцевав, села за стол, схватила красно-золотую жар-птицу, жадно отпила и сделала программное заявление.
— А я ребенка жду. От Него, — сказала она и откусила большой кусок хлеба с вареньем.
Ее звали Женя. И это было главное наследство, которое Он нам оставил.
Ах да. Еще вопросы. И первый: где Он ее подцепил?
— Где Он ее подцепил? — с ужасом спросила Наталья, когда вдова отлучилась на полчасика покормить ребенка.
Алена кивнула на портрет. Этот портрет, вернее, большая фотография, закатанная в рамку, появилась у Него в квартире недавно. На фотографии крупным планом было обозначено окно в дождевых потеках, за окном — разрезанное переплетом на несколько частей лицо девушки. Длинные волосы, низкая челка, почти закрывающая глаза. Дождевые потеки создавали эффект заплаканного лица. Таких фотографий миллион на штуку на любой выставке. Но что-то в лице девушки Его поразило. Он влюбился. Купил фотографию, разузнал у фотографа адрес, разыскал девицу. Ею и оказалась наша Женя. Возник еще один вопрос: что же Его поразило в ее лице? Ответ простой. Есть такие специальные девушки, у которых на лице написано, что они не такие, как все. К сожалению, Он не знал второго ответа: еще есть специальные девушки, у которых на лице написано совсем не то, что они собой представляют на самом деле. На лице у Жени крупными буквами были написаны оба варианта. Но Он разглядел только первый.
Вопросы не иссякали. Как Он мог ничего нам не сказать? Почему скрыл? Что, настолько не считался с нашим мнением? Как вообще мог — с ней, с такой… хм… неоднозначной? А может, она врет? Может, не было ничего? А если и было, то не то, что она нам впаривает? И ребенок не Его? Как теперь проверишь? Тут возникает всеобщее недоумение, переходящее в тяжелую интоксикацию, потому что выясняется, что Гриша все знал. И про фотографию, и про выпрошенный адрес, и про все остальное — собственно, он Алене и рассказал. Гриша со своими соплями, значит, тайный поверенный, а мы-то?
С Гришей Его связывали странные отношения, как будто Он в Грише нуждался. Но понять суть их отношений мне удалось значительно позже.
Мы с Ним жили на одной лестничной клетке, учились вместе в школе. Гриша тоже с нами учился. Сказать, что мы дружили, значит, сильно погрешить против истины. Он меня вроде бы и не замечал. Я ему тоже не симпатизировал. Он был мне скучен. В Нем была тяжелая нарочитая невыразительность, стертость закомплексованного человека, который боится проявить себя даже в мелочах. Но это я понял и сформулировал гораздо позже. А в детстве, особенно в отрочестве, — просто скучно и все. Неохота вступать в общие игры. Разговаривать не о чем. Читаем разные книжки. Таскаем в карманах разные железяки. Гоняем мяч в разных компаниях. Так что о Его школьных годах подробно рассказать не могу, тем более что и учились-то мы в разных классах. Помню, что Гриша бегал за Ним по пятам. Это все. Потом Он с родителями уехал на Север и вернулся через несколько лет, как раз к поступлению в институт, уже один. Родители там остались. Я даже не знал, где Он учится. Только удивлялся мимоходом, столкнувшись с Ним на лестнице: у человека свободная квартира, а никаких следов и примет приятного времяпрепровождения. Надо быть стоиком, честное слово. Впрочем, Он в мои дела не лез, так чего я в Его лезть буду? И тут вдруг — прошло довольно много лет, институты мы позаканчивали, и времена стояли такие вольные, необременительные — Он подходит ко мне на лестничной клетке и говорит:
— Почему ты не работаешь?
Я прямо обалдел.
— То есть?
— Почему ты не работаешь? — повторяет Он. — Я не вижу, как ты уходишь на работу.
— Я тоже не вижу, как ты уходишь на работу.
— Это разные вещи, — говорит Он.
— Отчего же? Не вижу никакой разницы.
Он молчит и пристально на меня смотрит. Исподлобья и с некоторой долей агрессии. Как овчарка, ожидающая от хозяина команды «Фас!». Я понимаю, что для Него совершенно очевидно, что это действительно разные вещи, что Он сам — очень разная вещь, ни к чему и ни к кому не относящаяся. Что я Его, наконец, серьезно оскорбил сравнением со своей тленной персоной. Для Него вообще было многое очевидно, что совершенно неочевидно для других. Но тогда я этого не знал, поэтому отмахнулся от своих смутных ощущений и продолжал заливаться:
— Представь, я вот сижу тут у себя за дверью и думаю: «А чего это я не вижу, как Он уходит на работу? Непорядок! Надо выяснить! Проконтролировать! На что Он живет? Вдруг по ночам банки грабит?» Представил? А теперь представь, что я подойду к тебе при всем честном народе, прямо посреди улицы подойду, и спрошу: «Ты перестал грабить банки по ночам?» Что ты ответишь? Да или нет? Да или нет? Отвечай быстро! Не думай!
Он хмуро молчал. Я думаю, Он меня не понял. К тому же впоследствии выяснилось, что Он не читал «Карлсона», что очень неважно Его характеризовало. Но тогда я этого тоже не знал. Он молча повернулся и ушел. А я остался, очень довольный собой. Через неделю Он пригласил меня зайти в субботу на вечерний чай. Хотел познакомить с друзьями. «Вот молодец! — подумал я. — Умеет держать удар!» Да ничего подобного! Ничего Он не умел. Он просто сделал заход с другой стороны. Не удалось приструнить — надо приручить. Ему это удалось. Впрочем, не до конца, не до конца. Хочется надеяться. Или все-таки до конца? Ведь степень свободы — такая относительная вещь. Тем более степень разрешенной свободы.
Итак, мне казалось (точнее, хотелось верить!), что я не входил в Его ближний круг. Появиться на воскресном обеде — пожалуйста. Пройти два шага по лестничной клетке к соседней двери — ради Бога. Но за этой соседней дверью — извините, у меня свое место в сторонке. Я наблюдатель. Не — упаси Боже! — засланный казачок. Просто сижу курю, улыбаюсь, вступаю, если надо, в разговор, выполняю правила игры. Мне нетрудно. Потому что все равно. Он это знал, и я знал, что Он прекрасно это знает. В этом была Его слабость. Но мы оба ее скрывали. Кстати, когда я пришел к Нему впервые на тот знаменательный субботний чай, то был сильно разочарован. Собственно, ничего особенного я не ждал. Но чтобы такая скучища… Сидят на стульях люди — а было нам всем тогда лет по двадцать пять, ну да, точно, начало 90-х, по двадцать пять, не больше, — так вот, сидят люди на стульях, пьют чай, Он разглагольствует, что-то там о политике, об экономике, об искусстве, как водится, короче, обычный суповой набор. Все внимают. Господи, а я-то что тут делаю? Огляделся. Квартира точно в таком же виде, как была двадцать лет назад при Его родителях. Телевизор «Рубин». Другой техники не замечается. Я решил немножко оживить атмосферу. Говорю с придурошным английским акцентом:
— Предлагаю срочно перебазироваться ко мне и уыпить уодки. Кто «за»? Чур я первый!
Гробовое молчание. Я пру дальше напролом через бурелом:
— Есть музыкальный центр, а также кассеты с последним фильмом Вуди Аллена и легкой эротикой.
— Если ты хочешь бывать здесь и впредь, то должен знать, что мы собираемся просто поговорить. Пообщаться. Это духовное общение, понимаешь? — сухо произносит Он.
Понимаю. Не понимаю только одного: я что, хочу здесь бывать? Я, что ли, напрашивался? Я встаю и ухожу. Все смотрят на меня с ужасом.
Какого черта я вернулся в следующую субботу! Посмотреть на монстров. Ненормальное притягивает. И затягивает.
Впоследствии подоплека нашего взаимонепонимания и взаимораздражения стала мне ясна. Она носила топографический характер. Мы жили на одной лестничной клетке, двери наших квартир находились рядом. Его, если подниматься по лестнице, прямо, моя — направо. Понятно? Нет? Мы жили за перпендикулярно расположенными дверями, в перпендикулярно расположенных квартирах. Наши жизни текли перпендикулярно друг другу. Вот и весь секрет.
Через неделю Он позвонил в мою квартиру — чего, кстати, раньше отродясь не бывало — и снова пригласил на субботний чай.
— В той же компании? — спросил я.
Он очень серьезно и пристально посмотрел на меня, будто хотел загипнотизировать. В Его глазах мне почудилась тень осуждения.
— У нас очень сплоченный коллектив, — произнес Он тихим, слегка заунывным голосом, словно старый учитель, читающий давно надоевшую лекцию. — Мы очень уважаем друг друга.
— Ну, раз уважаете, тогда конечно, — пробормотал я.
На субботу у меня были свои планы, но отказаться показалось неудобным. Впрочем, не буду врать — я бы с удовольствием отказался, если бы не дурацкая мысль, что в прошлый раз произвел на этот сплоченный коллектив неправильное впечатление и неплохо бы его исправить. Сам сплоченный коллектив был мне до фени. Но вот произведенное впечатление… Ага, вот в чем дело. Не на монстров поглазеть. Самому не остаться в чужих глазах идиотом с легкой эротикой в башке. Стало быть, гордыня.
Потом я задавался вопросом: если эти ребята были мне настолько безразличны, какая разница, произвел я на них благоприятное впечатление или не очень? Выходит, разница есть. Такого рода глупого тщеславия я раньше за собой не замечал. А может быть, раньше никто не смотрел на меня с тайным осуждением. Сейчас я думаю, что именно этим Он меня и взял. Мне все время хотелось перед Ним оправдаться, отчитаться за прожитую жизнь, доказать, что я не так плох и вообще — значительно лучше, чем предполагается. А Он все время как бы отодвигал меня в сторону и недоверчиво усмехался: ну, посмотрим, посмотрим. А я опять на цыпочки. А Он снова: ну-ну, хм-хм… Так и продолжалось.
Был ли Он хорош собой? Силен? Значителен? Умен? Не знаю. Не припомню, чтобы Он хоть раз высказал какую-то оригинальную мысль или проявил силу характера. Его личность не предполагала столь обычных определений и проявлений. Он был таким, каким был. Высказывал свои суждения безапелляционно, но не более. Более Ему было не нужно. Может, в этом и содержалась Его сила, значительность и ум? В том, чтобы позволять себе безапелляционность? Ведь в случае с Ольгой — том самом, когда Он запретил ей личную жизнь, — Он просто высказал то, что хотел, не считаясь с ее чувствами, планами, надеждами, желаниями. А прозвучало как запрет. И никто не вякнул. Я ни разу не встречал других людей, позволяющих себе запрещать чужую личную жизнь.
Так Он преодолевал груз комплексов. Однако преодолевал не очень успешно. Жизнь, продолжившаяся уже без Него, это доказала.
II
После похорон случилось сразу несколько вещей. Не знаю, с какой начать — с той, что случилась раньше, или с той, что по значению крупнее? Начну, пожалуй, с самой незначительной и буду двигаться по восходящей.
Когда гости ушли (а интересно, можно ли называть гостями людей, которые пришли на похороны и поминки?), так вот, когда гости разошлись, Женя проявила чудеса хозяйственности, быстренько собрала посуду, отволокла ее на кухню, засунула остатки еды в холодильник, сделала пару фуэте, свернула скатерть и вытряхнула ее с балкона. Вместе с крошками она вытряхнула Гришин передний зуб. У Гриши был зуб на присоске. Иногда, уставая от него, как от тесных ботинок, Гриша тихонько вынимал его изо рта и незаметно клал рядом с собой на стол. Мы всегда с пониманием относились к этой Гришиной особенности. Даже Алена давно перестала пилить его за неприличное в ее понимании разбрасывание зубов и только просила не делать этого в присутственных и публичных местах.
В день похорон зуб особенно утомил Гришу, потому что норовил вывалиться изо рта при каждом всхлипе. Гриша долго крепился, но в конце концов не выдержал, вытащил зуб и примостил на скатерти рядом с поминальной кутьей. А потом отполз в спальню погоревать на свободе. Наверное, эти слова, которые вырвались у меня совершенно случайно — «отполз в спальню», эти выражения, которыми я описываю Гришино действительно искреннее горе, могут показаться циничными, бесчувственными. Но это не так. Нам всем было гадко и — главное — непонятно. Что произошло? Как это могло случиться? Как это так — Его нет? Не может такого быть! Никогда такого не было, а теперь есть? Да это розыгрыш. В это невозможно поверить. Мы все были придавлены. Просто у Гриши есть личная особенность — причитать, как старая бабка, над каждой разбитой чашкой. Так что его причитания, в данном случае вполне уместные, сами по себе уже не представляли никакой ценности. И оттого всем нам было слегка неловко за него. Стыдновато. Все мы вздохнули с облегчением, когда он укрылся в спальне.
Итак, он сидел в спальне, в этот момент Женя и подсуетилась. Она ведь ничего о зубе не знала. Гриша постеснялся ей рассказать. Когда пропажа обнаружилась, Гриша тоненько взвыл, а мы переглянулись. Общее мнение: с этой девицей хлопот не оберешься. Уже были звоночки. Этот — не первый. Я имею в виду первых мужей, детей и ее столь экстравагантное и вместе с тем своевременное появление в нашей жизни.
Гриша бросился во двор искать свой зуб. Ольга побежала за ним. Стоя на балконе, мы наблюдали, как они ползают в палисаднике, роясь в сухой земле, перебирая щепочки и заглядывая в пустые пивные бутылки. Наконец Гриша треснулся башкой о железное ограждение, и поиски безуспешно завершились. Гриша вернулся в квартиру, улыбаясь нам застенчивой щербатой улыбкой. Увидев его, Алена сплюнула и ушла курить на кухню.
Событие второе: мы познакомились с Жениным папой. Не знаю, зачем она его притащила. Выяснилось, что с покойным он знаком не был. Однако папа пригодился для заполнения брешей. Народу пришло на удивление мало. Бабушки из соседних подъездов, два двоюродных брата с женами, ну, мы, разумеется… Ожидать паломничества тут, конечно, не приходилось. Не тот был человек. Круг друзей налицо, а круга общения у Него не было. Но вот что странно: не было ни одного человека с работы. Ни одного! Почему?!! Нет, так не бывает. Я понимаю, близких связей Он там не завел. Но все же… Такой известный ученый. Пользовался огромным авторитетом среди коллег. Написал чертову прорву научных трудов. Защитился. Может, не один раз. Сделал массу открытий. К сорока годам наплодил аспирантов. Нарисовал не один десяток очень важных формул. И — ни-ко-го. Ни последователей, ни соратников, ни учеников, ни почитателей таланта. Странно. Может, до кафедры еще не дошло печальное известие? Может, мы в агонии последних двух дней, понадеявшись друг на друга, просто забыли им сообщить?
Между тем наши девушки в ожидании большого наплыва посетителей наготовили гору еды и притащили от соседей дополнительную посуду. Тут-то папа и оказал нам свою неоценимую помощь.
Этот папа оказался румяным дородным господином при бабочке. Он обильно плакал, утираясь носовым платком в крупную клетку, делал губами дрожание и производил звук типа «тпрррр». На кладбище он широким изящным жестом положил на гроб пунцовую розу, глубоко вдохнул и запел приятным лирическим баритоном. Мы переглянулись. Не успели мы переварить балет, а тут опера на подходе. Между тем папа пел задумчивую песню о том, что «если друг оказался вдруг», это очень хорошо и надо обязательно устроить ему проверочные тесты с целью выяснения: настоящий это друг или так себе, самозваный гражданин с примесью фальшивого золота. В процессе пения папа привлек к себе Женю, по-отечески прижал к груди и нежно поглаживал рукой по голове, как бы сокрушаясь о ее несчастной судьбе. Выходило, что Женя в этой истории — пострадавшая сторона и что друг так-таки оказался самозванцем, предал ее в самый неподходящий момент: оставил с чужим ребенком на руках в сумеречном настоящем и со своим на подходе в проекции далеко не светлого будущего. Женя прижималась румяной щекой к обширному папиному животу, обтянутому по периметру жилеткой в красную и зеленую клетку, и стреляла по сторонам острым глазом. Закончив пение, папа громко высморкался и предложил немедленно ехать домой, чтобы «как следует покушать за упокой».
Дома он сел во главе стола и принял на себя роль тамады. Стол вел умело, говорил пространно, иногда сбиваясь на воспоминания. Так мы узнали, что когда папа был на гастролях в Воронеже, то, возвращаясь с концерта в самом веселом расположении духа, перепутал двери и попал в номер к одной командированной… «Далее умолкаем, чтобы не смущать почтеннейшую публику». А на гастролях в Душанбе папа опоздал на концерт, потому что поклонники и — папа особенно на этом настаивал — поклонницы, собравшиеся на улице восторженной толпой, не давали ему пройти к зданию театра, хватали на руки, подкидывали вверх и издавали приветственные возгласы. «Далее умолкаем, дабы почтеннейшая публика не заподозрила нас в некоторых преувеличениях». В процессе рассказа папа резво жестикулировал, делал плавные артистические движения руками и иногда, особенно расчувствовавшись, подносил ко рту сложенные щепотью пальцы и легонько прикладывался к ним сочными губами. Как следует выпив, папа раскраснелся, завел какой-то анекдот, спохватился, помрачнел лицом и поднял тост «за здоровье дорогого покойника». Потом он спал на диване, вздрагивая всем телом, вскрикивая и оттопыривая мизинец на привольно откинутой в сторону мясистой руке.
Папа был бывший конферансье из Москонцерта. Я потому о нем так подробно рассказываю, что папа своим сочным искрометным выступлением на похоронах и бушующей термоядерной энергией как нельзя лучше характеризовал нашу Женю. Она была девушка не только с тяжелым прошлым, не только с обильно нашпигованной очень разными сортами начинки личной биографией, но и с отягощенной наследственностью. Если делать сравнения, то Женина биография напоминала кулебяку, какой ее стряпали когда-то, в художественной литературе позапрошлого века: раскатываем тесто, на один край кладем стерлядочку, на другой — капусточку с яичком, на третий — говядинку с лучком, на четвертый картошечку с грибочками, сверху еще слой теста, на один край нежное мяско перепелочки, на другой горсточку риса с тем же яичком, на третий — потрошков куриных, на четвертый — вязиги, ну и так далее. Есть все вместе. Кусать большим укусом. Женя рвала жизнь такими невероятными громадными кусками, что на ее крепких белых зубах похрустывали одновременно вещи, люди и явления, совершенно друг с другом несообразующиеся. Ее, очевидно, не смущало разнообразие вкусов, запахов и специй, мешавшихся в ее луженом желудке и всеядной душонке, как папу не смущало диковатое смешение жанров, которое он продемонстрировал на похоронах и поминках: от высокой трагедии до фарса, от мелодрамы до комедии абсурда.
Итак, событие следующее, третье: Ольга встретила Виктора. Я не знаю, как точно это произошло. Не следил за ними. Виктор этот, здоровенный лось, как впоследствии выяснилось, странных, даже диких кровей — что-то там полутатарское, полуеврейское, полуармянское, черт его поймет, — так вот, Виктор этот со своей черной бородищей и темной, подозрительной, бандитской мордой с крупным носом и маслянистыми сливовыми глазами неизвестно откуда взялся. Добиться от него, кто он, собственно, такой и кем приходится покойному, не удалось. Если учесть, что с работы никто не пришел, значит, Виктор имел личные связи с Нашим другом. Но Наш друг никаких личных связей ни с кем не имел. По крайней мере таких, о которых было бы известно нам. Алена предположила, что Виктор зашел просто так. Шел мимо, видит — у людей застолье, так почему бы не зайти, не пообедать? Двери же открыты. Денис предложил набить ему морду и в процессе битья как бы невзначай выяснить, кто он такой и зачем явился. Но Ольга воспротивилась. К тому времени она уже не спускала с Виктора глаз. Мы тоже решили не омрачать и без того печальное событие. Виктор остался и единолично сожрал почти весь студень, который принесла бабушка из соседнего подъезда.
В конце вечера Наталья отозвала меня в сторонку, зажала в уголке и сообщила, что Ольга целуется с Виктором на лестничной клетке. При этом она многозначительно косила глазами куда-то в сторону. Я не знал, что делать. Не место было и не время целоваться. Да и сам Виктор — тип сильно сомнительный. В общем, ситуация двусмысленная. Даже несколько неприличная. С другой стороны, Ольга — взрослая женщина. И кто я такой, чтобы преподавать ей правила поведения и вмешиваться в личную жизнь? Мое отличие от Нашего общего друга в том и состоит, что я не чувствую за собой никаких прав на других людей. Мне бы с собой разобраться.
Я выглянул на лестницу. Виктор почти положил Ольгу на перила и сам навалился сверху. Сзади я видел только его огромную спину, клочки бороды, торчащие из-за ушей, и Ольгину голую ногу, гладкую и блестящую, как будто специально отполированную для такого случая, которую она просунула между ног Виктора. Я постоял молча, поглядел на эту прелестную картинку, поскреб в затылке и пошел обратно в квартиру. Наталья ждала меня в том же углу с жадными глазами.
— Ну? — прошептала она, судорожно сглатывая.
— Все под контролем, — сказал я. — Просто дружеское общение. Где еще людям знакомиться, как не на свадьбах и похоронах? Не нужно искать темы для беседы. Хоть один, а общий интерес всегда найдется.
Наталья обреченно вздохнула. Она, конечно, ждала другой информации. А я подумал: Ольга дорвалась. Проблема в том, чтобы не сорвалась.
После того как бабушки из соседних подъездов и двоюродные братья разошлись, мы молча сидели за остатками чая. Ощущение у меня было странное: вокруг роится множество мелких дел — со стола собрать, посуду помыть, стулья расставить, забрать домой скоропортящиеся продукты, холодильник разморозить, — а дальше-то что? Что дальше делать?
Может сложиться впечатление, что ни у кого из нас не было своих дел. Вроде как Он умер, а мы тут же растерялись — как жить дальше? Ходить ли на работу? Ездить ли в отпуск? Рожать ли детей? Вроде как без Его руководства жизнь дальше не пойдет. Это неправда. Пойдет, как у всех нормальных людей. Но вот, в общем… так сказать… в целом… Что нам дальше делать друг с другом? Что с нами будет — не с каждым в отдельности, а со всеми вместе? Будем ли мы — МЫ? После того, как не стало скрепляющего материала? Как цепляться друг за друга, не имея сцепки? И надо ли нам это? Вот что было непонятно. «А тебе-то надо?» — спрашивал я себя. Ой, не знаю, не знаю. Мне казалось, все думают о том же и так же, как я, не могут ответить на этот вопрос. Но все думали совсем о другом. Все упорно молчали о наследстве.
Сказать, что наследство у Него было пустячное, значит не сказать ничего. Никакого наследства у Него не было. Никакого, кроме квартиры. Вот об этой квартире все и молчали. Если бы среди нас не было Жени с ее большими знаками вопроса, никому бы в голову не пришло размышлять о квартирном вопросе. Но Женя среди нас была. И ее сомнительный еще неродившийся ребенок тоже. Как она себя поведет? Женя вела себя естественно. Она с аппетитом ела апельсин. Мы смотрели на нее. Формально никакой квартиры Жене не полагалось. Кто она Ему? Никто.
Н-да. Вот еще одна неправильность. Сидит женщина. Ест апельсин. Никто она, и звать ее, по иерархической классификации, предположим, жэковских и милицейских работников, никак. Но есть ребенок. И ребенок этот — ого-го кто. Прямой наследник. Но ведь ребенка тоже нет. Еще нет. Или все-таки уже есть? Ну хорошо, есть ли, нет ли — все равно. Будет. И как ему в подобной ситуации отстаивать свои законные права? Будучи младенцем с копеечным стажем жизни? Неправильно все это, неправильно. Получалось опять же, что наш друг недосмотрел, недодумал, не предвидел. Короче, облажался.
Женя доела апельсин, вытерла рукавом липкий подбородок и сказала:
— Цитрусовые очень полезны для эмбриона. А где сделать анализ ДНК?
— А зачем? — спросили мы хором.
Женя посмотрела на нас со снисходительной жалостью:
— А вы что думаете, я отдам квартиру этим придурочным дядькам?
— Каким дядькам? — продолжали мы валять идиотов.
— Двоюродным братьям. Ребенок имеет право…
Конец фразы потонул в убийственно-красной кремовой розе, которую Женя столовой ложкой соскребла с торта и целиком засунула в рот.
— Углеводы очень полезны для эмбриона, да, Женечка? — с большим сарказмом спросила Наталья, но Женя ее не услышала. Она пыталась проглотить розу, что удавалось ей с трудом. Розы оказалось значительно больше, чем вмещал Женин довольно губастый и зубастый рот. Пока она боролась с розой, возник еще один вопрос.
Денис закурил и закинул ногу на ногу.
— Женечка, — мягко сказал он. — Ты, наверное, не знаешь, а может быть, просто не подумала, да, да, мы знаем, — он сделал предостерегающе-успокаивающий жест рукой, хотя Женя и не думала возражать, — такие переживания, такой стресс, это так по-человечески понятно, ты так переволновалась, что это просто не пришло тебе в голову, но для определения отцовства нужен анализ ДНК не только ребенка. Ты понимаешь, о чем я говорю?
— Понимаю, — сказала Женя, которая во время этого спича успела проглотить розу и целилась на зефирину. Она положила зефирину прямо на белую скатерть, встала, засунула руку в тугой карман джинсов и извлекла оттуда маленький полиэтиленовый пакетик. — Вот! — И торжествующе потрясла пакетиком над головой. — Волосы. Срезала в морге.
Денис поперхнулся дымом. Наталья отшатнулась. Ольга пискнула. Алена ахнула. Гриша инстинктивно закрыл лицо руками. Виктор, который зачем-то остался с нами, хмыкнул. «Ах ты…» — подумал я. Далее — непереводимая игра слов.
— Ну и что! — с вызовом бросила Женя, увидев нашу реакцию. — А может быть, я на память! Должен же ребенок, в конце концов, знать отца на ощупь! Интересы ребенка важнее всего!
И она встала в третью позицию.
— На па-амять! — проблеял Гриша. — На па-амять! Это так трогательно, так волнительно, так прекрасно — взять что-то на память! Нам всем надо обязательно взять что-то на память о нашем дорогом, незабвенном друге!
Все зашевелились. Гриша редко высказывал идеи. А среди тех, что высказывал, редко попадались вразумительные. К тому же он любил, чтобы было «на память». Гриша был сентиментален. Из Прибалтики он тащил куски черепицы, с моря — гальку и булыжники, из Африки приволок какие-то скрюченные кактусы (они потом долго гнили у него на комоде, издавая кошмарный запах, пока Алена их не выбросила), из всех столиц мира, в которые его вывозила Алена, тянул бумажные подставки под пиво и нашлепки на холодильник с видами набивших оскомину достопримечательностей. Гриша был королем общего места. У него так: если Лондон — то непременно Биг-Бен, если Париж — то Нотр-Дам, а если любимый друг — то трубка покойного на память. За неимением трубки Гриша готов был взять грязные носовые платки, спичечные коробки, детские фотографии, чашку с золотыми и красными петухами и прочую дребедень — все равно, лишь бы предмет «хранил тепло руки и души…». Что он еще там плел в подобных случаях?
В общем, на память. Но в данном случае нам понравилось его предложение. Оно отвлекало от главной темы. Хотелось взять тайм-аут, отдохнуть, повертеть в руках никому не нужные безделушки, пообсуждать, кто что возьмет, успокоиться. И тут снова встала Женя.
— На память?! — с глубоким недоумением произнесла она. И дальше как бы в раздумье: — На память… Хм… На память… А кто, собственно, вам разрешил брать тут что-то на память?
Действительно, кто?
— Женечка, — опять мягко начал Денис, но Женя прервала его резким жестом.
— В этой квартире у всех вещей есть хозяин… хозяйка, — сухо сказала Женя, держа спину очень прямо. — И с вашей стороны будет большой бестактностью копаться в чужих вещах без разрешения.
— Во-первых, не чужих, — так же сухо сказал Денис, мгновенно отбрасывая свой обманчиво мягкий тон и вставая на защиту Гриши и нашего права чувствовать себя здесь почти родственниками. — Во-вторых, что значит копаться? Никто не собирается копаться. Мы просто хотим взять какие-то мелочи в память о друге.
Женя оглядела наши напряженные лица и дала задний ход.
— Хорошо, — неохотно сказала она. — Можете взять что-нибудь из… из… — она обвела взглядом комнату, сервант с посудой, платяной шкаф, полочку с безделушками, книжные полки с аккуратно расставленными собраниями сочинений и наконец остановилась на пустой блестящей поверхности письменного стола, — из… из письменного стола. — И, не удержавшись, добавила: — Так уж и быть.
Гриша бросился к столу и рванул на себя верхний ящик. Ящик оказался заперт, но Гриша в остервенении экстаза все дергал и дергал его. Дергал до тех пор, пока замок с громким хрустом не вывалился из гнезда, а ящик не свалился на Гришину ногу. Гриша ойкнул, резко перегнулся пополам, схватился за лодыжку и уставился на ящик. Ящик был пуст. Почти пуст. На застеленном старой пожелтевшей газетой днище лежала тетрадка в темно-зеленом клеенчатом переплете. Судя по ее виду, тетрадку покупали в те времена, когда она еще стоила 44 копейки. Одной рукой продолжая держаться за ногу, Гриша протянул вторую руку и взял тетрадку. На зеленую обложку был наклеен квадратный кусочек клетчатой бумажки, вырезанный из школьной тетрадки по математике. «ДНЕВНИК» — значилось на бумажке. Буквы были выведены идеальным ровнехоньким почерком Нашего друга.
— Дневник? — растерянно пропищал Гриша.
— Дневник? — эхом повторила Ольга.
— Дневник? — хором воскликнули мы.
III
Сейчас, наверное, самое время вернуться к вопросу, который я задавал себе в самом начале. Почему Он имел на нас такое влияние? Откуда она взялась, Его власть? Эта безграничность власти? Нет, нет. Все-таки я продолжаю настаивать — мой случай совершенно особенный. Повторяю еще раз и буду повторять впредь. Я — сторонний наблюдатель, не больше. Меня попрошу не причислять. В подтверждение своей отдельности скажу, что стены Его квартиры я всегда покидал без оглядки. И жизнь свою за стенами этой квартиры строил без оглядки. Очень личную и очень активную жизнь. В отличие от остальных. Те были у него как на ладони. А я был как на ладони только тогда, когда физически был на виду.
Ну, с Ольгой, положим, понятно. Ольга — курица. Ей лишь бы к кому прилепиться. Главное — печь пирожки, смотреть в рот и делать испуганное лицо при известии о том, что молоко скисло. Когда она разводилась с мужем… Впрочем, начну с другого.
Как они все с Ним познакомились? Ольгин муж, к примеру, учился с Ним в институте. Я видел его пару раз вместе с Ольгой на лестничной клетке, когда сам еще не был допущен в ближний круг. Муж этот имел вполне пристойный вид, и даже странно было, почему его взгляд остановился именно на Ольге. И в ранней молодости, и сейчас она имела одинаково бутылочный вид. Говорят, у женщин бывают ноги бутылочками, а Ольга вся напоминала бутылочку… бутыль. Сверху узкая, в области груди резкое расширение и затем плавное постепенное округлое расширение до самого низа. Лицо у нее нежное, бледное, невыразительное, неопределенное, с застывшим выражением покорной готовности к самому худшему, волосы светлые, постриженные так, что невозможно запомнить, какая у нее прическа. Она даже костюмы носит темно-зеленого и коричневого бутылочного цвета. С будущим мужем лет пятнадцать назад ее познакомила мужнина тетка, спевшаяся в этом вопросе с теткой Ольги. Тетки дружили по дачному вопросу. Их участки находились в одном дачном кооперативе. Знакомство Ольги с будущим мужем было организовано тетками как классическое сватовство. Чай, варенье, жених и невеста с вытянутыми лицами и деревянными спинами. «А наш Мишенька на все руки мастер: и гвоздь прибьет, и машину починит, и обои поклеит», «А наша-то Оленька уж такая кулинарка, такая кулинарка, такая хозяюшка, просто страсть, и аккуратная, и бережливая, вы кушайте, кушайте, это она сама варенье варила»… Мне кажется, они поженились, чтобы отвязаться от теток. Хотя я тоже могу ошибаться. Кстати, тетки крупно поссорились на свадьбе из-за каких-то ложечек и впоследствии не разговаривали друг с другом до конца жизни. Мишенька ушел от Оленьки года через два. Ушел довольно некрасиво. Оказалось, что у него еще до знакомства с Ольгой была женщина в Звенигороде с двумя детьми. Именно из-за детей он на ней и не женился. Боялся себя связать. Но тут покумекал и решил из двух зол выбрать меньшее. Ольга оказалась в черном списке. Наш общий друг, конечно, не мог одобрить такой шаг и высказал Мишеньке все, что о нем думал. Причем публично. Кстати сказать, Мишенька ни в коем случае не был с Ним дружен. Даже накоротке и то не был. Просто заходил пару раз по какой-то надобности и один раз по старой институтской памяти наведался с Ольгой на день рождения.
И вот в этом почти обезличенном, холодноватом и постороннем формате отношений Наш друг собирает у себя дома весь подотчетный ему коллектив кроликов и делает Мишеньке выволочку. Мишеньке, натурально, не нравится, что кто-то столь грубо вмешивается в его и без того разболтанную, раздолбанную и запутанную личную жизнь. Действительно, какого черта! Примерно в таких, только гораздо более радикальных, выражениях Мишенька и высказывается. «Да пошел ты! Указывать мне тут, козел придурочный!» — сказал Мишенька, но ушел почему-то сам, причем громко хлопнув дверью. С тех пор мы его не видели. Зато Ольга осталась с нами навсегда. Она была благодарна Ему за то, что Он единственный, кто поддержал ее в этой истории, не догадываясь, что Его поддержка имела в основе своей не благородство характера, а холодную арифметическую соразмерность и логичность натуры. Просто так, как поступил Мишенька, было неправильно, следовательно, все, связанное с Ольгой и ее несчастной судьбой, было, наоборот, правильно. Вот и весь фокус. Ольгина благодарность не знала границ. Она обволакивала всех нас душным ватным коконом заботы, и укрыться от нее не представлялось никакой возможности. Да Он и не пытался. Мы тоже. Какой смысл?
Любопытно же другое. Ольге ни разу не пришла в голову мысль, что именно из-за Нашего друга, из-за того, что он так резво бросился на ее защиту, практически рухнула вся ее дальнейшая жизнь. Не прими Он сторону Ольги, не была бы она так Ему благодарна, а не была бы благодарна, не попала бы в зависимость, не дала бы право вершить свою судьбу и имела бы сейчас нормальную семью или по крайней мере здорового мужика для интимных надобностей. В общем, на мой взгляд, тут не за что было говорить спасибо. Счастье, что Ольга столько лет этого не понимала.
Совершенно другая история связывала Его с Гришей и Аленой. Я долго не догадывался, а потом узнал от Натальи (она специально увязалась за мной, когда во время одного из наших субботних сборищ я отлучился к себе в квартиру за сигаретами, это было в самом начале моего внедрения в компанию, и Наталья боялась, что я — не дай Бог! — не узнаю кое-чего вкусненького, остренького, поэтому и побежала за мной якобы захватить сахар, а на самом деле нашептать кое-что на ушко). Так вот, от Натальи я узнал, что Алена довольно долго была девушкой Нашего друга. Где Он с ней познакомился — тайна. Об этом никто не знал и так никогда и не узнал. А вот что с Аленой делать, не знал сам Наш друг. Жениться Он не собирался, а что еще с девушками делают, не догадывался. Нет, ну, догадывался, конечно, просто ничего не мог себе позволить из высокоморальных соображений. С Аленой нельзя было просто так. С Аленой надо было всерьез. И вот что Он придумал. Он подарил Алену Грише. Не подарил даже. Всучил. Передал в приказном порядке. Провел по реестру списанных вещей. Гриша — я уже говорил об этом — со школы волочился за Ним по пятам, в рот смотрел, портфель таскал, за хлебом бегал, служил как мог верой и правдой. У Гриши такая натура — он служил бы кому угодно, совершенно искренне, не требуя за свою службу ни дивидендов, ни привилегий, ни благодарностей, но никого другого подходящего поблизости не оказалось. Наш друг с эдаким вот Гришей и без того казался себе суперменом (на поверхностный взгляд), а тут еще выпала возможность почувствовать себя благодетелем, крестным отцом чужого счастья. Как не воспользоваться случаем? К тому же Он скорее всего действительно считал, что поступает благородно. И по отношению к Грише, и по отношению к Алене.
Гриша принял Алену как милость падшему.
Как это произошло? Да очень просто. Была какая-то вечеринка в институте. Обычно Он вечеринки не жаловал, а тут пошел и Алену с собой прихватил. На вечеринке подвел ее к Грише. Гриша заранее был научен тому, что следовало делать, а тут еще Аленина залихватская красота — черное на белом, алое на белом, синее между черными гусеницами ресниц, модельная стать, хрупкость тонкого лица. В ее красоте было — да и сейчас есть — что-то надменное. Как будто она одним выражением лица останавливала всякого, кто — весь нараспашку — радостно кидался к ней. «Стоп! Красный свет! Ни с места!» — молча говорила она. И ты на полном скаку спотыкался об этот барьер. Она и Гришу так же остановила, коротко взглянув на него своими ледяными глазами. Ну, он и обалдел. Робко, шепотом пригласил на танец. Когда танец закончился, предложил проводить домой. Алена оглянулась — а где же ее кавалер? Кавалера не было. Алена пошла за Гришей, озираясь по сторонам. Всю дорогу до дома молчала, а у подъезда сказала: «Зайди, чего уж там». Она уже поняла, что кавалер не вернется.
Рядом с Аленой Гриша смотрелся странно. Дробненький, сутулый, с ранней плешью, опущенными плечами, печальным висячим носом и лицом, сообщающим миру извиняющееся выражение — он извинялся за всех вместе, за каждого в отдельности и в особенности за самого себя. «Вот живу я тут на планете Земля — извините, Христа ради, если можете». На неподготовленного зрителя он производил впечатление немного придурковатое, и присутствие рядом с ним победительной Алены на того же зрителя действовало как электрический разряд под водой. Но это так, необязательное отступление, мало ли кто кому не подходит, мало ли кто с кем рядом присутствует, кого мы никогда не посадили бы за одну парту. Живут же люди вместе, не разбегаются, значит, нормально им, и нечего нам приглядываться и прислушиваться к биению чужой жизни.
Я хорошо представляю себе, как Алена с Гришей ложатся вместе в постель. Ну просто ложатся, и все. Алена не глядит на Гришу. А чего на него глядеть-то? Нагляделась уж. Она раздевается спокойно, равнодушно и так же спокойно и равнодушно залезает под одеяло. Гриша, напротив, слегка суетится. Ему хочется, чтобы Алена обратила на него внимание. Ему каждый день этого хочется, наверное, оттого, что желаемого он никогда не получает. Гриша возбужден, он поскуливает и подрагивает всеми членами тела. В таком состоянии он тоже залезает под одеяло и начинает рассказывать Алене, что сегодня случилось у него на работе. Он ждет реакции. Реакция Алены: она машет рукой, мол, отстань, помолчи хоть секунду, дай книжку почитать. И раскрывает детективчик в бумажной обложке. Потом она гасит свет и… И что? Гриша осторожно трогает ее пальчиком за плечо? Тычется в шею мокрым ртом? Наваливается сверху? Бррр! Не могу себе этого представить! Не могу даже представить, что мог бы это представить!
Меня на самом деле занимал другой вопрос: не почему Алена осталась при Грише, а зачем ходила все эти годы на наши вечеринки, продолжала поддерживать с Ним отношения, дружила, выполняла требования строгого соответствия Его личным неукоснительным стандартам? Ведь по одной ее прямой упрямой спине, похожей на древко стрелы с острием маленькой пронзительно-гордой головки с гладко зачесанными черными волосами, видно было, что никаким Его требованиям она на самом деле не соответствует, что соответствует она только своему внутреннему устройству и ничему больше. Так что же? Что же? Я думаю, она Его любила. Вот так просто — любила и все. Еще я думаю, что ее любовь имела очень яркий окрас реваншизма. Она хотела Его вернуть. На год, на день, на час, на минутку, на сколько угодно — лишь бы вернуть. Не получилось. Я уверен… Нет, разумеется, ни в чем нельзя быть уверенным на сто процентов, особенно если речь идет о таких тонких материях, и все же: не было у нее с Ним ничего за эти годы ни разу, голову даю на отсечение. Иначе она давно перестала бы таскаться за Гришей и — фьють! — только мы ее и видели на унылой кухоньке окнами на север в старом фартуке Его мамаши, готовящей суп с фрикадельками в побитой эмалированной кастрюле к воскресному обеду. Алена и фрикадельки! Ха! Только за главный приз, который она так и не получила и к которому стремилась почти двадцать лет. Но вот что мне непонятно. Вот что скребло меня все эти годы. Мне представлялось, что Алена не из тех женщин, которые опускаются до того, чтобы возвращать себе кого-либо. Она представлялась мне женщиной, которую саму приходится возвращать. Видимо, я ошибался. И почему-то мне было это очень неприятно.
Кстати, у них с Гришей был ребенок — несуразное существо лет пятнадцати, по всем статям и статьям Гришина кровь. Иногда, когда они приводили его на наши посиделки, я ловил странный и отстраненный долгий взгляд, каким смотрела на своего сына Алена. Как будто не смотрела, а рассматривала, как рассматривают чужестранного диковинного зверя.
Итак, Ольга досталась Ему от малознакомого Мишеньки, Гриша — из школы, Алена — неизвестно откуда. Наталья с Денисом следовали за Ним от дверей института. В институтах почему-то обязательно случаются некрасивые истории. Наверное, потому, что в умах и телах двадцатилетних существует некая жизненная неустойчивость. Их легко можно качнуть в любую сторону. Так и получается: то кто-то кого-то изнасилует под Новый год в общаге, то передерет статью из научного журнала и выдаст за свою, то «настучит» на лучшего друга. Наталья с Денисом на первом курсе «стучали» по комсомольской линии, на втором — по кагэбэшной, на третьем были премированы за плодотворный «стук» студенческой стажировкой в капстране и были зачислены кандидатами в члены партии, а на четвертом советская власть кончилась и плавно превратилась в антисоветскую: ведь поступали они в 82-м, при Брежневе, а заканчивали в 87-м, при Горбачеве. Вернее, не кончилась еще советская власть, но ее излет сильно попортил Наталье с Денисом кровь и чуть было не изгадил судьбу. Их всегда ненавидели, а наступившая свобода принесла в том числе и свободу выражения ненависти. В институте им устроили показательный бойкот и, подловив на чем-то мелком (вроде бы как раз на чужой статье, якобы написанной в соавторстве друг с другом, а на самом деле оказавшейся подредактированным и слегка переделанным сочинением американского аспиранта), попытались исключить из института. Тут рядом с ними нарисовался Наш друг и взял их под свое крыло. Вокруг Натальи с Денисом побурлило-побурлило и отхлынуло. Я думаю, их и без Нашего друга оставили бы в покое. Оказалось, что не такой уж чужой была та американская статья. Когда разобрались, выяснили, что Наталья с Денисом не только работали над той же темой, что и американский аспирант, но получили примерно такие же результаты. Дело не в этом. Дело в том, что Наш друг был единственным — единственным! — кто поддержал их до всеобщей публичной амнистии. Он просто с ними разговаривал. Так, как будто ничего не случилось. Наперекор всем.
Опять же: благородство натуры? Или провокация на будущую преданность?
Наталья с Денисом были преданы Ему совсем не так, как Ольга и Гриша. Это была спокойная, сознательная, слегка снисходительная преданность неглупых, вполне состоявшихся людей. У них был свой, довольно широкий, сторонний круг общения. Они часто рассказывали о коллегах, Натальиных подружках, с которыми она бегала по магазинам и сидела в кафе, приятелях Дениса, с которыми он катался на лыжах и раз в месяц играл в карты. Вернее, пытались рассказывать. Сорвавшись на рассказ или случайное упоминание, они замечали Его неудовольствие и, едва заметно усмехнувшись, замолкали. Хочется написать: Наталья с Денисом очень хорошие люди, умеющие испытывать благодарность. Но не напишу. Наталья с Денисом не были очень хорошими людьми, умеющими испытывать благодарность. В их преданности — да можно ли назвать их отношение преданностью? скорее, чувством долга, они всегда умели отдавать долги, — так вот, в их отношении к Нашему другу не было открытости, как не было открытости ни к кому и ни к чему другому. Я не назову их замкнутыми, или скрытными, или людьми с задней мыслью. Нет. Просто их сердца были похожи на двери, закрытые на цепочку. Поговорить можно, а войти — не войдешь.
Наталья с Денисом всегда были парой. На первом курсе, когда их поток услали на картошку, они увидели друг друга на картофельном поле, взялись за руки и пошли по грядкам в даль светлую. С тех пор они не расставались и, как все люди, проживающие однородную жизнь, в которой нет связи времен, а лишь одно-единственное длящееся время — с одним мужчиной, с одной женщиной, в одной квартире, в одних рамках, с одними, раз и навсегда устоявшимися привычками, — как будто законсервировались. К своим сорока они совершенно сохранили вид чистеньких выпускников престижного колледжа. Денис даже не полысел. Наталья даже не растолстела. Впрочем, детей у них не было. И я догадываюсь почему. Они были стерильны. (Шутка, конечно, но… А вдруг?) Немного старосветские — он ей ручку целовал, она его в макушку, только что не на вы, — старосветские и стерильные. Но оттого и внутренне разнузданные. Развращенные, что ли. Им было интересно. Что? Видимо, то, чего сами они в своем застоявшемся стерилизованном браке были лишены. Им было интересно находить в мякоти чужой жизни неподатливые косточки и, упорно работая белоснежными крепкими зубами, разгрызать их, добираясь до терпкой сердцевины. Мне кажется, есть люди, отмеченные добропорядочной бытовой сальностью. Вот наши Денис с Натальей были из таких.
И опять же: я очень хорошо представляю, как вечером на кухне они светским тоном обсасывают каждое наше слово или жест. Жеманно отставив в сторону мизинчики и пожимая плечиками, они степенно пьют чай, моют посуду, принимают обязательный вечерний душ, сбрызгивают дезодорантом интимные места, раздеваются в своей супружеской спальне и, аккуратно вешая одежду на плечики, складывая уголок к уголку белье, проводя гребенкой по волосам сто раз в каждом направлении, разворачивая идеально сложенные душистые ночную рубашку и пижаму, изредка роняют равнодушные короткие фразы, используя выражения, которые я, человек, профессионально употребляющий крепкие напитки и не менее крепкие слова, постеснялся бы взять в свой арсенал. Обсуждают прошедший вечер. Кто сколько съел да сколько выпил, сколько глупостей сказал Гриша и как смешна Ольга в своей вечной роли домашней курицы. Каждая фраза может убить наповал любого из нас, но Наталья с Денисом ничего дурного не имеют в виду. Они всем нам желают всего наилучшего.
Они совершенно искренне доброжелательны. Просто они такие. Потом они укладываются в чистенькую постель с хрустящими простынями и взбитыми подушечками, желают друг другу доброй ночи, целуются на сон грядущий в губки и засыпают каждый на своей стороне кровати абсолютно довольные друг другом, нами и всем миром. И я не удивлюсь, если увижу, как они, согнувшись пополам и отставив изящные задницы, подглядывают за нами в замочные скважины и понимающе перемигиваются.
Это наша компания.
О себе не говорю. В стороне я, в стороне, ясно?
В такой компании никто никогда не знает, о чем думает другой, чего он хочет, что любит, как проводит время на стороне. Мы почти не перезванивались. Столько лет были вместе и — не перезванивались. Просто так. Поболтать. Не встречались вне Его дома. У нас не было общих дел. Нам не о чем было говорить друг с другом. Ей-богу, странно даже себе представить, что я звоню Грише и рассказываю ему, предположим, о своих дамочках. Или советуюсь с Денисом по поводу неприятностей на работе. Или вот, к примеру, Ольга с Натальей… Чур меня, чур! Это даже какое-то надругательство над природой и здравым смыслом — пытаться представить, как Ольга с Натальей самозабвенно щебечут, имея в запасе неограниченное количество общих женских тем. Общим у них был только пол. Да и этот пол был общим по чисто формальным признакам. У кролика и кобры тоже может быть общий пол. Но интересы у них почему-то отнюдь не общие.
Вот что я скажу. С Ним мы были «мы». Без Него — «я», «я», «я»… Не слишком-то интересующееся «я» соседним.
А вот интересно, кто действительно чего хочет? Попробую представить.
Итак:
Алена. Алена хочет кружевной лифчик, потому что кружевной лифчик лучше обычного, поролонового.
Гриша. Гриша хочет мыслить и страдать, потому что Гриша не мыслит себя без мыслей.
Ольга. Ольга хочет стать пожизненной женой, потому что у нее нет мужа, а ей всегда хочется того, чего у нее нет.
Денис. Денис хочет, чтобы его оставили в покое и не приставали с просьбами, потому что он не гуманист. Вместе с тем он хочет все про всех знать, потому что он не то чтобы человек, скорее, гуманоид и ему любопытны люди. Он испытывает к ним чисто научный интерес.
Наталья. Наталья хочет всех сводить, потому что, когда в школе проходили «Анну Каренину», ее любимой героиней была Бетси Тверская.
Виктор. Виктор хочет всех «разводить», потому что вечно сидит без денег.
Я. Я хочу курить, потому что у меня никотиновая зависимость.
Он. Этого не знал никто.
IV
— Дневник? — растерянно пропищал Гриша.
— Дневник? — эхом повторила Ольга.
— Дневник? — хором воскликнули мы.
И это было не последним событием, случившимся в тот день.
Гриша держал тетрадку в зеленой клеенчатой обложке, а мы толпились вокруг, тараща на нее глаза. У меня в голове промелькнуло, что вроде бы я видел однажды, как Он что-то записывает в тетрадь. И походя удивился, что там такого секретного, в этих записях, из-за чего надо поворачиваться спиной к обществу, как будто кто-то норовит списать у Него слова.
— А я эту тетрадку видела, — вдруг сказала Алена, словно в ответ на мои мысли.
— И я, — подхватила Ольга. — Он писал в ней иногда. Только отворачивался, чтобы никто не видел.
— Как же ты разглядела, что Он именно в этой тетрадке писал, если Он отворачивался? — немного насмешливо спросил Денис, словно не доверяя Ольге.
— Я тоже! Я тоже! Я видел… видел! Это научный труд! Это Его самый главный научный труд! Наследие! Мы нашли наследие! — по-петушиному закукарекал Гриша, подпрыгивая от нетерпения.
Мы переглянулись. Если и правда наследие, то кому оно принадлежит? А если обычный дневник, то… То вопрос остается тем же. Кто имеет на него право? Можем ли мы читать то, что там написано? А если можем — разумеется, исключительно на правах близких друзей, — то хотим ли? Я лично рекомендовал бы опасаться дневников. Кому нужны скелеты в шкафу? Мне — нет. Кому нужны откровения? Что они меняют в жизни? Кому-нибудь стало от них лучше? Кому-нибудь охота читать о себе правду? А неправду? Тем более. Я открыл было рот, чтобы изложить эти соображения компании и предложить как можно скорее избавиться от этой книжульки — снести в мусоропровод и все дела, — но меня опередила Женя.
— Наследие? — крайне заинтересованным тоном произнесла она, вставая из-за стола, за которым до этой минуты так и сидела, не выказывая никакого любопытства по поводу Гришиной находки. — Наследие? Так это ко мне. Дайте-ка, дайте! — И она преспокойно вынула тетрадку из Гришиных рук.
Гриша по-прежнему хлопотал лицом от восторга.
— Наследие! — лепетал он, заходясь в экстазе неземного блаженства. — Мы опубликуем Его монографию, и весь мир… весь мир узнает!..
Женя раскрыла тетрадь. Между обложкой и первой страницей лежали спрессованные пожелтевшие листочки. Женя с трудом отлепила один от общей окаменевшей массы, взяла за уголок, потрясла в воздухе, чтобы расправить, и поднесла к глазам. Долго щурилась, шевелила губами, кивала. Мы как дураки стояли вокруг.
— Женечка, — наконец не выдержал Денис, — ты плохо умеешь читать?
Женечка даже не шелохнулась. Шпильки Дениса на нее не действовали, и, понимая это, он начинал понемногу злиться. Прошло еще минуты две.
— Ага! — вдруг воскликнула Женечка с чувством глубокого удовлетворения, когда мы совсем потеряли надежду на то, что она очнется. — Это счет. Из химчистки. — Она опять нахмурилась и принялась вглядываться в листок. — 26 мая 1997 года. Два свитера, пара брюк, плед, демисезонная куртка, шторы. Я всегда Ему говорила, что нельзя быть таким чистоплотным. Нельзя каждые две недели сдавать вещи в чистку. Это до добра не доводит. — Женя помолчала. — Вот и не довело. Финал вам известен, — добавила она печально и сокрушенно вздохнула.
Ольга вздохнула вместе с ней. Женя взяла в руки всю пачку листков и сунула тетрадку Грише.
— Счет за свет. Он всегда вовремя платил за свет. Чек… Чек за… за шерстяной костюм. Что-то не помню я у Него шерстяного костюма. A-а, это восемь лет назад. Наверное, уже сносил. Надо проверить, — бормотала она, перебирая листки.
— А расчеты? Там нет расчетов? И формул! Математических формул! — тоненько выкрикнул Гриша, весь подавшись вперед, и сорвался на визг.
Мы уставились на него. Конечно, Гриша всегда выступает в репертуаре коверного, клоунада — его призвание, но, честное слово, иногда оторопь берет. Между тем Гриша распахнул тетрадку и стал лихорадочно перелистывать страницы. Впрочем… А вдруг он прав? Вдруг там не только счета, но и расчеты? Вдруг Он записывал в эту тетрадь самое-самое? Но самое-самое Он вполне мог записывать и на работе. Кто Ему мешал-то? Тайная жизнь непризнанного гения — что-то как-то не катит. Что-то как-то это мотивчик для женского романа. А женские романы всегда казались мне ужасной галиматьей.
И все-таки слова Гриши не были идиотской идеей слегка поехавшего крышей на почве смерти любимого друга неврастеника. Они задели в нас какие-то струны. Сами того не осознавая, мы, оказывается, ждали от этой находки откровений, «открытий чудных». Одним из таких открытий мог бы стать научный труд, о котором никто не знал, может быть, созданный втайне от завистливых коллег, интеллектуальный клад, сверкающий драгоценными каменьями идей, воплощенных в стройные математические формулы, шедевр логической мысли, сокровенное знание, записанное шариковой ручкой на полуистлевших страницах… Тьфу ты! Брежу я, что ли? А почему бы и нет?
Мы ждали. А тот, кто ждет, дождется. Вот мы и дождались.
Первые страницы тетрадки были исписаны очень густо, почти вчерноту, Его ровным невыразительным почерком. К середине записи становились пожиже, появлялись пробелы, буквы слегка подпрыгивали, что было так непохоже на Нашего друга. Будь Он в обычном своем, слегка замороженном расположении духа, вряд ли позволил бы им скакать. Последние страницы были почти пусты. Одна-две коротенькие записи, как будто второпях брошенные на лист раздраженной рукой, и все.
Гриша начал читать.
— «Каждому делу — свое время». Сенека, — провозгласил Гриша утробным голосом, в котором воплотилась вся скорбь, на которую он был способен, типа «люди мира, на секунду встаньте!». Провозгласил и многозначительно оглядел собрание, мол, вы, циники-охальники, понимаете всю глубину этих слов, всю мудрость веков, сосредоточенных в этом, казалось бы, на первый взгляд простом, а на второй совсем не таком уж простом, а очень даже непростом, высказывании? Вы понимаете, что человек думал над ним, предавался философским размышлениям о смысле жизни, может быть, страдал? Ведь не случайно именно это высказывание было выбрано Нашим непререкаемым другом из тысяч других, перенесено сюда каллиграфическим почерком, так сказать, зафиксировано, запротоколировано, заинвентаризировано и запечатано под зеленой клеенчатой обложкой. Не случайно на нем стоит знак качества этого высокого выбора. Собрание молчало и смотрело выжидательно. Гриша опустил глаза в тетрадку. — «Труд — это отец удовольствия». Стендаль, — провыл он и уже без пауз поехал дальше: — «Береги время». Сенека. «Один день вытесняется другим». Гораций. «Воспитывай детей для потомства». Тацит. «Главное — ладить с самим собой». Вольтер. — У Гриши перехватило горло. Голос сорвался. Он на секунду остановился. Лицо его было совершенно детским. Растроганным, умиленным и умильным. Как будто утром он открыл глаза, а на краешке постели сидит мама, вернувшаяся домой после долгой командировки, и держит в руках плюшевого медведя с огромным красным бантом. Гриша схватил со стола чашку и жадно допил остатки остывшего чая. — Вот видите, — тихо, но со значением произнес он и приготовился пустить слезу. — Вот видите.
Денис молча вынул тетрадку из его рук, быстро пролистал и протянул мне. Я тоже начал перевертывать странички. Откровения были убийственны. «Познай самого себя». «Бережливый не похож на скупого». «Средний путь — самый безопасный». «Человеколюбие — вот первейшая из добродетелей». Что со всем этим делать? Видимо, Он выискивал в книгах афоризмы, то, что составители энциклопедий именуют «мудростью поколений», «крылатыми фразами великих людей», и выписывал в свою книжечку. Я давно подозревал, что Он не читает книг, а использует их для какой-то утилитарной цели, как пособия, что ли, или методические указания. И оказался прав. Он искал в них постулаты и руководство по прохождению жизненного пути (не выживания, а именно что проживания), вроде руководства по вышиванию крестиком. Ведь тот, кто пишет книжки, по определению умнее других. Так Он считал. А интересно, Он правда руководствовался советами типа «познай самого себя»? А интересно, Он никогда не получал простого удовольствия от чтения книг? От того, что живет, дышит, ходит, глядит? Без цели? Удовольствие от процесса — оно было Ему недоступно? Совсем? Напрочь? И все, что Им делалось, делалось только с определенными намерениями, целями, смыслами, по определенным причинам, которые влекли за собой определенные следствия? И еще интересно… Впрочем, нет, неинтересно. Я и так знаю почему. Почему все эти цитаты, цитатки, наспех и невзначай брошенные фразочки, афоризмы, сказанные и написанные ради красного словца, с мясом вырванные Им из контекста и перенесенные на страницы заветной книжицы, почему они носят такой общий, неконкретный, необязательный, ненужный, расплывчатый и банальный характер. Сказать, почему? Да ладно, лучше промолчу.
Я все листал и листал исписанные странички, и во мне поднималось смутное душное чувство мелкой и страшной бессмысленности. И тут почерк неуловимо изменился — слегка пошел вразнос, буква «к» повалилась влево, «о» дала разрыв в правом полукружии, «н» и «п» стали почти неразличимы, ну и так далее. И появились другие фамилии. Не только Гораций, Сенека и Вольтер. Какой-то Коровякин. Еще Мосечкин. Луговая. Коровякин встречался особенно часто. В разговорах Он никогда ни о Коровякине, ни о Мосечкине, ни о Луговой не упоминал. Я стал читать внимательнее. Слог был несколько угловатый, фразы рубленые, короткие.
«Сегодня утром шли с Мосечкиным по коридору. Навстречу Коровякин. Я поздоровался громко, внятно, но без подобострастия. Главное — достоинство. Он кивнул. Мосечкин тоже поздоровался, хотя они виделись до того. На кафедре. Луговая проговорилась, что Коровякин заглядывал на кафедру с утра и они все его видели. Кому он кивнул — Мосечкину или мне? Пришлось оглянуться и сказать «доброе утро» еще раз ему в спину. Коровякин тоже оглянулся. Кажется, был удивлен».
«Думал весь день. Пришел к выводу: все-таки Коровякин кивнул мне. Вряд ли он стал бы кивать Мосечкину, с которым уже виделся. Да, но тогда зачем Мосечкин опять поздоровался? Выслуживается?»
Коровякин, видимо, был Его начальником. Может быть, завкафедрой.
«Луговая что-то замышляет. Сегодня два раза ходила к Коровякину. Второй раз сидела почти два часа. Я сделал вид, что курю, и стоял на лестничной площадке. Смотрел, когда она выйдет. По часам — ровно через 1 час 48 минут».
«Заседание кафедры. Мосечкин, конечно, сел за первый стол, поближе к Коровякину. Это не его стол — Иванова. Иванов на больничном, так Мосечкин решил, что имеет право. Смотрел Коровякину в рот. Я промолчал, хотя тоже мог бы сесть впереди. Все заседание Мосечкин выскакивал. За что получил от Коровякина: «А вот вы… м-м-м… молодой человек, что-то очень сегодня мельтешите». Так ему и надо».
«Мосечкин выбрал все лучшие часы из учебного плана. А у него, между прочим, еще вечерники и коммерческое отделение. Почему мне не дали пятый курс? Решили, что не справлюсь? Да потому что на нашей кафедре совесть и достоинство не в чести, а я не из тех, кто гнет спину ради учебных часов».
«Выяснилась интрига с Луговой. Бегала к Коровякину выпрашивать аккредитацию на конференцию в Берлин. А доклад опять будем писать всей кафедрой. Сама-то она ничего не может».
«Обсуждали доклад Луговой. Я сидел в стороне, участия не принимал. Коровякин посмотрел в мою сторону два раза. Я сделал вид, что не заметил. Не собираюсь ни перед кем выслуживаться. Я не Мосечкин. Он, кстати, несколько раз перебивал Коровякина и все время лез со своим мнением. Думаю, ему это припомнят».
Дальше шла какая-то очень сложная и запутанная интрига с Мосечкиным, который вроде бы начал кампанию по подсиживанию Нашего друга и выдворению Его с кафедры. То ли он хотел привести на Его место свою любовницу, то ли просто так интриговал, по вредности характера. Наш друг считал, что Его устраняют как конкурента. На страницах зеленой книжицы Он вел долгий и скрупулезный подсчет количества научных работ, публикаций в журналах, упоминаний имени в научной литературе. Коровякин перестал Ему кивать при встречах. Потом опять начал. За спиной о чем-то шептались (я так и не понял о чем). Всем выделили новые компьютеры. Ему — нет. Потом выяснилось, что Мосечкину тоже не выделили. Потом — что компьютеры застряли на складе и завтра их привезут. Буквы прыгали. Строчки летели. Точки и запятые выскакивали из всяких рамок. Слова захлебывались желчью. Старушка уборщица вытряхивала корзины у всех, кроме Него. На зиму заклеили окна, а с Его стороны оставили щель. Луговая хамила, после конференции предложила Мосечкину вдвоем писать учебник, а Ему ничего не предложила, гнусно ухмыльнулась, встретившись с Ним взглядом. Заканчивался дневник несколькими горячечными строчками: «Милочка. Секретарша Коровякина. Шоколадка или конфеты? А может быть, украшение? Какое? Примет или нет? Мосечкин не смеет так со мной обращаться. Я не позволю! Все рассказать К. У Луговой кольцо. На какие деньги?»
Вопрос этот венчал огромный вопросительный знак величиной почти со всю страницу с рваной, воспаленной и безнадежной точкой внизу.
Я закрыл дневник. Все ошарашенно молчали.
— Это не расчеты, — удивленно сказал Гриша.
— Ну да, — сказал я. — Не расчеты. Счета и счеты. Старые счета и старые счеты.
Это и было сокровенным знанием. Нашим о Нем. Между тем я смутно вспоминал, как зашел однажды к Нему в институт, не помню по какому поводу. A-а, помню. Должны были сантехники прийти чинить у Него в квартире кран, Он попросил меня проследить, а ключи забыл оставить. Вот я за ключами и примчался. Он был на кафедре, стоял у письменного стола и что-то горячо говорил какому-то довольно облезлому субъекту. Субъект сидел полуотвернувшись и копался в столе. Казалось, он и не слушает Нашего друга. Меня неприятно поразило, что Наш друг стоял полусогнувшись и обращался к спине субъекта. И тут субъект повернулся к Нему. «Банально, Хоботов!» — спокойно сказал он, встал и пошел к двери. Наш друг вздрогнул, метнулся за ним и тут увидел меня. На Его лице промелькнуло смятение, но оно тут же приобрело обычное выражение важного превосходства. Он не знал, видел я эту прелестную сценку или нет. Да я и сам не знал. Может, показалось.
Между тем Виктор хохотнул.
— Ничего не значит. — Он ковырнул ногтем в зубах и этим же ногтем ткнул в тетрадку. — Мало ли о чем человек пишет сам себе. Не лезьте, не ваше дело. Он же вам не показывал. Сами знаете, иногда какая-нибудь поганая щель в окне портит всю жизнь. А расчеты у него, наверное, на работе.
— Да, да, на работе. Конечно, на работе, — радостно закивал Гриша.
Ну, я-то лично сомневался. Но тут в мои сомнения вклинился Женин голос:
— А я считаю, что это подло — лапать чужие вещи без разрешения! В школе за такие штучки темную устраивали.
— Какая пре-елесть! — пропела Наталья. — Мы еще не вышли за рамки восьмого класса! Мы еще устраиваем темные! Может, мы еще рассказываем на ночь страшилки? И мажем сожителей зубной пастой?
Женя не повела бровью.
— Поздно уже, — спокойно сказала она. — А у меня режим. Давайте расходиться.
В общем, она была права. Пора было заканчивать этот симпозиум на костях. Мы потянулись к двери. У порога оглянулись. Женя по-прежнему стояла у стола и смотрела нам вслед с задумчивым прищуром естествоиспытателя.
— А ты, Женечка? — робко спросила Ольга. — Ты не собираешься расходиться?
— Не собираюсь, — сказала Женечка. — Куда мне расходиться? Здесь мой дом родной.
— Постельное белье в… — начали одновременно Ольга, Наталья и Алена и разом же осеклись.
Виктор опять хохотнул. Он делал это постоянно ни к селу ни к городу и был страшно доволен собой.
— Знаю, — сказала Женя. — Спокойной ночи.
Придя домой, я сел в кресло, закурил и подумал, что примерно чего-то в этом роде и ожидал. Еще я подумал, что чего-то в этом роде еще предстоит ожидать. И напоследок: не притырит ли Женя мои фамильные серебряные чайные ложечки, которые я принес для поминок?
V
Женя не была бы Женей, если бы не попыталась обосноваться в Его квартире. Сразу и навсегда. Обосновывалась она на следующий день после похорон — с тактом, с чувством, с расстановкой. Была перевезена одежда — летняя и зимняя, шуба, дубленка, меховые сапоги, сапоги демисезонные, многочисленные курточки, джинсики, а также две коляски, большая и прогулочная, манеж, ватное одеяло, чемодан косметики, мешок детских игрушек, балетные туфли и пачки, похожие на сахарную вату. Гриша бегал как оглашенный. Заказывал такси. Таскал вещи. По секрету от Алены рассказал нам, что мешок для игрушек по его просьбе собственноручно сшила его мама на швейной машинке «Зингер» позапрошлого века выпуска из двух старых бязевых простыней в голубой цветочек советского производства. На наше дружное изумленное «Зачем?!» ответил, что среди игрушек есть какой-то хитрый музыкальный аппарат, который Женя покупала в «Детском мире» за бешеные деньги (кстати, в ответ на наше опять же дружное «За какие?» Гриша промолчал, видимо, ответа не знал, из чего мы сделали вывод, что деньги были не такие уж бешеные и Женя просто пудрит ему мозги), и этот хитрый музыкальный аппарат никак нельзя было бросать в машину просто так, голышом, иначе бы он покорябался и перестал издавать свои хитрые музыкальные звуки. В этом месте прозвучало наше последнее дружное: «А сумку-то чего не купили?» — Гриша озадаченно потер лоб.
— Я думаю… — медленно произнес он, и стало ясно, что Гриша действительно думает.
Гриша у нас мыслитель. Он мыслит по-большому. В том смысле, что он Большой Мыслитель. Его не волнует мышиная возня вроде сломанного крана, или скисшего молока, или того удручающего обстоятельства, что он опять не вынес вечернюю помойку (вечернюю поноску) и Алена уже приготовила скалку для его убийства. Он мечтает о том, чтобы затопило, предположим, Америку, а он, Гриша, приплыл туда резвым Колумбом и легким движением руки спас весь личный разноцветный состав этой многострадальной части света, подверженной катаклизмам стихий. И тогда ему, Грише, поставят памятник на родине Микки-Мауса, и он, Гриша, будет стоять посреди континента в черной шапочке с круглыми пластмассовыми ушами, помахивая накладным проволочным хвостом и поводя поролоновым носом. Гришины мечты имели планетарные масштабы. Иногда Гриша выходит в астрал. То есть в космос. Он рассказывал нам о судьбах Вселенной. То ли она сжимается, то ли расширяется. Он точно не знал, но точно знал, что скоро она должна взорваться.
— Скоро — это когда? — спрашивала в таких случаях Алена.
И по ее лицу было видно, что она прикидывает, взять ли на всякий случай с собой норковую накидку и черные замшевые сапоги на «шпильке», когда придется эвакуироваться в другую галактику.
— Скоро — это через десять миллиардов лет, — отвечал Гриша.
— А! — лениво бросала Алена, тут же успокаиваясь.
Гриша, напротив, начинал волноваться все больше и больше. Он не мог пережить грядущей гибели Вселенной.
Так вот, мешок с игрушками. Здоровый курдюк из белой бязи в мелких синеньких цветочках. Гриша пыхтя волок его по двору от машины к подъезду и совершенно случайно вывалил в лужу хитрый музыкальный автомат, после чего тот навечно вышел из строя и перестал издавать хитрые музыкальные звуки.
Женя переехала основательно. Привлекла мускульную силу, то есть меня, Дениса и Виктора, и сделала радикальную перестановку в квартире. Выкинула к чертовой матери старый письменный стол, оказавшийся девственно пустым (зеленая книжица — не в счет!). Водворила на его место детскую кроватку. Перевесила шторы. Хотела поменять плиту, но вовремя остановилась. Я зашел к ней в тот же вечер из ложного чувства неловкости. Вроде — ну как не навестить, не проведать, может, надо чего. Все-таки вдова… почти вдова друга. Я зашел к ней в тот же вечер и неожиданно стал свидетелем того, как она купала ребенка. Она расклёкала под струей воды кусок мыла, обмазала им ребенка и положила в кровать на клеенку. Когда мыло засохло, она соскребла его какой-то деревянной штуковиной типа лопаточки и ополоснула ребенка под краном. Я не стал спрашивать, что она имела в виду, когда делала это. Во-первых, не мое дело. Во-вторых, ясно, что она имела в виду просто искупать ребенка и ничего больше. Методы не имеют значения. Особенно для Жени. Может быть, она была природным врожденным йогом, так сказать, стихийным. Или исповедовала какую другую гигиеническо-оздоровительную религию. Я тогда подумал только: хорошо, что наши девушки этого не видели. А то бы мы их недосчитались.
Обосновавшись в Его квартире, Женя успокоилась. Не то чтобы она решила, что дело сделано и жилплощадь теперь принадлежит ей. Вовсе нет, не дура же она полная. Но у кого поднимется рука выгнать на улицу женщину с полутора детьми? Но действительность оказалась значительно более жестокой, чем она предполагала. Через день после вселения Женя вернулась домой с прогулки и наткнулась на опечатанную дверь. Приходили из домоуправления или откуда там еще приходят в таких случаях? В квартире никто не прописан. Прямых наследников нет. Опечатали на полгода и глазом не моргнули. Количество детей их не волновало. Впрочем, они даже не знали об их существовании. И слава Богу. Увидев в квартире Женю с младенцем, они бы наверняка вызвали участкового.
У Жени хватило ума не срывать с двери печать, а позвонить в мою дверь. Я открыл. Она стояла на лестничной клетке, держась за ручку коляски, как за балетный станок. Ноги — в третьей позиции. Я пустил ее и тут же в панике обзвонил всю компанию, собирая экстренный совет. Паника моя была понятна: я боялся, что Женя пустит у меня корни и застрянет на ближайшие двести лет. Народ подтянулся к вечеру, расселся по углам и призадумался. Выходило, что Жене надо пилить обратно в свои не то Химки, не то Мытищи, где она проживала, как мы тогда думали, с папой на совместной жилплощади по единому лицевому счету. Впоследствии выяснилось, что однокомнатная хибарка не то в Химках, не то в Мытищах осталась ей от первого мужа, которого — тут показания расходятся, потому что каждому из нас Женя излагала разные версии случившегося, — не то пырнули ножом в подворотне, не то посадили за то, что он пырнул кого-то ножом в подворотне, не то… А, черт с ним! Я о том, что Жене пора было отваливать. Она сидела надутая. Рассчитывала, вероятно, что кто-то из нас окажет ей гостеприимство. Пригласит к себе. Однако брать ее на постой никто не торопился, и она — не будь дурой — поняла, что глупо даже высовываться с таким предложением. Можно получить под зад коленом. Гриша немножко захлебывался, подскакивал на стуле и кричал, что надо сделать что-то для Жени вместе и буквально сообща, потому что мы сплоченный коллектив друзей и все делаем сообща. Что мы делаем сообща, никто не понял, а Алена лениво и насмешливо протянула:
— Коллектив друзей? Впервые слышу такое определение. А вот угадайте, что такое коллектив страны?
— Народ, — сказала Наталья и поднялась, чтобы уйти.
На этом месте Денис предложил наконец отконвоировать Женю домой, пока часы не пробили полночь. Ведь у нее, как нам известно, режим. Гриша опять заказывал такси, стаскивал вниз коляску. На сей раз обошлось без хитрого музыкального автомата. Он остался в опечатанной квартире вместе с курдюком из белой бязи в мелких синеньких цветочках, ватным одеялом, манежем, чемоданом косметики, дубленкой, шубой, курточками, джинсиками, балетными туфлями и пачками, похожими на разноцветную сахарную вату.
Женя спускалась по лестнице легкая, как вуаль виллисы из третьего акта балета «Жизель». На последнем марше сделала рывок и перелетела сразу все ступеньки, распластавшись в воздухе раскоряченным на 180 градусов циркулем.
На том и распрощались.
Гриша уехал с ней.
VI
Тут надо, наверное, слегка оправдаться за некоторую развязность тона и глумливые характеристики, звучащие от моего имени в адрес героев повествования.
Дело в том, что я ужасающе нормален. Это значит, что я абсолютно средний человек без каких бы то ни было отклонений. Я редко испытываю бурный восторг, редко впадаю в черную меланхолию, да что там редко — никогда. Никогда не испытываю и никогда не впадаю. Мне неинтересно иррациональное. Путешествия духа — как святого, так и не очень — меня не волнуют. Мистика не увлекает. Я не рассуждаю на отвлеченные темы. Мне чужд романтизм. Раздражает, когда кто-то пытается оперировать символами. Мой взгляд на мир приземлен, трезв и практичен. Когда на стене своей комнаты я вижу два солнечных луча, они почему-то не кажутся мне двумя скрещенными огненными божественными пиками, и уж тем более — упаси Бог! — я никогда не подумаю: «Солнце живительным золотым дождем пролилось в мою скромную обитель». Я вижу просто два луча и высветленный рисунок на обоях в том месте, куда они упали. И все. А когда через полчаса они переползут на другое место, мне ни в коем случае не покажется, что комната вдруг почему-то поменяла очертания, углы сместились, стены поплыли и время от этого потекло по-другому, понеслось иным аллюром и сигануло в какую-нибудь черную дыру, оставив меня, бедного, в искривленном пространстве потустороннего мира, разрезанного на прошлое и настоящее двумя этими чертовыми лучами, хоть бы их вообще не было и мои окна выходили на север. И по дороге из дома на работу я не задумаюсь: двигаюсь я или остаюсь неподвижен, сидя в автобусе на клейком от жары дерматиновом сиденье? И если двигаюсь, то относительно чего? И как же это двигаюсь, если все-таки остаюсь неподвижен? В картинах Рембрандта я вижу натруженные руки старух. И только. Как учили в школе. Или грязные пятки ни в чем не повинного блудного сына. Так в школе не учили, но суть не в том: кроме этих грязных пяток, я больше ничего не вижу, и они мне неприятны. А у Пикассо вообще не разбираю ничего, кроме запчастей. Что делать? Я такой. Не прыгать же выше собственного носа.
К чему я это?
А к тому, что на нашу компанию в целом и на каждого ее члена в отдельности — на это сборище человеческих несуразностей — я не мог смотреть без усмешки. Они правда были смешны и оттого вызывали у меня как бы легкое презрение. Вроде я-то нормальный человек, а они чем докажут свою принадлежность к здравомыслящей части рода человеческого? Как будто они были не совсем людьми. Как иностранцы, которые сделаны из того же материала и тех же конструкций, что и мы, и даже приспособлены для таких же жизненных целей, и в организме их происходят те же процессы, что и у нас, но… Что-то в них есть иное, не поддающееся точному определению. Это разница между экскаватором и подъемным краном. Мои друзья казались мне экскаваторами, поставленными там, где надо поднимать железобетонные блоки, и подъемными кранами, которые заставили копать землю.
Да и ситуация сама выглядела несуразно. Когда пятеро взрослых людей смотрят в рот одному, это довольно нелепо, согласитесь. Да, игра. Да, по умолчанию. Но зачем? Он что, обладал нечеловеческой властью? Силой характера? Умом? Влиянием? Вызывал уважение? Трепет? Страх? Любовь? Я задавал себе эти вопросы тысячи раз, и ответ всегда выходил один: нет, нет, нет и еще сто раз нет. Тогда что? Каждому из нас — из них — зачем-то было надо, чтобы Он смотрел строго и кривил бровь. Я отказываюсь от идеи личной благодарности или личной обязанности оплачивать долги юности. Сладость подневольщины — вот в чем причина. Детская игра в короля и рабов. «А теперь, мои доблестные вассалы!..» — «У-умница вы, ваше величество!» Просто один берет на себя роль короля, а другой — подданного. Что кому ближе. И проще.
Эти Его подданные детки — покорные и экзальтированные, обожающие и не очень, сохраняющие достоинство и растекшиеся перед Ним, как утренний фруктовый кефир, благодарные и ненавидящие, — эти вот подданные Его детки заставляли меня смеяться над ними, потому что выбивались из нормы. Женя же с ее балетом и бэкграундом в виде москонцертного папы и детьми с неточно установленным отцовством — вообще вне конкурса.
Единственным человеком, который за эти годы ни разу не вызвал у меня усмешки, была Алена. Не то чтобы она держалась в стороне, но в ее поведении чувствовалась независимость, как будто она имела собственную ренту в банке, небольшую, но на черный день всегда хватит. И она держалась в норме. Один только раз на моей памяти она сказала странную вещь. А именно: дело было перед Новым годом, и всех водителей троллейбусов, автобусов и трамваев в Москве нарядили в новогодние костюмы. Дядек — в красные шубы и ватные бороды Дедов Морозов, теток — в голубые пальтишки и шапочки Снегурок. Алена ждала троллейбуса и, когда он подошел, очень удивилась, увидев внутри обычных людей. Ей казалось, что вместо пассажиров в троллейбусе должны ехать зайчики, лисоньки и медведи. Она уже готовилась нацепить заячьи уши и меховой помпон, которые на входе ей выдаст водитель, и, поняв, что ушей и помпона не будет, страшно расстроилась и пропустила троллейбус. Я был поражен, настолько не похоже на Алену было то, что она рассказывала. Причем — без тени улыбки. Абсолютно всерьез. Даже слегка мрачновато. Видно было, что ей действительно очень хотелось нацепить уши и помпон и она действительно страшно расстроилась, не получив их. Вот странность. Странность еще и в том, что мне эта странность показалась весьма милой. Я даже умилился про себя.
С чего бы, спрашивается?
VII
Гриша пришел ко мне через три дня после эвакуации Жени не то в Химки, не то в Мытищи. Пришел якобы за советом. В принципе я ждал его накануне. Надо было решить вопрос с девятью днями. Отмечать или нет? И где? Квартира-то опечатана. Я думал, что никого, кроме Ольги и Гриши, этот вопрос волновать не будет. Однако ошибся. Звонили Наталья с Денисом. Звонила Алена. Кстати, интересовалась, не знаю ли я, куда делся Гриша. Ольга тоже звонила. Виктор, так до сих пор нами и не идентифицированный, что-то бормотал рядом с ней в трубку. Мы перезванивались по кругу, но никак не могли ни на чем остановиться. Гриша как будто исчез. Самоустранился. И это вызывало некоторое недоумение. Я даже поймал себя на том, что волнуюсь. Что это с ним? Куда делся-то? Не откинул ли, часом, лыжи? Однако ничуть не бывало. Он все это время был с Женей и ребенком. На мой вопрос, какого черта не звонил, страшно удивился и сказал, что не то в Химках, не то в Мытищах нет телефона.
— Мобильного тоже нет? — спросил я.
Гриша опять удивился.
— Да-а-а, — протянул он и почесал в проплешине.
«Да-а-а» можно было истолковать двояко. Первое: «Да-а-а, вообще-то есть, просто я как-то не подумал». Второе: «Да-а-а, это как же это я не подумал, что мобильного-то нет?»
Кстати, мобильного у него, конечно, отродясь не бывало. Впрочем, даже если бы и был, мне почему-то кажется, он не знал бы, как им пользоваться. А сама Алена ему никогда не звонила.
Итак, Гриша явился, плюхнулся на табуретку в кухне и жадно выпил две чашки чаю. Я начал было о девяти днях, но он махнул рукой — не столько махнул, сколько отмахнулся, мол, отстань, не до того, есть дела поважнее, и, захлебываясь, поведал мне о том, что Женя находится в критическом состоянии. Буквально невыносимом. Буквально — еще чуть-чуть и все. Буквально уже на грани падения в бездну.
— Что так? — поинтересовался я.
Нет денег, объяснил Гриша. Ни копейки. Жить не на что. Ребенка кормить не на что. Платить за квартиру нечем. На пакет кефира иной раз не хватает. Катастрофа.
— А раньше-то? — поинтересовался я.
Гриша замялся. Жуя слова, как будто у него во рту была подгоревшая картофельная запеканка, и запинаясь на каждой букве, он сообщил, что раньше Женю содержали мужья и… и… не только. На этих словах Гриша совсем поник и затих в печали, повесив головушку. Его сообщению я, разумеется, не удивился, а удивился тому, чего это Гриша так нервничает, как будто видит нечто постыдное в том, что баба жила за счет мужиков. Или от Нашего друга не ожидал, что тот позволит кому-то жить за Его счет? Оказалось, дело не в этом. Гриша кручинился о том, что самостоятельно, без поддержки, в одиночку он не сможет содержать Женю.
— И не только… — как бы про себя опять прошептал Гриша и отчаянно вскинул голову, как бы на что-то решившись. — А теперь… а теперь… — Голос его набирал силу, расцветал всеми цветами радуги, в нем звучало мощное торжество «Оды к радости». Финал он выпалил во всю мочь: — А теперь МЫ!
— Что — мы? — не понял я.
— Мы! Мы! Мы должны оказать человеку помощь! Мы должны дать ей шанс выжить! Нет, мы обязаны! Все вместе! Сообща! Мы станем ей семьей! — вскричал Гриша, возбуждаясь все сильнее и сильнее. Вскочил с табуретки, с грохотом опрокинув ее на пол, замахал руками и забегал по кухне.
— Да пусть живет, чего ты, я не против, — сказал я миролюбиво, поднимая табуретку.
— Ты не понимаешь! Ты не понимаешь! — завопил Гриша.
Он полез в карман, начал судорожно в нем рыться, выбрасывая оттуда какие-то грязноватые скомканные бумажки, одна из которых упала в его недопитую чашку и поплыла по воле чайных волн от одного бортика к другому быстрокрылой бригантиной. Гриша ничего не замечал и продолжал бормотать что-то себе под нос, наконец вытащил сложенный вчетверо более-менее чистый лист бумаги и сунул мне под нос.
— Вот! — слегка задыхаясь, сказал Гриша. — Посмотри.
Я развернул лист. С левой стороны в столбик были написаны наши имена в алфавитном порядке: «Алена. Виктор. Григорий. Денис. Наталья. Ольга. Мое имя». Подле каждого имени стояла маленькая черточка. После черточки — полная строка точек, проставленных трудолюбивой Гришиной рукой.
— К сожалению, не знаю имен его коллег по кафедре, — сказал Гриша.
— Ну как же, — рассеянно отозвался я, вертя листок в руках. — Мосечкин. Луговая. Коровякин. Милочка, секретарша Коровякина. А что это вообще такое?
Я протянул листок ему обратно.
— Как что? Как что? — заверещал Гриша. — Подписной лист!
— ?
— Подписной лист, что тут непонятного? Каждый из нас подпишется на определенную сумму в пользу Жени и ее детей. Пустим по кругу. Потом пойдем к Нему на работу. Там должны войти в положение. Все-таки такой уважаемый человек, бесценный сотрудник, выдающийся…
— Ты что, совсем сбрендил?
Гриша подпрыгнул на месте. Он не ожидал от меня такой реакции.
— Сбрендил?.. — пролепетал он самым жалким образом.
— Во-первых, что это за чертова дохлятина? — Я потряс в воздухе подписным листом.
— Почему дохлятина?
— Потому что тебе не двести лет, пускать по кругу подписные листы. Считаешь, что мы должны помочь твоей драгоценной Жене, собери всех и скажи по-человечески.
Гриша надулся и забормотал что-то маловнятное. Из его бормотания я понял, что его обидела формулировка «твоя драгоценная». Он счел ее пренебрежительной по отношению к Жене и оттого оскорбляющей ее личное достоинство. Я продолжал:
— А во-вторых, каких детей ты имел в виду? Мы что, ее первого ребенка тоже должны содержать? Давай-ка, дружок, без множественного числа.
— И ты тоже! И ты тоже! А я-то думал!.. — возопил Гриша и закатил глаза.
Есть, однако, что-то божественное в том, как Гриша закатывает глаза и с придурочным видом тянет палец к моей новой навороченной люстре из магазина «Планета света. Бутик эксклюзивных светильников» за полторы штуки баксов — самое дешевое, что у них было. Я подошел к нему и опустил его палец вместе с рукой вниз.
— Почему «тоже»? Кто-то уже отказался? — спросил я.
— Никто не отказался, — буркнул Гриша. — Я к тебе первому пришел. Просто… просто никто меня не понимает!
Опаньки!
— «И молча гибнуть я должна», — машинально сказал я.
Гриша смертельно побледнел, сорвался с места и выскочил из квартиры, громко хлопнув дверью.
Я набрал Алену.
— Он нашелся, — сообщил я. — Бежит домой. Утверждает, что его никто не понимает. Прячь деньги. Он решил, что мы должны содержать Женю.
Алена чертыхнулась и отключилась.
Я ошибся. Ни в какой «домой» Гриша не побежал. Он побежал к Жене, потому что приближалось время купания ребенка, а ему еще надо было купить детское молоко, кисломолочную смесь и памперсы.
На следующий день мы опять собрались у меня. Женя тоже приехала. Она вошла в квартиру с кислым выражением лица, крутанула пару фуэте в коридоре (я боялся, что она будет задирать ногу и собьет мою навороченную люстру, но обошлось), буркнула себе под нос: «“Лебединое озеро”. Второй акт» — и уселась в кресло. Гриша шел за ней, толкая коляску с ребенком.
— Женечка, — ласково сказала Наталья. — Надо что-то решать с завтрашним днем. Было бы правильно, если бы мы собрались у тебя.
Предложение было построено с тонким расчетом. Во-первых, Наталья обращалась к Жене как к хозяйке ситуации. Она не то чтобы Жене льстила, вовсе нет, просто верно оценивала своеобразные особенности ее личности и проявляла себя как человек, умеющий работать с людьми. Во-вторых, слово «правильно» было подобрано с таким умыслом, чтобы не дать Жене возможности маневра. Правильно — значит правильно. По-другому и быть не может. Святая простота! Женя не купилась ни на первую уловку, ни на вторую. Она с большим недоумением смотрела на Наталью.
— Собраться у меня? — спросила она и покрутила прядку волос у щеки. — Зачем?
— Ну как же! Ну как же! Ну, Женечка! — запричитала Ольга, выскакивая на авансцену, и чуть-чуть — совсем чуть-чуть, легчайшим намеком, однако заметным пристальному наметанному глазу, — заломила руки (сцепленные пальцы, приподнятые кисти, как будто руки имели желание, но не имели душевных и физических сил достичь груди). — Ты, наверное, забыла, то есть не подумала, вернее, не посчитала, но завтра — ДЕВВВЯТЬ ДНЕЙ!
Слова «девввять дней» Ольга выговорила страшным шепотом, выкатив и без того довольно выпуклые глаза. Женя не шелохнулась. Она неподвижно сидела в кресле, задумчиво смотрела вдаль и крутила свою прядку. Мы стояли перед ней. Взрослые дяди и тети. И жадно глядели ей в рот. Ловили каждую гримаску. «Какого черта!» — подумал я, ушел в угол, сел на стул и закурил.
Наконец Женя очнулась.
— Не знаю, не знаю. — Она скривила пухлый красный ротик. — Не знаю, к чему эти формальности. И потом… — Все замерли. — И потом, я тут на днях перечитывала мифы и легенды Древней Греции и размышляла о том, почему Орфей не должен был оглядываться на Эвридику… — Денис поперхнулся и закашлялся. Виктор громко заржал. Сигарета обожгла мне пальцы. Наталья непроизвольно сделала шаг назад, как будто ее кто-то толкнул в грудь. Алена подняла тонкие брови. Ольга беспомощно взглянула на Виктора и неуверенно хихикнула. — Ну, вы помните, — между тем продолжала Женя как ни в чем не бывало, — когда он выводил ее из царства мертвых.
— Помним, помним, — заверил ее Виктор.
— Так вот, почему Орфей не должен был оглядываться на Эвридику? Почему это было запрещено? — Женя помолчала и обвела нас строгим экзаменаторским взглядом. Мы молча ждали. Не отвечать же на подобные вопросы. — Очень просто, — сказала Женя. — Потому что нельзя жить с оглядкой на смерть. Тогда лучше не жить вообще. — Она встала. — Поеду-ка я, пожалуй, — спокойно сказала она. — Мне еще ребенка купать.
Повернулась и ушла. Гриша бежал за ней, семеня тонкими ножками.
VIII
И покатилось. Гриша окончательно сошел с рельсов и двигался теперь по одному ему известному бездорожью под названием «Женина жизнь». Я потом много думал о том, почему он так сразу и навсегда бросился в этот капкан. Любовь с первого взгляда? Да нет, не сказал бы. Во всяком случае, судя по тому, как он по-собачьи смотрел на Женю в ожидании ее распоряжений, «первым взглядом», а также и вторым, и третьим там не пахло. Это была не любовь, это был мгновенный, полный и окончательный отказ от собственного «я». На бессознательном уровне. Видимо, Грише трудно было справляться с собственным «я», видимо, он был слишком слаб в моральном смысле, чтобы это «я» иметь. Не дорос, так сказать. Вот он и отказался от него радостно и вольно, что называется, по собственному желанию. Впрочем, о чем это я? Может, именно это и есть любовь. Ведь любовь имеет иногда такой странный окрас, что ее не отличишь от нечищеной картофелины. Я думаю, вернее, мне кажется, что благодаря Жене он впервые почувствовал свою пусть гипотетическую, пусть микроскопическую, пусть бестолковую, но нужность. Да, да, такой парадокс. От собственного «я» отказался, собственное мнение иметь не смел, собственные желания высказывать боялся, собственную жизнь отдал Жене, на задних лапах скакал, хвостом вилял, а первый раз в жизни гордился своей востребованностью. Господи, как же он радовался! Как дитя. Гордился. Бегом бежал от метро до ее дома, только бы вовремя донести до ее жадного ротика свежий батон и кусок телячьей колбасы. Вытанцовывал перед нами, гремя бутылочками с детской смесью. Хвастался, что его погладили по головке. Бедняга! Всю жизнь он хотел быть незаменимым — для Него, для Алены. Не вышло. Женя для этой цели подходила как нельзя лучше. С одной стороны, она была довольно беспомощна. Жить (и это правда) не на что и почти негде — однокомнатный скворечник не то в Химках, не то в Мытищах в виду перманентного увеличения семейства не в счет. Гриша был ей необходим как мальчик на посылках, в том числе на продуктовых посылках, ценных бандеролях и денежных переводах от нас, Его друзей. С другой стороны, она была требовательна, капризна, подвержена мгновенной необъяснимой смене настроений. Словом, воплощала те женские качества, которые начисто отсутствовали у Алены. Наконец, она очень точно знала, чего хочет, и умела этого добиваться, чаще всего действуя чужими руками, однако именно таким образом снимая с Гриши ответственность за все, что бы он ни делал. Все это, вместе взятое, влекло к ней Гришу, который моментально просек три вышеизложенных пункта. На интуитивном уровне. Он же был ма-а-асенький. Совсем не умел существовать сам по себе. Обязательно должен был к кому-нибудь прилепиться и под чутким руководством служить верой-правдой. Женя тоже не умела жить сама по себе, но по иной причине. Она была планктоном, наша Женя. Вцеплялась в кого-нибудь намертво, и все — прости-прощай, дорогой товарищ. Высосет последние соки. Ну вот, значит, она в Гришу и вцепилась мертвой хваткой. И не отпускала ни на миг.
Как Женя относилась к Гришиной самоотверженности? Я имею в виду внешние проявления. Спокойно относилась. Принимала как должное. Она вообще не любила суетиться. Она вообще как-то так устраивалась, чтобы не суетиться. Суетился, как вы понимаете, Гриша. Утром, едва продрав глаза, он мчался не то в Химки, не то в Мытищи на молочную кухню. По моим прикидкам, подвиг совершался часов в семь утра, так как в полдевятого Гриша должен был быть на работе. После работы часика эдак в два, в три — Гриша заканчивал рано — он делал обход супермаркетов (Женя была придирчива и требовала продукты определенной марки, приходилось, как в советские времена, носиться по магазинам в поисках колбасы и селедки), так вот, Гриша обходил супермаркеты и снова бежал не то в Химки, не то в Мытищи. Там он принимал участие в кормлении ребенка. Кормили ли самого Гришу, я не уверен. Вернее, уверен, что не кормили. Впрочем, Гриша умел питаться святым духом и делал это с наслаждением. Такое упоение жертвой. После кормления ребенка, уже к вечеру, Гриша принимал участие в кормлении Жени, приготовлении обеда на завтрашний день, купании ребенка, укладывании ребенка, стирании пеленок, глажке, чистке и т. д. и т. п. После чего отбывал по месту жительства, потому что Женя не любила, когда кто-то посторонний ночевал у нее дома. Один раз Гриша остался на ночь. Как раз после того, как отэвакуировал Женю с коляской из Его квартиры. После этой единственной ночевки он вознамерился было поставить себе раскладушку у Жени на кухне, но она сказала твердое «Нет!». Итак, каждый вечер отбывал, значит, наш Гриша с печалью в сердце домой и укладывался в постель к Алене, возбужденно подрыгивая ногами в предвкушении завтрашних подвигов.
Иногда случались непредвиденные обстоятельства. Гриша по каким-то причинам не мог обслужить Женю. К примеру, приболел, или на работе задержали, или Алена попросила что-то сделать по дому (на что он, кстати, от раза к разу соглашался все менее охотно и даже позволял себе кривить рот, услышав просьбу). Тогда Гриша пытался задействовать кого-нибудь из нас, взывая к нашим дружеским (если не сказать отеческим и материнским) чувствам. Первой, к кому он обратился, была Ольга. Дело заключалось в том, что Женя не могла одна сходить с ребенком в поликлинику. Ей непременно требовался провожатый. За картой сбегать, памперс поменять, место в очереди занять и так далее. А Гриша в это самое время, как назло, был обязан присутствовать на педсовете. Он и позвонил Ольге, давай, мол, спасай. Мы все, оставшиеся в живых после Жениного нашествия, с интересом ждали, что же она ответит. Нет, не так. Мы все думали, что знаем, что именно она ответит, и ждали, когда она с готовностью бросится на спасение утопающих. Потому что Гриша, безусловно, тонул. Он смертельно боялся, что Женя разозлится и уволит его без выходного пособия. А сама Женя усиленно и небезуспешно делала вид, что из-за такого наплевательского отношения не сегодня, так завтра обязательно отдаст концы вместе с ребенком, цинично лишенным врачебной помощи. Ольга, претендующая в нашей компании на статус матери Терезы, по всем расчетам не могла пройти мимо этих обломков кораблекрушения. Так вот, к нашему изумлению, Ольга ни на какое спасение никаких обломков не кинулась. Ее ответ Грише был беззастенчиво лаконичен и недвусмысленно отрицателен.
— Извини, — сказала она. — У меня свои дела.
Свои? Дела? У Ольги? Помилуйте… Быть того не может. А кто часами хлопотал на кухне у Нашего друга, изобретая рецепты супчиков и наворачивая тесто для пирожков? Бегал по магазинам? В химчистку? Первым прибегал на наши посиделки и последним уходил, предварительно перемыв все чашки и выметя все крошки? Забирал из школы Гришиного и Алениного сына, когда Алена (редко, но бывало) снисходила до того, чтобы вспомнить об Ольге? Бегал за билетами на самолет во все имеющиеся в наличии страны Евросоюза для Дениса и Натальи? Кто? Кто? Мы как-то однажды сообща решили, что у Ольги нет и не может быть своих дел. Что она — не физически, а по натуре — как бы старая дева с баночкой крыжовенного варенья за пазухой для любимого племянника. А дела-то были. И еще какие. В текущий момент она, к примеру, переживала роман с Виктором.
Этот роман… О, этот роман! Ольга взялась за Виктора всерьез. Вы не поверите, но и он, казалось, всерьез взялся за нее. Она ходила на все его деловые встречи. «Увязывается!» — как-то презрительно бросила Алена. Не думаю. По-моему, он сам ее за собой таскал. Один раз я был невольным свидетелем того, как это происходило. Виктор встречался с заказчиком в кафе, а я случайно оказался со своей девушкой за соседним столиком и мог беспрепятственно наблюдать за ними украдкой из-за искусственной пальмы. Ольга сидела, вытянувшись в струнку, и не мигая глядела на Виктора. Виктор, развалясь в кресле, вел ленивые переговоры с каким-то кексом в костюме за две тыщи баксов. Иногда он шевелил пальцами. Ольга поспешно вытаскивала из пачки сигарету, всовывала ему в рот и подносила зажигалку. Я одного только боялся: что она спалит ему бороду. Иногда он слегка поворачивал к ней голову. Ольга поспешно подливала ему чай. Когда они уходили, она бежала впереди. У выхода суетливо подала ему куртку, одернула на спине, смахнула пылинки и бросилась открывать дверь.
В те дни — так сошлось — у Виктора открывались сразу две выставки. Одна — в маленькой галерейке на Солянке, другая — в Доме художника. На обе презентации мы были приглашены в полном составе. Впрочем, приглашены — не совсем то слово. Ольга последовательно обзвонила нас (причем Алене с Гришей и Наталье с Денисом звонила не сообща, семейным звонком, а каждому по отдельности), долго бубнила что-то в трубку об уязвимости настоящего таланта и о том, как важно говорить человеку добрые слова, пока он еще жив, и в конце в приказном порядке объявляла сбор у метро с целью коллективного осмотра шедевров Виктора. В процессе этой по форме невыносимо занудной, а по сути пламенной речи я несколько раз порывался прервать ее и спросить: а что, Виктор собирается умирать? Чтобы перед ним так раскланиваться? Судя по тому, как он выглядит, он будет жить вечно. Но Ольга не дала мне вставить ни слова. Высказав все, что наметила, она бросила короткое «Жду» и отключилась.
На следующий день мы встретились на Китай-городе. Ольга ждала нас с цветами в руках. То есть, я уточню: с цветами — значит не просто с цветами — два тюльпана, три розы, четыре лютика. С цветами — значит с букетами цветов. Множественное число. Она держала в руках семь (по числу живых душ) букетов омерзительно одинаковых желтых хризантем.
— Зачем это? — удивился Денис.
Ольга молча раздала нам по букету. Один оказался лишним. Женя не явилась.
— Подарите Виктору, — сказала Ольга. — Ему будет приятно. Сами-то вы никогда не догадаетесь.
К слову: Виктор сунул наши цветы в коробку из-под водки, валявшуюся в углу, и благополучно забыл о них. Водка предназначалась для угощения бомонда. Также подавались бутерброды с копченой колбасой и красной рыбой. Скромно, но достойно. Ольга сообщила нам, что бутерброды для двухсот приглашенных гостей всю ночь строгала сама. Открытие выставки прошло хорошо главным образом потому, что Виктор напился как свинья и пел матросские песни, танцуя посреди зала одновременно «Яблочко» и «Хаву Нагилу». Оказывается, в молодости он служил на флоте и проходил у личного и командного состава под кличкой Жидок, хотя таковым — это мы выяснили при ближайшем знакомстве с его генеалогией — не являлся. Не помню, говорил ли я: он был на одну половину уйгур, а на вторую — грек.
Домой, в мастерскую, мы тащили его втроем — я, Денис и Гриша. Ольга шла сзади со скорбным выражением лица и время от времени просила не ронять его в лужу, чтобы он ненароком не простудился. Гриша усиленно сопел. Денис злился. Я тащил просто так. Виктор смеялся громким бессмысленным смехом и норовил лягнуть кого-нибудь из нас пяткой. Ему это удалось. Он лягнул Дениса и угодил ему в коленный нерв. Денис вскрикнул и непроизвольно выпустил Виктора из рук. Ольга метнулась к нам и подставила под падающее тело руки. Виктор был спасен.
Дома Ольга молниеносно уложила его в постель, поставила на лоб холодный компресс, на пятки — горчичники, в рот влила горячий чай с лимоном, притащила из ванной ведро с водой, половую тряпку и принялась с остервенением мыть пол. Мы как придурки стояли в дверях, не зная, что делать: уходить? проходить? Указаний не поступало. Виктор громко храпел. Ольга враскорячку возила по полу тряпкой, бормоча себе под нос что-то про гигиену помещений и хозяйский глаз. Перед нами мелькал только ее бутылочный зад и чулки с ажурной резинкой на силиконе, которые она надела, видимо, для того, чтобы вместе с Виктором в уединении мастерской отпраздновать открытие выставки.
Открытие второй выставки прошло не так весело. Ольга была начеку, и Виктору напиться не удалось. Каждый из нас самостоятельно и без напоминаний принес букетик. В конце вечера Ольга тщательно завернула букетики в газету и утащила в мастерскую.
Кстати, к вопросу: такой вылизанной мастерской я не видел ни у одного художника. Впрочем, я мало видел художников. Так, бывал пару раз с друзьями в каких-то околохудожественных компаниях. И всегда — редкая грязюка. Я и сам-то не сильно хозяйствующий субъект, но грязь замечаю. Просто глаз такой — пристально-въедливый. У Виктора в мастерской не было — перечисляю по пунктам: 1) ни табачного запаха, 2) ни шлепков засохшей краски, прилипшей к стульям, столам и подоконникам, 3) ни прочего-прочего-прочего вроде задрызганных штор, чашек с чайными и кофейными окаменелостями на дне, мутных окон, немытых с позапозапрошлого года, грязного скомканного белья на односпальной жесткой кушетке. На длинном выскобленном добела столе стояли баночки с чистыми кистями, подобранными по ранжиру и размеру. Такими же ровными рядами, как сигары в сигарнице, лежали тюбики с краской, подобранные по радужному спектру. В полупустых тюбиках краска была сдавлена к колпачку, а кончики аккуратно завернуты, словно в них помещалась не краска, а зубная паста. Не исключено, что мое представление о мастерской художника по-дилетантски стереотипно и на самом деле эти мастерские ничем от обычных квартир не отличаются, но я вообще редко видел жилое помещение такой нечеловеческой чистоты. Наши девушки по достоинству оценивали вклад, внесенный Ольгой в бытоустройство Виктора. На собственные женские деньги она купила в это гнездо искусства холодильник, плиту, микроволновку, ярко-красный пластмассовый таз для стирки и раскладную сушилку для белья. И каждый день готовила Виктору свежий супчик, мотивируя это тем, что у него почти (понимаете — почти!) больной желудок. Виктор трескал супчики и малевал свои картинки. В основном портреты новых русских и их жен на заказ. Для души он рисовал то, что потом выставлял в Доме художника и галерейках. Они тоже продавались очень неплохо.
Было очевидно: Ольга страстно мечтает выйти за Виктора. Она всю жизнь дергала судьбу за сухие титьки, пытаясь выдавить хоть каплю молока себе на прокорм. Но молоко в этом божественном спецраспределителе, видимо, закончилось еще до ее рождения. Мне было жаль ее, однако я не мог без иронии смотреть на ее усилия. Она как-то нелепо внутренне подпрыгивала, суетилась, по-куриному хлопотала. Через пару недель после встречи с Виктором вдруг придумала себе некую идею: познакомиться с его мамой. Это было крайне важно для нее, так как переводило из ранга просто любовниц в ранг членов семьи. Так она считала, ни секунды не сомневаясь в том, что будет оценена и одобрена мамой. В каком смысле одобрена — интересовались мы. Можно понравиться маме. Но быть одобренной — это прерогатива невесты, а насколько нам известно, Виктор ей предложения не делал. Но Ольга гнула свое. Каждую свободную минуту она произносила при Викторе слово «мама». Буквально под любым предлогом. «Этот год был объявлен ЮНЕСКО Годом матери и ребенка», «Моя мама потрясающе готовит плов», «Ой, кто это там? Мама с колясочкой!» «Мамочка моя! А я-то думала, у нас еще целая пачка сахара!». И впрямую: «Когда мы пойдем к твоей маме?», «Что мама дарила тебе в детстве на дни рождения?» Наконец Виктор сдался. В одно из воскресений он повел Ольгу к маме. Я подозреваю, что под этим визитом он ничего не подразумевал. Ему в голову не приходило, что это знакомство с далеко идущими планами. Обед прошел хорошо. Не так хорошо, как первая выставка Виктора. В другом стиле. Мама — такая же здоровенная лосиха, как ее сыночек, только без бороды — сварила пачку пельменей, открыла банку шпрот и весь вечер курила, с прищуром глядя в потолок. Виктор, по своему обыкновению развалившись на диване, пялился в телевизор. Ольга вела хозяйство. Убирала со стола. Мыла посуду. Подавала чай. Ей понравилось. Она маму одобрила. Одобрила ли мама ее, ради чего, собственно, затевалось мероприятие, осталось за кадром.
С той же настойчивой страстностью Ольга напрашивалась на воскресный обед к Наталье и Денису. Именно к Наталье и Денису, ни к кому другому. Почему? Спустя некоторое время я понял почему. Она напрашивалась к ним как к семейной паре. Алена с Гришей в этом статусе Не котировались, вот Ольга к ним и не стремилась. А других пар у нас не было. Наталья кривилась, оттягивала этот упоительный момент — ей было неохота целый вечер трындеть с Ольгой о супчиках, к тому же она не любила готовить и не знала, чем кормить незваных гостей. Но Ольга не отставала. Обед с Натальей с Денисом был ей нужен для того, чтобы почувствовать себя с Виктором тоже семьей. Две семейные пары собрались вместе. Одна наносит визит, другая — принимает. Как мило. Это вам не общая компания, большинство членов которой неизвестно кому принадлежат. Так, делая довольно крупные и уверенные шаги, она закрепляла за собой права на Виктора.
Так, к чему это я? Ах да. Ольга отказала Грише. Она не хотела ухаживать за Женей и ее ребенком. Она хотела ухаживать только за Виктором. Она вообще хотела только одного: у-ха-жи-вать за Виктором. И больше ничего. По этой причине в будущем я предвидел для нее большие сложности.
IX
Денис позвонил 13 июня и сказал, что надо сходить к Нему в институт — на кафедру.
— Зачем? — спросил я.
— Вещи забрать, — сказал Денис.
— Зачем? — спросил я.
Действительно, зачем нам Его вещи? У нас уже есть одна неоприходованная квартира и один никому не нужный дневник. Может, хватит? Что с ними делать-то, с вещами?
— Ну, чего они там лежат, — сказал Денис. — Небось свалили в какой-нибудь пыльный угол. Надо забрать. Отдать Жене. Все-таки это Его вещи.
Я представил, что мы можем там обнаружить. Старые сломанные часы, грязный носовой платок, связку запасных ключей, шариковую ручку с засохшей пастой, дырокол, кружку для питья общественного чая. Все это я изложил Денису, но он уперся, как Гриша в самые яркие и незабываемые минуты своего психоза. Ему казалось, что вещи обязательно должны быть изъяты с работы и водворены обратно в дом. Он видел в этом некую правильность, которой всю жизнь был так одержим наш друг. Ну ладно. Может быть.
В институт зачем-то пошли всем дружным коллективом. Почти всем. Мужским. Виктор увязался за нами. Ему, видимо, было интересно. Ему вообще все было интересно. А в жизнь Нашего друга он вглядывался с особенным, необъяснимым и пока непонятным для нас интересом, весело и недоуменно, даже слегка озадаченно, как будто смотрел на невиданную доселе диковинную рыбину, забавно бьющую хвостом. Сейчас он шел, засунув руки в карманы, скалил волчьи зубы, время от времени посвистывал и глазел на проходящих девушек. Гриша уныло волочился в арьергарде, уставившись себе под ноги и бормоча что-то насчет молочной смеси «Агуша». Мы с Денисом шли нормально, с приличествующими случаю постными минами. Институт встретил нас тишиной. Было такое впечатление, что здесь давно не ступала нога человека. Ни студентов, ни командующего педагогического состава.
— Каникулы, — сказал Денис, но мне почему-то казалось, что мы попали в царство мертвых, что здесь вообще никто никогда не бывает — ни летом ни зимой, ни днем ни ночью, ни в каникулы ни в разгар учебного года. Впрочем, скорее всего на меня повлияла некоторая запущенность помещения.
Мы шли по длинному коридору со сводчатыми потолками и низко свисающими лампами-шарами из непрозрачного стекла белесо-молочного цвета. Солнечные зайчики гуляли по выбитым паркетинам. Слева — огромные полукруглые окна с грязновато-серыми «маркизами», подвязанными кое-как. Справа — непонятные сооружения вроде высоченных дубовых шкафов. Я недоумевал — зачем в коридоре шкафы? Может, там, за тяжелыми дверцами, хранятся древние трактаты? В пылище-то? А может, их уже мыши поели, трактаты эти. Так я думал, шагая по разбитому скрипучему паркету. А еще думал о том, что люблю старые сводчатые коридоры со скрипучими половицами, по ним шагает прошлая жизнь. Впрочем, как и по любым скрипучим половицам. Но все-таки лучше, если вовремя сделан ремонт. И помыты окна.
Мы дошли до кафедры и вошли на кафедру. На кафедре было затхло. Стулья какие-то колченогие, примерно из семьдесят седьмого года. Столы не лучше. Цветочки в пластмассовых горшках диковатого вида, как будто их с того же семьдесят седьмого года не поливали. Ну и все в том же духе прекрасного заката социалистического расцвета, слегка попорченного клопами и мышами. Н-да-а. Вот где, значит, Он работал, Наш бывший друг.
— Вовремя мы с Натальей соскочили, — произнес Денис, озираясь по сторонам.
Тут надо сказать, что мы не слишком-то интересовались, а что, собственно говоря, Наш друг делает в своем институте, как у Него там идут дела, все ли ладно, сделано ли открытие века, утвержден ли учебный план, принята ли заявка на научную тему, давно ли выдавали премию, в каком углу стоит Его стол, не дует ли из окна, хорошо ли топят зимой, заклеили ли окна, сколько раз в день пьют чай, кто моет чашки. Как-то не было у нас в заводе об этом спрашивать. Он не поощрял. Да и нам самим было, если честно, не слишком интересно. Записи в Его дневнике несколько обескуражили нас. Как будто мы заглянули туда, куда заглядывать запрещено. И ни к чему. Никому не нужно. Мы не хотели знать Его близко. Да, вот в чем дело. Именно так — не хотели знать близко. Он был не нужен нам таким, каким был на самом деле. Почему? Трудный вопрос. Ну, сам не допускал. Это раз. Создал и, видимо, с огромными усилиями, некий образ, заставил нас принять его, поверить в него, и мы приняли, поверили. Отчего не принять, если другого ничего не предлагают. И потом… Может быть, это главное — мы не хотели нести за Него никакой ответственности. Когда знаешь человека таким, какой он есть, без фантиков, без скорлупы, поневоле несешь за него ответственность. Нет, неточное слово. Принимаешь тяжесть его личности. А раз принимаешь — значит, отчасти несешь эту тяжесть на себе. А раз несешь — значит, согласен с тем, что может и придавить. Чем ближе человек, тем больше несешь и тем чаще и тяжелее придавливает. Мы не хотели ничего нести. Нам было достаточно того, что Он предъявлял нам изо дня в день в повседневной жизни. Тоже, знаете, было нелегко. На фига нам еще Его андеграунд!
— Вовремя мы соскочили, — повторил Денис, и я очнулся.
«А ведь Он тоже никогда не интересовался, чего мы добились за эти годы, — подумал я. — А ведь Он тоже отодвигал от себя нас со всеми нашими проблемами и проблемками. А ведь Он тоже не знал, что мы делали, когда уходили от Него. А ведь у нас тоже шла жизнь».
Денис правильно заметил: они с Натальей вовремя соскочили. Когда стало понятно, что в науке ловить нечего и уж тем более людям второстепенным, таким, как они, Наталья с Денисом не задумываясь ушли из своего, впрочем, и без того довольно захудалого НИИ, куда распределились после института. Наш друг в институте остался, защищался, преподавал, а они сразу после диплома отбыли с тогда еще комсомольскими путевками в неизвестном направлении на окраину Москвы в шлакоблочную башню с пятиметровыми клетушками вместо кабинетов и бычками в томате на обед в местной столовке. Им там сразу не понравилось все, включая зарплату. Ну а года через два уже можно было безболезненно сваливать, куда душа зовет. К тому времени, о котором ведется рассказ, они вполне успешно трудились в банке, занимали приличные должности и, намертво позабыв о математических формулах, производили четыре необходимых им по службе арифметических действия на калькуляторе. Работа в банке чрезвычайно им шла. Она была такой же чистенькой — во внешних, разумеется, проявлениях: блестящие глянцевые поверхности офисных столов, новенькие хорошенькие ноутбуки, карандашики остренькие, аккуратные стопочки бланков и все такое прочее, — такой же корректно-вежливой, такой же вышколенной, как они сами. И с такой же двойной бухгалтерией, если заглядывать в запертые сейфы.
Алена стала риелтором. С ее врожденным талантом нравиться людям, внушать им доверие она решительно преуспевала. Оказывала частным образом юридические услуги. Хотела открыть собственную риелторскую контору, но справедливо рассудила, что это большой геморрой, что в юридические отношения с государством вступают только сумасшедшие, и остановилась на достигнутом. Меня всегда занимал вопрос — без всякой пошлости! — что она там делает со своими клиентами, когда показывает им пустые квартиры? Я имею в виду одиноких мужчин. Что она имела в жизни, кроме Гриши? Много? Мало? Часто? Не очень? С удовольствием? Без? У нее было столько возможностей завести постоянного любовника. Такое количество народа проходило мимо. Сделала ли она это? Или довольствовалась случайными связями, торопливыми соитиями на холодных необжитых подоконниках первичного жилого фонда, пропахшего краской и обойным клеем? Или даже этого себе не позволяла, неизвестно с какой целью храня верность Грише?
Кстати, о Грише. Гриша проводил время своей жизни, как всегда, абсолютно бездарно. Он работал учителем в очень средней школе. Преподавал русский язык и литературу, представляя собой идеальный пример тургеневской барышни бальзаковского возраста. Именно работа в школе давала Грише возможность в два часа дня мчаться к Жене, презрев дежурства в группе продленного дня. Впрочем, о чем это я? Какая группа продленного дня? Шел июнь. Девятые и одиннадцатые классы вяло сдавали экзамены. Гриша, как одна из составляющих частей экзаменационной комиссии (уверен — не самая заметная), вяло их принимал и страшно грызся с директрисой из-за того, что она не хотела с 1 июля отпустить его на вакации. В дело пошла тяжелая артиллерия: Гриша сказал директрисе, что он кормит грудного ребенка. Представляю себе ее реакцию. Так вот, я-то лично всегда считал и продолжаю считать, что своим учительством Гриша позорил Алену. Не в том смысле, что стыдно в школе преподавать. Наверное, не стыдно. Но все, что он делал, все, к чему пришел в сорок лет, было так уныло, так никчемно, так — повторюсь — бездарно. Он не учил — он влачил. Он просто сидел на том месте, куда его посадили после института и где никто ничего от него не требовал. Он просто был лузером, наш Гриша. И его это устраивало. Хотя… Буду до конца честным. Ну да, я считаю, что здоровому мужику (Господи, почему я решил, что Гриша здоровый? Его же до сих пор никто не освидетельствовал!) стыдно преподавать в школе за две копейки государственной зарплаты, имея такую жену, как Алена.
Вкратце об остальных. Ольга работала редактором в большом издательстве и была всем довольна. Виктор, как уже известно, был свободным художником. Преуспевал. Не шибко, но преуспевал. То есть по телевизору не мелькал и биллборды со своей физиономией по Москве не развешивал, но заказами обижен не был. Что касается меня, то у меня собственный бизнес, не важно какой — небольшой. Но на ежегодную смену и содержание хорошей машины, классный дизайн в моей сталинской бывшей «трешке», а теперь огромной, полностью перепланированной 90-метровой студии, и отдых, когда хочу, где хочу и с кем хочу, хватает. В общем, все мы — Гриша, как всегда, не в счет — чувствовали себя нор-маль-нень-ко. А вот Он… Он…
В комнату, где мы стояли, вошел человек. Судя по описанию Нашего друга, выведенному в дневнике, это был пресловутый Мосечкин. Не могу сказать, что испытал к нему неприязнь в связи с этим фактом его биографии. Мосечкин как Мосечкин. Ничего демонического, как можно было бы предположить из характеристики Нашего друга. А… не его ли я видел тогда, когда приезжал сюда за ключами от Его квартиры? Не он ли демонстрировал Нашему другу безразлично-презрительную спину?
Мосечкин глянул подозрительно. Видимо, боялся, что мы стянем компьютеры, стоящие у них на столах примерно с Куликовской битвы.
— Что вам, товарищи? — спросил Мосечкин.
— Нам, товарищ, вещи нашего покойного товарища и товарища Коровякина… если можно, товарищ, — пролепетал Гриша.
Я ткнул его в бок. Коровякин-то нам зачем? Разговоры говорить? О чем?
Мосечкин кивнул куда-то в угол. Мы пересекли комнату. В пыльном дальнем углу, за стеллажом, была заткнута коробка из-под обуви. Крышка уже успела покрыться слоем пыли. Мы открыли коробку. Как я и предполагал: три сломанных карандаша, кружка с отбитой ручкой, носовой платок, книжка записная, старая, растрепанная, какая-то дребедень, не помню уже что. Гриша потихоньку начал всхлипывать. Я посмотрел на него. По его щеке криво ползла слеза, держа курс на поникший нос. Если иметь в виду, что Гриша слегка подзабыл о девяти днях, то триумфальное шествие слезы по его физиономии смотрелось несколько нелепо.
— Заканчивай, а? — сказал я.
Гриша шмыгнул носом.
— Мы должны… мы должны… поговорить с Его коллегами! — простонал он.
— О чем?
— О Нем! Они должны поделиться с нами своими воспоминаниями!
Он выскочил из угла и бросился к Мосечкину.
— Товарищ! Товарищ! — надрывно выкрикнул Гриша. — Можно с вами поговорить?
Мосечкин взглянул еще подозрительнее.
— Вы должны рассказать нам о Нашем друге! — не унимался Гриша. — Вы столько времени проводили вместе! Он среди вас! Вы среди Него! Вы должны многое о Нем знать! Каким Он был в коллективе? Вы ведь ценили Его талант, правда? Его нельзя было не ценить! Вы знаете, Он был самым талантливым из нас! А с кем Он дружил? А как вы считаете, Он был инициативным работником? Вы не помните, случайно, сколько научных трудов Он опубликовал? Над какой проблемой работал в последнее время? Скажите название, я запишу!
Я потихоньку подтягивал Гришу за полу пиджака к двери. Мосечкин смотрел на нас с интересом. Наконец он открыл рот:
— Если вы хотите попасть к Коровякину, то по коридору налево третья дверь. И поторопитесь, он скоро уйдет.
Я выдернул Гришу из комнаты. Он был весь красный. Глаза лихорадочно блестели.
— Тебе зачем Коровякин? — грозно спросил я.
Но Гриша, с цирковой ловкостью вывернувшись из моих рук, уже несся по коридору налево к третьей двери. Виктор хмыкнул ему в спину. Гриша дернул дверь и, не постучавшись, влетел в кабинет Коровякина. Мы вошли следом, стараясь сохранять степенность. Коровякин, дробненький дедок, седенький, плешивенький, махонький, копался в ящике стола. Услышав хлопок двери и топот Гришиных ног, он вздрогнул, поспешно задвинул ящик, как будто делал что-то предосудительное, поднял голову и прищурился.
— Молодые люди? — проквакал он, с трудом пытаясь нас разглядеть. По причине старческой слепоты он был не вполне уверен, молодые ли мы и люди ли вообще.
— Друзья покойного друга! — прорыдал Гриша на бегу. — Пришли узнать о Его последних днях в коллективе! — Гриша подбежал к Коровякину, схватил за руку и с остервенением стал ее трясти. — Такое горе! Такое горе!
Коровякин осторожненько вытащил руку из цепких Гришиных лап и спрятал за спину. Мы переминались у Гриши за спиной, не зная, как дать деру и в то же время не потерять лицо.
— Так чем обязан? — опять проквакал Коровякин.
Мы назвали имя Нашего друга и объяснили, что пришли за вещами и вообще… н-да, вообще… не знаем что, но вообще…
— Помилуйте, что же я могу? Я и не знаю ничего, — растерянно сказал Коровякин, который уже не чаял, как от нас отделаться.
На авансцену, танцуя всем телом, опять выступил Гриша.
— Как не знаете?! Как не знаете?! — заверещал он, надвигаясь на Коровякина. Коровякин отступил к стене и вжал голову в плечи так, что наружу торчал только пушистый венчик заячьих волосиков. — Это же ваш ведущий специалист! Гордость отечественной науки! Ученый с таким именем! — напирал Гриша. — Я думаю, мы все должны выполнить свой долг перед Его памятью и общественностью и опубликовать Его лучшие работы отдельной монографией. Институт подготовит труды, а мы, друзья покойного, дадим деньги на издание. Надо срочно создать комиссию по наследию.
Вопрос: откуда у Гриши деньги? Ладно, проехали.
— Как, вы говорите, его фамилия? — пролепетал затюканный Гришей Коровякин. Мы повторили. — Умер, говорите. Вот беда-то, беда. Да, да, припоминаю. В начале сессии, если мне не изменяет память. Это печальное событие, поверьте, очень осложнило нам жизнь. Пришлось отзывать из отпуска сотрудницу, чтобы она принимала экзамены у первого и… да, кажется, у третьего курса. Вы знаете, там такие интересные ребята. Совершенно нестандартное мышление. М-м-м… Простите. Так о чем это я? Да, умер… На кафедре, по-моему, собирали деньги для вашего друга… вернее… не для него, а… ну, вы меня понимаете… — Видимо, он хотел сказать «для того, что осталось от вашего друга», но сдержался и неуверенно продолжил: — Этим моя секретарша занималась, но ее сейчас нет. Вам на кафедре не передавали? Вы зайдите спросите. Всего хорошего, молодые люди, всего хорошего.
— Монография! Научные труды! — взвизгнул Гриша, хотя давным-давно все было ясно.
Мы подхватили его под руки и поволокли к двери.
— На кафедре, на кафедре, — неслось нам вслед. — Конвертик.
В дверях я остановился и оглянулся. Коровякин снова копался в столе, почти полностью засунув себя в ящик.
— А почему на похороны никто от института не пришел? — тихо спросил я.
Коровякин вылез из ящика и удивленно посмотрел на меня.
— На похороны… — протянул он. — Ах, молодой человек, если бы вы знали, сколько людей работает в нашем институте! Так с какой кафедры, вы говорите, ваш протеже?
Черт! Вот вляпались-то!
Мы шли по улице молча. Настроение было гадкое. Один Виктор по-прежнему посвистывал и посмеивался. Гриша держал в руках белый конвертик с тремя тысячами рублей. Я искоса поглядывал на Дениса. На лице его было растерянное выражение человека, который ехал в Мельбурн, а попал в Житомир. Я подумал: «Неужели он так заблуждался насчет Нашего друга? Он же не Гриша». А я? Я-то сам? Я ведь тоже считал — ну, конечно, не ученый с мировым именем, но кое-какая величина. Кое-какая значительная единица. Не самое маленькое число среди больших чисел. Впрочем, надо отдать должное Нашему другу: в чем-то Он оказался истинным гением. Гением мести. После своей смерти Он мстил нам за нашу глупую доверчивость. Гением очковтирательства и надувательства. После Его смерти мы по-прежнему оставались в плену Его уловок, влияния, давления, той паутины, которую Он сплел для нас. Меня томили предчувствия. То-то еще будет, думал я. В тот момент я наделял Его поистине мистической силой и способностью влиять на наши судьбы.
Мы дошли до моей машины и остановились. Гриша приплясывал от нетерпения, с тоской глядел на муниципальный транспорт и мысленно уже стирал пеленки.
— Да иди уж, — сказал я. — И из конвертика этого… купи, что ли, младенцу памперсы.
Гриша растворился в толпе. Мы с Денисом и Виктором постояли равнобедренным треугольником, посмотрели друг на друга, покачались задумчиво с носка на пятку, почесали в репах и сказали хором:
— А по пивку?
X
Мы сели в кафе на Страстном бульваре под красным зонтиком на красные пластмассовые стулья в виду памятника Высоцкому, заказали по пятьсот пива, рыбки и задумались. Не знаю, как у Дениса и Виктора, а у меня было такое ощущение, что это наша последняя встреча. Вроде все дела, связанные с Ним, переделаны, наследники как-нибудь без нас вступят во владение квартирой, лично нас всех ничего такого особенного не связывает, так что же теперь? Вроде как сейчас, под этим красным зонтиком, у нас отвальная друг от друга. Грусти я не испытывал — только удивление. Заканчивался целый период жизни. Неужели — все? И то, что было все эти годы, действительно уже было, а не есть? Мне хотелось оглянуться и посмотреть на отлетающее время. Отлетающее так просто, так обыденно. Так никак. И без предупреждения, вот в чем штука. Как будто обманным путем. Мне казалось, оно похоже на дымчатого ангелочка с прозрачными крылышками за спиной. Мне казалось, улетая, ангелочек смеялся. Мне казалось, отлетающее время, каким бы оно ни было — плохим, хорошим, тяжелым, легким, печальным или радостным — всегда похоже на прозрачного ангелочка. Материя такая, ничего не поделаешь. Невесомая. Старею я, что ли? Да, но где то мгновение, что отделяет прошлое от будущего? Мне хотелось его уловить. Когда оно протекало? Когда Он умер? Когда мы Его похоронили? Когда разошлись после поминок и заперли дверь квартиры на ключ? Или когда квартиру опечатали и стало ясно, что по собственной воле нам больше туда попасть не удастся? Или она еще не наступила, эта минута? Может быть, вот сейчас, сейчас мы расплатимся, встанем, дойдем до метро, пожмем друг другу руки, и… и я опять сразу не пойму, что это навсегда?
Мне всегда казалось — как много мне кажется последнее время, как никогда раньше не казалось, так много, будто я ни в чем на свете не уверен! — так вот, мне всегда казалось, что настоящее — это не «миг между прошлым и будущим». Что это очень протяженный период. Как в английском языке — длящееся настоящее. Иногда оно длится годами, иногда десятилетиями. Потом что-то накапливается в механизме времени, как в организме накапливаются шлаки и токсины, набирается по капельке усталость от повседневности и — трррык! Все неожиданно меняется. Переключается на другой режим. И начинается другое настоящее. Не хуже, не лучше, просто другое. Вот и сейчас у меня было ощущение, что прошлое настоящее закончено и начинается настоящее будущее.
Из задумчивости меня вывел голос Дениса.
— А тебя-то как занесло на похороны? — спросил он Виктора, и по тому взгляду, которым он смотрел на объект, я сразу понял, что сейчас начнется легкий — легчайший, почти незаметный — допрос с пристрастием. Денис будет выведывать у Виктора его подноготную. Он же любит копаться в людях. Начнет задавать тонко выстроенные коварные вопросы, на которые человек волей-неволей, но ответит так, что полностью выдаст все свое затаенное. А не ответить нельзя. Еще хуже получится. Но я ошибся. До коварных вопросов не дошло. Виктор оказался материалом повышенной удароустойчивости. Он не поддался. Он был откровенным, как на исповеди, и непосредственным, как в детской песочнице. По этой причине его ответы полностью выбили нас с Денисом из колеи. А что, неплохая тактика самообороны.
Итак:
— А тебя-то как занесло на похороны? — спросил Денис Виктора.
Виктор, по обыкновению, хмыкнул:
— Так… это… поговорить.
— С кем? — не понял Денис.
— Так… это… с покойником. Когда он был еще жив.
— О чем?
— О девушках.
— О чем?! — закричали мы с Денисом хором.
— О девушках, — невозмутимо повторил Виктор и опять громко заржал. — Что непонятного? Девушка от него ушла. Ко мне.
— Кто?! — еще громче закричали мы.
— Девушка, девушка. А вы что думали, парень?
Да ничего мы не думали. Ничего не думали. Мы еще не успели оправиться от шока, вызванного появлением Жени. А там, оказывается, девушки табунами ходили. А как же высокая нравственность объекта? А как же «Давай-ка, матушка, без проблядовок!», адресованное несчастной курице Ольге? Как же все чудесным образом преображается и переворачивается с ног на голову, когда человек умирает! Как будто смерть — это железнодорожная стрелка, которая пускает жизнь по другой колее.
— С этого места поподробней, пожалуйста, — сказал Денис. — Что за девушка? Рост, вес, масть. Почему ушла? Как познакомились? Сколько встречались?
— Да у меня на выставке и познакомились, — отозвался Виктор, лениво отхлебывая пиво. — Подошла ко мне, комплименты всякие говорила, мол, вы, Виктор Александрович, талант и гений в одном флаконе. Ну, ушли, как полагается, вместе. Хорошая девушка…
— Да не с тобой, не с тобой, дурень! С Ним как познакомилась? — закричали мы с Денисом хором, что уже становилось нашей доброй традицией.
— Точно не знаю, — сказал Виктор. — Кажется, в институте. По-моему, она его студенткой была. У него вообще все были студентки.
— Все?!! Ты говоришь — все?!
— Ну да. Только одна аспирантка и одна — кандидат наук. Так я понял из ее рассказов. Но вообще-то я не слушал. Я девушек не слушаю. Бессмысленное занятие. Я их кушаю. — И Виктор снова дико заржал. Этим своим бесконечным ржанием он уже начинал действовать мне на нервы, и я подумал, что неплохо бы в следующий раз, когда он распахнет свою зубастую пасть, неожиданным быстрым движением засунуть ему в рот кляп из салфеток.
Итак, мы в полной прострации глядели на Виктора. Аспирантка, значит… И кандидат наук… А остальные студентки… А как же… Ага… Вон оно, выходит, как. Тут, среди нас, одно, а там, на стороне, — раз! — и совсем другое. Мы, стало быть, овцы неразумные? Дружная группа престарелых придурков? Сорокалетние идиоты, поверившие полной белиберде? Но до чего же Он все-таки был талантлив в своем вранье, если сумел так виртуозно обвести нас вокруг пальца! Так элегантно впарить нам этот бред! Вот это сила убеждения! Позавидовать можно! И что же мы теперь должны думать в нашем выигрышном положении по-прежнему живых граждан? И у кого требовать объяснений? Да, но мы-то, мы-то! Хороши! О чем мы раньше-то думали? Как могли дать так глупо себя одурачить? Почему так охотно пошли на одурачивание? «Я сам обманываться рад…»? Хотелось хоть в ком-то наблюдать доброе, чистое, светлое? Почему никому не пришло в голову: дядьке почти сорок лет. Он что, монах? А я-то, я-то! С чего я взял, что у Него тогда, в юности, ничего не было с Аленой? Да было, было. Все у них было. Именно потому, что было, Он ее Грише и подарил.
Да, но как в этой связи относиться к Жене — к Жене, которая позиционирует себя как не вполне страдающая, но вполне страждущая вдова, к Жене, с ее зримыми и незримыми детьми? Может быть, не такая уж она великая любовь Его жизни? Может быть, она всего лишь одна из многочисленных студенток-аспиранток-кандидаток? Как проверить? И надо ли проверять? Зачем? Есть что-то гадкое в проверках, что-то фискальное. Пусть ее. Какая разница! Это даже хорошо, что после Него осталось что-то живое. Если осталось…
Я шумно выдохнул. Столько секретных файлов в один день… Я же не детектив, чтобы копаться в чужих шкафах и вытаскивать оттуда скелеты. Мне многовато.
— Значит, девушка, говоришь, — наконец произнес Денис. — А чего же она от Него ушла?
Виктор пожал плечами.
— Могу засвидетельствовать только одно, — сказал он. — О вашем прекрасном товарище она отзывалась исключительно в матерных выражениях. Довольно замысловатых. Достал он ее, достал, понятно?
— Понятно, чего ж не понять. Мы тоже пострадавшие, — сказал я. — И все же…
— Все же, все же… — притворно проворчал Виктор. Видно было, что он и сам не прочь высказаться в адрес Нашего друга. — Да Он к ней относился, как к кефиру.
— ?..
Немой вопрос.
— Ну что уставились? — хмыкнул Виктор. — Кефир, он что? Полезен для желудочно-кишечного тракта. А девушки? Для мочеполовых путей. Все ясно? Вопросов нет?
Все было ясно. Вопросов не было. Мы отхлебнули пива.
— Но ты так и не ответил: что ты делал на похоронах? — снова завел я.
— Да она все приставала, мол, зайди да зайди, забери мои вещи. Ну, я пошел. Думаю, сделаю девушке приятное, заодно посмотрю на Него. Может, в морду дам, если повезет. Все-таки не каждый из нас способен произвести на девушку такое неизгладимое впечатление. Прихожу, а там похороны. А я голодный, ужас. Вот в таком примерно контексте…
— Забрал вещи-то? — спросил Денис.
— Не-а. Где их найдешь, не по комодам же лазать при всех. Там же всякие лифчики-трусики.
— Так она жила у Него, раз лифчики-трусики? — продолжал допытываться Денис.
— Она не жила у Него, — перебил я. — Я бы заметил. На одной лестничной клетке…
— Ты уже заметил, — сказал Денис. — И студенток, и аспиранток, и кандидаток.
Да, действительно. Как же я так оплошал? Одно из двух: или Он с ними не дома встречался, или Его умение конспирироваться бьет рекорды большевистского подполья.
Виктор кивнул.
— Не жила, — сказал он, прожевывая рыбку. — Но лифчики разбросала… Она у меня такая! — неожиданно добавил он с какой-то застенчивой гордостью и зажмурился, как сытый котяра.
— Позволь! — вскричали мы. — Что значит «у меня»? А как же Ольга?
— И Ольга у меня, — отозвался Виктор, продолжая жмуриться и потягиваться.
— То есть?
— Какие же вы, котики мои, непонятливые. Ольга у меня, а девушка, она… скажем так, слегка у меня. Чуть-чуть. Сами понимаете, с Ольгой чуть-чуть не проходит. С Ольгой надо по полной программе. Поэтому я ее определил на хозяйство. Девушку пришлось подвинуть. На выходные. А одновременно двух по полной программе Росинант уже не выдерживает.
— Боливар, — автоматически поправил Денис.
— Боливар? Ну, пусть будет Боливар, — безропотно согласился Виктор, тряхнув своей косматой дикой головой. — Боливар не вынесет двоих. Троих… может быть. Четверых тоже годится. А вот двоих — маловато. — И он опять заржал, прыгая по груди нечесаной бородищей.
Мы ошеломленно молчали.
— А по выходным ты Ольгу куда деваешь? Запираешь в шкафу? — тупо спросил я.
— По выходным у нее уборка собственной квартиры. Все по плану, не волнуйтесь. Главное, с самого начала определить область личной свободы. Делается очень просто. Могу научить. На первом же свидании говоришь даме, мол, любимая, не могу расстаться с тобой ни на секунду, ни днем ни ночью, семь дней в неделю. Как ты насчет того, чтобы полностью посвятить мне ближайшие двадцать пять лет своей жизни? Бывают, конечно, дуры, которые считают, что ты сделал им предложение руки и сердца. Но, как правило, выясняется, что у любимой кроме тебя куча своих важных, буквально неотложных дел вроде сдачи сопромата или, напротив, сдачи в химчистку ватного одеяла, доставшегося ей по наследству от престарелой тетушки. Даже у вашей Ольги и то нашлись.
— Может, ты еще и женат? — вдруг спросил Денис.
— А как же! — важно сказал Виктор. — Третьим браком. Двое детей. Один в Пензе, другой на Камчатке. Помните старое кино? Ладно, шучу. Не женат. Был один эпизод. Ездил я к одной девушке в дальнее Подмосковье. Еще в Суриковском учился. Жениться хотел. И тут ее папаша выступил с той же инициативой. Прямо по Чехову. Ездить ездил, обедать обедал, давай женись! И так мне неприятно стало! Думаю, если папаша такой настырный, может, это у них семейное? Надо бы поостеречься. Говорю, мол, я сам собирался просить руки и сердца вашей дочери, вы меня, мон шер, просто слегка опередили, надо только съездить в Москву за паспортом, не будете ли столь любезны дать шестьдесят копеек на электричку бедному студенту? Он был столь любезен, дал мне шестьдесят копеек, и я поехал. Только на обратную дорогу шестидесяти копеек у меня уже не нашлось. Не случилось рядом других мон шеров. А недавно ко мне на улице подходит какая-то дама и говорит: «Я ваша невеста. Отдайте шестьдесят копеек». Что делать? Отдал. Посмотрел ей вслед и пожалел, что тогда не вернулся. Хорошая из нее получилась дама. Правильная. Вот такая жизненная трагедия.
Я смотрел на Виктора и не мог отделаться от ощущения, что где-то уже слышал эту историю. С кем-то она уже приключалась. С кем-то из знаменитых. У кого-то он это сдул и присвоил. Из чьей-то личной жизни. С него станется. Виктор ухмылялся.
— А к нам ты чего приклеился? — спросил Денис.
— Есть один мотивчик, — туманно ответил Виктор и насупился.
— Ольга? — не унимался Денис.
Виктор встал.
— Девушка, рассчитайте! — крикнул он. — Пошли, поздно уже.
XI
Лето катилось ввысь, к июлю. Жара стояла страшная, и время вместе с воздухом как бы остановилось, загустело, зажелеобразилось. Ничего не происходило. Ничего не происходило ровно одну неделю и два с половиной дня. Я было решил, что наступили мирные времена. Как бы не так! Ошибся, как часто ошибался последнее время. Моим мечтам мотануть куда-нибудь подальше от чертова московского смога, в какие-нибудь эдакие райские кущи, на слонах покататься или, к примеру, совершить восхождение на условную Фудзияму, не суждено было сбыться. Через неделю и два с половиной дня, в один отнюдь не прекрасный день, когда я висел на телефоне и ругался с турагентством по поводу путевок в Шри-Ланку, мой мобильный зазвенел и я вместо того, чтобы дождаться сообщения на автоответчик, сдуру нажал кнопку. Гриша загробным голосом сообщил мне, что я срочно требуюсь по известному адресу не то в Химках, не то в Мытищах вместе с машиной. Вернее, требуется машина, ну а я так уж, бесплатным шоферским приложением.
— Зачем это? — подозрительно спросил я.
— Жене надо кое-куда поехать, — сказал Гриша таким тоном, как будто его самого похоронили три недели назад.
— Метро работает с шести утра до часу ночи, — любезно проинформировал я его.
Гриша тут же сорвался с катушек.
— Беременная женщина! Просит сделать ей одолжение! — завизжал он. — Бессердечная железяка! — Это уже в мой адрес. — Никого нельзя ни о чем попросить! Нет друзей, нет! Никого не осталось! Один я теперь, совсем один! Кругом чужие люди! Целуйся со своей машиной! На здоровье! Только попробуй сунься ко мне с какой-нибудь просьбой! Ничего для тебя не сделаю, ничего! Никогда!
Господи, когда я его хоть о чем-то просил? Когда он для меня хоть что-то делал? И что? Что он может для меня сделать? О чем я могу его попросить? Этот вопрос сильно заинтриговал меня, и я на минуту выпал из разговора, обдумывая, а действительно, о чем бы мне попросить Гришу? Вот бы заставить его побегать по моим поручениям, как он бегает для этой колоды Жени! Я бы хотел, чтобы он так же бегал для Алены. Вот чего я хотел бы на самом честном-честном деле. Мне было за нее больно.
Гриша между тем продолжал визжать.
— Ладно, — сказал я, с трудом вклинившись в промежуток между взвизгами. — Не плачь, болезный. Сейчас приеду.
— Не отключайся, — буркнул Гриша и что-то зажурчал в сторону. Именно зажурчал. Эдаким ласковым елейным ручейком. Женский голос отвечал ему довольно односложно, из чего я сделал вывод, что Женя чем-то недовольна. Наконец Гриша вернулся ко мне. — Ну хорошо, приезжай, — сухо и очень деловито произнес он. — Только скорее. Мы не можем долго ждать.
Что?! Нет, это уже переходит всякие границы! Я задохнулся от возмущения. Какова наглость! Нет, какова наглость! Они мне что, одолжение делают? Я открыл было рот, чтобы дать Грише отповедь, но обнаружил, что он уже повесил трубку.
Когда я подъехал, они уже стояли у подъезда. Женя впереди, Гриша с ребенком на руках на полшага сзади нее. Увидев их, я испытал легкий укол вины. Может, у них (я заметил, что уже машинально говорю «у них», а не «у нее, у Жени»), так вот, может, у них ребенок заболел, а я, скотина бесчувственная, издевался над бедным Гришей! Они залезли в машину: Женя на переднее сиденье, Гриша с ребенком, разумеется, на заднее.
— Куда едем? — спросил я.
Гриша назвал адрес. Пилить надо было на другой конец Москвы по всем пробкам.
— А что там, по этому адресу? — опять спросил я.
Гриша произнес какое-то замысловатое название, из которого я понял только, что это медицинский центр с генетическим уклоном. Ну точно. Ребенок.
— А… что-то с ребенком? — осторожно спросил я.
— Мы поедем сегодня или так и будем у дома торчать? — вместо ответа буркнула Женя.
Ехали молча. По мере приближения к медицинскому центру я все больше и больше чувствовал себя полным говном. Вот, везем больного ребенка. В машине — напряженное зловещее молчание. Женя с Гришей сходят с ума. А ведь я мог бы послать Гришу на три буквы и бросить трубку. Что бы они стали без меня делать? Ловить такси? Да у них на такси и денег нет. Тащить ребенка в метро? В жарищу? Время от времени я косился в зеркало заднего вида на Гришу. Гриша, играя бровями и глазами на слегка дебильном от умиления лице, что-то сюсюкал, нагнувшись к тугому свертку с ребенком, в который вцепился, как в батон колбасы. Значит, ребенок жив.
Мы подъехали к медицинскому центру, и я припарковался у ворот. Женя оглянулась на Гришу.
— Ты все сказал, как я велела? — тихо спросила она, и от ее тихого голоса в машине сразу стало холодно.
Гриша тут же засопел.
— М-м-м-м… А… Я… Да тут как-то… Не успел… — обреченно забормотал он.
— Так скажи, — спокойно предложила Женя.
Гриша перевел взгляд на меня. Взгляд был затравленный и безнадежный. Так смотрят дети, которым разрешили съесть малиновое варенье, но только с одним условием: сначала пойдет манная каша.
— Понимаешь, — проблеял он. — Нам предстоит очень дорогое исследование, сам понимаешь, анализы… а ты… ты… ты не мог бы…
— Сколько? — спросил я.
Гриша назвал сумму.
— Ого! — сказал я. — А с чего ты взял, что я ношу с собой такие деньги?
— Но ты же всегда… — ныл Гриша. — Ты же обычно… Хоть половину. А вторую половину можно будет потом привезти, когда анализы будем забирать.
Женя сидела с каменной мордой, уставившись неподвижным взглядом на лобовое стекло. Именно с мордой, потому что назвать ЭТО лицом я бы не решился. Всем своим видом она демонстрировала презрение к Грише. Я посмотрел на него. Гриша тоже много чего выражал своей носатой физиономией. Он сидел и трусил каждой клеточкой организма. Он трусил меня, потому что у меня приходилось просить деньги. И трусил Женю, потому что не мог ей признаться, что трусит меня. Еще он трусил Женю потому, что она давно догадалась о том, что по телефону он не сказал мне ни слова о деньгах, и дома его ждал приличный нагоняй. Жалкий все-таки тип этот Гриша.
На сей раз я решил смилостивиться над ним, вытащил портмоне и медленно, внутренне забавляясь и по-прежнему наблюдая за ним в зеркало, отсчитал нужное количество купюр. По мере отсчета купюр Гриша оживал на глазах. Щеки его порозовели, в глазах появился блеск, нос слегка приподнялся. Женя протянула загребущую лапу, вынула из моей руки деньги, ни слова не говоря, без всякого там вам «спасиба» и прочих лишних ненужностей, вылезла из машины и балетным шагом с хорошей выворотностью стоп, пятки вместе — носки врозь, пошагала к воротам. Гриша с ребенком остались. Я немножко удивился. Свое удивление я выразил прямым вопросом:
— Какого черта! Так это не для ребенка?
— Для ребенка? — удивился Гриша.
Господи, ну какой же я дурак! Почему я решил, что с ребенком что-то случилось? По каким таким признакам? По каким таким приметам? Ладно, это ерунда. Но почему я решил, что Женя ради ребенка помчится на другой край Москвы? За три недели нашего знакомства она ни разу не дала нам повода думать, что ее интересует кто-то, кроме нее самой. Ребенок не исключение. За три недели нашего знакомства я ни разу не видел, чтобы она кормила или каким другим способом обихаживала ребенка. Купание в хозяйственном мыле не в счет — это концептуальная акция. За три недели нашего знакомства она ни разу не назвала его по имени, не улыбнулась ему, не наклонилась к нему, не потетешкалась с ним — или что там еще делают с детьми. Я глубоко вздохнул три раза и досчитал до десяти.
— Какого х… мы сюда приехали? — вежливо спросил я Гришу.
— Анализ ДНК, — охотно объяснил Гриша, пытаясь воткнуть бутылку с молоком внутрь батона колбасы. — Помнишь, Женечка на похоронах срезала волосы с… с… в общем, с Нашего друга?
— Женечка? — поперхнулся я.
— Женю-юра, — ласково пропел Гриша. — Она хочет сделать генетический анализ плода и установить отцовство.
Час от часу не легче! Нет, вру, легче, гораздо легче. Если Женя решилась на такие радикальные меры, значит, ребенок действительно Его и она не пошлая врушка. Да, но если она решилась на такие радикальные меры, значит, у нее серьезные намерения и глобальные планы. Квартира…
— Квартира? — спросил я.
Гриша молча кивнул.
Я перегнулся через сиденье, схватил его за воротник рубашки и так, за шкирку, слегка приподнял над сиденьем, стараясь не задеть сверток с ребенком. Мне надо было, чтобы он хоть на минуту оторвался от этого несчастного ребенка и сосредоточился на том, что я ему скажу.
— Слушай, Гриша, слушай меня внимательно, — проговорил я, глядя ему в глаза и таким образом пытаясь, не выходя из салона автомобиля, провести легкий сеанс гипноза с целью внедрения здравых мыслей в этот рассадник нелепостей. — По пряди волос никакого отцовства не установят. Сначала надо доказать, что это Его прядь. Ясно? Его, а не постороннего дяди. А для того чтобы это доказать, надо делать… надо делать… прости, но надо делать эксгумацию. А эксгумацию просто так не делают. Для этого нужны серьезные основания, согласие родственников, разрешения, наконец, от разных государственных органов, милицию придется привлекать, адвоката нанимать. Ты понимаешь меня? Просто кивни, если не можешь говорить.
Гриша поерзал шеей из стороны в сторону, чтобы освободиться от моих лап.
— Не надо, — спокойно сказал он. — У-тю-тю, мой холесенький! — Это не мне. — Не надо делать эксгумацию. Есть свидетели того, как Женя срезала прядь.
— Свидетели? — поразился я. — Какие такие свидетели?
— Ну как же, — удивился Гриша. — Ты, Алена… Тише, тише, моя пусенька! Папочка тебя поколмит! Наталья с Денисом. Мы все.
— Да она нам эту прядь показала уже после поминок! Откуда мы знаем, чья она? — вскричал я.
— Но ты же не откажешься свидетельствовать в пользу детей, — еще спокойнее, с необъяснимой уверенностью сказал Гриша.
Черт! Да они обвели меня вокруг пальца! А ты идиот, мой милый! Дубина ты стоеросовая. Сказать «нет» — значит подвести бедных крошек. Бросить на произвол судьбы не то в Химках, не то в Мытищах. Лишить законного (три знака вопроса в этом месте) права на квартиру. Сказать «да» — значит благословить Женину аферу. А то, что это афера, у меня сомнений больше не было. И в том, что Женя — банальная провинциальная потаскушка, — тоже. Взяла волосы очередного любовника, от которого случайно залетела, и виртуозно приплела нас всех к своим грязным делишкам. А ведь сразу было видно, что квартира так сильно ее интересует не только с точки зрения ностальгических воспоминаний о золотых днях любви. У таких щук, как она, золотые дни выпадают только на те числа, когда в нотариальной конторе они получают сертификат на собственность. Вот это действительно праздник так праздник. Красный день календаря. Все остальные дни проходят у них по разряду порожняка.
Гриша смотрел на меня въедливым скорбным взглядом. «Дети! — было написано в его влажных глазах, где мольба необъяснимым образом сочеталась с напористостью. — Дети! Подумай, что с ними будет!» Я понял, что сдаюсь. Он меня взял.
— Да, — тяжело произнес я, отпуская его воротник. — Конечно. Я никогда не свидетельствую против детей.
XII
Вы когда-нибудь становились персонажем фантастического романа о межгалактических войнах? А комедию абсурда разыгрывали? А главную роль в пьесе из жизни сумасшедшего дома вам предлагали? Что, и весь вечер на манеже вы не получали пинков под зад, вызывающих гомерический смех публики? Нет? Так вам крупно повезло. В отличие от меня. Меня поимели по полной программе. Акция «Отсуди квартиру и имей всех в виду» день ото дня набирала силу. Женю зашкаливало. Она носилась по инстанциям закусив удила, яростно выгрызала свой кусок пирога, и мы носились вместе с ней, и мы выгрызали ее кусок пирога — сидели в бесконечных очередях, заглядывали в глаза чиновникам и жестом, доведенным до автоматизма, все двигали и двигали по блестящим столешницам пухлые и не очень конвертики — от себя, от себя, от себя. Конвертики растворялись в бездонных чиновничьих карманах, ящиках столов и кожаных папочках. Н-да. Конвертиков в киоске «Роспечати» было куплено немало. В дело пошли все. Ни одного возврата не случилось, и мы как идиоты радовались, что удачно свидетельствуем в пользу детей. Мы — это я, Наталья и Денис. Алену Гриша решил к нашей деятельности не привлекать, за что я был ему чрезвычайно благодарен. Удивительно, но остатки здравого смысла и чувства приличия в нем еще бултыхались. Ольга тоже осталась неохваченной. Гриша дулся на нее за то, что она отказалась вместе с ним нянчиться с Женей и ее ребенком, и на время вышеупомянутой акции отлучил от царского тела. Наказал. Ольга бровью не повела, чем очень удивила Гришу. Он думал, она будет рыдать, ползать на коленях и умолять, чтобы ей тоже разрешили порыться своим совочком в общей песочнице. Ничего подобного не случилось. Ольга ни на секунду не почувствовала себя отставленной в сторону. Разумеется, она знала о нашем копошении с анализами ДНК и установлением отцовства, знала о далеко идущих Жениных планах насчет квартиры, но относилась к ним абсолютно равнодушно. Ей было не до нас. Наталью с Денисом привлекли по необходимости: чем больше свидетелей, тем легче выиграть бой.
Я долго размышлял над тем, стоит ли мне говорить Наталье и Денису о своих подозрениях. Я имею в виду подозрения в том, что Женя — аферистка и Наш бывший друг не является отцом ее гипотетического ребенка. Не сказать — нехорошо. Сказать — тоже. Во-первых, я мог ошибаться. Чутье чутьем, но доказательств того, что Женя — воровка чужого отцовства, у меня не было никаких. Во-вторых, мне казалось, что моя честность в какой-то мере может стать тем самым пресловутым «свидетельством против детей», что своими откровениями я могу повредить их интересам. Вдруг Наталья с Денисом сильно возмутятся, закричат, затопают ножками, упадут в обморок и публично выведут Женю на чистую воду? В лучшем случае мне грозит один скандал (автор сценария и режиссер — Женя) и одна истерика (автор сценария и режиссер — Гриша). В худшем — я сам никогда себе этого не прощу и всю жизнь буду сомневаться: а вдруг я действительно ошибся и Женя — ангел с крылышками за спиной? А ее ребенок всю жизнь ютится на двух с половиной метрах не то в Химках, не то в Мытищах по моей вине?
И все-таки я решил быть честным. Рассказать Наталье с Денисом о своих сомнениях. Что же оказалось? Оказалось, я не знал своих друзей. Они не возмутились, не закричали, не затопали ножками, не упали в обморок и не ринулись выводить Женю на чистую воду. Денис выгнул бровь.
— Однако! — произнес он с уважением. Уважение было адресовано Жене.
Наталья пискнула и, спохватившись, тут же прихлопнула рот ладошкой. В ее глазах читался жгучий интерес.
— Точно знаешь? — быстро спросила она. — А кто отец? Они поженятся? Он будет прописываться в квартире? А как же Его двоюродные братья? Тоже будут претендовать? А Наш, как ты думаешь, знал о беременности? А может, она с Ним вообще не жила? Здорово она нас облапошила! А все-таки молодец! Далеко пойдет, если кто-нибудь такой же вовремя не остановит. А с Гришей она всерьез? Он уже ушел от Алены? А как Алена? Бесится? Да-а, понимаю, неприятно, неприятно. Надо бы ей позвонить, утешить подружку. Ты как считаешь?
Она сыпала вопросами, от нетерпения все повышая и повышая голос, и было в ее на невыносимой скорости бьющихся о мои барабанные перепонки словах что-то такое сальное, такое нечистое, прямо как загаженная плита в коммунальной кухне, что я на секунду зажмурился, хотя по-хорошему мне хотелось заткнуть нос.
— Не знаю, — медленно сказал я. — Ничего не знаю. Гриша просит нас помочь. Надо подтвердить, что мы видели, как Женя срезала прядь у Нашего друга. И, что самое неприятное, подписаться под этим.
Денис, разом поскучнев, издал неопределенный звук. Наталья сдулась. Подписываться под лажей, натурально, никто не хотел.
— Дети… — начал я и хотел было продолжить пламенной речью, мол, у нее, у Жени, в сущности, действительно больше ничего нет, она же у нас бесприданница, не считать же квартиру не то в Химках, не то в Мытищах вразумительным вложением в будущее. Но на ходу передумал и сменил тактику. — А я согласен! Согласен подписаться под чем угодно! — как можно радостнее выкрикнул я. — Такой спектакль пропустить — да я век себе этого не прощу! Это же… это же… шоу! Это же такие нравы! Такой паноптикум! Эта Женя, она же… она же фрукт, вот она кто! Где еще увидишь такие… — я судорожно подбирал слова, — такие моральные извращения?! Представляете, если выяснится, что она сама не знает, кто отец? Может, у нее этих отцов дюжина!
— Да? — задумчиво произнесла Наталья. — И правда… — В глазах ее снова проснулся интерес. И еще озабоченность — вдруг она действительно что-то пропустит? Вдруг опоздает? Вдруг ее не пустят за кулисы и она не узнает, с кем спит примадонна? Вдруг окажется в хвосте очереди при раздаче сплетен? Надо быстрее соглашаться! — Пожалуй, можно и помочь бедной девочке, — сказала она жалостливо, фальшивя каждой буквой и яростно гримасничая всеми частями лица. — Да, Денис?
Денис довольно неохотно кивнул.
Ха! Я их соблазнил.
Так мы стали лжесвидетелями.
Тут я хочу заметить — исключительно потому, что к слову пришлось, — что уговаривать Наталью с Денисом выпало мне. Не Грише, не Жене — мне. Так у них ловко получилось, так вывернулось, что, заручившись моим согласием участвовать в их афере, эта парочка автоматически возложила на меня обязанности по техническому обслуживанию мероприятия. Сделав им одолжение, я еще и оказался должен. Спорить было бесполезно. К тому же у меня правило: если что-то делать, то делать на все сто, а не морщиться брезгливо, мол, я разрежу торт, а вы отскребайте крем от скатерти.
Я не буду рассказывать, что происходило в последующие недели, по каким кабинетам мы пропутешествовали и какие человеческие экземпляры наблюдали. Это технические подробности. Они не имеют значения. Значение имеет одно: Женя победила. Ребенка еще не существовало, а отцовство уже установили. Да, кстати, маленькая деталь. Именно мой банковский счет вследствие генетических экспериментов «похудел» на… Ладно, не важно. Женя была довольна — так утверждал Гриша. Я лично никакого удовлетворения на ее яблочной мордахе не заметил. Мордаха имела обычное свое невозмутимо-каменное выражение. Спасибо ни мне, ни Денису с Натальей тоже никто не сказал. Единственное: когда мы, завершив все дела и поставив последнюю печать на последнюю подпись, сели отметить это дело на моей кухне, Женя изобразила танец маленьких лебедей, одна за четверых. Танец вышел корявым. К тому времени Женя уже была беременна довольно основательно, и маленькие лебеди выглядели как разжиревшие кряквы.
— Не успела размяться, — как всегда невозмутимо, сказала Женя, одарив нас танцем, и опрокинула в рот рюмашку коньяка.
Кто был недоволен, так это Наталья. Сидела надутая, злилась, что не узнала ничего интересненького про Женино подполье. Впоследствии предъявляла мне претензии, мол, я ее обманул.
Итак, мы сидели на моей кухне, и вдруг Женя произнесла сакраментальную фразу.
— Так, значит, я могу внедряться в квартиру, — сказала она, и в ее словах явственно звучали «шаги глухие пехотинцев и звон кавалерийских шпор».
— Квартира опечатана, — напомнил я.
— Ерунда! — отмахнулась Женя. — Квартира принадлежит ребенку.
— Ребенка еще нет, — напомнил я.
— Ерунда! — отмахнулась Женя. — Будет же когда-нибудь.
— Вот когда-нибудь и внедришься, — сказал я. — Оформишь наследство на ребенка и внедришься. Законным путем.
Женя побагровела. Глаза ее сузились. Рот, напротив, расплылся, будто его наспех обмазали губной помадой, — потерял очертания, распух, расползся в разные стороны, потек на подбородок, залез на щеки, заняв почти все место под носом.
— Законным путем! — заорала она, широко раскрыв зубастую пасть, и сразу стало ясно то, что в общем-то было ясно с самого начала, а именно — что Женя — классическая базарная баба. — Законным путем! — продолжала она орать. — Законным путем двоюродные братцы набегут! Через пять месяцев! И забаррикадируются там на всю жизнь! А мне рожать через шесть! Как я их буду выкуривать?! Вы же все чистенькие! Вы же мараться не захотите! Чужие чемоданы выносить не будете! И в ментовку не пойдете! Вас же ни о чем попросить нельзя!
Гриша бегал вокруг Жени, пытаясь засунуть в ее распахнутый, раскоряченный, бесформенный рот стакан воды. Женя отталкивала его руку. Вода лилась на Гришину рубашку. Но Гриша ничего не замечал и дрожащим осликом все бегал и бегал по кругу с пустым стаканом и своим испуганным, жалким лицом.
— Послушай, ты… Же-ня, — произнес я очень медленно, боясь брякнуть лишнее. — Ты нас уже кое о чем попросила, и мы сделали все, о чем ты попросила. Мы уже замарались о твою сомнительную авантюру.
— Сомнительную! — еще громче заорала Женя и шарахнула кулаком по столу. — Ах сомнительную! Это ваш драгоценный приятель был сомнительным! Сомнительным удовольствием! Теперь Он благополучно отправился на тот свет, а я отдувайся! А вы… вы… пошли вы все вон! Слышите — вон!
— Может, это ты пойдешь вон? — ласково спросил я. — Все-таки это моя квартира.
Женя захлопнула пасть и перестала дышать. Гриша смотрел на меня с изумлением. Он был потрясен: да как же я решился поднять руку (точнее, голос) на святое? Наталья, вытянув шею, с жадным любопытством в упор уставилась на Женю. Денис сидел отвернувшись, словно боялся запачкаться. Наконец Гриша очнулся.
— Да что же это… Да как же… — забормотал он. — Женечка, Женечка… Только не волнуйся. Тебе вредно, Женечка. Ну ребята, ну давайте… давайте поговорим нормально, ребя-а-ата! — И он тихонько завыл.
Женя глубоко вздохнула. Щеки опали. Рот вернулся на исходную позицию.
— Мне надо прописаться в квартире, — произнесла она почти нормальным голосом. — А то правда упущу.
— Это невозможно, — мягко сказал я. Мне уже было стыдно за вспышку гадливости по отношению к Жене.
— А если… — задумчиво произнесла Наталья, и все разом повернулись к ней. — А если тебе сначала выписаться из Мытищ… вернее, Химок… ну, ты понимаешь. Ведь просто так никого не выписывают. Надо обязательно указать адрес, куда будешь переезжать. Вот, укажешь здешний адрес, выпишешься, а потом… потом… — Наталью застопорило. Она явно не знала, что делать потом, и торопливо закончила: — А потом быстренько впишешься сюда, а иначе станешь бомжом, а бомжом тебе быть не разрешат, потому что ты беременная женщина с ребенком.
Она шумно выдохнула и обвела нас горделивым взглядом. «Давайте, восхищайтесь, здорово я придумала? А то сидите тут как три барана».
А я и не знал, что она такая дура. Только я открыл было рот, чтобы сказать, мол, чё ты мелешь, Наталья, чё ты мелешь, как ее впишут, если она на эту квартиру никаких прав не имеет? Будь она трижды заслуженный бомж Советского Союза и одновременно мать-героиня. Кого это еб… прости, волнует? Но Женя меня опередила.
— А свою квартиру я что, государству отдам? — спросила она с набитым ртом. Она уже успела отрезать ломоть хлеба, намазать маслом, завалить сверху клубничным джемом и откусить здоровенный кусман.
— Почему государству? — живенько откликнулась Наталья. — Папу туда пропиши.
— Папу? — Женя на мгновение перестала жевать. Изо рта выпал и повис на губе кусочек хлеба с вареньем, и Женя запихнула его обратно в рот указательным пальцем.
— Ну да, папу.
— У меня нет папы, — спокойно произнесла Женя, слизывая с пальцев джем. — Я детдомовская.
Немая сцена.
Самое интересное — наблюдать за реакцией людей на неожиданное известие. Сразу становится понятно, кто есть кто. Против натуры-то не попрешь, а в редкие мгновения крайнего изумления, когда человек не контролирует себя, она проявляется особенно ярко и страстно. Но в данном случае я мог гордиться собой: ничего новенького о своих друзьях я не узнал, лениво наблюдая за ними сквозь дымок сигареты. «Молодец, — говорил я себе. — Хорошо ты их изучил. Хороший психолог. Пятерка по труду». Итак, реакция. У Натальи на секунду отвисла челюсть, и тут же на лице появилось такое выражение, будто она нашла золотоносную жилу. И ее собственные жилы на висках вздулись. Шея напряглась. Глаза пожирали Женю. Она готова была броситься в этот сундук с кладом и захлебнуться в драгоценных россыпях Жениной клубнички, запихнуть ее в рот, заглотнуть, не разжевывая, не разбирая, где эти забродившие ягодки подпорчены гнильцой, давясь и снова запихивая и запихивая их в рот полными горстями. Денис едва заметно вздрогнул, но быстро взял себя в руки. Теперь он разглядывал Женю с чисто научным интересом. Во взгляде его читалось: «Ну-ну, интересный экземпляр. Не то чтобы редкий, но любопытный. Жаль, нет с собой микроскопа». Женя была для него червяком. Для него имело значение, как она свивает и развивает свои кольца, чем питается и как переваривает пищу, что будет, если разрубить ее пополам. Он рассматривал ее как представителя вида. Его занимало типичное, а не личное. Сама Женя была ему, разумеется, абсолютно безразлична. Гриша подобострастно подхихикивал рядом с Женей. Понятно — о том, что папа не папа, он знал давно.
Наконец Наталья подала голос.
— А как же этот… с клетчатым животом… из «Москонцерта», — пролепетала она голосом, в котором удивление еще боролось с любопытством, как здоровые клетки из последних тощих сил борются в организме с больными.
— Вот именно, из «Москонцерта», — невозмутимо сказала Женя. — Артист.
— Но зачем?!
— Странно, что вы не понимаете. — Женя обвела нас долгим, задумчивым, немного отрешенным взглядом, столь несвойственным ей, что я удивился этому взгляду едва ли не больше, чем информации о папе. — Вы ведь Его друзья. Как же вы не подумали — должен же хоть кто-то плакать на похоронах.
XIII
Должен же кто-то плакать на похоронах…
Должен же кто-то плакать на похоронах…
Эти слова звучали у меня в ушах, вытесняя все остальные звуки. Я видел, что Женя с Гришей беззвучно, как в немом кино, поднялись, выкатили из комнаты коляску со спящим ребенком, немножко посуетились у выхода, зацепившись колесами о порог, и наконец ушли, так же беззвучно «хлопнув» дверью. Видел, как Наталья ставила чайник, открывала холодильник, вытаскивала колбасу и сыр, резала, выкладывала на тарелку, разливала чай, и все это, не переставая открывать и закрывать ярко накрашенный, блестящий рот. Я смотрел, как двигаются ее губы — шевелятся, извиваются двумя волнистыми розовыми влажными змеями, вытягиваются в трубочку, сморщиваются, растягиваются в стороны, округляются, распахиваются и снова смыкаются, — но не слышал произнесенных ими слов. Наталья обернулась ко мне и замерла на мгновение, глядя выжидательно, и я понял, что она задала мне вопрос, на который надо отвечать.
— Да, — сказал я, не различая собственного голоса. — Конечно. Должен же кто-то плакать на похоронах.
Наталья изумилась, расширила глаза, повернулась к Денису и покрутила пальцем у виска. Денис встал.
— Пошли, — прочитал я по его губам.
Они двинулись в переднюю. Когда дверь за ними закрылась, кто-то у меня в голове отодвинул несуществующую заслонку и звуки, как языки пламени, хлынули мне в уши, оглушив на мгновение.
Я сидел в своей замечательно красивой кухне за собственным столом, сервированным к чаю, и не мог понять, отчего мне так хреново. Гадко мне было — и все тут. Я встал, вынул из холодильника бутылку водки и сделал прямо из горла порядочный глоток. Подытожим. Женя оказалась не Женей. Вернее, не той Женей, портрет которой мы поспешили нарисовать после первой же встречи с ней. Стрелка ее внутреннего компаса, казалось, навеки прикованная к отметкам «Мне», «Мое» и «Наплевать», на самом деле была чуткой и подвижной. По-своему чуткой, по-своему подвижной. Амплитуда ее колебаний была столь мала, что почти не фиксировалась невооруженным глазом. Да и реагировала она на явления, с обычной, бытовой точки зрения не поддающиеся фиксации. Странным, вывернутым способом Женя выражала эту свою чуткость, скорей всего сама ее не осознавая и не понимая, — ну и что? Какая разница — как выражать? Как могла, так и выражала. И если бы самозваный папа не оказался столь нелеп, то Женину чуткость можно было бы назвать даже умной. Да, «эта дубина» Женя вдруг неожиданно и так некстати показала себя чутче и умнее нас. Некстати, потому что никто из нас не догадался, что на похоронах надо плакать. В голову не пришло. Мы-то сами плакать не собирались и находили это вполне естественным. Даже не пытались сделать вид, что горюем. Не желали, видите ли, притворяться и слегка бравировали этим обстоятельством. Впрочем, если бы нам сказали, что бравируем, что гордимся этой своей каменной равнодушной искренностью, мы бы возмутились, ополчились на обидчика, закричали, мол, как ты смеешь говорить нам такие гадости, бросать подобные упреки нам, Его друзьям, да что тебе известно про наше душевное состояние, да тот, кто не рыдает, переживает в сто раз сильнее! И прочую пафосную выспреннюю ерунду. Честное слово, лучше бы мы притворились. Проронили пару фальшивых слезинок. Ведь фальшивое горе, наверное, самая невинная и простительная ложь. Просто потому, что люди должны горевать по другим людям. Иначе совсем тускло было бы жить на свете.
Удивительно, но Женя оказалась умнее еще и в том, что мгновенно раскусила нас — наше отстраненное недоумение по поводу Его смерти, не скрашенное даже чувством приличествующего случаю сожаления. Да, раскусила. Не такие уж мы крепкие орешки. Все с нами было ясно с первого взгляда. А мы ее раскусить не сумели. И, упиваясь собственным самодовольством, изображали эдаких патрициев перед плебейкой.
Я набрал номер Алены. Мне хотелось услышать ее голос. Я не собирался вешать на нее свои пасмурные мысли, рефлексировать за ее счет, отщипывая по кусочку от ее участия. Я просто думал рассмешить ее, а заодно посмеяться самому — рассказать о том, что папа оказался не папа. Преподнести всю эту историю как забавный казус, опустив самую важную составляющую головоломки — последнюю Женину фразу. Я начал, нервно посмеиваясь, нарочито бодрым голосом с уже традиционного: «Представляешь, она опять нас надула», а закончил таким же традиционным: «С этой девицей надо держать ухо востро!» Но Алена сразу почувствовала занозу. Она всегда очень хорошо чувствовала занозы, шероховатости, неровности и неловкости.
— Давай рассказывай, — сказала она, и я тут же выложил все. И про установление отцовства, о котором она ничего не знала, и о моих подозрениях относительно этого отцовства, и о Наталье с Денисом об их прожорливом участии в этой клюкве, и о Жениных претензиях на квартиру, и, наконец, о папе. О папе не как о рыжем клоуне в клетчатом жилете, попавшем на чужие похороны и принявшем их за свадьбу. О папе как о… как о… ну, короче, как о папе. И о Жене с ее детской нелепой чуткостью. И о нас. Я выложил Алене все, что думал по этому поводу, вывалил на нее кучей все, что меня — не скажу мучило, скорее, царапало, теребило изнутри, — все свои неприятные ощущения преподнес ей, как виноград на блюде: разбери по ягодке, отдели косточки от плоти, обдери шкурку, съешь, даже если очень вяжет, только, пожалуйста, не морщись. Зачем я это сделал? Ведь у меня не было в заводе с кем-либо откровенничать. В нормальном состоянии мне бы в голову не пришло рассказывать ей, к примеру, про свои личные дела, делиться интимными подробностями и переживаниями. Но здесь — другое дело, дело, которое касалось всех нас. И с кем в таком случае делиться, как не с Аленой? Других кандидатур не вижу. К тому же мне просто хотелось ей рассказать. Хотелось — и все. Без всяких причин.
Алена слушала молча и после того, как я закончил, молчала еще какое-то время. Я даже испугался, что прервалась связь и мне придется перезванивать и рассказывать все сначала. Но тут Алена задумчиво произнесла:
— Ты знаешь… Ты не прав… — Я издал какие-то невнятные звуки, пытаясь возразить. — Нет-нет, ты послушай, — быстро перебила Алена. — Конечно, кто-то должен плакать на похоронах, но ведь и мы не чурки какие-нибудь бесчувственные.
— Что ты имеешь в виду?
— Я имею в виду, что если мы не горевали, значит, не по кому было горевать. И не по чему. А Женя… Она смешная. Нелепая.
Не думаю, что определение «смешная» подходит нашей Жене, но это так, к слову. Алена между тем продолжала:
— Я думаю, Он правда был отцом ее ребенка. Так что не переживай. Ладно, дружок?
— Ладно… дружок, — сказал я.
А что я мог еще сказать?
Мы еще помолчали.
— Послушай, — вдруг сказала Алена. — Я хочу… В общем, если бы ты сейчас ко мне заехал, я была бы рада.
Она меня ошеломила. Алена вообще редко звала к себе домой. Не любила вторжений на свою территорию, говорила, что чужие люди разрушают ауру дома. Но это все ерунда. Дело же не в том, что она не любила звать гостей, а тут вдруг ни с того ни с сего взяла и позвала. Дело в том, что она МЕНЯ позвала. Одного. Дело в том, что по каким-то причинам ей этого захотелось. Я был ей нужен. Сегодня. Сейчас. И на ночь глядя. Я вскочил, заметался по квартире, схватил ключи от машины, бросил, схватил опять, выбежал из дома, забыл захлопнуть дверь, вернулся, посмотрел в зеркало, бегом спустился с лестницы, споткнулся, чуть не упал, подумал, что надо бы купить цветы, тут же забыл об этом и наконец выехал со двора, чуть не врезавшись в дерево и бестолково озираясь по сторонам. «Ни о чем не думай, а то фиг доедешь!» — приказал я себе. Но одно дело — приказать, а другое — послушаться. В моей голове скакали чертики. Кувыркались как сумасшедшие. Корчили рожи. Дрыгали копытцами. Показывали рожки.
— Эй, там, потише! — громко крикнул я им и открыл окно, чтобы ночной ветер выдул чертовщину из моей башки. Сразу стало холодно. Меня пробил озноб, и я мгновенно отрезвел. «А ты дурак, батенька! — сказал я себе. — Ты чего это вообразил? А? Может, у нее водопровод засорился или стиральная машина протекла, вот она тебя и позвала… дружжжок. Не Грише же звонить, в самом деле. Приедешь, пошуруешь плоскогубцами, выпьешь чайку на дорожку и — гуд бай, дарлинг, миленький ты мой. Давай-ка поспокойней!»
С этими мыслями я въехал в Аленин двор.
Алена стояла на балконе, облокотившись о перила, и курила. А я стоял внизу возле своей машины и смотрел на нее. Она меня не видела, и у меня было такое чувство, будто я за ней подглядываю. Ночь была ясная, и я хорошо видел ее лицо. В нем было спокойствие и отрешенность маски. Как будто она ни о чем не думала, ничего не чувствовала и, может быть, даже вообще не жила. Она медленно подносила сигарету ко рту, медленно опускала руку и медленно выдыхала дым. Я не мог понять, хорошо ей сейчас или плохо, и это вызывало во мне неприятную дрожь тревоги. Я в который раз приказал себе успокоиться и стал просто разглядывать ее. Мне хотелось забрать ее отрешенное лицо с собой, далеко-далеко и навсегда, потому что я знал: когда я поднимусь наверх и войду в ее квартиру, лицо будет уже другим.
Так и оказалось. Она встретила меня буднично, словно я каждую ночь являюсь к ней в гости. Лицо ее было обыкновенно той домашней обыкновенностью, которая гасит краски, стирает черты, нивелирует выражение. Она пропустила меня в прихожую и, прислонившись к дверному косяку, наблюдала, как я стягиваю кроссовки. В принципе я мог бы этого не делать. Никто не заставляет вас летом стягивать в гостях кроссовки. Я, например, даже дома в них хожу. Но я сдуру начал, а она не остановила. Сбросив кроссовки, я посмотрел на нее. Она ногой подвинула мне Гришины тапочки. Я надел их и тут же почувствовал себя идиотом. В чужих тапках и так-то всегда чувствуешь себя идиотом, а тем более в Гришиных. Они были мне физически неприятны, да к тому же еще и малы. Ткань в серо-белую клетку износилась и на правом тапке протерлась до маленькой дырочки в области большого пальца. Тоже мне… м-м-м… ночной герой в драных тапках! Я злился и на себя, и на Алену за то, что она спровоцировала эту дурацкую ситуацию, а я напридумывал невесть чего.
Мы прошли в комнату и сели в кресла. Я сидел в позе юного пионера на сборе отряда: на самом краешке, вытянувшись в струнку, сложив руки на сдвинутых коленях и пытаясь незаметно спрятать под кресло драный тапок с торчащим из дырки пальцем — как будто это мои тапки и я стесняюсь своей неряшливости! А ведь стесняться должна была Алена, которая оказалась плохой хозяйкой и неважной женой. Но Гришины тапочки были ей до фени, впрочем, подозреваю, как и все остальные Гришины вещи.
Она не глядела на меня, и я мог смотреть на нее открыто, не боясь оказаться застуканным. В ее лице не было больше спокойствия. В нем была неуверенность и нервозность. Левый уголок рта слегка подергивался. Она снова закурила, но теперь подносила сигарету ко рту не медленным, плавным жестом. Ее рука двигалась рывками, по ломаной траектории. Она волновалась, и мне было это приятно. Я отнес ее волнение на свой счет и взбодрился. Однако бодрился недолго. Я попал впросак. Ее волнение было связано отнюдь не с присутствием моей драгоценной особы ночью в ее квартире.
— А где сын? — спросил я, чтобы что-нибудь спросить.
— В спортлагере, — равнодушно бросила Алена, вынула из кармана джинсов флэшку и протянула мне. — Вот, — сказала она. — Прочти дома.
Я взял флэшку, сунул в карман рубашки и только после этого запоздало спросил:
— Что это?
— Это… Ну, увидишь. Только имей в виду, я никому это не показывала.
— А мне почему?
Я был совершенно дезориентирован. Что происходит? Что она мне дала? Зачем? Что за тайны? Я даже не могу задать ей ни одного вопроса, потому что понятия не имею, о чем, собственно, спрашивать.
— Тебе, потому что… В общем, после нашего сегодняшнего разговора… Просто я не знала, что ты так все переживаешь. Мне показалось, ты думаешь о том же, о чем и я, и чувствуешь тоже немножко похоже. Вот и вся причина.
— Ага, — сказал я. — Спасибо за это… за доверие.
Мы продолжали сидеть. Алена выжидательно смотрела на меня. Ждала, когда я встану. Значит, чая не будет. Она сделала то, что хотела, и больше я ей сегодня ночью не нужен. Просьба освободить вагоны.
Вот так, голубчик. Тебя провели. Нечего было раскатывать губешки. Я был раздражен и заинтригован одновременно. Не знаю даже, что больше — раздражен или заинтригован. Нет, все-таки больше заинтригован. Действительно, что мне дала Алена? Компромат? Но на кого? А может быть, это секретная информация о движении денежных потоков? Но, Боже мой, куда и откуда? Она могла выкрасть флэшку в банке Дениса. Я что, с ума сошел? Зачем ей что-то красть в банке Дениса? И как бы она могла это сделать? Проползти мимо охраны в маскхалате? А может, она на досуге промышляет хакерством? Идиот! Нет, в этом что-то есть. Вскрыла базу данных конкурирующей риелторской конторы и теперь, используя методы жесткого шантажа, планирует содрать с них кругленькую сумму. Значит, шантаж… Что-то не похоже на Алену. Шантаж — это низость, гадость. Она бы никогда не опустилась до шантажа. А… шпионаж… ну да, как же я раньше не подумал? Конечно, шпионаж. И за кем шпионим? И на кого работаем? На американскую разведку? Тьфу ты! Что за бред лезет иногда в голову! Однако в конце концов остается последний вопрос: зачем она мне это дала? В любом случае я возьму вину на себя. Алена не должна пострадать. Она ведь доверилась мне. Не Грише, не Денису, не гипотетическому любовнику, который — уверен — у нее есть. Мне.
Из машины я выскочил еще более взбудораженный. Дома бросился к компьютеру и вставил флэшку в гнездо. Суетливо повозив мышкой по рабочему столу, нашел нужный ярлык, щелкнул два раза и… отключился.
Ну да. Я уснул. Упал головой на коврик для мышки и полностью вырубился из системы координат. Просто кончился завод. Они меня доконали. В ту ночь я видел во сне беременную Наталью, одетую в эсэсовский мундир, которая светила Алене лампой в лицо и кричала: «Будем говорить или нет? Кто отец моего ребенка? Почему вы не плакали на похоронах? Немедленно пропишите папу в квартиру и вскройте файлы с базой данных! Нарежьте колбасу и положите в конвертик! Остановите денежные потоки! Кто разрешил высовывать большой палец из дырки?»
Во сне — я чувствовал это, хотя дрых как колода, — я непроизвольно поджимал большой палец на правой ноге.
XIV
Я проснулся от звона в ушах и, не открывая глаз, автоматически схватил телефонную трубку. Во рту было сухо и гадко, как будто я вчера перепил. Башка гудела. Ухо горело. Я здорово его отлежал. В глазах роилась какая-то дрянь вроде мушек. Я приложил трубку к раскаленному уху, вздрогнул и переложил к другому. На том конце провода обнаружилась Ольга.
— Хорошо, что я тебя застала! — крикнула Ольга, и я подумал, что сегодня ее голос звучит еще противнее, чем обычно. Она и так-то всегда верещит на высоких нотах, а тут буквально пронзила меня насквозь своим фортиссимо.
— М-м-м… — промямлил я.
— Надеюсь, ты не с похмелья! — прокричала Ольга, дав в конце фразы заливистого петуха. — Очень важное дело! Неотложное! У тебя есть деньги?
— Что?
Я, наверное, ослышался. Они что, все с ума посходили? Опять деньги! Только закончилась эпопея с Женей, а уже следующие на очереди? Я что, обязан субсидировать их дурацкие начинания? Я уже понял, откуда ветер дует: деньги, очевидно, были нужны Виктору.
— Деньги, говорю, есть? — продолжала верещать Ольга. Нет, это не голос, а какое-то металлоизделие повышенной остроты, к тому же с зазубренными краями.
— Есть, — спокойно сказал я. — Пятьсот рублей по сотне. Тебе сколько надо?
Ольга запнулась, видимо, не ожидала такого ответа, но быстро оправилась и снова поскакала по кочкам и ухабам:
— Мне надо! Мне надо! Мне надо спасать любимого человека!
— Виктора, что ли?
Ольга молчала. Молчание было скорбным. Я тоже молчал, представляя себе трагическое выражение ее лица. На том конце послышался многозначительный вздох и вдогонку — отчетливый всхлип.
— Ладно, не реви. Что случилось? — сказал я как можно миролюбивее, хотя во мне все восставало против Ольгиной простецкой, нет, просторылой наглости. Позвонить человеку с утра пораньше и, ничего не объясняя, брякнуть: «У тебя деньги есть?» Раз есть — давай. Я же давать ничего не собирался. С меня Жени хватило. К тому же расклад представлялся таковым: у самой Ольги денег нет и никогда не будет. С Виктора вообще никогда ничего не возьмешь. Хорошо, если, одолжив с помощью этой курицы энную сумму, он не скроется сразу с нашего горизонта, не улепетнет, сверкая пятками и ухмыляясь в усы. И с кого тогда спрашивать?
— Виктор проиграл очень крупную сумму, — нормальным человеческим голосом произнесла Ольга и вдруг действительно заплакала.
Я не стал ее утешать. Бормотать глупости — не мой жанр. Да и Ольга — известный персонаж. Если бы Виктор занозил палец, она бы убивалась точно с таким же отчаянием.
— Какую сумму? — сухо спросил я.
— Пять тысяч долларов! — прорыдала Ольга.
Ну, сумма, положим, не такая уж крупная. Виктор мог бы и сам ее отдать, если бы соизволил подсуетиться. Но суетиться он не изволил. Последнее время у него, видите ли, был творческий кризис, вызванный головокружением от успехов на небезызвестных выставках. Говоря проще: ему неохота было марать свои холсты. Заказы уплывали. Ольга заламывала руки. Виктор сутками дулся в карты. Иногда выигрывал. Мелкие проигрыши отдавала Ольга. Вот и сейчас он ее подставил. Более того, я уверен, что в настоящий момент он валяется на диване, скалит зубы и ухом не ведет, поручив Ольге выходить из ситуации, как ей вздумается. Не исключено, что, делегировав Ольге это почетное право, он тут же забыл о своем проигрыше. Он даже не слышит, о чем мы с ней говорим. Не хочет слышать. Ему наплевать. Ну а мне наплевать на Виктора. Он мне не друг, не товарищ, не родственник. И я не дойная корова.
— Видишь ли, дорогая, — начал я, чувствуя себя иезуитом, но не ощущая ни тени раскаяния по этому поводу. — В последнее время мне пришлось сильно раскошелиться. Наша новая подруга Женя оказалась довольно обременительной обузой для моего кармана. Я понимаю, тебя это не волнует. Но ведь и меня Женя не волнует. А раскошеливаюсь почему-то я. Почему, не знаешь, случайно? Вот и я не знаю. Если хочешь, позвони Жене. Если она думает отдавать мне долг, пусть отдаст тебе. А я с тебя потом слуплю с процентами. А то скажи Виктору, может, он продаст пару картинок. Или он теперь только в карты дуется?
Ольга жалобно мяукнула. Я ждал, что она начнет причитать, уламывать меня, бить на жалость, лепетать разные глупости вроде того, что Виктор проиграл очень серьезным людям и эти серьезные люди серьезно с ним разберутся, и бла-бла-бла, и бла-бла-бла. И уже заготовил ответ, мол, за пять штук серьезно не разбираются, в крайнем случае начистят мордашку, что в целом было бы неплохо, или разгромят мастерскую, что хуже. Но Ольга молчала. Я понял, что она обескуражена моим ответом и не может прийти в себя.
— Слушай, — сказал я. — Ты знаешь, у меня деньги есть, но Виктору я не дам ни копейки. Я просто не понимаю, почему должен ему давать. Я вообще его плохо знаю, а с чужими людьми, ты знаешь, я не связываюсь. Зато я дам тебе совет. Позвони Наталье и Денису. Я знаю, они дают. Под расписку. Проценты небольшие, осилишь. Только сразу скажи им, что согласна и на проценты, и на расписку.
— Спасибо, — прошептала Ольга и повесила трубку.
Я, радостно посмеиваясь, потер руки. Никаких денег Наталья с Денисом никогда никому не давали. Однако я был уверен, что, услышав про проценты и расписку, они не удержатся, заблестят глазками, задвигают пальчиками, подсчитывая, сколько жалких сотен смогут слупить с глупой Ольги, и упадут грудью на лакомый кусочек. А в результате не получат ни шиша. Ольга никогда не наберет нужной суммы. Она будет отдавать долго и уныло, малюсенькими кусочками, хорошо, если по пятьсот в полгода. И когда Виктор ее бросит, по-прежнему будет отдавать. Приносить одну или две тщательно разглаженные и запрятанные за молнию в дальний карман сумки бумажки и смотреть на Наталью с Денисом затравленными глазами. А Наталья с Денисом будут злиться и проклинать тот день, когда «сели за баранку этого драндулета». Ура! Я им отомстил. За что? Да за все. За то, что они ТАКИЕ.
Ольгу мне было не жалко ничуть. Она бы все равно влипла с этим долгом. Не в Наталью с Денисом, так в кого-то другого. Есть люди, которые всегда найдут в кого влипнуть. В конце концов, она уже влипла в Виктора, тем самым доказав полную несостоятельность своего умишка. А дур я никогда не жалел.
Я выпил кофе и с опаской вернулся к компьютеру. Мне было страшно открывать Аленин файл. Ночная горячка прошла. Я прекрасно понимал, что никаких государственных тайн там не обнаружу. Но зачем-то она вызвала меня посреди ночи! Зачем-то вручила мне флэшку!
Сначала была пустая страница. Потом, посреди второй, большими буквами, слегка смещенное клевому краю, название. «БАБОЧКА». Бабочка? Потом опять огромный пробел, и вдруг — без красной строки, без абзацев, с запятыми, расставленными не к месту и некстати, состоящий из крошечных блеклых буковок, из торопливо слепленных, скученных слов, с опечатками и ошибками, брошенными второпях и тут же забытыми, сплошной тяжелой бликующей массой, словно водопад, неожиданно открывшийся за поворотом и оглушивший, — на меня обрушился текст. Я упал в него, как падают люди, наповал сраженные пулей. Захлебнулся в стремительном сюжете, где не объяснялись ни причины, ни следствия, ни мотивы, ни родственные связи, где были заданы неизвестные мне правила игры, а персонажи казались инопланетянами. Я не расскажу сейчас толком, о чем, собственно, там говорилось, в этой судорожно бьющейся, пульсирующей массе слов. Что-то о женщине, которая решила, что она бабочка. И в финале ею стала. Рассказ о женщине-бабочке был сплетен из фантазий и реальности, словно корзинка, сквозь прутья которой сочится сок нежности. Он, этот рассказ, был невесомым и каким-то отстраненным, прохладным. В том-то и парадокс: в нем чувствовалась внутренняя холодность, скрытая под внешней горячностью. Ничего личного, как это обычно бывает с художественными текстами, я в нем не нашел. Ну, то есть я хочу сказать, что прочитать и определить личность автора вам бы не удалось. А мне бы очень хотелось ее прочитать и определить. Там вообще начисто отсутствовали какой бы то ни было жизненный опыт, жизненные накопления и наслоения, представления, мнения, знания, нравственные установки, принадлежность автора к какому-либо, положим, социальному слою или возрастной группе. Как будто человек, писавший этот рассказ, ничего не знает о жизни и, может быть, даже еще не жил. Аленин рассказ напомнил мне ее лицо, таким, каким я увидел его прошлой ночью, стоя под ее балконом. Ага, значит, личность автора все-таки отпечаталась в этих не слишком умело составленных словах. Роль личности заключалась в ее самоустранении.
Алена — нет, не она, женщина-бабочка — наблюдала за персонажами как бы сверху. Люди то укрупнялись, то уменьшались в зависимости от того, спускалась она к ним или поднималась над ними. Жизнь проходила перед ней в масштабе. Она видела ее как карту — в целом, — но именно это лишало ее возможности замечать детали. То есть то единственное, что доставляет радость. Она же видела лишь червячков на земном шарике, а это радости не доставляет. Иногда червячки увеличивались в размерах, и она могла даже — если сильно напрячь зрение — разглядеть, что у них есть ручки, ножки и лица. Но выражения лиц не различала, и их черты казались ей одинаковыми. Вот одна из ее фантазий: какой-то крошечный «червячок» копошился, суетился, стирая крошки со своего крошечного столика в своем крошечном домике, и сразу тысячи таких же «червячков» начинали как один копошиться, суетиться, стирать крошки со своих крошечных одинаковых столиков. В этом взгляде на мир была боль — боль от ненадежности, хрупкости, бессмысленности, мелочности. А женщина-бабочка все порхала и порхала, и с ней происходили какие-то воздушные невероятные вещи, совсем непохожие на те, что происходили с «червячками». Но ведь именно это и отличает бабочек от червячков.
Я сказал, что Алена написала рассказ, но это не так. Под словом «рассказ» я имел в виду повествование. Это был, скорее, маленький роман или большая повесть. Я читал его весь день, и только когда стемнело, понял, что наступил вечер. Я поспешно запихнул в себя какой-то бутерброд, выпил чаю и снова сел к компьютеру. В полночь я оторвался от экрана и набрал Алену. Я не знал, что ей скажу. Но мне некогда было готовить речи. Просто хотелось скорее услышать ее голос. Она взяла трубку сразу, и я понял, что она ждала моего звонка, может быть, даже весь день просидела у телефона.
— Алена, — выдохнул я. — Алена…
Она все поняла.
— Спасибо, — сказала она.
Мы немножко помолчали и одновременно повесили трубки.
И все же: почему она дала роман именно мне? Она никогда меня не выделяла, почти не замечала. А может быть, это я сам хотел, чтобы не замечала? Может быть, это я сам боялся быть замеченным?
XV
В середине июля Женя сняла дачу. Глупее этого поступка трудно было что-нибудь себе представить. Но это же Женя. Я давно понял, что в ее голове маленькие серые клеточки чья-то божественная, но коварная рука при рождении заменила на горсть разноцветных стекляшек. Эксперимент такой. Что будет, если у человека в башке — детский калейдоскоп? Потрясет головой — все смешается в кашу. Повернется направо — такой рисунок. Повернется налево — эдакий. Результат непредсказуем. Количество вариантов стремится к бесконечности.
Так вот, дача. Сначала она заслала Гришу к Денису с Натальей. У них была огромная дача километрах в сорока от Москвы. Генеральская. Тридцать соток — одни сосны. Дом старый, пятидесятых годов, деревянный, двухэтажный, весь в верандах. Кусты сирени. Между прочим, все удобства, сочиненные Денисом уже в новые времена. Дача досталась ему и его старшей сестре Ритке от отца, который занимал большую должность не то в Минобороны, не то в ГРУ, не то в КГБ. На даче Денис не жил. Ритка почему-то тоже, хотя у нее было двое детей-обалдуев. Иногда мы выезжали туда на шашлыки и дружно мечтали о том, что как-нибудь обязательно проведем там недельки две вместе, валяясь под соснами. Ни разу не случилось. Так вот, Женя послала Гришу к Денису и Наталье выклянчивать разрешение пожить на даче до осени. Она-то, понятно, не сомневалась в том, что разрешение будет дано тут же и чуть ли не с благодарностью за оказанное доверие. Но обломалась. Денис с Натальей Гришу, мягко говоря, послали. Даже не снизошли до аргументации. Женя повизжала, ножками об пол побила, ручками помахала, Гришу назвала несколькими словами, приводить которые здесь мне бы не хотелось, и перешла к новой идее. Снять дачу.
Всем известно, что дачи сейчас сдаются на пять месяцев — с мая по сентябрь. Оплата аккордная. Сумма, мягко говоря, охренительная. Но Женя уперлась: ребенку нужен воздух и парное молочко от буренки. Ей, как будущей мамаше, тоже полагается пол-литра в день. Хотела скромненько обосноваться, к примеру, в Жуковке. Ну ладно, не в Жуковке, так хотя бы в Кратово или на худой конец в Малеевке. Долго мусолила нам мозги, мол, дальше Кратова не поедет, потому что не желает хоронить себя в глуши. Ей требуется культурный аспект бытия. Типа пристанционный кинотеатр, переделанный из бывшего сельпо. «Женя, в какой глуши? Какой аспект? Опомнись, девочка! Оставайся в Москве, никто тебя не неволит. Не хочешь — подвинь слегка свои амбиции, в конце концов, жить тебе в глуши месяца полтора максимум, до первого дождя».
Короче, после длительных дискуссий с истерическими повизгиваниями в коде, остановились на деревенском доме во Владимирской области. Два с половиной часа в одну сторону на машине. Железная дорога в десяти километрах. Добираться на попутках. Районный центр — в тридцати. В доме русская печь в саже и копоти. Другой мебели нет. Стало быть, предстоит переезд со всем барахлом. Да, и главное — на какие шиши? На какие шиши Женя собирается снимать эту красотень? Это вам, конечно, не Жуковка и не Малеевка, но платить-то все равно надо. Гриша метался по Москве. Слава Богу, не явился ко мне с очередной просьбой о денежных вливаниях, а то я бы спустил его с лестницы. Наконец была назначена дата выезда. Из соображений экономии «газель» заказывать не стали. Ограничились моим «джипом», машиной Дениса, да и Виктор подсуетился. Видимо, Ольга намекнула, что неплохо бы помочь бедным малюткам, дескать, ему зачтется на этом свете при очередных денежных затруднениях. Виктор одолжил разбитый рыдван у какого-то дружка и в день переезда первым стоял у Жениного подъезда.
Однако вопрос оплаты деревенской хибары продолжал меня волновать. Я поинтересовался у Дениса, не забегал ли к нему Гриша с известной просьбой. Денис покачал головой. Гриша не забегал. Гриша забегал домой. В смысле — к Алене. Всего на минуточку. Буквально по делу. Позвонил ей сначала для проверки. Удивился, что сына нет дома. Услышав, что тот уже две недели как в спортлагере, страшно обрадовался, рванул в комнату сына, подскакал к его столу, выдернул из розетки провод ноутбука, засунул его в полиэтиленовый пакет из магазина «Пятерочка», который был заботливо приготовлен для этой цели и до поры до времени хранился у Гриши в кармане, засунул, стало быть, ноутбук в полиэтиленовый пакет — и деру. В ближайший магазин подержанной техники. А надо сказать, что ноутбук подержанным не был. Алена купила его буквально неделю назад, чтобы сделать сыну сюрприз к возвращению из лагеря, и по старой семейной привычке делиться с Гришей бытовыми подробностями жизни (привычке, от которой, по моему скромному разумению, давно пора было избавиться, так как общей жизни у них с Гришей больше не было, но Алена, видимо, этого еще не поняла, а если и поняла, то на автомате продолжала выдавать фразочки типа «У нас засорился мусоропровод. Я вызвала сантехника. Ты будешь в среду дома?» или «Как ты думаешь, не купить ли в гостиную новую лампу?», на что Гриша не трудился реагировать даже кивком, да и Алена на него не смотрела, когда спрашивала, и никакой реакции от него не ждала, это была чисто физиологическая функция, от которой она никак не могла избавиться), так вот, по старой этой дурацкой физиологической привычке она рассказала Грише о покупке компьютера. Ну, Гриша и смекнул, что надо делать. Итак, он подгадал, чтобы Алены не было дома, и — фьють! Прощай, мой милый Microsoft Word! Да и вы, Exel с Outlookoм, тоже! Гриша отдал компьютер за полцены, а стоил тот недешево. По моим понятиям — штук шестьдесят. Для пятнадцатилетнего пацана, на мой взгляд, дороговато, но Алена всегда покупала сыну дорогие вещи. Мне кажется, она пыталась таким образом оправдаться перед самой собой за то отстраненное, холодноватое чувство, которое испытывала к собственному ребенку.
В общем, за избушку было уплачено и даже много чего осталось: бабулька, владелица дома, запросила недорого. Видимо, Женя была у нее первой дачницей, а на вторую она и не рассчитывала. Впрочем, она вообще ни на кого не рассчитывала, когда со стороны проселочной дороги появился с пяток до макушки замурзанный Гриша, которого Женя погнала по городам и весям и велела без ключей от дачи не возвращаться, появился, значит, и попросил бабульку испить водицы. Бабулька водицы дала, Гришу умыла, накормила, обогрела, спать уложила, только что в печь не посадила. Гриша разомлел, разнюнился и начал плакаться бабульке на свою несчастную жизнь. Бабулька со своей стороны выразила удивление, мол, что ж такой гарный молодец и не уйдет от «ентой стерьви». Имелась в виду, конечно, не Алена, а Женя, которую бабулька оценила по Гришиным рассказам, хоть и заочно, но точно. Гриша совсем потек, наплел какую-то ахинею про ребенка, разжалобил старушку, вместе они всласть порыдали друг у друга на плече, повыли, поголосили, стало быть, как полагается, потом бабулька подтерла Грише сопли, велела привозить «ехидну енту и дитятку малую неразумную» и даже не попросила аванса. Так все и сложилось.
Во время переезда выяснилось, что Женя не вполне бесприданница, каковой себя позиционировала. Не хотелось бы мне выступать в роли человека, который шныряет по чужим чуланам, скребет по чужим сусекам, копошится в чужом пшене, чтобы проверить, чего такого эдакого вкусненького пожалела ему хозяйка, что у нее тут припасено, о чем ему не доложили, однако скажу: тут было на что посмотреть. Кроме обычной хозяйственной утвари и детских вещичек, кроватки, коляски, Женя везла в избушку: телевизор «Sharp», ЖК, панель; холодильник «Electrolux» офигительной величины, тащили втроем, чуть не уронили; дальше скороговоркой: микроволновка, музыкальный центр, кофемашина, комбайн, DVD-проигрыватель, куча дисков, чайный сервиз, явно старинный, с диковатой формы чашками в виде райских птиц, полиэтиленовый пакет с норковой шубой, ну и так далее по мелочи.
— Помилуй, Женя! — воскликнул я, свалив холодильник на землю и тяжело дыша. — Какого черта ты тащишь в эту дыру телевизор и холодильник? Там же электричества нет!
В то утро Женя находилась в мрачном состоянии духа и шутки не поняла.
— Пусть будут, — хмуро сказала она. — Вдруг есть.
— А шуба? — не отставал я. — Зачем тебе летом шуба?
— А что, здесь ее оставлять? Ворам на съедение? — буркнула Женя.
Резонно.
Переезд занял весь день. Я, быть может, и хотел бы остаться в этой, как выражалась Женя, дыре на ночь, выспаться на каком-нибудь сеновале, надышаться клевером и коровьим вязким духом, а поутру, на свежую голову, попив парного молочка, ехать в Москву. Денис был не против. Виктор тоже. Но Женя по-прежнему мрачно (ни тебе «спасиба», ни «глубокого мерси») заявила, что делать нам здесь больше нечего, а если мы хотим попасть в город до одиннадцати, то есть засветло, то пора бы и по машинам. Гриша, мол, телевизор сам подключит. Электричество оказалось в наличии.
И началась наша дачная жизнь. Я говорю «наша», хотя в избушку к Жене никто из нас и в мыслях не имел ездить. Гриша нес этот крест сам. Тем не менее жизнь была именно нашей. Вернее, сопутствующие обстоятельства этой жизни. Однако началось все не с переезда Жени, а на несколько дней позже. И вот как. Было воскресенье, я сидел дома, культурно ждал в гости девушку, когда раздался звонок в дверь. Не ожидая подвоха, я побежал открывать. На пороге стоял папа в красно-зеленую клетку с пунцовой бабочкой на шее, радостно потряхивая обширным брюхом. Я ошарашенно смотрел на него, и в голове моей бултыхалась одна-единственная мысль: «Как же он в такую жару и в бабочке? Не умер бы, не ровен час, от удушья». Папа улыбнулся мне обольстительной улыбкой, сверкнул золотым клыком, отодвинул меня в сторону клетчатым животом и проследовал в прихожую. Быстро оглядев помещение, папа мгновенно и безошибочно определил направление движения. Его влекла кухня. Пройдя на кухню, он вольготно разместился на стуле, широко расставил ноги, сложил руки на животе и слегка склонил голову к левому плечу. По-прежнему широко улыбаясь, он молча смотрел на меня. Я тоже смотрел на него молча, правда, с довольно кислой миной.
— Ну? — сказал папа.
— Ну? — сказал я.
— Пять часов, — сказал папа, указывая взглядом на настенные часы.
— Пять часов, — подтвердил я.
Папа задумался. Его глаза подернулись туманом печали.
— Обычно я обедаю раньше, — доверительно сообщил он. — Часа в два. Но нынешняя молодежь считает себя вправе нарушать все правила жизни, в том числе и режим дня. Вы, наверное, еще не кушали?
— Не кушал, — согласился я. — И собирался покушать…
Тут я планировал поделиться с ним своими планами на вечер. Дескать, сейчас придет моя девушка и мы пойдем с ней кушать в ресторан, а потом здесь, в этой квартире, будем заниматься своими делами, а если папа хочет заниматься этими делами вместе с нами, то я бы ему не советовал. Бессмысленное занятие. Втроем не получится. По крайней мере у нас с девушкой втроем с папой — ну никак, хоть зарежься. Однако папа не дал мне договорить.
— Вот и хорошо! — обрадовался он. — Покушаем вместе!
Он подошел к холодильнику, распахнул его и начал выгружать на стол свертки.
— А горячего-то нет! — укоризненно сказал папа, разрезая упаковку с бужениной, и погрозил мне сосисочным пальцем в детских перевязочках, который был втиснут в крупный перстень-печатку из подозрительного желтого металла. — Я вот вчера был у ваших друзей, Витеньки с Оленькой, так должен вам заметить, молодой человек, что Оленька такая хозяюшка, уж такая хозяюшка! Уха была просто изумительной! А пирожки! Боже мой! Какие пирожки! Особенно с капустой! Я попросил Оленьку дать мне пару штучек с собой, а заодно и курочки, и севрюжки. А вам я, молодой человек, скажу как старый друг, человек, который прошел долгий тяжелый жизненный путь, был предан друзьями, но не сломлен, многое успел и многих пережил, сохранил ясность мысли, вкус к жизни и честолюбивые замыслы, как человек, который годится вам в отцы и на этом основании имеет право поделиться наболевшим с грядущими поколениями, — горячее надо есть обязательно! Заработаете язву желудка, вспомните меня! Прошу! — И он широким жестом обвел стол, как бы приглашая меня полюбоваться на этот удивительный натюрморт.
А надо сказать, что за время своей краткой речи папа роскошно сервировал стол. Нарезал аккуратными кружочками и выложил на разноцветные тарелочки все, что нашел в холодильнике. Сверху украсил ломтиками лимона и веточками петрушки. Сложил в глубокую керамическую миску маринованные огурцы и помидоры. Засунул в высокий стакан салфетки. Разложил вилки, ножи. Отдельно — ложечку для маслин. Бокалы хрустальные поставил. Налил в них пиво. Молодец.
— A-а! Так вы ко мне обедать пришли? — догадался я.
— Истинно так! — воскликнул папа. — Приступим?
— Простите, но… м-м-м… — Я не знал, как спросить папу, какого черта он ко мне приперся, не задев чувств человека, который многих пережил и многих, видимо, еще переживет. — Простите, но я вас не ждал.
— Меня никто не ждет, — резонно заметил папа и наколол на вилку кусок малосольной семги. — Я сам прихожу. Это моя особенность. Изюминка характера. Вот завтра собираюсь навестить Наташеньку с Дениской. А потом и к Аленушке загляну.
— С Дениской? — изумился я и даже закашлялся от эдакого нахальства.
— Ну да, — безмятежно произнес папа. — Вы не составите мне компанию?
— Еще раз простите, но на каком… м-м-м… основании вы ходите к нам обедать?
— На основании родственных связей.
— Родственных связей?! Но каких?!
— То есть как это каких? — изумился папа. — Я же папа вашей лучшей подруги! Бедная Женечка! Если бы она знала, что приходится претерпевать ее папе, какие унижения выносить, какие инсинуации выслушивать, когда его любимая доченька находится на чужбине!
— Господи, папа, на какой чужбине! Она в деревне с ребенком, вы прекрасно это знаете! И потом, папа, вы же не папа!
— Не папа, — согласился папа. — Но кушать все равно хочется.
Я захохотал. Бесшабашная, безбашенная наглость папы мне понравилась. Он взял меня голыми руками, даже не подозревая о том, что только что походя выиграл бой. Люблю людей без комплексов. В них столько детского, что хочется покачать их на руках и усыновить.
Мы с папой основательно пообедали. Папа особенно налегал на пиво. Пришла моя девушка, сварила нам кофе, и папа, разомлев, решил остаться на весь вечер. Вечер прошел изумительно. Папа ни на секунду не закрывал рта. Он рассказывал нам байки из своей гастрольной жизни. Плавно поводил руками, вскрикивал, закатывал глаза, разражался сатанинским хохотом, пытался укусить себя за локоть. Укрыться от его красноречия не представлялось возможным, так как я, не рассчитывая на то, что меня будет навещать папа, в свое время сломал в доме все перегородки. В конце концов папа облил коньяком свой великолепный красно-зеленый жилет и заснул в кресле. Девушка, с трудом удержавшись, чтобы не плюнуть мне в рожу, ушла домой, а я пошел звонить Грише. Я хотел дать ему хорошего пинка, чтобы он прекратил это безобразие. Вернее, чтобы Женя прекратила. Что это за дела — шляться по домам и нахлебничать! Пусть забирает своего самозваного папу в деревню! Или пусть приезжает и делает ему внушение!
Трубку взяла Алена.
— А-а, — равнодушно протянула она, выслушав мой рассказ, полный страсти и огня. — Понятно. А Гриши нет. Он в деревне, у Жени.
Черт! Как же я не подумал-то, что он дома совсем не бывает?! Алена помолчала.
— Послушай, это надо прекратить, — наконец произнесла она. — Если он хочет жить с ней, пусть скажет. Я не буду возражать, ты же знаешь. Может быть, я даже буду рада. Но сейчас… Почему-то неприятно чувствовать себя полной дурой, которая якобы не понимает, что за мышиная возня вокруг нее творится. Я хочу поехать в эту сучью деревню к этой сучьей Жене, которая так стремилась плакать на похоронах, что организовала себе чужие слезы, поехать и поставить все точки над i. Ты меня отвезешь?
— Отвезу, — сказал я. — Только не раньше субботы. До субботы не получится. Полный завал. А может, он до субботы сам появится?
— Не появится, — сказала Алена.
Она опять смутила меня. Который раз за последние дни? Вот, сегодня просила о помощи. А ведь в любой просьбе о помощи всегда имеется интимный аспект: с тобой делятся тем, чем не делятся с другими. Таким образом Алена все время приближала меня к себе. И… я ни на шаг не становился ближе. Она делала это нарочно? Или по наивности? Не понимая, какими глазами я на нее смотрю и какого приближения жду?
— Алена, — произнес я неуверенно. — Ты… ты последнее время часто просишь меня об одолжениях. Я всегда рад тебе помочь, но… но почему ты обращаешься именно ко мне?
— А к кому еще? — сказала Алена.
Ну да. Ну да. Оказывается, я палочка-выручалочка. Ну что ж. Пусть так.
XVI
Алена ошиблась. Гриша появился. Вернее, объявился. История его появления в своей московской квартире достойна пера Михал Михалыча Зощенко, а может, и Ильфа с Петровым. Он возник на пороге совершенно измученный, с блуждающим взглядом дико выпученных глаз, мешком повалился на стул и застонал. Часы пробили четыре часа утра, когда он слабым голосом спросил Алену, нет ли чего поесть, а то он сутки не держал во рту пищи. Алена налила ему супу, потом еще тарелку, потом еще. Гриша шумно хлебал, мычал, стонал, всхлипывал, чавкал и буквально захлебывался от наслаждения. Потом он долго икал в кресле, а когда отыскался, рассказал, что с утра бегал в соседнюю деревню за парным молоком, потом пек Жене оладушки на завтрак, но сам попробовать не успел, надо было срочно починить крышу, которая давно протекала прямо на Женину кровать, следом он полол бабкин огород с двумя грядками чахлой петрушки, собирал малину, бегал в лес за грибами (Жене срочно захотелось грибного супа), соответственно варил суп, стирал пеленки, в 9 часов вечера Женя спохватилась, что нет хлеба, а заодно велела купить растительного масла, сахара, гречки, колбаски-сырку, чего-нибудь вкусненького (лучше «Птичье молоко», но можно и «Вишню в шоколаде») и так, по мелочи — памперсы, присыпки, детское масло, и погнала его на станцию в круглосуточный магазин. Грише удалось поймать попутку, поэтому до станции он добрался через час, а не через два, как рассчитывал. Набив пакеты, он пешком побрел обратно и ровно в полночь стоял перед крыльцом избушки. Женя вышла на порог, забрала сумки, что-то буркнула себе под нос (в деревне она перманентно пребывала в дурном расположении духа, видимо, оттого, что удавалось срывать злость только на Грише, других объектов поблизости не было, а на Грише срывать злость было неинтересно, он и так ее боялся до потери пульса), итак, она буркнула что-то себе под нос и повернулась к Грише спиной. Гриша двинулся было за ней, но наткнулся на запертую дверь. Он тихонько постучался. Женя высунула нос.
— Езжай домой, — сказала она. — Без тебя справлюсь.
Гриша понуро стоял, уткнувшись носом в дверь, и по-ослиному прядал ушами.
Местный пьянчужка Митрич доволок его на полусломанном тракторе до станции. Трактор Митрич года два назад спер в совхозе и с тех пор держал его у себя в сарае на всякий случай, мало ли что, вдруг война? Все-таки средство передвижения, к тому же с гусеницами. Вот случай и представился. Гусеницы пригодились. На станции Грише повезло. Подошла последняя электричка. Гриша сел в электричку, в изнеможении откинулся на спинку сиденья и задремал. Через полчаса его с позором высадили в ночь. Гриша оказался «зайцем». В полвторого ночи он обнаружил себя «у незнакомого поселка, на безымянной высоте». Как он добирался до Москвы, Гриша помнил смутно. Точно был уверен в одном: регистрацию не проходил и на международные авиалинии не садился. Короче, Женя его выгнала по неизвестным причинам. Может, надоел. А может, из воспитательных соображений. Штоб, значит, знал свое место. Свое место Гриша и без того хорошо знал, поэтому испытывал невыносимые моральные страдания. Его угнетало не столько то, что пришлось пережить сомнительного удовольствия ночные приключения, которые могли закончиться не на собственной его кухне, а в какой-нибудь подмосковной ментовке, в вонючем «обезьяннике» рядом с е…нутыми проститутками, сколько Женина несправедливость.
— За что? — вопрошал он Алену, поглощая солянку мясную сборную. — За что?
Алена, добрая душа, не сказала этой заблудшей овце ни слова. Постелила на диване в гостиной и ушла к себе. Гриша уснул мгновенно. Во сне подергивал кадыком и издавал нечленораздельные звуки. В восемь часов утра раздался телефонный звонок. Звонила, понятное дело, Женя. Ребенок заболел. Надо везти в райцентр, а лучше в Москву. Гриша вскочил, будто его ужалили, и бросился к двери как был — в трусах и майке. Алена встала грудью.
— Не пущу! — тихо, но грозно сказала она.
В этом месте я не все понимаю. Зачем она встала грудью? С какой целью? Зачем ей нужно было задерживать Гришу, который сам по себе был ей совершенно ни к чему? Почему бы ей не обрадоваться, мол, иди ты, голубок, на все четыре стороны и еще на три буквы? Не отпустить его с легкой душой? Почему бы ей вообще не забыть уже о нем навсегда? Видимо, ей просто ударила в голову кровь. Поведение Гриши было настолько оскорбительным, что она элементарно сорвалась. Не исключаю и того, что ей было обидно за Гришу. Ведь его, дурня, использовали как хотели, вертели им, как игрушкой, помыкали, унижали, а он только слюни пускал от умиления.
Между тем Гриша оттолкнул ее в сторону, разбежался, бросился на дверь, навалился на нее всем телом и выломал к чертовой матери. У них в доме все всегда держалось на соплях. Дверь хрюкнула, покачалась неуверенно туда-сюда и рухнула на лестничную клетку. Гриша рухнул вместе с ней. Полежав секунды две задницей кверху в позе препарированной лягушки и повертев головой из стороны в сторону, Гриша подобрал руки и ноги, с трудом придал себе вертикальное положение и, припадая на обе задние конечности, поросшие бурой свалявшейся шерстью, удалился. Тем же утром он появился у Ольги, надел старый плащ Виктора, побрился, съел пачку обезжиренного творога, запил кефиром, одолжил пятьдесят рублей на электричку и исчез в лесах Владимирской области.
Вечером Алена собрала нас на экстренный совет.
Я восхищался ею. Сейчас объясню, что имею в виду. Ей было абсолютно чуждо ложное пошлое бабское чувство неловкости за то, что ей предпочли другую. Она в голову не брала соображения типа «А что обо мне подумают? Не стоит выносить сор из избы! Что я, хуже ее? Господи, как стыдно-то об этом говорить!». Ей не было стыдно. Ей было наплевать. То есть ее личная женская обида на Гришу не выливалась во внешние формы общепринятой морали и общепринятых условностей. Она просто не замечала этих условностей, а если бы ей указали на них, страшно бы удивилась и отмахнулась. Она хотела решить проблему, возникшую в ее жизни, решить с максимальной выгодой для себя, сделав чисто арифметический расчет, как надо действовать в сложившейся ситуации. И просила у нас помощи и совета.
— Ах, Аленушка, Аленушка, — притворно сладеньким голоском пропела Наталья, когда мы расселись. — Кто бы мог подумать, что Гриша тебя… хм-хм-хм… как бы это выразиться… ну, вы же знаете, я всегда говорю искренне, без задней мысли… кто бы мог подумать, что он тебя, красавицу, умницу, так подло бросит! И ради кого!.. Как будто ты какая-нибудь тетя Глаша с кошелками! Мы так за тебя переживаем, так переживаем! — продолжала петь Наталья, по ходу ловко подкалывая заодно и Ольгу с ее вечной хозяйственной озабоченностью и впиваясь жадными глазами в Алену: отреагирует та или нет на эту вежливую гадость? И как отреагирует? Достаточно ли ей неприятно? Или надо еще подбавить?
Но Алена даже не повернула головы.
— Ну? — сказала она, обводя нас требовательным взглядом.
— Давай сначала решим: ты хочешь его вернуть или нет? — спросил Денис.
— Не знаю, — сказала Алена. — А что лучше?
— Лучше вернуть.
— Это еще почему? — вырвалось у меня.
— Очень просто. — Денис выставил вперед руку и начал загибать пальцы. — Во-первых, квартира. Квартира у них общая. Придется делить. Во-вторых, Женя. Если Алена с ним разведется, он захочет жениться на Жене. А зачем он Жене? Какой из него муж? Прости. — Он повернулся к Алене.
— Ничего, ничего, — сказала она. — И так все ясно.
— Ну, раз ясно, тогда ясно и то, что он вечно будет болтаться между тобой и Женей. Она же ему даже ночевать у себя не разрешает. Ты знаешь, что он в деревне спит на лавке в сенях?
Алена пожала плечами. Она знать не знала ни о сенях, ни о лавках и знать о них не хотела.
— Так вот, я говорю, будет мотаться между вами, как кое-что в проруби, — продолжал Денис. — Женю будет обслуживать, а у тебя из дома компьютеры таскать.
— А если я с ним не разведусь, то он что, мотаться не будет? И компьютеры таскать не будет? — поинтересовалась Алена.
— Если не разведешься, можно попытаться воздействовать, — сказал Денис.
— Как?
— Ну… пригрозить. Морду набить. Лишить карманных денег. Не знаю… маме его пожаловаться, — сказал Денис задумчиво.
Виктор хмыкнул:
— Ага, и вызвать на родительское собрание. Просто смени замок в дверях — и разводиться не надо.
Но Денис его перебил:
— Совершенно не согласен с предыдущим оратором! — раздраженно бросил он, пытаясь скрыть раздражение за якобы шутливой фразой. — Нужна определенность, определенность и еще раз определенность. Либо они муж и жена, тогда пусть живет дома. А если не живет, то пусть уходит по-честному.
— Да он и так по-честному. Честнее некуда, — пробормотал Виктор.
— А я считаю, Денис прав! — вдруг пискнула Ольга, и все посмотрели на нее с удивлением.
Чего это она? Сроду никому не возражала! И уж тем более Виктору! Нужен очень весомый резон, чтобы она решилась на подобную дерзость.
— А я считаю, Денис всегда прав! Он очень здраво мыслит! — с вызовом выкрикнул наш храбрый портняжка тоненьким голоском и отважно тряхнул головой.
Виктор взглянул на нее с неожиданно проклюнувшимся откровенным интересом. Я улыбнулся. Понятно. Ольга подлизывается к Денису. Мои старания не пропали даром. Она все-таки решила попросить у него с Натальей денег.
— Что ты предлагаешь? — спросила Ольгу Алена.
— Ехать в деревню и возвращать его обратно.
— А если не захочет?
— Тогда не возвращать.
— Поня-ятно… — задумчиво протянула Алена. — Очень здравая мысль. Но ехать все равно придется. Давайте, мальчики, седлайте коней.
Мы и оседлали. Алена села ко мне в машину на переднее сиденье. Виктор с Ольгой — к Денису и Наталье. И всю дорогу до деревни я чувствовал наше с Аленой совместное одиночество, но так и не ощутил совместную близость. Алена смотрела в окно и курила. Я люблю молчать в машине, поэтому ее молчание не было мне в тягость. Я просто хотел, чтобы оно, это молчание, было другим. Я хотел, чтобы мы молчали в унисон, а мы молчали вразнобой — каждый о своем. Алена щелчком выкидывала в окно окурок и тут же закуривала новую сигарету. Иногда она случайно касалась моей руки своей рукой, обнаженной и загорелой, но не замечала прикосновения.
Мы доехали быстро, меньше чем за два часа. Уже смеркалось, и, подъезжая, я подумал о том, что Женина избушка на краю деревеньки, со светящимися, как зерна сердолика, окнами и еще не повзрослевшими подсолнухами вдоль изгороди, выглядит как сказочный домик, умиротворенный, пряничный, растворенный в сладких запахах засыпающей земли. Женя сидела во дворе за колченогим столом, видимо, наспех сколоченным Гришей, и пила чай. Из открытого окна доносились глухие завывания. Гриша пел младенцу колыбельную.
Выйдя из машины, Алена двинулась к Жене, держась очень прямо, с напряженной спиной, сведя лопатки и откинув голову назад. Мы шли за ней. «Боже мой, как же она нервничает!» — думал я. Но Алена не нервничала. Я потом спрашивал ее, и она сказала — нет, даже не думала волноваться, просто решила довести дело до конца и готовилась к затяжному заунывному Гришиному блеянию. Она была уверена, что он не скажет ни «да», ни «нет», будет морочить ей голову, уходить от ответа, топтаться на месте, разведет жуткое болото из слов, слез, соплей и в конце концов убежит в дом и там запрется на замок, а то и залезет под кровать, чтобы никто его не трогал и ничего от него не требовал. Алена понимала, что решение принимать ей придется самой, и не возражала против такого расклада. Но прежде чем принять решение, следовало все же задать пару вопросов Грише. Хотя бы для приличия.
Мы подошли к Жене. Она продолжала пить чай, методично закладывая в рот малиновые мармеладины, которые в ее руках казались особенно липкими.
— Как ребенок? — спросила Наталья.
— Нормально, — ответила Женя.
— К врачу возили? — спросила Ольга.
— Зачем? — отозвалась Женя.
— Но как же… — начала было Ольга и тут же испуганно осеклась.
Я заметил, что Алена тяжело задышала. В лице ее появилось что-то нехорошее, жесткое, волчье. Губы искривила усмешка.
— Ах ты… — елейным голоском сказала она и положила ладонь на Женину голову. — Ах ты, тварь подзаборная! — Она схватила в горсть Женины волосы на затылке и резко дернула назад. Женина голова откинулась и стукнулась о спинку высокого стула, на котором она сидела. — Сука ты, милая моя, п…да рваная, — по-прежнему ласково продолжала Алена. Она все тянула и тянула Женю за волосы. А Женя все гнулась и гнулась назад. Стул закачался и уже готов был вместе с Женей опрокинуться на землю, но тут Алена резко отпустила Женины волосы, ту мотнуло вперед и впечатало лбом в столешницу. Чашка упала, и горячий чай тонкой струйкой потек в Женин открытый рот. — Вот и чайку попили, — удовлетворенно вздохнула Алена и села на соседний стул. — А теперь поговорим. Что ж ты делаешь, сука? Своего мужика нет, так ты на чужого упала?
Женя уже поднялась, оправилась, вытерла рот и теперь сидела, откинувшись на спинку стула и нагло улыбаясь Алене. На ее лбу красовалась багровая отметина от удара.
— Госссподи! — вздохнула Женя с фальшивым сожалением и притворно закатила глаза. — Нешто он нужен мне, такой-то мужик! Нешто он шо может, кроме как в огороде над морковкой жопу драть! Сама небось знаешь, не мне тебе рассказывать. Так что можешь забирать его, мужика-то свово. Если он, конешшшно, пойдет. Я-то сумлеваюсь.
И этот псевдонародный говорок, и это ерничество, и поза эта — развалясь на стуле, живот вперед, руки скрещены на груди, ноги по-мужицки врозь, — и бабьи ухватки, многозначительные подмигивания, наглая ухмылка были мне невыносимо противны. Алена по-прежнему задумчиво и ласково смотрела на нее.
— Не-а! — вдруг как-то залихватски и бесшабашно выкрикнула она. — Не-а! Не возьму! Не надо мне! Тебе отдаю! Бери, Женечка, не жалко! Эй, Гриша! Гри-иша! — Гриша высунул в окно унылый нос. Он, конечно, все слышал, но до поры до времени решил себя не обнаруживать, так сказать, во избежание. — Слышишь, Гриша, Жене тебя отдаю. Навсегда. Ты теперь, Гриша, подарок. А подарки не передаривают. Выходит, на всю оставшуюся жизнь. Поняла, Женечка? Тебе, Женечка, с мужиком-то моим всю жизнь жить. А другого-то не будет. Никогда. Вон оно как вышло. Не ожидала? А если ты, Женечка, решишь хвостом вильнуть и кого другого себе завести, то мальчики тебя живо в чувство приведут. Потому что ты, Женечка, нам приемная, а мы друг другу родные. А теперь давайте чай пить! Эй, ты, подарочек, ставь чайник! Ну, что стоите? Садитесь.
Мы расселись вокруг стола. Ощущение было такое, что нас посадили голой задницей на муравейник. У Натальи с Денисом были совершенно оцепенелые лица. Ольга испуганно моргала. Виктор странно подергивал щекой. Женя глядела в сторону. Гриша торопливо таскал из дома чашки, ложки, сушки и прочую дребедень, разливал чай, суетился, подыгрывая всем одновременно и не понимая, кому конкретно надо подыгрывать. Алена непринужденно взяла чашку, широким жестом отвела руку в сторону и так, в позе королевы, требующей внимания подданных, начала говорить:
— Вот все считают, у меня, дескать, запросы. Помилуйте, какие запросы! Никаких запросов. Просто я все время чего-нибудь хочу. Это моя отличительная особенность. Причуда. И, заметьте, я имею на нее право. Потому что сама деньги зарабатываю на свои причуды. В отличие от многих других. Вторая моя отличительная особенность — скромность. Если я хочу выпить кофе с пирожными, то мне совершенно безразлично, где это делать — в ресторане «Максим» или в кафе «Оладушки». В «Оладушках» даже лучше. Потому что «Максим» — это уже запрос. А кофе с пирожными — всего лишь кофе с пирожными.
— Количество имеет особенность переходить в качество. — Женя приняла мячик и тут же послала его обратно. — Если все время хотеть кофе с пирожными, это уже запросы.
— Глупости какие! — Алена взмахнула рукой, и чай выплеснулся на траву. Она не смотрела на Женю, обращаясь как бы к невидимому собеседнику, в воздух. — Количество никогда не переходит в качество, если только это не количество денег. Вот некоторые люди все время танцуют. Однако количество произведенных ими па почему-то никак не перейдет в качество. Интересно, почему? Никто не знает?
— Да, пожалуй, я была не права. — Женя тоже обращалась как бы к невидимому собеседнику, смотрела в сторону, голос ее звучал нарочито индифферентно. — Например, количество слов тоже не всегда переходит в качество. Люди пишут, пишут, пишут слова, думают, что на выходе получат литературу, а получают много букв и ничего больше. Вот я тут недавно прочитала одну книгу… Пойди принеси. — Она обернулась к Грише. Ее голос и взгляд были похожи на жестяной барабан.
— Не надо! — пискнул Гриша, поджимая хвост.
— Надо, надо, — жестко сказала Женя.
Гриша потрусил в избу. Мы молча ждали. Я с ужасом глядел на Алену. Неужели она не понимает, что происходит? Алена сидела в застывшей позе. Ее лицо как будто высекли из камня и забыли зашлифовать острые углы. У меня вспотели руки, и я торопливо вытер их о джинсы. Через пару минут Гриша появился с пачкой измятых листков в руках. Мелкими неуверенными шажками он подбежал к Жене и, дрожа, протянул ей пачку. Женя взяла пачку и помахала ею в воздухе. Листы распались. Несколько упало на траву. Один лег у моих ног. Я смотрел на него, не в силах нагнуться и поднять. Это был Аленин роман. Он был распечатан очень мелким шрифтом, и оттого издалека листы казались испачканными. Денис протянул руку, чтобы взять одну из страниц, приземлившуюся возле него, но я оттолкнул его и быстро схватил лист. Я не мог позволить Денису читать то, что Алена предназначала только мне. Ну, не предназначала. Подразумевала, что, кроме меня, это никто не прочтет.
Женя продолжала помахивать рассыпающейся пачкой.
— Так я говорю, прочитала тут на досуге роман, и что вы думаете?
Все молча смотрели на нее и ровным счетом ничего не понимали. Запахло дымной вечерней деревенской тоской. Лица светились в сгущающихся сумерках, и мне показалось на миг, что за столом сидят не люди, а гигантские бледные мотыльки. Призрачная, нереальная картинка, похожая на кадр из сумеречного мультфильма: неподвижные фигуры вокруг стола, неподвижный воздух, неподвижное время. Нет сюжета, провалилась фабула, события отказались происходить. Мы на вечном приколе в этой ночи, в этом дворе, среди травы, доходящей до пояса. Трава растет незаметно и скоро — мы и вздохнуть не успеем — полностью поглотит нас.
— Удивительная вещь, — снова раздался Женин голос, словно прорвавшийся ко мне сквозь невидимый заслон и вернувший меня к реальности, — после одних книг хочется стать лучше и больше никогда не грешить, после других — плакать, после третьих — скакать на одной ножке и смеяться, а после некоторых — только вымыть руки. Ну хорошо, хорошо, может, не вымыть руки. Например, накраситься. Нахватаешься гламурок и думаешь: а я-то что? Чем хуже? Пойду, что ли, накрашусь. Вот такое удивительное влияние разумного, доброго, вечного на душу человека.
Гриша подобострастно заглядывал ей в лицо и кивал. Алена всем корпусом повернулась к нему.
— Ах ты, сучья кровь, — прошептала она и тяжело поднялась. — Ты зачем это сделал? Ты зачем в мой компьютер лазил? Ты зачем нос совал, куда тебе не велено? Ты зачем это распечатал? Зачем ЕЙ (она сделала ударение на слове «ей» и мотнула головой в сторону Жени) притащил? Посмеяться хотел? Выслужиться? А, холуй недоделанный?
Она надвигалась на Гришу, а Гриша пятился от нее раком, почему-то растопырив руки и слегка подогнув кривоватые ноги, не в силах отвести взгляда от ее лица. Рот его приоткрылся. В глазах застыл ужас. Он споткнулся о камень, и по его лицу прошла судорога. Нелепо подпрыгнув, он быстро развернулся, зайцем метнулся к дому и захлопнул за собой дверь.
Вдруг раздался громкий смех. Это хохотал Виктор.
— А ты, а ты… — пытался выговорить он, захлебываясь смехом. Наконец ему удалось совладать с собой. — А ты думала, что всю жизнь с зайчиком прожила, а оказалось — с волчарой? Думала, он ни на что не способен, а он на все готов, только не ради тебя! — почему-то зло бросил он Алене и снова захохотал.
Алена кинулась к нему, схватила за грудки и стала трясти что есть силы.
— Мразь! — кричала она. — Не смей! Убью!
Я бросился к ней, начал отрывать ее от Виктора. Денис подскочил с другой стороны. Но Алена уже сама обмякла, затихла и повалилась на стул. Я стоял возле нее, держа руку на ее плече. Алена сидела сгорбившись, уставившись в землю. Наталья неуверенно подвинула к ней чашку с остывшим чаем. Неожиданно в тишине раздался голос Жени:
— И чего это ты так на него орала? — спокойно сказала она, обращаясь к Алене и пальцем тыча в сторону Виктора. — Ольге, что ли, завидуешь? Ну, завидуй, завидуй. Брошенные тетки всегда кому-нибудь завидуют. — Она повернулась к Виктору: — А ты, старый дурак, не понял до сих пор, что не нужен ей ни волк, ни зайчик?
— А кто? — глупо ухмыляясь и машинально одергивая рубашку, спросил Виктор.
— Да ты.
— А она-то мне зачем? — еще глупее растянув рот в полуусмешке-полугримасе, спросил Виктор.
— Вот этого я не знаю, — сказала Женя. — А только зачем ты над ней смеялся?
Виктор дернул плечом и покраснел. Голову даю на отсечение — он покраснел. Впрочем, было уже темно, может быть, мне показалось. Пока я удивлялся, Виктор встал, сунул руки в карманы брюк и, посвистывая, вразвалочку двинулся в сторону огорода. Ольга, не понимая, что происходит, испуганно блуждала взглядом по нашим лицам.
— А… — робко начала она, очевидно, не зная, что сказать. — А у Пушкина дети были?
— Нет, только внуки, — сказал Денис и хлопнул ладонями по столу. — Ну хватит, вставайте, поехали домой.
XVII
Когда рассаживались по машинам, Ольга подбежала ко мне.
— Возьми с собой Виктора! — шепнула она. — Мне надо поговорить с Натальей и Денисом.
«Вот дура!» — подумал я, а вслух сказал:
— Какого черта он мне нужен?
Я не собирался сажать Виктора в свою машину. Во-первых, я хотел, чтобы Алена пришла в себя без посторонних. Во-вторых, я не люблю возить чужие наглые морды. Здесь вам не такси. В-третьих, зачем мне надо, чтобы они ехали вместе — Виктор и Алена? И чтобы он всю дорогу пялился на ее затылок, и на шею, и на мочку уха, и на профиль, когда она будет поворачиваться ко мне?
— Ну пожа-а-алуйста! — заныла Ольга. — Ты же знаешь, мне надо сделать одно маленькое дельце.
— Маленькое дельце делают в деревянном домике за углом направо. Очень советую перед дальней дорогой. А если ты хочешь попросить денег, можешь смело делать это при Викторе. Поверь мне, он совершенно лишен комплексов.
В общем, Виктор поехал с ними.
Всю обратную дорогу мы с Аленой опять молчали. Она, как прежде, курила, выщелкивая в окно окурки и тут же зажигая новую сигарету. Я не знал, как к ней обратиться, что сказать, какие слова подобрать, чтобы ее успокоить. Впрочем, она не выглядела взволнованной. Скорее задумчивой. Она была погружена в себя, будто прислушивалась к каким-то потайным и пока непонятным движениям, шорохам, шепотам, звукам, просыпающимся в глубине ее души и естества. Я же сидел и думал: почему так странно получается, что меня все коробит в Жене, буквально все, каждое произнесенное ею слово, каждый жест, интонация, гримаса, и то, как она кладет мармеладину в рот, шумно прихлебывает чай, ерничает, выбирает какие-то гадкие, неестественные, неопрятные выражения, смотрит с прищуром, словно пытается раздеть тебя взглядом, оценить и всласть поглумиться, все в ней мне кажется постыдным, неприличным, непристойным, жлобским, потным каким-то, что ли? И ничего — ничего! — не задело меня, когда Аленины губы, которые мне так хочется даже не поцеловать, а просто потрогать своими губами, когда Аленины губы, некрасиво перекосившись, выплевывали в адрес Жени сгустки грязи. Не задело, не оскорбило, не разочаровало.
Я высадил Алену у ее дома, подумал, вылез из машины, и пошел за ней. Мне не хотелось оставлять ее одну. Она, казалось, не замечала меня. Мы поднялись наверх, вошли в ее квартиру. Она сразу прошла на кухню, а я, неловко потоптавшись, стащил кроссовки и сунул ноги в Гришины тапки. Но тут меня охватило такое непреодолимое тошнотворное чувство, такое бешеное отвращение, что я скинул эти чертовы тапки, схватил их и, брезгливо держа двумя пальцами на вытянутой руке, чтобы, не дай Бог, не замараться, выбежал в одних носках на лестничную клетку и бросил в мусоропровод. Вернулся в квартиру, поспешно надел кроссовки и пошел к Алене.
Она стояла посреди кухни у стола, глядела перед собой и методично помешивала ложечкой в чашке с чаем. Ее рука дрожала.
— Зачем он это сделал? — спросила она, не оборачиваясь.
Я молчал. Я не знал, зачем он это сделал.
— А ты… ты тоже думаешь, что это набор слов? — по-прежнему не оборачиваясь, сказала Алена ровным голосом.
— Нет! — выкрикнул я. — Я так не думаю!
Выкрикнул, наверное, слишком поспешно. Она вздрогнула и сгорбилась. Что-то она услышала в моих словах, чего в них не было, чего я в них не вкладывал, чего совсем не имел в виду. Я просто хотел ее разубедить. Но в моей поспешности она услышала подтверждение своим тайным страхам. Я зажал рукой рот, но было поздно.
— Не ври, — печально и чуть презрительно проговорила она. — Я тут, пока ты возился с тапками, кое-что сделала.
— Что? — шепотом спросил я, замерев от ужаса, таким мертвенно-ровным и страшным был ее голос. Я понимал, конечно, что ничего ужасного она за три минуты моего отсутствия сделать не могла, но все-таки…
— Да ничего особенного, не бойся. Подошла к компьютеру и уничтожила этот… этот… в общем, это.
В меня впустили воздух.
— Ах это… — выдохнул я и засмеялся.
— Не вышло. Не вышло. Не вышло. Ничего у меня не вышло. Ничего из меня не вышло, кроме Гришиной жены. И тут потерпела фиаско. Фиаско… — шептала Алена, и ее ложечка все сильнее и сильнее билась о стенки чашки, издавая пронзительный звук, похожий на птичий крик. И вдруг: — А что ты, собственно, смеешься?
— Ничего, — сказал я, подавляя радостный смешок. — Все в порядке. Вот, гляди. — Я вытащил из кармана ее флэшку. — Здесь все осталось. Слышишь, осталось! Хорошо, что ты мне ее дала, правда? — И я помахал перед ее лицом висящей на шнурке флэшкой.
Алена обернулась. Глаза ее сузились. Резким движением она бросилась ко мне, вырвала флэшку и побежала в комнату. Две секунды я стоял в остолбенении посреди кухни, а потом ринулся за ней. Когда я подбежал, она яростно щелкала мышкой. Я схватил ее за руку и дернул к себе. Ее пальцы сорвались с покатого бока мышки, и мой указательный непроизвольно вжался в левую кнопку. На экране появилось сообщение «Ваш документ удален».
Я уничтожил Аленину книгу.
Я все еще стоял перед компьютером, тупо глядя на эту подлую надпись и не понимая, что случилось, когда раздался Аленин голос:
— Не смотри так. Это не убийство. Всего лишь уборка в доме. Выкидываем скелеты из шкафов. Ты хороший, правда. Спасибо тебе. Но сейчас… знаешь, сейчас лучше иди домой.
Но я не хотел уходить.
— Ты долго это писала? — спросил я.
— Долго, — сказала Алена.
— Трудно? — спросил я.
— Трудно, — сказала она.
— Там, в деревне, осталась распечатка. Можно я съезжу, заберу? — спросил я.
— Нельзя, — сказала она.
— А эта женщина, бабочка, — это ты? — спросил я.
Алена слабо улыбнулась:
— Это лирическая героиня. Тебе пора.
Я подошел к ней, наклонился и дотронулся губами до ее губ. Ее губы были очень сухими И твердыми. Она подалась назад и ладонью мягко отвела мое лицо в сторону.
— В таких случаях обычно говорят: «Я не готова, еще не время, ах, как это неожиданно!» Или на худой конец: «Нам надо получше узнать друг друга». — Я попытался перевести все в шутку, чтобы скрыть неловкость, но в моих словах была горечь, и она ее услышала.
— Иди, иди, — тихо произнесла она, и я пошел.
Выйдя на лестницу, я прислонился лбом к холодной масляной стенке и так стоял довольно долго, не помню, может, минут двадцать или полчаса. В Алениной квартире зазвонил телефон. «Кто это так поздно?» — успел подумать я и тут услыхал ее голос.
— Поднимайся, — устало произнесла она.
Я быстро взбежал на один пролет вверх и спрятался в маленькой нише между окном и стеной. Лифт пошел вниз, потом наверх, загремела его железная дверь. Я слегка наклонился вперед, высунувшись из своего укрытия. У Алениной квартиры стоял Виктор. Он оглянулся, словно боялся, что за ним следят. Выражение его лица было странным, неестественным, что ли, нет, скорее несвойственным ему, каким-то неуверенным, немного жалким. Он нажал на кнопку звонка, и дверь тут же распахнулась. Алена не впустила его, а сама сделала шаг ему навстречу и оказалась на лестничной клетке. Облитые ярким светом дневных ламп, они были полностью видны мне, как будто стояли на сцене, а я сидел в театральной ложе. Виктор схватил Алену за плечи и притиснул к себе. Она обхватила его и, словно в отчаянии, вцепилась в рубашку на его спине. Он сунул свою черную бороду в ее черные волосы, и так, перепутавшись, перемешавшись, превратившись в единое косматое чудовище о четырех ногах и руках, они ввалились в квартиру.
И я понял. Поздно, но понял. Алена была тем «мотивчиком», о котором так ничего и не сказал Виктор, когда мы с Денисом спрашивали его, чего он к нам приклеился. «Ольга?» — изумлялись мы, прихлебывая пиво под красными зонтами на Страстном бульваре в виду памятника Высоцкому. Ага, Ольга. Как же…
XVIII
Мы все реже вспоминали о Нем. Это нормально. Мы уходили, Он оставался. Нам не хотелось оглядываться назад. Мы стали забывать. Прошлое постепенно становилось черно-белым, похожим на стоп-кадры старой кинохроники. Оно больше не двигалось, не жило — застывало. Да и с этих стоп-кадров Его фигура все чаще вымывалась, замещаясь неясным размытым силуэтом, а то и просто белым пятном. Будто мы стояли, сгрудившись вокруг пустоты. Да, мы стали забывать, но наша жизнь почему-то с каждым днем все больше и больше зависела от Него. Не от Него самого, разумеется, а от Его смерти. После Его смерти появилась Женя, и все начало путаться. Нас не рассыпало по жизни. Напротив, мы сплотились, слиплись, спрессовались, сплелись в какой-то чудной кривоватый клубок, из которого торчали обрывки и обрубки наших нервов, жил, корней. Иногда я думал, что лучше бы нам было разойтись после похорон в разные стороны и больше никогда не встречаться. Да к черту такая близость, от которой температура тела скачет, как теннисный мячик! Какого черта Он умер? До Его смерти я не знал, что люблю Алену. А что мне делать сейчас? До Его смерти Гриша сходил с ума по-тихому, по-домашнему. А сейчас он опустился до подлости, окончательно потеряв не только соображение, но и собственную личность. Какого черта Он оказался не тем, за кого себя выдавал? В результате мы получили Виктора с его девушками. И что теперь делать Ольге, которую этот Виктор засосал по самую макушку? А Алена? Зачем она полюбила этого косматого лося? По какому праву? Кто ей разрешил? Почему не меня? Как она узнала, что любит его? Женя подсказала — змея с алмазным взглядом, который взрезал наши души почище любого хирургического скальпеля? «Ольге, что ли, завидуешь?» Так она сказала, подлая тварь. Женя, опять Женя. Куда ни сунься, везде Женя. О себе в этой ситуации я старался не думать. Я мужик, чего мне? Выдержу. А вот об Ольге думать боялся. Если она узнает, что Виктор с Аленой, то… Я даже не мог себе представить, что с ней будет. Утешало одно: у Виктора с его сомнительной репутацией столько девушек, что Алена просто станет одной из них. Утешало? Да о чем это я? Может, меня лично это и утешило бы, но Алена… Что станет с ней, если Виктор ее обманет? Я готов был еще раз пережить жуткое чувство, когда тебе в грудь словно втыкают железный кол, чувство, которое я испытал, следя за ними из своего укрытия на лестнице, да что там, я готов был переживать его каждый день, лишь бы горечь разочарования больше никогда не коснулась Алены. Хватит с нее Гриши. А Ольга… Да пусть она захлебывается горючими слезами, выбрасывается в окна, вскрывает себе вены, хрен с ней. Если совсем честно, на нее мне наплевать. Она-то как раз из тех, кто получает то, что заслуживает. А вот Алена ни разу не получала того, что действительно заслужила. Она, такая внешне уверенная, твердая, холодная, резкая, на самом деле была беззащитна. Прошлой ночью я понял одно: я убью Виктора, если он поступит с ней так же, как с остальными. Но отчего-то мне казалось, что не поступит. Отчего-то мне казалось, здесь сценарий будет другим. В том, как они вцепились друг в друга вчера ночью, не зная, что находятся под прицелом чужого пристрастного взгляда, было что-то обнаженное. Не в смысле тела. В смысле — вот перед тобой два абсолютно обнаженных человека, сейчас они такие, какие есть на самом деле, они никого не стесняются, ни на кого не оглядываются, ни перед кем не позируют, никому не подыгрывают. Они настоящие. Истинные. Только я тут ни при чем.
В начале августа Женя сбежала из деревни. Чего и следовало ожидать. Гриша в ужасе прискакал в Москву. После той гадости, что он устроил с Алениным романом, после кошмарной сцены, свидетелями которой мы стали всего несколько дней назад, после Жениного хамства он, конечно, не мог рассчитывать на нашу помощь. Однако он рассчитывал, и еще как! Холодильник, телевизор, музыкальный центр и прочее, прочее, прочее. Надо было перевозить обратно Женино барахло. Никто из нас не собирался этого делать. Меня больше всего возмущала история с компьютером. Стащить компьютер, заплатить за эту развалюху до середины сентября и сбежать через две недели! Гриша рыдал. Перед Денисом он встал на колени. Денис посоветовал ему зафрахтовать трактор Митрича. Гриша бросился ко мне.
— Найми грузовое такси, — посоветовал я.
Оказалось, денег, оставшихся после расчета с бабулькой за дом, нет. Истрачены на Женины карамельки. Так что с такси не выйдет.
Гриша помчался к Виктору. Виктор посмотрел дико и захлопнул дверь перед его носом. К тому времени он еще жил у себя в мастерской и не знал, как сказать Ольге про Алену. Об этом мне рассказал Денис, который время от времени попивал с Виктором пивко и находился у того на доверии.
— Ты чего? — удивился Денис, когда Виктор попросил у него совета. — Какие проблемы? У тебя же всегда — раз, два, три, четыре, пять, я иду тебя искать. У тебя же все девочки оформлены по совместительству.
— Дурак, — сказал Виктор и замолчал.
Я думаю, это был первый раз в его жизни, когда он замолчал на подобную тему.
Денис сидел у меня на кухне нога на ногу, покуривал сигаретку, прихлебывал чай, рассказывал мне про отношения Алены и Виктора, делился соображениями по поводу их совместного будущего. Добрая душа! Знал бы он, как мне хочется завыть и заткнуть ему рот кляпом! Наталья сидела рядом и задумчиво накручивала прядку волос на палец.
— Так, значит, Ольга не знает? — спросила она.
Денис мотнул головой.
— Скоро узнает, — сказал он.
— Так-так-так, — пробормотала Наталья и постучала костяшками пальцев по столу. — А она у меня для этого мудака денег просила. Пять тысяч долларов. С процентами. Под расписку. Я сказала, что с тобой посоветуюсь, а вот теперь даже не знаю, давать или нет.
— Да ладно, под расписку, — лениво сказал Денис, прихлебывая чай. — Так дадим. Мы же свои люди.
Наталья изумленно посмотрела на него.
— Ты что, не понял? — тихо проговорила она. — Она же для Виктора просит, а Виктор ее бросит если не сию секунду, то через пятнадцать минут. А теперь соображай — долг на ней повиснет, а он как бы ни при чем. Ведь он никого ни о чем не просил и к Ольге никакого отношения не имеет.
— Виктор не подонок, — сухо сказал Денис. — Ты спутала его с Гришей.
— Подонок не подонок, я не знаю. Я вообще его не знаю. А только денег нам никто не вернет, помяни мое слово.
Наталья заметно волновалась. Костяшки пальцев выбивали по столу нервный неровный ритм. На скулах проступили красные пятна. Время от времени она по-гусиному дергала шеей, оттягивала в сторону воротник кофточки, словно ей трудно было дышать, и почесывала ложбинку между ключицами. Я заметил, что там тоже зреет красное пятно.
— Ольга — свой человек, — упрямо повторил Денис. — Я своим не отказываю. Так что скажи ей, что деньги будут. И пожалуйста, никаких расписок и процентов.
— Она не отдаст.
— Значит, не отдаст.
Наталья шумно задышала.
— Дай валокордину, — отрывисто бросила она мне.
— У меня нет.
— Черт! Что у вас, у мужиков, чего ни попросишь, ничего нет! Только денег для чужих любовниц полно!
Она нервно щелкнула замком сумочки, сломала ноготь, еще раз чертыхнулась, сунула палец в рот, пососала, долго копалась в недрах сумки, наконец вытащила облатку валидола, выдавила таблетку в рот и выбежала из кухни.
— Ты правда чего? — Я повернулся к Денису. — Чего тебя заклинило? Она права. — Я кивнул вслед убежавшей Наталье. — Потеряешь пять штук.
Денис смотрел в окно.
— Значит, потеряю, — сказал он, не оборачиваясь.
Я пожал плечами. Да пусть делает что хочет! Просто странно, что он так уперся. Что-то раньше я не замечал за ним подобного альтруизма. Скажи мне кто-то месяца два назад, что Денис бросится помогать бедной обездоленной курице Ольге, и не просто бросится, а еще будет из-за нее собачиться с Натальей, да так, что в дело пойдет валидол, скажи мне это месяца два назад, я бы только покрутил пальцем у виска. Последнее время — теперь я понял, что заметил это давно, только не успел об этом отдельно подумать, — последнее время они перестали щепетильничать друг с другом. В губки целоваться. Расшаркиваться. Называть друг друга «душенька», «дорогой». Денис больше не прикладывался к ручке Натальи. Она не целовала его в макушку. Все было ровно, нормально, но они больше не выглядели слюнявыми старосветскими помещиками. Они как бы отстранились друг от друга. Попрохладнели. Как будто между ними прервалась связь. И сейчас Денис как бы демонстрировал — нарочно демонстрировал — отсутствие этой связи. Он уперся, чтобы досадить Наталье. Или, вернее, отстоять право на собственный, отдельный от нее поступок. Даже такой нелепый, как дача взаймы пяти штук без надежды вернуть их обратно. Денис больше не хотел быть пай-мальчиком. Он хотел быть кем угодно, хоть Мальчишом Плохишом, лишь бы Наталье назло.
— Потеряет! ОН, видите ли, потеряет! — неожиданно раздался срывающийся голос Натальи, и мы с Денисом одновременно повернули головы в ее сторону. Наталья стояла в дверном проеме кухни, широко раскинув руки и опершись на косяки. На лице ее была приклеена какая-то презрительная, высокомерная улыбка. — Это не ТЫ потеряешь! Это МЫ потеряем! Не забывай, мой дорогой, что ТЕБЯ нет. Есть МЫ. А то, видишь ли, раздавался тут… Если каждому встречному давать…
В этот момент я вспомнил, как яростно она однажды боролась за нижние места в поезде. Я провожал их в отпуск, в Прибалтику, еще стояли советские времена и с билетами возникли трудности. Или два верхних, или ехать другим поездом и терять несколько дней. Решили брать что есть и ехать немедленно. Денис попросил меня подвезти их с Натальей на вокзал. В то время я был единственным обладателем машины в нашей компании. Когда мы вошли в купе, там сидел дядька с билетом на нижнюю полку, и Наталья тут же начала с ним яростную борьбу. В принципе дядька был не против поменяться с ней местами, быстро сдался и полез наверх. Но тут вошел другой дядька, вернее, парень, примерно одного с нами возраста. И Наталья опять ринулась в бой. Теперь она выторговывала место для Дениса. Парень смотрел на нее с недоумением. Он не понимал, почему должен уступать нижнюю полку Денису, который выглядел моложе его. Денис чувствовал себя крайне неловко. Он бормотал что-то невнятное, вроде «да чего ты, да ладно, ну зачем, брось», и потихоньку отступал в коридор. Мне тоже стало неприятно. Я уже не помню точно, какие бронебойные орудия использовала Наталья для достижения цели. Вроде утверждала, что не может спать напротив незнакомого мужчины, мол, это неприлично, она не сможет ночью встать в туалет, потом брякнула, что у Дениса бывают приступы эпилепсии и ночью он может свалиться с верхней полки на пол, и она не ручается за благоприятный исход, и так далее, и так далее, и так далее.
— Ну, раз эпилепсия, тогда конечно, — хмыкнул парень и на всю ночь отвалил в вагон-ресторан.
Денис стоял красный как рак. А я тогда подумал, что с Натальей шутки плохи, в одну песочницу, пожалуй, не садись.
Бывали и другие случаи, когда я наблюдал, как Наталья подробно и внимательно окапывает свою территорию, тщательно оберегает ее. Это был даже не инстинкт самосохранения, а нечто большее, может быть, высшее. Это было ежесекундное хлопотливое обеспечение личной сохранности во враждебном мире, отстаивание собственного физического «я» даже там, где на него никто не посягал. В любой ситуации она старалась устроиться с максимальным удобством. Рыла свою крошечную кротиную ямку, чтобы укрыться в ней с головой, и дела ей не было до того, что от ее подкопа может обвалиться чей-то дом. Ведь дом чужой, а ямка своя. Я наблюдал, как она зимой идет по гололеду. Осторожно ставя ногу на безопасное место, потом замирая на секунду, выискивая пристальным глазом очередную прогалинку, свободную ото льда, нащупывая и прощупывая ее носком аккуратного сапожка и снова осторожно, с опаской, опускаясь на полную стопу. Она каждую секунду была настороже. Каждую секунду за себя волновалась. Каждую секунду за себя боялась. Каждую секунду была полностью погружена в процесс самосохранения и самозащиты. Каждую секунду подтаскивала, подгребала, подтягивала к себе самое лучшее, до чего только могла добраться без ущерба для здоровья. Как-то Виктор, усмехаясь, назвал ее «наш подтаскун». Хорошо, что она не слышала, а то я не поставил бы и старой шляпы за его жизнь. Тем не менее определение было верным. Она первой кидалась к столу и жадно складывала на свою тарелку самые аппетитные куски, хотя ела очень мало и половину потом всегда приходилось выбрасывать. То же самое она проделывала с тарелкой Дениса, но потом, после себя. Он шел вторым номером. Все остальные скопом — двадцать пятым. Ну да, весь мир стоял у нее на двадцать пятом месте. Эта особенность ее натуры поначалу была мне противна. Но потом я понял, что за ней, этой особенностью, кроется неуверенность, человеческая и женская слабость. Она оберегала себя, потому что боялась не справиться с жизнью, и эта боязнь вошла у нее в привычный обиход. Впрочем, я скорее всего опять преувеличиваю. Просто Наталья в любых обстоятельствах оставалась Натальей. Ее реакции легко просчитывались. Конечно, пять тысяч долларов — это вам не нижняя полка, не лучший кусок жаркого, не крем со всех пирожных и не безопасный пятачок на тротуаре, но — все одно. Никогда бы она не дала Ольге никаких денег — ни пяти тысяч долларов, ни ста рублей, ни полета, ни под проценты, ни под расписку, ни под залог, ни под дурацкую, никому не нужную Ольгину жизнь.
Впрочем, тут я погорячился. Ольгина жизнь кое-кому была нужна. И еще как! Но тогда я об этом не знал.
Итак, Женя намылилась в Москву. И вернулась. На электричке. Без холодильника, телевизора, далее по списку. Даже детскую кроватку пришлось оставить. По дороге Женю сильно тошнило. Так свидетельствовал Гриша, однако ему верить нельзя. Подразумевалось, что у Жени начался токсикоз. Хотя сроки раннего токсикоза уже прошли, а позднего еще не наступили. Так утверждали наши женщины, а им верить как раз очень даже можно. Я думаю, Женя просто-напросто притворялась.
Водворившись не то в Химках, не то в Мытищах, она быстро поняла, что жить без холодильника и прочих бытовых удобств невозможно. Опять же проблема с Гришей. В первый же вечер по приезде в Москву он ломанулся к Алене на ночевку и наткнулся на запертую дверь и новый замок. Гриша звонил, стучал, скребся, скулил. Результата — ноль. Алена не открыла. Тогда он поднялся на один лестничный пролет, как раз туда, где в маленькой нише между окном и стенкой не так давно укрывался я, и притулился на подоконнике, где его и застала Алена, когда утром уходила на работу. Увидела снизу знакомый ботинок, который висел в воздухе. Поднялась. На подоконнике, свернувшись калачиком, лежал Гриша. Одна нога свешивалась вниз. Алена постояла над ним, вздохнула и отправилась по своим делам, бросив это ископаемое на произвол судьбы.
Прошло еще дня два. Рано утром, часов в семь, нет, пожалуй, в начале восьмого, я услышал звонок в дверь. Выполз открывать. На пороге стоял Гриша.
— Ты не возражаешь, если я у тебя немножко поночую? — слабым голосом почти простонал он.
— Что ты у меня поделаешь?
— Поночую. Чуть-чуть. Недельку, может, две, — прошелестел Гриша. — Ты не беспокойся, я тихо. На диванчике на кухне.
— Ты бредишь?
Вместо ответа Гриша слабо повел рукой. Я выглянул. С соседней квартиры была сорвана печать. Бумага, которой опечатывают двери, висела клочками. Сама дверь стояла нараспашку. Я как был, в одних трусах, выскочил на лестничную клетку и бросился в Его квартиру. Там орудовала Женя. Когда я вбежал, она стояла на подоконнике и открывала окна.
— Ты что делаешь? — крикнул я. — Ты с ума сошла? Ты вообще… ты вообще понимаешь, что тебя в милицию могут забрать? — Подбежал к ней и схватил ее за руки.
— Не ори, никто меня не заберет, — спокойно ответила Женя. — Я беременная мать-одиночка, понял?
— Да какая разница! Ты влезла в опечатанную квартиру! На которую ты права никакого не имеешь!
— Да ладно, — сказала Женя. — Помоги слезть. — Она оперлась на мою руку и тяжело спрыгнула на пол. — Может, я еще раньше рожу. Через… через… — Она принялась загибать пальцы. — Короче, не через пять месяцев, а через три. Не в девять месяцев, а в семь. ОНИ придут, а я здесь с наследником!
— Кто придет? Когда?
— Двоюродные братья. Не прикидывайся дураком. Придут Его двоюродные братья через полгода после смерти вступать в наследство, а тут уже я с наследником. И все права мои.
— Да с чего ты решила, что раньше родишь?
— Не волнуйся, если надо, то рожу. — Женя обвела взглядом комнату. — Надо бы тут субботник устроить.
— Надо бы тебе домой ехать.
— Не могу, — сказала Женя. — Холодильника нет. И телевизора. Можно, конечно, отсюда перевезти, но легче самой переехать. Ведь ты бы холодильник не повез?
— Я бы? Не повез.
— Вот видишь.
Она смотрела на меня как ни в чем не бывало, ясным, незамутненным взглядом. Она была совершенно невозмутима, уверена в себе, в том, что всегда поступает правильно, что все идет как надо. В этой ее кристальной ясности, смахивающей на хамство, было столько детской наивности и безыскусности, что я расхохотался. Женя снисходительно улыбнулась в ответ.
— Так как насчет субботника? — спросила она. — Соберешь ребят?
— Иди ты на х… мать-одиночка, — весело сказал я, повернулся к ней спиной и пошел домой.
Гриша шуршал за мной.
— Так я поночую? — бубнил он. — Поночую? Поночую?
— В холодильнике ночуй, ночевальщик. У вас же есть теперь холодильник?
XIX
Разумеется, Гриша остался у меня «поночевать». Первую ночь он спал на диванчике возле кухонного стола, на вторую перебрался в то место, которое у меня называлось гостиной. Гриша обстоятельно разложил огромный пухлый диван, застелил его без спроса взятым из моего комода постельным бельем, улегся и принялся вздыхать. Иногда он вставал, шлепал на кухню и, громко сглатывая, пил воду. На рассвете, когда каждый вздох в финале начал сопровождаться протяжным «а-а-а!», я не выдержал, подошел к нему и со всей силы ткнул кулаком в бок.
— Ты что, совсем очумел, придурок? — прошипел я. — Мне на работу скоро, а я глаз не сомкнул. Что ты воешь на всю квартиру?
Гриша смотрел на меня сверху вниз невинными детскими глазами и печалился.
— Жизнь, знаешь ли, так тяжела, — проговорил он скорбно и вздохнул еще раз.
— Еще раз услышу, что ты вздыхаешь, пойдешь спать на лестницу, — сказал я.
— Так мне что, вообще, по-твоему, не дышать? — возмутился Гриша, и я лишний раз удивился тому, с какой космической скоростью он переключается с мировой скорби на всемирную склоку. Гриша приподнялся на локте, взгляд его был довольно-таки противным и злобным. Он уже пометил территорию и теперь готов был биться за нее до последней капли крови.
— Дыши молча. Тише дышишь, дальше будешь, — сказал я, ткнул его для острастки еще раз и пошел к себе.
Честно? Я видеть его не мог. После того, что случилось в деревне, мне хотелось взять его за шкирку, вывесить за окно и потрясти как следует. Может быть, даже уронить с восьмого этажа. И вот — он у меня на диване, и я ничего не могу с этим поделать. Ну да, я слабохарактерный. Мне стыдно признаться, но… мне жаль Женю. Мне жаль ее, потому что… потому что… бедная она, вот почему. Так упрямо и упорно рвется к какой-то ей одной видной цели, месит жизненную грязь, пытается из жиденького синюшного молочка, что досталось ей от рождения, сбить жирный кусок масла, а ничего не выходит. Рушится. Взять хотя бы историю с этой деревней, глупейшую, на мой взгляд. Результат — денег нет, Женя сидит в чужом доме за неимением собственного холодильника. И само это вторжение в Его квартиру, и история с установлением отцовства… Идиотство какое-то! Что это ей даст? Да выгонят ее отсюда, выгонят взашей, как шелудивого пса, как только появится первый из настоящих наследников. А она-то карабкается, грызется за свое нелепое счастье. И сама она — шалая, нелепая, жалкая, бездомная девка. Беспутная в прямом смысле слова. Несется по бездорожью без руля и без ветрил, суется, не зная броду, в воду и что получает в результате? Ни-че-го.
А субботник все-таки пришлось устроить. Квартира была настолько запущена, что Женя не смогла бы убрать ее сама. Пришли Денис с Натальей и, естественно, Ольга. Я долго крепился, выдерживал характер, но в конце концов тоже решил заглянуть к ним. Мне было неловко оставаться в стороне. Вдруг перестановка какая-нибудь. Шкаф подвинуть или еще что. На Гришу в этом смысле надежды мало — либо все переломает, либо сам убьется.
Когда я вошел, Гриша с Денисом как раз перетаскивали диван из маленькой комнаты в большую. Гриша пыхтел, обливался потом и все норовил бросить бедный диван на пол и волочить волоком.
— Ножки подними! Паркет царапаешь! — орала Женя. На меня взглянула искоса, как всегда недовольно, буркнула: — Наконец-то! — и кивком указала, что я должен принять у Гриши диван.
В квартире уже царил тот отчаянный бардак, который возникает всегда в начале генеральной уборки. На меня он обычно действует угнетающе. Вот и сейчас я сразу почувствовал тяжесть в затылке и, принимая у Гриша его сторону дивана, подумал, что надо бы отсюда бежать. Не могу я, когда по полу разбросано шмотье, не могу наступать на чужие рубашки и трусы, не могу видеть вывороченных ящиков, разверстых шкафов, книг, выбитых из своих гнезд, не могу, когда некуда приткнуться, присесть, поставить ногу, когда есть приходится стоя, из общей кастрюли, потому что на столе громоздятся старые помятые жестяные коробки с лежалой крупой, а тарелки-чашки-ложки грудой свалены на пол. Не могу, потому что жизнь и без того бардак. Должна же быть хоть какая-то иллюзия порядка в хозяйственном устройстве? Когда в доме идет глобальное перемывание, перетирание и перетряхивание, мне кажется, что это не кончится никогда, и овладевает такая тоска, хоть вой, как Гриша в лучшие минуты его ночных выступлений. Может быть, поэтому я не люблю устраивать дома больших праздников, созывать гостей. После них я долго не могу понять, мой это дом или нет. И куда, черт возьми, делась моя любимая чашка? И почему на балконе должны валяться пустые бутылки? И почему это они отвалили, оставив всю грязную посуду? И кто им позволил разбрасывать по моей квартире окурки и недопитые бокалы? И копаться в моих дисках? И куда мне девать остатки салатов-винегретов? Чего они тут стоят, на моем подоконнике, в каких-то жутких мисках? А, так это чужие миски? Их гости принесли? Так заберите. Они мне жить мешают! Вторжение больших гостей превращает мою квартиру во враждебное пространство.
Но я отвлекся. Итак, я тащил с Денисом диван и мечтал поскорее смыться. Денис пятился задом.
— Эй, — сказал я. — Бери правее, а то не впишешься в дверь.
Денис сделал шаг назад и со всего маху впечатался в стену. Я с удивлением взглянул на него. Денис не мигая смотрел на что-то за моей спиной. Я оглянулся. Ольга, стоя на подоконнике, мыла окно. Ветер вздувал ее выцветшую ситцевую, видимо, домашнюю юбку, обнажая очень полные, очень белые ноги. Она наклонилась к тазу с водой, и юбка задралась, открыв синие трикотажные простецкие трусики. Я перевел взгляд на Дениса. Он по-прежнему не отрываясь смотрел на Ольгу. Его кадык дергался. Я открыл было рот, чтобы сказать… все равно что, лишь бы привести его в чувство, но тут из кухни раздался оглушительный треск.
— Я разбила фамильную супницу! — закричала Наталья.
— Да черт с ней, с супницей! Кому она нужна! Ей цена копейка! — прокричала из коридора Женя.
— Не трогай! Я подберу осколки! — проверещал Гриша и метнулся на кухню.
Через секунду оттуда раздался его дикий вой.
— Что? — в ужасе крикнула Ольга, спрыгнула с подоконника и помчалась к Грише. — Что? Порезался?
В ответ Гриша провыл что-то нечленораздельное.
Мы с Денисом бросили диван и тоже побежали за ними. Гриша стоял посреди кухни с вытянутой вперед рукой и с ужасом смотрел на свой указательный палец. С пальца капала кровь. Ольга суетилась вокруг него, одной рукой открывала кран, другой тянула Гришу к раковине.
— Под воду! Скорее под холодную воду! — кричала она.
— Идиот! Растяпа! Руки тебе пообрубать! — орала Женя. Она стояла в дверях кухни с ребенком на руках, широко раздвинув ноги, и с раздражением пыталась всунуть ребенку в рот большую набухшую грудь, похожую на хорошо надутый воздушный шар. Ребенок заходился от крика. — Да замолчи ты, кому говорю! — орала Женя и яростно трясла ребенка.
Было неясно, к кому она обращается — к Грише или ребенку.
— Кро-о-овь! — выл Гриша. Его натурально трясло. Лоб покрылся испариной. Остатки волос взмокли и слиплись.
— Ничего, ничего, миленький, потерпи, немножко осталось, а я подую, подую, — бормотала Ольга, засовывая Гришин палец под струю холодной воды. Гриша зажмурился и стал оседать прямо в совок, на который Наталья с невозмутимым видом сгребала осколки супницы.
— Здравствуйте! — вдруг раздался негромкий, но отчего-то очень хорошо слышный в этом визге и писке голос. — А у вас входная дверь открыта.
Мы одновременно замолчали и повернули головы. В проеме распахнутой двери, подсвеченная сзади светом, так что не разобрать лица, но отчетливо виден пышный ореол волос, роняющих в полумрак золотые искры, стояла девушка. Тоненькая. Высокая. На длинных голых ножках. Больше ничего не видно. Девушка сделала к нам шаг, и ее лицо выступило из темноты. Она была такая хорошенькая, что у меня перехватило дыхание. Почти девчонка. Девчонка улыбнулась. Улыбка у нее была неровная. Правый уголок рта поднимался выше левого, и от этого лицо казалось еще прелестнее.
— А у вас дверь открыта, — повторила девчонка.
Мы молчали. Ждали, когда откликнется Женя.
— Вам чего? — соизволила спросить она, засовывая наконец грудь в рот несчастному дитятке.
— Я за вещами, — спокойно сказала девчонка.
— За какими такими вещами? — И Женя подозрительно повела носом, становясь похожей на жадного кролика, промышляющего насчет морковки.
— За своими. Я оставила здесь свои вещи.
Ах вон оно что. Девчонка приехала за вещами. Знакомый мотивчик. Сдается мне, об этой девчонке мы уже слыхали. Не так давно от Виктора. Ему теперь неловко собирать чужие лифчики, так девчонке пришлось позаботиться о себе самой. А все-таки интересно, что после смерти все как-то незаметно (а иногда и очень даже заметно) сводится к вещам. Я не имею в виду — упаси Боже! — пошлую дележку квадратных метров и чайных ложечек. Просто вещи в принципе встают во главу угла. Как будто они — главное, что остается от человека после смерти. Как будто достаточно на похоронах сказать о человеке пару теплых слов. Ну, может, еще на девять дней, а до сорока дней почти никогда дело и не доходит. Так вот, сказать пару теплых слов и спокойно предаваться делам о наследстве, каким бы оно ни было. Хоть миллион, хоть пара колченогих стульев, все равно. Все требует распоряжений. Пристального внимания. Волнений. Обсуждений. Времени, наконец. Приходят кредиторы. Да и покойный был не только должником, но и чьим-то кредитором. Приходится взыскивать. Вот, в Его квартире застряли чужие вещи. Непорядок. А будь Он жив, может, девчонка и не вспомнила бы о своем барахлишке. «Ну, застряло и застряло. Будет время, заберу». Вот именно — будет время. Может быть, возня вокруг посмертных вещей кажется мне настолько оскорбительной потому, что она неприлично суетлива и тороплива. Пока идет жизнь — на все есть время. После смерти оно мгновенно иссякает. Надо торопиться, иначе не успеешь. К чему не успеешь? Куда? Словно чужое закончившееся время влияет на сроки вашей жизни, укорачивая ее.
Между тем Женя принюхивалась к девчонке и ничего для себя приятного не находила.
— Какие это такие свои вещи? — грозно спросила она. — Никаких таких ваших вещей здесь нет!
Девчонка наклонилась и подняла с пола шелковый шарфик, выпавший из ящика комода. Потом оглянулась и сняла с вешалки тонкий кожаный ремешок.
— Вот это мое, — сказала она. — Там еще много. Белье, и еще книжки я Ему приносила, детективы, и духи, и… — И она сделала шаг в сторону комнаты.
Женя не глядя сунула ребенка Ольге, метнулась к девчонке и вырвала у нее из рук шарфик и ремешок.
— Твое! Твое! — сдавленным голосом проквакала она. — Твоего здесь нет ничего! Запомни это! Ишь ты, белье ей подавай, духи, пудры с помадами! Вот тебе, выкуси! — И сунула девушке под нос толстую фигу. Девчонка попятилась. Женя напирала. — Пошла отсюда, пошла, подстилка драная! И чтоб я тебя больше здесь!.. Да я милицию сейчас! Повадились тут шляться! Милици-и-ия! Милици-и-ия! Гра-абят! — вдруг что есть мочи заорала она.
Девчонка испуганно вздрогнула, бросилась из квартиры и угодила прямо в живот здоровенного дядьки, взгромоздившегося в дверях. Дядька явно был мне знаком, однако в темноте прихожей я никак не мог разобрать его лица.
— Что здесь происходит? — басом спросил дядька.
— А-а-а! Помощничек явился! — визгливо выкрикнула Женя и как курица всплеснула руками. — Вы не по поводу бюстгальтеров? И чулки на резинке вам тоже не нужны? Что, и духи с шампунем не понадобятся? Странно! А я думала, тут все ваше! Нет? Ну так вон пошел! Вон!
— Что вы себе позволяете! — рявкнул дядька. — Я тут у себя дома!
— Что?! — завизжала Женя. — Что ты сказал, гад ползучий?!
— Попрошу без оскорблений! — Дядька на секунду выступил из темноты, и я узнал его. Батюшки! Да это двоюродный братец! Мы влипли. Между тем представление продолжалось. Братец побагровел. Я даже испугался. Вдруг его хватит удар? Он же такой здоровенный. Братец дернул шеей и попытался ослабить воротничок рубашки. — Я… я законный наследник! — И он ткнул себя в грудь могучим кулаком.
— Законный наследник? Вот законный наследник! — И Женя ткнула себя в округлый живот кулачком, тоже, кстати довольно увесистым. — А ты… ты здесь никто и звать тебя никак!
Она стремительно ринулась на дядьку и девчонку, в испуге прилипшую к нему, выдавила их на лестницу и с грохотом захлопнула дверь перед их ошарашенными лицами.
— Наследничччки, — тяжело дыша, язвительно прошипела она. — Тоже мне. Повадились. Не пущщщу! — Она стояла набычившись и глядела на нас исподлобья налитыми злостью глазами. — Чья девчонка?
— Его, — сказал я. — Бывшая любовница. Здесь правда много ее вещей. Давай я быстренько соберу и догоню ее.
Я пытался говорить эдаким мягким примирительным тоном, каким обычно говорят с неврастениками, но Женя на эту удочку не Попалась.
— Еще чего! — сказала она.
И тут на авансцену выступила Ольга.
— Да вы что! — воскликнула она таким голосом, что мы сразу встрепенулись. И правда, да что это мы! — Да вы что! Он же правда наследник! Он же в суд может подать! Надо немедленно его вернуть!
Она взяла с места в карьер, проскакала мимо нас крупным галопом, вырвалась на лестничную клетку и бросилась по лестнице вниз, забыв о лифте. А я таким же крупным галопом бросился к окну. Сердце мое чувствовало, что сейчас случится неладное. Не надо было отпускать Ольгу.
Я перегнулся через подоконник и принялся вглядываться в то, что происходит внизу, во дворе. Секунды три ничего не происходило. Потом из подъезда выбежал дядька и потрусил по двору, утирая шею носовым платком. За ним выскочила девчонка. За ней — Ольга. Девчонка пробежала несколько шагов и остановилась у знакомого мне разбитого рыдвана, бывшего когда-то «Жигулями». Из рыдвана вышел Виктор, сделал удивленный жест — слов я, разумеется, не слышал, — мол, что это ты так скоро и без вещей, и открыл девчонке переднюю дверь. Ольга тоже сделала несколько шагов. И замерла. Она стояла посреди двора, бросив руки вдоль тела, и смотрела, как Виктор усаживает в рыдван девчонку. Они не замечали ее. Рыдван кашлянул, подпрыгнул и отчалил. Ольга какое-то время смотрела ему вслед, потом повернулась и, сгорбившись, побрела обратно к подъезду.
— Вот и все, — произнес голос у меня за спиной. Денис через мое плечо тоже наблюдал «придворную» сценку. — Слава Богу, избавилась от этого питекантропа. Давно пора было. Не будем ей говорить, что все видели.
— Питекантропа? — переспросил я. — Ты же через два дня на третий пиво с ним пьешь.
— Угу, — пробурчал Денис. — А что еще-то с ним делать?
Мы подошли к дивану, поплевали на ладони, схватили диван с двух сторон и потащили в другую комнату.
XX
Ольга спала на диване в моей гостиной. Наталья сидела рядом на кончике дивана и держала ее за руку. Картинка была трогательная, почти детская и неожиданно умиротворенная. Неожиданно, потому что всего полчаса назад Ольга металась по квартире, натыкаясь на острые углы, рыдала, кричала, пыталась даже выпрыгнуть из окна, для чего подтащила к подоконнику стул, взгромоздила на него одну ногу, а вторую взгромоздить не смогла. Обессилела, повалилась на этот же стул, уставилась в пространство и начала бормотать: «Ну как же так? Ну как же так? Ну почему же он?..» Мне вообще-то эти ее метания и рыдания с последующим оцепенением как-то были не очень. Я как-то не проникся. Не верил ей, что ли. Мне казалось, что она наигрывает. Нет, она совершенно искренне страдала, но и слегка наигрывала… тоже искренне. Впрочем, я вообще не доверяю бурным проявлениям чувств. Истерики не вдохновляют меня на жалость и сопереживание. К тому же я знаю Ольгу. Если бы у Виктора на носу вскочил прыщ, она бы истерила примерно так же.
Наталья бегала за ней, совала в рот какие-то лекарства, под нос стакан с водой, наконец загнала ее в ванную, умыла, запаковала в мой махровый халат, уложила на диван и доброй нянюшкой уселась рядом. Глядя на эту идиллию, я подумал, что когда личной безопасности Натальи ничто не угрожает, она способна приобретать человеческий облик.
Денис в беготне участия не принимал. Еще на первой стадии истерики, когда Ольга вернулась в квартиру Жени со двора, прислонилась к косяку, закатила глаза, прошептала: «Он… он там… с ней…» — и начала медленно сползать на пол, он как-то дико, по-лошадиному, скосил глаза на ее задравшуюся юбку и выскочил на лестницу. Потом я тащил Ольгу к себе, потом они с Натальей носились по квартире, были крики, гром, звон, разбитые чашки, опрокинутые стулья, но Денис не появлялся. Я пару раз выходил на лестницу и звал его. Он стоял, засунув руки в карманы, и глядел в окно. На мои призывы не откликался, не оборачивался и только по-прежнему дико, по-лошадиному, вспрядывал головой.
Когда Ольгу удалось угомонить, я снова вышел к нему.
— Пойдем, — сказал я. — Она уснула. Хоть чаю выпьем по-человечески.
Денис оторвался от окна. Лицо его было совершенно спокойно, невозмутимо и невыразительно. Как будто он дремал, а сейчас проснулся и, очень ясно понимая, кто он, где, зачем и почему, еще не вполне осознает, что вчера проигрался в пух и прах. На кухне он как ни в чем не бывало сел на свое привычное место у окна и закурил. Наталья осторожно поднялась с дивана, укрыла Ольгу пледом, присоединилась к нам и деловито принялась заваривать чай. В дверь позвонили.
— Убью! — громко сказал я.
Денис, по обыкновению, выгнул бровь. Наталья посмотрела на меня укоризненно, кивнула в сторону Ольги и приложила палец к губам.
Я открыл дверь. На пороге стоял Гриша. Не глядя на меня, он слегка оттолкнул меня в сторону локтем, мол, посторонись, не видишь, что ли, я иду, и двинулся прямиком к своему спальному месту. Я схватил его за шкирку, приподнял, покачал несколько раз вперед-назад (собственно, о чем и мечталось все предыдущие ночи), выбросил за порог и захлопнул дверь. После чего отряхнул руки и пошел пить чай.
— Веселенький денек, — сказала Наталья, вспарывая упаковку зефира. — А посущественней ничего нет?
— Веселенький, — согласился я, нарезая лимон. — Посмотри в холодильнике. Там была ветчина и огурец.
Наталья полезла в холодильник.
— Ого! — с изумлением воскликнула она. — Совсем ты с ума сошел, мой миленький! Это уж совсем ни к чему!
Я тоже заглянул в холодильник через ее плечо. Холодильник был под завязку набит упаковками с молочной смесью «Агуша», кисломолочный продукт для детей от 6 месяцев до года. Только внизу сиротливо притулились три бутылки пива.
— Черт! — сказал я. — Это Гриша. Честное слово, Гриша. Я ничего не знал.
— Да ладно, не оправдывайся, — хмыкнула Наталья. — Пиво тоже для детей от шести месяцев до года?
— Пиво для папы.
— Он что, к тебе тоже ходит? — Денис поднял голову, в голосе его звучал неподдельный интерес.
Я обреченно кивнул.
— А ветчину кто сожрал? — продолжала допытываться Наталья. — Папа или дитя?
— Какая разница? — пробубнил я. — Папа, он же как дитя. Впрочем, ветчину утром сожрал Гриша. Я как-то забыл. Знаете… — Я запнулся, подбирая слова. — Гриша, он такой узкий, субтильный, почти бесплотный, как будто у него внутри ничего нет, даже внутренних органов. Но это видимость. Обман. Он очень прожорливый. Оч-чень!
— Знаю, — кивнул Денис. — Лучше бы он был круглым, как папа. По крайней мере было бы ясно, чего от него ждать. Папа-то свои мясные излишества оправдывает по полной программе. Его аппетиты поражают. Лучшие умы современности могли бы биться над этим выдающимся явлением.
Я задумался. Денис как будто ответил на мои давние мысли. Гриша казался мне неадекватным самому себе. Он был одним из тех, от кого ждешь очень определенных реакций и действий. Ну, к примеру: слабый физически, он, по идее, должен был быть слабым и морально. Так раньше и было. Он всегда оправдывал ожидания. Оправдывал, оправдывал, а потом — бац! А чемоданчик-то, оказывается, со вторым дном. Он был оборотнем, наш Гриша, вон оно что. Такой никчемный, хлипкий, клеклый, а жилы из других тянул — будь здоров! И сам на поверку оказался свитым из корабельных канатов. Такой добрый, чувствительный, сентиментальный, но мог зашибить тебя на полном скаку, если гнал на помощь кому другому. Зашибить и не оглянуться. Вот и внешняя его субтильность не оправдала предположений. Гриша мог голодать при Жене. Но в моем доме он всегда трескал в три горла, причем последнее время почему-то без спроса.
Видимо, слово «оборотень» я проговорил вслух. Денис встрепенулся.
— Оборотень? — переспросил он. — Ты тоже так о нем думаешь?
— Оборотень? — язвительно переспросила Наталья, тоже вскидывая голову. — Да все вы, мужики, оборотни проклятые! Гриша… Да Гриша святой среди вас! — В голосе ее звучала нарастающая необъяснимая злость. Мы с Денисом одновременно подняли на нее глаза, одновременно отвели, как будто увидели что-то болезненно-обнаженное, и, ничего не понимая, переглянулись. Что с ней? Между тем Наталья говорила все громче и громче: — Гришу упрекнули! А обезьяну свою, Виктора, не упрекнули? Нет? Что он привез эту… эту… — На ее лице появилась брезгливая гримаска. — Девку! И ведь знал, что мы все здесь! И что Ольга здесь, тоже знал! И не постеснялся, нет! — Она уже почти кричала.
— Да тебе-то что? — спокойно спросил Денис.
Я смотрел на Наталью во все глаза. Никогда еще я не видел ее в таком возбуждении. Обычно она безупречно владеет собой. Брезгливая гримаска не сходила с ее лица. Мне стало неприятно. Почему девчонка «эта»? Почему «девка»? Мне лично девчонка понравилась. Хорошая девчонка. Никакая не «эта». И вообще — как можно судить о человеке, видя его первый раз? Только потому, что девчонка пришла в чужую мужскую квартиру за своими вещами? Ну и что? Мало ли какие у нее были отношения с Нашим другом? Кому до этого дело? Что мы вообще об этом знаем? Все-таки Наталья — баба мещанская на чайник. Я всегда это знал.
Наталья не унималась:
— Слава Богу, Ольга теперь с ним угомонится! А то смотреть противно, как она вокруг него скачет!
У Дениса дернулся угол рта.
— А на Гришу тебе смотреть не противно? — очень холодно, даже высокомерно, поинтересовался он. — Как он вокруг Жени скачет?
— Женя? Женя?! — Наталья уже кричала так, что мне пришлось встать и задвинуть перегородку между кухней и гостиной. — Женя ваша сука! Женя ваша всех в грязи вываляла и рада! Женя ваша подстилка! Порядочные люди таким, как она, руки не подают! На порог не пускают!
— Ну, если порядочные, то коне-ечно, — протянул Денис.
Я посмотрел на него с пониманием. Хотя… В принципе Наталья права. Если смотреть со стороны, поверхностным взглядом, Женя каждый день, каждый час каждым своим движением, каждым жестом нарушала границы дозволенного. Как будто ставила дьявольский эксперимент над человеческой натурой. Я знаю людей, нарушающих границы дозволенного. Такими людьми движет обычно азарт или желание бросить вызов общественному мнению, проверить себя, преодолеть запреты, раскрыть тайну. Мало ли причин. Их будоражит риск. Область их игры обычно довольно узка. Бизнес. Любовь. Экстрим. Обойти на повороте конкурентов. Переспать с лучшей подругой жены. Забраться черт-те куда и не сломать шею. Женя с ее бытовой заземленностью, крепко стоящая на мускулистых ножках с хорошо развитыми икрами, нарушала границы дозволенного в области кухонных интересов и коммунальных бытований. И это было немыслимо. Потому что непонятно. Как можно не выбирать выражений, когда просто говоришь с людьми? Вернее, употреблять ТАКИЕ выражения? Так прямо, грубо и откровенно выражать свои желания? Так наотмашь бить мнением? Не извиняться за сказанное? Не стесняться? Совсем не знать о существовании приличий? Как будто испытываешь людей на прочность, на терпимость, на порядочность. Есть же вещи, о которых нельзя напрямую, которые требуют деликатности. Как можно выгнать взашей прямых наследников и водвориться в квартире, на которую не имеешь никаких прав? Ладно опасно. Но ведь непристойно! Приличные граждане так не делают! Но Женя не была порядочной. И непорядочной тоже не была. Она не нарушала нравственности. Она оперировала понятием «нравы». А нравы — так считала Женя — у всех одинаковые. Приличным людям тоже охота хорошо жить, только они прикрываются тряпьем благопристойности, за которой прячется двойная мораль. Надо отдать должное Жене — сама она по крайней мере была честной. И потому действовала в лоб. Она не чувствовала и не понимала, что такое хорошо и что такое плохо. Не ведала добра и зла. И в этом смысле была не хуже собственного ребенка. Чистое дитя. Женя выставила нас дураками. Ну и что? Сами виноваты. Нельзя выставить дураком человека, который таковым не является.
Пока я размышлял о Жене и ее месте в иерархии нравственности, страсти на моей кухне накалялись. Наталья перестала кричать и перешла на змеиный шепот. Она перегнулась через стол, впилась глазами в глаза Дениса и яростно выплевывала ему в лицо:
— Быдло. Быдло. Вот она кто, ваша Женечка! Грязь! От нее дерьмом воняет! Со дна поднялась, на дно и плюхнется! Хорошенькие методы квартиры получать!
«Да чего это она, правда? — мимолетно подумал я. — Что ей до Жени? И до квартиры? И чего она на Дениса набросилась? Как будто сводит с ним счеты?»
Но тут Денис поднялся с места и навис над Натальей.
— Квартиры? — со злостью бросил он. — А ты как свою выбила? А, беленькая? Чистенькая? На свои деньги купила? В наследство получила? Или, может, десять лет на очереди стояла? Это не ты, случайно, Ритку после смерти родителей из квартиры выдавила? Это не ты заставила ее в коммуналку прописаться? Она из этой коммуналки до сих пор выбраться не может! А когда я сказал, что Ритке надо компенсацию дать, ты мне что ответила? Не помнишь? А я-то дурак! Я-то!.. Ненавижу!
Ритка была старшей сестрой Дениса. Меня, кстати, всегда удивляло, почему она не требует своей доли за квартиру, которая досталась им с Денисом после смерти родителей. Между прочим, вполне роскошную даже по нынешним временам. Я объяснял это тем, что дело происходило давно, когда мы еще не знали, что квартиры можно делить, покупать и продавать. А Ритка всегда была малохольной, не от мира сего. Она по-тихому выписалась в коммуналку к мужу и сидела там мышью последние двадцать лет, не рыпалась.
— Не-на-ви-жу! — с трудом выдавил Денис хриплым срывающимся голосом. — Ненавижу тебя с твоим лживым чистоплюйством! И из меня всю жизнь подлеца делала, интеллигентка хренова из Гальюново! А Женю ты не трогай! Она лучше тебя, Женя! Ты в нее потому плюешь, что она делает то же самое и не стесняется! А ты боишься себе признаться, что гнида. А ты не бойся, не бойся!
Наталья взвизгнула, подскочила и замахнулась на Дениса. Он перехватил ее руку и с силой опустил вниз. Костяшки Натальиных пальцев громко стукнулись о столешницу. Она вырвалась и метнулась к двери.
— Машина у подъезда! — крикнул Денис. — Возьми ключи!
— На метро доберусь! — истерически выкрикнула в ответ Наталья. — До родителей без пересадки!
Она выскочила из квартиры, с грохотом захлопнув дверь. Моя знаменитая люстра качнулась. С вешалки сорвалась шапка, которая торчала там с зимы. В ванной звякнули флаконы. Денис ухмыльнулся. Он смотрел на дверь, за которой скрылась Наталья, совершенно спокойно, даже с некоторым научным интересом.
— Да что это вы? Что с ней? Что с тобой? — ошарашенно бормотал я. Я уже не знал, на каком свете нахожусь. Мне казалось, что я присутствую при каком-то чудовищном фарсе, смысл, цель и сюжет которого мне не известны. А действующих лиц будто подменили. Денис продолжал ухмыляться. — Ты чего скалишься? — спросил я. — Так ты нарочно, да?
Денис согнал с лица ухмылку.
— Да ненавижу я ее, вот чего, — устало сказал он. — Ничего страшного. Обычное дело. Буди Ольгу. Повезу ее домой.
Когда они уехали — Денис тащил Ольгу практически на руках, Наталья накормила ее какими-то лекарствами и, видимо, не рассчитала, Ольга ни черта не соображала, волочила за собой две макаронины вместо ног, мычала и пускала пузыри Денису в плечо, — так вот, когда они уехали, я без сил повалился в кресло, закинул руки за голову и сразу подумал: «А как же Алена? Как же Алена? Ведь она и Виктор…»
XXI
Чувствуя себя шпионом из плохого боевика, я подкрался к окнам мастерской и заглянул внутрь. Занавесок на окнах не было, и я хорошо видел Виктора, который лежал на диване и листал какую-то книжицу. Горела настольная лампа. На полу возле дивана стояла открытая бутылка коньяка. Видимо, Виктор пил прямо из горла. Больше в мастерской никого не было. Впрочем, черт его знает, этого Виктора, сколько барышень рассовано у него по шкафам. После сцены, разыгранной Натальей у меня на кухне, я уже не знал, чего ждать от этих людей.
Посидев минут десять в кресле после ухода Дениса и Ольги, я вдруг неожиданно для самого себя вскочил и побежал к Виктору, чтобы выяснить, что связывало его с девчонкой и связывало ли вообще хоть что-то. Нет-нет, я был уверен, ни секунды не сомневался, что связывало, все связывало, и еще как, и именно сейчас, когда он с Аленой… Как связывало его еще с полутора десятком таких же девчонок. Короче, выяснять, похоже, было нечего, но я не мог больше оставаться дома. Надо было срочно видеть Виктора и лично от него, напрямую услышать то, что слышать совсем не хотелось.
Мне и в голову не пришло сесть, к примеру, в собственную машину. Может, и к лучшему. В том нервическом состоянии, в котором я находился, вряд ли я бы добрался до Виктора живым. Поймать такси я тоже не сообразил. Внутри у меня все горело. Я мчался по улицам, машинально удивляясь их безлюдности. Я забыл, что стояла глубокая ночь. Мастерская Виктора находилась в закоулках между Петровкой и Неглинной, в полуподвале старого кирпичного дома. Влетев в переулок, я притормозил и, прижавшись к стене так, будто за мной следили, опасливо подобрался к окнам мастерской. И вот теперь стоял полусогнувшись и смотрел на Виктора, который не подозревал, что за ним наблюдают. Виктор был совершенно расслаблен, вальяжен, и я тоже вдруг успокоился. Я больше не собирался выяснять с ним отношения. Теперь я всего лишь хотел убедиться, что он не один. Зачем мне было это надо? Не знаю. Просто хотел увериться в подлости Виктора. Думал, может, легче станет, если он окажется подонком. Я уже не думал: «А как же Алена?» Я был поглощен собственной ненавистью к Виктору. Ревновал, злился, мечтал застукать Виктора с девчонкой и тем самым доказать себе, что я лучше. При этом я почему-то забыл, что сам меняю барышень примерно раз в месяц и никакого отношения к Алене и моим чувствам к ней эта смена декораций не имеет. То есть лично я их не связываю — Алену и барышень. Скверно.
Моя нога подвернулась, я потерял равновесие, рухнул в углубление перед полуподвальном окном, попытался схватиться за выступ в стене, рука поехала, и я врезался локтем в оконное стекло. Виктор поднял голову, отложил книжку, встал, подошел к окну и распахнул его. Я перешагнул через подоконник и оказался в мастерской. Там было довольно грязно, запущенно и заплевано. Видно, Ольга давно не посещала сей райский уголок. Впрочем, я не особенно вглядывался.
Виктор стоял передо мной и скалил зубы.
— Что, прибежал посмотреть, здесь ли девчонка? Думал схватить меня с поличным и доложить Алене? — спросил он и захохотал. — Тогда бы она сразу меня разлюбила, а тебя наоборот, да? За чистоту и преданность? Или решил насладиться собственным благородством?
— Сволочь ты, — сказал я. — Паскудная сволочь.
Мне было неприятно, что он так с ходу меня раскусил. И гадко за самого себя.
— Не все такие хорошие, как ты, — легко бросил Виктор.
— Не все говорят женщине, что любят, а потом катают девчонок.
— Ты не катаешь, что ли?
Он не переставал скалить зубы. Он смеялся надо мной. Я размахнулся и со всей силы врезал ему кулаком по морде. Он покачнулся и упал на задницу. Я смотрел сверху вниз на то, как он сидит, раскорячив ноги, на полу, и испытывал чувство невозможного наслаждения. Мне страшно захотелось повторить этот момент: я даю ему со всего маху в морду, а он красиво, плавным замедленным движением, вскинув руки и раззявив рот, падает на пол. Видимо, давно во мне жило это желание. И тут Виктор снова захохотал. Он заливался таким беззаботным смехом, словно я рассказал ему уморительный анекдот.
— Дай руку, — простонал он, не в силах остановить свой дурацкий смех.
Я машинально протянул ему руку, чувствуя себя полным идиотом. Он обыграл меня. Виктор схватился за мою руку, быстро поднялся и ладонями похлопал себя по заду.
— Зря ты это, — сказал он.
— В счет будущего, — буркнул я. — Если ты ее бросишь… Если ты ей изменишь…
— Господи, да почему я должен перед тобой оправдываться! — воскликнул Виктор, как ни в чем не бывало неторопливо ложась обратно на диван. — Я что, уже в кандалах? Вы что, присяжные? А я обвиняемый? Если вы с ней дружите, я должен давать отчет перед всей честной компанией? Как часто? Раз в неделю? По субботам? В десять утра?
Я вдруг почувствовал жуткую усталость. Ноги налились тяжестью. В грудь как будто затолкали ком ваты.
— Да ни о чем я тебя не спрашиваю, — с тоской проговорил я. — Делай что хочешь. Катай кого хочешь. Но если Алена узнает!..
— Нечего узнавать, — сказал Виктор. — Ничего больше нет.
— С Аленой? — с трудом произнес я, боясь в это поверить и одновременно наполняясь отчаянной надеждой.
— Без Алены. Ничего и никого. Давно нет. С того вечера, помнишь, в деревне, когда она сцепилась с Женей. — Я кивнул. Голова моя была как деревянный шарик, надетый на железный штырек. — Девчонку подвез, потому что она попросила, — продолжал Виктор. — По старой памяти. Выпить хочешь?
Я кивнул. Выпить правда очень хотелось. Виктор протянул мне бутылку коньяка, стоявшую на полу. Я взял со стола стакан и плеснул туда коньяк. Пить из горла после Виктора почему-то не хотелось.
— А как же Ольга? — тупо спросил я, уставившись в стакан. Потом одним махом опрокинул в себя коньяк и закашлялся. Виктор подождал, пока я кончу кашлять.
— Не знаю. — Он пожал плечами.
— Она тебя видела с девчонкой.
Виктор опять пожал плечами. Ему было насрать на Ольгу. Он был жестокий к тем, кто был ему не нужен. И я с ужасом подумал о том, что когда Алена станет ему не нужна… А собственно, почему я решил, что она когда-нибудь станет ему не нужна? Забыв про стакан, я хлебнул прямо из бутылки, и на этот раз меня обожгло по-хорошему.
— Ты откуда знаешь, что я знаю про вас с Аленой? — спросил я.
Виктор усмехнулся.
— Когда я пришел к ней, тогда, первый раз, она сказала, что ты только что ушел. Ну, я и подумал, вряд ли ты ушел сразу. Как-то мне в это не верилось. Наверняка торчал где-нибудь поблизости, во дворе курил или на лестничном окне тосковал. А раз не ушел, то мог меня видеть.
Мы помолчали.
— Так она сказала тебе, что я с ней… в общем, что я ее…
Виктор неопределенно мотнул головой. Ясно, что какой-то разговор был.
— Про нас уже, конечно, все знают? — спросил Виктор.
— Только Наталья с Денисом.
— Ты доложил?
Я покачал головой.
— Они наблюдательные. И потом, дурак бы не заметил.
— Да, собственно, и никакого секрета нет! — хмыкнул Виктор. — Можно всем мирком да за свадебку.
XXII
В такси меня совсем развезло. Глаза слипались и уплывали внутрь головы. Мне казалось, что они похожи на яичные желтки, болтающиеся в каком-то мутном растворе. Я с трудом выбрался из машины, с трудом понял, сколько денег должен шоферу, с трудом поднялся к себе и не раздеваясь рухнул в постель. Когда утром я разлепил глаза, было уже одиннадцать. «Хорошо, что воскресенье», — вяло подумал я и опять провалился в сон. Через час меня разбудил телефонный звонок. Это был Денис. Он как-то странно похмыкивал в трубку.
— Говори толком, — сказал я. — Голова раскалывается.
Денис еще попыхтел и, как бы решившись, выпалил:
— Вчера ночью Наталья звонила Ольге. Рассказала о Викторе и Алене. — Он помолчал и обреченно добавил: — Я ее убил.
— Что?!! — Я вскочил с кровати. В мою голову как будто вогнали острый кол. — Что ты сказал?!!
— Я убил ее словом. Я сказал, что она… что она… в общем, женщине такое не говорят.
У меня подкосились ноги, я плюхнулся обратно на кровать и подумал, что после этой прелестной ночки и не менее прелестного утра будет странно, если у меня не отнимется на фиг какая-нибудь часть тела. Я попытался как можно глубже вздохнуть и тут почувствовал, как во мне прорезалась бешеная злоба.
— Какого черта?! — заорал я. — Какого черта ты мелешь?! Да что вы все, сговорились? Идиоты! Я… я сам вам шеи сверну! Оставьте меня в покое! Нет меня больше, ясно? Нет! Целуйтесь, трахайтесь, орите друг на друга, квартирами торгуйте, хлебайте свою… как ее… «Гугушу» с пивом! Я тут ни при чем! И нечего ко мне больше соваться! Ни одного хрена не пущу!
— Тише, тише, — примирительно сказал Денис. Он, видимо, после ночных приключений уже совершенно овладел собой. — Не кипятись, чайник. Все нормально. Все живы. Ну, извини, ляпнул не подумав.
Волна злобы отхлынула. Я сидел на кровати ослабевший, покрытый холодным потом и полностью несчастный. Хотя, спрашивается, с чего бы мне быть несчастным? Тут претендентов на то, чтобы чувствовать себя несчастными, и без меня хватает. Меня-то лично во всех этих запутанных отношениях волнует лишь один сюжет. И с тем я уже начинаю смиряться. Я потянулся за сигаретами, но пальцы так дрожали, что я не смог ухватить пачку.
— Ладно, рассказывай, — хрипло сказал я.
— Нечего рассказывать, — отозвался Денис. — Позвонила минут через пять, как я втащил Ольгу в дом, и вывалила ей всю кучу.
— И как Ольга?
— Спит. По-моему, она не очень врубилась. Ты же знаешь, в каком состоянии она вчера была. — Он помолчал. — А почему ты не спрашиваешь, как Наталья?
— Да хрен с ней, с твоей Натальей. Вот уж кто мне решительно неинтересен.
— А зря, — проговорил Денис каким-то странным голосом, как будто он чего-то не понимал.
— Ну, раз ты настаиваешь… Как там Наталья?
— Готовит завтрак.
— Так ты дома? Я думал, у Ольги.
— Я у Ольги, — еще более странным голосом сказал Денис.
— А как же…
— Не знаю. Не знаю. Ничего не могу понять. — Голос Дениса стал усталым и безразличным. — Сначала позвонила, потом пришла. Я ее убил… Прости. А теперь собирается кормить нас овсяной кашей.
— Подожди, подожди. — Я тоже перестал что-либо понимать. — Давай сначала. Она же уехала к родителям.
— Да никуда она не уехала. Сидела во дворе на лавочке, ждала, когда я выйду, чтобы ехать домой, и прекрасно видела, как я вытаскиваю от тебя Ольгу. А потом поймала машину и поехала за нами. Ты же знаешь Наталью.
— Знаю, — вяло пробормотал я, уже совсем ничего не соображая.
— А я, выходит, не знаю и не знал. Ладно, пока. Пора идти завтракать.
— Поздновато завтракаете, — сказал я и повесил трубку.
Благопристойность, благопристойность и еще раз благопристойность! Вот то единственное, что движет Натальей. Не было никакой безобразной сцены ночью, Денис не швырял ей в лицо «ненавижу», она не выбегала в слезах от меня, не караулила Дениса на лавочке, не вываливала на Ольгу кучу сплетен только для того, чтобы еще кто-то, кроме нее, знал, что его не любят. Просто с Ольгой случился небольшой припадок на нервной почве, и Наталья, как лучшая подруга, всю ночь успокаивала ее, кормила лекарствами, вместе с горячо любимым мужем оказывала неотложную помощь на дому и теперь чинно готовит завтрак у нее на кухне. Так это должно выглядеть. Или я совсем не знаю Наталью, как Денис, который с удивлением обнаружил нерасшифрованные иероглифы в натуре человека, с которым прожил двадцать лет и к которому, как выяснилось прошлой ночью, так нежно все эти годы относился. Денис был проще Натальи. В их танце вела именно она. И теперь ее коленца стали для него слишком затейливы.
С этого дня началась полная мутотень. Ольга всю без остатка отдала себя скорби. В этой своей скорби она была на редкость последовательна, как хорошая хозяйка, которая, начиная готовить обед, точно знает, что сначала надо поставить на огонь бульон, а только потом чистить овощи. Ольга всегда была хорошей хозяйкой и к бытовым проблемам подходила основательно и рационально. Измену Виктора она воспринимала именно как бытовую проблему. Загулял — надо вернуть. Способов масса. Ей в голову не приходило задаться вопросом: а если у него любовь? а если это его судьба? а если это вообще не бытовая проблема? если это из нематериальной области? а может, посторониться? не путаться под ногами со своими половниками? Но ничего подобного Ольге в голову не приходило, как не приходило и то, что ее, Ольгу, Виктор мог элементарно не хотеть. И она начала действовать.
Во-первых, она взяла отпуск, чтобы ничто не мешало ей стонать и метаться. Во-вторых, она села на телефон. С помощью телефона Ольга создавала общественное мнение в свою пользу. Она обзванивала по кругу всех знакомых — сначала Наталью (Наталью эта дура после ночного доносительства определила в свои лучшие подруги под грифом: «Вот вы мне все врали, а она одна сказала правду из лучших побуждений, теперь я доверяю только ей»), потом меня, Женю с Гришей, маму, двоюродных сестер и братьев, племянников, подружек с работы, — всем жаловалась на свое бедственное положение, всхлипывала, подвывала, рассказывала, какой Виктор замечательный человек, только очень не приспособлен к жизни, так что любая (многозначительное молчание) может его окрутить, он же сам не чает, как выбраться из цепких лап, мечтает вернуться к ней, Ольге, а когда она звонит, печально вздыхает в трубку, но ничего не может ей сказать, потому что Она (еще более многозначительно, с ударением на «о») ведет за ним круглосуточную слежку, в то время как Ольга, может быть, в самое ближайшее время наложит на себя руки, чтобы Виктор понял всю силу и глубину ее любви, и тогда она умрет спокойно, зная, что после ее смерти он будет страдать всю жизнь. Общественное мнение вежливо выслушивало Ольгу и, кладя трубку, чувствовало мучительную неловкость, как будто кто-то произвел в публичном месте неприличный звук, а стыдно почему-то окружающим. Один раз я не выдержал и спросил Ольгу, мол, самое ближайшее время для наложения на себя рук — это когда? Ольга печально помолчала, а потом сказала, что если меня действительно интересует ее судьба, то она сообщит мне об этом заранее.
— Не забудь, пожалуйста, — серьезно сказал я. — Я буду тебе очень благодарен.
Между тем слежка имела место. Разумеется, не со стороны Алены. Ольга не оставляла Виктора своим вниманием. Приезжала рано утром к его дому, провожала до мастерской, там, хоронясь в темных углах дворов и подворотен, торчала целыми днями, дожидаясь, когда Виктор выйдет, чтобы следить дальше — куда, зачем, к кому, во сколько и на какой срок он отправляется. Не знаю, замечал ли Виктор, что находится под прицелом. Думаю, да, замечал. Но ни мне, ни Денису об этом не рассказывал. Особенно внимательно Ольга следила за посещениями мастерской Алены. Кроме всего прочего (как часто приходит Алена, как долго остается), ее интересовало, чем Алена кормит Виктора. Для этой цели она подглядывала в то самое, знакомое мне, полуподвальное окно. Выяснялось, что Алена не кормит Виктора ничем, кроме бутербродов. Иногда варит вермишель и пельмени.
— Она его уморит! — кричала Ольга в трубку, когда вечером звонила кому-нибудь из нас. — Опять пельмени! Я вне себя от злости! Она просто использует его! Подло, гадко использует! Тянет деньги! Если бы не деньги, он на фиг был бы ей не нужен!
В ее голосе чувствовалось тяжелое недоумение: как же так, променять ее супчики и мясо по-французски на готовые пельмени! Так не бывает! Чем же может быть лучше Та, если у нее в арсенале одни готовые пельмени? Чем она взяла? Каким образом переплюнула Ольгу? Рушились устои и приоритеты. Мир вставал с ног на голову.
— Да ты что! — пытались увещевать ее мы. — Какие деньги? Кто тянет? Ты что, Алену не знаешь?
— Выходит, не знаю! — визжала Ольга. — А только я своими глазами видела ваучеры в пятизвездочный отель! И билеты на самолет! В Италию! Думаете, на какие шиши они едут! Это она его денежки транжирит! Я никогда… никогда себе не позволяла! Он никогда… никуда со мной… — И Ольга начинала рыдать.
— А… откуда ты знаешь про ваучеры и самолет? — осторожно спрашивали мы.
Оказывается, Ольга через окно пробралась в мастерскую Виктора и рылась в его бумагах… Заодно проверила содержимое холодильника и состояние воротничков его рубашек, вымыла кисти, навела порядок на столе, отдраила пол и выбросила мусор. Ну, и кое-что по мелочи вроде стирки постельного белья, трусов и маек. Что тут сказать?
Иногда Ольга звонила самому Виктору.
— Скажи мне что-нибудь хорошее! — замогильным голосом завывала она. — Ну скажи! — Виктор молчал. — Я знаю, — выла Ольга. — Я нужна тебе. Ты просто не можешь себе в этом признаться. Ты не готов к серьезным решениям? Ничего, любимый! Я буду ждать. Я буду ждать всю жизнь. Ты можешь быть уверен в моей любви!
Виктор бросал трубку. Через два дня Ольга звонила снова, требовала серьезного разговора и предлагала Виктору немедленно принять решение в ее пользу, потому что она чувствовала, всем сердцем чувствовала: решение давно принято, только он никак не соберется с силами сообщить о нем Алене, чтобы не травмировать ее. Виктор орал. Ольга рыдала.
Я никак не мог взять в толк: она что, действительно пытается Таким образом его вернуть? Она что, искренне верит в волшебную силу вегетарианских супчиков? Или в то, что он любит ее? Конечно, «я сам обманываться рад» и все такое прочее, но не до столь же идиотической степени! В какой-то момент она, видимо, решила, что Виктор — ее собственность. Да что там собственность — недвижимость! Свои отношения с безвременно улепетнувшим мужем Мишенькой она строила по тому же принципу. Этот принцип назывался «оккупация личности». Вообще-то она как человек, воспитанный в гуманистических принципах, была против любого насилия над личностью. Но относительно мужа… или там любимого мужчины… как-то принципы почему-то теряются, когда речь заходит о собственном муже. Как-то почему-то в этом случае начинают действовать другие законы — законы джунглей. Это мое — не тронь! Загрызу! Ольга мечтала, чтобы у нее на Виктора (а раньше и на Мишеньку) имелся какой-нибудь документ, кроме брачного свидетельства. Дарственная, к примеру, или купчая, или завещание, на худой конец акт о взятии Виктора в бессрочную аренду. Виктор был для нее тем же, чем для американцев была Аляска, разве что дивиденды она хотела получать с этой золотоносной жилы нематериального свойства. Она была по-своему бескорыстна. Ведь кусочек души — это такая малость. Дым, эфир, воздушные потоки. Просто даже не считается.
Так я думал сначала, но потом изменил свое мнение.
Я пригляделся к Ольге, и мне стало ее жаль. А ведь сначала я совсем ее не жалел. Напротив. Во время всей этой истории с Виктором я злился на Ольгу, раздражался, испытывал к ней брезгливое чувство, как будто она при мне нарочно вывалялась в грязи и специально не моется, чтобы я ее пожалел. Дудки! Нарочно не жалеют! Но потом я догадался: она не хотела, чтобы ее жалели. Она вообще от нас ничего не хотела. Всю силу своего желания она сосредоточила на Викторе. Мы были лишь подсобным материалом, подпорками, от которых она отталкивалась, чтобы сделать очередной прыжок к цели. А от Виктора, как раньше от Мишеньки, она хотела одного: чтобы он просто ей что-нибудь отдал. Свое. А они не давали, ни тот ни другой. Ольга была не из тех женщин, кому отдают Свое. Ольга была из тех женщин, которым ничего не дают и ничего от них не требуют. Ничего, кроме супчиков. Их сокровенное никого не интересует. Неужели только потому, что у них бутылочные фигуры, бесцветные кудельки на голове и глуповатые лица с угодливым выражением? Да и есть ли у таких женщин сокровенное?
Потом, когда я во всем этом разобрался и начал Ольгу жалеть, мне стало стыдно за себя. Кусочек души! Оккупация личности! Бессрочная аренда! Законы джунглей! Да тьфу все это! Она просто смертельно боялась признаться самой себе, что ее не любят! Она врала самой себе, врала нам, врала своим бессмысленным подружкам. Всем было ясно, что рассчитывать ей не на что. И ей было ясно. И она укрывалась от этой ясности. Пыталась укрыться. Тут был не закон джунглей, а страусовая политика. Я увидел Ольгу недели через две после начала этой истории и поразился тому, какой измученной она выглядит. Дело было у Дениса и Натальи, которые после ночной Натальиной истерики как ни в чем не бывало продолжали уютную совместную жизнь. Временами казалось, что «Ненавижу!», брошенное Денисом в адрес Натальи, мне просто приснилось. Так вот об Ольге. Я заглянул к Денису с Натальей как раз в тот момент, когда они в рамках моральной благотворительности кормили ее ужином. Увидев меня, она выскочила из-за стола, бросилась ко мне, обхватила за плечи, приблизила мое лицо к своему и тут же, без «здрасьте», как будто ей в спину вставили заводной ключик, стала бормотать, что вот только что, сейчас, сию минуту, нет, полчаса назад, нет, минут пятнадцать, «как жаль, что ты опоздал и не слышал», ей звонили на мобильный, а она не успела взять трубку, хотела перезвонить, но номер не определился, и тогда она поняла, нет, не поняла, она точно знала с самого начала, что это Виктор звонит ей из автомата, специально вышел на улицу, чтобы Алена ничего не слышала, он хотел сказать, как любит ее, Ольгу, но трубка сорвалась, или карточка кончилась, или автомат был неисправен, и он не смог перезвонить, но это ничего, это пустяки, он обязательно перезвонит, правда?
— Правда, — сказал я, глядя сумасшедшими глазами поверх Ольгиной головы на Дениса и Наталью (Денис пожал плечами и отвернулся), взял Ольгу за плечи, отстранил от себя и осторожно повел к столу.
В тот момент я вспомнил об одном своем знакомом, который рассказывал мне, что когда-то, в юности, перенес онкологию и был вылечен. Очень долго он пытался описать, какие ощущения испытывал, когда ему делали химию и лучевую терапию.
— Это как… как… это вроде… это очень… — мучился он. — Этому нет определений в языке, — наконец сказал он. Потом задумался и добавил: — Но вот что самое страшное — остается память тела. Понимаешь, тело, оно все запоминает. И начинает бояться.
Мне кажется, что я понял его тогда. Клетки, по которым прошелся гамма-луч, жилы, по которым бежал целительный яд, меняют свою природу, перерождаются. Они могут вести себя как обычные здоровые клетки, но иногда, вдруг, непроизвольно (нет, толчок всегда есть, но он может быть ничтожным — магнитная буря, дурное настроение, усталость, легкое недомогание, простуда), так вот, иногда они начинают вспоминать те давние необъяснимые мучительные ощущения, а вспоминая, пугаются, а испугавшись, провоцируют их и испытывают заново, и от этого боятся все больше и больше. С годами один только страх еще раз пережить ЭТО провоцирует мучения. Так и у Ольги. Пережив одно мужское предательство (кто сказал, что ей было менее мучительно, чем моему знакомому, в которого вливали убийственную химию?), она смертельно боялась другого и, не признаваясь себе в том, что оно уже произошло, испытывала ужас одинокой брошенной женщины, и оттого еще сильнее боялась сказать себе правду, и страдала от этого страха куда больше, чем от самого предательства. Может быть, я тут наворотил лишнего, выстроил слишком сложную конструкцию, но именно так мне казалось.
XXIII
В конце августа Ольга объявила, что собирается ехать с Виктором отдыхать. В Турцию. В шикарный отель. Пять звезд. Все включено. Люкс. Два бассейна. Тренажерный зал. Бесплатный Интернет, посредством которого она собирается ежедневно посылать нам бюллетени о протекании отдыха и состоянии здоровья Виктора. Не обгорел ли, не наглотался ли соленой воды, то да се. Спиртное тоже бесплатно, причем не только турецкое. Для Виктора это имеет первостепенное значение, поэтому она уж постаралась. На вопрос, а собственно, на какие шиши она собирается везти Виктора в эти райские кущи, ответила, что ни на какие. Шишей у нее нет. Поэтому путевки еще не куплены.
— И не будут куплены никогда, — прошептала Наталья как бы про себя, но с тем расчетом, чтобы слышали все, кроме Ольги.
Мы сидели у Ольги в гостиной. Ольга специально зазвала нас к себе, чтобы сообщить это упоительное известие. Впрочем, последнее время Наталья с Денисом дневали и ночевали у Ольги. Я уже говорил, что Ольга назначила Наталью в лучшие подруги и доверенные лица. Я-то лично и тогда считал, и сейчас считаю, что Наталья мало годится на роль наперсницы. Наоборот, я подозреваю, что она из породы тех людей, что сдадут тебя не задумываясь при первом удобном случае со всеми твоими душевными муками, страшными тайнами, метаниями, исканиями, сомнениями и страданиями. Но моего мнения никто, как всегда, не спрашивает. Ну, так я и промолчу.
Между тем Ольга находилась в крайнем возбуждении. Щеки ее горели. Кончик носа покраснел. Жилы на шее вздулись. Она стояла, приплясывая, посреди комнаты, размахивала руками и буквально захлебывалась словами.
— Я уже все, буквально все собрала! И резиновые тапочки положила, и крем для загара, и полотенце, махровое, полосатое. Одна полосочка синяя, другая красная, опять синяя и опять красная. Ему понравится. Я точно знаю, понравится. В его полотнах очень ярко выражена красно-синяя колористика. Вы замечали? Нет, правда замечали? — Мы дружно кивнули. Ольга засмеялась болезненно-возбужденным смехом и продолжала на более высокой ноте: — И купальник, главное, купальник! У меня чудный купальник, французский! Без бретелек. Наталья видела. Скажи, купальник классный? — Она кинулась к Наталье с таким выражением лица, будто от ее ответа зависела судьба мировой революции, схватила за руки и просительно заглянула в глаза. Наталья снова обреченно кивнула. — Ну вот, я и говорю, когда у женщины такой купальник, можно даже платья с собой не брать. И шляпа! Обязательно нужна шляпа! Сейчас я вам покажу!
Она бросилась в коридор и с трудом приволокла оттуда громадный чемодан, видимо, под завязку набитый вещами. Протискивая его в дверь, она споткнулась, попыталась перевалить чемодан через край ковра, но ничего не вышло, чемодан застрял намертво, и Ольга начала истерично дергать его за ручку.
— Ну давай! Давай! — крикнула она. В ее голосе уже чувствовались подступающие слезы.
Денис встал, отстранил ее и внес чемодан в комнату. Ольга бросилась на колени, откинула крышку и стала яростно рыться в груде пестрых тряпок. Было такое впечатление, что она не глядя вывалила из шкафа все, что там было, не разобрав, не прогладив, толком не сложив. Ей было все равно. Надо было выполнить главную задачу — заполнить чемодан, и тогда поездка в Турцию с Виктором приобретала статус реальности. А ведь она и правда в нее, в эту поездку, верила. Или все-таки уговаривала себя? Как бы то ни было, попахивало сумасшедшим домом.
— Сейчас, сейчас, — бормотала она как в бреду, выкидывая тряпки из чемодана. Тряпки разлетались по комнате цветными жалкими флажками, устилали пол, кресла, стулья. Одна упала мне на колени. Я взял ее двумя пальцами. Это был розовый, довольно непрезентабельный и заношенный лифчик. Я осторожно повесил его на подлокотник дивана. Наконец Ольга извлекла со дна белую полотняную панамку пенсионерского вида с мятой красной розой по фасаду и, подняв ее над головой, продемонстрировала нам. — Вот! — радостно выкрикнула она. — Шляпа!
— Шляпа, — подтвердили мы.
Расходились удрученные.
— Она что, совсем с ума сошла? — сказал я.
Денис с Натальей промолчали.
— А мне ее жалко, — вдруг ни с того ни с сего сказал Денис, когда мы уже рассаживались по машинам. — Очень жалко.
Наталья фыркнула.
— Дур-то жалеть! — ляпнула она. — Себя пожалей.
— Себя? — переспросил Денис странным, надтреснутым голосом. — Себя я жалею в первую очередь.
Он смотрел на Наталью и как будто не видел ее. Взгляд был пустой, безжизненный, словно из белков за ненадобностью вынули зрачки и радужную оболочку. Словно кто-то решил, что чем меньше он будет видеть, тем легче ему будет жить. И я подумал тогда, что его с Натальей уютное сосуществование, продолжившееся после той странной ночи у меня на кухне, на самом деле не так уж уютно. Для него неуютно. Для нее — не знаю. Что же тогда держит его рядом с ней? Почему он не уходит? Неужели количество того, что невозможно простить или терпеть, с чем приходится ежеминутно мириться, еще не перевалило критический барьер? Видно, жизнь с Натальей чем-то его устраивает. Чем?
На следующий день после вечера чемоданных настроений Ольга подстерегла Виктора у мастерской и сообщила, что беременна.
— Да ну? — Виктор хмыкнул в бороду. — Неужели прям-таки и беременна?
Ольга кивнула. Да, беременна, что ж такого, дело, как говорится, житейское, наживное.
— А от кого, не знаешь? — спросил Виктор.
Ольга растерялась. Такой реакции она не ожидала. Она, наивная, думала, что Виктор, услыхав о ее беременности, поплывет, как пломбир в креманке, умилится, расхлюпится, приласкает, приголубит, обнимет крепкою рукой и пойдут они дальше по жизни вместе, даже не оглянувшись на ползущую за ними в пыли и рвущую на себе волосы Алену. Но Виктор не расхлюпился. Он задал ей вопрос, который совершенно сбил ее с толку. Она просто понять не могла: как можно задать такой вопрос? Тут бы ей дать ему по морде со всего маху и отправиться по своим делам, которые в ближайшие двести пятьдесят лет не будут иметь к нему никакого касательства. А она стояла и жалко улыбалась.
— А чувствуешь себя ничего? Нормально? — продолжал Виктор.
— Ничего. Нормально, — машинально пробормотала Ольга, все еще ничего не понимая.
— Ну, вот и хорошо, — весело сказал Виктор. — Ешь побольше витаминов. Это очень полезно. Бери пример с Жени.
Развернулся и ушел.
Вечером мне позвонил Денис.
— Дуй к Ольге, — сказал он. — Мы у нее.
Если честно, я как-то совершенно не планировал дуть к Ольге. Как-то совершенно другие расчеты были у меня на тот вечер. Но делать нечего. Дунул. Хотя — зачем я им?
Ольга лежала на диване с мокрой тряпкой на голове и стонала. Эту мизансцену в последнее время я видел слишком часто, и она уже начала мне поднадоедать. Но я промолчал.
— Нет, каков подлец! — говорила Наталья, нервно расхаживая по комнате. — Нет, каков подонок! Знала я, знала, что ничем хорошим эта бешеная страсть не кончится. На кой ляд он вообще у нас появился! Лучше бы его в природе не существовало, сучонка!
— Нет! — выкрикнула Ольга, вскакивая с дивана. Тряпка с отвратительным хлюпом шлепнулась на пол. Лицо у Ольги было мокрое — то ли от слез, то ли с тряпки натекло. — Нет! Как ты можешь?! Как ты можешь так говорить?! Молчи! Лучше молчи! Пусть лучше так, чем никак! Я сама так хотела! Сама! Я вам его не отдам! Он мой! Он был! И не лезьте вы, не лезьте! Не ваше это дело! Вы не знаете, как это, когда всю жизнь одна, одна, одна!
Ольга зарыдала, уткнув лицо в ладони. Наталья подскочила к ней, попыталась развести ее руки, но Ольга отворачивалась и с такой силой прижимала ладони к лицу, что, казалось, хочет его раздавить. Вдруг она начала сгибаться пополам, словно у нее свело живот. Раздались странные звуки. Ольга хрипела и лаяла. У нее началась истерика. Наталья сгребла ее в охапку и потащила в ванную. Денис вышел на балкон. Я потащился за ним. Он стоял спиной ко мне, наклонившись над парапетом, глядел вниз и курил.
— Эй! — сказал я и подергал его за рубашку. — Бросаться вниз еще рановато.
Он дернулся, но не обернулся. Я тоже облокотился о парапет, вытащил у него из кармана рубашки сигареты и закурил.
— Какого хрена ты меня вызвал на ночь глядя? — спросил я. — Зачем я вообще вам нужен?
— Не знаю, — вяло отозвался Денис. — Чё-то устал я от них. А так вроде не один.
— А-а, — протянул я. — В следующий раз, когда от чего-нибудь устанешь, ну там пиво пить или чего по интимной части, обязательно звони. Мне ж нетрудно. Я же всегда — под козырек. У меня ж других дел нема.
Бросил сигарету вниз и пошел обратно в квартиру. По дороге машинально запер балконную дверь с внутренней стороны на задвижку, спохватился, хотел было отпереть, но посмотрел на спину Дениса и подумал: «А и черт с ним! Пусть постоит там, покукует, отдохнет от коллектива. Устал он, видите ли! Замерзнет — постучится». Я прошел на кухню, плеснул в чашку остывшей заварки и понял, что спать сегодня не придется. Мне было тоскливо и зло. Злился я главным образом на себя — на свою мягкотелость, на то, что не послал Дениса сразу, как только он позвонил, что вообще дал себя вовлечь в эту дурацкую историю, стал всеобщей жилеткой («И главное, повадились на моей кухне сидеть, как будто так и надо! Даже разрешения не спрашивают! Я им что, психоаналитик с собственным кабинетом?» — злобно думал я), наконец, я злился на то, что очередной рабочий день пойдет насмарку. Светает уже, а я ни в одном глазу.
Дверь в ванную приоткрылась. Послышался шум льющейся воды и смутные голоса. Видно, Наталья умывала Ольгу, а та о чем-то ее просила. Ее голос был еле различимый, немного жалкий, сбивчивый, спотыкающийся. Я не собирался подслушивать, но тут шум воды смолк, и я непроизвольно стал различать слова. Непроизвольно? Но ведь я не ушел из кухни и не закрыл дверь. Я стоял, делал вид перед самим собой, что пью остывшую заварку, и слушал.
— Вытирайся, вытирайся. Голову давай, простынешь. Руки, руки! Сюда, в халат, — говорила Наталья грубовато, как воспитатели говорят с детсадовцами.
— Я прошу тебя, я прошу тебя, — умоляла Ольга. — Ты же знаешь, этой девицы, ее уже нет. Он ее бросил. И Алены не будет. Он всех бросает и ее тоже бросит. Я точно знаю, бросит.
— Не будет, не будет. Бросит, бросит, — соглашалась Наталья. — Лезь в рукава.
— Вот видишь, а когда ее не будет, он вернется ко мне. Правда, вернется?
— Нет, не вернется.
— Вернется, вернется! Ну я прошу тебя!
«Господи, неужели она просит Наталью ходатайствовать за нее перед Виктором? — пронеслось у меня в голове. — И не стыдно?» Терпеть не могу баб, которые посылают подружек, чтобы те вели душещипательные разговоры с мужиками и упрашивали их вернуться под крылышко разнесчастной страдалицы. Аргументы в таких случаях приводятся всегда одни и те же — пошлейшие. Вроде того, что «пожалей, она буквально на грани жизни и смерти, а может, все еще наладится, ведь ты по-прежнему любишь ее, я по глазам вижу, встреться всего на два слова, ей больше и не нужно, прости, если она чем-то тебя обидела» и прочая стыдобища. Но тут дело начало приобретать иной поворот. Ольга опять всхлипнула.
— Ну-ну, — сказала Наталья. — Что ты так, честное слово? Тебе нельзя, ты же ребенка ждешь.
— Да никого я не жду! — выкрикнула Ольга. Что-то грохнуло, покатилось, раздался звон разбитого стекла и резко запахло приторно сладким парфюмом. Видно, в ванной в порыве чувств маханули рукавами халата и разбили флакон духов. — Никого я не жду! — кричала между тем Ольга. — Никакого ребенка! Не беременна я, ясно? И никогда не была! Ни разу в жизни! Ну я прошу тебя, дай! Я все верну, до копеечки! Через год! Ровно через год! Ему так нужно! Ты не знаешь, а ему уже звонили, угрожали, я сама слышала. Окно было приоткрыто, и я слышала! А когда я принесу деньги, тогда он… тогда он… он поймет… он все поймет…
Стало быть, старая песенка про пять тысяч для Виктора. Ольга не оставила идеи вернуть этого несчастного с помощью взятки. И с чего она взяла, что он будет благодарен ей за то, что она принесет ему деньги на блюдечке с голубой каемочкой? С чего взяла, что он проникнется, прочувствует, заново возгорится? И резко поймет, в чем его кособокое счастье? И будет верен ей ближайшие тридцать лет и три года? Разве счастье можно купить за благодарность? Разве благодарность способствует любви? На мой-то взгляд, как раз наоборот. Ведь благодарность — это такое… равнодушное чувство. В том смысле, что к тем, кого любишь, почему-то чувства благодарности никогда не испытываешь. Их просто любишь и все. А вызывают благодарность те, другие, отстраненно-посторонние, чужие. Да, равнодушное, холодное и, главное, ненадежное чувство. Сначала Виктор будет благодарен, потом от своей благодарности устанет, начнет раздражаться, благодарность станет ярмом. Обязательно станет. Уж Ольга постарается. Будет напоминать о своей жертве при каждом удобном случае, вцепится в бедолагу намертво, не даст продохнуть. В конце концов Виктор пошлет ее на три буквы вместе с этой постылой благодарностью. А то еще начнет презирать нашу курицу хлеще прежнего за то, что пресмыкалась, несла ему деньги в клювике, просительно заглядывала в глаза: «Ну возьми, ну прими, ну миленький, ну хорошенький, ну полюби!» Тьфу ты! И куда деваться от глупой бабской жертвенности?
Между тем Ольга принялась рыдать с новой силой.
— Милая моя, послушай, что я тебе скажу, — сказала Наталья фальшиво утешительным тоном, от которого у меня свело скулы. Я представил, как она ласково приобнимает Ольгу за плечи, одновременно ледяным взглядом оценивая ее распухшее зареванное лицо, и так-то невыразительно-размытое, а сейчас и вовсе превратившееся в переваренный пельмень, представил, и мне стало совсем никуда. — Послушай, что я тебе скажу, милая моя, — пела Наталья, как поют ребенку. — Я ведь тоже женщина. Я тебя понимаю, как никто. И почему ты про беременность соврала, и на что надеялась. Все, все понимаю. Ты мне как на духу всегда… я же твоя лучшая подруга, кому же тебе еще, как не мне… будь моя воля, да я бы все в доме продала, до последней лампочки, до последней ложечки, а деньги бы тебе достала. Но вот Денис… Я пыталась ему объяснить, мол, это не баловство, не блажь, от этого жизнь зависит. Нет, ни в какую. Даже слушать не хочет. А что я могу? Я всего лишь женщина. Все деньги у него… Я даже не знаю, где он их держит… Он у меня и совета никогда не спрашивает.
Она еще что-то лопотала, но я не слушал. Мне стало нехорошо. Реально физически нехорошо. Затошнило, бросило в пот, руки и ноги ослабели. «Сука! — билось в голове. — Сука! Сука! Сука!» Я рванул на себя фрамугу, глотнул ночного воздуха. Продышавшись, на ватных ногах пошел в комнату выпускать Дениса с балкона. В ванной было тихо. Проходя мимо, я услышал сдавленное покашливание, а потом срывающийся Ольгин голос произнес:
— Ну, что еще ожидать от человека, который вырос в сраной гэбэшной семье? Там небось и людей-то не было, одни железные Феликсы.
XXIV
Денис стоял на балконе со зверским лицом.
— Ты что, совсем охренел? — рявкнул он, когда я впустил его в комнату.
— Прости, — сказал я и похлопал его по плечу. Мне хотелось приласкать его. — Прости. Я нечаянно. Замерз? Пойдем, я тебе горячего чаю налью.
На кухне я включил чайник и поставил перед Денисом полную коробку шоколадных конфет, хотя никаких конфет он отродясь не ел. Это я таким способом выражал свою заботу о нем. Он забился в угол. Лицо его было насуплено. Он выглядел по-детски обиженным, как будто родители сначала обещали, а потом впопыхах забыли взять его с собой в гости. Я испытывал к нему острое чувство жалости. Ольга с Натальей уже вышли из ванной и возились в спальне, поэтому говорить можно было свободно. Мне хотелось спросить Дениса, знает ли он, вернее, понимает ли он, вернее, может ли он предположить, что Наталья так, между прочим, походя, по довольно мелкому бытовому поводу заложила его не поморщившись, представила подонком и не подавилась? Конечно, я ни о чем не спросил. Я только подумал: «Как он может с ней жить, бедняга?» И тут вдруг понял, что никакой он не бедняга, то есть бедняга, конечно, но бедняга по собственному желанию. Или по глупости, по недомыслию. Или потому, что так проще жить. Когда ты бедняга, никто с тебя ничего не спросит, соответственно не нужно нести никакой ответственности. Ладно. Это уже все равно. Чувство жалости, которое минуту назад я испытывал к Денису, вдруг испарилось. Я смотрел на него, как исследователь смотрит на мошку. Ничего, кроме чисто научного любопытства, он у меня не вызывал. Я как бы разглядывал его со всех сторон, вертел перед глазами его душу, пытался изучить законы ее функционирования. «И как он может с ней жить?» — снова задавался я вопросом. Но это означало совсем другое: хм, интересненько, интересненько, как это он уживается с такой сукой, какие защитные механизмы включает, как мимикрирует, приспосабливается, меняет ли окраску, отращивает ли новые щупальца, чтобы удержаться за что-нибудь, не потонуть в говне, а сколько у него теперь зубов, может, не тридцать два, а шестьдесят четыре, чтобы огрызаться по случаю, а не взять ли микроскоп, не рассмотреть ли его подробненько под прицелом? Мне было неприятно, что я больше не испытываю к Денису человеческого чувства. В то же время во мне жило злорадство: «A-а, сам виноват, дружочек дорогой, не надо быть тварью дрожащей!»
Итак, я налил ему горячего чая — раз уж обещал, — уселся напротив, расставил локти по столу и посмотрел на него с прищуром.
— А что это ты говорил, что Наталья из тебя всю жизнь подлеца делала? — как бы между прочим поинтересовался я, зная, что вопрос мой звучит безжалостно. — Это как? Как она делала?
Денис съежился и бросил на меня затравленный взгляд. Он сидел сгорбившись, болтал ложечкой в чашке, время от времени прихлебывал и бормотал какую-то невнятицу про Ритку и про квартиру.
— Эту историю я знаю, — перебил я его. — А еще? Еще?
Денис совсем влез мордой в чашку. В моем голосе слышалась жадность. Я провоцировал Дениса. Хотел, чтобы он вывернулся передо мной наизнанку, вывалил все свои комплексы, все, что ему было в себе гадко, посамоедствовал, показал себя червяком. Мне страстно хотелось поглядеть на то, как он будет извиваться. Зачем? Не «зачем», а «почему». Потому что я его больше не уважал. Я его презирал и хотел, чтобы он передо мной унизился. Мне даже интересно было: пошлет он меня куда подальше или послушно начнет докладывать?
Денис начал докладывать. Он бубнил и бубнил что-то себе под нос, уставившись в чашку неподвижным взглядом, как будто боялся поднять глаза, чтобы ненароком не увидеть мое лицо. Интонации были такие, что он вроде бы жаловался, плакался вроде бы, искал сочувствия, однако ни черта из его слов разобрать было нельзя. Он сминал их языком в один неудобоваримый ком, будто боялся, что я хоть что-то пойму.
— Четче выговаривай слова! — приказал я и сам испугался. Чего это я? Я ему что, руководящий орган? Старший по званию? «Умывальников начальник и мочалок командир»? Почему я позволяю себе так с ним разговаривать? Чего-то от него требовать? По какому праву? И почему он терпит? Однако то, что он не осадил меня, давало мне дальнейшее право на беззастенчивые ковыряния в его душе. Стыдно признаваться, но в тот момент я испытывал незнакомое мне раньше наслаждение от безраздельного владения душой Дениса. Я мог распоряжаться ею по собственному усмотрению, как угодно. Хоть в порошок стереть. Хоть казнить — нельзя помиловать. В этот час я впервые в жизни был облечен всей полнотой власти.
— Громче! — зло и коротко бросил я, испытывая ситуацию на прочность, и Денис послушно заговорил громче.
Он много говорил. Что-то о работе, как Наталья заставляет его ходить к начальству, стучать на коллег, кого-то они вдвоем подсидели, и Денис занял его место, против кого-то удачно поинтриговали, и того не взяли на работу, к кому-то втерлись в доверие, задружились, стали в дом ходить, разговоры говорить, начальство обсуждать, мнения выслушивать, ну, финал соответствующий. Случаи все были мелкие, мещанские, пошлые, нестоящие, пустячные, короче. Такие пустячные, что даже стыдно о них упоминать, однако Наталья, видимо, отдавалась интригам со всей страстью, сделав их чуть ли не смыслом и наполнением жизни. Денис оправдывал себя. Через каждое слово повторял: «Ты же ее знаешь… она так велела… что я мог поделать…» — складывал с себя ответственность, прикидывался жертвой, вернее, сам себя уговаривал, что он жертва. И от этого становился мне все противнее и противнее.
Больше всего его мучила история с Риткой. Он все время к ней возвращался, чуть не через каждое слово. Оказалось, что, кроме квартиры, она лишилась еще и генеральской родительской дачи. Наталья настояла на том, чтобы Ритка подписала отказ от наследства, а у Ритки двое детей, еще маленьких, поздних, один больной, астма, а на даче сосны, а мы туда все равно не ездим, ну и так далее. Риткиным детишкам на молочишко Денис по совестливости характера подкидывал каждый месяц сэкономленные на завтраках и укрытые от Натальи копеечки. Компенсировал большую подлость малыми подачками. Реабилитировался в собственных глазах. Терзался. Я хотел было сказать, мол, а ведь ты сам все это сделал, своими руками сотворил, гад ты ползучий, но неожиданно для себя положил руку ему на голову. Голова была колючая — Денис всегда очень коротко стригся — и напомнила мне пионерский лагерь. Злость моя прошла. Я больше не владел душой Дениса и не хотел владеть. Он не был мне противен. Не то чтобы я его жалел, но он по-прежнему оставался моим другом. Что тут скажешь? Друзей, конечно, выбирают, но раз уж я его выбрал, придется с ним возиться, учить уму-разуму. Теперь он мне почти родственник.
— Знаешь что, — сказал я. — Возьми ты Ритку, сходи к нотариусу и перепиши на нее половину этой гребаной дачи.
Денис вскинул на меня глаза:
— Как же я… как же… А Наталья?..
— Да не говори ты ей. Вообще не говори — никогда. Сделал — и сделал. И молчи. Чего же так маяться-то всю жизнь?
Я подошел к холодильнику, обнаружил полное отсутствие водки — чего и следовало ожидать, и как Ольга планировала удержать Виктора при таком отношении к горячительным напиткам, не понимаю, ничему жизнь людей не учит, ничему! — зато там была початая литровая бутылка абрикосового ликера.
Видимо, Ольга периодически устраивала на кухне бабьи посиделки. Гадость, конечно, абрикосовый ликер, а куда деваться? Я вытащил бутылку, поставил на стол стаканы и прикинул, что при таком невыразительном градусе придется принять минимум по два полных стакана подряд.
— Накатим? — спросил я Дениса.
Он кивнул и тут же схватился за стакан.
— Вот о чем я действительно беспокоюсь, — сказал я, наливая по второму, — так это о том, как бы ты не простудился на балконе. Все-таки ночи уже холодные.
Денис засмеялся, и мы чокнулись.
XXV
Гриша лежал, раскинув ноги по кафельному полу. Штаны на заднице засалены. На одной пятке — дырка. Видно, что носки давно не стираны. Тапки валяются рядом. Руки вцепились в стенки плиты. Голова вольготно покоится на противне, который Алена забыла вымыть после того, как два месяца назад пекла пирог с капустой. Газ, разумеется, включен на полную катушку. Окна задраены. Шторы задвинуты.
В такой позиции его застала Алена, когда случайно забежала домой, чтобы взять кое-что из вещей. Она давно уже жила у Виктора. Сын квартировал у ее родителей. Почему-то ей в голову не пришло, что новую жизнь можно было бы создавать и на старом месте, в собственной квартире и, уж во всяком случае, с собственным ребенком. Она легко оставила родной дом, а сына просто отодвинула в сторону — отвезла к родителям и забыла на секундочку о его существовании. Она с радостью срывала старую шкурку, с наслаждением освобождалась от старых обязательств и связей. Мы почти не видели ее. Иногда она звонила Наталье. А кому ей было еще звонить? Не Ольге же, не мне и не Жене с Гришей. Так вот, звонила Наталье. Очень коротко, в дежурном порядке интересовалась нашими делами, нетерпеливо выслушивала новости (они были ей решительно не нужны), еще короче объявляла, что у нее все в порядке и — разговор окончен. Адью. Ничем и никем она не интересовалась, звонила из соображений приличия и с самого начала разговора мечтала его закончить. Если бы она была обыкновенной женщиной, вернее, такой, какой я представляю себе обыкновенную женщину с ее ясной простотой и понятными желаниями, инстинктами и стремлениями, то, вероятно, взахлеб рассказывала бы Наталье о своем романе с Виктором, делилась подробностями, обсасывала каждый взгляд и каждый жест, просила советов, нетерпеливо ждала реакции. Ведь это — она и Виктор, она + Виктор, она = Виктор — было тем единственным, что ее действительно занимало. Но Алена ничего не говорила, ничем не делилась, ничего не ждала и ничего не просила. Она не нуждалась. Она была не из тех, кто делится. Она была из тех, кто охраняет и сохраняет свое. Единственное, что могла вынести Наталья из этих отрывочных разговоров: Алена не мать, а кукушка, отдала сына («спихнула», как выразилась Наталья) на сторону, приезжает к нему раз в неделю на час, привозит продукты, чтобы отделаться и родители не ругались, и то не всякую неделю, частенько и пропускает. В голосе Натальи чувствовалось осуждение. Она по-куриному покачивала головой, мол, что делается, Боже мой, что делается на свете, матери детей бросают! Ее лицемерие уже не было мне противно. Оно меня смешило. Я представлял, как она жадно выспрашивает у Алены подробности ее отношений с Виктором (а интересовало ее все, начиная с того, сколько денег дает Виктор на хозяйство, кто ходит в магазин и платит за квартиру, но особенно, разумеется, альковные тайны, сколько раз в неделю, а за ночь, и в каких позициях, и какие ласки Виктор любит больше всего, а в ванной бывает, что, и на обеденном столе?!) и каким великолепным молчанием отвечает ей Алена. Представлял и не мог удержаться — хмыкал. Наталья обиженно замолкала. Денис тоже позволял себе тонко улыбнуться. После нашего разговора у Ольги на кухне под остывший чай и абрикосовый ликер он стал по-другому относиться к Наталье. Что называется, позволял себе. Иронию позволял, усмешку, уже не отворачивался, когда она ляпала нечто неудобоваримое, а глядел на нее, склонив голову к плечу, изучающим насмешливым взглядом, словно больше не принимал всерьез. Я не знаю, но мне кажется, что сейчас он бы уже не бросил ей в сердцах: «Я тебя ненавижу!» Его отношение к ней изменилось. Оно стало более снисходительным. Он ее прощал.
Из разговоров с Денисом — а мы по странной прихоти судьбы стали видеться чаще, пить пиво в одной маленькой забегаловке на Покровском бульваре, и никакого неприятного чувства я к нему ни тогда, ни потом больше никогда не испытывал, видимо, оно было случайным, мимолетным, — так вот, из разговоров с Денисом я понял, что он все-таки сходил с Риткой к нотариусу. Напрямую он ничего не говорил, так только, ронял какие-то намеки. По-моему, был горд собой. Еще бы решился рассказать об этом Наталье, был бы совсем человеком. А впрочем, зачем?
Так все и катилось недели две-три ни шатко ни валко, пока не докатилось до того промозглого дня в конце сентября, когда Алена после работы забежала к себе домой за теплыми вещами и застукала Гришу с башкой в духовке. Действовала она безукоризненно. Никакой паники. Мгновенно сориентировалась, выволокла Гришу из духовки, перекрыла газ, распахнула окна и вызвала «скорую». «Скорая» констатировала, что Гриша не так плох, как кажется на первый взгляд. Газа нахлебаться толком не успел. Видимо, перед приходом Алены только начал осуществлять процесс отчаливания на тот свет. Именно поэтому Алена, войдя в квартиру, не почувствовала никакого неприятного запаха. Только удивилась, что дверь в кухню закрыта — она никогда не закрывала в квартире дверей, — машинально толкнула ее и наткнулась взглядом на Гришину задницу. Гришу перенесли в комнату на диван, где он и лежал, закатив глаза и свесив к полу слабую руку, когда я приехал после звонка Алены. Она встретила меня молча, провела в гостиную и хмуро кивнула на Гришу.
— Полюбуйся, — сказала она.
Я полюбовался. Внешне Гриша никогда мне не нравился. Но таким я видел его первый раз. Он был похож на замороженную освежеванную рыбину. Может быть, даже не на целую рыбину, а на филе. Скорее всего трески.
Алена села у раскрытого окна и закурила.
— Дать ему подзатыльник? Или, если хочешь, по морде съезжу, — предложил я.
— Бесполезно, — сказала Алена.
— Надо, наверное, Денису с Натальей позвонить, — продолжал я.
— Ну ее, — буркнула Алена. — Прибежит, будет тут с любопытной мордой шнырять, искать, чем полакомиться.
Она, конечно, была права. Я бы тоже не стал привлекать Наталью, если бы у меня в доме обнаружился самоубийца.
— Что же теперь делать? — спросил я.
Алена пожала плечами.
— Зачем ты это сделал? — Я наклонился к Грише и совершенно несвойственным мне заботливым жестом подтянул ему к носу плед. Что-то я с этой компанией становлюсь сентиментальным на старости лет. — Ну подумаешь, жена ушла. Ну подумаешь, какой-то Виктор. С кем не бывает. Ты ведь и сам не ангел. Зачем же так реагировать? — специальным больничным голосом бормотал я.
Гриша поднял веки и слегка пошевелился под пледом. Его взгляд прояснился и сфокусировался на мне.
— Жена? — прошептал он. — Какая жена?
Я оглянулся на Алену. «Чего это он?» — спрашивал я глазами. Алена покрутила пальцем у виска.
— Алена. Твоя жена, — начал я терпеливо объяснять Грише. — Ушла к Виктору. От тебя. Но это же не повод так убиваться, правда? Жизнь продолжается и без жен, — все говорил и говорил я, машинально ухватившись за подлокотник и как колыбель покачивая диван.
— От меня? Ушла? — прошептал болезный и вдруг громко зарыдал.
— Слава Богу, — сказала Алена. — Кризис.
Я не был уверен, что слава Богу. Мне-то как раз казалось, что совсем не слава Богу, что сейчас Гриша зайдется не на шутку и откачивай его потом пожарными шлангами.
— Ему вкалывали какое-нибудь успокоительное? — спросил я.
Алена покачала головой.
— Да он и не буянил. Лежал колода колодой. Чего его успокаивать?
— А что ты «скорой» сказала?
— Сказала, что очень рассеянный. Газ включил, а спичку поднести забыл. Сидел ждал, когда чайник вскипит, потерял сознание, упал. Угрозы жизни нет? Нет. Спасибо, до свидания.
Я лишний раз поразился самообладанию Алены, которая сразу сообразила, что говорить о попытке самоубийства ни в коем случае нельзя. Упекут, не ровен час, в психушку, и чао, бамбино, сорри. Между тем Гриша продолжал рыдать и действительно начал слегка заходиться. Он размазывал грязной лапой влагу, которая сочилась из всех дырок, расположенных на его лице. Я мигнул Алене. Она выскочила на кухню и вернулась со стаканом холодной воды. Я плеснул воду в Гришину зареванную мордаху, и она, смешавшись со слезами, соплями и слюнями, оказала неожиданное благотворное действие. Гриша икнул и заткнулся.
— Рассказывай, — приказал я.
— Женя, — с трудом выдавил Гриша. — Сказала, чтобы я… чтобы я… — Он попытался опять зарыдать, но я дернул его за ухо, торчащее из-под пледа. — Сказала, чтобы я шел вон! — истерически выкрикнул Гриша, закрыл глаза и как бы опять выпал из реальности.
— Не угодил? — участливо спросила Алена.
Гриша открыл лихорадочно блестевший глаз.
— Не могу я без них, дура, понимаешь, не могу, — тихо произнес он.
Эге-гей. Впервые за двадцать лет я слышал, чтобы Гриша так ответствовал Алене. Впервые за двадцать лет он позволил себе грубость. Впервые в жизни он не юродствовал, не пафосничал, не бил себя в грудь кулачками, не вставал в позу, не прикидывался, не фальшивил, а сказал, как говорят настоящие мужики. И я поверил ему — тоже впервые за двадцать лет. И еще я подумал, что «дура», произнесенное в адрес Алены, почему-то совсем не покоробило меня. В другой раз я бы вскинулся, вскипятился, возмутился, ринулся бы ряшку чистить обидчику. А тут — ничего. Как будто так и надо. Может быть, я на интуитивном уровне чувствовал, что Алена в истории Гриши и Жени чего-то не поняла. Вернее, не в истории, а в самом Грише. В каком-то месте души, которое отвечало за Гришу, у нее оказалась черная заскорузлая корка. В каких-то своих проявлениях она оказалась черствой, нечуткой, негибкой. Вообще, откровенно говоря, дурой. Всю жизнь смотрела на Гришу свысока, так и продолжала. Получалось, что у нее с Виктором — Любовь с большой буквы, а у Гриши — идиотизм, смехота одна, и сам он смешной придурок со своей беготней по магазинам и пеленками. Вроде бы не совсем человек, а так, нечто приблизительное. Можно безнаказанно издеваться. А почему, собственно? Ведь у всех все по-разному. Ее безукоризненное самообладание и безупречный образ действий во всей этой истории уже не казались мне такими уж безукоризненными и безупречными. Логичными — да. И — механистичными. Она все делала правильно и абсолютно бесчеловечно. Без проблеска чувства. А ведь она прожила с Гришей почти двадцать лет. Спала в одной постели. Ела за одним столом. Стирала его белье. Ну хоть какие-то чувства должна она к нему испытывать! Или она совсем… совсем мороженая треска? Не он, а она? Или она вообще не способна ни к каким чувствам, кроме как к звериным желаниям? Или она не та Алена, которую я видел все эти годы? Я поймал себя на том, что начинаю испытывать к Алене какое-то нехорошее чувство. Но я не хотел думать о ней плохо! И решил приравнять ее равнодушие к защитной реакции. Все-таки жизнь с Гришей заставляет ставить заслоны и ограждать свое душевное и психическое здоровье от радиоактивного воздействия. Не будем об этом забывать. Между тем Алена на моей памяти первый и, как выяснилось потом, последний раз с интересом посмотрела на Гришу. Только с интересом — никак больше. Однако в ее лице что-то переменилось. Я понял, что она больше не видит перед собой снулую рыбину. Понять бы только, кого она видит.
Дни пошли неважные. Гриша не приходил в себя. Нет, он, разумеется, был в сознании. И нам даже удавалось иногда впихнуть в него кой-какую еду. Он не приходил в себя в моральном смысле. Почти не реагировал на внешние раздражители. Путем долгих мучительных расспросов удалось наконец установить, что Женя его выгнала не за какую-то провинность и не потому, что у нее завелся новый воздыхатель, а просто так — надоел. Я подозреваю, что ей надоело то, что Гриша стал ночевать в одной квартире с ней. Я-то его к себе давно не пускал. Она предложила ему по вечерам уезжать домой, а утром возвращаться, как, собственно, это и происходило в начале их отношений. Гриша отказался, мотивируя отказ тем, что боится оставлять ее одну в состоянии глубокой беременности. На самом деле он сам уже не мог долго оставаться без нее и без ребенка. Ну, Женя и послала его, не соображая, что одной ей не выжить, а другого такого Гриши в природе не существует. Впрочем, может быть, она не рассчитывала на то, что он воспримет свое изгнание всерьез. Но Гриша воспринял. И теперь в буквальном смысле угасал от любви у нас на руках. Но… Ведь она уже однажды выгоняла его — в деревенский период. И он, возвратившись к Алене, конечно, ныл, скулил, жаловался, но при этом наворачивал мясную солянку, а поутру как ни в чем не бывало, завернувшись в чужой плащ, поскакал обратно на дачу. Значит, тогда было не всерьез. А сейчас — всерьез. Действительно всерьез. И он это знал.
Иногда он впадал в забытье. Иногда рыдал. Но чаще лежал, уставившись в потолок, не произнося ни слова целыми сутками, прислушиваясь к собственным ощущениям, с застывшей депрессивной маской на лице. Мы боялись оставлять его одного. Алена была вынуждена взять отпуск. Звонить Наталье с Денисом все-таки пришлось. Они незамедлительно прилетели и заступили на вахту. Наталья пыталась расколоть Алену, мол, что, в сущности, произошло, с чего бы эдакий душевный кризис, но та молчала, а сам Гриша давно не произносил ни слова. Ольга, переломив себя, тоже явилась на помощь. На Алену не смотрела, но быстро организовала возле постели больного дежурный пост, сварила бульон, клюквенный морс, навертела куриных котлет, сменила постельное белье и помыла пол. Грише все это было решительно безразлично. Мы сменяли друг друга. Приезжали после работы. Оставались на ночь, чтобы дать Алене поспать. Привозили врачей. Кололи Грише какую-то дрянь. Ничего не помогало.
Прозвучало слово «больница». Какая больница? У него ничего не болело. Общее истощение организма, конечно, но кто нынче весел и бодр? Прозвучало слово «психушка». Не помню точно, кто первым его произнес. Слово произносилось на разные лады, обкатывалось четырьмя ртами, проверялось на вкус и пригодность и было отвергнуто. Поместить Гришу в психушку мы не могли. Из моральных соображений. К тому же он бы там не выжил. Если бы мы поместили Гришу в психушку, это было бы то же самое, как если бы мы бросили его на произвол судьбы. Но и дома его оставлять тоже не представлялось никакой возможности. Мы не могли сидеть возле него вечно. Да и бессмысленным виделось это сидение. Ну, сидим, еще полгода просидим, а толку-то? Прозвучали слова «клиника неврозов». Все оживились, разулыбались, вздохнули с облегчением, начали обсуждать подробности. Когда отправлять, на какое время, и почем, и что из вещей брать с собой, и на сколько человек палаты. Стали вспоминать, кто из знакомых там лежал. Оказалось, примерно половина внешне вполне адекватных людей. И даже один академик, друг отца Дениса. Стало быть, не стыдно. Стало быть, реальный выход из положения. Алена отправилась в клинику обстряпывать это дело, и через день Гриша отъехал от нас на Шаболовку. Ничего экстремального в его отъезде не было. Все выглядело буднично, банально. Гриша не сопротивлялся. Безропотно натянул штаны, погрузился вместе с чемоданчиком в машину и поехал. Вроде человек отправился отдыхать. Так оно примерно и было. Официальная версия, преподнесенная знакомым и Гришиной директрисе в школе, звучала так: «Гриша переутомился. Ему срочно необходим отдых. Мы отправили его за границу на курорт. Отдых будет протекать неизвестно сколько времени до полной реабилитации объекта».
Отвезя Гришу в лечебницу, я вернулся к Алене помочь ей прибраться в квартире и тут подумал: «А что же Женя? Что же она молчала все это время? Не подавала признаков жизни? На нее не похоже». Я давно не сталкивался с Женей. Да и когда я мог с ней столкнуться? Из офиса мчался к Алене, домой попадал ночью, если вообще попадал. А по ночам Женя, слава Богу, не имела привычки толкаться с ребенком и коляской на лестничной клетке. Я давно не сталкивался с Женей, а между тем нам всем надо было срочно видеть ее. Мы ведь тоже среди наших волнений подзабыли о ней. Я не был уверен, что она всерьез воспримет известие о Гришиной болезни. Скорее всего состояние здоровья Гриши ей безразлично. Но ему-то нет. Ему-то небезразлично, знает она о том, что он в больнице, или нет.
Но сначала я решил навестить Гришу и спросить у него разрешения на свидание и разговор с Женей. Я приехал в клинику после обеда, в тихий час. Сунул нянечке десятку и протырился в палату. Палата была на четверых, но кроме Гриши здесь лежал всего один мужик, типа бессловесный псих. Увидев меня, он поднялся и с тихой улыбчивой покорностью вышел в коридор. Гриша не спал. Он сидел на кровати сгорбившись и смотрел в пол. На нем был синий байковый замшелый больничный халат с веревочкой вместо пояса и такие же синие замусоленные тапки без задников. Гриша всегда имел гадкое обыкновение мгновенно замусоливать тапки. Из-под ворота халата торчал кусок несвежей рубахи, и я с раздражением подумал, что Алена все-таки могла бы немного очеловечиться и принести ему пару чистых рубах на смену. Я сел на стул напротив Гриши и положил на кровать пакет с апельсинами и соком. Гриша не пошевелился. Он не заметил моего прихода и по-прежнему смотрел в пол. Я проследил за его взглядом и увидел две синие ноги, выглядывающие из-под халата. Они стояли на полу слегка носками внутрь, выкатив наружу обтянутые тонкой сухой кожей большие шишковатые костяшки, стояли так, словно кто-то посторонний взял их как вещь, укоренил на полу, приказал: «Стоять!» — и ушел, а они остались, лишенные собственной воли и желания двигаться. Понурые, поникшие ноги. Такие худые, такие жалкие, такие неживые, такие беспомощные, что у меня зашлось сердце. Мне захотелось укрыть их чем-нибудь теплым, укутать, согреть. Я никогда не предполагал, что у человека могут быть такие больные ноги. Ноги с выражением душевного нездоровья и неустройства. Я смотрел на них, не в силах отвести взгляда. Они притягивали меня. Высасывали из меня силы. Я будто ослабел внутри. Все вокруг стало не важным. Все, кроме этих ног.
— Прости, — сказал я. — Прости.
Мой голос сорвался. Я вскочил и быстро отошел к окну, чтобы Гриша не видел моего лица. Да он и не глядел. Когда я снова повернулся к нему, он сидел в той же позе и улыбался отрешенной блуждающей улыбкой.
Я не стал спрашивать у него разрешения поговорить с Женей. Я вообще ничего не стал спрашивать. Пошел себе восвояси, оставшись так им и не замеченным, сел в машину, покурил, немного успокоился и поехал домой. «Как же так? — думал я по дороге, машинально крутя руль. — Как же так? Что происходит? Выходит, Он мстит нам? Сам умер, а нам мстит за то, что мы живы? Его дух словно витает над нашими жизнями. Дух недобрый, завистливый. Он сделал нас больными. Наслал проклятие. Через какие испытания Он еще нас проведет? Какие подполья вскроет? Каких персонажей подкинет? Как переплетет, перекрутит наши жизни? Что еще мы узнаем друг о друге и о себе? Что поймем? Что не захотим узнавать и понимать? До чего докатимся? Если бы Он не умер, мы бы жили себе, как жили, и оставались людьми. А сейчас — кто мы? И когда переболеем? А когда все-таки переболеем, что от нас останется?»
Я припарковался, взбежал наверх и позвонил в дверь Жени. «Сейчас ка-ак врежу ей!» — подумал я, нетерпеливо пристукнув каблуком об пол.
Женя открыла и молча пропустила меня в квартиру. В квартире было довольно грязно, ребенок что-то вякал в кроватке, но Женя не обращала на него никакого внимания и была, по-видимому, совершенно довольна и собой, и жизнью.
— Что ж ты, сука, наделала? — сказал я, с трудом понимая, где нахожусь и что несу, и надвинулся на нее. — Что ж ты над человеком издеваешься? Ты знаешь, что он чуть с собой не покончил?
На лице у Жени появилось злое, упрямое выражение. Она сощурилась.
— Но ведь не покончил же, — произнесла она деревянным голосом.
— Ах ты… — Я замахнулся, уже совсем ничего не соображая, забыв, что она женщина, что она беременна, и желая только одного — сбить ее с толстых самоуверенных, наглых ног.
Женя не испугалась, не отшатнулась. Она неожиданно подскочила ко мне, притиснулась всем телом, воткнула в меня твердый выпуклый живот и крепко обхватила обеими руками. Я непроизвольно попятился. Женя все напирала и напирала и наконец вдавила меня в стену.
— А меня ты спросил? Спросил? — зашептала она, обдавая меня запахом жареного мяса, детских волглых пеленок и горелого молока. Увернуться было невозможно, и я просто закрыл глаза. — А может, я его не хочу! — шептала Женя. — Не хочу я его! Ты думаешь, с ним сладко? У всех мужики как мужики, а у меня что? А я что, не баба? Он мне противен, можешь ты это понять, противен! Видеть его не могу! Тошнит меня от него! Не нужен он мне!
— А кто нужен? — с трудом выдавил я. Женя была тяжелая, грузная, наваливалась все сильнее и сильнее, и я боялся пошевелиться, чтобы не нарушить ей чего-нибудь в животе. В голову пришла дурацкая мысль: «Если гора не идет к Магомету… А ко мне как раз гора и пришла».
Между тем Женя совсем повисла на мне. Я уже не мог дышать и мечтал только об одном: уйти поживу-поздорову.
— Кто нужен-то? — просипел я, пытаясь легонько ее отодвинуть.
— Ты, — выплюнула мне в лицо Женя. — Ты. Неужели раньше не понял?
Я вздрогнул и, не удержавшись, с силой оттолкнул Женю от себя. Но она держала меня крепко, и, толкнув ее, я вместе с ней, под инерцией и тяжестью ее тела, отлетел к противоположной стене. Теперь уже она была припечатана спиной к стене, а я висел сверху, прикованный к ней ее же руками.
— Ты, — шептала Женя задыхаясь. — Ты, ты, ты-ты-ты-ты… только ты. Миленький… миленький мой.
Она встала на цыпочки и вытянула шею, ища губами мои губы. Ее лицо надвигалось на меня снизу, как лицо утопленника, всплывающее из мутной воды. Нечеловеческим усилием я отцепил от себя ее руки, отскочил прочь и бежал с поля боя, не оглядываясь, самым позорным образом.
XXVI
Прошла неделя, две, три, а Гришу никак не выписывали. Все устали от того, что приходилось бесконечно мотаться на Шаболовку, вести долгие бесплодные разговоры с врачом, молча сидеть у Гришиной постели, отбывая тягостную повинность больничного визита. Врач мычал и бормотал невнятицу, вроде того, что больной сам не хочет выздоравливать, боится возвращаться в большой мир и ставит какую-то там защиту между собой и своей проблемой. Это мы видели и без него. Гриша по-прежнему не реагировал на внешние раздражители и, казалось, принял окончательное решение отбыть в ближайшее время в мир иной. Мы пребывали в растерянности. Что делать-то в такой ситуации? Что делать? Ольга, в порыве благотворительности забывшая о собственных страданиях, и Наталья, как всегда любопытствующая, пытались после меня тоже пробиться к Жене, но были выгнаны, оскорблены нецензурными выражениями и быстро дали задний ход, отказавшись от каких бы то ни было сношений с «этой б-дью» (выражение Натальи). Я старался попадать домой как можно позднее. Трусил. Боялся, что Женя будет поджидать меня на лестничной клетке и демонстративно вешаться на шею. Но Женя меня не поджидала. И со временем мне стало казаться, что все, произошедшее со мной в ее квартире, не более чем дурной сон, что я сам все это придумал и от ужаса поверил. Итак, домой я возвращался за полночь, не высыпался, ходил как сомнамбула, ничего не соображал, почти перестал работать и мечтал только об одном: чтобы меня оставили в покое. И именно в этот момент, когда атмосфера накалилась добела, когда все мы валились с ног и в головах наших уже формировалась мысль о том, а не плюнуть ли нам на Гришу, не оставить ли его на произвол судьбы в больничке, все равно мы ему не нужны, а он нам смертельно надоел («остоеб-л», опять же выражение Натальи), в связи с чем хотелось бы уже оплатить его пребывание на койко-месте до конца года и забыть о его существовании, так вот, в этот упоительный момент Наталья с Денисом объявили о том, что собираются в дом отдыха.
Наталья с Денисом ездили в дом отдыха каждый год последние двадцать лет. В один и тот же. Подмосковный. В одно и то же время года. В конце сентября — начале октября. На один и тот же срок. Две недели. В 90-е, когда все в одночасье развалилось, а народ ломанулся в Турции и Египты, их дом отдыха тоже захирел, обветшал и свернул часть жизнедеятельности, но Наталья с Денисом его не бросили и каждый год упорно селились в холодных комнатах, спали на комковатых матрасах, ели на обед жидкие щи и тушенку с вареной картошкой, таскали с собой обогреватель, кипятильник и палку копченой колбасы и… И что? Зачем все эти жертвы? При их-то сибаритстве и бытовом эстетстве. Непонятно. Что, денег нет отдохнуть по-людски? По-людски они тоже отдыхали, в других широтах, в другое время, за другие деньги и не по одному разу в год, а в ответ на наши недоуменные вопросы о столь странной привязанности к столь неординарному месту лишь улыбались и отмалчивались. Вот один из таких вопросов:
— Ладно заграница. А чего ж на дачу не поехать? На генеральскую? В соснах? Если уж так охота мокнуть под дождем?
Вежливые улыбки. Покачивание головами. Молчание. То ли от их самоотверженной преданности, то ли по какой иной причине, но домик отдыха неожиданно выжил. Более того, стал ужасно навороченным пансионатом с бассейнами, саунами, конюшнями, тренажерными залами и двухэтажными номерами. Вопросы отпали. Недоумение осталось. Впрочем, оно в большой степени было основано на обиде: у них есть от нас секреты, они с нами не откровенны, они нас отодвинули, они не считают нужным с нами делиться. Ууууууууу, мы обиделись.
На этот раз речь шла уже не об обиде. Тут кое-что побольше. Получалось, что Наталья с Денисом бросают нас в самый тяжелый момент. Попахивало мелким предательством, о чем я и сказал Денису не чинясь, когда мы в очередной раз пили пиво в забегаловке на Покровке. Он подул на пену, помолчал и неожиданно сказал:
— Так мы же не одни.
— Не одни?
— Ну да, — спокойно сказал Денис. — Мы же с людьми связаны. У нас, понимаешь ли, обязательства.
— В том смысле, что номер забронирован? Ну отмените. Простят они вас, вы же постоянные клиенты.
— Два, — сказал Денис. — Два номера.
Я уже совершенно ничего не понимал. Денис смотрел на меня с усмешкой и, кажется, наслаждался моей растерянностью. Я морщил лоб, пытаясь сообразить, что к чему.
— Так вы… так вы с Натальей живете в разных номерах? — наконец догадался я. — Ну и что?
— Расслабься. — Денис покровительственно похлопал меня по плечу. — В одном мы номере живем. Иногда. А иногда в разных.
Мое лицо приобрело совсем идиотское выражение, и Денис, глядя на него, расхохотался.
— Что ты хочешь, милый, это жизнь, — туманно произнес он. — Ты же не был женат. А знаешь, каково это, когда всю жизнь вместе — и днем и ночью? Даже на работе. Приходится выкручиваться. Звать на подмогу.
Я глупо кивнул.
— А каково?
— Очень трудно, — серьезно сказал Денис. — Иногда практически невыносимо.
Я понимал, что он смеется надо мной, но никак не мог просечь, в чем же фишка. И от этого начал заводиться. На усталость да на нервы мне еще Дениса не хватало с его многозначительными иносказаниями. Или он колется, или получает по кумполу.
— Колюсь, колюсь! — Денис замахал на меня руками и, как бы опасаясь за свою жизнь, отодвинулся на другой конец стола.
В сущности, ничего экстраординарного в его рассказе не было. Впрочем, некоторая оригинальность ситуации… Все эти годы они ездили в дом отдыха с парой по переписке. Двадцать лет назад давали объявления в газету знакомств. Теперь действовали по Интернету. Списывались. Рассказывали о своих пристрастиях и пожеланиях. Обменивались фотографиями. Готовиться к поездке начинали заранее, практически сразу после возвращения из предыдущей. Организация была на высшем уровне. Наталья очень тщательно отбирала кандидатов, наводила справки, короче, занудствовала. Промашки не случилось ни разу. Все пары оказались именно теми, за кого себя выдавали, фотографии присылали свои и соответствовали высоким Натальиным требованиям. Каким именно, Денис объяснять не стал, сказал только, что требования у Натальи действительно очень жесткие. Имелись ограничения. К примеру, с одной парой отдыхать только один раз и никаких отношений впоследствии не поддерживать. Или: предложения принимались только от семейных пар. Всех остальных — любовников, приятелей, таких же виртуальных знакомых, пытавшихся выдать себя за мужа и жену, — Наталья мгновенно просекала и отсекала. Почему-то ей важно было, чтобы они с Денисом и их партнеры находились в абсолютно равных позициях. В переносном, конечно, смысле. В буквальном позиции случались абсолютно разные и с разным количеством участников. От четырех до одного. Со зрителями и без. Со зрителями Наталья особенно любила, а Денис — нет, стеснялся.
— Ага, — пробормотал я. — Ага…
Что я мог еще сказать? Он окончательно выбил меня из колеи. Хотя… В принципе, так сказать, отвлеченно, умозрительно, теоретически, чего-то подобного от Натальи можно было ожидать. Если привыкнуть к мысли, что они с Денисом каждый год устраивают групповуху с незнакомыми людьми в подмосковном доме отдыха, если обдумать эту мысль пристально и непредвзято и внутренне от нее не шарахаться, если принимать ее как должное, то даже и неудивительно вовсе. Наталья всегда была падка на клубничку. И в любом случае не мне строить ханжеские рожи. Сам не ангел. Не мне, так не мне, однако, представив, с каким лицом Наталья наблюдает за па-де-де и па-де-труа, которые вытанцовывают перед ней Денис и их партнеры на час, представив ее сладострастие, и нетерпение, и поощрение, и жадность, и то, как она, блестя глазами, выкрикивает: «Эй, ребятки, вы там поактивней, поактивней! Что так вяло? Да не туда, не туда! Всему вас надо учить! A-а, вот молодцы!» — и подстегивает их взмахами руки. Так вот, представив все это, я мысленно отвернулся от самого себя. Я не стал спрашивать Дениса, кто был инициатором подобного времяпрепровождения. И без того ясно. На языке вертелся один вопрос: «А что, дома, вдвоем, друг с другом вы уже никак?» Но я не решился его задать. Хорошо, если они за давностью лет стали друг другу взаимно неинтересны. Или если Наталья не привлекает Дениса как женщина. А если наоборот? Если он не удовлетворяет ее? И никогда не удовлетворял? Наталья как раз из тех, кто и перед людьми, и перед собой будет делать вид, что все в порядке, а шалости в доме отдыха проводить по статье их с Денисом общей сексуальной продвинутости. Дескать, предрассудков не имеется. Мы свободные люди. Живем на полную катушку. Завидуйте нам. Но ведь в течение стольких лет они ничего нам не рассказывали о своем времяпрепровождении. Хотя могли бы даже бравировать им. Уж Наталья точно бы не удержалась. Намеками да ужимками дала бы нам понять, что в их жизни есть нечто эдакое, с перчинкой. Не сказала. Скрывала. Значит, проблема все-таки есть. И не такие уж они свободные. И нечего мне травмировать Дениса. Довольно я уже поковырялся у него внутри. В общем, я только самым глупейшим образом потряс головой, как будто отмахивался от мухи, и сказал:
— Чего нас-то ни разу не позвали?
— Ни-ни, — ответил Денис. — Еще вас втягивать!
— A-а… вот дача генеральская… сосны, природа… родной уголок…
— Ни-ни, — ответил Денис. — Чужих туда не пускаем. Наталья не любит. Говорит, это как в свою постель пускать. Ты же знаешь, как она щепетильна.
— Да уж знаю, знаю. A-а… вот заграница… приличный отель где-нибудь в горах… или лесах…
— Ни-ни, — ответил Денис. — Очень сложно организовывать. Визы, билеты… У нас ведь люди знаешь откуда едут? Тут недавно из Новосибирска были. Еще две пары из Сочи приезжали. Из Воронежа, Владивостока… — Денис начал в задумчивости загибать пальцы. — Караганды, Сургута, Владимира…
— Хватит! — взмолился я. Мне надо было задать ему еще один мучающий меня вопрос. — Скажи, Денис, — начал я. — Тебе это как… ну, вообще… короче, нравится?
Денис отхлебнул пиво.
— Я же сказал, что когда всю жизнь вдвоем, это практически невыносимо. Думаешь, я шутки с тобой шутил? — спокойно проговорил он.
— Но можно было завести любовницу.
— Любовницу? — Он выгнул бровь. — Да любовницу Наталья за версту бы учуяла и скушала со всеми потрохами. Вместе со мной.
Я кивнул, и мы чокнулись кружками.
Короче, они уехали. Я их больше не удерживал, а на возмущенные возгласы Ольги и легкое недоумение, выказанное Аленой, строго ответил:
— Очень нужно!
О дальнейшем я узнал от Дениса, когда через две недели они вернулись в город и сильно нас удивили. Кое-что додумал, кое-что приукрасил, кое-что, может, и не вполне понял. Поэтому за достоверность произошедшего ответственности не несу. Могу только гарантировать художественность изложения. Ха!
Они приехали в дом отдыха одновременно с парой из Усть-Илимска, которая при ближайшем рассмотрении оказалась не парой, а одним здоровенным мужиком, потрясшим воображение Натальи, потому что на фотографии в Интернете выглядел раза в три меньше. Это была первая промашка Натальи за двадцать лет. Нет жены — раз. Мужик реально превзошел ожидания — два. Наталья всегда была падка на крупные экземпляры. И на меня в молодости засматривалась. Потом привыкла и перестала воспринимать иначе чем приятеля. Денис тоже не маленьких размеров — метр восемьдесят девять. Но мужик… В сущности, по габаритам он мог сойти за двоих, и Наталья распахнула варежку, одновременно сглотнув слюну, однако из принципиальных соображений поинтересовалась, где, собственно говоря, его жена. Куда девал? Непорядок! Смутившись, мужик сказал, что жена в последний момент испугалась, потому что они первый раз вот так, по Интернету, вдруг бы на аферистов напоролись, но если в одиночку не годится, то он, конечно, очень извиняется за беспокойство и отбывает на свою историческую родину.
— Годится, годится, — поспешно сказала Наталья, хотя уже понимала, что без какой-нибудь пусть завалященькой жены тут не обойтись, что никаких па-де-труа и па-де-катров на сей раз не будет, потому что они на фиг ей не нужны, а будут традиционные па-де-де (традиционные в смысле количества участников, а не манеры исполнения), причем по разным номерам, и надо срочно пристраивать к кому-то Дениса. Тут-то в ее отнюдь не глупой башке возникла очень даже умная мысль. Она позвонила Ольге. Она позвонила Ольге и велела ей срочно приезжать, не объяснив ни причины вызова, ни причины спешки. Ольга решила, что в доме отдыха тоже кто-то тяжело заболел (что в общем-то было недалеко от истины), немедленно требуется «скорая помощь», собралась за полчаса и рванула. Каково же было ее удивление… Ладно, опустим.
Нет, не так. Поначалу она и не подозревала, зачем ее вызвали. А по ее приезде Наталья обставила все очень тонко. Она напела Ольге, что, дескать, очень волновалась о ее душевном равновесии и подумала, а почему бы ей не отдохнуть, не отвлечься, не расслабиться, не подышать свежим воздухом, тем более что у них совершенно случайно образовалось одно свободное место. Какое место? Каким образом оно образовалось, если Наталья с Денисом, по официальной легенде, ехали в двухместный номер и в него же и заселились? А про вторую пару никто, кроме меня, ничего не знал? Эти вопросы Ольге даже не пришли в голову. Не успев пикнуть, она оказалась в одном номере с Денисом. Каково же было ее изумление… Ну, и так далее.
Впоследствии, когда я расспрашивал Дениса об этой поездке — не часто, но случалось, эти события очень занимали мое воображение, однако я старался быть деликатным, — так вот, когда я расспрашивал Дениса, он замыкался, каменел лицом, отмалчивался или переводил разговор на другую тему. Это была его внутренняя и какая-то очень глубокая, нет, не тайна — заветная мысль, как написали бы в старину. Это было его потаенное. И он не собирался ни с кем им делиться. Так я толком ничего и не узнал. А из его обрывочных и отрывочных фраз составил не менее обрывочную, приблизительную картину. После приезда Ольги Наталья закрылась с мужиком у него в номере, и больше их никто не видел, разве только за обедом, и то не каждый день. Ольга с Денисом, впервые в жизни оставшись вдвоем и наедине, неожиданно засмущались, как два школьника на пионерском сборе. Совместная жизнь в одной комнате с ее интимно-санитарными подробностями казалась совершенно невозможной. Ольга хотела уехать, но почему-то осталась. Почему? Видимо, потому, что хотела, да не очень. Неделю они гуляли по унылым полям, мочили ноги, кашляли, капали друг другу в нос капли от насморка, пили в баре глинтвейн, сушили на батарее носки и по большей части молчали, потому что говорить им, как выяснилось, было не о чем. Но выяснилась и другая любопытная подробность: им было о чем помолчать. Молчание не обременяло их. Напротив, облегчало их странное временное сосуществование. На десятый день между ними произошло все, что должно было произойти, и Денис постучался в соседний номер, чтобы сообщить Наталье об этом событии.
— Как, только сейчас? — удивилась Наталья. Она стояла в дверном проеме голая, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу и мечтая только о том, чтобы Денис поскорее убрался восвояси и дал ей возможность вернуться к прерванному процессу. Из коридора Денису был виден край кровати с громадной волосатой ногой, лежащей на покрывале. — А от меня ты чего хочешь? — спросила Наталья.
— Хочу сообщить, что мы уезжаем, — сказал Денис. — Жить будем у Ольги. Квартиру оставляю тебе.
— Чего-о-о? — взревела Наталья, от неожиданности резко захлопнула дверь, оставшись в коридоре как была, голой, и вплотную придвинулась к Денису, как бы тесня его своей массой. — Чего ты мелешь? Где ты будешь жить? С кем?
— С Ольгой. У нее в квартире, — спокойно ответил Денис.
— С Ольгой? С курицей этой? Да ты что, с ума спрыгнул?
— С курицей, — подтвердил Денис, повернулся к ней спиной и двинулся к своему номеру, где Ольга уже собирала чемоданы.
Наталья громко захохотала.
— Молодец! — заорала она на весь коридор. — Молодец! Прекрасная партия! Дебил и курица!
Денис не оглядываясь продолжал двигаться в том же направлении.
— А ты знаешь, что она про тебя говорила? — надрывалась Наталья. — Не знаешь? Так я тебе скажу! Что ты гэбэшный ублюдок! Это когда ты ей денег не дал на ее аферы с этим козлом Виктором!
— Я?! Я денег не дал? — Денис остановился в полнейшем изумлении.
Наталья, поняв, что зарвалась, чуть сбавила обороты:
— Ну не ты. Мы. Мы не дали. Да, мы! И не смотри на меня так! Я не за себя боролась! Я за тебя боролась! За твои деньги! Если бы не я, ты давно бы с голой задницей бегал! Вспомни, как ты упирался, когда я умоляла тебя оформить наследство на дачу и квартиру! Где бы ты сейчас жил, мне интересно. На коммунальной кухне с Риткой и ее щенятами? И вот что я тебе скажу, мой милый: имей ввиду, что Ольга твоя, курица бессмысленная, при любом удобном случае тебя заложит!
— Ах, значит, ты за меня боролась? — насмешливо переспросил Денис. — И когда Ольгу сюда вызывала, тоже за меня, наверное, боролась? За мое удобство? За удовольствие? Да? Ну вот видишь, как удачно все получилось. Я удовольствие получил и теперь хочу получать его всегда. Чем же ты недовольна?
Наталья захлопала губами.
— А что касается гэбэшного ублюдка, — продолжал Денис, — так она права. Если ты думаешь, что мне это неприятно, честно тебе скажу — да, неприятно. Но ведь ты этого и хотела, правда? Ведь это ты ее спровоцировала, когда «МЫ» отказывали ей в деньгах? Не думай, она мне рассказала о вашем разговоре в ванной, о том, как ты мной прикрывалась, когда не давала ей денег. Ты, моя милая женушка, бывшая женушка, всегда всех провоцировала на гадости. А потом вытаскивала эти гадости в нужный момент, как циркач из рукава, чтобы предъявить к оплате. А что касается Ольги… сомневаюсь, что она в мой адрес выразилась именно так. Ладно, все, увидимся в городе.
Наталья захлопнула рот и схватилась за голую грудь. Горничная, которая в этот момент проходила по коридору, отшатнулась от нее, как от чумной.
Вот так примерно я это себе представляю.
Тут надо сказать, что действия Натальи меня и изумили, и восхитили одновременно. Ее логика была поистине иезуитской. Изощренная игра. Политика подтасовок и манипуляций. Вот как мне все это представлялось: Наталья не хочет давать Ольге денег, а Денис, напротив, хочет, но Наталья не собирается лично отказывать Ольге, ей неохота выглядеть дурно в чужих глазах, тогда она подставляет Дениса, который ни ухом ни рылом, Ольга, натурально, срывается и лепечет что-то нелицеприятное в адрес Дениса, что по-человечески понятно, и Наталья, улучив удобный момент, передает ее слова обратно Денису, опять же интерпретировав их в свою пользу. Что получается? Денис с Ольгой плохие, а Наталья, которая все это подстроила и всех спровоцировала, остается чистенькой. Здорово. Снимаю шляпу.
В тот же день Денис и Ольга уехали в город. Наталья притащилась через четыре дня, засела в своей норе и довольно долгое время не казала оттуда носа. Узнав о происшедшей рокировке, я поначалу страшно развеселился и пару раз попытался подколоть Дениса. Если честно, я не понимал, что он нашел в Ольге. Зачем она ему? Что между ними общего? Как он собирается с ней жить? Или не собирается, а все это так, шалости среднего возраста? Так что за моими подколками скрывался тайный умысел: я хотел выведать у Дениса его истинные чувства и намерения.
— Не понимаю, не понимаю, — как бы про себя, как бы в задумчивости пробормотал я за очередной кружечкой пива на Покровке. — И что это ты с цепи сорвался? Тебе что, домашненького захотелось?
Дениса так дернуло, что кружка под его локтем отлетела на другой край стола и пиво выплеснулось мне на колени. Он повернул ко мне застывшее лицо.
— Да, домашненького, — медленно произнес он. — Вот именно. Домашненького.
XXVII
А дело между тем двигалось в непредсказуемом направлении. Да нет, что это я? В очень даже предсказуемом. Заявилась Женя.
Она позвонила в мою дверь рано утром. Часов, что ли, в семь. Накануне вечером я после работы посещал Гришу, потом заезжал к Алене, застал там Виктора, страшно разозлился, как будто в его присутствии было для меня что-то неожиданное, с испорченным настроением поехал домой, проколол колесо, целый час ставил запаску, у подъезда вспомнил, что дома нечего жрать, развернулся, потащился в магазин, взял черствый батон и кусок колбасы, отстоял очередь в кассу, которая на мне сломалась, полчаса ждал, когда ее починят, бросил к чертовой матери батон и колбасу, с пустыми руками, голодный, добрался наконец до дома и как был, в одежде, рухнул в постель. Было это часа в два ночи. И вот — пожалуйста! — в семь утра звонок в дверь. Я сполз с кровати и с закрытыми глазами поплелся в прихожую. Тут бы мне спохватиться и задать себе вопрос: кто бы это мог быть? Но спросонья я совсем потерял бдительность, рывком распахнул дверь и практически упал в объятия Жени. А упав, мгновенно испугался, от испуга проснулся и как ужаленный отскочил назад. Однако Женя на меня не смотрела. Ей было не до меня и не до шалостей. Лицо ее было хмуро. Она выглядела озабоченной. Засаленный халат висел на ней мешком. Волосы торчали жирными клоками. Я подавил инстинктивное отвращение и вежливо поинтересовался, какого хрена ей надо в моей квартире в семь утра.
— Да ладно, — неприветливо пробурчала Женя. — Не строй из себя недотрогу. К тому же на тебя никто не претендует. Давай, это… пусть возвращается, так уж и быть.
— Кто? — помотав в смятении головой и решительно ничего не понимая, спросил я.
— Не прикидывайся! — раздраженно прикрикнула Женя. — Конь в пальто! Гриша ваш разлюбезный! Пусть возвращается, пока я не передумала!
Развернулась и пошла к себе.
Я тоже вернулся к себе, налил в стакан холодной воды из-под крана, залпом выпил и в изнеможении плюхнулся на стул. Зачем ей опять Гриша? Соскучилась, что ли? Или хозяйство пошло вразнос? Или перед родами решила обеспечить себя надлежащим уходом? Или… неужели пожалела? Да, но что же я сижу! Немедленно бежать! К Грише! Немедленно забрать его из больницы! И привезти сюда! А если… если дело зашло слишком далеко? И мы опоздали? И процессы обезжизнивания в его организме уже необратимы? И он никогда не придет в себя? Что ему там кололи? Сколько таблеток мы в него всунули? Я схватил телефон, отменил все деловые встречи, принял холодный душ, почистил зубы, надел чистую рубашку и помчался в больницу.
Формальности заняли полчаса. Гришу мне отдали без возражений. Пришлось грузить его в машину, как реквизит. Я чувствовал себя Ильичем, который на коммунистическом субботнике волочет бревно в салон машины марки «лендровер». Гриша по-прежнему не шевелился и вообще не проявлял никаких признаков жизни. В машине он сидел, вернее, почти лежал с закрытыми глазами, а когда мы подъехали к дому и я открыл дверцу, так и остался сидеть недвижим. Кажется, он не понимал, что с ним происходит. Я с трудом выколупал его из салона и, взвалив на себя, потащил в подъезд. В лифте попытался прислонить к стене, но у него подкашивались колени, словно он был на шарнирах, так что мне пришлось одной рукой его придерживать, а другой, извернувшись, нажимать кнопку. Ладно, главное, что доехали без жертв.
Женя открыла нам дверь и молча впустила в квартиру. Я перекинул Гришу через плечо и внес в прихожую. Также молча Женя указала на диван, куда я с облегчением сгрузил Гришу. Раздался плач ребенка. Гриша шевельнулся.
— Ты свободен, — объявила Женя, животом выталкивая меня в коридор.
Хоть бы спасибо сказала! Да черт с ним, с ее «спасибо»! Случилось чудо: на звук ее голоса Гриша приоткрыл глаза. Я кивком указал на него Жене. Она обернулась. Гриша садился на диване. Увидев Женю, он встрепенулся, покрылся нежно-розовым румянцем и проблеял слабым голоском:
— Ребенку пора давать кефир. И не найдется ли у вас немного жареной картошки для меня?
— Кефир в холодильнике. Надо подогреть. Картошка на балконе в полиэтиленовом пакете. Пожарь мне тоже, можно с салом, — сказала Женя, не двигаясь с места.
Гриша резво вскочил и приступил к работе. А я отправился к себе. Теперь я был за него спокоен.
Вечером Гриша стоял под моей дверью и просился на ночлег. Я покорно впустил его, безропотно застелил диван в гостиной, обреченно выслушал подробный рассказ о желудке младенца и как дурак всю ночь прислушивался к его дыханию. Между тем Гриша спал спокойно, дышал глубоко, не стонал, не всхлипывал, не скулил, не вздрагивал, не бормотал во сне ерунду, и к утру я смог на пару часов отключиться. На следующий день к вечеру он явился сообщить, что я свободен от его присутствия, он будет ночевать у Жени. Я вздохнул с облегчением. Гриша выглядел хорошо, повеселел, разрумянился, раскудрявился остатками волос, и даже его висячий нос, казалось, слегка приподнялся над верхней губой. Еще через день он снова просился ко мне на постой. Вздохнув, я пустил его. Хорошо, что постельное белье не успел постирать. Гриша основательно, как в былые времена, поужинал (как я и предполагал, Женя не поощряла его питание у себя дома), подробнейшим образом доложил о вечернем купании ребенка (ему всегда, и в лучшие еще времена отсутствия Жени в нашей жизни, было что поведать, совершенно неинтересное никому из собеседников) и лег спать. Этой ночью я уже не прислушивался к его дыханию, а просто лежал и предчувствовал худшее. Предчувствия меня не обманули. На следующий день Гриша опять остался у Жени. На следующий опять приплелся ко мне. И так бесконечно. Я не понимал, чего она добивается. Видимо, ничего. Ничего она не добивалась. Она просто кидалась им, как вредная девчонка мячиком. Хочет — туда закинет, хочет — сюда, хочет — ногой пнет, хочет — ладошкой побьет. Надоел — поди вон. Нужен — давай возвращайся. А он знай себе отскакивает. Но я-то, я-то не мячик! Я-то не собираюсь терпеть ее штучки. А Гриша? Я с любопытством вглядывался в него. Что он испытывает? Обиду? Неудовольствие? Злится? Стесняется своего положения приживала, в которое поставила его Женя? Нет! Он был вполне доволен. Оставили ночевать — спасибо. Выставили — тоже ничего. Главное, чтобы назавтра пустили. Удивительный человек!
Я вспомнил то жуткое чувство, которое испытал, когда в больнице увидел его синие ноги. Вспомнил, как у меня перехватило дыхание и стало мучительно жаль Гришу. Я и сейчас испытывал к нему жалость, замешенную на понимании. Можно, конечно, восклицать: «Удивительный человек! Его унижают, а он только шею гнет!» Можно презирать, издеваться, насмехаться. Но это все внешнее, поверхностное. А внутри меня жило понимание, пришедшее вдруг и больше не покидавшее меня. Я знал: это форма любви. И с этим ничего не поделаешь. А раз это форма любви, то стоит ли, право, жалеть Гришу? Он счастливец. Он любит так, что сам для себя не существует. Дураки мы, что сразу этого не разглядели.
Однако рассуждать о том, насколько счастлив Гриша, — одно. А видеть его каждый второй вечер, так сказать, в шахматном порядке, топчущимся перед моей дверью, — другое. Надо же и совесть знать. И меня пожалеть надо. Нормальный быт в собственной квартире даже при наличии за стенкой великой любви никто не отменял. Через неделю я опять не выдержал. Это уже становилось доброй традицией — выяснять с Женей отношения. «Последний раз! — уговаривал я себя. — Последний раз! Просто войду, скажу, что думаю, и сразу — домой! Даже слушать ее не буду! А Гриша пусть потом на лестничной клетке топчется! Хватит! Квартиру, что ли, продать? Чтобы уже никогда их не видеть и не слышать!» Я дождался, когда Гриша уйдет гулять с ребенком, и пошлепал к Жене. Дело было 1 ноября. Ровно пять месяцев с того дня, как Он умер. Потом оказалось, что это важно.
— Что ж ты опять гадишь там, где ешь? — с порога крикнул я, не дожидаясь, когда Женя впустит меня в квартиру. — Что ж ты человека третируешь? Что ты его гоняешь туда-сюда? Мало тебе, что он чуть не сдох из-за твоих свинских закидонов? Мало, что он из дома ушел, без крыши над головой остался? Тебе надо, чтобы он всеми лапами перед тобой пресмыкался? Чтобы ты его ногой под зад, а он только кланялся да благодарил?
Женя хмыкнула.
— А он не благодарит, что ли? — буркнула она.
— В общем, так, — сказал я, стараясь оставаться спокойным. — Или он живет у тебя, или я вызываю милицию, и ты освобождаешь помещение.
А что делать, случаются такие ситуации, когда приходится опускаться до шантажа. И не стыдно вовсе.
— Милици-ию? — протянула Женя с сарказмом в голосе. — Ну вызывай, миленький, вызывай свою милицию. А ты знаешь, что эта милиция сюда как к себе домой ходит? Что ее давным-давно двоюродный братец привел, то бишь прямой наследничек? Сразу после вашего субботничка, когда я еще грязь за вами подтереть не успела? Не знаешь? Нет? А что ты вообще знаешь? А помнишь, как вы все на дачу приперлись, шесть человек народу? Ах ты Боже мой! Вашу сестрицу Аленушку обидели! Мужа увели, который ей на хер был не нужен! Так вы вшестером на одну, грудью защищать! А когда муж этот, Гришенька ваш драгоценный, в больницу загремел, вы дежурства установили. Как же, не дай Бог, он ведь без яблочного сока и ваших паровых котлеток концы отдаст! А мне хоть кто-то позвонил? Разок? Просто спросить — как дела, как ребенок, как себя чувствуешь, не родила ли на досуге, случайно? Я вам чужая? Чужая. Ну и не суйтесь в мою жизнь. Ваша Аленушка правильно сказала: вы друг другу родные, а я вам приемная. А раз приемная, так и пошел вон!
И я пошел вон. Она была права — вот в чем дело. Мы ни разу ей не позвонили. Мы ни разу к ней не зашли. Мы бы с удовольствием о ней забыли, но для этого были слишком злы на нее. И поминали недобрым тихим и громким словом, а вспомнить просто так не догадались. Она была нам не нужна. Она была нам чужда. Она была нам отвратительна. Но ведь она не была в этом виновата. Она такая, какая есть, — девчонка с окраины. Почему она была грубой с нами? Циничной? Наглой? Злой? Бесстыдной? А может быть, она стеснялась нас, взрослых дядь и теть, которые, кроме всего прочего, старше ее лет на десять? Ведь она попала в нашу компанию, как попадают на Марс. И сразу ощетинилась. Начала метить территорию. Неумело отстаивать право быть такой, какая есть. А на самом деле? Внутри себя? Что? Испытывала неловкость? Чувствовала себя бедной, нежеланной, некрасивой, глупой, неловкой? Ставила защиту? Пыталась эпатировать? Хотела внимания? И чтобы субботники устраивали не по приказу, а по собственному желанию? И чтобы хоть одна из наших баб хоть однажды подошла и взяла на руки ее ребенка? Как там его зовут? И чтобы… Да мало ли что она хотела, думала, переживала! Что чувствовала, глядя на нас. Мы же ее об этом не спрашивали. Нам было неинтересно. А может быть, ничего она не хотела, не думала и не переживала. Может быть, она на самом деле такая, какой мы видели ее все эти месяцы. Хабалка из подворотни. Ну и что? Мы ведь даже не задумались над тем, что она могла бы быть другой. Не дали ей шанс. Не приблизились, чтобы посмотреть на нее внимательнее. В конце концов, она была оставлена нам в наследство, и с этим следовало считаться. Мне вдруг захотелось попросить у Жени прощения, я обернулся в дверях и замялся, не находя слов. Но она помахала рукой, мол, иди, иди, нечего тут.
Я открыл дверь и уперся в чью-то железную грудь. Грудь капитально перегораживала проем. Пришлось сделать шаг назад и рассмотреть грудь в перспективе. Это был мент в полной ментовской форме. Увидев меня, он не удивился, только отодвинул слегка с пути граблеобразной лапищей, взгромоздился в прихожую и обратился к Жене:
— Что ж это вы, гражданочка… м-м-м-м… нарушаете? Ведь я же вас неоднократно предупреждал: квартирку надо бы освободить, а то неприятности будут. Надо бы вам по месту прописочки… так сказать…
Лицо Жени приобрело свойственное ей упрямое, угрюмое выражение. И я подумал, что мент зря нарывается. Неприятности скорее всего будут у него.
— И какие же это неприятности у меня будут, каких еще не было? — поинтересовалась Женя специальным вежливым тоном. И я снова подумал, что будь мент чуть-чуть проницательнее, он бы уже бежал отсюда, сверкая пятками. Но мент был лишен проницательности. Видимо, поэтому и служил участковым, а не следователем по особо важным делам. Он открыл было рот, но тут за его спиной замаячила еще одна внушительная фигура. Я узнал братца нашего покойного друга.
— Да что вы с ней церемонитесь, Николай Федотыч! — завопила фигура. — Выселять ее, и все дела!
— Выселили одного такого! — заорала в ответ Женя. — Ты кто? Нет, ты скажи, кто? У тебя подтверждение о родстве есть? А свидетельства о рождении? — Фигура захлопотала лицом и затрепыхала руками. — Да не твое, не твое! Родителей твоих! Дедушек и бабушек! — перебила Женя его безмолвный монолог. — Ты кем Ему приходишься? Седьмой водой на киселе? Так это еще доказать надо! А я жена! Понял? ЖЕНА!
— Ты? Ты жена? — завопил братец. — Аферистка ты, а не жена! Где свидетельство о браке? А? Где, я тебя спрашиваю!
— Вот мое свидетельство! — орала Женя, одной рукой тыча себя в живот, а другой размахивая знакомой мне до боли бумажкой об установлении отцовства.
— Филькина грамота это, а не свидетельство! По этому свидетельству никто тебя сюда не пропишет, даже не надейся! — вопил дядька.
— Тебя тоже пока никто не прописал! — с блеском парировала Женя. — Ты тоже тут незаконный!
Диалог катился как по маслу. Видно было, что они репетировали его не раз и наизусть знали, что в следующий момент выдаст оппонент. Я смотрел на Женю задумчиво: мне были наизусть известны все ее штучки, да и сама она была у меня как на ладони — не такое уж это сложносочиненное произведение, чтобы копаться в причинах, следствиях, мотивах и побуждениях. Однако меня занимал один вопрос. Очень занимал. Насколько она одинока? Ощущает ли свое одиночество? Ведь что Гриша? Ничто. Нянька детям. Но — не поддержка и не опора. Что мы? Ничто. Смотрим на нее свысока. Докучает она нам здорово. Отмахиваемся от нее, как от мухи. Родителей у нее нет. Друзей, как я понял, тоже. У таких, как она, друзей, как правило, не бывает. Вот я и спрашиваю: насколько она одинока? Ощущает ли свою отверженность? Тяжело ли ей одной вгрызаться в жизнь, или она уже привыкла к тому, что не на кого полагаться и не на кого рассчитывать? Что только собственными зубами, когтями и кулаками может отбить у других кусок пирога? Не откроешь пасть — не укусишь. А не укусишь — погибнешь. Вот она и орет на двоюродного братца так, что стены трясутся, не потому, что она дрянь из подворотни (хотя и поэтому тоже), а потому, что за ее интересы некому больше поорать.
«Ори, Женя, ори. Дай братцу в глаз. Вмажь ему как следует, не бойся. Он ничего тебе не сделает. Ты не позволишь. Ты сильная. А мы — слабые. Нам было легко презрительно кривить губы и считать тебя дрянью. Мы не захотели сделать маленького усилия и понять, что дрянью может быть только волк-одиночка. Ты — волчица, Женя. А мы — так себе персонажики, зайчишки-трусишки. Мы побоялись взять на себя часть твоего одиночества. Пять минут назад я размышлял о том, какими глазами ты смотрела на нас. Что испытывала при этом. О том, что мы брезговали к тебе приближаться. Так вот, теперь я спрашиваю в третий раз: насколько ты одинока? И насколько ужасно всю жизнь быть одинокой? Ответь, Женя. Мне это важно».
Между тем Женя и братец продолжали орать. Мент как заводной тяжело ворочал головой на толстой шее: от одного к другому, от одного к другому. На его лице читалась скука. И вот в самый, можно сказать, кульминационный момент, когда Женя пыталась бумажкой об установлении отцовства треснуть братца по шее, раздался мелодичный бархатный голос:
— Девочка моя! Тебе нельзя так нервничать! Надо беречь себя, девочка моя! Спать, гулять, хорошо питаться. А кстати, что у нас сегодня на обед?
И в квартиру, неся впереди клетчатый живот, величественно вплыл папа.
Увидев папу, Женя застыла. Ее лицо перекосилось. Неожиданно она схватилась за живот и перегнулась пополам. Ее рот медленно, как будто нехотя, открылся, и из него вырвался дикий, звериный крик. Я с ужасом увидел, что из нее хлынул поток воды. Вода хлестала между Жениных ног, и через минуту на полу образовалась огромная лужа.
— Что вы стоите, молодой человек? — крикнул мне папа. — Она же рожает!
Я сгреб Женю в охапку и потащил на улицу. С Женей на руках пронесся мимо Гриши, который прогуливался с коляской вокруг клумбы и проводил нас удивленным младенческим взглядом, засунул ее в машину, дрожащими руками, не сразу попав ключом в зажигание, завел мотор и помчал в ближайшую больницу.
Женя рожала пять часов. Все это время я, злой, дрожащий, с трясущимися руками, ругающий про себя всех и вся, топтался в приемном покое больницы, время от времени стремительно выбегая во двор покурить, делая две-три судорожные затяжки и так же стремительно возвращаясь обратно. Хмурый братец привез мне Женин паспорт, страховой полис, зубную щетку и тапочки, буркнул на прощание: «Ну, это мы еще посмотрим!» — и отбыл, не поинтересовавшись, как, собственно, проходят роды, что, на мой взгляд, было чистейшим свинством с его стороны. На исходе пятого часа ко мне спустилась нянечка.
— С дочкой вас, папаша! — ласково пропела она.
Я сунул ей сотню и отправился домой.
У Жени в квартире я застал Гришу, баюкающего ребенка, и папу. Папа сидел за столом на кухне. Напротив сидел мент. Папа блистал крахмальной бабочкой и свежайшим жилетом. Китель мента был расстегнут. Виднелся толстый живот, обтянутый грязной майкой. На столе перед ними стояла почти пустая бутылка водки, селедочка, вареная картошка, блюдце с крупно нарезанным салом и буханка «бородинского» на разделочной доске. Вторая, пустая бутылка валялась на полу у ножки стола. И папа, и мент были уже ну очень хороши.
— Хорошая девочка, хорошая. Дочка моя. Приемная. Не выселяй ее, а то ведь пропадет дочка, по миру пойдет. А ей детей поднимать надо, — внушал менту папа, изящным жестом подцепляя на вилку кусочек селедки и отправляя его в рот.
— Не буддду… оббещщаю тебе, не буддду… только пусссть жжженитсся на этом… как его… на ппоккойнике, — бормотал мент, запуская в ту же селедку громадную пятерню.
— Не волнуйся, — резонно отвечал папа. — Голову даю на отсечение, жених против не будет. Да за такую красавицу любой пойдет.
Мент кивнул и, не удержав голову, уронил ее в миску с картошкой, благо та уже остыла.
Увидев меня, папа мгновенно сориентировался, взял граненый стакан, налил в него немного водки, подумал, долил остатки из бутылки и протянул стакан мне. По-прежнему дрожащей рукой я взял стакан и опрокинул водку в себя.
— Ну? — строго спросил папа.
— Девочка, — выдохнул я.
— Молодец. Хвалю, — одобрил папа. — Назовем ее Шарлоттой. — И вытащил из-под стола еще одну бутылку.
Впоследствии я сопоставил даты. 1 ноября Жениной беременности исполнилось ровно семь месяцев. Я вспомнил, как она кричала мне: «Надо будет родить в семь месяцев, и рожу!» И родила. Теперь у нее был ребенок, документ об установлении отцовства и ровно месяц до официального вступления в наследство на квартиру.
Уж не ведьма ли она?
XXVIII
В этом месте, наверное, надо написать: «ЭПИЛОГ». Так и напишу.
Прошло два месяца после Жениных родов. Вернее, два месяца будет завтра. Сегодня, 31 декабря, мы встречаем Новый год. Снег в этом году так и не выпал. Погоды стоят осенние, мерзкие по нормальным понятиям. Но мне почему-то нравится мокрое декабрьское тепло. Я стою на улице перед своим подъездом. Мне поручили купить воду и хлеб. Новый год мы встречаем все вместе в Его квартире. Женя не хотела с детьми уходить ночью из дома, даже ко мне. Девочку назвали Шарлоттой. Смешно, но факт. Итак, что у нас с Новым годом? Гриша варит студень. Ольга испекла два пирога — с капустой и яблоками. Виктор принес чертову уйму спиртного и забил им весь холодильник. Алена съездила в какой-то ей одной известный магазин, где пекут домашние пирожные со взбитыми сливками. Денис притащил елку, и мы все, разыскав свои старые детские игрушки, ее нарядили. Папе поручили нарезать ветчинку-колбаску-рыбку, чтобы было как в ресторане. Он это умеет. За последние два месяца, которые он прожил с Женей и Гришей, мы успели не раз убедиться в его кулинарных и хозяйственных способностях. Теперь он ведет кампанию по соединению трех квартир: своей, Жениной — не то в Химках, не то в Мытищах — и той, в которой они живут сейчас. Тоже уже Жениной. Наследство на квартиру было оформлено на Женю и ребенка без проволочек во многом благодаря моему кошельку. Но это мелочи. Кажется, Женя с Гришей собираются папу усыновить. С его появлением и рождением Шарлотты Женя стала меньше третировать Гришу. Как-то смирилась с тем, что он ее крест. И перестала обращать внимание на его закидоны. Теперь она полностью переключилась на папу. Папа принимает ее претензии снисходительно. Только гладит по головке и отвечает с неизменным добродушием: «Девочка моя, только не волнуйся». Девочка не волнуется и репетирует к Новому году какой-то экзотический танец. Я со страхом жду ее выступления.
Наталья тоже сегодня придет. Я говорю «тоже», потому что она больше двух месяцев уклонялась от встреч. Не хотела никого видеть. А чтобы не видеть Дениса, сменила место работы. За это время я видел ее всего один раз, когда заезжал узнать, почему она не подходит к телефону, не случилось ли чего. Был воскресный вечер. Наталья сидела дома, кутаясь в пуховый платок. Жалкая, маленькая, сгорбившаяся. Тогда я впервые заметил у нее несколько седых волос. Уход Дениса стал для нее полным жизненным крахом. Ведь она была так уверена в жизни, которую сама придумала для них обоих, в том, что Денису именно такая жизнь и нужна. Впрочем — теперь я окончательно это понял, — он никогда не удовлетворял ее. Иначе она не скакала бы по Интернету в поисках партнеров. Он не удовлетворял ее не только как сексуальный партнер, но и как партнер по жизни. В их тандеме она была мужиком и уверилась в том, что он без нее погибнет. А он взял и не погиб. Наоборот, расцвел. И она все никак не поймет: как такое может быть? И что ей теперь делать? А я все никак не пойму: почему он с ней жил? Ответ, который я дал самому себе, довольно приблизителен. Ему было удобно ходить на поводке. Это ведь так уютно и комфортно: сидеть в сторонке, выгибать бровь и отворачиваться, когда происходит что-то неприятное. Это ведь так легко: не вмешиваться, когда твою сестру гонят из ее собственной квартиры. И ранку, которая зовется совестью, можно зализать, уговаривая себя, что никакого отношения к этому не имеешь. Но со временем ошейник стал давить Денису на горло. Ранки не очень-то зализывались. Он немного повозился, потявкал, ошейник ослабили, и он решил, что снова станет удобно. Но не стало. Ощутив неудобство один раз, он стал ощущать его всегда. Дальше — известный финал.
Итак, я немного посидел у Натальи и ушел. А что я еще мог? На следующий день я сказал Денису:
— Ты бы к ней заглянул.
— Что это изменит? — ответил он.
Действительно, что?
Кстати, Ольга за эти два месяца тоже стала другой. Ушла ее назойливая бабская суетливость. Появилось достоинство, что ли. Она больше не говорила о супчиках, не опекала ежеминутно Дениса, не благоустраивала его жизнь, не закрепляла его за собой подобострастным заглядыванием в глаза. Ей это больше было не нужно. На людях она даже несколько отстранялась от Дениса, никогда не садилась рядом с ним за столом, не называла домашними ласкательными прозвищами, даже не дотрагивалась и лишь снисходительно позволяла ему приобнимать себя за плечи. Она обрела спокойствие. И уже ни у кого не повернулся бы язык назвать ее хлопотливой бессмысленной курицей. Неожиданно оказалось, что у нее женственная фигура. Бутылочность исчезла, когда она сняла свои жуткие бесформенные темно-зеленые и коричневые костюмы. Денис никогда не смотрел на нее открыто, но всегда видел, где она находится и что делает.
Виктор тоже изменился. Его маска циничного весельчака и балагура, выпивохи и рубахи-парня, которому море по колено, дала трещину. Я все чаще ловил взгляды, которые он бросал на Алену. В них было беспокойство. Правильно ли он себя ведет? Не сморозил ли глупость? Довольна ли она? Он нуждался в ее одобрительных взглядах, снисходительных кивках, улыбках, как батарея в подпитке. Алена его не баловала. Часто глядела строго. Но мне кажется, что в глубине души он ее не боялся. Просто очень хотел до нее дотянуться. Вот и старался держаться на цыпочках. Мне интересно было, сколько он продержится, когда сорвется со своих цыпочек и сорвется ли вообще. Из-за Алены и ее спокойствия я боялся этого момента, но уже не желал его.
Так вот, Наталья. Зная ее нелюбовь к домашнему хозяйству и учитывая депрессивное состояние, мы решили не нагружать ее поручениями, но она позвонила Алене и сказала, что подготовит всем маленькие сюрпризы, завернет в золотую бумагу, украсит серебряными бантами и положит каждому рядом с тарелкой, так что подарки покупать не обязательно. И вот что я думаю по этому поводу: мы так долго после Его смерти ходили по кругу, путались, ошибались, искали друг друга. Мы так много пережили. Мы заплатили за свободу, которую Он нам дал. Каждый из нас узнал другого и узнал себя. Мы ужаснулись, но выжили. А когда выжили, заново полюбили. И простили друг друга по умолчанию. И если в смерти есть хоть какой-то смысл, так, может быть, Он умер именно для этого: чтобы мы освободились, переболели, все пережили, все прошли и все нашли? Впрочем, это мои бессвязные мысли. А кто-нибудь там, наверху, поставленный над нами сторожить, присматривать и направлять, наверное, думает совсем иначе. Ведь неизвестно, сколько она стоит, эта смерть. И стоит ли вообще чего-нибудь. И нас ждут другие испытания, для которых Его смерть стала толчком. А Он будет свободно плавать в небесном тумане и наблюдать за нами. Как мы, освобожденные, суетимся внизу. Ведь Он тоже освободился, только выбрал для этого слишком радикальный способ. Он придумал себе невыносимую роль. Боялся быть настоящим. Боялся жить как все. Сам сделал из себя заключенного. Поставил в рамки и боялся вырваться из них. Ни к кому не пришел. Никого не нашел. Ему просто ничего не оставалось делать, как только умереть, чтобы вздохнуть свободно.
Еще я думаю: наверное, стоит завтра утром проводить Наталью домой. К себе приглашать не стоит, а проводить — почему бы и нет? Не такая уж она… Не такая уж она такая, какой казалась все эти годы. Просто у нее в жизни был один Денис. Как выяснилось, не лучший для нее вариант. Правда, они приказала себе не знать об этом. И почти двадцать лет валяла ваньку перед нами и перед самой собой: притворялась идеальной женой идеального мужа. Как будто совершить ошибку — это стыдно. Но ведь нельзя обманываться вечно. Вредно для здоровья. Организм начинает мстить. Организм мстил Наталье двадцать лет, делая из нее стерву и потаскуху. В этом месте своих размышлений о Наталье я неожиданно почувствовал к ней уважение. И вот почему. Есть такие неудовлетворенные тетки, которые при каждом удобном случае шпыняют и унижают своих мужиков, выставляя их в самом жалком виде. Выглядит это довольно мерзко. Но Наталья не такая. До памятного вечера в Ольгином доме она ни разу не унизила и не принизила Дениса, ни разу даже намеком не обозначила его несостоятельность. Ладно, теперь все в прошлом. Какой она будет, когда выздоровеет после брака с Денисом? Я хочу увидеть. И если… если она захочет посмотреть на это вместе со мной, что ж, в таком случае я даже брошу курить. Кстати — и как я раньше этого не замечал? — она очень хороша собой. Невысокая, худенькая, но не сохлая, а ладная, гладкая, с энергичным лицом, румяными губами и волосами цвета увядших кленовых листьев. Такие женщины долго сохраняют форму и всегда выглядят моложе своих лет. Когда она придет в себя и рядом окажется мужчина, который… Ладно, посмотрим. И… Я ведь не Денис. Я не собираюсь ни в чем ей поддакивать. Она у меня получит! Еще как получит! И я с удивлением понял, что мне уже не терпится, чтобы получила.
Я засмеялся, поднял руку и сжал кулак. Со стороны могло показаться, что я зачем-то хватаю сырой зимний воздух, но я-то знал, что это не так. Я взял Вселенную за шкирку. Она была холодной и влажной на ощупь. Но совсем не страшной. Живой, пульсирующей, меняющейся. Я потряс рукой, раскачивая Вселенную из стороны в сторону, а потом разжал кулак и отпустил ее. A-а, пусть летает как хочет! Пусть сужается, расширяется, взрывается, проливается метеоритными слезами, закручивается в спираль, падает в черные дыры, несется в тартарары, пробивает головой пространство и время, умирает, воскресает, перерождается, страдает… Пусть. Конечно, я мог бы не разжимать кулак. Я мог бы держать ее крепко-крепко. Я мог бы отнести ее домой и запереть на замок. Я мог бы заставить ее жить по моим правилам. Но я не буду этого делать. Я говорю ей: «Лети! Свободна!»
Рассказы
БОЛЬШОЙ МАЛЬЧИК
Первым делом следовало завезти холодильник. Цепочка выстраивалась такая: у младшего брата была жена, а у жены родители, чудные, между прочим, люди, раритеты. Никому ни в чем не могли отказать. У чудных людей был лишний холодильник, тоже раритет. Пузатый допотопный «ЗИЛ» с порядковым номером 007 звался, разумеется, Джеймсом Бондом и стоял в комнате, набитый консервными банками. То есть для чудных людей он, может, был и не совсем лишним, но, вы же понимаете, одно дело, когда нелишний, но второй, и совсем другое, когда вообще ни одного. К тому же они действительно никому ни в чем не могли отказать.
— Так вы правда переезжаете? — радостно спросила теща младшего брата, когда Марк позвонил по поводу холодильника. — И что, хорошая комната?
Комната, если честно, была отвратительная. Метров девять, вытянутых вдоль унылой масляной стены мышиного цвета. Комната, похожая на дистрофика: профиль есть, а фаса не наблюдается. Но ему-то какая разница? Ему главное, что он один. И с холодильником. Этот холодильник стал уже навязчивой идеей. Ему казалось, что если будет холодильник, все каким-то чудесным образом повернется и пойдет по другой колее. Без кровати можно жить. Брось на пол матрас и спи. Без стола можно. Поставь на подоконник тарелку и ешь. Вот без холодильника нельзя. Холодильник — вместилище жизненных сил. Куда поместить кусок колбасы в сорокаградусную жару? За окно, пожалуй, не вывесишь. За батарею тоже не запихнешь. Нет, без холодильника начинать новую жизнь решительно невозможно.
Когда холодильник привезли, он велел поставить его посреди комнаты. Сел на пол и стал на него смотреть. «Буду жить!» — думал.
Любовь, конечно, была. Нет, правда. Он точно помнил — была. Помнил даже, какого цвета. И на ощупь помнил. Сливочная, мягкая, с рыжеватыми кудельками, с носиком курносым, с милыми редкими конопушками. Он тогда не знал, что любовь бывает разная. Он думал, она всегда такая. Еще не знал, что любовь всегда одна, что две в него не помещаются, что придется их чередовать — иногда встык, чаще с пробелами, а внахлест не получится. Даже не старайся. Любовь звали Любочкой. Когда Любочка выходила из заводской проходной и шла к нему через улицу, кудельки прыгали в такт шагам, как резиновые мячики. Ситцевое платье в мелкий розовый цветочек так плотно обтягивало грудь, что вызывало у него, глядящего издалека, легкий приступ удушья. Не потому, что грудь такая, просто казалось — сейчас она выдохнет, а вдохнуть не сможет. Некуда. Он за Любочку первое время вообще очень боялся. За коленки, например. Коленки были абсолютно круглые, будто циркулем прочерченные. По этой причине Любочка ими очень гордилась и даже в лютый мороз держала открытыми. Юбки у нее всегда были чуть короче, чем надо, а чулки — самые дорогие, по два двадцать пара. Рейтуз она не признавала, и зимой коленки становились похожи на две красные детские щечки. Он смотрел и умилялся. В этом умилении было все: желание погладить, укутать, поцеловать, отругать за то, что так безалаберно к себе относится. Потому что еще чуть-чуть, градуса два-три, коленки возьмут и отвалятся. И с чем он тогда, скажите на милость, останется? А летом, конечно, дежурное ситцевое платье в мелкий розовый цветочек. Ее страсть к розовому, так шедшему к курносому носику и редким конопушкам, с годами не прошла. Он сначала не замечал. Потом увидел: сидит на кухне немолодая женщина в коротеньком розовом халатике и кудельках, коленки, как брыли у породистой собаки, сползают вниз, посреди щек — пимпочка. Это его жена. Смешно.
Работали они вместе, но уходили всегда порознь. Весь завод знал, что он ждет ее на другой стороне улицы, но Любочка все равно стеснялась. Говорила:
— Ты образованный. Молодой специалист. У тебя родители. А я что? Я ничто.
Образование у него действительно было. Три месяца как из автодорожного. Красный диплом. Молодой специалист, и тут она права. Инженер. Родители тоже имелись. Не так чтобы сильно страшные, но Любочка все равно их боялась. Мать со своим библиотечным образованием уже лет десять как сидела дом. Брат — шалопай. Отец. Отец — это да, это отдельная статья. Отец, большой специалист закройного дела, еще Вертинскому сажал на воротник бобра. И разным крупным советским писателям тоже. От этих крупных писателей в доме остались книжки с автографами. Отдельных денег за своих бобров отец никогда ни с кого не брал, шил в рамках прейскуранта того маленького ателье, в котором трудился с послевоенных времен и в котором известные величины пользовались его исключительными услугами. А книжки — это да, это можно. Книжки заполняли несколько полок в шкафу, и куда их девать, что с ними делать, никто придумать не мог. Не читать же. Любочка ходила вдоль полок. Отец шел сзади, поджав узкие губы.
— Вот личный автограф писателя Соболева. Он у меня в пятьдесят шестом году строил костюм. Замечательного качества шевиот. Очень известный писатель. Вы слышали?
— Слышала, — пищала Любочка, но всем было ясно, что ни о каком писателе Соболеве она слыхом не слыхивала и, как на него реагировать, не представляет.
Марк шел за отцом и понимал — катастрофа. То, что катастрофа, стало ясно сразу, как только Любочка появилась на пороге в свой розовый цветочек. Мать — умница, друг детства — сделала вид, что ничего не происходит. Увела Любочку на кухню, начала рассказывать про какое-то мясо в кляре. Но отец и туда проник.
— Что ж ты гостью у плиты держишь? Вы, Люба, в гостиную идите, располагайтесь. Там мы с вами и поговорим.
И посмотрел специальным взглядом. После приглашения располагаться Любочка совсем оцепенела и на вопросы отца отвечала придушенным голосом. Нет, институт не кончала. И техникум тоже. Десятилетка. Отца нет, мать одна растила. Кассирша в продуктовом магазине. Да, зарабатывает неплохо, а живут в коммуналке, у них там комнатка двенадцать метров.
Отца все эти подробности занимали, как занимали любые подробности любой жизни. Он вообще подробности любил и сам со вкусом в мельчайших деталях рассказывал случаи, происшедшие с ним лет 20 назад. Не в подробностях дело. Не в десятилетке. Не в коммуналке. Не в маме-кассирше. Отца такие мелочи смутить не могли. И вопросы он задавал дежурные, ненужные, неживые. Потому что сразу поставил диагноз — чужая. Не так он представлял невесту старшего сына. А чужих не любил. Любочка — простая душа, но все поняла. Когда шли к метро, вдруг расплакалась.
— Ты что? Что? — переполошился Марк. — Не понравились они тебе? Не понравились? Скажи!
— Мам-м-м-ма у тебя хоро-о-ошая!
— Значит, отец.
Любочка молчала, всхлипывала и жалась к нему.
— Ты еврей, — сказала наконец.
— Ну да, — засмеялся он. — Я знаю.
— Не смейся. Я тебе не гожусь.
— А я тебе?
Любочка слабо улыбнулась и прижалась к нему плечом.
— Мне все равно, — прошептал он ей на ухо, но это была неправда.
Отец молча поджимал губы. В упрямстве у него дома соперников не было, и в этом деле они его тоже не переупрямили. Это потом он помягчел. Приезжал к ним раз в месяц, инспектировал хозяйство. Учил Любочку жизненным принципам.
— Кран течет. Надо водопроводчика вызвать.
— Уже вызвали.
— Вот тебе тетрадочка. — Он протягивал Любочке крошечный, в четвертушку тетрадного листа блокнотик. В таких блокнотиках школьники обычно ведут словарь иностранных слов.
— Зачем?
— Запишешь, кто приходил, когда, что сделал. Имя, фамилия, число. А как иначе? А вдруг опять потечет? А кому претензии предъявлять? И пусть распишется. Слышишь? Пусть обязательно распишется!
Любочка кивала, тетрадочку брала, клала на видное место. Когда приходил водопроводчик, о том, что велено взять его на карандаш, забывала и весь день чувствовала себя виноватой.
Но все это было потом. Потому что на свадьбу отец так и не пришел. А свадьба получилась хорошая. Очень хорошая. Мама плакала. Теща-кассирша просидела весь вечер за столом, ни разу не встав и не сказав ни слова. Любочка была похожа на нее фотографически, как будто никакой отец там действительно не ночевал. В белом платье с короткой — по моде — пышной юбкой, с легкой газовой накидкой на плечах она была как лютик в хрустальной вазе. Отца она быстро простила. Почти сразу. Завела обычай — каждый день утром и вечером звонить свекру и свекрови. Докладывала подробно: сколько, почем, что на обед, когда легли, с кем говорили, что у мамы. Марку, конечно, от этого большое облегчение выходило, но вот чего он понять не мог: как можно такое простить? Будто ничего и не было? Будто самый любящий свекор и самая послушная невестка души друг в друге не чают? Что это — Любочкина великая к нему, Марку, любовь, или незлобивость характера, или простота, которая не желает понимать очевидного, или жизненная мудрость? Наверное, и то, и другое, и третье. Много разных сложносочиненных свойств оказалось намешано в ситцевой Любочкиной душе. Отец — добрейшей души человек, всю жизнь как щитом прикрывавшийся строгостью и принципами, — после своего демарша чувствовал себя неловко, пакостно чувствовал, если честно. И с Любочкой был особенно ласков. Так и повелось: Любочка — лучшая жена, лучшая невестка, лучшая дочь. А всяких ненужных разговоров про еврейских родственников, уехавших в Америку и Израиль, про то, как в уездном детстве ходил в хедер, отец при ней никогда не заводил. То есть так-то он не стеснялся и всякие непонятные словечки на мертвом языке идиш подпускал в речь с большим удовольствием, но при Любочке — ни-ни. Не хотел подчеркивать ее чужеродность. Марк был ему за это благодарен. А Любочка, кажется, и не замечала ничего.
А жили очень хорошо. Ну просто очень. Сначала — в постройке барачного типа, но это не считается. Когда родилась Лялька, на заводе произошло какое-то шевеление, и однажды утром они неожиданно оказались втроем в двухкомнатной квартире. Не ближний свет. Но это уж как водится. Сначала по узенькой дорожке, протоптанной между деревьями, до станции, потом на электричке полчаса до Комсомольской площади, минут двадцать на метро, а там автобусом до конечной — считай, до заводских ворот, очень удобно. Если грамотно рассчитать время и точно следовать расписанию, не больше полутора часов в одну сторону. А то и час двадцать. Через год Марк купил горбатый подержанный «Москвич», и жизнь потекла под колесами, как хорошо утрамбованное шоссе.
С рождением Ляльки Любочка перешла с первого лица единственного числа на первое лицо множественного. «Мы гуляли», «мы покушали», «мы плохо спали ночью», «у нас поносик», «нам завтра к врачу». А Марка стала звать «папочкой».
— Вот и папочка пришел! А мы картошечку сварили! У нас сегодня зубик режется!
При чужих тоже:
— Папочка, хлеба передай!
Марк дергался. Ему казалось, что этим своим «мы» она стирает себя, как ластиком. И нет уже Любочки — только кормяще-производящая приставка к Ляльке. Кормящей приставке не полагалось ни мыслей, ни чувств, ни желаний. Странно, что имя осталось. А что ей еще оставалось делать, кроме как пеленки стирать, попку мыть, зубки считать в слюнявом ротике? Хорошая мать. Но его это как-то не вдохновляло. А «папочку» он просто ненавидел. Какой он ей, к черту, папочка! Здоровый мужик, двадцать семь лет и — «папочка»! В этом «папочке» ему чудилось что-то бесполое, уничтожающее его молодость и мужскую самоценность. А он никаким придатком ни к кому быть не собирался. Однажды намекнул Любочке, что, мол, хорошо бы она звала его по имени, как раньше. Она кивнула, но через минуту он уже слышал, как она говорит кому-то по телефону:
— Сейчас у папочки спрошу. Может, и приедем.
Видимо, других слов у Любочки для него больше не было.
Когда Лялька подросла, Любочка снова перешла на первое лицо единственного числа, а «папочка» так и остался.
Денег он ей почти не давал. Когда она еще работала, жили на ее зарплату контролера ОТК. Потом — декрет. К декретным он выдавал строго отмеренное количество на питание и квартплату. Так еще отец поступал. Мать билась, экономила на своих женских штучках — хотя слово «штучки» к ней вовсе не применимо, никаких «штучек» у нее отродясь не было, а женское было. Ощущение. Вот на этом ощущении она и экономила. В Любочке женского было меньше. Она сначала была матерью, потом хозяйкой, а на десерт — женой и любовницей. Винегрет резала — загляденье! Меленько-меленько, кусочек к кусочку, как он любил. Рыбку сама солила. В садово-огородный ландшафт родительской дачи вписалась так, будто выросла среди лука-порея и картофельных клумб — отцовской неизбывной гордости. Каждую пятницу они загружали в «москвичок» Ляльку с пеленками и сосками, в багажник — провиант и ехали на трудовую вахту. Любочка бралась за дело сразу. Ему иногда казалось, что еще сидя в машине она начинает делать руками странные движения, будто что-то полет или вскапывает. Август и сентябрь посвящались заготовкам. Любочка в своем стареньком ситцевом платьице, с каждым годом все туже обтягивающем ее сливочную плоть, возвышалась над этим изобилием как царица плодородия. Консервировали все — яблоки, сливы, черноплодку, клубнику, вишни, кабачки, чеснок, огурцы-помидоры, само собой. Даже груши-дички, которые в рот никто не мог взять, шли в дело, на компот, довольно, кстати, безвкусный. На банки наклеивались кусочки лейкопластыря с надписями, выполненными отцовским каллиграфическим почерком человека, которому в жизни мало приходилось писать, и оттого каждое написанное слово имеет для него особую ценность. «Сироп черноплодный. Сбор урожая 1972 года», — писал отец и потом, года через два, вытаскивая бутылку с сиропом перед очередным семейным праздником из холодного шкафа, сооруженного под кухонным окном, горделиво показывал собравшимся — вот, мол, два года, а как живая черноплодочка-то. Сейчас разбавим и будем пить. Свое. Вкусное. Полезное. Такое, как нигде. Очень он любил эту черноплодную и прочую фруктово-овощную живность.
— В семьдесят втором десять бутылок сиропа сделали. А в семьдесят первом только семь, — вспоминала мать.
— А в этом? — вмешивался отец. — Нет, ты им скажи, скажи! Двенадцать! Двенадцать бутылок сиропа!
— А зачем вам двенадцать? — подавала голос жена младшего брата. Она хозяйства не вела и от заготовок дистанцировалась сразу, так что ее даже привлекать не пытались. В семье она числилась на правах внучки. — Вы же старое еще не выпили.
— Вам дадим, Марку с Любочкой, родителям твоим. Плохо? Нет, ты скажи, плохо?
В конце июля уезжали на Валдай. Вот куда уходили недоданные на хозяйство деньги. А байдарка? А палатка на шесть персон? А спальные мешки финские? А мангал? А покрышки для новой «Волги»? А рыболовные снасти? Крючки, лески, наживки? Спиннинг у него был лучший в компании. А в трехэтажном ящичке, разделенном на множество крошечных ячеек, лежали металлические рыбки всех цветов и размеров. По вечерам, открыв ящичек, Марк перебирал этих рыбок. Гладил пальцами, подносил к глазам, перекладывал из ячейки в ячейку. На металлических рыбок он ловил живую рыбу. Между прочим, было чем похвастать. Любочка эту рыбу солила, коптила, вялила, укладывала ровными слоями в переносной холодильник, а в Москве, на следующий день после приезда, везла на дачу родителям. Однажды Марк услышал, как она говорила подружке:
— Нужна мне эта байдарка! Лучше бы стиральную машину купил.
— Что же ты ему не скажешь? — спрашивала подруга.
— Не-е-ет, — тянула Любочка. — Ты что, нельзя!
— Почему нельзя?
— Ему нужнее.
Лялька подрастала и становилась похожа на Любочку. Однажды отец принес ей шоколадку «Аленка». «Вот, — сказал, — смотри, какая девочка нарисована. На тебя похожа». С тех пор Лялька свято верила в то, что на шоколадке «Аленка» нарисована именно она.
— Шоколадка ты моя молочная! — смеялся Марк.
Лялька важно кивала рыженькой Любочкиной головкой, хлопала голубыми Любочкиными глазенками и перебирала передник молочной Любочкиной ручонкой. С годами она тоже стала сливочной. Только Любочка была мягкой, а Лялька — твердой. Как подмороженный кусочек масла, только что вынутый из холодильника.
Счастье их длилось долго. Ровно десять лет.
Сначала никто ничего не заметил. Потом пошли разговоры, но он о них не знал, да и не мог знать. Потому что знание еще не пришло. То самое — о самом себе, а не о разговорах. Дружок Витька как-то спросил:
— Ты чего туда ходишь?
— Куда? — удивился Марк.
— В контору.
Так на заводе называли дирекцию.
— А я хожу?
— Ты что, дурак? Весь завод знает.
— Что знает?
— Н-да… — Витька покрутил пальцем у виска и демонстративно вздохнул.
И цвет жизни. Цвет жизни, между прочим, менялся. Уходили пастельные тона, рыжина, солнечность, яркость куда-то уходила. Появлялось все больше темных пятен. Не мрачность, но сумрачность заливала жизнь, как черная тушь заливает белый лист бумаги. Получалось так, что раньше жизнь была одноцветной, а теперь разделилась на две части, никак между собой не связанные. Еще получался парадокс. Светлая часть жизни — такая простая, ясная, ситцевая — его отталкивала, а темная влекла, как влечет самоубийцу черный провал окна. Скучно ему было на свету, а в темноте кружилась голова. Ведь в темноте не знаешь, куда поставить ногу. Кажется, ступишь и провалишься в яму со всеми своими потрохами.
А дела в дирекции всегда можно найти. Самые неотложные. Бумажку подписать. Узнать, не собираются ли давать премию. Выяснить, когда детей вывезут на дачу. Про премию можно, конечно, в бухгалтерии справиться. Про детей — в месткоме. Но ведь и в дирекции не возбраняется.
Нина сидела у окна. Темные гладкие волосы. Темные гладкие костюмы. Темные гладкие глаза. Глаза, ничего по поводу него, Марка, не выражающие. Говорили, что она полугрузинка, что полжизни прожила в каком-то горном захолустье, что вышла замуж в Москву, что муж в конце концов сбежал, потому что жить с ней — все равно что целоваться со стенкой. Достоверно никто ничего не знал. Нина про себя не рассказывала. Других не расспрашивала. Дружб не заводила. Даже курила одна. Точно было известно, что не замужем. Так значилось в учетной карточке отдела кадров. Что имеется дочка, Танечка. Один раз она приводила ее на заводскую елку. Нина сидела у окна, но казалось, что стекло находилось не за ней, а перед. Вечерами она сливалась с густой, как похлебка, темнотой, и о ней забывали. Потом включали свет и с удивлением обнаруживали, что в комнате имеется еще один человек, о котором чуть было не начали сплетничать. Как только удержались? Нина была создана для сплетен. Казалось, она сама их провоцирует. Испытывает окружающих на прочность. Только сама она об этом не догадывалась.
А тут еще он. Приходил перед концом работы, вставал в дверях, смотрел на слившуюся с окном Нину — в то лето каждый день шли грозы и за окном с утра было темно, — на белые ладони, похожие на бумажные листки, на длинные белые пальцы, похожие на бумажную бахрому. Думал: «Если окно распахнется и ветер сдует пальцы на пол, они не упадут, сначала полетают немножко на сквозняке и пошелестят. Может, в крылья превратятся?»
В ту пятницу он ждал ее у проходной. Увидел знакомый зонтик. Подошел.
— Давайте я вас подвезу.
— Зачем?
— Ну… дождь… холодно…
— Спасибо. Не надо.
— Давайте, а?
Он чувствовал, что говорит как-то не так — с какой-то просительной, даже умоляющей интонацией, так ему несвойственной, но поделать ничего не мог.
— Ну хорошо. — Она пожала плечами. — Подвезите.
Ехали молча. Он уже знал, где она живет, поэтому ни о чем не спрашивал. На перекрестке она тронула его за рукав:
— Вот здесь остановите. Дальше я сама.
— Так далеко же. Я лучше к подъезду. Я знаю, тут есть проезд, — засуетился он, выдавая себя с головой.
— Не надо. Мало ли что…
Это «мало ли что…» он потом слышал каждый день. Вдруг соседи увидят, или на работе узнают, или… мало ли что.
— Пойдем в кино?
— Ой, нет! Мало ли что!
— Что?
— Ну, ты сам подумай. Последствия… а если…
У нее всегда было маленькое «а если…». Любая житейская ситуация — поход в кино, поездка за город, визит к врачу или — не дай Бог! — смена работы — обрастала массой привходящих обстоятельств. Она просчитывала варианты, предугадывала последствия и всегда находила причины. Причины невозможности. Их встречи сопровождались массой подготовительных маневров. Оставить Танечку в детском саду. Позвонить маме, чтобы сама не звонила. Выйти из машины за квартал от дома. Первой взбежать по лестнице и махать ему сверху рукой, мол, давай, проход открыт, только — тсс! тихо! И прикладывать пальцы к губам.
В первый вечер, когда она выходила из машины, он вдруг схватил ее за руку.
— Я вас завтра буду ждать. У проходной.
— Не надо!
Но назавтра он стоял на том же месте, где десять лет назад ждал Любочку. Нина вышла последней. Конторские дамы уже давно разошлись. Увидела его, поспешно раскрыла зонтик и побежала вдоль забора, смешно подняв одно плечо, будто этим плечом хотела себя отгородить. Он дал два гудка, но она еще больше ссутулилась, еще быстрее застучала каблучками, словно, спотыкаясь, играла какую-то неумелую, неловкую гамму. Он догнал ее у поворота, выскочил из машины, запихнул в салон. Больше она от него не бегала.
Она определила ему понедельник, среду и пятницу. Сидела у окна, сливаясь с темнотой, чуть наклонив голову так, что освещенной оказывалась только щека. Улыбалась одной стороной лица. От этого казалось, что она надела на лицо две половинки маски. Одна — с опущенным ртом — в тени. Другая — с приподнятым — на свету. Улыбаясь, вертела в руках карандаш. Молчала. Потом вставала, ставила на стол чашки. Чашки скрипели в руках — она их мыла каким-то зверским порошком. Боялась микробов. Он смотрел на улыбку, на щеку, на карандаш, скрипел чашкой и чувствовал, как внутри поднимается глухое раздражение. Что он здесь делает, в этой сумрачной комнате, где единственный источник света — торшер — и тот прикрыт толстой вязаной шалью? Вскакивал. Начинал мерить комнату шагами. Останавливался возле ее кресла.
— Как дела на работе?
— Как сказать…
Это было еще одно любимое выражение — «как сказать…». Она никогда ничего не говорила прямо. На все существовало два мнения. Везде был свой минус. «Как дела на работе?» — «Как сказать. Может, ничего, может, не очень». «Интересная книга?» — «Как сказать. Может, да, может, нет». Чаще выходило, что нет. Свои отношения с миром она строила по принципу отрицания. Мир отвечал ей взаимностью.
На день рождения он принес ей духи. Торжественно развязал нелепый елочный бант, развернул хрустящую бумажку, вынул коробочку, встал на одно колено и на раскрытой ладони — как драгоценность — поднес ей. Она взяла, прочитала надпись, и лицо ее вдруг приобрело какое-то странное, трагическое и упрямое выражение.
— Ты меня убил! — прошептала она.
— Убил? — Он ничего не понимал.
— Убил, — повторила она, глядя на него так, как будто он принес известие о чьей-то смерти. — Это же настоящие французские духи!
— Ну да. Настоящие. Французские. Духи.
— И, как ты думаешь, я должна относиться к тому, что ты тратишь такие деньги?
— Не знаю. Отнесись как-нибудь. Может, спасибо скажешь?
— Спасибо, спасибо. — Она помолчала. — Больше никогда этого не делай.
Больше он никогда этого не делал. Смотрел на нее с отчаянием, сжимал кулаки, разворачивался, хлопал дверью. Через день приходил снова.
А с Танечкой она его так и не познакомила.
— Почему? — допытывался он.
— Ну как ты не понимаешь? Такая травма для ребенка! Я даже не знаю, как она переживет!
— А на пятидневку не травма?
— Тсс! Тихо! — Палец к губам. — Как я ей объясню?
— Зачем объяснять пятилетнему ребенку?
— Ну как ты не понимаешь?
— Если бы у тебя была собака, ты бы и ей не знала как объяснить, — говорил он и устало тер переносицу.
Однажды не выдержал.
— Ты же всех мучаешь! Всех! И меня, и себя, и… — Хотел сказать «Танечку», но к тому времени имя дочери уже было под запретом.
— Человек должен мучиться.
— Зачем?
— Затем, что если не мучиться, то не переживешь жизнь. Так, проскользишь по поверхности.
— Идиотские бредни! Ты это нарочно? Нарочно, да? Скажи! — Он схватил ее за плечи, затряс. Она улыбнулась одной стороной лица и приложила палец к его губам. — Ну ладно, ладно, — зашептал он, обхватил ладонями ее лицо и поцеловал в опущенный уголок рта.
С ней хорошо было мучиться.
Любочка встречала его в коридоре, забирала зонтик, отводила глаза. Кстати, именно тогда он впервые заметил: сидит на кухне немолодая женщина в коротеньком розовом халатике и кудельках, коленки, как брыли у породистой собаки, сползают вниз, посреди щек — пимпочка. Это его жена. Смешно. Иногда, хлопая входной дверью, он слышал обрывки разговора. Потом — быстрый шепот, звяканье телефонной трубки. Любочка выходила в коридор. «Матери звонила. Жаловалась», — неприязненно думал он, так и не додумав до конца, какой матери — своей или его. Какая разница?
— Ты знаешь… Я вот что… Я, наверное…
Господи, как трудно взбираться по этим ступенькам! Любочка наклоняла голову — ниже, ниже. Теребила пуговку на розовом халатике. Складывала ноги крест-накрест. Прятала под табуретку. На лбу у нее вздувалась вена — раньше ее не было, — некрасивая такая вена, как пеньковая веревка. Он обрывал себя на полуслове, уходил на балкон курить. Через несколько дней начинал снова. Последнее слово никак не давалось. Ему хотелось, чтобы Любочка сама сказала последнее слово, помогла ему, освободила от этой мучительной обязанности, и он злился на нее за то, что решает и никак не решится ее бросить. Он ложился на диван в гостиной, укрывался с головой и отворачивался к стене. Водил пальцем по обоям. Обои были старенькие, серенькие, в лиловую крапинку, десятилетней счастливой давности. «Машка дура» — было выведено на обоях Лялькиным первоклашечьим почерком. Машка была лучшей подружкой Ляльки. «Надо делать ремонт», — думал он и пугался этой мысли. Потому что ремонт делают для того, чтобы жить, а не уходить. «Не надо делать ремонт! — строго говорил он себе, усилием воли направляя мысли по отводному каналу. — Пусть сами делают!» И снова водил пальцем. Натыкался на чернильное пятно. «Надо делать ремонт», — думал, прорываясь сквозь сонную изморозь, и наконец засыпал.
Любочка еще долго шуршала в спальне, и сквозь сон ему казалось, что оттуда тянет прогорклым луком.
Когда он, стоя у окна, собирал сумку, была осень. Любочка уже заклеила рамы, и ему приходилось курить в форточку. В сумку он бросил зубную щетку, бритву и книгу «“Фольксваген-гольф”. Третья модель. Пособие по эксплуатации». Потом отнес сумку в машину и снова поднялся в квартиру.
— Ну вот и все, — сказал он, глядя в стену.
Любочка теребила в руках кухонную тряпку. Он подошел и наклонился, чтобы клюнуть ее в щеку. Любочка дернула шеей, как раненая курица, и вдруг цыкнула зубом. Он резко повернулся, хлопнул дверью и сбежал вниз.
Он увидел ее сразу. Она выходила из проходной в своей доисторической шляпке, похожей на конфету «Сливочная помадка». Торопливо натянула перчатки, оглянулась — нет ли поблизости знакомых, все-таки она многих знала на этом заводе, — споткнулась на последней ступеньке и побежала прочь, низко опустив голову. Сердце сделало сальто-мортале и повисло, оторвавшись от спасительной лонжи здравомыслия. Нина вышла через несколько минут. Увидев его, медленно пошла через улицу. По тому, как она идет, он уже знал, что ему предстоит услышать. Даже слова приблизительно подобрал. «Ты вот что… Ты больше не надо…» — скажет она.
— Ты вот что… Ты больше не надо… — сказала она.
— Почему? Почему?! — Он не заметил, что начал кричать, размахивая руками, как на производственной гимнастике. Она приложила палец к губам и криво улыбнулась:
— Она права… Ты же знаешь, она права.
Он не видел ее лица.
Вечером он позвонил к ней в дверь.
— Открой! — сказал тихо, но она услышала. Стояла с другой стороны, дышала. Потом тихонько отошла от двери, и больше он не слышал ее дыхания.
Мать сидела очень прямо, сложив руки на столе и глядя перед собой сухими колючими глазами.
— Ты!.. Ты!.. Зачем ты это сделала?! Зачем ты к ней ходила?!
— Марк! — строго сказала мать, и он осекся. Перед ним сидела не его, Марка, мать, а Любочкина свекровь и Лялькина бабка. Да что там свекровь, бабка. Не свекровь и не бабка, а просто — Любочкина и Лялькина. Не его. Он вдруг отчетливо понял, что никто здесь его слушать не будет, что здесь есть одни интересы и одни права и принадлежат они не ему. — Отдаю ей должное, она очень достойная женщина. Я, честно говоря, ожидала другого. Она прекрасно меня поняла, — продолжала между тем мать, но, махнув рукой, он уже брел к двери.
Дома он распаковал сумку, сунул в стенной шкаф и прошел в спальню. Любочка лежала, отвернувшись к стене. Он лег рядом и тут же уснул.
Счастье их длилось долго. Целых десять лет.
На двадцатилетие свадьбы был снят ресторан.
— Вот видишь, — сказала Любочка.
— Что — видишь?
— Мы снова вместе.
Он понял. После истории с Ниной все в их жизни шло по-прежнему. Лялька. Рыбалка. Дача. Осенние заготовки. Валдай. Одно только изменилось. Раньше они все делали вместе, а теперь врозь. Например, Любочка моет после ужина посуду, а он быстренько сует все со стола в холодильник. Или другое. Он строит на даче сараюшку, а Любочка — на подхвате. Стоит рядом, подает гвозди, молоток, вот тут, говорит, левее, а тут хорошо, как это только у тебя так получается? Это у них получалось, а после истории с Ниной получаться перестало.
Сразу после своего возвращения Марк затеял ремонт. Делал все сам — как привык. Любочка крутилась тут же, задавала вопросы, давала советы.
— Папуль, а давай обои в спальню купим цветастые, знаешь, с розами такими… розовыми.
— Давай, — отвечал он, морщась на «папуль». — С розами. — И покупал в полоску.
— Пап, а пап, а у тебя тут что, дырка? А заделывать что, не будешь?
— Буду, — отвечал он, с трудом сдерживаясь, чтобы не заорать.
Нет, вместе никак не получалось. Теперь у них в доме были дела Любочки и дела Марка. Любочка мыла посуду, он уходил в комнату. А сунуть масло в холодильник ему в голову не приходило. Так и жили.
Накануне двадцатилетия поехали по магазинам. Надо было спиртное купить — в ресторане дорого, — заодно чего-нибудь в дом, заодно…
— Я ведь тебе еще… еще подарок не сделал. — Слово «подарок» почему-то далось ему с трудом. — Ты что хочешь?
Любочка шла, уцепившись за его рукав и с какой-то девчоночьей гордостью поглядывая по сторонам. Мол, вот я, а вот мой муж, и мы идем в магазин, вместе идем, под руку, а как же иначе? У прилавка она долго топталась, перебирала какую-то ерунду, совала ему под нос картонные полоски, пропитанные сладкими резкими запахами.
— Тебе нравится? Нет? А это?
— Нравится, — отвечал он. — И это. И это тоже.
— Главное, чтобы тебе нравилось, — шептала Любочка.
— Мне? Почему?
— Глупый! — улыбалась Любочка, но он уже сам понимал свою оплошность и злился, как будто кто-то заставил его выдать сокровенную тайну. Действительно, что ему до ее духов!
Духи все-таки купили. Марк повертел в руках коробочку, коротко кивнул, одобряя. Любочка засветилась, ухватила его покрепче под локоть, потащила к другому прилавку. «Настоящие французские духи, — вспомнил он. — Никогда так больше не делай!» Встреть он ее сейчас на улице — не узнал бы. А глупости всякие, как осколки битого стекла, царапают до сих пор. Больно.
Гостей встречали у парадного входа. Марка засунули в черный костюм. В нагрудном кармашке — маленький белый платочек. Он от этого платочка долго отбивался, но ничего не вышло, пришлось стоять с платочком наперевес. Любочка в красно-белом платье с широкими косыми полосами была похожа на флаг неизвестной, но дружественной державы. Платье развевалось на ветру, открывая круглые белые, как булки, коленки. Марк старался на эти коленки не смотреть.
А годовщина получилась очень хорошая. Ну просто очень. Мама плакала. Теща весь вечер просидела поджав губы. Лялька носилась по залу, крутила круглой попкой. Витька — старый болван! — привел девчонку. Девчонка эта почему-то все время попадалась Марку на глаза. Он на нее как будто все время натыкался. И спотыкался. У девчонки всего было много. Глаз, ресниц, рта, зубов, волос. Попка, такая же круглая, как у Ляльки, обтянутая коричневыми брючками, мелькала в разных концах зала — он не успевал поворачивать голову.
— Как зовут? — спросил у Витьки, когда они вышли покурить на улицу.
— Майка.
— Откуда взял?
— Из института повышения квалификации.
— И что она там квалифицирует?
— В основном коллекционирует. И классифицирует.
— Ага, ясно. Сколько лет?
— Тридцать пять.
— Сколько?!
— А ты что думал? Восемнадцать? — Витька хохотнул и саданул его лапищей по спине.
— У вас серьезно?
Витька с удивлением посмотрел на него:
— Серьезно-несерьезно… А ты что это вопросы задаешь?
— Да так.
— Так… ты вот что… ты не забывай, у тебя сегодня все-таки годовщина свадьбы. Большой, между прочим, мальчик.
— Большой, — согласился Марк. — Но глу-у-упый!
Подошла Майка, положила руку на Витькино плечо, чмокнула его в щеку, глянула на Марка мохнатыми глазами. «Пчела Майя», — подумал Марк.
У Майки был легкий характер и тяжелая семейная ситуация. Во-первых, ребенок. Ребенок шести лет по имени Ванька жил с бабушкой. Во-вторых, бабушка, Майкина мама. Бабушка жила с Майкой. Вроде бы они жили втроем, но почему-то так выходило, что Майка жила сама по себе, а Ванька с бабушкой — сами по себе. Еще у Майки был Котэ, старый грузинский друг. Старый грузинский друг возил Майку на курорты, кормил сациви и жареным сулугуни, по выходным лежал на ее диване, почесывая волосатое пузо, однажды купил шубу и кольцо. Майка считала его номером один. Бабушка мечтала, чтобы она вышла за Котэ замуж. Еще у Майки был Витька. Витька таскал Майке картошку, возил ее с Ванькой на подмосковные лужайки и кормил мороженым. Еще он часами трепался с ней по телефону, в рабочее, между прочим, время, и хохотал так, что время от времени на него падал кульман. Майка считала его номером два. А замуж Майка так ни разу и не сходила. Просто не успела. Недосуг.
По дороге домой Витька рассказывал Марку о старом грузинском друге.
— Ты представляешь, он, когда у нее остается, Ваньку с бабкой к соседям отправляет! Говорит: «Не могу при ребенке!»
— Она что, тебе это рассказывает?
— Ага.
— И ты терпишь?
Витька пожимал плечами. Ему было все равно. Через месяц Марк позвал его на футбол. Можно было, конечно, и на работе поговорить, но футбол — это все-таки очень мужское, очень личное, когда только вдвоем и никто, кроме них двоих, не имеет права на этот дележ. Витька размахивал руками, вскакивал со скамейки, орал всякие глупости, приставив ладони ко рту и выпучив глаза. Марк поглядывал на него искоса, тоже поднимал руки, чтобы помахать, прикладывал ладони ко рту, издавал какие-то звуки. По полю бегали люди в полосатых майках. Пинали мяч. Он смотрел на них и не видел. «Два — ноль!» — орал Витька и пихал его в бок.
— Знаешь… — сказал он, когда они уже брели к метро.
— Знаю, — ответил Витька. — Мне уйти?
— Уйди.
— Ты точно решил?
— Я ничего и не решал.
Витька вздохнул, вытащил сигареты, сунул Марку под нос. Они постояли, покурили. А Витька что? Витька ничего. У него таких Маек… И еще будет.
С Майкой было легко. После работы он мчался к институту повышения квалификации. Майка выбегала из крутящихся дверей, неслась через дорогу, теряла шлепанец, возвращалась, поддевала его большим пальцем, ловким клоунским жестом закидывала обратно на ногу, притоптывала каблучком, подпрыгивала, снова неслась через дорогу, плюхалась на переднее сиденье и впечатывала губы в его щеку. Они ехали за Ванькой в детский сад, потом по магазинам, потом ударяли по мороженому, потом домой, быстро жарили картошку или варили макароны, пили «Хванчкару», оставшуюся после старого грузинского друга. Запасы «Хванчкары» кончались. Старый грузинский друг больше не появлялся. «И не появится!» — думал Марк, с наслаждением вытягиваясь на Майкином диване, застланном пестрым желто-оранжевым одеялом. У нее все было желтое и оранжевое. Оранжевая жизнь. Как в песенке.
Когда он впервые остался у нее ночевать? Через неделю? Две? Он точно не помнил. Помнил только, как позвонил Любочке.
— Я не приду, — сказал коротко.
— Ты у Вити?
— Нет.
Любочка задышала, приготовилась плакать. Но он молчал, и она затихла тоже. Марк подождал и, не дождавшись отклика, аккуратно положил трубку на рычаг. Больше он ей не звонил. У Майки оставался все чаще. Домой приходил все реже. Любочка наклоняла голову, теребила пуговку на розовом халатике, складывала ноги крест-накрест, прятала под табуретку. Он ложился на диван в гостиной, укрывался с головой и отворачивался к стене. В доме пахло прогорклым луком. Однажды он поймал себя на том, что водит пальцем по обоям. Обои были старые, он сам их клеил десять лет назад, когда вернулся от Нины. «Надо делать ремонт», — подумал он и испугался. Ему вдруг показалось, что история пошла по второму кругу. А еще одного такого забега он бы не выдержал.
Утром он вышел на кухню, положил на стол сберкнижку — ту самую, где и палатка, и байдарка, и спиннинг, и металлические рыбки в трехэтажном ящичке, — придавил сверху ключами.
— Ну, я пошел! — сказал весело и хлопнул дверью.
Он стоял за углом дома и ждал, когда она появится. Еще пять минут… Три… Одна… Майка выныривала из метро, и он каждый раз поражался тому, как меняется пространство вокруг нее. По бокам — нет, не серое, даже цветное, но слегка выцветшее, что ли, обыкновенное, докучливое. Майка шла среди этого докучливого, будто заключенная в капсулу с расплавленным янтарем, облитая сладким растопленным медом. За ней тянулся такой же медовый след. Все — люди, дома, машины, собаки, пыльный июльский асфальт, мусорный бак в соседнем дворе, валяющийся поодаль хвост селедки — вдруг наливалось янтарным медовым светом. Он выступал из-за угла, протягивал руку и окунал ее в этот теплый поток. Рука тяжелела, пальцы щекотало, в голове начинало звенеть.
— Пойдем, — говорил он. — Пойдем!
И тащил ее в подъезд. Майка хохотала, делала вид, что сопротивляется, упиралась ладошками ему в грудь, он хватал ее на руки и нес наверх.
— Мы тут! — кричала Майка, когда они, распаренные и пыхтящие, вваливались в квартиру.
На крик выбегал Ванька, вис у них на руках, хватал Марка за ремень, Марк подхватывал его тоже, втроем они падали на диван, дрыгали ногами, задыхаясь от смеха, Марк прижимал их к себе — сильнее, сильнее… Потом Майка быстро вскакивала, хватала Ваньку под мышки, выставляла в коридор и плотно закрывала дверь.
По ночам они валялись просто так, курили, болтали, следили, как бродит по потолку лунная дорожка. Марк брал Майкину руку и водил указательным пальцем по своему лицу: от волос вниз по лбу, вдоль бровей и дальше — вокруг глаз, к носу, палец опускался ниже, он прикусывал острый коготок, Майка вскрикивала и хватала его за нос. Нос немедленно вспухал, из глаз катились слезы.
— Прекрати! — кричал он. — Мне же завтра на работу!
Почему-то это ужасно ее смешило.
И дыхание. Дыхание было легкое. Такое легкое, будто ему опять двадцать лет.
А самое страшное — субботнее утро. Он просыпался, уже зная, что увидит на кухне Майкин затылок. Вставал. Полз в ванную. Долго чистил зубы. Выходил на кухню. Приваливался к косяку.
— Ну, Май… — говорил он. — Ну, Май…
Майка, не оборачиваясь, жарила яичницу. Затылок ее с подколотыми кверху утренними выходными волосами выражал какое-то суровое презрение.
— Ну ты же знаешь… — мямлил он и шел одеваться.
В машине долго сидел с включенным мотором. Медленно выезжал со двора. Медленно ехал. Долго парковался. Медленно выходил. Медленно поднимался по лестнице.
Любочка ждала его в прихожей. На полу — сумки с продуктами. Смена постельного белья.
— Так, — говорила деловито. — Еще в хозяйственный за порошком, и мать просила валокордину. Да, отцу газеты, не забыть бы.
Он запихивал сумки в багажник и тоскливо глядел на тюк с бельем. Спали они на втором этаже. То есть второго этажа как такового не было. Был чердак, где отец хранил всякую дребедень. Когда они с Любочкой поженились, на чердак втащили старый бабушкин диван, забросали сверху спальными мешками, получилось ничего, даже спать можно. Диван был двукрылый. Крылья от старости стояли стоймя, и во сне они, как с горки, скатывались в ложбинку между двумя половинками. В этой ложбинке на пыльном дачном чердаке они спали свое двадцать первое лето.
С утра Любочка выходила на садово-ягодные работы. Мать вставала к плите. Отец раздавал указания. Марк возился в сарае, что-то там строгал, пилил, точил. Старался не попадаться им на глаза. Обедали на терраске. К обеду приезжал младший брат с женой. Лялька, проводившая на даче последние школьные каникулы, прибегала от подружек. Отец поднимал рюмку с домашней наливкой. Строго окидывал взглядом стол. Мать делала незаметный знак, мол, кончайте жевать, слушайте.
— Не все ладно в нашей семье, — размеренно начинал отец. Любочкино лицо наливалось томатным цветом, надувалось, распускалось и начинало мелко дрожать. Младший брат украдкой переглядывался с женой. Лица вдруг становились постными и какими-то неживыми. «Глупость какая!» — думал Марк и отворачивался к окну.
— Не все ладно в нашей семье! — повысив голос и как бы призывая всех собравшихся проникнуться важностью момента, продолжал отец. — Не так я представлял себе жизнь своих детей. Ну да ладно, что я, я уже свое отжил, а у вас еще все впереди. И вот что я вам скажу! — Отец делал паузу, строго смотрел из-под кустистых бровей. — Вот что я вам скажу! Никогда у нас в семье разводов не было. И не будет! — Отец взмахивал рюмкой, будто кому-то угрожая. Наливка выплескивалась на скатерть. Мать хваталась за тряпку. Любочка всхлипывала и цыкала зубом. — Так что постарайтесь это понять. А тебя, — он оборачивался к Любочке, — мы с матерью как родную дочь любим.
Любочка мелко кивала. Марк вставал, уходил в сад. В саду долго курил, прислонясь к яблоневому стволу. Вечером забирался под спальный мешок, закрывал глаза. Рядом в ложбине тяжело ворочался Любочкин бок. 15 сентября он перевез родителей в Москву. Лялька пошла в 11-й класс. Надо было как-то устраиваться.
— Надеюсь, все останется по-прежнему, — сказала мать, когда он выгрузил из багажника последнюю банку с огурцами.
— Что ты имеешь в виду?
— Я имею в виду твою жизнь. Ляля заканчивает школу, ей поступать надо, а она на нервах вся. Ты не видишь, не хочешь видеть, а мы с отцом ее истерики все лето наблюдали. И Любочка… Впрочем, до Любочки тебе дела нет. Тебе ни до кого дела нет, кроме себя и этой твоей…
— Мама!
— Что «мама»? В общем, так. Как хочешь, но по воскресеньям чтобы, как обычно, были у нас. С Любочкой. И на неделе, будь добр, заезжай домой хотя бы пару раз.
Он был добр. Сценарий его жизни вырисовывался такой: после работы домой, то есть к Любочке. У него до сих пор как-то язык не поворачивался говорить «к Любочке», все — домой да домой. И не пару раз в неделю, а почти каждый день. Любочка ему готовила, как говорила Майка, «фронт работ». Фронт работ выходил обширный. Ляльке помочь с уроками. По магазинам. Починить там чего. Картошку на зиму купить пару мешков. У них почему-то при почти производственных заготовительных мощностях никогда не хватало до весны картошки. Морковки, впрочем, тоже. Для картошки он в своем — теперь уже бывшем — гараже вырыл специальный погреб. Несколько дней рыл, потом бетоном заливал, потом мешки туда перетаскивал. После рытья поднимался домой, мылся, Любочка кормила его ужином. Смотрели телевизор, сидя в креслах, симметрично поставленных по обе стороны дивана. Сидели ровно, держа руки на коленях. Молчали. Любочка любила игры, а он — спорт и детективы. Но желаний своих не высказывал. В чужом доме приходится приноравливаться ко вкусам хозяев. Потом он начинал маяться. Поглядывал на часы. Дергался. Наконец вставал, натягивал куртку и начинал топтаться в дверях. Любочка дергала шеей, дрожала лицом. Лялька закрывалась у себя в комнате. Прощаться не выходила. Он выкатывался за дверь, мчался к Майке. Там уже все спали. Майка выбрасывала из-под одеяла сонную руку, тянула его к себе. Он утыкался ей в плечо. «Завтра надо починить Любочке кран», — думал, засыпая.
На день рождения он подарил Любочке колечко с крошечным фианитом. Справляли у родителей. Они всегда все справляли у родителей. И по воскресеньям — как велено! — садились за родительский стол в полном составе. Марк, Любочка, Лялька. На Любочкин день рождения мать назвала каких-то трухлявых старух. Черт ее знает, откуда она их брала. Говорила, отцовские кузины. Марк подозревал, что никаких кузин у отца Отродясь не было, а была неуемная жажда родственности, семейного клана, общих семейных забот и общих семейных радостей. Оба сына в эту общую семейственность не вписывались, даже между собой не очень-то дружили, так что приходилось сгребать в кучу всех имеющихся в наличии бедных родственниц. Соседки тоже годились. Бывшие сослуживицы. Марк всю жизнь чувствовал вину за свою отдельность, поэтому с трухлявыми кузинами обращался с подчеркнутой любезностью. Ручки целовал. Стулья подвигал. Салатики накладывал.
— Не все ладно в нашей семье! — громко говорил отец, когда все рассаживались по местам, и поднимался во главе стола с рюмкой в руках. Любочкино лицо опять наливалось томатным цветом. Соседки переглядывались. Марк вставал и уходил курить.
— Вы не поверите, Марьвасильна! — услышал он как-то из-за приоткрытой двери, когда курил на лестничной клетке. Две бабульки шушукались в коридоре. — Не поверите! Жену любит, просто не может! Кольцо подарил.
— Да что вы!
— Ей-богу, любит! А ночевать уходит к другой.
Марьвасильна качала птичьей головкой, причмокивала, ахала, всплескивала пигментными лапками. Марк появился в коридоре, бабульки посмотрели осуждающе и прошли мимо, гордо подняв цыплячьи хохолки в каком-то непонятном ему порыве всеобщего женского единения. «Они меня обложили, — обреченно подумал Марк. — Придется держать круговую оборону».
Он очень хорошо себе это представлял. Вечером, когда он уезжал, Любочка садилась к телефону. Звонила теще, потом его матери. Докладывала: что сделал, что сказал, что съел, во сколько пришел, во сколько ушел. Мать передавала отцу. Отец брал трубку, уточнял детали. Потом прорезалась теща, высказывала матери свое мнение. У них там целый штаб образовался по изгнанию неприятеля. Разрабатывали тактику и стратегию. Расставляли войска. Однажды Любочка позвонила Майке, сказала что-то обидное и положила трубку. Майка, как всегда, хохотала, называла Любочку «эта, твоя, кура-дура», а он разозлился. Разозлился и испугался. Они нарушили правила игры. Вступили на чужую территорию. Это было нечестно. Теперь, выходило, и ему можно не выполнять их требования. Не ездить на дачу, не спать с Любочкой в одной ложбинке, не сидеть рядом за родительским столом, не чинить кран, не молчать по вечерам перед телевизором. Вот только — они могли нарушить правила, а он нет. Потому что он виноват. А они правы. И не он устанавливал эти правила.
Как-то, подъезжая к Майкиному институту, он увидел, как в толпе мелькнула знакомая шапка с красным помпоном. Выскочил из машины, бросился на этот растрепанный маячок. Лялька стояла за киоском с мороженым, как гусенок вытянув тощую шейку, спрятав замерзшие руки в карманы куртки, переминаясь с ноги на ногу. Он схватил ее за рукав. Она обернулась, дернулась, попыталась вырваться. Лицо у нее стало жалкое — виноватое и испуганное одновременно. Лялька хлюпнула красным носом, опустила глаза и пнула ледышку носком ботинка.
— Ты что тут делаешь?
— Ничего я тут не делаю!
— А если точнее?
— К подружке заезжала… за билетами… к экзаменам.
— Ах к подружке, значит, за билетами. А ну-ка пошли.
Он за шиворот подтащил ее к машине и впихнул в салон.
— Ты что творишь? Ты вообще соображаешь, что творишь? — Ему хотелось ударить по сливочной, слегка обвисшей щеке. Любочка сидела боком, упрямо наклонив голову, как будто бодала кого-то, видимого ей одной. — Ты зачем девчонку подсылаешь? Чтобы она следила? За отцом своим следила? Тебе мало? Нет, ты скажи, тебе мало? Ты же меня в тиски взяла! Ты же родителей против меня настроила, а теперь еще и Ляльку? Ты зачем матери каждый день звонишь, плачешься? Ты зачем Майке звонила? А мать твоя, ей что надо? Что она во все вмешивается?
— Ты не имеешь права! — вдруг отчетливо сказала Любочка.
— На что? На что я не имею права?
— Ни на что. Я твоя жена, законная. А она… она проститутка. Она чужого мужа украла! И квартиру ты не получишь, так и знай! Я тебе ребенка обездолить не дам!
— Значит, обездолить… Ты, наверное, хочешь, чтобы я вернулся, а, Любочка? — вкрадчиво спросил он. — Хочешь, хочешь, я знаю. Я вернусь. — Любочка дернула шеей и сцепила пальцы. — Только ты об этом пожалеешь.
Повернулся и вышел. Возвращаться он никуда не собирался.
На Новый год они с Майкой собирались к Витьке на дачу. У Витьки нарисовалась новая пассия. Был он бодр, весел и безмятежен. «Счастливый, подлец!» — подумал Марк, кладя трубку. Они уже обо всем договорились: где, когда, кто шампанское, кто курицу. «Счастливый, подлец!» — и набрал родителей.
— Хорошо, что ты позвонил! — сухо сказал отец.
— Да как же… да я ж не мог… перед Новым годом… — забормотал Марк. Звонил он им не часто. А от Майки — никогда.
— Хорошо, что ты позвонил! — со странным нажимом повторил отец. — Мать просила купить торт. И с вином какая-то ерунда. Захвати, пожалуйста, бутылку сухого, грузинского.
Марк молчал. Он не был потрясен. Он был раздавлен.
— Алло! Ты что молчишь?
— Папа, — медленно сказал Марк, набрал в легкие воздух, выдохнул и — еще медленнее: — Па-па. Мы-с-Ма-ей-со-би-ра-лись…
— Мы ждем вас к десяти, — как будто не слыша, сказал отец. — Так не забудь вино. — И повесил трубку.
Майка на кухне жарила курицу. Он стоял у двери и смотрел на ее затылок с подколотыми вверх утренними выходными волосами. Затылок дрогнул и повернулся.
— Что? — спросила Майка. — Что смотришь?
Он молчал.
— Нет, — сказала Майка. — Не может быть. Или — да?
Размахнулась и швырнула нож в мойку. Нож зазвенел, и ему почудилось, что в голове у него что-то разбилось и осколки, звеня, раскатились по всей кухне.
— Иди ты знаешь куда! — кричала Майка, стаскивая фартук. Узел затянулся, и она все дергала и дергала за тесемку, и стонала от бессилия, и дергала снова. — Вместе со своими папочками, мамочками, Любочками! Чтобы я тебя больше здесь не видела!
Он подошел к ней, взял обеими руками за голову и прижал к груди.
А Новый год получился хороший. Ну просто очень. Мама сделала фаршированную рыбу. Теща не отрываясь смотрела телевизор. Пили грузинское вино. И торт оказался свежий. «Абрикотин». В общем, праздник удался.
После Нового года что-то у них надломилось. Майка стала суше, исчезла ее леденцовая сладость. Мать ее поджимала губы, бормотала что-то под нос, закрывалась в своей комнате. Ванька дичился, втягивал в плечи головенку, когда Марк протягивал руку, чтобы его погладить.
— Ты давай решай, что ли, — безразлично сказала Майка, пуская в потолок струйки дыма.
— Я решаю.
— Ага, давай, давай, не затягивай.
После работы он по-прежнему мчался к Любочке, возвращался посреди ночи. Майка больше не выбрасывала из-под одеяла сонную руку, лишь чуть-чуть отодвигалась, освобождая ему место, и поворачивалась на другой бок. Начинался дачный сезон. Отец все чаще говорил о том, что из подпола пора откачивать воду, и дорожки чистить, и новые доски покупать, и грузовик с песком, и… В первую весеннюю оттепельную субботу погрузили в машину сумки с продуктами, тюк с постельным бельем, потом за порошком в хозяйственный, потом за новой тяпкой, да, и гвозди. Гвозди не забыть. Любочка сушила на заборе спальные мешки, проветривала чердак, выметала из углов паутину, орудуя шваброй, как штыком. Ночи были еще промозглые, влажные. Они лежали в своей ложбинке и дрожали, боясь прикоснуться друг к другу. Домой он вернулся в воскресенье ночью. Майки не было. Он на цыпочках обошел квартиру, заглянул в ванную и туалет, пошарил в кладовке, зачем-то открыл и закрыл духовку. Майки не было. Он постучал тихонько в Ванькину комнату.
— Тамара Федоровна!
Майкина мать заворочалась в постели, щелкнул выключатель. В свете ночника ее кожа отливала нездоровой тусклой желтизной. Он посмотрел ей в лицо и увидел, что там живет ненависть.
— Что тебе?
— Вы не знаете, где Майя?
— Не знаю и знать не хочу, что там у вас происходит!
Ночь он провел на кухне. Все, как положено в плохих фильмах: курил, пил воду из-под крана, вскакивал на каждый шорох, подбегал к двери, потом кокну, смотрел во двор, прислонясь лбом к холодному стеклу. Майка пришла в семь утра. Хлопнула дверью, бросила на тумбочку сумку, скинула сапоги. В руках у нее был сверток. Она прошла в кухню, не замечая его долговязой фигуры, торчащей посреди коридора. Развернула газету и поставила на стол бутылку «Хванчкары».
— Ты что? — Он захлебнулся словами и долго кашлял, пытаясь вытолкнуть из горла застрявший комок. — Ты что? У Котэ?
— Иди, — холодно сказала Майка. — Умывайся. На работу опоздаешь.
Он прошел за ней в кухню, пустил воду, залил недокуренную сигарету и аккуратно выбросил в мусорное ведро. В комнате залез под кровать, вытащил свой старый матерчатый чемоданчик, покидал рубашки, белье, принес из ванной бритву и зубную щетку.
— Пока! — сказал он, натянув кепку и пальто, и бросил на тумбочку ключи.
— Пока! — ответила Майка, поймала ключи на лету и положила в карман джинсов.
Вечером после работы он приехал к родителям.
— Я у вас поживу, — сказал, затаскивая в квартиру чемодан.
Отец молчал. Надо было объясняться.
— Я у вас поживу, — повторил он, не зная, что еще сказать.
— Выгнали? — спросил отец.
— Сам ушел.
— Почему не домой?
— Не могу. Надо привыкнуть.
— Ну, живи пока, — сказал отец и отвернулся.
Мать бросилась застилать диван.
Через неделю жизни на родительском диване он стоял у входа в Майкин институт. Она выскочила из стеклянных дверей и, не замечая его, бросилась вниз по ступенькам. Пола длинного черного пальто завернулась и хлестнула его по коленям.
— Постой! — сказал он и поймал ее за эту полу. Майка затормозила на полном скаку и уставилась на него. Взгляд у нее был странный: нахальный, веселый и выжидающий. — Садись! — Он впихнул ее в машину.
— Ко мне нельзя! — быстро сказала Майка.
— Котэ? — усмехнулся он.
— Дурак! Мама. — Она протянула руку и провела тыльной стороной ладони по его щеке. Он схватил ладонь и судорожно сжал. Ему казалось, что в руке у него трепыхается воробей.
— К Витьке? — спросил он. Она кивнула.
…Отец встречал его в дверях. Стоял, широко расставив кривоватые непреклонные ноги в выцветших тренировочных штанах.
— Нагулялся? — тихо спросил отец, и Марку показалось, что в руках у него сверкнула пряжка ремня. — Накувыркался со своей… — Отец запнулся, не находя нужного слова. Мать тихонько плакала где-то в районе его локтя. Он слегка повернул голову, глянул сверху вниз, и мать прыснула в комнату.
— Я уже взрослый, папа, — тихо сказал Марк. — Я сам решу, как мне жить.
— Взрослый? Сам решишь? — очень спокойно и даже как будто равнодушно переспросил отец. — Когда у тебя дом свой будет, тогда и будешь решать. А пока у тебя дома нет. Пока ты тут живешь…
«Если скажет «из милости», ударю», — подумал Марк.
— Пока ты тут живешь, решать будем мы. И мы с матерью тебе не позволим использовать нашу квартиру как прикрытие для свиданий с… с проститутками. Не позволим, слышишь? — Он остановился, шумно перевел дух и вдруг закричал: — Вон! Вон! Слышишь? Немедленно вон!
Марк выскочил за дверь, бросился к машине, ткнул ключом в зажигание, еще раз, и еще, ключ срывался, руки тряслись, он сидел, уставившись в лобовое стекло, и не знал, что ему делать с этими трясущимися руками и с этим невключенным зажиганием. И с этим унылым мартовским вечером. И с этим чувством навечного сиротства. И с этой дурацкой любовью, сладкой, как медовый леденец. С тех пор он никогда не ел леденцов.
— Да брось ты! — сказал Витька. — Устаканится. Разводись давай.
— Не могу.
— Почему?
— Лялька несовершеннолетняя. Любочка меня два года будет мурыжить. Да и ни к чему уже.
— Что, Котэ?
— И Котэ тоже.
— А что еще? Боишься, она тебя не пустит?
— Боюсь. Только не она. Мать ее. Мать меня ненавидит.
— А ты что, хотел, чтобы обожала? Ты ее дочке еще лет десять голову поморочишь, она тебя вообще убьет. Ну ладно. — Витька хлопнул беспечной рукой по его колену. — Поехали ко мне. Так и быть, пользуйся моей добротой, пока ничего подходящего не найдется.
Подходящее нашлось через месяц. Отвратительная комнатенка, похожая на дистрофика: профиль есть, а фаса не наблюдается. Девять метров, вытянутых вдоль мышиных стен. Теперь следовало завезти холодильник. Этот холодильник стал уже навязчивой идеей. Ему казалось, что если будет холодильник, все каким-то чудесным образом повернется и пойдет по другой колее. Без кровати можно жить. Брось на пол матрас и спи. Без стола можно. Поставь на подоконник тарелку и ешь. Вот без холодильника нельзя. Холодильник — вместилище жизненных сил. Куда поместить кусок колбасы в сорокаградусную жару? За окно, пожалуй, не вывесишь. За батарею тоже не запихнешь. Нет, без холодильника начинать новую жизнь решительно невозможно. Холодильник тоже нашелся. Пузатый допотопный «ЗИЛ» с порядковым номером 007, который тесть младшего брата называл, разумеется, Джеймсом Бондом. Холодильник был им лишний.
— Так вы правда переезжаете? — радостно спросила теща младшего брата, когда Марк позвонил по поводу Джеймса Бонда. — И что, хорошая комната?
Он правда переезжал. Он переехал в субботу. Сел на пол и стал смотреть на свой холодильник. «Буду жить!» — думал. В воскресенье утром приехала мать. Она прошлась вдоль стен, сняла с гвоздя две рубашки, вытряхнула окурки из треснувшего блюдца, завернула в бумагу недоеденный кусок колбасы, собрала вещички в аккуратную старческую сумочку. Он сидел на полу и смотрел на холодильник.
— Вставай! — сказала мать. — Хватит дурака валять. Домой пора.
Она поставила его на ноги, засунула в пиджак, застегнула пуговицы, взяла под руку и повела вниз по лестнице. Во дворе, у такси, ждала Любочка.
Счастье их длилось долго. Всю жизнь.
ЕРШИК
Был он совсем крошечный и почти прозрачный, сплошь утыканный ржавыми гвоздиками конопушек. Даже уши были рыжими. Когда волосы отрастали и жесткий ежик обминался и опадал, казалось, что на ушах появляются кисточки, и он становился похож на белку. А звали его Ершиком. Почему Ершиком? Зачем Ершиком? Как вообще возник этот Ершик — никто не знал. Он один помнил, как впервые пришел в их класс. Появление его было, так сказать, вне расписания. Факультативным. Посреди года. Посреди месяца. Посреди недели. Посреди дня. Посреди урока.
— Вот, Марья Ивановна, — сказал директор, вводя его за руку в класс. — Привел вам нового ученика. Познакомьтесь — Сережа Тычинкин.
И все грохнули.
Марья Ивановна раздвинула в пластмассовой улыбке узкие губы и указала ему на последнюю парту. Он плелся по проходу, волоча по полу портфель, а все смотрели ему вслед. Портфель был огромный. Дедовский еще портфель. С потертыми кожаными боками и медными нашлепками. Портфель был неподъемный. Он и не пытался его поднять. Волок за собой как гирю. Если смотреть сзади, получалось, что по земле ползет портфель с рыжей щетинистой макушкой. Он вскарабкался на стул, ногами затолкал портфель под парту и поднял глаза. Марья Ивановна стояла над ним со своей пластмассовой улыбкой.
— Причешись, Тычинкин! — сказала она. — У тебя волосы в разные стороны торчат. Расческа-то есть?
Он кивнул и, путаясь пальцами, полез в нагрудный карман. Он дергал расческу за полусломанный зуб, глядя на Марью Ивановну испуганными рыжими глазами, похожими на прозрачные пуговицы, из тех, что пришпиливают к мордам плюшевых медведей. Ему казалось, что если расческа не вылезет — вот сейчас, сию минуту, — он сползет со стула, ляжет на пол и умрет. Но расческа не лезла, цеплялась за швы, трещала нитками, кололась обглоданными зубьями, и тогда Марья Ивановна, оттолкнув его руку, двумя пальцами легко вытащила ее из кармана и протянула ему. Он схватил расческу, запустил в свой колом стоящий ежик и начал продираться от лба к затылку. Ежик укладывался под расческой ровной укатанной дорожкой, но, выбравшись на волю, снова поднимался колючей игольчатой порослью.
— Ладно, Тычинкин! Хватит! — сказала Марья Ивановна и положила ладонь на его колючки. — Ты прямо как… как ершик для мытья посуды!
И все опять грохнули.
На переменке они столпились вокруг его парты, отпихивая друг друга локтями. Тянулись к волосам, отдергивали руку, трясли кистью, дули на пальцы, гримасничали, кривлялись, закатывали глаза, хохотали.
— Ой, не могу, Ершик! Тебя в бутылки как засовывают, в пионерском галстуке?
— Его головой вниз засовывают! А вытаскивают за ноги!
— А он кефир со стенок слизывает!
— И булькает! И булькает!
Он смотрел на них рыжими пуговицами, которые становились все прозрачнее и прозрачнее от набегающих слез.
— Ты что молчишь? Ответь им! — вдруг услышал громкий властный голос. Повернул голову и увидел высокую девчонку с прямой черной челкой. Девчонка стояла в стороне и в упор смотрела на него. Глаза у девчонки были странные — зеленые и такие длинные, что, казалось, убегали за пределы лица, и кончики их, заштрихованные темными ресницами, висели в воздухе. «Как сосновые лапы», — подумал он и улыбнулся. — Ты что, немой? — строго спросила девчонка. Он покачал головой и заулыбался шире. — Значит, дурак, — припечатала она, повернулась и ушла.
Девчонку звали Катя Вяземская.
Кате он доставал лишь до плеча. Так у них и повелось. Она — выше, умнее, сильнее, главнее. В тот первый день он шел за ней после уроков, прячась за водосточными трубами, — чтобы не заметила. Но она заметила. Потом он часто думал о том, что не заметила, а с самого начала знала. Знала, что будет ждать ее у школьного крыльца, хоронясь под осыпавшимися ступеньками. Что будет идти следом по школьному двору, глядеть издалека, как она качается на зеленых детских качелях. Что будет стоять у дверей булочной, вглядываясь близорукими глазами в чужие лица, боясь пропустить. Что будет бежать за ней через дорогу, стуча портфелем по заплетающимся ногам. У входа в свой двор она остановилась. Стояла под сводами подворотни, ждала. Он стоял поодаль. Тоже ждал.
— Ну что же ты, Ершик? Иди сюда!
Он подошел. Она не глядя сунула ему в руки портфель. Он схватил портфель, но тут протянулась авоська с хлебом. Он засуетился, стал нелепо перебирать руками. В одной руке — свой портфель, в другой — ее. Уронил свой в лужу, схватил авоську, поплелся следом, спохватился, вернулся, подобрал портфель, бегом побежал во двор. У подъезда она остановилась.
— Ну, пока!
Взяла портфель, авоську. Повернулась. Ушла.
Он ждал ее под ступеньками каждый день. Она выплескивалась на школьный порог, болтала с подругами, ждала, когда они разбегутся. Потом поводила плечиком, косила глазом в его сторону. Он вылезал из-под ступенек, брал портфель. Шли так: она впереди, он следом. Иногда она заворачивала на детскую площадку. Держась онемевшими пальцами за железный прут, он раскачивал зеленые качели. Выходили на улицу. Летели черные волосы. Косил зеленый глаз. У киоска мороженого она снова поводила плечиком. Он суетливо лез в карман, выкапывал девятнадцать копеек, сэкономленные на школьных завтраках, покупал вафельный стаканчик. Желтую розу она отдавала ему. Не любила крема. «Ну, пока!» — говорила у подъезда и бежала по ступенькам вверх. Больше они не разговаривали.
Через неделю она позвала его домой. Он сначала испугался, даже головой начал крутить, но она, не оглядываясь, уже бежала по ступенькам.
— Вот, мама. Это Ершик. Я тебе рассказывала.
Рассказывала! О нем! В груди стало горячо, рыжие пуговицы начали прозрачнеть, но тут он поднял глаза и увидел еще одну прямую черную челку и глаза, убегающие за пределы лица.
— Ну, Ершик так Ершик, — сказала мама. — Есть хочешь, Ершик? У нас сегодня котлеты с гречкой. Любишь котлеты? Вот и славно! Идите мойте руки. — И махнула рукой куда-то в сторону.
Он стянул пальто, скинул ботинки и двинулся к ванной, уже представляя, как они втроем будут сидеть на кухне у окна, есть котлеты с гречкой, смотреть во двор, как Катина мама нальет им чаю в большие толстые кружки, а Катя отдаст ему крем со своего куска торта, потому что — какое приличное чаепитие без торта! Они будут сидеть долго-долго. Стемнеет, но они все будут сидеть. И Катина мама спросит: «А где ты раньше учился, Ершик? А родители кем работают? Что, и старший брат есть? Сколько же ему лет? И такой же рыжий, как ты? А знаете что, дети мои, давайте-ка поиграем в какую-нибудь чепуху! В буриме, например!» И они поиграют в чепуху. А потом выпьют еще чаю. И снова поиграют. И он расскажет им… Да все он им расскажет. Про брата Сашку. Сашка рыжий, такой же, как он, Ершик, но рыжести своей совсем не стесняется, а наоборот, Сашке все время взрослые девчонки звонят, и он с ними, как говорит мать, «крутит крутеж». Иногда девчонки приходят к ним домой, Сашка заводит их в комнату, сажает на тахту, и там они сидят рядышком — Сашка и девчонка, — держась за руки и глядя на Ершика немигающими глазами. «Выдавливают», — говорит отец. Ершик выдавливается на кухню, к матери. Мать, круглая, мягкая, с рыжеватыми кудельками на лбу, сует ему в руки кусок пирога. Ершик взбирается на табурет и начинает жевать пирог. «Отца дождемся, будем ужинать», — бросает мать, не отворачиваясь от плиты. Но отец не идет. Отец редко когда приходит вовремя. Работа у отца вредная и нервная. Какая точно, Ершик не знает, но знает, что отец на ней «все здоровье посадил». Отец звонит домой, что-то долго объясняет матери. Она слушает молча. Потом входит в кухню, снимает фартук, швыряет его прямо на пол, отталкивает Ершика, если тот попадается под руку, и закрывается в ванной. Вода течет громко. Мать сидит долго. Выходит с красным пятном на левой щеке. Закрывается в спальне. Ершик ставит на огонь тяжелый эмалированный чайник с отбитым боком, наливает чай, кладет кусочек лимона, достает из аптечки тройчатку, несет в спальню. Мать лежит на кровати, отвернувшись к стене. Ершик тихо ставит на табуретку чай и выскальзывает за дверь. В гостиную нельзя — там Сашка с девчонкой. В спальне — мать. Ершик берет недоеденный пирог и раскладывает на кухонном столе тетрадки.
Тут он почувствовал, как Катя ухватила его за рукав.
— Мама! — сказала она укоризненно, как нерадивому ребенку. — У нас же не столовая все-таки!
— Да, да, спасибо! — закивал головой Ершик. — Я есть не хочу совершенно… почти.
— Пойдем, — потянула его Катя. — Контурные мне нарисуешь. Марьиванна говорила, ты контурные здорово рисуешь.
* * *
В восьмом классе он взял билеты в кино. Фильм назывался «Ромео и Джульетта». Итальянский. Ершик про Ромео и Джульетту уже все читал, а Катя нет. Он ей пытался рассказывать, но она только смеялась. Травиться, колоться — она этого решительно не понимает и даже осуждает, потому что глупости все это, «страсти в клочья». На итальянское кино до 16 лет не пускали. Но Ершик к восьмому классу вымахал под метр восемьдесят, а Катю уже давно называли на улице девушкой.
— Пойдешь? — спросил он, показывая ей билеты.
— Пойду.
— Я последний ряд взял.
Она повела плечиком.
Весь фильм Ершик краснел. Шевелил губами, шептал что-то про себя, пыхтел.
— Ты что все бормочешь?
— Ничего. Смотри, смотри.
И снова зашевелил губами. Взять или не взять? А если взять, то как? Как бы невзначай? Или специальным уверенным жестом? А если обидится? Когда по экрану пошли титры, он взял ее за руку. Катя хмыкнула, но руки не отняла. На улице он снова шел сзади. Когда подошли к подворотне, спросил:
— Ну как кино?
— Ничего.
— А ты не обиделась?
— На что?
— Ну… — Он посмотрел на свои руки.
— Дурак ты, Ершик!
И побежала во двор.
Влюбилась Катя сразу. Как будто захлебнулась, а откашляться не могла. Парень был, по мнению Ершика, слишком. Слишком высокий. Слишком волосатый. В слишком широких клешеных джинсах. Слишком взрослый. Познакомилась с ним Катя в каком-то институте на какой-то вечеринке. Ершик толком не знал где. Она теперь часто ходила без него на вечеринки. «Имеет право на личную жизнь», — говорил Ершик. И ждал у подворотни. Им тогда было по семнадцать лет.
Парень нарисовался так: одна рука на плече у Кати, другая в кармане джинсов. Шаг широкий. Катя за его шагом не успевала и почти бежала следом, он как будто за шкирку ее тащил. Подтащил к подворотне. Поставил. Наклонился.
— Кто это? — спросил не глядя. Ершик топтался поодаль в тени.
— Ершик.
— Он тебе кто?
— Никто.
— Не отсвечивай, Ершик, — посоветовал парень.
— Как это? — пискнул Ершик.
— Не высовывайся, вот так.
И поцеловал Катю. Встав на цыпочки, Катя тянулась к парню лицом, плечами, руками. Ершик не высовывался. Парень взял Катины волосы в горсть, потянул назад, поцеловал запрокинутое лицо, шею. Подумал, отпустил, развернул Катю, подтолкнул в спину:
— Ну, беги, малыш!
Катя побежала. Парень сунул руки в карманы, посвистел, покачался с носка на пятку и пошел прочь. Ершика он больше не замечал.
На следующий день после уроков Ершик выполз из-за школьного крыльца. Катя стояла на ступеньках, поводя плечиком.
— Кать… теперь что будет?
— Ты о чем?
— Ну… мне тебя больше не провожать?
— Почему? — Она смотрела, не понимая. Летели черные волосы. Косил зеленый глаз.
— У тебя же теперь этот…
— Ах, Ершик! — пропела она. И еще два раза: — Ершик, Ершик! — И провела тыльной стороной руки по его щеке. — Ничего ты, Ершик, не понимаешь! Я его лю-блю! Лю-блю! А ты — совсем другое дело. Кстати, мама просила молока и хлеба. Зайдешь?
Она полезла за деньгами, но он уже выгребал из кармана мелочь и махал у нее перед лицом рукой — не надо, не надо, не надо!
— Так все по-прежнему? — крикнул на бегу.
— Конечно!
Парень провожал Катю не часто. Раз в неделю, по выходным. Подводил к подворотне, целовал, подталкивал в спину, уходил, насвистывая. Ершик отклеивался от стены, шел за Катей до подъезда. Однажды она вернулась одна. Он увидел ее издалека и не узнал. Крошечная скрюченная фигурка шла, загребая землю носками туфель. Подошла, встала под фонарем, отбросив на стену огромную скрюченную тень.
— Вот так вот, Ершик, — сказала фигурка Катиным голосом и заплакала.
— Хочешь, теперь я буду тебя целовать? — спросил он.
Катя всхлипнула, высморкалась, повела плечиком и улыбнулась.
Когда Катя решила поступать в педагогический, Ершик пошел вместе с ней. Все было как раньше, разве что Катя остриглась и теперь штриховала глаза еще гуще — французской тушью в длинном фиолетовом флакончике. А челку оставила. Значит, сама Катя тоже осталась прежней. В институте они все время были вместе. На лекциях, в читалке, в столовой, на картошке, в спортзале. На вечеринки тоже ходили вместе. Только Ершик был не с Катей, а при ней. И все это знали. Когда входили в зал, Катя легко отделялась от Ершика, как шлюпка от корабля-тяжеловеса, и устремлялась вперед, раздвигая толпу острыми локотками. Кто-то ее там, в толпе, подхватывал, обнимал, кружил. И она подхватывалась, обнималась, кружилась. Ершик стоял у стены, сцепив за спиной руки, и смотрел вперед требовательным немигающим взглядом, как будто нащупывал глазами свой блуждающий огонек. От жары конопушки на его лице загорались и весь он пылал красным пожарным светом. Катя выскальзывала из толпы, обмахивалась ладошкой, тянула за собой нового кавалера. Проходя мимо Ершика, легонько касалась его рукой — мол, пошли, Ершик, нечего здесь больше делать. И он шел.
Катины кавалеры делились на три категории. Так Ершик определил для себя. Одни — приличные. Эти провожали Катю до подворотни, целовали в щечку, а то и вовсе пожимали руку и сдавали Ершику с рук на руки. Вторые — прилипалы. Эти тянули ее в подъезд, прижимали к стенке, шумно дышали, лезли под юбку. Катя хохотала, отбивалась, бормотала: «Да ну тебя, дурак, пусти!» Наконец вырывалась и убегала. Были третьи. Самые страшные. Их Катя брала за руку и вела вверх по лестнице, домой. Ершик оставался внизу, в подъезде. Садился на батарею. Ждал. Батарея была горячая и ребристая. Ершику на ней не сиделось. Он вскакивал, выбегал на улицу, кидал в лицо снег, возвращался обратно. Батарея прожигала насквозь. Однажды он принес с собой старое ватное одеяло. Постелил на батарею, лег и уснул. Проснулся от стука двери. Катя с кавалером спускались по лестнице вниз. Сквозь разводы на пыльном окне падал солнечный луч. Ершик понял, что наступило утро.
— А, Ершик! — сказала Катя, и из ее глаз, как из бенгальского огня, посыпались зеленые искры. — Молодец, что дождался. Ты на первую пару пойдешь? — Он кивнул. — Скажи там, что я заболела.
И потянула кавалера обратно.
Когда они окончили институт, Ершик пошел работать в школу учителем русского и литературы. А Катя никуда не пошла. Потому что замуж вышла. И родилась у нее дочка.
Муж Кате достался совсем никудышный. Не то чтобы она сама так считала, но по всему выходило, что никудышный. Звали его Гогой, но Катя называла его на грузинский лад — Гоги.
— Огонь девка! — говорил Гоги, шлепая Катю пониже спины. — Ты там пойди, сообрази. — Катя шла соображать. Гоги поворачивался к Ершику, щурил круглый совиный глаз. — Ну, ты-то знаешь. — Ершик пожимал плечами. — Да брось! Правда не знаешь? Ну ты даешь, братец! Да-а, жаль, что так получилось.
Ершик не знал, что у них там такое получилось, чего жаль Гоги, но кивал сочувственно.
В день свадьбы он явился с утра пораньше — вдруг что понадобится, а его нет. Катя выскочила в расстегнутом платье, с белой тряпкой в руках. Подскочила к зеркалу, стала прилаживать тряпку к голове.
— Пойди, пойди… — бормотала Катя.
Ершик хотел выйти, но Катя замычала что-то невнятное, замахала рукой.
— Да стой ты! Пойди цветы купи! Гоги спит, а невеста без цветов, сам понимаешь.
— Я купил, — сказал Ершик и протянул Кате букетик ландышей.
— Господи, Ершик! Розы купи! Белые розы!
Ершик побежал за розами. Потом за такси. Потом за бабушкой на Казанский вокзал. Потом за шампанским. Потом за хлебом. Потом гости разошлись. Бабушку положили в гостиной. Гоги отнесли в спальню. Ершик налил Кате чаю.
— Ты его любишь?
— Смешной ты, Ершик. Любишь не любишь. У нас ребенок будет.
Ребенок был похож на клюквенное мороженое. Что-то серо-буро-малиновое, очень холодное, сбитое в маленький сморщенный брикетик. Ершик приподнял краешек одеяла, посмотрел в белесые младенческие глазки и наклонился, чтобы лизнуть фруктовый лобик.
— С ума сошел! — сказала Катя. — Бактерии.
Ребенка звали Аленушка.
Выращивать Аленушку Ершик начал месяцев за шесть до ее рождения. После уроков ураганом проносился по магазинам, сметал все фрукты и соки, прибегал к Кате, грел ей обед.
— Ты опять не съела ни одного банана! — говорил страшным голосом, появляясь на пороге комнаты с гроздью подгнивших бананов.
— Только не падай в обморок! — советовала Катя.
Потом Катю засовывали в старое мамино пальто и вели на бульвар. На бульваре сначала водили по дорожкам, потом сажали на скамейку, чистили апельсин, вкладывали по дольке в ладошку. Катя ела апельсин охотно. А все остальное не ела совсем. Тяжело переносила беременность. За месяц до родов она почти перестала выходить, лежала на вытертом кожаном диване, закутавшись в пуховый платок, смотрела на ледяные разводы на стеклах. Ершик сидел за круглым обеденным столом, покрытым плюшевой бахромчатой скатертью, и проверял тетрадки. Когда приходил с работы Гоги, Ершик аккуратно складывал тетрадки, разогревал ужин и уходил домой. Накануне родов — как чувствовал! — упросил Катю поставить ему в гостиной раскладушку.
В «скорую помощь» его брать не хотели. Говорили — не положено. Но он отбился от санитаров, примостил длинные ноги под Катиными носилками и стал для нее дышать.
— Глубже! — говорила врачиха. — Глубже дыши, дура!
И Ершик дышал. Катя лежала совершенно синяя. Ему казалось — ледяная. «Если машину тряхнет, она рассыплется», — подумал он, взял ее за руку и стал дышать в ладонь.
— Если что, звони, — сказал Гоги, закрывая за ним дверцу. — Я очень волнуюсь.
Но звонить было неоткуда. В приемном покое телефона не было, а к своему дежурная не пускала. Катя рожала долго. Ночь прошла, и день прошел, а она все рожала. Ершик сидел в приемном покое и тихонько поскуливал.
— Экий ты, папаша, неугомонный, — сказала дежурная на второй вечер, вынося ему чашку жидкого чая.
— Папаша? — встрепенулся Ершик. — Значит…
— Значит, значит. Дочка у тебя. Три двести.
— Три двести — это что?
— Килограммов это, вот что. Шел бы ты домой, а то самого придется госпитализировать.
Встречать Катю из роддома он отправился в новом сером костюме, белой рубашке и темно-сером галстуке. По дороге купил пять гвоздик. А пакет с розовым атласным одеяльцем он еще утром передал. Катя была совсем прозрачная и еще немножко синеватая, и Ершик опять испугался, как бы она не споткнулась и не разбилась прямо здесь, на кафельном полу. Следом за ней нянечка несла розовый сверток, перевязанный лентами, как почтовая посылка — крест-накрест.
— Вот, принимай, папаша! — пропела нянечка и сунула ему посылку.
— Да я не… — начал Ершик, но Катя неожиданно резко развернула его и подтолкнула к выходу.
Так ребенок Аленушка оказался у него на руках.
Дома их ждал Гоги. Шумел, хохотал, хлопал себя руками по бокам, кричал: «Ну, мать! Ну!» Потом пришли гости. Катя раскраснелась, бегала из комнаты в кухню, строгала бутерброды, тихонько заглядывала в спальню, где сидел Ершик с ребенком Аленушкой, на цыпочках заводила гостей, отворачивала край атласного одеяльца.
— Ну как? — кричал Гоги из гостиной. — Мое дите?
— Твое, твое, — отвечала Катя и закрывала дверь.
А молока у нее не было. Совсем. Она сначала поплакала, а потом ничего, успокоилась и даже говорила, что искусственное вскармливание лучше — мало ли какую гадость она съест, а тут все проверено, продезинфицировано и ребенку никакого вреда. Ершик приходил в семь тридцать, брал бутылочки, бежал на молочную кухню, возвращался, мчался на уроки. После уроков был час гулянья. Ребенка Аленушку заворачивали в атласное одеяльце, клали в коляску и везли на улицу. По дороге Ершик заходил в магазины, а Катя ждала его у входа. После гулянья коляску вместе с Аленушкой поднимали на руках домой, и начинался час кормления. Пока Катя разогревала бутылочки, Ершик замачивал пеленки. Он навострился так стирать, чтобы одним глазом глядеть в ванну, а другим — на табуретку. На табуретке у него обычно лежала газета, иногда конспект с завтрашним уроком. А тетрадки он у Кати не проверял. Не успевал.
Домой он возвращался поздно. Домашние уже спали. В большой комнате — Сашка с женой. В спальне — мать. Отец давно с ними не жил. Однажды позвонил, как обычно, вечером, долго говорил с матерью по телефону, и больше Ершик его не видел. Как-то услышал — мать рассказывала подруге, — что отец, оказывается, заходил, взял свои вещи и ушел, «даже слова детям не сказал!». После того как отца в их жизни не стало, оказалось, что в одной квартире живут три семьи. Бывает так: человека вроде и не видно почти, а исчез — и все развалилось. У трех семей — три полки в холодильнике, три сахарницы на столе, три стаканчика для зубных щеток на полочке в ванной. Ершик заходит в ванную, моет руки своим мылом, перемешается на кухню, ставит чайник на газ (чайник общий, три чайника в пятиметровой кухне не помещаются), достает хлеб из своего пакета, масло со своей полки и раскладывает на кухонном столе тетрадки. Проверив тетрадки, кладет их в портфель, складывает кухонный стол, а раскладушку, наоборот, расставляет. Заводит будильник на полседьмого и засыпает.
Гоги исчез внезапно. Собственно, так же внезапно, как и появился. Вечером сказал Кате: «За сигаретами выйду». И вышел. В тапочках. Через год от Гоги пришло письмо, где он давал свое согласие на развод. Где он весь этот год хоронился, Катя не знала. А куда собирается, об этом он не писал. Катя прочла его письмо холодно — все уже было пережито, переплакано и передумано. В милицию она заявлений не подавала. Знала внутренним знанием, что с Гоги все в порядке и даже очень в порядке. «Козел!» — цедила сквозь зубы, но жалости к себе не испытывала и брошенной женой себя не считала.
— Проживем! — кидала беспечно. — Правда, Ершик?
— Правда, — отвечал Ершик.
— И ребенка вырастим, — говорила уверенно. — Правда, Ершик?
— Правда, — отвечал Ершик.
— А я еще замуж выйду, — тянула мечтательно. — Правда, Ершик?
— Правда. За кого?
— Ну мало ли. Народу много.
— Много, — соглашался Ершик.
В то время Ершик готовил Аленушку в первый класс. Она уже умела складывать и вычитать, а палочки с крючками выводила — просто загляденье. Сидели они обычно в уголке старого кожаного дивана. Ершик — привалившись спиной к валику, а Аленушка — к нему. В руках Ершик держал картонку, на картонке — листок в косую линейку. Наклон старался держать правильный — как на парте. Аленушка высовывала толстый розовый язык, упиралась им в щеку и начинала писать. Каждая буква сопровождалась музыкальным дивертисментом. «У-у-у!» — глубоким басом гудела Аленушка, выводя букву «у». «О-о-о!» — переходила на колоратуру. «Р-р-р!» — как будто катала во рту пластмассовый шарик. Читать она начала рано, ей еще пяти не было. Ершик помнил тот день. Аленушка лежала со свинкой. Утром Ершик заскочил в поликлинику к своему участковому, выпросил бюллетень на неделю, забежал за молоком, по дороге прихватил с лотка «Денискины рассказы». «Рановато, — подумал. — Ну да ничего, пусть будет». Катя была недовольна, нервничала. Она уже год как работала в роно и даже занимала там какую-то маленькую должность — вроде завсектором. Опаздывать ей было никак нельзя. Ершик бросил сумки, принял ценные указания и пошел к Аленушке.
— Ер-р-ршик, — сказала Аленушка, раскатывая букву «р». — Что пр-р-ринес?
— Вот. — Ершик положил ей на кровать «Денискины рассказы».
Аленушка попыталась повернуть голову, но не вышло. Поскребла пальцами компресс, но тот держался крепко. Взяла книгу, раскрыла, скосила зеленый глаз, громко и внятно произнесла:
— «Пожар-р-р во флигеле, или Подвиг во льдах».
Ершик остолбенел. Аленушка посмотрела на него хитро из-под прямой черной челки и повела плечиком.
Развели Катю быстро. Гоги какими-то хитрыми путями все же удалось найти и даже отсудить алименты. Алименты были крошечные — слезы, а не алименты. Катя подозревала, что Гоги крутит совсем другие деньги, но сделать ничего не могла. Через полгода после развода она вышла замуж. Много народу не нашлось, однако один сыскался.
Новый Катин муж был выдающимся человеком, особенно выдающимися были черты лица и некоторые части тела. Нос у него был выдающийся, голос, живот. Звали его Валерианом Аристарховичем, и он настоятельно просил Катю, которая сунулась было к нему с каким-то чахлым Лериком, никаких уменьшительных имен и домашних кличек ему не придумывать. Так она его и звала: «Валериан Аристархович». Возраст Валериан Аристархович имел солидный, должность приличную. Из-за этой должности Кате пришлось уйти с работы. Валериан Аристархович полагал, что жена большого начальника должна сидеть дома. Въехал он не один, а с обстановкой. Обстановка тоже была солидной: горка красного дерева, спальный гарнитур карельской березы, плюшевая мягкая мебель. Катя протирала мебель специальными тряпочками и жидкостями. Для каждого сорта дерева предназначалась своя тряпочка и своя жидкость. Валериан Аристархович считал, что жена должна сама вести хозяйство, и неукоснительно следил за количеством израсходованных средств и качеством продуктов. За тряпочками тоже следил. Перед сном Катя давала ему отчет: что, почем и в каких количествах куплено. Стягивая носки с белых отечных ног, Валериан Аристархович слушал доклад, кивал, потом брал Катину расходную книжку и, если бывал доволен, ставил внизу страницы плюс, а если нет — минус. Минус означал, что в своих личных нуждах Катя будет урезана. У Валериана Аристарховича еще со времен первой жены была разработана подробная система урезаний и поощрений, в которой Катя так и не разобралась. А Аленушке взяли няню.
Свадьбу справляли солидно, в хорошем ресторане. С Катиной стороны был Ершик и мать, которая давно уже — со времен Гоги — жила круглый год на даче. После свадьбы Катя отозвала Ершика в сторонку.
— Ты вот что, Ершик, — прошептала она, оглядываясь на Валериана Аристарховича, который рассаживал гостей по такси. — Ты к нам больше не ходи. Я тебе сама позвоню, когда можно будет. Валериан Аристархович много народу не любит. Ему отдыхать надо. И вообще, что подумают…
С тех пор Катя звонила Ершику раз в неделю и церемонно приглашала на воскресный обед. Обедали в большой комнате, за круглым столом, под абажуром. Для каждой перемены блюд полагался новый прибор. Катя за столом почти не сидела. Как взведенный курок, готова была каждую минуту вскочить, убежать на кухню, принести, унести, подтереть. Неотрывно следила за выражением лица Валериана Аристарховича — вдруг бровью поведет, вдруг носом покрутит. Она его понимала не с полуслова — с полужеста. Был у них свой особенный язык, на котором Валериан Аристархович отдавал указания. Поведет рукой — пора нести второе. Постучит ладонью по столу — немедленно устранить непорядок! Побарабанит пальцами — кто-то сказал что-то не то. У Кати делалось испуганное лицо, даже глаза напрягались.
За столом Валериан Аристархович вел беседу.
— Ну, — говорил он, — как там, в средней школе?
— Ничего, — отвечал Ершик.
— Да уж, — говорил Валериан Аристархович. — Ничего. Ничего хорошего, вот что я вам скажу, молодой человек. А молодежь? Какие умонастроения?
— Никаких, — отвечал Ершик.
— Вот именно, — говорил Валериан Аристархович. — Никаких. А должны бы быть!
— Должны, — соглашался Ершик.
— Вот Катерина зовет вас, кажется… — Валериан Аристархович мучительно морщился. — Кажется… м-м-м… Пескариком?
— Ершиком.
— А почему, позвольте спросить?
Ершик виновато улыбался и легонько похлопывал себя по рыжему жесткому ежику волос в косую седую линейку.
— Нехорошо это, Сергей Александрович. Очень нехорошо. Все-таки не мальчик уже. Педагог. Что о вас ученики подумают?
Ершик пожимал плечами. Катя под столом наступала ему на ногу: «Не возражай!» Он не возражал, но ей все равно казалось, что Валериан Аристархович недоволен.
С годами Катя не то чтобы подурнела, а как-то огрубела, будто на прежнюю Катю натянули новую кожу не очень тщательной выделки. Она снова отрастила волосы, но забирала их теперь вверх и закалывала на макушке пучком, похожим на набитую капроновую авоську. Глаза больше не штриховала, а подводила жирными черными линиями. И тщательно запудривала морщинки вокруг глаз. Иногда под глазами у нее образовывалось два белых пятна, как будто в муке извозилась. Она давно уже была не Катей, а Екатериной Андреевной, но пока об этом не знала. А Ершик знал. Потому что сам был Сергеем Александровичем с двадцати двух лет — по школе. Но этого Катя тоже не знала.
Аленушку он почти не видел. Во время воскресных обедов она влетала в комнату, плюхалась на краешек стула, быстро глотала суп, хватала кусок хлеба, пришлепывала сверху котлетой и уносилась. Валериан Аристархович укоризненно качал головой. Катя выскакивала за Аленушкой в прихожую.
— А компот! Компот!
— Сама выпей! — кричала Аленушка, скатываясь с лестницы.
После обеда Валериан Аристархович шел отдыхать, а Катя с Ершиком — мыть посуду.
— Ты его любишь?
— Смешной ты, Ершик! Любишь — не любишь! У нас…
— Ребеночек будет?
— С ума сошел? Какой ребеночек? У нас дом, семья, общность интересов. Вот в Чехословакию летом собираемся. Аленку надо в институт определять. Ты что так смотришь? Валериана Аристарховича, между прочим, очень на работе уважают. Это тоже надо учитывать.
«Интересно, — думал Ершик, — а меня на работе уважают?»
Определять Аленушку решили на филфак. Помочь с определением Ершик не мог, но взял на себя роль репетитора. Высунув язык и упершись им в щеку, Аленушка писала под диктовку длинные пассажи, бормотала что-то под нос.
— Ты что там бормочешь?
— Слова повторяю.
«У-у-у!» — вспоминал Ершик.
— Эй, Ершик, ты что, спишь? Очнись! Ты как думаешь, что было бы, если бы Онегин и Татьяна поженились?
— Только не спрашивай об этом у приемной комиссии! — пугался Ершик.
— Ладно, не буду. А сам-то ты как думаешь?
— Думаю, ничего хорошего бы не было.
— Почему?
— Слишком разные.
— Как вы с мамой? Вы поэтому не поженились?
— Мы не поженились, потому что твоя мама любила твоего папу.
— А потом?
— Потом Валериана Аристарховича.
— Ой, не смеши меня, Ершик! Вы не поженились, потому что вы неправильные.
— Как это?
— Мама первая, а ты второй. А надо наоборот. Ты со всеми был второй, Ершик?
— Ни с кем я не второй!
— Ни с кем, потому что не с кем?
В институт Аленушка поступила с первого раза. В конце первого курса вышла замуж за дипломника, перевелась на заочный и уехала в какую-то Тьмутаракань. В освободившейся комнате Катя устроила для Валериана Аристарховича кабинет. Перенесла старый кожаный диван, купила в антикварном письменный стол с резными колоннами. За столом Валериан Аристархович не сидел, а на диване лежал охотно. На этом диване он и умер, пожив в своем новом кабинете совсем немножко — меньше года. Катя поплакала, сшила черное платье, запудрила морщинки под глазами, подобрала волосы и пошла устраиваться на работу в роно. Завсектором ее, конечно, не взяли, но место методиста нашлось. Теперь ей снова нельзя было опаздывать. Начальница Кате досталась — жуть! Катя звала ее Кошелкой. У Кошелки был зад и две авоськи. Этим задом она плотно заполнила Катину жизнь. Катя говорила о Кошелке двадцать четыре часа в сутки. Подробно рассказывала, как та была одета, как не пустила Зиночку к врачу, как намекнула Калерии Палне, что, мол, пора бы и пенсию оформлять, а ей, Кате, указала на несогласованную курицу, проживающую на окне в полиэтиленовом пакете.
— «Он с именем этим ложится и с именем этим встает», — усмехался Ершик.
Катя надувалась и замолкала, но через полчаса заводила старую песню.
— Ты посмотри, посмотри! — говорила она, раскладывая на кухонном столе листы, плотно исписанные мелким ровным почерком. — Вот я пишу методичку по детскому празднику. Где тут… Ага. Слушай. Пункт пятый. Зайцы. Дети выходят на середину комнаты, образуя круг. Начинают осуществлять подскоки на двух лапах. Прыг-скок, прыг-скок. В скобках — восемь раз. Тебе все понятно?
— Мне все понятно, — отвечал Ершик.
— А ей непонятно! Она слов не понимает! Может, мне в гороно сходить, а?
— Не надо. Напиши «скачут на двух ногах», и дело с концом.
— Так они же зайцы!
Начав необъявленную войну, Катя не заметила, как стала жить по правилам противника. Перестала подводить глаза, отпустила юбку ниже колен и вместо крепкого чая начала пить слабенький растворимый кофе.
— Ты что, на кофе перешла? — спросил Ершик, заметив на столе круглую металлическую банку.
— А! — махнула Катя рукой. — Кошелка пьет и нас приучила. Выключи! Немедленно выключи эту гадость! — глядя на экран телевизора и дергая Ершика за рукав, с птичьим испугом клекотала она.
— Зачем? Хорошее кино.
— Хорошее? Да там один секс! Это же верх неприличия!
— Это кто так говорит? Кошелка?
— Я, между прочим, работаю в отделе народного образования, чтоб ты знал! И прекрасно понимаю, что прилично, а что неприлично! — И Катя захлопывала дверь в кухню.
В голосе у нее все чаще появлялись сварливые интонации, она раздражалась по пустякам, гремела на кухне кастрюлями, и на скулах ее выступали коричневые пигментные пятна. Лицо стало широким и почти квадратным. Длинные глаза больше не убегали за его пределы, а группировались вокруг носа. Когда Ершик глядел на Катино лицо вообще, то глаза терял и каждый раз боялся, что больше не найдет. Тогда он концентрировался на переносице, отыскивал два бутылочных осколка и был счастлив. Переводил взгляд на зеркало. В зеркале сидел длинный тощий субъект с жестким седым ежиком и рыжими пуговицами в красной оправе бессонницы. Катя многозначительно смотрела на часы.
— Девять. Тебе пора.
Ершик натягивал ботинки. Однажды попытался было мяукнуть, что, мол, куда пора, детское время! Но Катя резко его прервала:
— А ты подумал, что обо мне соседи будут говорить?
— Кать, я сюда тридцать лет хожу.
— Вот именно! — И она вытолкала его за дверь.
Ершик спускался вниз и вспоминал кавалеров. Проходя мимо батареи, коснулся ее рукой. Батарея была горячая и ребристая.
Теперь Катя носила войлочные ботики на резиновой подошве — боялась гололеда. Ершик, как обычно, ждал ее у подворотни, пряча нос в воротник пальто. Брал сумку и, поддерживая под локоть, вел в подъезд. Катя поднималась на свой третий этаж долго, часто останавливаясь, переводя дух. На последний пролет сил у нее уже не хватало, и Ершик иногда брал ее на руки.
— Я, наверное, умру скоро, — говорила она и подробно рассказывала о спазмах в груди.
Она вообще стала говорить подробно и мелко — о том, как ночью спала, сколько раз вставала и зачем, как в боку у нее закололо, а потом отдалось в спину, вот тут, у поясницы, нет, чуть-чуть левее. «Господи, какой же ты бестолковый!» Разговоры ее были похожи на хлебные крошки — вот одну склевала, вот еще одну, и ничего не осталось, да вроде и не было ничего. Часто плакала от жалости к себе, сморщив лоб и подвывая высоким бабьим голосом.
— Ты что! — пугался Ершик и бросался за пуховым платком. — Никуда ты не умрешь! — бормотал, кутая ей ноги. — На вот, выпей!
Катя пила чай, и лицо ее постепенно розовело.
— Никто мне не пишет! И не звонит! И внуков не рожает! — спокойно говорила Катя, имея в виду бесстыжую Аленку. И макала в чай сухарик. Ершик глядел на красное дерево, запорошенное пылью, брал тряпочку, флакончик с жидкостью и начинал протирать полировку.
В конце зимы решили, что надо бы все-таки сходить к врачу. Врач Катю послушал, постукал, помял и отправил на рентген с кардиограммой.
— Да вы, Екатерина Андреевна, здоровей нас всех! — говорил он, разглядывая снимки в просвет окна. — Ничего у вас нет, попейте успокоительное, и все будет в порядке.
Катя вышла из кабинета. Ершик остался.
— У нее правда все в порядке?
— Правда, правда. Истеричка немножко, а так все хорошо. Вы ей кто? Муж?
— Друг.
— Ну вот видите, и друг есть.
— Я не в том смысле…
— А надо бы в том. Ей сколько лет? Пятьдесят? Молодая еще женщина!
На 7 марта Ершик взял билеты в театр. Катя вдруг как-то загорелась, будто старый фитиль перестал коптить, заштриховала глаза, в театре поводила плечиком, обтянутом зеленым шелком, ловила мужские взгляды. Волосы ее, еще совсем почти черные, вдруг выскочили из шпилек и потекли вниз по спине. Катя встряхнула головой и засмеялась.
Домой шли медленно.
— Знаешь что, — сказал Ершик. — Давай поженимся.
— Зачем? — спросила Катя.
— Будем жить вместе.
— Мы и так вместе.
— Это я с тобой вместе.
— Какая разница? Давай я лучше завтра пирог испеку. С грибами. Приходи к обеду.
Утром Катя встала поздно, долго плескалась в душе, потом вышла на кухню. Повертела в руках круглую банку с растворимым кофе и с наслаждением зашвырнула в помойное ведро. Заварила чай. Пирог получился такой, что Катя не удержалась — отрезала край и съела прямо тут, у плиты, перебрасывая кусок из ладошки в ладошку, дуя на пальцы и высовывая обожженный язык. Потом завернулась в пуховый платок и легла на кожаный диван в кабинете Валериана Аристарховича. Проснулась, когда часы пробили девять. Потянулась, закинув руки за голову, вспомнила про пирог. «Приходил, наверное. — Это уже о Ершике. — А я, дура, проспала. Надо ему ключи дать. Ну ничего, завтра придет, дам».
Но завтра Ершик не пришел. И послезавтра тоже. Десятого Катя взяла телефон, сняла трубку, положила обратно на рычаг, полезла за старой записной книжкой. Телефон Ершика она когда-то помнила — во времена воскресных обедов с Валерианом Аристарховичем, но последнее время, помилуйте, зачем ему звонить, он и так тут. Трубку сняла мать.
— Ершика… Простите, Сергея будьте добры!
— Кто его спрашивает? — Голос у матери был тренькающий, как у расстроенной балалайки.
— Катя.
— А он умер, Катя. Седьмого вечером умер. Сегодня хоронили.
Катя положила трубку, взяла в руки карандаш и, ломая грифель, зачеркнула фамилию и телефон Ершика толстой спотыкающейся чертой. Потом подумала и вырвала страницу из записной книжки. Стянула с плеч пуховый платок, подошла к шкафу карельской березы. Увидев пятнышко, подышала на него, потерла пальцем, подняла платок — завесить зеркало. Из зеркала на нее смотрела старость.
КЛАВДИЯ
— Ну, первая ладком, а вторая рядком! — Николай опрокинул рюмку, крякнул, взмахнул по-птичьи руками, хлопнул себя по бокам и захрустел огурцом.
Так у него было заведено: сначала шутка-прибаутка, потом рюмка, потом крякнуть, хлопнуть, зажевать. После третьей лицо его расползалось и становилось похожим на большой переваренный пельмень. Он шумно вздыхал и начинал травить байки. Рассказывал смачно, с матерком. О том, как шоферил во время войны. Однажды вез ящики со снарядами, попал под бомбежку. Грузовик перевернулся, ящики вместе с солдатами посыпались на землю. На всех снаряды упали, а на него, Николая, ничего — одни деревяшки. Повезло. О том, как взял однажды трех немецких чинов, разорвав портянки, связал им руки, препроводил к комбату. Всем нарекания от начальства, а ему, Николаю, личная благодарность командующего. Герой. О том, как в госпитале бегали к нему девчонки-санитарки. Все на процедурах, а у его палаты уже очередь стоит. Что он с ними вытворял! Ой, что он с ними вытворял! Да у него теперь пол-Украины пацанов бегает! О том, как все московские автобазы его на части рвали, когда он с фронта вернулся. Потому что шофер он, Николай, каких поискать. А если честно, не было еще таких шоферов. Не было и нет.
— Николай Мазаев — это вам не абы что! Николай Мазаев академиев не кончал, но кое-что умеет! Я им так и сказал: «Николай Мазаев еще себя покажет! Вы у него вот где будете!» — Он сжимал кулак и грохал им об стол, сводя никому не видимые счеты с никому не ведомым начальством.
Клавдия вскидывалась, словно ей дали зеленый свет на светофоре, и начинала суетиться.
— Закусывай, Николаша, закусывай! — мелко бормотала она, накладывая на тарелку слюнявые перья квашеной капусты.
Николаша тыкал вилкой в капусту, опрокидывал рюмку, крякал, хлопал, жевал. Глаза его стекленели.
— А ты… Ты… — Толстый Николашин палец утыкался в щербатую физиономию соседского Витьки, похожего на запятую, выведенную нерадивым учеником. — Ты хорек… вот что… — Николаша терял слова, начинал заикаться и повторяться.
Клавдия вставала, тяжело тащила его из-за стола, волокла по длинному темному коридору. В комнате сваливала на кровать, стягивала сапоги и залатанные, еще фронтовые, галифе, торопливо раздевалась сама, ложилась рядом. Николаша, бормоча что-то невнятное, залезал на нее, дышал в лицо помойкой. Через полчаса вставал в сортир, шел, шатаясь, к двери. Клавдия бежала следом, хватала за руки, загораживала собой ширму — чтоб не снес. За ширмой лежал муж Клавдии Костя.
…Когда стало ясно, что Костя больше не встанет, Клавдия как-то сразу окостенела. Вот вчера еще бегала по коридору вся в кудряшках, припухлостях, выпуклостях и вмятинах. А сегодня стоит на кухне костяной человек, елозит ложкой в кастрюле. «Да», — отвечает на все вопросы. Или: «Нет». Марширует в комнату. Кастрюлю несет. Свет за собой гасит. Пол моет вовремя. Квитанции оплачивает. Вдруг стало видно, что у Клавдии широкая мужская кость, солдатский шаг, сухие костлявые руки и лицо — лошадиное такое лицо, длинное и жесткое, с приклеенными сверху мертвыми ломкими яичными скорлупками перманента.
Здоровьем он, правда, никогда не отличался. Еще до войны подозревали туберкулез. Потом диагноз отменили, но Костя так и остался в их квартире на положении сына полка. Когда похоронил мать, они его подкармливали. То тетя Маня на обед позовет, нальет тарелку борща, в котором, как в валежнике, застревает ложка. То щербатый Витька прибежит с миской котлет: «Мать велела передать!» То Калерия Павловна, жена немелкого торгового начальника, постучится в дверь с кусочком нездешнего торта «Киевский» на блюдечке тонкого фарфора да с кружевной салфеточкой. Костя ел борщ, разогревал по вечерам соседские котлеты, говорил «спасибо!» за торт. Но делал это как-то неуверенно, стесняясь того, что приходится есть чужой борщ, разогревать чужие котлеты и благодарить за чужой торт. Он вообще был тихий. То ли болезненный, то ли робкий. Пасмурный был. Дождливый.
Когда появилась Клавдия, подкармливать Костю стало не нужно. Клавдия сама могла кого угодно накормить. У нее в руках все эти пирожки, ватрушки да сочники вертелись, как карусель в Парке культуры и отдыха имени товарища Алексея Максимовича Горького, куда они с Костей ходили каждое воскресенье. Покупали вафельную шайбочку мороженого, улетали на качелях под облака, катались на лодочке по озеру. Все как у всех. А все-то как раз очень удивлялись. Разные они были, Клавдия и Костя. Разные, а смотрели в одну сторону. И видели одно.
Костя тогда уже работал на заводе и числился, между прочим, на очень хорошем счету. Ему даже бронь дали. Завод-то оборонный был. Костя там лил снаряды, упаковывал в наспех сколоченные дощатые ящики и отправлял в летные части, чтобы у наших истребителей всегда было чем ответить врагу. Назывался «мастер». Потом стал «начальник цеха». А потом началась война, и Клавдия по ночам плакала от счастья, потому что завод-то оборонный, и бронь, и все такое, и утром, провожая Костю на работу, не нужно цепляться негнущимися пальцами за рукав пиджака, понимая, что это утро последнее. И другого не будет. Но он все равно ушел. Подделал там что-то в документах, а может, просто выбросил свою бронь в мусорное ведро. И ушел. А она осталась.
Костя вернулся в начале июня, одним из первых. Шел по пыльной широкой улице — в Москве тогда совсем пусто было, улицы разбегались как деревенские просеки, манили несуществующими перелесками и озерками, праздной дачной вольницей, вон там, за поворотом, только спуститься с асфальтовой московской крутизны, и попадется навстречу стадо коров, ударит в нос сладкий запах навоза пополам с сиренью. Постукивая палочкой, прихрамывая на левую ногу, он поднялся по деревянным трухлявым ступенькам, перешагнул через третью — ту самую, коварную, с подскрипом да подвизгом, которая не один пацанский нос расквасила, — толкнул обветшалую дверь, вдохнул знакомый запах, пошарил по стене рукой, нашел выключатель, но щелкать не стал. Квартира встретила его молчанием. Еще не все вернулись. Уже не все вернутся. В конце темного коридора, из-за фанерной хлипкой двери, где прятался его девятиметровый рай, тепло и ровно сиял свет. Он пошел на свет, на ходу спотыкаясь об оставшиеся в живых обломки соседской жизни — велосипеды, тазы, не успевшие сгореть в буржуйках колченогие стулья. Свет вливался в него, щекотал кончики пальцев, шевелил волоски на макушке, до слез слепил глаза и наконец маленьким солнечным зайчиком уселся на кончике носа. Когда свет и Костя стали единым целым, стало понятно, что войны больше нет. Костя сел на стул посреди комнаты и уснул. Он спал тихо-тихо, как дитя, которому еще не о чем плакать во сне, но Клавдия все равно его услышала. Оставила сумки у входа, подошла, села рядом на корточки, взяла за палец и стала смотреть, как он спит. Так они и просидели до утра — он на стуле, а она рядом, на корточках.
Назавтра за общим столом подсчитывали потери. Они потом часто подсчитывали потери за общим столом. У тети Мани погиб под Сталинградом муж. У щербатого Витьки пропал без вести отец, сгинул где-то на Украине, в лесах. Немелкий торговый начальник вернулся из эвакуации один. Калерия Павловна нашла себе чина покрупнее, оборонного значения. Подштопав и пригладив жизнь, стали обзаводиться новыми женами и мужьями. Получалось, что Костя с Клавдией — единственные, у кого война ничего не отняла. Они тогда жили, как танцевали. Вы когда-нибудь видели, чтобы люди шли по улице — ничего особенного, ну за руки держатся, ну смотрят друг на дружку, — а кажется, будто вальсируют под одним им слышную музыку? Или другое на кухне суетятся. Хлеб режут. На стол накрывают. Щи разливают. А на самом деле это заморский танец фокстрот. И рука в руке. И глаза в глаза. И ноги переступают в такт легко и быстро. У них тогда вообще все легко выходило. Легко и быстро. Как будто торопились все успеть.
Когда у Кости первый раз зашевелился в спине осколок, он никому не сказал. Полежал. Таблетки поглотал. Мазь какую-то в аптеке купил. Вроде как ревматизм. На фронте застудился. Но осколок попался настырный. Затаился на несколько месяцев, выждал момент, когда Клавдия с Костей собрались по профсоюзной путевке на море, в Сочи — тогда только карточки отменили и вообще послабление народу вышло, а Клавдия сшила себе синее платье с белыми пуговицами. Так вот, осколок. Выждал момент и шарахнул так, что Костя три дня кричал в голос, лежа на тугом волосяном диване, а Клавдия кричала вместе с ним. Ни к какому морю они, разумеется, не поехали. Костю забрали в больницу. Просвечивали насквозь злыми лучами «рентген», собирали в пробирки кровь, по капле вливали в вену желтую жидкость из большой стеклянной банки с резиновым шлангом. Качали головами. Говорили, что задет позвоночник. И что осколок так хитро лежит, что вытащить его на свет нет никакой возможности. А уехать они все-таки уехали. Только не на море, а в Кисловодск, где Костю целый месяц мазали густой пахучей грязью, полоскали в подогретой воде «нарзан», обливали из душа со смешным названием «Шарко». Эту путевку Клавдия по райздравам да собесам месяца три выбивала. В Кисловодск она везла Костю в спальном вагоне, на мягком диване с парусиновой спинкой, с морковного цвета чаем в граненых стаканах, дребезжащих об алюминиевый, селедочного отлива, подстаканник, с официантами в белых форменных куртках, с шоколадными конфетами «Пьяная вишня», как в кино «Мы с вами где-то встречались». На эту поездку Клавдия положила чуть не всю свою невеликую зарплату. И в Кисловодске, когда Костю уже определили в санаторную палату, попросилась к сестре-хозяйке на копну голых пижамных матрасов. За очень умеренную плату. Ну там пособить еще, если надо. Постирать, погладить, белье по палатам разнести. Она на работу всегда скорая была.
Не помогли ни парусиновые диваны, ни нарзанная щекотка, ни вишня в шоколаде, ни полосатые матрасы, похожие на похудевшие после лечебного санаторного питания арбузы. Костя лежал на крахмальном Клавдином белье в своей старой московской комнатенке и не чувствовал ног. Вот тогда-то Клавдия и окостенела.
Если бы Клавдию спросили, за что она любит Костю, она бы только пожала плечами и ничего не ответила. Если бы Клавдию спросили, а любит ли она Костю вообще, она бы только рассмеялась. Но никто никогда Клавдию об этом не спрашивал. И никто ни разу не спросил, отчего она его разлюбила. А сама Клавдия об этом не догадывалась. Развешивала во дворе простыни. Гремела кастрюлями на кухне. Потом входила в комнату, отвернувшись, не глядя, перестилала постель, отходила к окну, курила в форточку. А разговаривать она с ним теперь совсем не разговаривала. И он уже давно молчал. Не о чем им было разговаривать. Потому что то, что лежало на крахмальных простынях, было не Костя. И Клавдия не была Клавдией. Механизмом для обслуживания тяжелобольного — да. Но не Клавдией. А не Клавдия Костю любить не могла.
Когда она привела домой первого, как она говорила, поклонника и вышла на кухню поставить чайник, тетя Маня как раз была там.
— Что ж ты, Клавдия, творишь? — с тоскливым бабьим причитанием спросила тетя Маня.
Клавдия промолчала. Взяла свой чайник, пошла к дверям. В дверях обернулась:
— Я, тетя Маня, ребеночка хочу.
Но ребеночек у нее не получался. Наверное, потому, что у костяных людей детей не бывает. Для этого плоть нужна и кровь.
Николаша появился в их квартире, когда уже и поклонники почти перевелись, и яичные Клавдины кудряшки распрямились, и крахмальные простыни обмякли и посерели. Николашу нанял щербатый Витька для перевозки нового шифоньера. Николаша ввалился в их темный коридор красный, потный, с шальным блудливым взглядом. Растопырив руки так, будто хотел ухватить все на своем пути — ухватить, уцепить, умять, утащить, — он волок новый Витькин шкаф. Остановился, вытер локтем пот, блеснул глазом, и все вдруг завертелось в бешеной кабацкой кадрили. Через полчаса Клавдия обнаружила себя на кухне, за длинным столом, во главе которого Николаша, шумно всхлипывая, чмокая, матерясь и сморкаясь, травил свои байки.
— На чужой каравай рта не раззевай! — Он опрокинул рюмашку, крякнул, хлопнул, почавкал тети Маниным холодцом и, громко рассмеявшись собственной шутке, крепко ухватил Клавдию за плечо. В комнате, расставляя ширму перед Костиным диваном, он погрозил ему пальцем, икнул и гоготнул: — Каждый сверчок знай свой шесток!
В квартире Николаша прижился сразу. Вместе с ним там поселился дух базарной безудержной разнузданности. Николаша все мог. Николаша все умел. Николаше все было море по колено. С Николашей было весело. И дефицитную сырокопченую колбасу он приносил домой палками. И дефицитные покрышки от новой, только что выпущенной «Победы» лежали в их коридоре горкой резиновых бубликов. И за общим кухонным столом собирались теперь чуть не каждый вечер. И щербатый Витька, глядя щенячьими глазами, бросался стягивать с Николаши сапоги, как только тот вваливался в дверь. А Клавдия варила щи из нежнейшей шелковой телятины, и костяной ее корсет, казалось, немножко помягчел.
— Ты, Клавдия, когда плату за свет считаешь, ты на семьи-то не раскладывай, — учил ее Николаша. — Ты на людей раскладывай. Вот нас двое всего, а у Витьки пять голов. У них больше нагорает.
— Так нас не двое, трое, — возражала Клавдия.
— Да ты его не считай! — Николаша махал рукой в сторону Костиного дивана. — Что его считать! Ему свет не нужен. И вот еще что. — Николаша доставал из кармана проржавевший безмен. — На складе взял. Ты на рынок его бери, а то они тебе там намеряют, потом концы с концами не сведешь. Пушинка к пушинке, а выйдет перинка!
Николаша выпивал первую после работы рюмку, вскидывался коротким гоготом, тяжело приваливался к Клавдиному плечу. Чудилось, что больше не случится с ними ничего плохого. А то, что есть… Ну, есть и есть. Могло ведь и этого не быть. Не всем же вальсы-бостоны танцевать, фокстроты отплясывать. Бывает, и без музыки люди живут. Тоже неплохо.
— Ты, Клавдия, вот что… Ты того… Решай давай, — бормотал Николаша что-то невнятно, так не похоже на себя, что Клавдия испугалась.
— Что, Николаша? Что решать?
— Ну, насчет нас. Пожениться бы нам надо.
— Да как же… да ведь… — Клавдия беспомощно оглянулась, глазами показала на Костину ширму.
— Вот я и говорю — решай.
Вечером Клавдия сама завела с ним разговор.
— Мне, Николаша, что, с Костей разводиться?
Николаша замялся, заерзал на стуле, затянулся «беломориной».
— Разводиться… Ну разводись. А жить мы где будем? Ты не подумай, я на твою жилплощадь не претендую. А ребеночек появится, что тогда? У меня, сама знаешь, мать с батей и сестра с пацаном на десяти метрах.
— Так что же делать, Николаша?
— Думай, Клавдия, думай.
— Я думаю. Может, его в интернат определить? Для инвалидов?
— Интернат! Интернат пять лет надо ждать! А потом, в интернат просто так не берут. За интернат площадь надо сдавать. А откуда она у тебя, площадь? Ты, Клавдия, пойми, он же не человек теперь, ему все равно. А нам жить. Детишек нам надо. И вообще, чтоб все как у людей.
В тот день Клавдия на работу не пошла — договорилась с начальницей, чтобы та поставила ее в ночную. Поднялась поздно, когда квартира отсуетилась, опустела, затихла. Вышла на кухню, зажгла конфорки на всех трех плитах, поставила на огонь эмалированное ведро с водой. Когда вода нагрелась, вылила ее в большую цинковую лохань. Подхватив Костю под мышки, потащила его на кухню. Костины ноги, волочась сзади как два аптечных ватных валика, задевали сваленные в коридоре тазы, велосипеды, не успевшие сгореть в буржуйках колченогие стулья. Клавдия опустила Костю в лохань и начала намыливать. Мыла долго, остервенело терла мочалкой, поливала горячей водой из ковшика. Притащив обратно в комнату, уложила на диван, но одеялом укрывать на стала. Подошла к окну, открыла настежь — в февральскую метель. Ветер, залетев в комнату, прошелся по некрашеным половицам, сдунул со стола хлебные крошки, забрался под кружевную салфетку на комоде, закрутил в трубочку край простыни. Клавдия постояла у окна, развернулась и ушла на кухню.
Через неделю Костя умер от воспаления легких. А еще через месяц Клавдия с Николаем сыграли свадьбу. Николай крякал, хлопал, шутил.
— Мотоват, да не женат, одному себе внаклад! — кричал он, вывертывая коленца резвыми хромовыми сапогами. — Хороша парочка, как баран да ярочка! — зычно выкликал, хозяйским жестом хватая Клавдию и притягивая к себе.
Клавдия смотрела, улыбаясь, как он раскидывает в бешеной пляске руки и ноги, как смачно откусывает от румяного ломтя сала, и ей казалось, что в вязанке лет она отыскала ту, прежнюю Клавдию довоенной выработки.
На третий день после свадьбы она поднялась вместе с утренними мартовскими сумерками, сложила в черную клеенчатую сумку четвертинку, полбуханки ржаного хлеба, пару соленых огурцов и несколько крутых яиц.
— Ты куда? — тяжело повернулся в постели Николай.
— На кладбище. У Кости сороковины сегодня.
— А… Ну давай. Приходи скорей.
Клавдия надвинула на глаза черный вдовий платок, сунула ноги в старые валенки, наглухо застегнула кургузое драповое пальтецо. Вышла на улицу, зашагала по последней весенней поземке. На кладбище она долго сидела у могилы, разложив на земле хлеб, яйца и огурцы, глядя на нетронутую бутылку водки. Потом легко поднялась и пошла, не оглядываясь, к воротам. Она шла, низко опустив голову, загребая валенками раскисшие комья снега, мимо высотных домов и гранитных набережных, мимо дощатых бараков и чугунных монументов, мимо похожих на пирожное «безе» кремовых особняков и заводских проходных, из-за которых несся въедливый запах горячей стальной стружки. Шла бульварами и площадями, колченогими переулками и стремительными, как корабельные сосны, проспектами, шла дачными просеками, и деревенскими улицами тоже шла. Шла день и шла ночь. Шла, пока не растворилась навсегда в негашеной извести тумана.
КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ
А солнечные зайцы все прыгали и прыгали. Один забрался Ей в нос и долго там возился, устраиваясь поудобнее. Она чихнула, дернула головой, и солнечный заяц переместился на щеку. Крыша соседнего дома горела так, будто на нее налили подсолнечное масло и поставили на открытый огонь. Она высунулась из окна и попыталась вдохнуть раскаленный воздух. Двор со всеми своими песочницами, скамеечками, чахлыми кустиками и красным жестяным грибом, нафаршированным белыми горошинами, валялся внизу, как детский рисунок, выброшенный с верхнего этажа. Мир вдруг крутанулся, встал на дыбы и развалился на части. «Калейдоскоп», — подумала Она. Такой калейдоскоп в виде картонной подзорной трубы Она недавно купила Ваське-маленькому. Тот целыми днями вертел его в руках и пялился на цветные осколки, думая, что в конце концов досмотрится до какой-нибудь здравомыслящей картинки. Она-то считала эту игрушку совершенно бессмысленной. Никакой внятной здравомыслящей картинки калейдоскоп показывать не собирался. В общем, сплошной обман, как ни крути. Но Васька-маленький очень ныл, и Васька-большой тоже смотрел жалобными детскими глазами.
— Если родится сын, назовем Васькой, — сказал Он в их первый медовый месяц. Первый, потому что медовых месяцев у них потом было много.
— А если дочь? — спросила Она.
— Дочь тоже Васькой, — подумав, ответил Он.
Она вцепилась в подоконник. Пальцы как будто закоченели и никак не хотели разжиматься, по спине пробежала струйка холодного пота, к горлу подкатила тошнота. Внизу бабуля Федотова выкликала внука. Бабуля Федотова — это было что-то определенное и осязаемое. Постоянная величина. Безусловный признак стабильности. Ничего не изменилось. Бабуля Федотова выкликает внука. Утром бабуля Федотова встретилась Ей у лифта.
— Ой, — сказала бабуля. — А вы уже из магазина? А ваши спят еще? И когда вы только успеваете?
Она засмеялась и кивнула. Она действительно бежала из магазина. И первая вставала. И никогда не опаздывала. И все успевала. И сейчас Она поднимется наверх, откроет рассохшуюся деревянную дверь в рыбьей чешуе облупившейся краски, на цыпочках проберется в кухню, поставит в холодильник бутылку «Можайского» молока и посидит минут пять, покурит. Потом плюхнет на огонь огромный чайник и пойдет будить «своих». «Вставайте, — скажет Она им: — Вставайте, лентяи!» И потреплет по волосам — сначала одного, потом другого.
Она плюхнула на огонь огромный чайник и пошла будить «своих».
— Вставайте! — громко сказала Она. — Вставайте, лентяи!
И потрепала Ваську-маленького по волосам. Васька вскочил с диким индейским криком, будто и не спал вовсе, выпрыгнул из кровати и помчался в ванную, свалив по дороге стул. Она вошла в спальню и села на край широкого дивана. Муж лежал поперек дивана, укрывшись с головой простыней.
— Эй, — сказала Она. — Вставать сегодня будем?
Он замычал, точным натренированным движением схватил Ее руку и прижал к губам.
— Будем, будем, — пробормотал Он.
Он всегда так бормотал. И мычал. И прижимал Ее руку к губам. И спал поперек кровати, натянув на голову простыню. Каждое утро, садясь на край дивана, Она знала, как Он будет бормотать, и мычать, и хватать Ее руку. Она все о Нем знала. Еще с той первой сухумской ночи, которую они провели на чужом дворе под инжиром. Инжир падал им на головы, они смеялись, пытались укрыться под толстыми махровыми пляжными полотенцами, а утром собирали огромные треснувшие инжирины и запихивали друг другу в рот. Инжирины были приторно-сладкими и очень кожаными.
— Это наш первый супружеский завтрак! — важно сказала Она и надкусила инжирину. — Как ты думаешь, мы теперь совсем взрослые? — Инжирина крякнула, лопнула и потекла по подбородку липким соком.
В этом дворе они провели свой первый медовый месяц. У чудных грузинских стариков была снята комнатушка по рублю за ночь. В комнатушке стояли раскладушка и один стул. Раскладушка им досталась костистая, а комнатушка душная, и смысла в этой комнатушке не было никакого. Они вытаскивали одеяла на улицу и спали прямо под своим инжиром. Водопровода они в доме не обнаружили. Канализации тоже. Зато море шумело в двух шагах. Они шли к нему садом, заросшим какими-то странными дикими огромными цветами ядовитых расцветок. Она этих цветов боялась и не разрешала их рвать. По вечерам ночь рассыпала в саду светлячки. Они шли к морю по светлячкам, плавали по лунной дорожке и по светлячкам возвращались обратно. Однажды Он посадил Ей светлячка в волосы.
— Это тебе подарок, — сказал Он. — Ко дню рождения сына. Обычно дарят кольца, а я светлячка.
— Какого сына? — засмеялась Она.
— Ну, будет же у нас когда-нибудь сын. Назовем его Васькой, ладно?
— А если дочь?
— Дочь тоже Васькой, — подумав, ответил Он.
С Васькой Она познакомилась самым стыдным образом. Шла по Аничкову мосту, пищала себе под нос старую песенку: «Ленинград, Ленинград, ля-ля-ля, ля-ля-ля, Летний сад, Летний сад, ля-ля-ля, ля-ля-ля». И вдруг полетела со стертых скользких ступенек. В этом полете Васька Ее и подхватил. Она увидела круглые голубые глаза, круглую розовую физиономию и круглую голову с пухом цыплячьих волос.
— Больно? — спросила физиономия и потащила Ее во двор Аничкова дворца. — Я сейчас, сейчас. На скамеечку. Я тут знаю, я тут в шахматы играл, во дворце пионеров. Вот так, осторожненько, — бормотала физиономия.
Потом физиономия куда-то делась и появилась снова минут через пять с охапкой бинтов. Оказалось, бегала на ту сторону Невского в аптеку. Нога была упакована в бинты. Физиономия топталась рядом.
— Давайте я вас домой отведу, — сказала она и протянула круглую мягкую руку. — Василий. — И солидно откашлялась.
На следующий день они отправились на прогулку в Летний сад.
— Вы не бойтесь, мы ходить не будем, мы на скамеечке посидим, — заверил Ее бдительный Василий. — Я вас с другом своим познакомлю.
Когда друг поднялся Ей навстречу, Она вздрогнула и попятилась. Потом задрала голову и поглядела в небо. Друг маячил где-то на уровне верхушек деревьев. Василий суетился сбоку, пытался их познакомить, совал круглую мягкую ладонь то одному, то другому.
— Васька, — сказал друг глубоким басом. — Ты не в фокусе.
И Васька пропал.
На свадьбе Васька выступал в качестве свидетеля.
— Ты как думаешь, Васька с твоей или с моей стороны должен быть? — спросил Ее друг, теперь уже будущий муж.
— Пусть будет с твоей, — разрешила Она. — Он тебя лучше знает.
— А к тебе лучше относится, — сказал будущий муж.
Они хором помолчали, хором посмотрели друг на друга, хором открыли рот.
— Тогда с обеих! — сказали хором и хором засмеялись.
…Она отняла руку от Его губ, сдернула простыню и шлепнула Его по спине.
— Давай уже, подымайся!
И пошла на кухню.
— Охо-хо-нюшки-хо-хо! Концлагерь на дому! Никакой жалости к мыслящей единице! — жалостливо бормотал Он, плетясь сзади. Доплелся до ванны, распахнул дверь. В ванной на табуретке спал Васька-маленький.
Она рассеянно разливала чай. Из ванной доносились крики, визги, стоны, плеск воды и даже один весьма ощутимый удар. «Господи, что у них там происходит?» — подумала Она и уже двинулась в их сторону, но тут они сами выкатились Ей навстречу в мокрых трусах и шлепках зубной пасты на мордочках. Она стояла в дверях кухни и, улыбаясь, смотрела на них.
— Ты чего, мам? — спросил Васька-маленький. — Чего смеешься?
— Ничего я не смеюсь. Давайте пейте свои чаи-кофеи, натягивайте штаны и выметайтесь. У меня, между прочим, сегодня выходной, если кто не в курсе. Я, между прочим, от вас отдохнуть хочу. Все понятно?
— Все понятно! Есть выметаться! — Они взяли под козырек, выдули по чашке чаю и вымелись. А Она пошла застилать кровати.
В комнате Васьки-маленького был чудовищный кавардак. Она вытащила из постели рваный носок, два засохших комка жвачки, гаечный ключ, хоккейную шайбу, безухого плюшевого зайца и раздавленный киндер-сюрприз. Потом подобрала с пола грязные штаны, смахнула с письменного стола футбольный мяч и вытащила на свет божий учебник русского языка, засунутый за батарею. «Марь ивана — кошка драна!» — было написано поперек обложки с широким красным фломастерным размахом. Она бросила учебник на стол и наткнулась глазами на камень. Камень был удивительный. Море прорыло в нем множество ходов, лазеек и норок, спрятало в них ракушки и мелкие камушки, превратив серый кулак булыжника в пригоршню, полную сюрпризов. Ракушки высовывались на свет круглыми ребристыми любопытными боками, но ни одна из них за пятнадцать лет не выпала из своего гнезда. Она взяла камень в руки, потрясла его, и он отозвался легким шелестящим звуком. Ей всегда казалось, что там, внутри, ракушки разговаривают друг с другом. Они нашли его ночью на берегу моря в свой первый медовый месяц.
В их сухумском домике никогда ничего не менялось. Так они его и называли — «наш сухумский домик». Сколько лет они туда ездили? Пять? Шесть? Нет, точно пять. Все сто пятьдесят отпускных дней, проведенных в «нашем сухумском домике», слились в один душный день. И инжир был все тот же, и гладкоструганый стол под ним, и одеяла на дворе, и раскладушка, и светлячки, и странные цветы, и компания. Моисей Семеныч с супругой Клавой. Моисей Семеныч был жилистый, кривоногий и кривоносый еврей темно-коричневого цвета, а Клава — дебелая русская красавица, эдакая бело-розовая пастила. Когда Клава сидела на пляже под китайским зонтиком в своем крупноцветастом купальнике, востроглазые сухумские мужчины в черных костюмах, застегнутых на все пуговицы, крахмальных белых рубашках и галстуках толпились вокруг и цокали языками. Они специально приходили на пляж посмотреть на Клаву и цокать языками. Моисей Семеныч нервничал, суетился, отгонял их, как птиц, мелкими взмахами рук — «Кыш! кыш! поди! поди!» — и пытался укрыть Клаву полотенцем. Клава полотенце скидывала. Мужчины цокали. Моисей Семеныч хмуро собирал сумки и уводил Клаву домой. Клава плыла по саду под китайским зонтиком, и казалось, что это плывет по воздуху дикий огромный странный цветок ядовитого цвета, случайно спорхнувший со своего стебелька.
— Нет, вы мне скажите, — горячился Моисей Семеныч, сидя вечером под инжиром со стаканчиком красного вина. — Что за манера такая — таскаться на пляж в пиджаках? Им что, не жарко? Нет, вы скажите, не жарко?
— А вы хотите, чтобы они голыми таскались? — лениво спрашивал кто-то из-за стола.
Мулечка вскакивала, хваталась за щеки и убегала в дом. Юлечка бежала за ней. Юлечка была девушка пятидесяти пяти лет. Она курила крепкие мужские папиросы, говорила басом и ухаживала за Мулечкой. Мулечка тоже была девушка, только пятидесяти трех лет, нежное создание. Когда-то, лет тридцать назад, она пережила на этом берегу, усеянном острыми камнями, любовь. Любовь быстро испарилась — то ли уехала, то ли переключилась на более интересный объект, — но Мулечка укололась навсегда и с тех пор каждый год предавалась сладостным воспоминаниям, бродя по скалистым берегам среди репейника и козьего навоза. Юлечка с Мулечкой носили длинные мешковатые платья, делающие их похожими на монашек, и круглые пионерские панамки, низко нахлобученные на седоватые стрижечки. За глаза их называли «опенками». Моисей Семеныч в приватной беседе как-то поведал, что Юлечка с Мулечкой сразу после получения аттестата зрелости прошли процедуру мумификации, и если кому-нибудь удастся подойти к ним поближе и отколупнуть от открытой части тела кусочек сухой копченой древесинки, то кусочек этот можно будет сдать в музей за большие деньги как историческое открытие. Петр Спиридонович, профессор Московского университета, заслуженный, между прочим, биолог и доктор наук, хмыкал, улыбался в усы, покачивал белоснежной головой и опрокидывал в себя полстакана красного вина. Его жена Верунька распахивала голубенькие глазенки и ахала. Верунька была наивная, верила всему, что ей говорили, мужа своего звала «дедулечкой» и была младше его на… впрочем, это не важно. А девушка с винным именем Изабелла… Нет, девушки с винным именем Изабелла тогда еще не было. Она появилась потом, в их последний, кажется, год. Да, точно, в последний.
— Ты вот что, милая, — втолковывал Веруньке Моисей Семеныч. — Ты этому Склифосовскому на глаза лучше не попадайся. — И показывал глазами на хибарку, где квартировал одинокий и интересный, по мнению Клавы и Веруньки, хирург из Питера. Хирург приезжал в «наш сухумский домик» с определенными целями, которых сильно опасались Моисей Семеныч и Петр Спиридонович. С садовой общественностью на связь не выходил и проводил вечера в прибрежных ресторанчиках. Верунька слушала Моисея Семеныча, распахивала голубенькие глазенки и ахала. Потом задумывалась и спрашивала робко:
— А почему?
— Потому что, милая, у него с собой всегда неплохая музычка, хороший коньяк и отличная пальпация.
Верунька ничего не понимала, но кивала. Хирург взялся за нее голыми руками в первый же вечер.
— Вас ведь, кажется, Верой зовут? — задушевно спросил он.
— Д-да, — пролепетала Верунька.
— Любите ли вы джаз, Вера? — спросил хирург.
— Н-не знаю. Н-наверное, — пролепетала Верунька.
— Я мог бы вам поставить чудные записи. У меня с собой неплохая музыка, хороший коньяк…
— И отличная пальпация? — выпалила Верунька, распахивая голубенькие глазенки.
Хирург залился каким-то диким химическим лиловым цветом, как будто окунулся в ведро с масляной краской, резко развернулся и ушел в свою хибарку.
…Она засмеялась, вспоминая все эти курортные глупости, зачем-то поцеловала камень и положила его на Васькин стол. Когда Васька-маленький еще жил в коляске, камень работал погремушкой. Получалось, что Васька вырос под ракушкины сказки. С Васькой у них долго не выходило.
— Если родится сын, назовем Васькой, — сказал Он.
— А если дочь? — спросила Она.
— Дочь тоже Васькой, — подумав, ответил Он.
Но никакого Васьки пять лет не было. А на шестой появился. Они, когда ехали в «наш сухумский домик», уже знали, что теперь их не двое, а трое. Еще знали, что едут сюда последний раз. То есть, может быть, и не последний. Даже наверняка не последний. Но под инжиром им долго не сидеть. И красного вина не пить. И не ловить светлячков среди странных диковинных цветов. И не таскать по вечерам одеяла во двор. И не бегать на пляж за вареной кукурузой, которую орденоносец и дед пятнадцати внуков Вахтанг Илларионович Габуния каждый день ровно в двенадцать часов выносит в корзинке из дома и, щедро посыпав солью, раздает страждущим курортникам просто так, бесплатно. И мамалыгу не есть. И не бегать по вечерам на танцы в соседний студенческий лагерь. Однажды ночью они брели с танцев по шоссе домой и вдруг застыли, задрав головы и глядя в сухумское небо, похожее на круто сваренный черный турецкий кофе.
— Смотри, — сказал Он. — НЛО.
По небу медленно и как-то очень важно летел крупный светлячок. Даже не светлячок — светляк величиной с хороший мужской кулак. Светляк пересек линию пляжа, чуть-чуть повисел на верхушке кипариса, поглазел на их макушки и не спеша удалился в горы.
— Да брось ты, — сказала Она. — Какое НЛО! Обычный спутник.
А через день в какой-то центральной газете появилась заметка: «Такого-то числа жители и отдыхающие Черноморского побережья могли видеть…»
— Это мы могли видеть! — гордо сказал Он. — И — главное — видели!
А на танцы они в последний год и так не ходили.
Всю беременность Ей было стыдно. Стыдно синих кругов под глазами, взмокшего бледного лба, задравшейся на животе юбки. Стыдно, что нету сил утром встать и сварить кофе, а вечером встать и поставить чайник. Стыдно распухших ног, не влезающих ни в одни приличные туфли. Стыдно каждые полчаса бегать в туалет и там сидеть на низкой пластмассовой табуретке, склонившись над унитазом, потому что стоять уже нет никакой мочи.
Васька-большой приходил каждый день, вынимал Ее из кровати и прогуливал под дождем. В ту осень дожди шли каждый день, а может, Ей так казалось. Во всяком случае, Она не помнила ни одного погожего дня. Так вот, Васька-большой приходил, вынимал Ее из кровати и вел под дождь.
— Да брось ты, — вяло отмахивалась Она, когда он втряхивал Ее в плащ. — Да брось ты, Васька, ей-богу! Занимался бы лучше своими делами.
— Нет у меня своих дел, — невозмутимо отвечал Васька. — Только ваши остались.
Своих дел у него действительно не было. Писалась какая-то невразумительная диссертация. Название Васька держал в секрете, но Ей почему-то казалось, что, может, он и не помнит его, названия-то? Диссертация была ему нужна, чтобы волынить время. Время от времени Васька появлялся на работе, перекладывал на столе пару карандашей, останавливался посреди комнаты, стоял, заложив руки за спину и покачиваясь на носках, задумчиво глядел в потолок. Потом как бы между прочим, как бы невзначай говорил в пустоту:
— Так я, пожалуй, в библиотеку… Н-да.
И уходил. И втряхивал Ее в старое бабушкино вытертое пальто и вел под дождь. По вечерам они втроем сидели за чаем. Вернее, двое сидели, а одна лежала. Лежа Она видела из-за валика своего дивана две головы и каждый раз поражалась их разности. Одна — круглая, с цыплячьим пухом волос, на узких клетчатых плечиках, — все время шевелилась. Вертелась, клонилась то к одному, то к другому плечу, вытягивалась на тонкой шейке, встряхивала пухом. Вторая — с густой темной жесткой шерсткой — с какой-то упрямой монументальной неподвижностью воздвигалась над высокой спинкой вольтеровского кресла, придвинутого к столу. Иногда головы вступали в пререкания.
— Чур не жухать! — кричала цыплячья, чуть подвизгивая.
— Сам ты жухаешь! — невозмутимо отвечала шерстяная, спускаясь в басы.
«Дети малые!» — думала, Она, улыбаясь, и закрывала глаза. У этих двоих всегда была в запасе какая-нибудь недоигранная шахматная партия, которая тянулась годами. Совершенно никому, кстати говоря, ненужная партия. Но, доиграв ее, они смешивали фигуры и зачем-то начинали все заново. Ей казалось, что они всю жизнь разыгрывают один и тот же гамбит — просто не знают других ходов, не умеют иначе переставлять фигуры. Еще Ей казалось, что шахматы им нужны, чтобы обмениваться мыслями. Она подозревала их в телепатии. Потом, когда начался преферанс, телепатию отменили за ненадобностью. В картах они самовыражались очень явно. А тут лишь — «Чур не жухать!» — «Сам ты жухаешь!» И все. «Где там можно жухать, в шахматах?» — лениво думала Она. Как-то спросила, оказалось, они подозревают друг друга в воровстве фигур. Водился за ними такой грешок — любили стибрить исподтишка королеву или какого-нибудь другого слона и улыбаться эдак независимо, дескать, вас тут не стояло!
В тот последний год в «нашем сухумском домике», когда их было уже не двое, а трое, Он и Моисея Семеныча подбил на шахматные безумства — по гривеннику за партию. Моисей Семеныч почесал шоколадную лысину и согласился. Кончилось скандалом. Через десять минут Моисей Семеныч уже орал на весь двор, что «приличные люди так не поступают, или отдавайте пешку, или я возьму свои меры!». Какие такие меры собирался брать Моисей Семеныч и — главное! — где, осталось тайной. А шахматы на этом закончились. Она тогда уже плохо себя чувствовала. Вернее, вообще никак себя не чувствовала. Лежала целыми днями на раскладушке, дышала в открытое окно. Дышать не получалось. Воздух вливался в легкие как расплавленный свинец — тяжкий, вязкий, горячий. По вечерам Он вытаскивал Ее вместе с раскладушкой во двор, под инжир. Она скручивалась в судорожную пружину, подтягивала к подбородку простыню — только бы никто Ее не видел! А ведь раньше проводили под этим инжиром целые ночи — и ничего. Но тем летом Ей уже все было стыдно. Она поднималась и брела обратно в дом. Он нес за Ней раскладушку. Шел обратно. Под инжиром смеялись, голоса то поднимались, то падали, и Она засыпала под них, как под колыбельную. Однажды, когда небо вызвездило и воздух неожиданно полегчал, Она вышла из своего заточения, запрокинула голову и вздохнула полной грудью. Он сидел на лавочке за столом, спиной к ней, и курил. Она подошла, положила ладони Ему на глаза и чмокнула в макушку. Он замычал, точным тренированным движением взял Ее руки и прижал к губам. Не отнимая рук, Она обошла лавочку и присела перед ним на корточки.
— Эй! — сказала Она. — Давай открывай глаза. Это я, твоя жена.
Он медленно открыл глаза и с трудом сфокусировался на Ее лице.
— Ты? — удивленно спросил Он.
— Ага. Не узнал?
— Не узнал. Ты чего встала?
— За тобой. Пошли?
— Ну пошли.
В кустах что-то затрещало, мелькнула белая тень. Он вздрогнул.
— Что там?
— Там? Не знаю. Наверное, винная девушка Изабелла пробирается к Склифосовскому.
— А что, девушка Изабелла наведывается по ночам к Склифосовскому?
— Говорят. Спроси Моисея Семеныча, он тебе в подробностях расскажет.
— Моисея Семеныча не могу. У нас с ним идеологические расхождения.
— Идеологические расхождения на гривенник, — засмеялась Она.
Кусты разошлись, и винная девушка выскочила прямо на них. Выскочила, постояла, посмотрела и нырнула обратно. А они пошли спать.
С тех пор они ни разу никого ни видели — ни Моисея Семеныча с Клавой, ни Мулечку, ни Юлечку, ни Склифосовского, ни Веруньку с седовласым Петром Спиридоновичем, ни винную Изабеллу. Впрочем, нет, с Моисеем Семенычем и Клавой столкнулись как-то на Невском, у «Севера». Они шли за пирожными, а Моисей Семеныч и Клава — с пирожными. Поохали, поахали, порасспросили друг друга за житье-бытье, договорились встречаться, дружить домами и разошлись навсегда. Еще Она как-то налетела на Изабеллу. В метро, на переходе, в толпе вдруг мелькнула знакомая фигура, выскочила прямо на Нее, как тогда из кустов. Ноги длиннющие. Какая-то немыслимая куртка с косо обрезанным подолом. Маленькая головка на прямо поставленной высокой шейке.
— Изабелла! — крикнула Она. Неожиданно крикнула. Что ей Изабелла? Что Она Изабелле? Пара встреч на излете сухумской эпопеи. Моисей Семеныч с Клавой, Мулечка с Юлечкой — эти все-таки родные, а Изабелла — кто она им? Нет, не хотела Она ее окликать, а вот окликнула. Зачем?
— Изабелла, — повторила Она. — Вы меня не узнаете?
— Нет, — медленно ответила Изабелла. — Не узнаю.
— Ну как же… Сухуми, инжир, пять лет назад… Неужели не помните? — засуетилась она.
Зачем засуетилась?
— Нет, — еще медленнее ответила Изабелла. — Не помню.
Повернулась маленькая головка на высокой шейке. Глухой ворот. Тоненькая цепочка. На цепочке — виноградная гроздь. В ложбинке между ключиц. Серебро, крошечные топазы. Стекляшки, наверное. Винная девушка.
— Извините, — пробормотала Она. — Извините. Я, наверное, ошиблась.
— Наверное, — равнодушно ответила Изабелла и нырнула в толпу.
От этой встречи осталось какое-то странное мятое чувство. Она была уверена, что Изабелла ее узнала. Узнала и не захотела узнавать. Почему? Решила не заводить досужих разговоров, не пускаться в пустые неинтересные воспоминания? Ну и хорошо. Ей самой не очень-то хотелось говорить с Изабеллой. И зачем окликала?
— Ты знаешь, — сказала Она вечером, когда они втроем сидели за чаем. Он, Она и четырехлетний Васька-маленький, — я встретила старую знакомую.
— Кого? — спросил Он, перелистывая газету.
— Изабеллу. Помнишь, из Сухуми?
— Изабеллу? — Он сложил газету и повернулся к Ней. — Помню, конечно. А где ты ее встретила?
— В метро. Она меня не узнала. Вернее, сделала вид, что не узнала.
— Глупости какие! Чего ей вид делать? Наверное, спешила просто, не хотела останавливаться. О чем ей с тобой говорить?
— Не о чем, — согласилась Она. Но мятое чувство осталось.
…Она встряхнула головой и быстро вышла из Васькиной комнаты. Можно, конечно, устроить день воспоминаний, но как тогда быть с уборкой, и обедом, и стиркой, и на почту надо, и вечером Васькины уроки, и… И Изабелла к ее воспоминаниям уж точно не имеет никакого отношения. Потому что винной девушки Изабеллы в ее жизни попросту не было. Так, отпускной промельк. В дверь позвонили, и Она бросилась открывать. Васька-большой ввалился в коридор и плюхнул на пол огромный грязный мешок.
— Получай, — выдохнул он, отчаянно глотая ртом воздух. — Картошка. Рязанская. Сухая. Дешевая. Говорят, хорошая. Пощупай.
Она пощупала. Картошка была рязанская, сухая, хорошая.
— Чаю хочешь, Васька? — спросила Она.
— Хочу.
— А бублик?
— И бублик. И масло, и сыр, и колбасу, и котлету, и от супчика не откажусь.
— Обойдешься без супчика. Иди мыть руки.
Он долго возился в ванной и появился на пороге кухни вполне чистый и розовый. Продемонстрировал ладошки — верх, низ, вот ногти проинспектируйте, пожалуйста, и шею оцените, а уши, не проверите ли уши? Она хлопнула его по затылку, и он плюхнулся на табуретку, как давеча мешок с картошкой.
— Эх, Васька, Васька! — вздохнула Она. — Совсем ты себя извел, Васька!
Васька молча подтягивал к себе сахарницу.
— Ты, Васька, без пропитания скоро с лица Земли исчезнешь. И что я тогда делать буду? Кто мне на старости лет поднесет мешок с картошкой?
Васька клал в чай пятую ложку сахара.
— Ты почему не женишься, Васька?
Васька глазел в окно, болтая ложечкой в чае. Она отвернулась к плите, погремела сковородками и выдала ему разогретый бублик. Васька взял бублик розовой рукой, и Она засмеялась.
— Ты чего?
— Совсем ты не загораешь, Васька! Смотри, бублик загорелее тебя.
— Ну, ему положено, он же из печки.
— А помнишь, как я звала вас «Третий Интернационал»? Тогда, в Сухуми?
— Ага, один черный, другой красный.
— А Васька-маленький вообще желтый.
— А помнишь, как ты меня мазала сметаной от волдырей? — Ага, а она вся впитывалась без остатка. Может, ты ее слизывал втихаря? А как на утес ходили, помнишь?
— А Васька-маленький носился внизу по пляжу и искал жемчуг в ракушках.
— И янтарь. Он думал, что на море обязательно должен быть янтарь. А мы сверху смотрели, как он носится. И ты сказал…
— Что?
— Нет, ничего. Не помню. Я тебе давно хотела сказать, Васька, если бы не ты, мы бы тогда на утес не ходили и на Ваську не смотрели. Нас бы вообще не было. Если бы ты не успел…
— Брось, ладно? Так супчику не дашь?
— Не-а, не дам. Нету супчика. Вечером приходи.
— Так я пошел?
— Иди.
И он пошел. И Она пошла. Она пошла в спальню, быстро перетряхнула кровать, сняла белье, надела новое, смахнула тряпкой пыль и направилась к стулу, заваленному одеждой. Он всегда сваливал одежду на стулья. «Опять слонов по углам наставил!» — раздражалась Она, и Он покорно шел разбирать кучи. А назавтра наваливал снова. Она сложила свитер, сунула его в шкаф и взялась за брюки. Брюки зазвенели и высыпали на пол пригоршню мелочи. Вечно Он носил в карманах груду мелочи. Черт! Она медленно опустилась на пол и стала сгребать медяки. Черт! Он стоял в дверях, засунув в карманы стиснутые кулаки. Кулаки прыгали в карманах, и Ей казалось, будто их дергают за ниточки. Карманы звенели. Звон был какой-то… неподходящий. Радостный звон. Праздничный. Он бил Ей в уши, отдавался в голове, серебряными безжалостными молотками вколачивался в затылок. Она закрыла глаза, но безжалостные молотки продолжали колотить по закрытым глазам. Она ничего не слышала, кроме этого звона. И не видела. Под веками плавали страшные медные круги, похожие на капли раскаленного масла. Она подняла глаза и увидела, что Его губы тоже прыгают. Он пытался что-то сказать, звуки вырывались из горла, но не могли пробиться наружу сквозь эти прыгающие губы. Совершенно синие губы. Черт! Она сгребла мелочь и зажала ее в кулаке.
Этот преферанс они изобрели случайно. Просто встретились со старыми институтскими приятелями, говорить, видимо, было не о чем, засели за карты. Васька-большой продулся в пух и прах.
— Опять по гривеннику играли? — смеялась Она.
— Ты что? — Васька делал большие глаза. — Да я… Да ты знаешь, сколько я проиграл? — Он гордо вскидывал голову. — Да ты представить себе не можешь! Двадцать пять рублей!
— Да, сумма впечатляет, — соглашалась Она.
В следующую субботу решили отыграться. Так и пошло. Собирались у Васьки. Сугубо мужская компания. Женщины не допускались. Спиртное не допускалось тоже. Чтобы не нарушать ясность мысли. Звонить не полагалось. Из тех же соображений. Если только какое ЧП. А ЧП у нее никогда не случались. Она и не звонила. И в тот день не позвонила бы, если бы случайно не заглянула в комнату к Ваське-маленькому. Свет погасить. Одеяло поправить. Васька, бледно-голубого цвета, лежал на спине, закатив глаза, и не дышал. Она дотронулась до его плеча, потом легонько тряханула, потом тряханула сильнее. Васька не шевелился. Она наклонилась к его лицу и услышала какой-то странный тоненький свист. «Зачем он свистит?» — растерянно подумала Она и поняла, что это не свист, а Васькино дыхание. Дыхание было как ниточка с острой тонкой иглой на конце. Она беспомощно оглянулась, увидела на полу грязные брюки, мокрые носки и вспомнила. Вспомнила красные горячечные щеки, лихорадочные глаза, потные волосенки, набухшие ранней весенней сыростью сапоги. Он ввалился в дом, кинул на пороге клюшку, рванул в кухню, выдул стакан воды и бросился обратно на улицу.
— Не сметь! Домой! Немедленно домой! В ванну! — закричала Она, выскакивая за ним на лестничную клетку, но он, ничего не слыша, уже несся вниз.
Она бессмысленно тыкала в кнопки срывающимся пальцем, набирала чужие номера, что-то спрашивала, выслушивала ответы, снова тыкала, снова спрашивала, снова выслушивала. Чужие голоса говорили чужие слова. Наконец голос Васьки-большого неторопливо сказал:
— Алло!
— Васька… — прошептала Она. И закричала что есть мочи: — Ва-а-аська!
Она сама не знала, к кому относится это «Ва-а-аська!». К тому, кто лежал сейчас в соседней комнате с бледно-голубым лицом и игольчатым дыханием, или к тому, кто на другом конце проводе еще не знал, что должен Ее спасать.
— Ты что? Что с тобой? Что случилось? — испугался Васька.
— Где? Где? Дай…
Ей хотелось крикнуть: «Быстрей, Васька, быстрей, позови Его к телефону!» — но сил не было даже на то, чтобы произнести имя.
— Он уехал, — растерянно проговорил Васька. — Полчаса назад. Да что случилось-то? Я приеду сейчас!
«Не надо! — попыталась сказать Она. — Не надо, Васька, не приезжай. Раз Он выехал, значит, все в порядке». Но ничего не сказала.
Потом Она сидела на стуле, свесив руки между коленей. Дверь стояла нараспашку, мимо сновали какие-то люди в белых халатах, носили взад-вперед твердые пузатые чемоданы, а Она удивлялась — зачем тут чемоданы, кто уезжает или, может, приехал кто? И Васька-большой мелькал тут же, среди белых халатов, что-то им говорил, что-то показывал, что-то давал, и пробегал мимо Нее, и опускался на колени, и о чем-то спрашивал, про какое-то одеяло, и еще о чем-то, Она не запомнила, и убегал опять, и снова опускался на колени, и бормотал, бормотал… Что он бормотал? И гладил Ей руки, и щеки, и волосы… А Она сидела на стуле, свесив руки между коленей и закрыв глаза. Пока не услышала этот звон. Радостный звон. Праздничный. Он бил ей в уши, отдавался в голове, серебряными безжалостными молотками вколачивался в затылок. Она сидела, закрыв глаза, и безжалостные молотки колотили по Ее закрытым глазам. Она ничего не слышала, кроме этого звона. И не видела. Под веками плавали страшные медные круги, похожие на капли раскаленного масла. Она подняла глаза и увидела, как прыгают Его губы. Он пытался что-то сказать, звуки вырывались из горла, но не могли пробиться наружу сквозь эти прыгающие губы. Совершенно синие губы.
— Ты почему так долго? — Она шевельнула губами, и Он ничего не услышал.
Все стихло. Она лежала на диване в гостиной, а Васька-маленький у себя. Он вздыхал во сне, причмокивал и постанывал. Васька-большой капал в рюмку какую-то пахучую темно-коричневую жидкость, наклонялся над Ней и вливал жидкость Ей в рот. Она глотала, морщилась, откидывалась на подушки.
— Ничего, — бормотал Васька. — Ничего. Сейчас уснешь.
Но Она не спала. Лежала и смотрела на две головы, маячившие над диванным валиком. Круглую, с цыплячьим пухом, мотавшуюся над узкими клетчатыми плечиками, и темную, неподвижную, шерстяную. Круглая наклонялась к шерстяной и что-то ей втолковывала. Шерстяная кивала, оборачивалась. Она видела блестящий беспокойный взгляд и заставляла себя улыбаться: «Все нормально, все нормально, все нормально. Не волнуйся. Все прошло и больше не вернется». Головы расплывались, мешаясь с желтым блином света на обоях, Она разлепляла непослушные веки, но веки все тяжелели и тяжелели, наливаясь невыносимой каменной усталостью.
— Ладно, — услышала Она сквозь сон Васькин голос. — Я пошел. Ты имей в виду…
Летом поехали в «наш сухумский домик». Первый раз за десять лет. Васьки поместились в хибарке, где когда-то жил Склифосовский, а они — в своей комнатенке с раскладушкой. Ничего не изменилось — тот же сад, заросший дикими странными цветами, тот же инжир, гладкоструганый, потемневший от времени стол, и Вахтанг Илларионович Габуния, орденоносец и дед уже восемнадцати внуков, с корзинкой, полной кукурузы, и лунная дорожка, и кизиловые кусты, и светлячки. Не было, конечно, ни Мулечки, ни Юлечки, ни Веруньки с Петром Спиридоновичем. Говорили, что Моисей Семеныч с Клавой приезжали месяц назад, что Клава ужасно растолстела и местные джентльмены в черных тройках и крахмальных рубашках больше не собирались на пляже, чтобы смотреть на нее и цокать языками. Моисей Семеныч был очень доволен. Чужие люди сидели по вечерам под их инжиром, и они не подсаживались к ним. Проходили мимо, вежливо улыбались, желали доброго вечера. Каждое утро шли на утес, расстилали одеяла, валялись, щурились лениво на солнечные брызги, так же лениво перебрасывались словами, обедали огурцами и помидорами, завернутыми в лаваш. Время от времени поднимались, скатывались вниз, на пляж, окунались в вялую кипяченую подсоленную воду, поднимались обратно, бросались на одеяло лицом вниз. Внизу Васька-маленький, похожий на китайца в островерхой соломенной шляпе, желтый от загара, искал свой жемчуг и янтарь. Васька-большой обгорел до волдырей, и Она мазала его сметаной. Он вообще никогда толком не мог загореть, этот Васька. Не То что они — два шоколадных негритенка в их разноцветной компании. «Триколор!» — говорил Васька. «Третий Интернационал!» — поправляла Она.
Однажды стояли втроем на утесе и глядели, как Васька-маленький ковыряется внизу со своими ракушками.
— Как ты тогда успел, Васька? — вдруг спросила Она. В первый раз за все время спросила. Они никогда не говорили о… Они никогда ни о чем не говорили. — Как ты тогда успел?
— Никак, — буркнул он, — взял левака. — И отвернулся от Нее. — Хорошо хоть, до тебя дозвонился, — пробормотал Васька себе под нос и положил руку ему на плечо. — Вечно ты к телефону не подходишь.
Он скинул Васькину руку и побежал вниз. Камни выскакивали из-под его босых ног, и их острые края, казалось, впивались ей прямо в грудь. «Васька что-то сказал, а я ничего не слышала», — подумала Она и легла ничком на одеяло.
Она разжала ладонь, и мелочь снова высыпалась на пол. Она сидела на полу и глядела, как на ладони наливается алой пульсирующей болью длинная кривая царапина. Вяло удивилась. Разгребла монетки. Ключ, притворившись медяком, застенчиво лежал на полу. Очень маленький, очень блестящий, очень женский ключ. «Сейчас юркнет под какой-нибудь пятак, и я его не найду», — подумала Она и в испуге, что ключ действительно куда-нибудь спрячется, схватилась за брелок. Яркие винные искры ударили ей в глаза. Медленно Она поднесла ключ к глазам — ближе, ближе, как будто зрение вдруг отказало Ей. Красивый брелок — виноградная гроздь, серебро, крошечные топазы. Стекляшки, наверное.
Она поднялась с пола, подошла к открытому окну и попыталась вздохнуть. Воздух, горячий и влажный, почти сухумский, вливался в легкие густым тошнотворным бульоном. По спине пробежала струйка пота, к горлу подкатил комок. Солнечные зайцы настырно лезли в глаза. Она попыталась увернуться, но ничего не вышло. Горела крыша соседнего дома. Двор валялся внизу, как детский рисунок, брошенный с верхнего этажа. Мир треснул и раскололся. Она сделала над собой усилие, собрала мир в единую картинку, оторвала от подоконника негнущиеся пальцы и двинулась к телефону. Сняла трубку, не глядя потыкала пальцем в кнопки.
— Алло! — сказала трубка Васькиным голосом.
— Ты же все знал, Васька. Правда? Знал? — спросила Она мертвым голосом. — Никакого преферанса никогда не было. И сейчас нет. Он тогда опоздал, потому что ты до Него дозвониться не мог. Ведь не мог, да? Он, наверное, трубку не берет, когда Он… там. Ты не молчи, Васька. Ты что-нибудь скажи.
Но Васька молчал. Она видела побелевшие пальцы, вцепившиеся в трубку, круглое розовое лицо, застывшее, словно клоунская маска. Опустила трубку на рычаг, взяла брюки, валявшиеся на стуле, осторожно положила в карман ключ, вышла из комнаты и закрыла за собой дверь.
* * *
Он пришел поздно, почти в десять. Васька-маленький уже переделал все уроки, умял тарелку вареников с картошкой, посмотрел «Тома и Джерри», со скандалом почистил зубы и теперь дочитывал в постели «Гарри Поттера».
— Эй! — крикнул он, услышав, как в замке ворочается ключ. — Отец пришел, не слышишь, что ли?
Она вышла в коридор, прислонилась к дверному косяку и стала смотреть, как Он снимает ботинки. Он сидел на корточках и дергал затянувшийся узелок. Шерстяная макушка вздрагивала и, кажется, даже чертыхалась. Она наклонилась и поцеловала Его в сердитую макушку. Макушка повернулась, Он поднял лицо и, улыбаясь, потянулся к Ней. Она схватила его за уши и прижала к груди.
— Пойдем скорей, я тебя накормлю, — сказала Она. — Вареники будешь?
— М-м-м-м, — замычал Он, целуя ей грудь.
— Васька умял целую тарелку. Он тебя ждет, хочет что-то показать. Зайди к нему сейчас, а то он не уснет.
— М-м-м-м, — ответил Он и потерся об Нее носом.
В субботу Он ушел играть в преферанс. А Васька-большой принес мешок моркови. Пора было делать запасы на зиму.
ПАРОЧКА
Вовочка и Ксаночка были пара.
Не парой, а именно — пара. Парой можно сходить в кино или в кафе. Парой можно прийти на вечеринку, а после разойтись в разные стороны. Быть парой — это значит быть вдвоем, при этом сохраняя свою личную отдельность и отдаленность от партнера. Парой ходят за руку и рядом. Но при этом каждый — сам по себе. Пара — это совсем другое. Пара — это единый организм. Монолит. Четыре ноги, четыре руки, одна дыхалка. У Вовочки с Ксаночкой была одна дыхалка. Они существовали без зазора. Между ними было невозможно просунуть даже лист папиросной бумаги. Говорят, когда люди любят, они смотрят не друг на друга, а в одну сторону. Вовочка с Ксаночкой умудрялись смотреть и друг на друга, и в одну сторону. Мы считали, что они похожи на двухголового дракончика. Дракончик полыхал огнем. Вокруг Вовочки с Ксаночкой простиралась выжженная пустыня. Не то чтобы они никого не хотели. Они просто нас не замечали. Мы были им не нужны.
Сказать, что Вовочка был недотепой, — это не сказать ничего. Вовочка был великолепным обалдуем. Вы уж мне поверьте, я с ним пять лет проучилась на журфаке. На журфаке с Вовочкой случились две вещи. На экзамене по античной литературе преподаватель выбросил его зачетку в окно. Вовочка пространно ответил на все вопросы, только немножко перепутал предмет. Он думал, что отвечает историю партии. К пятому курсу у Вовочки за все истекшие годы накопилось 32 хвоста, которые он с успехом сдал за пять дней, рассказывая преподавателям байку о том, что трое прелестных малюток требуют его неусыпной заботы и поэтому он вынужден подрабатывать грузчиком в овощном магазине. В это время наша большая теплая компания, в которой Вовочка по причине внушительных габаритов занимал заметное место, окончательно раскристаллизовалась на парочки и потихоньку переженилась. Вовочка тоже не отставал. На какой-то дискотеке в главном корпусе МГУ он подхватил Ксаночку. Ксаночка училась на третьем курсе юрфака. Вовочкин диплом они отмечали мужем и женой.
Вовочка с Ксаночкой были живой иллюстрацией тезиса о том, что противоположности притягиваются. Ксаночка походила на сушеную запятую. Голова у нее была большая и круглая, а тельце — маленькое и тощенькое. Вовочка, напротив, обладал пышными, довольно размытыми формами и такими же неопределенными, мягкими чертами лица. Ходили они, тесно прижавшись друг к другу.
— Ксаночка! — говорил Вовочка, нежно глядя сверху вниз в Ксаночкины глаза и пожимая маленькую ручку.
— Вовочка! — отвечала Ксаночка, нежно глядя снизу вверх в Вовочкины глаза и отвечая на пожатие.
Дни рождения Вовочка и Ксаночка праздновали вдвоем. Уезжали в лес. Что они делали в лесу — неизвестно. Никого из нас они с собой не приглашали. Однажды мы намекнули, что неплохо было бы всем вместе с шашлычком на природе отметить Вовочкин двадцатипятилетний юбилей, однако получили вежливый, но твердый отказ. На Ксаночкин день рождения мы даже и не просились. Тем более что приходился он на середину января. Что они делали в лесу в середине января — об этом нам даже не хотелось думать. По вечерам они играли в баскетбол. Повесили на дверь корзину и, сидя рядышком на диване, бросали в нее мячи. Потом, когда подросла их дочка Мариночка, стали играть втроем.
Между тем журналистская карьера Вовочки походила на кенгуру. Она двигалась вперед какими-то неровными замысловатыми скачками. Вовочка пошел работать в одну из московских газеток, и его тут же назначили «свежей головой». «Свежая голова» — для тех, кто не знаком с газетной работой, — это такой человек, который приходит в редакцию к концу дня и прочитывает весь номер насквозь. Подразумевается, что в этот день «свежая голова» долго спит и потому не пропускает ни одной ошибки. «Свежими головами» бывают все сотрудники по очереди. Но Вовочку в редакции еще не знали, иначе бы редактор не решился на столь опрометчивый шаг. После Вовочкиного дежурства газета вышла с колонтитулом «37 июня», хотя на дворе было аккурат 15 сентября. Редактор рвал на себе волосы.
— Ну хотя бы июля! — жалобно говорил он, вставая на цыпочки и заглядывая Вовочке в глаза в попытке разглядеть там проблески раскаяния. — Я бы еще понял. Все-таки в июле тридцать один день. Это как-то ближе к правде жизни. Но июня! — И он изумленно всплескивал руками.
Вовочка виновато улыбался.
Ксаночка утверждала, что такое случается со всеми и Вовочка себя еще покажет.
Следующие полгода Вовочка сидел в отделе информации и строчил заметки типа: «Московские строители заложили новую очередь банно-прачечного комбината на Юго-Западе столицы. О ходе строительных работ нашему корреспонденту рассказал бригадир СУ № 5 А. Понькин». Редактор был им доволен. Но тут подоспел грипп. Редакция слегла. Вовочке пришлось стать на время выпускающим редактором. Он поставил на первую полосу фотографию главы государства, вручающего большую государственную награду известной актрисе. «Отсос молока при помощи нового доильного аппарата ведется круглосуточно, даже когда коровы спят. Об этом поведал нашему корреспонденту председатель колхоза «Светлый путь» Мирчуткин» — гласила подпись под фото.
— Придется вам писать заявление, молодой человек, — устало сказал редактор.
— Во-овочка! — укоризненно пропела Ксаночка, по-прежнему нежно глядя снизу вверх в Вовочкины глаза.
— Кса-аночка! — виновато пропел Вовочка, по-прежнему нежно глядя сверху вниз в Ксаночкины глаза.
Какое-то время Вовочка слонялся без дела, пока общими усилиями мы не пристроили его на новое место. На новом месте Вовочку застала смерть тогдашнего генсека. В день похорон он дежурил по номеру. Так в общий траурный газетный хор вплелась оптимистическая нотка. «Праздничный вернисаж у стен Кремля», — собственноручно озаглавил Вовочка материал о выставке московских художников в Манеже. И не его вина, что материал случайно попал на первую полосу вместо парадного некролога. Секретаря райкома после Вовочкиного вернисажа прямо с рабочего места увезли с инфарктом в больницу. Главного редактора уволили. Секретарь парткома редакции получил назначение в колхоз, расположенный за сто первым километром. Вовочка пострадал меньше всех. Ему было нечего терять, кроме своих цепей.
Впрочем, он впал в депрессию, а это уже кое-что, учитывая, что Вовочка, будучи журналистом, даже не знал имени-отчества умершего генсека. Ксаночка неотлучно находилась при нем. Она поила его бульонами и за руку водила в туалет. Мы к телу не допускались. «Тсс! — шептала Ксаночка и прикладывала пальчик к губам. — Он так слаб!» Мы топтались в прихожей, пристроив на лица скорбные гримасы. Вовочка посылал нам слабые улыбки с дивана.
Перестройка застала Вовочку в состоянии полной деморализации. Но тут какой-то дальний знакомый позвал его делать первый в России глянцевый журнал. Деньги обещал немереные. Вовочка пошел. Через два месяца, когда вышел первый номер журнала, весь трудовой коллектив был распущен по домам без копейки денег.
— Не журись, старик! — говорил Вовочке дальний знакомый и крепко хлопал его по плечу. — К тебе это не относится. Ты у нас — ого-го! Ты у нас — костяк! На тебе весь журнал держится!
Вовочка испуганно кивал.
Набрали новых людей. Вовочка стал главным редактором и ужасно загордился.
— А вы не верили! — говорил он нам, и мы смущенно пожимали плечами, потому что как же можно было не верить в такого бравого молодца!
Вовочку выгнали через полгода, не заплатив ни за один из шести отработанных месяцев. Вовочка подал в суд. В суде выяснилось, что он забыл заключить с журналом контракт и подавать в суд ему просто не на кого.
— Вовочка! — сурово сказала Ксаночка тоном общественного обвинителя.
— Ксаночка! — развел руками Вовочка.
Они взялись за руки и пошли домой играть в баскетбол.
На следующий день Ксаночка собрала общее совещание. С Вовочкой надо было что-то делать. Мы долго и уныло пили чай. Ксаночка пристально смотрела на нас печальными глазами, требуя немедленного вмешательства в Вовочкину судьбу.
— Ну… — наконец сказала одна наша приятельница. — Не знаю… Есть одно место… Деньги платят регулярно.
Мы восторженно загалдели, дескать, давай, давай твое место! Давай быстрее!
— Ну… — сказала приятельница. — Не знаю… А если что…
Мы замахали руками, дескать, ничего, ничего! Ничего не будет! «Правда, Вовочка? Обещаешь?»
Вовочка обещал.
«Все-таки молодец эта Ксаночка, — говорили мы друг другу, расходясь. — Такую бы жену да в мирных целях!»
На новом месте Вовочка работал исправно. В смысле не высовывался. Он даже вошел в доверие к главному редактору, главным образом тем, что молчал на летучках, девяностые перевалили за середину. Началась эпоха производства. Именно это — смена эпох и необоснованное доверие Вовочке — и погубило главного редактора. Он послал Вовочку делать материал о фирме, выпустившей на рынок эксклюзивную косметику. Косметика была дорогая. Фирма — известная. Короче, главный редактор взял немало. Но Вовочка об этом не знал. Он поехал на завод этой фирмы и выяснил, что в эксклюзивный крем добавляют нерафинированное подсолнечное масло из ближайшего ларька. О чем и поведал народу. Редактору пришлось продать новенький «БМВ», чтобы расплатиться с фирмой за такую упоительную рекламу. Главный технолог, разработавший рецептуру этого крема, даже грозился его убить. Но все обошлось. Пожертвовали Вовочкой. Вовочка снова оказался на улице.
— Вовочка! — вскричала Ксаночка.
— Ксаночка! — промяукал Вовочка.
Ксаночка встала на цыпочки и прижала к груди его буйную головушку.
Итак, Вовочка решил оставить общественную деятельность и полностью порвал с реальностью. Он открыл интернет-сайт. На этом сайте Вовочка со всем своим неизрасходованным журналистским запалом обличал пороки и язвы. Сайт был его личный, поэтому больше Вовочка никого не боялся и ни под кого не прогибался. Он скромно дудел в свою дуду. Особенно доставалось от него премьер-министру Англии и королю Непала. Сайт назывался «Голая правда». Таким названием Вовочка намекал, что в остальных печатных органах читателю предлагалась правда закамуфлированная, то есть не совсем правда, а как бы осетрина второй свежести. Но читатель не понял Вовочкиного намека. Вернее, понял, но не то, что имел в виду Вовочка. В адрес Вовочкиного сайта стали приходить фотографии с голыми девушками и голыми юношами. Глядя на их выразительные позы, Вовочка печалился и вспоминал об отсосе молока новым доильным аппаратом. Однажды Ксаночка случайно заглянула в компьютер Вовочки.
— Вовочка! — простонала она и зарыдала.
— Ксаночка! — прошептал он и приложил руку к сердцу.
Сайт пришлось закрыть.
История с сайтом сломила Вовочку окончательно. В начале нулевых он решил уехать. Затея была дурацкой. Уже давно никто никуда не уезжал. А некоторые даже возвращались. Но Вовочка не искал легких путей. Он вообще всегда шел своим путем. Он думал, что перемена места жительства влечет за собой перемену судьбы. Он ставил судьбу в прямую зависимость от пространства. Он плел несусветную чушь о том, что душа не везде у себя дома и что он обязан отыскать дом для своей души. Ксаночка преданно смотрела ему в рот. Короче, он собрал нас у себя дома под баскетбольной корзиной и объявил о своем решении. Тут поднялась Ксаночка и тоже объявила о своем решении. Она не собиралась ехать с Вовочкой.
Немая сцена.
Про Ксаночку, между прочим, ничего не было известно. Мы так были заняты спасением Вовочки, что подразумевалось, будто и у Ксаночки нет в жизни других дел, кроме как вызволять Вовочку из дурацких ситуаций. Ксаночка считалась кусочком Вовочки. А Вовочка — большим куском Ксаночки. Выходит, мы ошибались. Ксаночка за годы Вовочкиного бестолкового шатания по редакциям, оказывается, стала известным юристом, занимала приличную должность в солидной фирме и получала хорошие деньги. Тащиться за Вовочкой ей было совсем неинтересно. Вовочка скис. Он ходил из дома в дом, из кухни в кухню и страшно надоедал нам жалобами на свою несчастную долю. Вовочка пил водку, ронял слезы в стакан и говорил, что не мыслит своей жизни без Ксаночки и Мариночки. Потом он пил водку без слез и говорил, что не мыслит жизни без Ксаночки и Мариночки. Потом он просто пил водку. Кажется, мысль о предстоящей разлуке начала пускать ростки в его израненной душе. Вовочка смирился. В его голосе появились новые нотки, дескать, что же делать, надо продолжать жить. Вовочка стал энергично готовиться к отъезду. Первым делом он подал на развод. Из соображений мужской порядочности. Он считал, что должен дать Ксаночке свободу. Мало ли как сложится жизнь у женщины. Может, встретит кого-нибудь. На этом месте Вовочка вздыхал и пускал запоздалую слезу.
На следующий после развода день Вовочка и Ксаночка уехали в прощальное путешествие. Они сняли домик где-то на Валдае, подальше от человеческих троп. Ровно две недели Вовочка с Ксаночкой бродили по лесу, взявшись за руки, катались в лодке на озере и обнимались под кустами. Вернулись совершенно счастливыми. Мы встречали их на вокзале. Вовочка вышел из поезда и подал руку Ксаночке. Ксаночка спорхнула на платформу, оглядела нас сияющими глазами и сказала:
— Поздравьте нас! Мы решили пожениться!
Потом Вовочка рассказывал, что там, на Валдае, Ксаночка в минуты близости стонала: «Неужели мы больше никогда не увидимся?»
Так вот, свадьба. Свадьбу Ксаночка устроила роскошную. Можно сказать, она взяла реванш за ту, давнюю, студенческую свадьбу, которая имела место черт его знает сколько лет назад. Был снят зал в ресторане «Прага». Сшито белое платье с пышной газовой юбкой. Приглашено сто человек гостей. Мариночка несла шлейф невесты. Из Израиля приехала двоюродная бабушка Ксаночки. Из Тамбова — троюродный дядя Вовочки. Молодым желали долгой счастливой жизни. Кричали «Горько!». Вовочка целовал Ксаночку, и гости хором считали на всю «Прагу»: «Раз! Два! Три!» Ксаночка очаровательно краснела и демонстрировала гостям бриллиантовое кольцо, которое подарил ей Вовочка. Деньги на кольцо он одолжил у бывшего будущего тестя.
После свадьбы Вовочка с Ксаночкой ушли в подполье. Мы почти ничего о них не знали. Слышали только, что они активно готовятся к отъезду. Как-то так получалось, что им было не до нас. А мы что, нам тоже неохота под ногами путаться. Все-таки медовый месяц у людей. В ожидании приглашения на отвальную прошло несколько месяцев. Однако приглашения не последовало. Однажды, собравшись у кого-то дома, мы решили это дело прояснить и набрали Ксаночко-Вовочкин номер. Подошел какой-то посторонний дед и сказал, что здесь таких нет. Были, да съехали. Мы покачали головами, Ксаночку с Вовочкой осудили и выпили за их успехи на новом месте.
Прошло года два. А может, три. Я шла по Тверской и вдруг увидела знакомую фигуру. Это был Вовочка. Он почти не изменился. Та же бесформенная нелепая фигура. Те же размытые черты лица. Та же потертая кожаная курточка. Вовочка шел, слегка сутулясь, засунув руки в карманы. Меня он не заметил.
— Вовочка! — крикнула я. — Постой!
Вовочка остановился. Я подошла. Вовочка стоял и не мигая смотрел на меня.
— Вовочка! — сказала я. — Ты что, меня не узнаешь?
— Узнаю, — довольно безразлично ответил Вовочка.
— Ты приехал? Надолго? Почему не позвонил? Как Ксаночка? Как вы устроились? Мы же даже адреса вашего не знаем! Уехали — слова не сказали! Ребята, между прочим, обиделись.
— Ксаночка хорошо, — невпопад сказал Вовочка. — Работает в юридической фирме. Купила квартиру в Нью-Йорке.
— Что значит «купила»? А ты? Ты что, опять без работы?
— Опять, — промямлил Вовочка. — Я… ты знаешь… в общем… ты не думай, она мне деньги присылает. И Мариночка каждую неделю звонит. Такая красавица стала! Вся в Ксаночку. Вот, посмотри, это она в университете. — Вовочка суетливо полез в карман и вытащил пачку фотографий. — А я к ним поеду, обязательно поеду. Вот устроюсь на работу и поеду в отпуск. Ты же знаешь, Ксаночка такая умница. А я что… я тут у мамы… — бормотал Вовочка и совал мне в руки потертые фотографии с заломанными углами.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Ночь покрылась звездными мурашками, и сразу похолодало. А что вы хотите — уже август. Уже дымы от костров стелятся по земле, уже яблоки падают с веток и в темноте кажется, будто по саду топает кто-то чужой и страшный. И вечерний чай пьют уже не в открытой трухлявой беседке, запутавшейся в виноградных побегах, а на застекленной веранде, освещенные окна которой — сцена, где разыгрывает свой спектакль театр семейных теней. Вот тень старухи с пузатым чайником наперевес. Старуха медленно качает головой, протягивает вперед руку, указывает, кому куда садиться, как Карабас-Барабас управляет своим кукольным царством. Вот тень мужчины. Он прихлебывает чай из высокого стакана, сидит, низко опустив голову, уткнувшись в толстую книгу. Старуха поворачивается к нему, что-то говорит, властно стучит кулаком по столу. Мужчина поднимает голову, встает, подходит к этажерке, ставит книгу на место, вынимает другую, снова садится за стол. Вот тень женщины. Женщина стоит. Суетливо переставляет чашки, хватает чайную ложечку, роняет, берется нарезать пирог, тут же начинает раскладывать варенье. Старуха машет на нее рукой. Женщина садится, вскакивает, снова садится. Вот тень девушки. У нее тонкие руки. Она закидывает их за голову, тянется лениво, словно ветка, полная сирени, в лунном свете. Старуха протягивает ей чашку, гладит по голове, не отнимая руки, проводит пальцами по шее, оправляет воротничок блузки. Разноцветные стекляшки окон заполняются другими тенями. Тени в медленном танце кружатся вокруг стола. Одна приближается к окну. Раздается легкий треск. Окно распахнуто. Голоса, вырвавшись из стеклянного плена, разбегаются по саду. Сейчас один из них выкрикнет его имя, и придется откликаться, идти на маяк, которым всегда была для него эта веранда, двигаться по курсу, который всегда прокладывала для него эта семья, причаливать к пристани, которой всегда был для него этот дом.
Михаил запрокинул голову и стал смотреть в звездное небо. Он стоял почти у самой калитки, в зарослях флердоранжа, широко расставив ноги и заложив руки за спину. Вот Большая Медведица. Он стал считать звезды. Слева направо, от ручки к ковшику. Семь штук. Справа налево, от ковшика к ручке. Семь штук. Если сыграть в «любит — не любит», то выпадет «любит». И справа налево, и слева направо. Если сыграть в «жениться — не жениться», то выпадет «жениться». Он сорвал зеленую, еще не созревшую ягодку флердоранжа, бросил на дорожку, придавил ногой. Ягодка тихонько крякнула, но хлопка не последовало. «Рано еще, — подумал Михаил. — В сентябре, нет, в октябре… В октябре, когда мы поженимся, они совсем спелые будут». Он представил, как они пойдут от калитки к дому, топая по осыпавшимся ягодам, а те будут взрываться под ногами свадебным фейерверком, и ему вдруг стало легко и ясно. Как будто не было последнего года, перелетов через всю страну за Уральский хребет, молчаливых встреч, молчаливых проводов, ночных телефонных звонков, молчания в трубку, старухиных вопросов, молчания в ответ… Как будто не было этой тягомотины с квартирой и с работой, и этого часа, когда, запрокинув голову и глядя в звездное небо, он решал то, что должен был решить давным-давно, тоже не было. Он засмеялся, повернулся к террасе, посмотрел на открытое окно. В окне Марина махала ему рукой.
Взглянув на нее впервые, он подумал: «Немолода!» И сразу: «Хороша!» Две эти мысли, столкнувшись, вызвали какое-то неприятное чувство. Будто ему суют никому не нужный товар, а он берет, и рад, и нравится ему, что она так немолода и так хороша в своей немолодости. Вроде как сам себя обманывает. Ну, положим, все не так немножко. И он не мальчик — тридцать два года. Пора, брат, пора. И она не так чтобы… да не старая, не старая. Двадцать восемь лет — в этом возрасте женщина еще почти девушка. Просто внешность у нее такая: много всего — и глаз, и волос, и смуглоты. И возраста. Возраст был ее неотъемлемой принадлежностью. Такие женщины девчонками не бывают. Ножки-ручки цыплячьи, грудка плоская, попка тощенькая — это не про них. Такие, как она, лет в тринадцать просыпаются одним прекрасным утром, откидывают одеяло и являются миру во всей своей женской зрелой прелести.
Михаилу нравилась ее смуглая цыганистая красота. Нравились яркие тряпки, юбки с косыми цветастыми клиньями, блузки, низко открывающие грудь. Нравилось, что на улице на них обращают внимание. Нравилось, что ее много — чуть-чуть больше, чем следовало. Не то чтобы она была ему не по размеру. В самый раз, если считать в сантиметрах. Одного роста, одних примерно габаритов, они даже размер ноги имели почти одинаковый. У него — сороковой, а у нее — тридцать девятый. Вполне пропорционально. Просто видно было, что с годами она станет больше его. Это ему нравилось тоже. Он был из тех мужчин, которые рядом с крупными женщинами чувствуют себя не меньше, а больше. Вроде защитной реакции — «Если такая женщина, да рядом со мной…» Старуха, когда про нее рассказывала, качала многозначительно головой, цокала языком, причмокивала даже. Дескать, не девушка, пэрсик! Обращалась к сыну — мол, подтверди. Сын, вечно уткнутый в книгу, рассеянно кивал, выходил из комнаты, возвращался с другой книгой, садился в угол. Ему это было неинтересно. Невестка раздраженно гремела чашками, тянула скучным лимонным голосом:
— Ну мама, ну что такое вы говорите! Какая Марина? Ему что, на Урал ехать?
Старуха отмахивалась, вновь заводила старую песню. Старуха была ему почти бабкой. Если посчитать — седьмая вода на киселе. Жена двоюродного деда. Но никто не считал, и Старуха — никому не родня, никому не кровь — с годами заняла в семье положение английской королевы. С той только разницей, что и царствовала, и правила. Его, Михаила, она выдернула из кривобокого Подольска, как редиску из грядки. Приехала как-то в выходные — собирайся, говорит, едем в Москву. Когда? Сейчас. Надолго? Навсегда. И уехали. Он тогда в десятом классе учился. Через неделю уже ходил в престижную московскую школу, через год был определен в приличный институт согласно склонностям, способностям и возможностям семьи. Спал, правда, на раскладушке в Старухиной кухне, но ведь никто ему сладких коврижек не обещал, правда? Старуха вообще пустых обещаний не раздавала. Тихо и незаметно она натягивала ниточки, подкручивала колки, управляла, направляла, исправляла. Как-то так получалось, что все она делала правильно. Как-то так выходило, что все были довольны. Препятствия устраняла мгновенно. Собственный сын чуть было не женился на акробатической девушке из конно-балетного техникума. Но Старуха покрутила длинным носом, пошевелила бородавкой, похожей на скорлупу ореха арахис, и акробатическая девушка исчезла в облаке цирковых сливочных стружек, а сыну была представлена новая кандидатура на роль жены — с лимонным голосом, застревающим в длинном тягучем горле. Сын был совершенно счастлив, а ведь заставить других думать так же, как ты, — это, согласитесь, высший пилотаж.
— Гениальная вы моя Старуха! — восхищенно восклицал Михаил после очередной Старухиной аферы. И, помолчав: — Ну как?
«Ну как?» относилось к очередной барышне, которых он с завидным постоянством приводил к Старухе на погляд. Барышни все были тоненькие, беленькие, с круглыми фаянсовыми глазенками. Хоро-о-ошенькие! Михаил различал их, как матрешек, — по росту. Чуть побольше, чуть поменьше. Старуха крутила носом, шевелила бородавкой, и в следующий раз он приводил к ней следующую барышню. К тому времени он был уже большим мальчиком. Жил один в узенькой комнатушке в бывшем Мыльниковом переулке, что на Чистых прудах, писал диссертацию, раз в месяц наведывался в Подольск к родителям. Над Старухиным желанием быть в курсе всех его дел посмеивался, но звонил каждый вечер, докладывался, а по выходным, закупив в Столешникове пирожных «картошка», ехал на край Москвы, на Нахимовский проспект, где в трехкомнатном панельном кооперативе, среди плюшевых покрывал с бархатными шишечками и мебели красного дерева, с лимонной невесткой и пюреобразным сыном обитала Старуха. Почему-то ему казались важными все эти ее шевеления бородавкой, кручение длинным носом, вздохи, ахи, усмешки, хмыканье, многозначительное покашливание и финальный удар сучковатой палкой об пол — мол, все ты, Мишенька, дорогой мой, делаешь неправильно. А надо вот как. Мишенька слушал, веселился от души, целовал Старуху в шершавую щеку и уходил в полной уверенности, что его наконец-то поняли как надо. Он был у Старухи любимый внук. Она у него — просто Старуха. Не у всякого такая бывает.
Когда Старухиной внучке Лизаньке исполнилось семнадцать, Михаил вдруг поймал себя на том, что подсчитывает разницу в возрасте. Получалось ничего, очень даже нормальная разница — тринадцать лет. У многих такая разница. А у многих и побольше будет. Старуха заметила. Старуха все замечала. Кивала, жевала губами, косила хитрым глазом. Давала добро. Лизанька — тонкая, смуглая, красивая той грузинской красотой, которую Михаил почему-то привык считать «не своей», с глазами, похожими на кувшины, полные лилового терпкого вина, — тоже косилась, только испуганно. В этом испуге было, конечно, неосознанное женское кокетство, и Михаил отлично это понимал. Вместе с пирожными «картошка» он стал привозить на Нахимовский цветы. Выбирал попроще — ландыши, фиалки, ромашки. Цветы никому не дарил. Шел на кухню, брал вазу, наливал воду, ставил букет, нес в комнату. Вроде всем. Однажды пригласил Лизаньку на концерт заезжей знаменитости. Билеты доставал с боем. Переплатил… Лучше и не вспоминать, сколько переплатил. Лизанька просидела весь концерт, сжав в руках программку, не шевельнувшись. Даже в ладоши ни разу не хлопнула.
— Тебе нравится? Нравится? — допытывался Михаил. — А почему такая скучная?
Он брал ее за руку. Лизанька руку давала, но держала ее деревянным домиком. В антракте никуда не пошла, так и осталась сидеть с программкой в руках. После концерта Михаил поймал такси, довез ее до дому, поднял на одиннадцатый этаж, сдал с рук на руки Старухе.
— Оставайся! — сказала Старуха.
— Как? Как оставайся?
— Дурак ты, ей-богу, Мишка! Поздно уже, двенадцатый час. Куда тебе ехать? Ляжешь в гостиной.
С Лизанькой он еще пару раз сходил на концерты, в театр как-то сводил. В семье начали поговаривать — вот, мол, и пара, вот, мол, и жених. Лизанька нравилась ему ужасно, но он уже знал, что никакая не пара и никакой не жених, а добрый дядюшка и малолетняя племянница.
А потом Старуха привезла Марину.
О Марине было много чего известно. Известно, что красавица. Известно, что умница. Что учится на филфаке Уральского университета. Потом декорации сменились. Из Свердловска Марина уехала домой, в крошечный заводской городок — то ли Ревду, то ли Салду, Михаил точно не помнил — учительствовать в средней школе. Говорили, что преподает она виртуозно, читает старшеклассникам лекции по Пушкину, завела в школе драмкружок, а домой без толпы восторженных учеников не возвращается. Михаил усмехался, но особо к этим разговорам не прислушивался — не любил, когда ему начинали нахваливать товар. Он и на рынки из-за этого не ходил. Нюх на обман у него был фантастический. Однако тут обманом вроде не пахло. Разговорчики возникали не просто так, а по поводу — с Урала шли в Москву письма. Маринин отец приходился Старухе младшим братом. Осенью 41-го он с молоденькой женой и месячной дочкой поехал на Урал разворачивать оборонное производство. Ехали целый месяц. По дороге похоронили дочку. Производство развернули. Город построили. Да так там и остались. Марина была у них третья, если считать ту, умершую в теплушке на перегоне… Письма приходили бодрые, громкие, комсомольские такие письма. Старуха зачитывала их вслух, фыркала, била клюкой об пол, а пальцем по лбу — мол, что взять с этих восторженных идиотов.
— Ну, это мы пропустим. Кружок юных следопытов он завел, теперь ползает с мальчишками по болотам, ищет гнилые портянки 20-го года. Боже мой, Изя, — шестьдесят пять лет! Юный следопыт! И Софочка его малохольная, старая перечница. Нет, вы послушайте: «Мне доверили очень важное и очень волнительное дело — возглавить музей заводской славы». Вы поняли. Очень волнительное дело ей доверили! Я не удивлюсь, если в этот славный музей она перетащит всю свою мебель. Ага, вот это уже по делу. Он ездил в Нижний Тагил, привез пять кило мяса. Семь часов в один конец. Представляю себе это мясо. А у Софы опять повысился сахар. Велели гречку есть. Гречки там, конечно, и в помине нет. — Старуха крутила носом, и Михаил понимал, что завтра придется бегать по магазинам, закупать гречку, везти на вокзал к фирменному поезду «Урал», совать проводнице десятку, чтобы довезла куль с гречкой в целости и сохранности.
Старуха складывала листок и вздыхала:
— Да, надо ее спасать.
— Кого?
— Марину, кого же еще. Угробят девку. Что ей там делать, в этой глухомани? Стенгазету выпускать?
Михаил, прекрасно понимая, к чему клонит Старуха, пребывал после этих разговоров в состоянии некоторого раздражения. Но и возбуждения тоже. Все-таки любопытно было посмотреть на эту прекрасную Марину.
Прекрасная Марина прибыла в конце августа, проездом, на два дня, по дороге на болгарский курорт Слынчев бряг, в цветастой юбке клиньями, в ситцевой блузке с низким вырезом, и сразу заполнила собой все имеющееся в наличии пространство вокруг Старухи.
Уговорено было так: в первый день приезда — чтобы второй, дополнительный, день оставить на всякий случай свободным — вся родня собирается на Нахимовском. Собирать родню Старуха любила и умела. Сама ходила на рынок, придирчиво выбирала парное мясо, нежнейшую селедочку, делала еврейское жаркое в кисло-сладком соусе, селедочный форшмак, из оставшейся с весны мацы лепила мацедраи. В тот вечер, пригласив всех мыслимых и немыслимых, полузабытых и даже не вполне знакомых племянников и племянниц, она превзошла самое себя. О предстоящем знакомстве знали все. Михаил-то предпочитал, чтобы никто не знал. Особенно Марина. Но не в Старухином обычае было что-то утаивать. Раздраженный, он шел, медля шаг, находя по пути множество неотложных дел — сигареты купить, на афишу поглазеть, газетку проглядеть, пересмотреть объявления об обмене, приклеенные к фонарному столбу. Пришел, когда все давно уже были в сборе, съели закуску, и Старуха, подволакивая ногу, тащила в комнату блюдо с изнывающим в свекольном соке, облепленном радужными луковыми чешуйками мясом. Первое, что он увидел, войдя, была цветастая цыганская юбка, цыганские волосы ниже плеч и цыганский смеющийся глаз, выныривающий из-за черной пряди, заштрихованный по краю морщинками. Вот тогда он и подумал: «Немолода!» И сразу: «Хороша!» И еще: «Как же ее много!» Марина хохотала, вертела головой, рассказывала что-то смешное, цыганские ее космы летали над столом, она трясла головой, откидывала их назад, но они снова падали на плечи, снова взлетали над столом. Старуха смотрела на нее с обожанием. Так она даже на Лизаньку не смотрела. Увидев Михаила, Марина вышла из-за стола, протянула большую смуглую руку:
— Марина. Вот мы и познакомились, — обозначив тем самым свое сознательное участие в сватовстве.
«Не ломака», — подумал он и налег на сладкое мясо.
Весь вечер он смотрел на нее со смешанным чувством удовольствия и настороженности. То, что она ему нравится, он понял в первый же момент. Но вот эта ее изобильность… И телесная, и эмоциональная. Михаил сам был не из тихих, умел занять компанию, но с людьми, так легко и естественно ощущающими себя центром Вселенной, чувствовал некоторую неловкость и подавленность.
За вечер они не сказали друг другу ни слова, но потом, когда гости разошлись, Старуха перемыла посуду и отбыла на свое плюшевое ложе, остались в кухне одни. Сидели друг перед другом, как на сцене, держали в руках чашки с крепчайшим Старухиным чаем, говорили. Почему-то казалось очень важным этой ночью рассказать все-все-все, до донышка, до песчинки, до соринки. Марина рассказывала сосредоточенно, будто урок отвечала. О первой любви, институтской, детской еще, протекающей на продавленных общежитских койках. О любви взрослой, с мальчиком из профессорской рижской семьи, который был младше ее на пять лет, к которому она три года моталась в Ригу на самолетах, который не приехал к ней ни разу и которого в прошлом году родители увезли в Израиль. От этой любви должен был остаться ребенок, но не остался, и никто, кроме Михаила, об этом так никогда и не узнал. О том, что со времени ее возвращения домой никого у нее толком не было, потому что городок маленький, все друг друга знают, и вообще — с кем? В ее рассказах была какая-то упорная, придирчивая, окончательная и бесповоротная честность, не шокирующая, а, наоборот, успокаивающая. Как будто она уже все для себя решила и теперь давала ему право последнего слова. Он тоже что-то рассказывал, но больше слушал. Любови его сводились к беленьким барышням, а брать их в расчет было просто глупо. Женщин в его жизни было много, а женщины так и не случилось. Так они просидели до утра. С Мариной было легко молчать. Но еще легче с ней было разговаривать.
Утром завтракали со Старухой, пили кофе из тончайших фарфоровых наперстков, потом бегали по магазинам, покупали Марине какие-то тряпочки для Болгарии, потом поехали к нему, в Мыльников. От себя он повез ее в аэропорт. Когда через месяц Марина возвращалась из Болгарии, его не было в Москве. А потом, знаете ли, дела, делишки. В общем, за три месяца он ни разу ей не позвонил. Старуха ни о чем не спрашивала, поджимала губы, шевелила бородавкой и письма теперь читала про себя.
В конце ноября у Михаила неожиданно выдалась свободная неделя. Что-то там с опытами не ладилось, диссертация стояла, как заезженный конь, короче, решили сделать передых, поехать всей лабораторией к заву на дачу. Вечером накануне отъезда Михаил побросал в рюкзак вещички, банки с тушенкой — свой вклад в общий стол, — посидел, покурил, оделся, вышел из дому, зашел в соседний магазин, купил три кило гречки и поехал на вокзал. По дороге дал телеграмму: «Буду завтра вечером. Михаил». А когда, не уточнил. Адрес он наизусть знал.
Когда он вошел в комнату, большая усатая женщина, сидевшая за роялем, бросила руки на клавиши и запела густым басом: «Наш паровоз, вперед лети…» Михаил вздрогнул и попятился, но отступление было решительно невозможно. С тыла вел наступление взвод разномастных, перемазанных вареньем мальчишек. Мальчишки галдели. Усатая старуха надрывалась. Михаил в ужасе обернулся и увидел, что в кильватер с медлительностью и настойчивостью грузовой баржи заходит еще одна большая усатая женщина, только помоложе. Входная дверь распахнулась, он услышал на лестнице мужские голоса, знакомый громкий смех и вздохнул с облегчением. Кажется, ему на выручку шла Марина.
За стол сели семнадцать человек. Кое-кого Михаил уже различал. Большая усатая старуха оказалась Марининой матерью, Софой. Женщина-баржа — старшей сестрой Дорой. Еще там были какие-то подружки, трое Дориных детей, их друзья, Дорин муж Слава, громко делающий замечания детям, и большой усатый старик с детским именем Изя, Маринин отец, похожий на свою жену, как однояйцевый близнец. Такого бестолкового ужина Михаил не помнил. Марина с Дорой бегали на кухню, метали на стол то масло, то хлеб. Дети орали. Изя подробно, теребя Михаила за рукав, рассказывал историю завода, на котором проработал с 41-го года. Про пироги забыли вовсе, и они тихо сгорели в духовке, выпустив в комнату прощальную струю паровозного дыма. Марина вытаскивала их на свет, громко хохотала и вместе с противнями тащила во двор — на помойку. Когда все съели, сообразили, что в холодильнике томится бутылка шампанского. Притащили. Вскрыли. Шампанское выстрелило в потолок и вылилось на скатерть. Михаил посмотрел вверх — потолок был испещрен оспинками от пробок. Отвратительный грузинский чай пили из тончайшего фарфора розовых чашек, похожих на перестоявшиеся лилии. На огромном блюде того же тончайшего фарфора Софа внесла в комнату громадный кусок подсолнечной халвы, отливающий зеленоватым мушиным цветом, — большой, между прочим, по тем временам дефицит.
— А это что еще за уральский самоцвет? — спросил Изя, и Михаилу впервые за весь вечер стало легко и свободно. Вдруг, в одно мгновение, он принял эту семью со всей ее бестолковостью, громогласностью, суетливостью, наивностью и абсолютной бытовой неприспособленностью. Вдруг, в одно мгновение, они стали ему своими. И он им стал своим. Он это знал.
Халву ковыряли тупыми кухонными ножами. Спать Михаила уложили в соседней, Дориной квартире, а на следующий день повели показывать город. Городок был крошечный — три улицы, два перекрестка, — но очаровательный, весь состоящий из двухэтажных разноцветных домиков, похожих на брусочки жженого сахара. На главной улице домики были побольше — трехэтажные, сталинского образца, с балкончиками и балюстрадками, словно подростки, изо всех сил тянущиеся за своими взрослыми великолепными столичными собратьями. Изя важно вел Михаила мимо местных достопримечательностей: «Вот школа, где работает Мариша, вот Дом культуры, здесь Слава ведет филателистический кружок, а это наш книжный магазин, очень хороший, ну просто очень хороший магазин, такого выбора, как у нас, даже в Москве не бывает, сплошной дефицит». Каждые две минуты останавливался, снимал шляпу — к нам, мол, гости из столицы приехали. У них весь город ходил в друзьях. На Михаила смотрели заинтересованно, кивали понимающе. Было неловко. Но Марина, шедшая рядом, громко хохотала, кому-то трясла руку, кого-то целовала, кому-то кричала: «Приходите вечером, пельмени будем лепить!» — и все вставало на свои места. Все шло как должно. Ведь он сам этого хотел. Михаил поглядывал искоса на Марину и видел то, что еще три месяца назад понял в Москве: что она все для себя решила и теперь ждет решения от него. В ожидании ее не было ничего собачьего и тягостного, только спокойствие и легкость. Она оставляла ему право на свободное дыхание.
За неделю пребывания в маленьком уральском городке Михаил три раза ходил на лыжах, один раз съездил в Свердловск на премьеру местного драмтеатра, лепил пельмени, пять раз смотрел Славины кляссеры, изучил все его старинные монеты, неоднократно пел «Наш паровоз, вперед лети» и ни разу не остался с Мариной наедине. В день отъезда, когда во дворе уже стояло такси, чтобы везти его в Свердловск на поезд, а сам он наворачивал в прихожей шарф, Софа вдруг метнулась в комнату, схватила с полки огромную хрустальную конфетницу, замотала в старый байковый халат и сунула ему в руки.
— Что это? Зачем? — Он совал конфетницу обратно, но Софа только махала руками и выталкивала его за дверь.
Двадцать пять часов в фирменном поезде «Урал» на верхней полке были посвящены тому, чтобы конфетница доехала до Москвы живой и невредимой.
— Ну? — спросила Старуха, когда он явился на Нахимовский с конфетницей под мышкой.
— Да, — ответил он.
— Когда? — спросила Старуха.
— Не все сразу, — ответил он.
— А это что?
Он развернул байковый халат.
— Пусть у вас поживет.
— А, узнаю Софины штучки. Это она тебя родственником определила.
Михаил усмехнулся, и разговор прекратился.
Общались они так: он звонил раз в неделю, она звонила раз в неделю. Дел у них общих не было. Трепаться просто так, о том, что в голову придет, за тысячи километров казалось почему-то неприличным. Трепета душевного от этих звонков Михаил не испытывал. Марина, видимо, тоже. Больше молчали. Пересказывали новости и молчали. Она ему — про школу, про Дориных детей. Он ей — про диссертацию, про неудачные опыты. Звонки эти оставляли ощущение неприятной недоговоренности, но казались Михаилу важными. Правильные были звонки. И вообще, все, связанное с Мариной, было правильным. Потому что решение, уже вызревшее в нем, никак не хотело выйти наружу, и эти звонки были для него как крошечные, почти незаметные шажки друг к другу. Он чувствовал в Маринином молчании сдержанное ожидание, но торопить себя не торопил. Отношения, протекающие в разных временных поясах, были обречены на полузамороженное состояние. Михаил ждал лета. Старуха задавала вопросы. Старухе он тоже не отвечал. Потом появился маклер.
— Надо тебе, Мишка, комнату менять, — решила Старуха, и дело закрутилось с необыкновенной быстротой.
Теперь, вместо того чтобы ездить по воскресеньям на Нахимовский и заниматься барышнями, он бороздил льды и океаны московских окраин. Все эти Старухины приготовления были шиты белыми нитками, однако квартира действительно являлась насущной необходимостью. При любых раскладах. Когда подходящая квартирка отыскалась — небольшая совсем, но толковая, две раздельные комнаты, кухня восемь метров, пять минут от метро, это вам, конечно, не Мыльников переулок, но тоже ничего, вполне в пределах кольцевой автодороги, — так вот, когда квартирка отыскалась, выяснилось, что доплата за нее немалая — полторы тысячи рублей, десять его зарплат. Старуха слушала про квартирку, кивала, а на словах «придется отказаться» вдруг нырнула рукой в байковый вырез халата и из плиссированной от старости груди извлекла на свет маленькую синюю коробочку.
— Деда твоего, двоюродного, — сухо сказала она.
В коробочке лежали бриллиантовые запонки, которые Михаил помнил с детства. Дед надевал их на семейные торжества, а перед сном очень подробно, мелкими точными заботливыми движениями выкручивал из манжет и укладывал в бархатную постельку. Михаил, когда оставался у них со Старухой ночевать, всегда канючил — просил, чтобы дали запонки подержать. Дед осторожно вкладывал их ему в ладошку, и Михаил протягивал запонки к настольной лампе, вертел в разные стороны, глядел на разноцветные лучи, которые пускали камни, и ему казалось, что он сейчас обожжется. Он до сих пор с закрытыми глазами мог нарисовать каждый изгиб оправы, каждую грань камней.
Он открыл было рот, но Старуха быстро захлопнула коробочку, сунула ему в руку, повернулась и, стуча клюкой, вышла из комнаты. Доплата состоялась. Денег хватило, чтобы купить еще стенку, тахту и шкафчики на кухню. Старуха приезжала с инспекцией. Заглядывала в шкафчики. Пила чай. Кивала одобрительно.
Весной Михаил опять поехал на Урал. Все повторилось. Впечатление дежа-вю смазывалось исключительно тем, что для лыж было уже поздновато. И Маринино ожидание стало еще напряженнее. И все смотрели на него как на оратора, который никак не начнет свою речь. И в аэропорту, когда она его провожала, то все молчала и молчала, и наклоняла голову, когда он хотел ее поцеловать.
Он улетел в Москву с уверенностью, что лето все расставит по местам. Летом будут цветастые юбки клиньями и ситцевые блузки, низко открывающие грудь. Летом можно сказать то, на что зимой не хватает пороху. И жить в новой квартирке с веселенькой клетчатой тахтой, белыми, как палочки ванильной пастилы, пластиковыми кухонными шкафчиками, такой чистенькой, такой нетронутой, такой пригодной для старта, летом будет естественно и приятно.
Две летние недели пролетели, разметав время разудалым павлиньим хвостом. Дни походили на разноцветные стекляшки. Вот желтая — жаркий химкинский пляж, пережаренная небесная глазунья, капли воды на смуглой Марининой коже, как капли раскаленного подсолнечного масла. Вот зеленая — на даче у Старухи, под растрепанным кустом барбариса, в промытых дождем травяных волосах они собирали последнюю землянику. Вот красная — красных много. Это их июльская страсть. Вот лиловая — это ночь на Чистых прудах. Они ходили смотреть на дом в Мыльниковом переулке, где любили друг друга первый раз и куда никогда не вернутся, а потом сели на бульварную скамейку и просидели до утра. Вот белая — их будущее, о котором они пока не говорили, которое еще неопределенно, но скоро — совсем скоро — поменяет свой цвет.
…Он стоял почти у самой калитки, в зарослях флердоранжа, широко расставив ноги и заложив руки за спину. Повернувшись к террасе, посмотрел на открытое окно. В окне Марина махала ему рукой. В лунном свете рука отливала серебром, и ему вдруг показалось, что это не рука, а длинное гибкое щупальце с шевелящимися на конце пятью цепкими отростками. Марина выкинула вперед вторую руку, и это тоже было щупальце с остренькими быстрыми отростками. Она наклонилась ниже, и он увидел ее лицо, залитое лунным светом. Лицо хохотало, выкликало его имя, звало ко всем, на террасу, но Михаил видел огромную круглую рыбу, которая плещется в тугих волнах черного ночного воздуха. Рыба беззвучно открывала рот, похожий на яму, и готовилась его проглотить. В стеклянном аквариуме террасы плавали другие рыбы — большие и маленькие, беззвучно открывающие рты-ямы.
На следующий день он отвез ее в аэропорт.
Женился он через год на одной из своих беленьких барышень. О Марине больше ничего не слышал. То есть какие-то сведения, конечно, доходили. Но он так и не понял, вышла она замуж или нет. Ему это было неинтересно. Старуха вскоре умерла, и на Нахимовский он больше не ездил. На оставшиеся от запонок деньги они с беленькой купили новый телевизор «Рубин».
Ольга Шумяцкая — журналист и кинокритик, работала и печаталась в крупнейших отечественных изданиях: "Московский комсомолец", "Аргументы и факты", "Московские новости", "Известия", "Общая газета", "Труд", "Вечерняя Москва", "Московская правда", "Литературная газета", "Огонек", "Советский экран". Член Союза журналистов России. Академик Академии кинематографических искусств "Ника". Автор девяти книг. В 2006 году ее повесть "Сижу на крыше" номинировалась на премию "Национальный бестселлер".
Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.









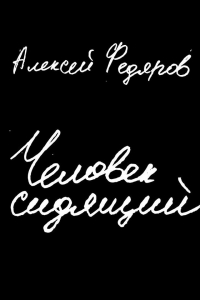
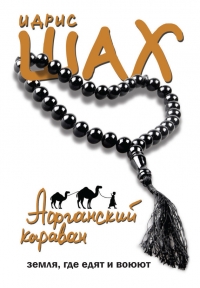

Комментарии к книге «Я иду тебя искать», Ольга Юрьевна Шумяцкая
Всего 0 комментариев