Шушель Лирическая повесть из жизни собак, или сказка с бытовыми подробностями Сергей Новиков
© Сергей Новиков, 2018
ISBN 978-5-4485-8334-6
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
1
Жара была такая, что мухи дохли. На придвинутой к дивану табуретке стоял стакан с газированной минералкой. Налитая несколько часов назад вода апатично (не чаще двух-трёх в минуту) запускала со дна стакана крошечные, слабосильные пузырьки. Суетясь и вихляя, пузырьки бежали к поверхности и иногда попадали в уморённую жарой, вяло копошащуюся в стакане муху.
Шушель лежал на диване, смотрел на выдохшуюся минералку и страдал. Испытываемые им ощущения были примерно такие же, какой разглядываемая вода, вероятнее всего, была на вкус.
В это по всему неудачное утро (хотя на дворе и стоял самый что ни на есть день, у Шушеля было утро — а как ещё называть время суток, если ты только-только проснулся?), Шушель очень походил на помятого, с физиономией в крупную складку, с отёчными и несчастливыми глазами, с безвольно висящими губами и с нечищеными клыками — одним словом, очень походил на мающегося после вчерашнего молодого кобеля породы мастино-наполетано, каковым, впрочем, и являлся.
Привстав, Шушель утёр покрытую испариной морду подолом футболки, выловил из стакана муху, брезгливо вылил в глотку остатки минералки (лакать воду он не стал, чтобы не вытошнило от противности) и, наконец, позволил себе закурить — Шушель берёг здоровье и давным-давно запретил себе курить на совсем уж пустой желудок. Никотин немного взбодрил Шушеля, и он принялся вспоминать вчерашнее. Открыл шлюзы для потоков сознания и увидел очень красивую картинку. Картинка напоминала не самый знаменитый квадрат художника Малевича — тот, который белый. Шушель закурил еще одну сигарету, призвал всё своё мужество, вздохнул, прикрыл глаза и выпустил на волю подсознание. Подсознательное исторгло из могучей грудной клетки Шушеля протяжный стон, стон Шушель тут же попытался замаскировать пением, но, вспомнив, что он один, а себя не обманешь, снова застонал, и снова устыдился — хотя бы и перед собой — и опять запел.
«Плохо дело, — подумал наш герой, — но нахожусь я, несомненно, дома. Это уже хорошо». Он осторожно приоткрыл один глаз — чтобы проверить это самонадеянное «несомненно», в котором он, если по правде, вовсе не был уверен — и вздохнул, но уже облегчённо, узнав диван и обнаружив за окном привычный пейзаж. «Моя, — констатировал второй глаз Шушеля, имея в виду, конечно, квартиру. — Теперь по пунктам». И он придвинул к себе телефон.
Собственно, пунктов оказалось немного много. Сначала выяснилось, что накануне отмечали наступающее первое мая. Узнать про первое мая было не очень трудно — Шушель позвонил друзьям и на весьма бодрое (друзья, очевидно, здоровье не берегли и успели на пустой желудок не только покурить, но и выпить), так вот, на бодрое «С праздником!», он бормотнул «Вас также» и вспомнил про наступивший праздник. Это первое. Заодно выяснилось, что праздник вчера у него с этими друзьями был порознь. Это второе. А Шушель слыл субъектом разборчивым и в своем не очень старом, но и не совсем уж щенячьем возрасте (по-людски считать — лет двадцати пяти от роду) не имел столько друзей, чтобы всё утро посвятить методу исключения. Оставался только один дом, где Шушеля принимали на правах близкого друга. И так уж сложилось, что пил он больше, чем все обитатели и гости этого очень приличного дома вместе взятые. Вот вчера, кажется, и допился.
Сознание больше не напоминало белый квадрат — картинку рассекала горизонтальная черта красного цвета, которую Шушель вчера перешёл. Над чертой располагался бесцеремонно ввалившийся из другой поговорки монастырь, под который его подвели, или точнее сказать, под который он сам себя подвёл.
Итак, прошлым вечером, изнывая от скуки в до чёртиков приличном обществе, он выбрал себе симпатичную, но замордованную бытом левретку, доподлинно разузнав, что она свободная, и принялся делать предложение. Нет, Шушель всё-таки был приличным кобелем и предложение делал не то, которое вы подумали, а руки и сердца. Однако предлагал не взаправду, а так, развеяться. То есть сначала Шушель просто флиртовал, левретка посмеивалась, потом Шушель выпил ещё чуть-чуть и начал увлекаться, но не левреткой, а собственным красноречием, левретка тоже выпила чуть-чуть и этот нюанс в увлечённости Шушеля упустила, приняв, разумеется, увлечённость на свой счет. Шушель очень смутно помнил аргументы, которые он вчера использовал, чтобы произвести впечатление. Начиналось, кажется, с демонстрации богатого духовного мира посредством цитирования классики, а кончилось, как водится, швырянием изрядных денег на продолжение банкета. Но вот одно он помнил точно: когда он в отчаянии вскричал (разочаровавшийся в возможностях, предоставляемых образованием гуманитария, Шушель ныне грузил мясо на хладокомбинате): «Да ведь всегда при мясе будем!» — левретка определённо поверила в искренность намерений Шушеля и, кажется, совершенно серьёзно согласилась пойти за него. Причём, лет левретке было побольше, чем Шушелю, и печальный опыт хождения за кого-то она уже имела. То есть на молоке обжигалась, а вот на воду, которую в избытке лил вчера пьяный Шушель, ни о какой женитьбе сроду не думавший, почему-то не подула, а, стало быть, влип он крепко. Как теперь выбираться из этой дурацкой истории без ущерба для репутации и конец расшатанных нервов, Шушель понятия не имел. Воссоздав картину, он в ужасе закрыл глаза, но не успел. Подсознательное снова полилось наружу тяжёлым стоном, и снова Шушель притворился, что поёт.
«Язык мой — враг мой», — меланхолично подумал он и вывалил наружу обширный, но несколько суховатый после вчерашнего язык. Языком своим Шушель втайне гордился, и зрелище его увлекло. Он с удовольствием принялся рассматривать язык в зеркале, не без гордости отметив: «Такой ведь и до Киева доведет!», — и загрустил. Насколько он помнил, в Киеве у злополучной левретки жили родственники.
Тут надо небольшое отступление. Вообще-то Шушель был одинок. Он давно запретил себе верить, что его восторженная влюблённость когда-либо совпадёт с чувствами собаки, в которую он влюбился. Однако этот запрет не мешал ему увлекаться примерно раз в два года какой-нибудь очаровательной особой, после чего Шушель носил в груди светлый образ — плод его безудержного воображения, подкреплённого поэтами, музыкантами, кинематографистами и писателями. Шушель разговаривал (про себя, разумеется) со своей избранницей и фантазировал про разные случаи из их встреч, прощаний и обещаний завтра увидеться непременно. Время от времени (впрочем, случалось это крайне редко) Шушелю мерещилось, что есть надежда на взаимность, и тогда он не только подвывал от избытка чувств, но даже бросался писать стихи. Такие переживания Шушель считал главными в своей жизни и почти не обращал внимания на разных случайных подружек, удовлетворявших его кобелиные надобности. В принципе, жениться ему, как это любят говорить в народе, может, и надо было бы, но, сказать по секрету, аксиому про невозможность взаимности Шушешь придумал для утешения — втайне он продолжал верить.
Столь тонкая душевная организация, считал Шушель, вполне извиняла его за вчерашнее. Однако были все основания полагать, что левретка думает иначе.
«Надо что-то делать, — Шушель потихоньку оживал и даже осторожно попробовал пройтись по комнате. — Перво-наперво — выяснить, что у нас с ней было. Вроде ничего, но тогда откуда я помню этот шрам за ухом? Ну, нет, здесь её точно, кажется, не было, а там весь вечер хозяева были дома, да и комнат небогато. Впрочем, люди понятливые, но не настолько же. Шрам… Маленький такой шрамик… Хорошо, кстати, что за ухом, а не где ещё… М-да. Уже легче. А, может, это вообще чужой? В смысле, мало ли я кого знал так близко, чтобы вспомнить про шрам и про ухо?»
Последняя мысль несколько отвлекла Шушеля и он решил закрепить успех — сел и, следуя советам психоаналитиков, подробно обрисовал всё в письме иногороднему другу. Для начала изобразил свои метания в поисках любви, робко надеясь себя хоть чем-то оправдать, потом завернул повествование в лёгоньком таком, ироничном ключе, а уж после, перечитав начало и взглянув на всё как бы со стороны, Шушель на правах автора обругал своего героя мудаком и раздолбаем (не совсем, правда, доверяя этой оценке — что взять с похмельной собаки). Он ещё раз перечитал письмо и заулыбался. «Какой занятный малый! Интересно, как он выкрутится?» Но сразу вспомнил, что это, собственно, про него самого и, что характерно, им же самим и написано, помрачнел, потом встал на четвереньки и встряхнулся. Тяжёлая шкура переваливалась туда-сюда через позвоночник раза в два медленнее, чем обычно, но в целом процедура помогла. Когда последним аккордом отзвенел вытянутый в струну хвост, Шушель потянулся, припав на передние лапы и решил: «Нельзя сидеть в четырёх стенах! Здесь впору с ума сойти. Отправить письмо — вот занятие. Заодно и проветрюсь».
2
Город после вчерашнего праздника ожидания праздника (жителям предстояло пережить еще четыре выходных дня) едва ли чувствовал себя лучше, чем Шушель, а уж выглядел и того хуже. Раскалённый асфальт дышал перегаром, и по его (асфальта) лицу редкие прохожие катали пустые пивные жестянки. Обалдевшие от порции аномальной жары зелёненькие почки распускались, казалось, прямо на глазах. Шушель с тоской глядел на деревья и думал, что на природе он не был очень давно.
Опустив письмо, он побрёл на набережную. У реки было чуточку свежее. Ветерок время от времени вспоминал о своих обязанностях, да, видно, никак не мог определиться, куда дуть — с воды на берег или с берега на воду. Вода в реке была по-весеннему мутная, но, как отметил хвост Шушеля, употреблённый за термометр, не по-весеннему теплая. «Окунусь», — решил Шушель и нырнул.
Он уже выруливал на фарватер, когда с крохотного, незаметного с берега пляжика, расположенного чуть выше по течению, послышались знакомые голоса. Шушель навострил уши, повернул голову и увидел за изгибом небольшого мыса весёлую компанию. «Какое приятное совпадение», — подумалось ему, хотя на самом деле это было не то чтобы приятное совпадение, а, скорее, приятная забывчивость — друзья, которые с утра поздравляли Шушеля с праздником, говорили, что намерены выбраться к реке, и зазывали его с собой, да тогда он ещё не успел, если вы помните, прийти в себя.
— Рэкс! Рэкс!! — радостно закричал Шушель и, энергично перебирая перед собой лапами, так, что они (лапы) даже выпрыгивали из воды и колотили по ней сверху, принялся загребать к берегу.
Рэксом звали лучшего (а, впрочем, какие еще бывают друзья, если не лучшие) друга Шушеля. Рэкс был крупной овчаркой, да это, как вы уже поняли, и не особенно важно для нашего рассказа, кто там какой породы; куда интереснее обстоятельства, при которых Шушель и Рэкс познакомились. Пару лет тому неотразимое обаяние жены Рэкса, красавицы Арты, и злые языки, нашептавшие Шушелю, что муж Арты — сущее чудовище, и хроническое одиночество Шушеля; в общем, все перечисленное как-то само собой привело к тому, что Шушель начал волочиться за Артой. Она его ухаживаний не принимала, но ведь и сказать, что она их решительно и бесповоротно отвергала, тоже было нельзя. Неизвестно, какие бы неприятности ждали Шушеля, уверенного в своих благих (муж-то чудовище!) намерениях, если б случай не свел его с Рэксом. Чудовище оказалось предупредительным и премилым, с преизрядным, к тому же, чувством юмора. И пока Шушель горел от стыда, то и дело роняя что-нибудь из лап и натыкаясь на мебель, Рэкс припрыгивал вокруг, лукаво посматривал на Шушеля и не без весёлости (но уж точно без злобы) приговаривал: «А вовремя мы с тобой познакомились-то!»
И вот от избытка благодарности за столь ловкое разрешение неловкой, в общем-то, ситуации, и за очевидные достоинства Рэкса Шушель сразу проникся к нему симпатией. С чего Рэкс начал симпатизировать Шушелю, Шушель не понимал, да потом они как-то незаметно подружились, и Шушель перестал задавать себе этот вопрос.
За воспоминаниями Шушель не заметил, как добрался до пикникующих. Пока он галантно, с подчеркнутой отстранённостью, целовал Арте лапу и тепло хлопал Рэкса по спине, остальные участники пикника, вдохновлённые примером Шушеля, попрыгали в воду. Арта зябко повела плечиками и выразила желание глядеть на уголья в костерке, а Шушель с Рэксом отправились в лавку пополнить припасы.
Из лавки они возвращались не спеша — шли степенно, заложив передние лапы за спину (мешки с провизией и горячительным висели на шеях). Шушель волновался и рассказывал о своих злоключениях сбивчиво, перескакивая с пятого на десятое. Рэкс, который был старше Шушеля и нередко называл его «мой юный друг», смотрел на друга с лукавым прищуром (прижившимся, очевидно, после первой их встречи).
— Ну что ж, мой юный друг! — нарочно грассируя и как бы даже важничая, произнес Рэкс, но не выдержал, расхохотался и упруго прыгнул на стену. — Она хоть хорошенькая?
— Да как тебе сказать, она, в общем, и неплохая, и заброшенная какая-то, что даже жалко её, но ведь не могу же я теперь с ней за это жить! — Шушель разволновался, полагая, что Рэкс не понял его тревог и хочет убедить, мол, хорошенькая — и слава богу, а жениться тебе надо… И так далее.
— Зря нервничаешь! Не предлагаю ж я тебе и впрямь на ней жениться. Но помочь можно. Есть у меня одна идейка, — и Рэкс снова расхохотался. Да так разошелся, что позволил себе даже совершить несколько щенячьих прыжков на всех четырёх лапах. — Главное — ты меня с ней познакомь.
В чем состоит его идейка, Рэкс, вновь напустивший на себя важный вид, сообщать Шушелю пока отказывался.
— Так, — говорил он таинственно, — одна идейка. На крайний такой случай. Да и обмозговать надо. Позвони завтра — если уж все так серьёзно обернется. А то вдруг тебе причудилось.
Солнце, большое и малиновое, как варенье, любимое Шушелем, и как уголья, на которые любовалась Арта, висело над рекой, а Шушель улыбался и глядел поочередно на солнце, уголья и Арту. Рэкс с Артой переглянулись и участливо спросили Шушеля, намекая на приятное во всех отношениях общество и времяпрепровождение, которые и впрямь благотворно отразились на лице, пардон, морде Шушеля — складки расправились, глаза посветлели и заблестели, клыки чудесным образом (или об еду) отчистились — в общем, Рэкс и Арта спросили:
— Ну что, кажется, жизнь-то и налаживается?
— Угу, — только и смог ответить Шушель, и «угу» это получилось даже каким-то мурлыкнувшим, что, впрочем, было вполне уместно в виду приятнейшей, во всем теле и голове, ленивости.
Ночью Шушель шёл к дому пешком, недалеко, две остановки на троллейбусе, и всё вокруг, включая самого Шушеля, дышало — сам Шушель широким и красивым носом, ночь — прохладой, а воздух — ранней и влюбчивой весной. Дома Шушель спал, и ему снились прекрасные, но предсказуемые стаффордширки, интеллигентные, и оттого скучноватые, таксочки, а также вечные щенки — беззаботные и трогательные спаниельки. Наверное, собачий бог охранял сон Шушеля, и левретки ему сегодня не снились.
3
Жара собиралась стоять такая же, как и накануне, но она должна была случиться попозже. А вот без насекомых и в это утро не обошлось — Шушеля разбудил комар. Бесстыжий кровосос так обожрался за ночь, что не смог вовремя взлететь с носа Шушеля, которым тот предыдущим вечером так упоительно дышал, и обжорство это стоило комару жизни. Шушель хлопнул лапой по носу наугад, не открывая глаз, потому что, во-первых, он не собирался пока просыпаться, а во-вторых, движение век могло спугнуть комара раньше, чем лапа долетела бы до носа. «Расплодились», — с неудовольствием подумал Шушель, потянулся, перевернулся и (конечно же, с удовольствием) начал перелистывать свои первые весенние сны, чтоб выбрать, какой смотреть дальше. Но скорость, с которой таяла волшебная картинка на едва открытой странице, говорила о том, что magic откладывается до следующего утра, а сегодня пробуждение уже состоялось.
Гимнастикой по утрам Шушель не занимался — он где-то вычитал, что сердцу необходимо время, чтобы проснуться, и Шушель любезно предоставлял своему большому сердцу такую возможность. На работу можно было не ходить ещё три дня, читать или слушать музыку с утра не хотелось, и тут хорошо было бы включить телевизор — включить для фона, то есть исключительно ради ощущения связи с родной страной и её населением, но телевизора не было. Из развлечений оставался только телефон. Шушель с опаской посмотрел на аппарат — не позвонит ли тот вдруг голосом левретки, и решил набрать Рэкса — попытать насчет спасительного плана. Однако стоило ему протянуть лапу к трубке, как опасения начали сбываться — телефон зазвонил.
— Да! — рявкнул Шушель в трубку, изобразив все оттенки недовольства; так обычно отвечал его начальник — будто бы того оторвали от государственных по важности дел, а не от тяжёлого похмельного сна ухом на телефоне. — Слушаю!!
— Слушаю! — очень противно попыталась передразнить Шушеля трубка, и просыпающееся в приятных потягиваниях сердце Шушеля вдруг бухнуло и понесло. Дразнилась левретка. Шушель закрыл микрофон лапой, глубоко вдохнул, выдохнул, снова вдохнул, успокоился (чему быть и т. д.) и продолжил неудовольствовать.
— Кто?
— Конь в пальто, — на этот раз левретка дразнилась со смыслом и не без интимности — про коня Шушель часто говорил сам и слово это любил. Пришлось признавать абонента.
— А, привет.
— Привет. Узнал?
«Интересно, скажет ещё раз про коня или нет? — подумал Шушель. — Впрочем, с неё станется».
— Узнал. А это кто? — Шушель заранее поморщился.
— Конь. В пальто.
— А, так это ты. Привет.
— Так это я. Привет.
Шушеля стала занимать эта игра в повторялки, но он решил не тянуть, а выяснить, что у них было и как они вообще договорились. Следует ли им чинно встретиться и послушать, что прикажет сердце, или же Шушелю, как честному кобелю, уже пора собираться в контору, где записывают акты, так сказать, гражданского состояния. Но как об этом спросить, да, чёрт возьми, как?
— Ты что, не рад? — спросила левретка (кстати, имя у неё было примерно настолько же приятное уху Шушеля, насколько Шушель был сейчас рад) — левретку звали Люся. Не «Люси», что звучало бы прелестно при ударении на любой слог, а именно Люся. Это, вполне себе нормальное, кстати, имя отчего-то тащило подсознание Шушеля к депрессивным ассоциациям — мещанство, лицемерие, скрытая агрессия.
— Да рад, конечно. Просто я себя неважно чувствую, — Шушель вспомнил вчерашнее утро, примерил тогдашние ощущения — и ему как-то даже поплохело.
— Ну, это ничего. Как раз, значит, пора выбраться на улицу. Я же тебя сегодня с мамой знакомлю. Или ты забыл?
Тут в голове у Шушеля взорвалось, был гром, и была молния, и было воображение Шушеля, которое нарисовало ему аллегорию — он, Шушель, на необитаемом никем, кроме Люси (родительный падеж от «Люся», не путать с «Люси» в именительном!), острове, смотрит вслед воздушному шару. Шар летит на материк, к добрым собакам и прекрасным невестам, с вестью, что Шушель — ВСЁ, и на этот шар он только что не попал, а других шаров (самолетов, кораблей) не будет. Картина была красиво освещена вспышками молний и озвучена артистом, который обычно смеется в кинематографе или театре вместо Мефистофеля. А всего-то и надо было сказать, только сказать сразу, с напором, бодро и весело, в порядке самокритики: «Привет! Представляешь, весь день тогда не ел, не выспался что-то, ну и… Как я? Ничего хоть себя вёл-то?» — и дело в шляпе, а Шушель, соответственно, в шаре. То есть в корзине, конечно, ну, да вы поняли. Однако, то, что называют инициативой, Шушель упустил, а признаться в амнезии, уступив давлению, он не мог. Было в этом что-то неприличное, стыдливое, потаённое, но не то потаённое, о котором часто пишут стихи (и прозу тоже пишут). Другое. Хуже гораздо.
— М-м-м-нет, не забыл, — Шушель махнул на себя лапой. Будь что будет. И еще: ма-а-аленькая, но надежда, была на Рэкса с его идейкой.
— Правда?! — Люся обрадовалась, и Шушель успел пожалеть ее (несчастная, одинокая), потом себя (жизнь кончена! в двадцать пять лет!). — Значит, мы тебя ждём. Все трое, — радость Люся быстро сменила на деловитость.
— Трое — это с кем? С папой? — спросил Шушель и подумал: «Час от часу… Не легче».
— С па-пой! С ма-мой! — Люся вернулась к противным интонациям. — Говорил, память хорошая! С моим ребёнком, дурачок! — а вот «дурачок» Шушелю совсем не понравился. Было в нем нечто собственническое. Шушель уж было собрался возмутиться — должны же быть какие-то рамки: третий день знакомы! и нате! — но в этот момент до Шушеля дошло про ребёнка. Хотелось лишиться чувств, или, проще говоря, упасть в обморок, а очнуться в психиатрической лечебнице, на пути к выздоровлению; хотелось начать жить так, чтобы потом не было мучительно больно, хотелось начать жить по-новому; хотелось просто начать жить, но приходилось, кажется, заканчивать.
— Ты слышишь? Адрес помнишь? Ах, ты же меня провожал… Так вот, через две двери от лестницы, где мы… целовались… — Люся как бы стыдливо, однако, скорее, кокетливо, хихикнула. — Все, целую. К трём!
Полдень застал Шушеля в гостях у Рэкса. Утренний диалог был разобран по репликам-косточкам, а после и каждая реплика была обмусолена — до матовой белизны, как и положено хорошей косточке. Рэкс был серьезен и раздумчив. Шушель смотрел на него с выражением «Я безнадёжен, доктор?», или «На тебя, матушка, на тебя голубушка, надеюсь и уповаю», или… Впрочем, неважно, первых двух достаточно.
— Так. Моя вина. Надо было вчера заняться. Тебя услать куда-нибудь — например, на дачу ко мне, картошку хоронить… Всё польза… Отвлёкся. С мамой, говоришь, знакомиться… Значит, вариант первый… Хотя он так, лёгонький. Вряд ли проскочит. Но пробовать надо. Ты с мамами вообще часто знакомился?
И Рэкс изложил Шушелю свою идею. Идея действительно была простенькой, но не без остроумия. К тому же, Рэкс объяснил, что это, в общем-то, экспромт (ведь вчера про визит к маме не было известно), и что та самая, вчерашняя идея, остается в запасе. Однако в суть запасной идеи снова не посвятил.
Шушель, приободрённый больше наличием запасного варианта, чем тем, что ему предстояло сделать сейчас, шёл на смотрины. По дороге он совершил несколько действий, странных, казалось бы, для собаки, спешащей на подобное мероприятие. А именно: зашёл в пивную, где выхлебал несколько порций ерша, купил букетик, ещё в поле явно траченый конями, и, наконец, перед самым домом Люси нашёл подходящее место и деловито повалялся в пыли.
4
Этот грязный коридор Шушель видел впервые — и в то же время не впервые. Дело было не только в том, что таких коридоров за времена студенческого отрочества Шушель повидал немало. Чем дальше Шушель шёл, тем отчетливее вспоминал свой позавчерашний вечер. В каком-то укромном месте Шушелю вдруг открылась тайна шрама, того самого, за ухом. Прислонившись к стенке передохнуть, Шушель вдруг услышал голос Люси — то ли стыдливый, но скорее — кокетливый. «Ага. Значит, вот здесь мы… «целовались». — Шушель огляделся вокруг. «Но, кажется, больше и ничего. Негде. Слава богу. Однако пора направо», — и Шушель разворошил букетик.
— Здраст, — буркнул Шушель, потом вспомнил, что так обычно здороваются двоечники в школе, а надо как-то по-другому. Попробовал потянуть как бы по-блатному, с присвистом: — Здр-а-ссь-сьте! (и тут надо бы еще приподнять кепочку, кепочки не было, и Шушель вскинул лапу ко лбу, но как-то уже по-военному, а поклон при этом он отвесил клоунский) — в общем, выходило уж совсем чёрт знает что, поэтому Шушель прокашлялся и негромко произнес: — Добрый день, в смысле.
— Пр-ри-и-вет, привет, — это шла навстречу Люся, которая как-то слишком трогательно, по-сиротски, приняла букет, и Шушеля вновь кольнула жалость, причём ко всем сразу.
— Ну, здравствуй, — а это уже произнесла мама.
Мама Шушелю понравилась сразу — понравилась главным образом, тем, что обращалась на «ты», тем, что обратила внимание на помятый вид Шушеля, запах алкоголя от Шушеля и убогость принесённого им букета. Узкую морду будущей тёщи украшали презрительные, вечно поджатые губы и ещё что-то неприятное. Эта совокупность мгновенно уничтожила вселенскую жалость Шушеля.
— Присаживайся к столу. ЧАЙ пить. — Слово «чай» Люсина мама произнесла со значением, вложив в интонацию и выразительный взгляд message следующего примерно содержания: «не надейся, здесь тебе не нальют, да и вообще — катился бы ты», что весьма порадовало Шушеля.
— Хорошо бы… водки, — Шушель сказал это не нарочно. Чаем здесь напоили бы вряд ли, так что водки бы он и впрямь выпил с удовольствием. «Однако… как-то нехорошо получилось… Грубовато… Как будто я специально так… Хоть Рэкс и велел… Чёрт, надо было с собой принести… А, пусть идёт как идёт».
— Шучу, — бесцветным голосом сказал Шушель, потихоньку начиная себя ненавидеть за нерешительность, и замкнулся.
Неудавшийся конфликт был сглажен Люсей, которая подхватила алкогольную тему и притащила ликёр, от старости засахарившийся. К прочему подавали чай со слоном. Шушель вяло полоскал пасть ликером, чтоб тот лучше всасывался, совершенно не заботясь о том, как он, Шушель, выглядит, и прихлёбывал время от времени из чайной чашки, морщась и размышляя, что слоны, конечно, животные полезные, но вот к этому чаю слоны вряд ли имеют отношение — если только в Грузию не завезли десяток-другой, и, хотя по горам обычные слоны лазать не приучены, однако для рекламы предприимчивые грузины вполне могли и заплатить бедным индусам, а те вполне могли бы выучить парочку индийских слонов на слонов горных, от которых потом пошли бы горные слонята… Мама выпила рюмочку ликёра, по-купечески отставив пальчик, раскраснелась, перестала поджимать губы и пыталась завести полезный и хозяйственный разговор — мол, вот пора и картошку сажать, и грядки копать опять же… и вообще, у них и участок свой, и ведь Люсенька — такая умница, ведь все своими руками, то есть лапами, конечно… «Что-то сегодня всех на картошку пробило — вот и Рэкс тоже грозился… Нет, грядки копать — это не со мной», — меланхолично думал Шушель, — и вспомнил, как слушала песню «Не со мной» одна из его безответных любовей — юная борзая, и как прекрасно он тогда был влюблён, но она была слишком юная, и была в слишком большом порядке, и, в конце концов, родители… Но всё-таки один раз он с возлюбленной тоже вот сидел на ее кухне, и она кормила его, умиляясь на аппетит Шушеля, а магнитофон пел: «Не со мн-о-ой, да не со мной…» — Шушель поймал себя на том, что незаметно начал подвывать, и прекратил, но завывания продолжались. «Не со мной…» — но выли где-то за дверью, — «да не со мной», — и тут в дверь постучали. Хотя сказать постучали — значит, сказать не совсем правильно: и частота, и плотность ударов свидетельствовали за то, что стучали всем телом.
— Эй! — кричали из-за двери. — Я правильно зашел? Брательник-то мой тут?
«Рэкс!» — узнал Шушель и понял, что совсем забыл про план. На почве, которую он должен был подготовить к приходу Рэкса, конь, можно сказать, не валялся. Легенда про плохую наследственность и демонстрация ближайшего будущего Шушеля (а главное, Люси (родительный падеж от «Люся»)!) — таков был план Рэкса, который мужественно взял на себя самое трудное — демонстрацию.
Рэкс был убедителен. Рваная тельняшка, кепочка (которой в нужный момент не оказалось у Шушеля) и четыре клыка, обёрнутых в алюминиевую фольгу — имитация дешёвых вставных зубов из железа. Шушель ещё выбирал манеру поведения — с воплем пасть Рэксу на грудь и захлебать из бутылки — горлышко торчало из кармана Рэкса — в этом варианте прослеживался напор, драйв, но недоставало натуральности; или заискивать перед старшим братом, перед будущей тёщей и перед женой — а вот тут была и обречённость (от судьбы не уйдёшь… сам не рад, а делать нечего, таким же буду…), и очень натуральная слабохарактерность (ну вы уж извините.. может, все вместе выпьем?), однако будущая тёща не дала сыграть Рэксу с Шушелем.
— А! Явился! — вопила она. Ну, здравствуй, здравствуй, дорогой! Приятно познакомиться! Сесть не предлагаю! Насидишься ещё! Скотина! Папаша херов!
Шушель с Рэксом переглянулись. Шушель пожал плечами, и Рэкс принял решение — решение логичное и последовательное, но, как выяснилось чуть-чуть позже, роковое. Он хлебнул из бутылки и попытался приобнять будущую тёщу Шушеля:
— Мамаша! А в чём, собственно, дело? — немного подумал и добавил, но уж не так уверенно: — Бля.
Дальше всё было очень странно, быстро и как будто не по-настоящему. Появился наряд доберманов — милицейских собак в чёрных кожаных шлейках, доберманы крутили Рэксу лапы, теща бегала вокруг кучи собак и норовила ткнуть Рэкса кулачком, Люся тоже бегала вокруг, бегала и кричала: «Мама! Да не он это! Не он!», а Шушель хватал милиционеров, пытаясь пробиться к другу, однако на Шушеля никто не обращал внимания — от него просто отлягивались задними лапами. Когда Рэкса увезли в участок, Шушель поднялся с пола, допил праздничный ликёр и Рэксову водку, которая закатилась в угол, но до конца не вылилась, и сел на стол. «Не со мной, не со мной, — бормотал Шушель, — всё это — не со мной», — и тут к нему подошел худенький щенок непонятно какой породы.
— Ты кто? — спросил Шушель и догадался, услышав утреннее Люсино: — Конь в пальто!
— А, понятно, — Шушель поморщился. Яблочко от вишенки, так сказать, небось, утром рядом с мамой у телефона сидел, — и спросил: — А что это было?
— А это который в тельняшке, папа мой приходил, — услышал Шушель и закачался. — Бабушка его давно разыскать обещалась. А он вот сам пришел. А у бабушки друг — сосед наш дядя Гога — знаешь кто? На-чаль-ник. В милиции.
5
И снова Шушель шёл ночью по городу, но на этот раз вместе с Рэксом. Можно было бы поехать на такси, но все наличные деньги пошли на вызволение из кутузки Рэкса — мелкого хулигана, оскорблявшего своим видом. Друзьям надлежало немедленно явиться к Арте, которая, прождав пропавшего без предупреждения мужа целый день, решительно отказалась выслушивать телефонные объяснения Шушеля.
— Нет, я всё понимаю, — говорил Рэкс, — завалился к ним как бы пьяный, запросто могли и милицию — но почему так быстро? Мамаша могла бы и пригрозить для начала. А тут — как будто у них засада была готова.
— Ну, насчёт засады я догадываюсь, — ответил Шушель. — У мамаши хахаль за стенкой — чин ментовский, отделение рядом, у него рация, то, сё… Я тебя не про это хотел спросить. Ты её что, знаешь?
— Кого — ее?
— Кого, кого… Люсю эту, — Шушель очень надеялся, что мир окажется тесен, и добавил — Ты это, не подумай, это даже очень кстати получается. Ты же не думаешь, что я тут буду… х-хх-мм, смешно сказать… ревновать!
— Ты? Ревновать? Кого?
— Ну, её… то есть, нет — тебя… Нет, короче, запутался. В общем, то, что ты с ней был, — это ж здорово! Ну, там отец — не отец, дело спорное, но как же я на ней буду жениться, если она с моим другом спала, да ещё в то время, когда он был женат! Ведь верно?
Рэкс остановился. И посмотрел на Шушеля. Тот запричитал:
— Всё, всё, я об этом ни слова. Рэкс, ты бы хоть с другом поделился, если тебе это так дорого, — сказал и кисло улыбнулся.
Рэкс взял себя в руки.
— Не понял. Ну-ка, давай скажи нормально, лучше по порядку.
— По порядку: мамаша сказала, что ты — отец Люсиного ребенка. То есть это ребёнок её мне сказал, а всё произошедшее его слова подтвердило. Мамаша злится, что ребёнка с Люсей бросил, вот и отомстила.
Смеялся Рэкс очень громко, так громко, что патрульная машина даже зыркнула в их сторону фарами; и тогда Рэкс стартовал к ближайшим дворам, Шушель последовал за ним, и на бегу Рэкс сообщил, что не желает обратно в участок, и что Шушель очень его взбодрил, так взбодрил, что он, Рэкс, даже прощает его за то, что он втянул Рэкса в сегодняшние приключения. Шушель тоже воспрял духом — всё-таки, что ни говори, а день сегодня у Рэкса получился таким праздничным именно из-за Шушеля. А ведь Рэксу ещё предстояло объяснение с Артой — уж кто-кто, а Арта никак не могла бы утешиться сомнительным народным аргументом, что раз муж дома, да ещё и живой, то беспокоиться не о чем, и всё, как говорится, слава богу.
Рэкс тихонечко открыл дверь своим ключом. В доме было темно.
— У-ф-ффф. — сказал Рэкс шепотом. — Пронесло. Проходи, только тихо.
И включил свет в прихожей.
Под декоративной аркой, ведущей к комнатам, стояла Арта. Чуть наклонённая голова, строгий профиль, агрессивная и геометрически безупречная поза — Шушелю подумалось, что если бы арки не было, нужно было бы её поставить именно для такого случая — уж больно выразительной вышла композиция. Примерно с секунду Арта наслаждалась успехом своего художественного замысла — уголки её губ вздрогнули, даря надежду на улыбку, но быстро вернулись к исходной прямой линии.
— А теперь — идите на …й! Да, да — на …й! Вы, оба!!
6
Сначала запели птицы, а потом за окном стало как-то багряно. Рэкс налил еще по чуть-чуть, и Шушель, выпив, благостно сообщил Рэксу (Рэкс очень уважал природные явления):
— Рассвет-то какой! И цвет такой… э-э-м-мм.. насыщенный. Очень красиво.
— М-да. Насыщенный, — отозвался Рэкс. — Что-то не припомню я такого в городе, — и снова налил. — Насыщенный. Жизнь у меня теперь насыщенная.
Пение птиц стало перебиваться какими-то странными звуками — весьма уютными, но к лету отношения вроде бы не имеющими. Шушель прикрыл глаза, и ему вспомнилась дача друзей, где однажды ранней весной он был оставлен на ночь один, и где он так расстарался с топкой печи, что утром пришлось перебираться на пол — до того было жарко, а поленья в печи потрескивали и звали в деревню на поселение… Потрескивало и на улице. Ещё Шушель думал, что выпить вот так вот на рассвете, с другом, которому не надо домой к жене, очень уютно — можно говорить обо всём на свете и пить чай, перекладывая его рюмочками коньяка, и курить, и не опасаться внезапной потери чувствительности, которая валит с ног и отключает сознание, но которая при возлияниях случается только по вечерам, а утром обычно подкрадывается — как бы это сказать? нега? — в общем, что-то подкрадывается и долго ласкает, прежде чем уложить в постель благостного и почти трезвого Шушеля. «Надо бы освежиться», — подумалось Шушелю и он предложил другу выпить ещё немножко на балконе.
Рэкс согласился, они перетащили все нужное на балкон. И только когда Шушель и Рэкс устроились с удобствами, они обратили внимание на дом напротив. Дом стоял недалеко, метров сорок по прямой. Из трёх окон четвёртого этажа время от времени высовывались языки пламени.
— Красиво, — сказал Рэкс.
— Да. Красиво и необычно. И ещё уютно, — подтвердил Шушель, вспомнив про печку на даче и про юную борзую, с которой хорошо было бы очутиться на той даче… Друзья помолчали. Рэксу тоже было о чем пожалеть, и пауза получилась содержательная. Дождавшись приезда пожарных, Рэкс с Шушелем выкурили по сигарете и отправились спать.
— Телефон я выключу? — спросил Шушель, и Рэкс попытался ответить, но вместо ответа по-лошадиному покачал головой, обозначив согласие: он долго и сладко зевал.
Комары и похмелье их не побеспокоили — слишком много переживаний и коньяка было накануне. Друзей разбудил их звонок в дверь — два гулких, сливающихся удара — звонок назывался музыкальным. Шушель с большим неудовольствием побрёл к двери. Он хотел спросить «Кто?», но мозг услужливо подсказал самую популярную вчера рифму. Шушель осёкся и обречённо распахнул дверь.
— Проходи, — буркнул Шушель и пошёл на кухню, изо всех сил стараясь выразить спиной нелюбовь и раздражение.
— Послушай, я сейчас все объясню, я понимаю, очень глупо получилось, видишь ли… — затараторила Люся, но и она осеклась — из комнаты вышел Рэкс.
— Ну, здравствуй, родственница, — от вчерашнего маскарада Рэкса ничего не осталось, да и вид имел он не то чтобы дружелюбный, но и не злобный, в общем, Люся опомнилась:
— Ой, и вы тут. Как кстати, а я уж хотела к вам извиняться ехать. Вы уж простите, пожалуйста, просто…
Из кухни вышел заинтригованный Шушель, и за утренним (а как ещё назвать время, если ты только-только проснулся) чаем Люся объяснила:
Первое. Ребёнок у нее не от бывшего мужа, а от другого субъекта. Субъекта весьма сомнительного, с сильным криминальным душком, в объятия которого Люсю бросило желание отомстить тогда ещё настоящему мужу. Второе. Мать Люси этого отца в глаза не видела, но не любила сильно. Ну, а на третье Рэкс и получил вчера экзекуцию, заочно обещанную бросившему дочь с ребёнком соблазнителю.
— А в-четвёртых, мы сейчас пойдем к Арте, и ты ей всё это расскажешь, — резюмировал Рэкс.
— Да-да, конечно, только в-четвёртых меня из дома выгнали, — и Шушель, разливавший чай, сел мимо стула.
Арта открыла дверь и долго разглядывала Люсю. Женское любопытство победило, и Арта отошла в сторону, приглашая входить, но при этом одарила Шушеля и Рэкса чрезвычайно выразительным взглядом.
— С вами я после поговорю. А вы идите на кухню. В комнате, знаете, не прибрано, — последние фразы уже адресовались Люсе.
На кухне все расселись, и Люся заговорила:
— Понимаете…
— Давай уж на ты. Меня зовут Арта.
— Ага. А меня Люся. Вот, когда вчера брат Шушеля… то есть… твой муж, к нам зашел…
Арта снова взглянула на Шушеля с Рэксом, которые отчаянно вращали глазами, и в её глазах тоже заплясали чёртики. Вчера она краем уха слышала о проблемах Шушеля, и ситуация явно начинала ее забавлять.
— Брат… Знаешь, Люсь, мне с тобой надо кое о чём поговорить, — Арта изобразила на лице озабоченность, добавив чуточку трагизма вперемешку с загадочностью. — Наедине. — Арта строго повернулась к названым братьям. — Прогуляйтесь пока.
Через полчаса Рэкс сказал, что то «наедине», про которое говорила Арта, наверно, уже кончилось, и пошёл домой. А Шушель решил погулять ещё — домой он возвращаться побаивался. Там вполне могла ждать выгнанная из дома Люся.
Шушель наматывал третий круг по центральному бульвару. На первом круге он из последних сил пытался мысленно сопротивляться ситуации, но взгляды хорошеньких собак постепенно убедили его, что он безнадёжен. Мнительный Шушель читал в этих взглядах жалость, сострадание, иногда даже плохо скрываемое презрение, но никак не интерес к собственной персоне. Поэтому на второй круг Шушель заходил уже с мыслью о Люсе. «Оно, конечно, может, и не так страшно, — думал Шушель, — Тапочки вечером, ужин на столе, в рот глядеть будет. А я приду с работы… Всегда при мясе будем…», — Шушель вспомнил свой аргумент и сплюнул. Но спохватился и продолжил настраивать себя исключительно в положительном аспекте. Позитив, однако, не клеился — в голову лез ещё Люсин неизвестный от кого ребёнок. «Так и будем поживать… вот и картошку сажать пора… к земле поближе… все живут, и ничего, втягиваются, мама нас жизни учить будет», — тут Шушель как живых увидел Люсину маму, её «дядю Гогу», начальника из милиции, и вздрогнул. С мамами у Шушеля никогда не ладилось — кадр он был бесперспективный: не слишком породный, безмашинный, бесквартирный (жильё Шушель снимал), безденежный, но при этом амбициозный и обидчивый.
В этот момент Шушель рассеянно глянул на рыженькую спаниельку, которая смотрела на него не так, как все остальные хорошенькие собаки — смотрела со вниманием; смотрела так, что Шушель даже приподнял голову и слегка расправил крылья — никакой метафоры, просто в спортзале, куда раньше хаживал Шушель, крыльями называли широчайшие мышцы спины. На секунду в осанке Шушеля появилось выражение вроде «были когда-то и мы рысаками», но со спортзалов его мысли почему-то снова перетекли на мам, и вот что странно — думать об этом Шушелю вдруг стало приятно. Он вспомнил одну замечательную семью, в которой он осмелился появиться лет пять назад, чувствуя себя мерзким совратителем, точнее, сам Шушель, конечно, так не чувствовал, но боялся, что именно так за него будут чувствовать родители семнадцатилетней спаниельки, с которой двадцатилетний (и, кстати, совсем недавно разведённый с женой) Шушель познакомился в трамвае. Родители, эти гнусные, подозрительные твари, вдруг оказались милыми, весёлыми людьми, которые поили Шушеля чаем с малиновым вареньем, с интересом расспрашивали Шушеля о том, чем Шушель увлекается, ставили Шушелю пластинки «Пинк Флойда», и вообще, вели себя так, что Шушель вскоре принимал их едва ли не за ровесников. Жаль, только что родители произвели на Шушеля впечатление более сильное, чем сама спаниелька. То есть она, конечно, тоже была ничего, но Шушель тогда всерьёз искал идеал.
7
Подойдя к дому, Шушель увидел, что интуиция не зря удерживала его от возвращения домой: около подъезда Шушеля и впрямь дожидались. На лавочке сидел, точнее, старался не лежать, вдребезги пьяный Рэкс, который, завидев Шушеля, медленно приподнялся и закричал странное, нехорошее и по интонации совершенно для Рэкса несвойственное:
— А, корешок, бля! Давай, давай, подгребай! Потолкуем!
Шушель ни разу не то чтобы не видел Рэкса таким, Шушель даже не представлял, что Рэкс таким может быть, — и Шушелю стало страшно. Тут не было уже ничего от той смущенности, про которую мы упоминали вначале рассказа и которая иногда, особенно когда Рэкс бывал в настроении шутить, посещала Шушеля в обществе Рэкса. Однако преодолеть страх оказалось проще, чем, не смущаясь шутить в тон Рэксу — ведь никакой вины за собой Шушель не чувствовал. Поэтому, когда Шушель подошёл к лавочке, он видел в Рэксе не угрозу, а больного друга. Тем более что Рэкс после реплики на лавочке все-таки не усидел: сначала он попытался подкрепиться пивом, но, едва донеся горлышко до губ, Рэкс запрокинул голову, пиво пролилось Рэксу на морду, а сам он завалился назад и при этом как-то вбок. Пристраивая бутылку у себя под мышкой, Рэкс запахнул джинсовую куртку, поджал ноги и отключился. Шушель втащил тело на четвёртый этаж и, стараясь ни о чём не думать (что, кстати, и без стараний у него неплохо выходило), побежал в винную лавку. И когда в дверях часа полтора спустя появилась Люся — копия в этот момент своей мамы, с такими же брезгливо (на всякий случай, от неуверенности) поджатыми губами, Шушелю уже ни до чего не было дела.
Как это часто бывает в мае, после трёх дней первой весенней жары резко похолодало. Шушель проснулся оттого, что, во-первых, было холодно, во-вторых, у него затекли сразу все лапы, а в-третьих, что-то толкало его в бок. Не без труда приподняв голову, Шушель увидел, что спал он в крохотной прихожей, а в бок его толкает входная дверь, вчера, по-видимому, не запертая. Шушель упёрся затекшими лапами в дверь санузла, и тяжёлой спиной захлопнул дверь входную, сказав при этом: «Никого нет дома». Тут в дверь стали колотить, но не сильно, и когда Шушель узнал голос Люсиного ребёнка, то, сначала вспомнил, что на работу еще не сегодня, а уж потом сразу похвалил себя за дверь, закрытую без выяснения. Вспоминать, а тем более думать о том, что же произошло вчера с Рэксом, зачем к нему припёрлась Люся, и о чём они вчера говорили, если вообще говорили, Шушель панически боялся. Отмечая про себя, что именно с такого вот жуткого, но пугающего не больной головой, и не ознобом, и не ломотой в суставах, а пугающего полной потерей ориентации во времени, частичной — в пространстве, и, главное, пугающего страхом сделать буквально любое движение, вплоть до простого поворота головы без спасительной дозы алкоголя, состояния; с такого вот состояния началась у него однажды та мерзкая, шевелящаяся склизкая жуть, о которой сам он раньше охотно шутил и даже называл обыкновенным словом «запой»; и вот, отмечая, что и сейчас все симптомы уже налицо, но способность отстранённо фиксировать симптомы ещё позволяет надеяться, Шушель побрёл в комнату, чтоб закрыть распахнутую с вечера балконную дверь.
То, что Шушель увидел в комнате, заставило его вспомнить вчерашнее: в комнате, широко раскинувшись на постели Шушеля, спал Рэкс, а спиной к Рэксу, недоверчиво свернувшись, сопела Люся. Подумать о дальнейших действиях Шушель просто не успел. За дверью, в которую вдруг прекратили колотить, громко зазвучал голос Арты. Рэкс вскочил, будто бы и не могло быть у него похмелья. Он моментально оценил диспозицию и даже за считанные секунды выразил своё к ней отношение. То есть успел удивиться, потратив на это примерно полсекунды; ещё четверть секунды ушла у Рэкса на то, чтобы самодовольно хмыкнуть, а секунды две — чтоб посверлить Шушеля нехорошим, обещающим разбор в скором будущем, взглядом. После этой стрельбы глазами Рэкс крепко надавил на плечи Шушелю, и тот оказался на ещё теплом после Рэкса месте.
Сначала Арта наблюдала постель с Шушелем и с Люсей, а Рэкс при этом что-то ей весьма злобно говорил, но Арта вид имела ледяной и надменный, и до Рэкса не снисходила. Потом Арта развернулась и ушла, потом до постели добрался Люсин ребёнок, и одетый Шушель чувствовал себя голым, хотя на самом деле голой была Люся, которая долго выбиралась из постели, прикрываясь одеялом, и, в конце концов, совсем стащила одеяло с Шушеля. Изобразив спящего пьяного, Шушель перекатился набок, и коленями подпихнул к подбородку подушку, чуть раньше положенную как бы в сонном забытьи на живот. В такой позе притворяющийся Шушель промучился целую вечность. Из кухни доносились детское нытьё и резкие Люсины реплики. Шушель находился в крайней степени раздражения, но решительно встать и выгнать всех из квартиры, (а именно этого, то есть не обязательно выгнать, и совсем не обязательно встать, но уж остаться одному ему сейчас, как вы, наверное, понимаете, хотелось больше всего на свете), Шушель не мог. На кухне начались громкие покашливания, потом там стали ходить и нарочно скрипеть рассохшимися половицами, спрятанными под кусками линялого линолеума, и потом по этому линолеуму принялись противно шаркать. Несколько неприятных минут пришлось пережить, когда над Шушелем наклонились и трясли его за плечо. Тяжёлый вздох, звук удаляющихся шагов и, наконец, оглушительный хлопок входной двери, который обрушился на Шушеля вместе с тоскливым чувством вины и потоком грязных запахов из подъезда, но чувство это было ненадолго (так бывает, когда обливаешься холодной водой, и вода обжигает и дух захватывает только в первое мгновение); — через секунду после дверного хлопка, когда лязгнул стальным язычком замок, Шушелю вдруг стало очень легко и дышать, и чувствовать.
Балконная дверь оставалась открытой, и с улицы в комнату проникал холодный воздух, но холод не может испортить весну, наоборот, думалось Шушелю, холод, как и дождь, делает её аромат острее и пронзительнее. (Был бы сейчас рядом с Шушелем Рэкс, тот объяснил бы товарищу, что очень рано в этом году начала цвести черёмуха, а когда цветёт черёмуха всегда бывает холодно, но Шушелю подобное объяснение вряд ли бы понравилось — он не привык обращать внимание на природные явления, и никак не мог уловить причинно-следственную связь между явлением и своими эмоциями — не понимал, что есть причина, а что — следствие. Своё лирическое настроение, в котором он принимался либо идеализировать прежние влюблённости и сокрушаться, либо ждать новых влюблённостей и радоваться, сопровождая как печаль, так и радость умеренным элегическим выпиванием наедине с собой; в общем, описанное лирическое настроение Шушель не объяснял ни запахами, ни появлением звёзд на небе или, скажем, появлением на том же небе полной луны. Получается путано, и придется сказать проще. Шушель не мог бы сказать: «ах, какой пронзительный аромат, ах таинство природы, ах, кажется, в этой связи я чувствую некоторое томление», а скорее Шушель сказал бы: «очень мне сегодня печально, но печаль эта, несомненно, приятна, заставляет что-то хорошее вспомнить и погрустить, поскольку это хорошее уже утрачено, но при всем этом можно ещё надеяться на лучшее, и это замечательно, да и воздух сегодня прямо под моё настроение». Примерно так).
8
Холодный воздух, кроме прочего, очень хорош и для здорового сна. Однако неизвестно, насколько пробуждение после пусть и сдобренного свежим воздухом отдыха оказалось бы здоровым. По крайней мере, уж все события последних дней и лошадиная порция спиртного накануне никак не могли этому способствовать. Шушель ложился заболевающим, и наверняка проснулся бы больным, подобно одному известному герою, но всё случилось иначе.
Проснувшись, Шушель почувствовал острое желание пообщаться хоть с кем-то, кто не был замешан в этой истории, но чтоб этот «кто-то» был бы Шушелю близок. Шушель решил позвонить одной особе, с которой он довольно долгое время был близок, и которая бросала Шушеля шесть раз, и все шесть раз для Шушеля это была полноценная любовная драма со всеми полагающимися атрибутами, как то: долгие объяснения, заканчивающиеся истериками, горячечные, похожие на бред, уговоры остаться или вернуться; наконец, потребность с надрывом рассказывать о любви и разрыве друзьям в ходе распития алкоголя, ради этих надрывных рассказов Шушелем и затеянного. Все шесть раз Шушель любимую возвращал. Возвращал до тех самых пор, пока в седьмой раз не расстался с ней по собственной воле. Как выяснилось позже, расстался не навсегда. Через полгода Шушель, сам не зная зачем, позвонил ей в полночь после какого-то угарного, летевшего обрывками, вечера, и, находясь в состоянии болезненного опьянения, непонятным образом уговорил приехать прямо сейчас. С тех пор он время от времени встречался с бывшей возлюбленной исключительно в постельных целях. И ни разу он не задал себе вопроса, почему она каждый раз соглашается; ведь эти самые цели Шушеля были ясны и ей тоже — утром он прощался с ней весьма холодно, если вообще удосуживался прощаться. Только в последнюю их встречу, вечером, то есть еще до постели, Шушель, как бы дурачась, задал этот вопрос, ответ на который на самом деле был ему совершенно неважен, так как сложившиеся отношения его абсолютно устраивали, и спросил он больше для поддержания хоть какой-то видимости приличий. Вопрос Шушеля звучал так: «А зачем ты, собственно, приезжаешь, стоит только мне позвонить?»; и она очень спокойно ответила: «Я тебя люблю». Шушель тогда смутился, и, неловко, с претензией на многозначительность, хмыкнул в том смысле, мол, раньше надо было любить. Конечно, то-то внутри заскребло, но скоро всё поехало, что называется, по накатанной, и к утру это тревожное чувство Шушеля отпустило.
Он взял телефон и подумал, что именно сегодня он с удовольствием бы просто поговорил с ней. Удивился, почему раньше такая очевидная мысль не приходила ему в голову. Однако на другом конце провода Шушеля встретил мужской голос. Голос достаточно вежливо поинтересовался, не Шушель ли это звонит и, получив утвердительный ответ, так же вежливо сообщил, что она вышла замуж, после чего попросил больше не звонить. Шушель, несколько оглушённый известием, вдруг понял, что постелью при унижающих обстоятельствах мстил за шесть её уходов, и теперь, когда он простил и захотел другой близости, говорить ему оказалось не с кем.
Тут вроде и должны были бы материализоваться опасения Шушеля насчёт психиатрической лечебницы. Погода, во всяком случае, выступала именно за это: с утра было пасмурно, а тут в комнате стало светло, и свет этот был очень холодный; поэтому, когда Шушель повернул к окну голову, то увидел много-много белого, и мучительно долго соображал что к чему, пока до него дошло, что это идет снег. Во время учёбы на филфаке Шушель слышал, что дождь или снег в художественных произведениях каким-то странным образом связаны со следующим сразу за ними резким поворотом сюжета, и его всегда занимала мысль: кто из авторов знал о такой закономерности и вставлял осадки сознательно, чтобы развернуть сюжет, а кто из них писал об осадках без оглядки на предварительный план произведения, исключительно по велению сердца.
Шушель иногда воображал, будто бы за ним наблюдает некий невидимый автор, и что жизнь его — набросок к какому-то художественному произведению. Правда, лет с семнадцати — тогда Шушель был втянут в совершенно феерическую историю с романтическим знакомством, расставанием и неожиданным обретением идеала в момент, когда у Шушеля уже была другая, а вся история, в которой принимала участие прорва народу, который ссорился и плёл интриги вокруг Шушеля и его невесты, закончилась, как и полагается в художественном произведении, свадьбой (впрочем, свадьба эта ни к чему хорошему не привела, но сейчас, как вы понимаете, не об этом) — так вот, с тех пор Шушель не давал этому своему автору ни единого динамичного и законченного сюжета; были отдельные, весьма приятные и значимые, как казалось Шушелю, в художественном плане, эпизоды, но в целом жизнь Шушеля не представляла никакой художественной ценности. Нет, конечно, это вполне можно было написать как серию коротких юмористических рассказов, но прожить жизнь героем юморесок юному и романтично настроенному Шушелю не хотелось, а до размеров трагической фигуры его поступки явно не дотягивали. Несмотря на сложные отношения с алкоголем, которые в сочетании с несчастными влюблённостями часто приводили к унынию, Шушелю ни разу даже не приходила в голову мысль о суициде. Чаще всего в моменты, когда автору для точки в крепкой любовной драме от героя требовалось бы самоубийство или хотя бы соответствующий порыв, Шушель малодушно представлял, будто автор его не видит, и, сидя в своей конуре, потихоньку зализывал раны, да ждал завязки нового сюжета.
Вот и сейчас Шушель решил притаиться до лучших времен, надеясь, что вся эта неприятная история рассосётся сама собой, и со временем оформится в одну из тех занятных баек, рассказывать которые Шушель был большой мастак. Однако решить оказалось проще, чем исполнить. То, что Шушель жил в не совсем реальном мире, и то, что гораздо важнее для него были иллюзии, вы, наверное, уже поняли. А последняя мечта появилась у него с пробуждением и была как раз о той девушке, которая, как ему сообщили, вышла замуж; причём, сообщили именно в тот момент, когда Шушель почувствовал, что, кажется, он её тоже любит, или, скорее, не то, чтобы любит, а готов выбрать объектом для приложения своего чувства, то есть, говоря проще, хочет полюбить.
Неприятности в реальной жизни и столь скоропостижное разрушение очередной (но всё-таки совсем недавно такой достижимой, доступной, и поэтому разрушенной чрезвычайно глупо, только из-за нерасторопности Шушеля) мечты, привели к какому-то замыканию в его голове. Несколько мгновений он жалел себя за то, что он, самый умный, тонкий, ответственный, добрый, нежный, чуткий живёт среди тупых, жестоких, расчетливых, примитивных существ; и в ту же секунду его начинало рвать на части чувство вины — почему такое никчёмное, но очень вредное для окружающего мира одноклеточное, как он, отравляет жизнь многим прекрасным, правильно живущим, пусть и несколько грубоватым, людям? Шушель начал быстро-быстро мотать головой в разные стороны, пытаясь поймать что-нибудь одно, и завыл.
Вой был прерван двумя гулкими, сливающимися ударами — звонок назывался музыкальным. Шушель встряхнулся, крутанул плечами, бросив их вверх, назад и вниз, зафиксировал голову, задрав подбородок как можно выше, и, пытаясь изобразить пружинистый шаг, пошел открывать. На пороге стоял тот иногородний товарищ Шушеля, которому Шушель писал в первый день этого вязкого и бесконечного, как ночной кошмар, майского праздника. Шушель очень любил своего московского друга, и мог совершенно определенно сказать, за что он любит Баха (так звали прибывшего): Бах был чемпионом мира по жизнелюбию.
9
Разумеется, и в этот раз настроение Баха полностью отвечало приведённой выше характеристике — иначе зачем бы ему появляться в этой истории? Захлёбываясь хаотично циркулирующей в нем энергией, Бах быстро перемещался по квартире, курил, рассматривал новые книги на полке у Шушеля, пил пиво из бутылки и рассказывал обо всём и ни о чём; при этом Бах перескакивал с пятого на десятого, с десятого вдруг переходил на одиннадцатое, зато уж с одиннадцатого скакал сразу на двадцать седьмое, а когда возвращался к пятому, непостижимым образом умудрялся одной фразой подытожить все двадцать семь тем. Для больного Шушеля речь Баха была и бальзамом, и нектаром, и минеральной водой, и крепким чаем, и прохладной рекой похмельным утром — сам он говорить не то, чтобы не хотел, а, скорее, не мог. Поэтому Баха Шушель слушал в состоянии лёгкого транса, как слушают записи природных шумов вроде океанского прибоя — размышляя о своём и нисколько не вдаваясь в то, о чём, собственно, шумит сам океан и уж конечно, не думая о том, насколько изысканным является этот шум. Однако вскоре Шушель уловил что-то, что легонько потянуло его из транса поближе к живому Баху, потом это ощущение повторилось, а на третий раз Шушель уже начал прислушиваться.
— Ну, наконец-то взял! — Бах радостно потянулся своей бутылкой к Шушелю, Шушель автоматически чокнулся, и только после этого обнаружил в своих лапах открытое пиво.
— Ты о чём? — спросил Шушель, сделав для приличия полглоточка.
— Да о пиве! Битый час тебе предлагаю, а ты ни да, ни нет.
«Неужели это я из-за пива? В смысле, это уже алкоголизм, и я среагировал на пиво?», — Шушель поёжился и отставил бутылку.
— Так вот, — продолжал Бах. — Ты пиво-то пей, пей. Жалко, девчонок нет, ну это ничего, еще, как говорится не вечер. Кстати, о девчонках — совсем забыл, так доскажу. И вот я ей говорю: душа моя, хотите — пойдём по городу поболтаемся, а хотите — зайдём в гости к другу; и чтобы она чего не подумала, я тебя так расписал, ну просто хоть мажь гипсом и ставь в полный рост на постамент посреди центральной площади. И самое главное, понимаешь, она уже интересоваться начала, вопросы задавать, правда, про тебя в основном, то есть про твою биографию, а когда я к автомату звонить тебе пошел, она вроде за спиной стояла, а потом я обернулся, а её как-то уже и не было. Кстати, ты теперь что, телефон всегда отключаешь?
— Интересоваться? Погоди, а какой биографией интересоваться? и какая она из себя?
Баха нисколько не смутило отсутствие ответа насчет телефона, и он охотно принялся отвечать на встречный вопрос.
— Ну, такая молодая, хорошенькая, не красавица, конечно, но так, знаешь, так это как бы сказать… Рыженькая такая… Миленькая, в общем. Даже очень миленькая, или нет, скорее не миленькая — славная. А про биографию в том смысле, что мы болтали, и про тебя болтали, и тут она спросила, женат ли ты, и, разумеется, я сказал, что женат, и жена у тебя общительная и красавица, а то какая ж дура с первым встречным, пусть это даже такой порядочный, как я, попрётся к совершенно незнакомому, пусть даже такому приличному, как ты. Кстати, о жене. Как у тебя сейчас? Есть кто-нибудь? Помню, пару лет тому, когда у тебя жил ты про одну любовь много рассказывал. И очень с чувством, я даже завидовал.
— Замуж она вышла. Сегодня. То есть, вышла, наверное, давно, а сегодня мне об этом сообщили.
— М-да? Ну и дура. Хотя вам виднее, конечно. Ты от этого, что ли, такой мутный? Брось, давай, звони Рэксу, кстати, как он там? Давно не виделись, да и с женой его с удовольствием пообщаюсь.
— Я бы тоже. Пообщался с удовольствием. Боюсь, у них удовольствия не прибавится. Ты письма не получал? — и Шушель сбивчиво, путаясь, что называется, в показаниях, или, если быть точнее, в оценках, начал пересказывать Баху злоключения последних дней.
Когда рассказ закончился, Бах одним глотком допил пиво, бодро заявил, что совершенно не видит, почему бы одному благородному дону не помочь другому благородному дону в выяснении некоторых щепетильных обстоятельств, и отправился к Рэксу, строго-настрого запретив Шушелю думать о плохом, а также пообещав по возвращении преподнести ему какой-нибудь приятный сюрприз. Сам Шушель оделся потеплее, и перебрался на балкон — курить и освежаться воздухом, и наблюдать зелень деревьев с тяжелыми кусками мокрого снега, и, может, развлекаться болтовней по телефону с кем-нибудь, и уж совсем точно, за тем, чтобы блаженно улыбаться, и наслаждаться туманными предчувствиями и думать, о том, как кстати приехал Бах. И когда он выполнил все пункты программы, за исключением одного — телефонного, телефон зазвонил сам.
Голос был женский. Однако приезд Баха настолько взбодрил Шушеля и породил так много надежд, что Шушель даже не вздрогнул от женского голоса в трубке по приобретённой за последние три дня привычке. Напротив — он сладостно замер, пытаясь отгадать, что означает звонок — кто-то ошибся номером или обещанные Бахом приятные сюрпризы уже начались. Замирал Шушель не напрасно — голос уточнил номер, а потом сказал:
— Пожалуйста, получите письмо. На вашу фамилию, на центральном почтамте.
— А вы? Вы с почтамта? Кто вы? Алло! Алло! — но в трубке уже пульсировали гудки. Шушель в задумчивости потёр трубкой лоб. Ясно было, что звонить с почтамта ему никак не могли, следовательно, звонила та, что это письмо отправила (и тут был повод радоваться — звонила точно не Люся), либо Люсино доверенное лицо (и тут взыгравшая было радость сменилась у Шушеля на утреннее предзапойное состояние). Сидеть запертым в четырёх стенах наедине с таким состоянием Шушель не смог, но и разминуться с благородным доном Бахом не хотел, поэтому он оставил в двери записку: «Ключ под ковриком», а коврик за неимением перетащил от соседей. По дороге к почтамту Шушель оптимистично похмыкивал. Дело в том, что сам он раньше частенько возмущался тупостью обывателей, которые прибегали к подобным запискам. «Ладно, если воры», — думал Шушель, — «а если эта (имелась в виду, конечно, Люся) припрётся — вот уж порадуется», — и Шушель снова хмыкал насчёт того, что вот и довелось употребить такой смешной способ, а ещё оттого, что ему почему-то совсем не верилось в визит Люси.
И когда Шушель вскрывал конверт, его уже не одолевали смутные тревоги по поводу очередного неприятного поворота этой нехорошей истории. Ухмылка, с которой он шёл на почтамт, и которая делала глаза узкими, а губы — сложенными в прихотливую кривую, отчего они (губы) слегка напоминали лежащую на боку букву «S»; так вот, эта дорожная ухмылка, исполненная грандиозного сарказма, сменилась на широко открытые глаза, нервно хлопающий крыльями нос и чуть высунутый от усердия, по детской привычке, язык, а грандиозный сарказм уступил место неподдельному волнению. Нужно ли говорить, что такая перемена в чувствах была весьма приятна Шушелю?
«Не знаю, зачем. А вот насчёт «почему» догадываюсь. Наверное, потому, что теперь мы квиты. Выходит непонятно, ну, ты ведь сам мне когда-то говорил, что главное — это преодолеть первые строки, выплеснуть в три предложения весь сумбур, а потом эти предложения зачеркнуть, и всё пойдёт само, главное — начать и почувствовать инерцию текста. Ты вообще, как выяснилось, в том, что касается отдельных творческих тем, обладал звериной интуицией. Правда, только отдельных, а терминами ты просто не владел, ну да ладно. Я, как ты, наверное, понял, уже доучилась, но, сейчас, как ты любил цитировать, не об этом. Вот, кстати, и первая цитата, значит, сумбур закончился. Перейду к сути. Извини, что не зачеркнула первые строчки. Смущаюсь. Прости и это отступление. So.
Насчет «квиты» я, пожалуй, погорячилась. Странное ощущение от этого письма — я чувствую себя, как та девочка, которую ты знал, и как сегодняшняя я. Но рефлексия и мнительность, которая была твоей главной проблемой тогда (Видишь! Я в этом разобралась! В том, о чём ты тогда не догадывался!), эта рефлексия, к сожалению, она теперь знакома и мне. Так вот, чтобы от нее избавиться, представим, что это очень старая, наивная сказка про любовь, в которой героиня пишет герою.
Милый! Это ты? Нет, правда? Я узнала тебя! А ты, ты меня узнаёшь? Да, я та маленькая рыжая спаниелька. Ты познакомился со мной в трамвае, я ехала домой с занятий. И тут вдруг ты — на несколько лет старше, такой большой и обаятельный. Ты так мило смущался и так неловко пытался маскировать это некоторой развязностью (это я сегодня даю такую оценку, а тогда у меня это просто вызывало к тебе доверие), что я стала встречаться с тобой. Ты, как мне теперь кажется, знакомился просто так, для избавления от каких-то своих комплексов, и, познакомившись, свою задачу решил. А потом ты просто не знал, что со мной делать. Я была тебе неинтересна. Видимо, имея в виду свою будущую великую любовь, ты упражнялся на мне в остроумии и в бойком изложении тем, льстящих интеллекту твоих собеседниц. Например, рассказывал мне о группе «Queen» и ироничном Фредди Меркьюри. О том, что сначала он был рокером, потом, в период бешеной популярности был шутом, и что он позволил себе быть абсолютно искренним только в одной песне — последней с последнего альбома. Что его самые известные клипы — это осознанный китч, а самый лучший альбом — тот самый последний, на который характерные для «Queen» клипы-блокбастеры уже не снимались. Позже я прочла всё это (надо отдать должное твоей памяти, пересказывал ты очень близко к оригинальному тексту) в книге о Фредди, которую ты забыл забрать у меня, перед тем, как исчезнуть. Я прочла это после твоего исчезновения, но ты не показался мне пошляком и фанфароном — напротив, я обрадовалась этому неожиданному напоминанию о тебе. Оно вызвало прилив нежности и вытащило меня из оцепенения, в котором я находилась, после того, как ты пропал. И тогда я поняла, что влюбилась. Прошло еще несколько месяцев, и я полностью согласилась с тобой в том, что главное — это моё чувство, а не твоё отношение ко мне. И я захотела сделать это (сейчас скажу, что именно), но сделать не ради себя — у меня уже была моя хроническая влюблённость, и на то, что ты чувствовал ко мне, мне, как тогда казалось, было наплевать; милый! я захотела, чтобы ты тоже влюбился, захотела подарить тебе эту возможность. Я решила соответствовать. Ради того, чтобы соответствовать, я училась, ради этого читала книги и выучила наизусть все песни «Queen» и Фредди. Тогда мне казалось, что я знаю о тебе больше, чем ты сам. Я придумала образ, в который ты мог бы влюбиться, я сама стала этим персонажем, стала воплощением неуловимых чувств из твоих снов. Я смогла стать взбалмошной, загадочной, иногда смешливой, чаще — меланхоличной и задумчивой. Я поняла, что со временем, после того, как ты в меня влюбишься, тебе захочется явного внимания и искреннего интереса, но не просто, а в комплекте с якобы тайным и как бы хорошо скрываемым обожанием и восхищением. Всё это я могла дать тебе в любых количествах и пропорциях. И единственное, чего мне не хватило, — это, извини за банальность, терпения. Выяснилось, что я не умею ждать, не зная, как долго придётся ждать. Милый, прости, я вышла замуж.»
Дочитав до этого места, Шушель, лоб которого, несмотря на холод и на лапу, которая тёрла этот лоб, практически не останавливаясь, был покрыт крупными каплями пота, смог встряхнуться и вырваться из-под гипнотической власти слишком, как ему казалось, прекрасного и потому нереального текста. И первое, что Шушель сделал, вернув сознание к реальности, — горько и неостроумно пошутил. «Они сговорились. Наверное, просто день сегодня такой. Второй раз за сутки сообщают про замужество моих, гм, бывших». Но, стоит признаться, уведомление в форме love letter была Шушелю гораздо приятнее мужского голоса в телефонной трубке. И Шушель продолжил чтение.
«Именно это я имела в виду, когда написала «квиты». Я не буду посвящать тебя в подробности моего романа и замужества. Скажу только, что мой муж влюбился в меня такую, какой я стала, ожидая тебя. С ним я перестала быть такой.
Милый, вчера я видела тебя. Конечно, ты не такой, каким я тебя придумала, ты совсем другой. Я знаю, что сейчас разговариваю с тобой идеальным. Мало того, это разговор не одного, а двух придуманных мной образов — твоего и моего. После того, как ты пропал, я развлекалась на подобный манер постоянно. Я написала тебе десятки писем, поэтому для меня это нормально. Единственное, что мне непривычно — это столкновение с реальностью, с возможностью не только написать тебе, но и отправить письмо. Сегодня я узнала номер твоего телефона, и узнала, что ты женат. Вот, кстати, наконец-то я разобралась с этим несчастным «квиты» — ты, милый, тоже не очень-то обо мне думал, если вообще вспоминал. Прости, это говорю не я. Точнее, не та я, в которую ты мог бы влюбиться. А я уверена, что тебе очень захочется влюбиться в меня, после того, как ты всё это прочтёшь. И еще раз прости — это я решила добавить чуточку кокетства и похвалиться своими способностями. Теперь, надеюсь, ты понимаешь, почему и зачем я написала тебе. Согласись, такие усилия и чувство, которое стимулировало эти усилия, заслуживают того, чтобы их оценили. Как оказалось, мне нужна эта, пусть и не воплощённая в каких-то словах или поступках, оценка. Мне просто необходимо знать, что ты, как говорится, в курсе.
P.S. Да, разумеется, я тебя люблю.
P.S. P.S. Ты тоже вчера меня видел, но не узнал — в центре, на бульваре. Я живу неподалеку. И часто, очень-очень часто там гуляю. Но ты ни в коем случае не приходи! (Пытаюсь шутить. А на самом деле не знаю, что ты будешь делать, что я буду делать, нужно ли из всего этого вообще что-то делать. Не знаю…)…».
Последняя фраза долго еще вспыхивала у Шушеля в голове. Под рефрен «не знаю» он шёл к центральному бульвару. Причем, когда он выходил с почтамта, тональность этого «Не знаю» была мощной, побуждающей к действию, была восторженной и окрыляющей, но, по мере приближения к бульвару, окрас фразы сначала сменился на прозрачный и элегический, располагающий к сомнамбулической мечтательности, которая обычно сопровождает пробуждение от сна про влюблённость утром выходного дня, а затем «не знаю» превратилось в поиски ответов на массу исключительно бытовых вопросов, связанных с открывшимися вдруг обстоятельствами. И на вопрос: «Когда пойти на бульвар искать встречи?» Шушель по инерции ответил «не знаю», но тут же уточнил: «не сегодня». Как он понял, встреча была гарантирована ему в любой день в течение ближайшей недели минимум, и сознание этого само по себе было мощным допингом, стимулом к жизни и чувствованию радостей жизни. А немедленное разрешение ситуации грозило отнять у Шушеля то, чего он так долго ждал — надежды на большое, да к тому же взаимное чувство. Куда лучше в самых неприятных обстоятельствах вспомнить про письмо, и улыбнуться, и вдохнуть полной грудью, чем встретиться и выяснить, что ничего такого конкретного, собственно, не имелось в виду. Выбрав преприятнейшее ожидание и надежду, Шушель специально, как бы для проверки действия лекарственного средства, вспомнил про Люсю, Рэкса, Арту, про Люсину маму и Люсиного ребёнка, а потом вспомнил про письмо спаниельки. Средство подействовало: Шушель улыбнулся, сделал глубокий радостный вдох и решительно зашагал к дому.
10
Ключа под ковриком Шушель не обнаружил. Да и сам коврик лежал на своем законном месте — перед дверью соседей. Шушель поскреб затылок и внятно выругался, но зря: во второй половине сегодняшнего дня ему явно везло. Услышав за дверью голос Шушеля, на площадку вывалился возбужденный, сияющий и радостный Бах.
— Нет, ну каковы красавцы! Не, ребята, чтоб я так жил, честное слово! Вот уж повеселили, вот уж порадовался! — с этими восклицаниями Бах втащил Шушеля на кухню и усадил перед столом, на котором, как говорится, яблоку некуда было упасть; да и на что сгодилось бы яблоко, когда стол был украшен парой-тройкой дюжин светлого пива, и еще с десяток уже опустошённых ёмкостей торчали под столом. Перемещению бутылей со стола под стол способствовали Рэкс с Артой.
Арта сдёрнула Шушеля с табуретки и утащила в комнату; там, приперев Шушеля к стене и сощурив глаза, спросила:
— Ну, и кто с ней спал?
Шушель почувствовал, что вопрос, прикрытый ехидцей, на самом деле очень важный, серьёзный, а главное — вопрос с каким-то подвохом. Он сначала хотел переспросить: кто? с кем? когда?, но чувствовал, что такое промедление чревато, хоть и не понимал пока, чем именно; и тогда Шушель вновь было испытал какой-то нехороший своей неопределённостью запойный страх, однако тут же вспомнил про письмо, улыбнулся, вдохнул, и ответ на этот вопрос стал для него очевиден.
— Конечно, я, — с достоинством ответил Шушель, изобразил недоумение несколько удивлённого подобным вопросом кобеля (типа: а ты сомневалась?) и снова улыбнулся, но уже важно и с другим значением. Ответив, он, смог, наконец, подробно сформулировать, почему ответить следовало именно так. Во-первых, надо было снять все подозрения с Рэкса, во-вторых, до него дошло, что они с Рэксом были в таком состоянии, что вряд ли им обоим было прошлой ночью дело до Люси, а в-третьих, Шушель понял, что объяснять и доказывать Арте что-либо про «во-вторых» совсем не обязательно.
— Рэкс, понимаешь, как я его принёс, так диван и занял. А эта, наверное, потом туда перебралась — я-то в прихожей уснул, а там, знаешь, вдвоём, да ещё если кто-то из этих двух трезвый, спать-то особо негде.
— Ну-ну. Красавцы. — сказала Арта, скорее удовлетворённая ответом, чем наоборот.
Шушель с Артой вошли на кухню. Шушель улыбался и вообще чувствовал себя прекрасно, почему-то уверенный в самом оптимистичном объяснении вчерашнего Рэксова поведения.
— Ты давай-ка того, не скалься, — с претензией на строгость произнес Рэкс. — Оно всё, конечно, понятно, но осадок-то, как говорится, остался.
Осадок у Рэкса образовался по причине вчерашнего уединения Арты с Люсей: Арта, движимая самыми лучшими побуждениями, сообщила Люсе ни много, ни мало о том, что Шушель — ее любовник с трёхлетним стажем и что не пошла бы Люся по такому случаю подальше от всех (а главное, по замыслу Арты, от Шушеля), дабы не нарушать гармонию. Люся, собственно, и пошла. Но пошла, вопреки совету, к Шушелю, а по пути встретила Рэкса, который шёл домой мириться с женой, и решила по-своему исправить эту ситуацию. То есть поставить в известность об адюльтере мужа, чтоб забрать себе любовника.
Тут была и гора с плеч, и камень с сердца, и легко на сердце от песни весёлой, и всё прочее, что бывает, когда казавшаяся неразрешимой проблема оборачивается забавным недоразумением. Причём, чувство это одновременно посетило всех — Рэкса, который перестал подозревать Арту и Шушеля, Арту, которой при всей ее внешней холодности и отстранённости приятно было убедиться в разборчивости Рэкса, поколебать которую не смогли даже обида и алкоголь; Шушеля, которому после пережитого страха потерять друзей Люся и какие-то якобы связанные с ней обязательства и тревоги на тему этих обязательств казались надуманными. А Баха вышеозначенное чувство посетило от большой любви к весёлым и дурацким происшествиям с удачной развязкой, от весеннего полночувствия и просто за компанию. Рэкс начал уж было рассказывать, в чем состояла его грандиозная идея, а состояла она в компрометации Люси примерно таким способом, какой и случился накануне, и стал выдавать случившееся стечение обстоятельств за тонко составленный и гениально реализованный расчёт, когда раздались два гулких, сливающихся удара. Рэкс метнулся в прихожую открыть, а затем появился, загородив дверной проем, и, с деланным неудовольствием, сказал Шушелю:
— К тебе. Житья нет от твоих баб.
Не успел Шушель испугаться, как из-за спины Рэкса скромно и немного застенчиво, но в тоже время уверенно (в том, что иначе и быть не должно), выскользнула красивая и рыжая, неожиданная и долгожданная, смешливая и несколько смущённая, демонстрирующая явное внимание (а ещё слегка намекающая на глубоко скрытое обожание и нежность), спаниелька.
Пока Шушель с Джулией застывали в объятии, грозившем растянуться на вечность, Бах начал вдохновенно врать про то, как он всё предусмотрел, и всё знал ещё там, на бульваре, где встретил Джулию, и говорил, что именно этот сюрприз он обещал Шушелю с утра, и что всё случилось так вовсе не потому, что Джулия выслеживала Шушеля эти два дня; а тем временем Арта с Рэксом переглядывались через стол и с высоты десяти совместно прожитых лет посмеивались над молодёжью (как они это называли); и Шушель твёрдо решил: бросить пить, купить телевизор, завести семью, домашнее животное и вернуться из грузчиков к какой-либо чуть более творческой профессии, и…
…и пора уже, на самом деле, завязывать, а то эдак мы никогда не кончим этой истории. Хотя вот некоторые герои предлагали от щедрот и для закругления сюжета выдать Люсю, скажем, за Баха или, к примеру, за брошенного Джулией мужа, но зачем же плод больного воображения впадающей в депрессию в самой завязке истории собаки тащить в задуманный ещё перед завязкой сказочный happy end?
1999—2001.


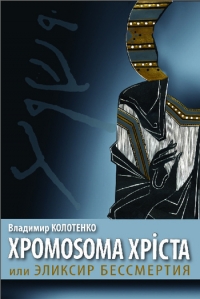




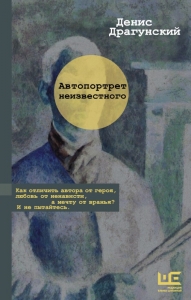

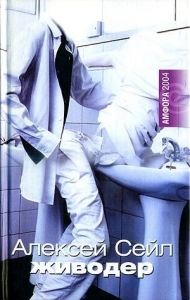
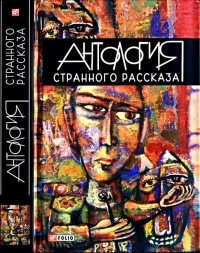


Комментарии к книге «Шушель», Сергей Новиков
Всего 0 комментариев