Алексей Ливеровский Блокадные рассказы
Ultima ratio[1]
Я подложил в печурку две плиточки паркета, вернулся к столу, повертел в руках мятый бумажный треугольник и бережно развернул.
Письма в город иногда приходили. Чаще всего такие, что их лучше поскорее забыть, многие вызывали улыбку — в них были советы. Отвечать было трудно, не хотелось, не было уверенности, что письмо дойдет, и это отчасти оправдывало.
Мятый треугольничек был от друга и требовал действия. Ровные, разборчивые карандашные строки, иногда вспыхивающие чернильной синевой, — видимо, там шел дождь или снег:
«…понимаю, что ленинградцев ни о чем просить нельзя, особенно, если это связано с каким-нибудь усилием, и все же прошу тебя, узнай, где Анна…»
Неожиданно ясно, до мельчайших подробностей, представилось забытое лицо друга. Прежде всего зубы, — мы все смеялись, что они как на рекламе зубного порошка, — глаза внимательные, какого цвета — не знаю: не умею запоминать цвет глаз. Обыкновенные у него глаза, приветливые. Темные брови, одна рассечена светлым шрамом, — мальчишками в лапту играли, я зацепил битой. Анна красивая женщина, — всегда веселая. Жили они хорошо, дружно. Вот только детей не было, все откладывали.
Странно сложились наши отношения. Дружили с раннего детства, много лет работали вместе, а семьями были едва знакомы, не общались. Может быть, потому что они жили за городом? Когда я перешел на другую работу, с ним встречались редко. Был у нас обычай — раз в год назначали свидание в хорошем ресторане. Без жен. Обедали, выпивали не так, чтобы уж очень. По-мужски беспощадно к себе, откровенно рассказывали, что было и есть. Никогда не обращались друг к другу с просьбами — так было принято. Считали, что если по-настоящему надо будет, тогда…
Далеко идти, очень далеко. Еще раз посмотрел на настойчивое, дважды подчеркнутое слово «прошу», сунул письмо в нагрудный карман и подошел к шкафчику. Там в холщовом мешочке хранился мой неприкосновенный запас: бережно завернутые в несколько слоев пергамента две плитки шоколада и залитая сургучом бутылка. С осени хранился, когда я думал при серьезной угрозе уйти в леса, а потом уже в расчете на черный день.
Холодные пальцы с трудом справились с сургучом и пробкой. Налить в аптекарский пузырек густую темную жидкость и отломить четыре квадратика шоколада было значительно легче. Из ящика стола взял хлеб: утренний ломтик, два обеденных и… нет, вечерний пусть лучше останется дома, к возвращению. Теперь все это — в обрывок газеты и в карман, поближе к телу, чтобы не подморозить. Не забыть ночной пропуск.
Далеко до Озерков. Надо дойти и обязательно вернуться в тот же день, нельзя отрываться от места, где теплее, чем на улице, где есть вода, разделенный на неравные доли хлеб и койка. Давно определились пределы и ритм жизни: не двигаться нельзя, слишком много двигаться нельзя, съедать весь полученный хлеб сразу нельзя, постоянно думать о еде нельзя, спать не раздеваясь нельзя, много спать нельзя. Нужно вставать вовремя, нужно мыться и бриться, нужно чистить зубы, нужно работать, выходить хоть ненадолго на улицу, нужно не бояться бомбежек и обстрелов или хотя бы скрывать, что страшно. Только тот, кто умеет сжаться и не трогать хрупкие рамки этих многочисленных «нельзя» и «нужно», продолжает жить.
Сколько шагов в Институтском? Втором Муринском? В проспекте Энгельса? Во всей Выборгской стороне? Это важно, и если их считать, то не так тяжело идти. Только неточно получается; соскользнет нога — шаг короткий, а в счет идет.
Засыпаны, выбелены улицы снегом. На тротуарах сугробы, протоптано только посередине. Как в опустевшем театральном зале ни живой души, ни одного прохожего. Блеснул впереди огонек: неторопливо покачивая над суметами узкие щелочки фар, прошел одинокий грузовик. Прошел, не тронул тишину. Остался от него печальный аромат пихтового масла, — будто в доме, где раскиданы свежие еловые лапки. Это ново и странно на улице, где давно пропали привычные городские запахи: заводской копоти, горелой резины, сытный дух столовок, дивный аромат теплого белого хлеба из открытых дверей булочных, незабываемый, прекрасный… Стоп! Об этом нельзя!
Две тысячи сто сорок восемь шагов… сто сорок девять… пятьдесят. Остановился отдохнуть на когда-то бойком перекрестке. Придется постоять, поблизости сесть негде. Две пустынные широкие улицы теряются в мутной темноте. Над головой дощечка трамвайной остановки. Осколок снаряда пробил аккуратную черточку перед номером трамвая. Получился диковинный маршрут — 120. Двадцатка ходила в Озерки, в выходной здесь было трудно сесть в вагон, все ехали на озера отдыхать, купаться. Как это было? Как это было? Трудно представить. А если закрыть глаза и вспоминать? Все равно не получается, — то люди видятся праздничные, легко одетые, нарядные, а трамвай почему-то подходит с битыми синими стеклами, то трамвай чистенький, свежеокрашенный, брызжущий звонками, а люди с палками в руках, обутые в самодельные валенки. Идти надо, идти!
Пять тысяч шагов — и время завтрака. Где бы присесть? Подоконники высоко. Войти в подъезд? Нет, самое холодное в мире — это каменная лестница в парадной разбомбленного дома. И почти наверняка лежат неубранные. Трамвай — это удобнее. Вот он, рядом, придавленный снежной шапкой, увитый мертвыми проводами.
Небольшого роста был вагоновожатый, скорее всего женщина, — пришлось опустить на несколько оборотов круглое сиденье. Смахнул рукавицей снег с контроллера, вынул и развернул газетный сверток. Удивительно вкусное, небывалое сочетание — шоколад с черным хлебом. Когда кончится война, обязательно…
Три глотка остро пахнущей на холоду жидкости — смеси водки, красного вина и сахара — приятно разогрели желудок и прогнали зябкую дрожь.
К заставе подошел в утренних сумерках. Не хотелось вынимать пропуск, — надо снимать рукавицы, а когда потом пальцы отогреются? Из будки вышел военный в туго подпоясанном коротком полушубке и валенках. Молча пожужжал мне в лицо фонариком, рукой махнул на выход. Слова не сказал, пропустил как дистрофика, доходягу. Ошибся, товарищ военный! Не так уж плохи наши дела.
Мороз, звенящий, железный мороз. Белой шерстью обросли деревья и кусты, и даже снег под ними неровный — топорщится ледяной чешуей. Зеленая зорька прочеркнула вершины берез.
Одноэтажные домики вдоль дороги. Копится, ползет с крыш пухлая навись, если дотянется до земли, станут дома снеговыми холмиками. Только к немногим ведут глубокие узкие тропы — чаще за оградками ровный нетронутый снег, темные без ледяных разводов окна, на трубах белые папахи.
Тысячи, тысячи шагов. Давно сбился со счета — тяжело разгребать снег ногами. Брел, отдыхал, брел, отдыхал. Наконец заметил нужный номер. Через полуоткрытую, засыпанную по пояс калитку, вошел в садик типичной пригородной дачи.
Всходило солнце. В саду на скамейке, чуть откинувшись на дощатую спинку, сидела женщина. Тепло одетая, в шубке, пуховом платке и валенках-чесанках. Она недвижно смотрела, как на веранде, одно за другим, вспыхивали на солнце разноцветные стекла, — синие, красные, зеленые. Я подошел, заметил нетающий снег на ресницах и в уголках накрашенных губ женщины. Знакомое и незнакомое лицо.
Над трубой домика вился дымок. В закопченной комнате молодая, коротко стриженная женщина сушила на времянке ломтики хлеба. Равнодушно оглядела меня, подвинула стул к печке:
— Садитесь.
Я снял рукавицы, развязал наушники, развернул газетный сверток, положил на горячее железо два своих ломтика хлеба, спросил:
— Это она там? Анна Сергеевна?
— Она.
— Давно?
— Недели две. На пункт везти — сил нет. Дома оставить нельзя. Вынесли в сад, хотели на снег положить — нехорошо, все равно, что выкинуть. Посадили. Обещают взять, да что-то все нет.
Женщина, обжигаясь, скинула подсохшие ломтики, и свои, и мои, на чистую тарелку, сняла с времянки чайник и вынула из буфета два стакана и блюдца. Я положил к каждому стакану по шоколадному квадратику.
— Вы кто ей? Муж? Брат?
— Никто.
— Строгая была, хорошая. Служба у нее кончилась, да и ходить далеко. Все равно, утром встанет, моется, моется, причешется, попудрится, еще обязательно губы подкрасит. Мы подшучивали: «Что это вы, Анна Сергеевна, как на работу? Не надоело с собой возиться? Немцы придут, всех переколотят, мытых и немытых».
Она глянет так серьезно-серьезно и отчитает: «Катя! Вы сдаетесь. Люди должны оставаться людьми. Немцы думают, они боги, пришли в пустыню к азиатам и напугали нас до смерти. Я их не боюсь. Что они могут сделать? Убить? Так пусть убивают мытую и причесанную…»
— Ложитесь вон туда, на диван. Отдохните перед дорогой.
— Спасибо.
…Мороз, звенящий, железный мороз. Плохо идут ноги, не добраться домой засветло. На закате окрасились вершины берез в алый цвет, как кровь, как губы усопшей.
Далеко до дому, жалко, что тогда бросил считать. Все равно дойду. Я дойду, дойду…
Просто жизнь
Нас перевезли на пароход через сияющую солнцем Ладогу. Проскочили. Ни ветра, ни стрельбы, ни бомбежки — тишина. Удивительная, сладостная тишина. Стук радиометронома, в Ленинграде чаще всего похожий на трепет птичьего сердца, здесь звучал спокойно, патриархально, как тиканье бабушкиных ходиков.
Нас протрясли на грузовиках от пристани до железной дороги, выгрузили и накормили. Накормили досыта. Уверен, что тысячи людей и посейчас помнят этот невероятный заладожский обед. На первое были мясные щи…
Наша партия расположилась по краям цветущего луга, в тени молодых берез. Люди спали, утомленные обильной пищей, убаюканные тишиной. Только один старичок — голова его была покрыта колпаком из шерстяного носка — сидел, опираясь руками на бамбуковую лыжную палку, и плакал тихонько, не переставая.
Я сидел на теплом рельсе, слушал, как поют кузнечики, как где-то в стороне ласково постреливают зенитки, и чертил на песке фигурки по старому детскому способу: точка, точка, запятая, минус — рожица кривая…
Зашуршали, приближаясь, шаги, резкая тень легла на мои чертежи. По плечу застучал карандаш, и кто-то спросил устало и басовито:
— Браток, ты сыт?
— Сыт.
— Раз не спишь, как все, значит и здоров?
— Здоров.
— Тогда будешь начальником эшелона.
— Обязанности?
— Предъявлять списки эвакуируемых на пунктах питания, следить в пути, чтобы не было отставших, немедленно снимать с поезда больных, особенно поносных. Ясно? Как фамилия?
Пожилой человек в военной форме поставил ногу на рельс, положил на колено полевую сумку, достал какой-то бланк, вписал в него несколько слов и протянул мне.
Товарный состав, хвостом вперед, медленной красной гусеницей вполз в нашу березовую полянку и, дико взвизгнув тормозами, остановился. Началась посадка.
Не разгоняясь шибко, но и не задерживаясь, эшелон уходил от Ладоги. На редких остановках натужно рычали катучие двери, из вагонов выходили, соскакивали или сползали на насыпь обитатели и, боясь остаться, тут же на откосе, женщины и мужчины вперемешку, спешили исполнить необходимое. Долгий свисток, и поезд шел дальше, оплетая густым недолговечным паром придорожные перелески.
В первый день я снял с поезда старика с бамбуковой палкой и двух пухлогубых подростков с личиками, поросшими мягким обезьяньим волосом. Вечером мы оставили на маленькой станции молодого бородача с кухонным ножом, болтавшимся на поясе в самодельных ножнах из зеленого биллиардного сукна, и сгорбленную сухонькую «старушку», которой, по документам, оказалось шестнадцать лет. Им было плохо, и я не смел нарушать инструкцию. В памяти не осталось имен этих людей, и никого из них я больше никогда не встречал.
Горячее солнце разогнало утренний туман.
— Начальник! Где тут начальник эшелона? Восьмой вагон просит взять от них больную. Профессорша какая-то. Наружу не выходит, а…
Встав одной ногой на наклонную доску, я с трудом откатил тяжелую дверь и вошел в вагон.
— Вот она, — показал провожатый.
Посредине вагона, на двух высоких ящиках, лежала женщина. Легкий цветной плед прикрывал ее ноги. Она была необычайно красива, эта женщина. Нездоровый румянец оживлял строгое неподвижное лицо, волна серебряно-седых волос застыла над обшарпанным полом. Большие мрачные глаза с чуть приподнятыми уголками надменно и равнодушно смотрели на закопченный потолок. Яркий рот, казалось, улыбался. Она была похожа на царевну, ту что съела отравленное яблоко.
Я подошел. Женщина осталась спокойной. Не поворачивая головы, скосила глаза, посмотрела внимательно и спросила:
— Parlez vous francais?
— Нет.
— Do you speak English?
— Yes, I do.
— Кто вы? — продолжала она по-английски.
— Никто. Просто человек.
— Это много. Прошу вас… Я так трудно уходила от смерти. Помогите вернуться в жизнь. Меня ждут. Я действительно немного больна, но мне лучше. Спасибо.
Перейдя на русский, она продолжала, повысив голос:
— Я здорова и не выхожу только потому, что из осторожности ничего не ела на пункте. Я совершенно здорова, и мне, благодарю вас, ничего не нужно.
Ропот прокатился по углам вагона:
— Возьмите ее, начальник. Она больна… Она говорит неправду. Неужели вы сами не чувствуете?
Только две девушки, очень похожие друг на друга, и в одинаковых небесно-голубых лыжных штанах, робко попросили:
— Оставьте ее, начальник. Не так уж ей плохо. Никого она не трогает, в Перми дочка ждет…
— Начальник! Сейчас же уберите эту женщину…
Я ушел в свой вагон. Там в чемодане лежала только что полученная буханка свежего хлеба и кусок нежного, зеленоватого на просвет лярда. Эта буханка, большая, непочатая и вся моя, придавала мне жизненную уверенность, а самой жизни совершенно новый аромат На следующей остановке я вытащил буханку, мягкую, остро пахнущую довоенной булочной, резанул ее во всю длину и вложил комок лярда. Подумав, сунул в карман пачку печенья, и пошел к восьмому вагону.
Поезд остановился надолго. Девушки в голубых штанах лежали и грелись на травяном откосе, открыв солнцу ладони раскинутых рук. В ярком свете полудня было видно, какие они худые, эти девушки, тонкорукие, бледные, со складками опавших водянистых мешочков под глазами.
— Девушки, — прошептал я просительно, но твердо, — подарок и просьба. Когда стемнеет, я принесу от паровоза ведро теплой воды. Помогите вымыться той женщине в вашем вагоне. Помогите ей, как сможете.
Девушки нахмурились на буханку, подчеркнуто жеманно вытащили из пачки по плиточке печенья и, тихонько смеясь, закивали.
…Эшелон приближался к Уралу. На скошенные поляны выбегали уже не елки, а темные островерхие пихты. Земля холмилась, показывая на склонах серые каменные лбы.
Наш поезд ожидал встречного. Я пошел проведать машиниста.
Солнечный жаркий день уходящего лета. Запахи, мирные, забытые запахи. Пахнет машинным маслом, паровозным дымом, свежим сеном, дегтем и конским навозом.
То высоко в голубизне, то над самой землей с писком проносятся стайки стрижей. Паровоз сонно попыхивает на безлюдной и мирной станции. Старинный одноэтажный вокзал. Большой медный колокол висит так низко, что его обшитый кожей язык может достать и ребенок.
У изгрызанной коновязи толстая лошадь жует овес из брезентовой торбы. В лошади много мяса, очень много. Из овса делают чудесные лепешки, а шелуха идет на кисель…
Пробежали голубоштанные девушки:
— Мы все сделали. Ей гораздо лучше.
Я подошел к пышащей теплом груди паровоза и попробовал встать сразу на два рельса. Когда-то, давным-давно, еще до войны, это удавалось. Удалось и сейчас. Смазчик выглянул из паровозного окошечка и улыбнулся: распяленный как циркуль, тощий человек, стоит на двух рельсах и смеется.
Жизнь! Просто жизнь, — это бесконечно много. Это значит, что обязательно придет утро, и с ним — пища, тепло, свет и непременно радость. Какая-нибудь радость будет всегда, каждый день. И сегодня будет радость. Не сказочная царевна проснется, а в злую годину проводов и разлук мать, плача и смеясь, встретит и обнимет свою дочь.
1
Последний довод (лат.).
(обратно)


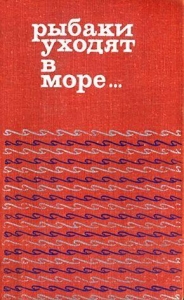

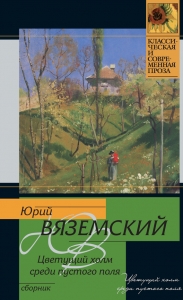


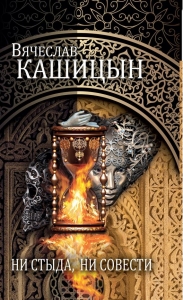


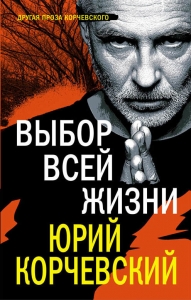
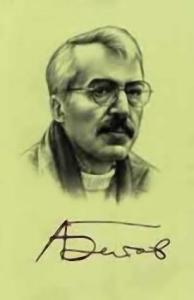

Комментарии к книге «Блокадные рассказы», Алексей Алексеевич Ливеровский
Всего 0 комментариев