Хулио Кортасар Игра в классики
РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЧТЕНИЯ
В каком-то смысле эта книга представляет собой несколько книг, две уж во всяком случае. Читателю предлагается выбрать любую из двух следующих возможностей.
Первая книга читается так, как она написана, и заканчивается 56-й главой, в конце которой поставлены три звездочки, заменяющие слово «конец». Следовательно, читатель без зазрения совести дальше может и не читать.
Вторая книга начинается с 73-й главы, и ее следует читать в том порядке, который указан в конце каждой главы. Чтобы ничего не перепутать или не забыть, достаточно свериться со следующей схемой:
73 — 1–2 — 116 — 3 — 84 — 4 — 71 — 5 — 81–74 — 6–7 — 8 — 93 — 68 — 9 — 104 — 10 — 65 — 11 — 136 — 12 — 106 — 13 — 115 — 14 — 114 — 117 — 15 — 120 — 16 — 137 — 17 — 97 — 18 — 153 — 19 — 90 — 20 — 126 — 21 — 79 — 22 — 62 — 23 — 124 — 128 — 24 — 134 — 25 — 141 — 60 — 26 — 109 — 27 — 28 — 130 — 151 — 152 — 143 — 100 — 76 — 101 — 144 — 92 — 103 — 108 — 64 — 155 — 123 — 145 — 122 — 112 — 154 — 85 — 150 — 95 — 146 — 29 — 107 — 113 — 30 — 57 — 70 — 147 — 31 — 32 — 132 — 61 — 33 — 67 — 83 — 142 — 34 — 87 — 105 — 96 — 94 — 91 — 82 — 99 — 35 — 121 — 36 — 37 — 98 — 38 — 39 — 86 — 78 — 40 — 59 — 41 — 148 — 42 — 75 — 43 — 125 — 44 — 102 — 45 — 80 — 46 — 47 — 110 — 48 — 111 — 49 — 118 — 50 — 119 — 51 — 69 — 52 — 89 — 53 — 66 — 149 — 54 — 129 — 139 — 133 — 140 — 138 — 127 — 56 — 135 — 63 — 88 — 72 — 77 — 131 — 58 — 131 —
С целью облегчить поиск любой главы нумерация глав помещена сверху каждой страницы.
* * *
Побуждаемый надеждой, что настоящее собрание максим, советов и понятий может быть полезным, особенно для молодежи, а также что оно будет способствовать улучшению нравов, я и составил таковое, представляющее собой основы всеобщей морали, которая всегда соразмерна с духовным и земным счастием любого человека, каковы бы ни были его возраст, положение и состояние, а также с процветанием и справедливым порядком не только в гражданской и христианской республике, в которой мы живем, но и в любой другой республике или при ином государственном устройстве, которое самые глубокомысленные философы земного шара захотели бы выдумать.
Духовная суть Библии и Всеобщей Морали, вынесенная из Ветхого и Нового Завета. Записано на тосканском аббатом Мартини[1] с цитатами внизу страниц. Переведено на испанский священником Конгрегации Святого Кайетано[2] при Королевском Дворе. Разрешено к печати. Мадрид: от Аснара, 1797* * *
Каждый раз, как похолодает, скажем, посреди осени, в голову лезут бредовые идеи, помесь эксцентрического с экзотическим, стать бы, например, ласточкой, чтобы взять да и улететь в жаркие страны, или превратиться в муравья, чтоб зарыться в муравейник и сидеть там, питаясь летними запасами, или в змею, которых показывают в зООпарке, где их держат в стеклянных ящиках со специальным отоплением, чтобы они не закоченели от холода, с бедняками, например, такое случается, — нечем ему обогреться, потому что нет ни керосина, ни угля, ни дров, ни мазута, и денег тоже нет, а ведь когда у тебя нормальный прикид, ты можешь зайти в любой кабачок и заказать грапы,[3] которая, что там говорить, согревает, однако злоупотреблять этим не стоит, потому как где злоупотребление — там порок, а где порок — там уродство, как телесное, так и по части всех заповедей, а уж раз покатился вниз по наклонной плоскости и утратил добропорядочность во всех смыслах, никто и ничто не спасет тебя, и дело кончится тем, что окажешься на самом грязном дне человеческом, и тебе уже никогда не протянут руки, чтобы вытащить тебя из вязкого болота, в котором ты барахтаешься, это все равно как кондоР — пока он молод, то может летать и садиться на вершину самой высокой горы, а как состарится, падает вниз, будто пикирующий бомбардировщик, у которого вышел из строя мотор его души. Дай-то бог, чтоб мои писания кому-нибудь пригодились, чтоб он посмотрел как следует на свое поведение, — может, тогда ему не придется раскаиваться, когда уж поздно будет, потому что все уже пошло к чертям по его же собственной вине!
Сесар Бруто.[4] Кем бы мне хотелось быть, если бы я не был тем, кто я есть (глава: Пес Святого Бернардо[5])С ТОЙ СТОРОНЫ
Rien ne vous tue un homme comme d’être obligé de représenter un pays.[6]
Жак Ваше.[7] Из письма к Андре Бретону[8]1
Встретится ли мне Мага? Сколько раз бывало, как только я, миновав улицу Сены и выйдя под аркой на набережную Конти, едва начинал различать очертания предметов в пепельно-оливковом тумане, плывущем над водой, худенькая фигурка Маги вырисовывалась на мосту Искусств — она то ходила из конца в конец, то неподвижно стояла у перил, склонившись над водой. Само собой, я переходил улицу, поднимался по ступенькам моста, шел по его узкому пролету и приближался к Маге, которая улыбалась без удивления, убежденная, как и я, что случайная встреча — самая неслучайная вещь на свете и что люди, которые назначают точное время и место свидания — это те самые, которые пишут только на разлинованной бумаге и выдавливают зубную пасту из тюбика, обязательно начиная снизу.
Но сейчас ее не будет на мосту. Ее тонкое лицо с почти прозрачной кожей, возможно, покажется под сводами старых порталов гетто Марэ, где она остановится поболтать с продавщицей жареного картофеля, а может, чтобы съесть горячую сосиску на Севастопольском бульваре. Как бы то ни было, я поднялся на мост, но Маги там не было. Больше Мага не попадалась на моем пути, и, хотя мы оба знали, кто из нас где живет, знали каждый уголок в наших парижских комнатушках, сдаваемых псевдостудентам, и каждую почтовую открытку, вставленную в дешевую рамку или прикрепленную к безвкусным обоям, — окошечко в мир, которое открывали нам Брак, Гирландайо или Макс Эрнст,[9] — несмотря на это, мы не искали друг друга. Вот бы встретиться на мосту, в уличном кафе, в кино или в каком-нибудь дворике Латинского квартала и примоститься там рядом с бродячим котом. Мы ведь бродили по городу и не искали друг друга, но знали, что бродим по городу для того, чтоб найти. Ах, Мага, стоило мне увидеть женщину, похожую на тебя, — меня будто оглушала тишина, она обрушивалась на меня, пронзительная и прозрачная, и это было так грустно, будто закрываешь зонтик, мокрый от дождя. Именно зонтик, Мага, может, помнишь тот старый зонтик, который мы принесли в жертву оврагу в парке Монсури холодным мартовским вечером. Мы его выбросили, но сначала мы нашли его на площади Согласия, уже несколько потрепанным, после чего ты долго носила его главным образом для того, чтобы тыкать им под ребра пассажирам в метро и в автобусе, ты была всегда такая неловкая и рассеянная, потому что постоянно думала то о разноцветных птицах, то о рисунке, который прочертили на потолке машины две мухи, а в тот вечер разразился ливень, и, когда мы вошли в парк, ты гордо решила раскрыть зонтик, как вдруг у тебя в руках случилась катастрофа: сверкающие молнии погнутых спиц смешались с обрывками ткани, похожими на черные клочковатые облака, и мы расхохотались, как безумные, а дождь все лил и лил, и мы подумали, что зонтику, найденному на площади, будет достойнее закончить свои дни в парке, а не пополнить собой презренное содержимое мусорного ведра или быть заброшенным подальше от дорожки; так что я его сложил, как мог, и мы отнесли его к насыпи, туда, где был небольшой железнодорожный мост, и я, размахнувшись изо всех сил, бросил его на дно оврага, заросшего мокрым кустарником, а ты издала вопль, который показался мне похожим на проклятие валькирии.[10] И он ушел на дно оврага, будто корабль, который поглотила зеленая вода, бурное и зеленое «à la mer qui est plus félonesse en été qu’en hiver»,[11] коварная волна, a мы, Мага, еще долго перечисляли разные сравнения, отдавая должное Жуэнвилю и этому парку, и стояли обнявшись, похожие на два мокрых дерева или на актеров какого-нибудь скверного венгерского фильма. И он остался лежать там в грязи, маленький и черный, словно раздавленное насекомое. И был неподвижен, и все его пружины бездействовали. Все было кончено. Он завершил свой путь. А нам, Мага, все было мало.
Зачем я пришел на мост Искусств? Мне кажется, в этот декабрьский четверг я собирался перейти на правый берег и выпить вина в маленьком кафе на улице Ломбар, где мадам Леони погадает мне по руке и расскажет о том, в какие путешествия я отправлюсь и какие сюрпризы ждут меня впереди. Я никогда не приводил тебя к мадам Леони, чтобы она погадала тебе по руке, возможно, потому, что опасался, как бы она не прочитала по твоей руке какую-нибудь правду обо мне, поскольку ты всегда была ужасным отражением меня самого, каким-то кошмарным механизмом повторений, и то, что мы называли «любить друг друга», может, было просто то, что я стоял перед тобой с желтым цветком в руке и ты держала два подсвечника с зелеными свечами, а время осыпало нас дождем отказов и прощаний и билетиков на метро. Так что я никогда не приводил тебя к мадам Леони, Мага; и я знаю, почему ты мне это сказала, тебе, мол, не нравится, что я вижу, как ты ходишь в маленький книжный магазин на улице Верней, где согбенный старик все заполняет и заполняет книжные формуляры и знает все, что только можно знать обо всем на свете. Ты ходила туда поиграть с котом, и старик впускал тебя, не задавая вопросов, довольный тем, что время от времени ты помогала ему достать какую-нибудь книгу с верхней полки. И ты грелась у его печки с большой черной трубой, и тебе не нравилось, что я знаю, как ты греешься у этой печки. Но все это следовало сказать в нужный момент, а ведь так трудно понять, какой момент для чего нужен, и даже сейчас, когда я, опершись на перила моста и глядя сверху, как проплывает прекрасная, словно большой глянцевый таракан, баржа цвета мутного вина, на носовой части которой женщина в белом фартуке развешивает белье на стальной проволоке, даже сейчас, глядя на зеленые окошки с занавесочками в стиле «Гензель и Гретель»,[12] даже сейчас, Мага, я спрашиваю себя, был ли какой-нибудь смысл в этом родео, — ведь, прежде чем оказаться на улице Ломбар, я еще раз прошел по мосту Сен-Мишель и по мосту Менял. Вот если бы ты была там в тот вечер, как бывало раньше столько раз, я бы знал, что это родео имело смысл, а сейчас я потерпел поражение, потому и называю все это «родео». Я поднял воротник куртки и спросил себя, не пойти ли мне вдоль стены до торговых рядов, которые тянутся до Шатле, потом миновать фиолетовую тень башни Сен-Жак и выйти на улицу, где я живу, думая о том, что я так тебя и не встретил, и о мадам Леони.
Я знаю только, что однажды приехал в Париж, что какое-то время жил в долг, делая то, что делают другие, и видя перед собой то, что видят все прочие. Знаю, что ты выходила из кафе на улице Шерш-Миди и что мы разговорились. В тот вечер все шло не так, как полагается, потому что мои аргентинские привычки не позволяли мне без конца переходить с одного тротуара на другой, чтобы рассмотреть какую-нибудь очередную ерунду в едва освещенных витринах магазинчиков, на улицах, которых я уже не помню. Так что я сердито плелся за тобой, считая тебя праздной и плохо воспитанной особой, пока ты не утомилась от собственной неутомимости и мы не зашли в кафе на Буль-Миш,[13] где ты разом, между двумя пирожками, рассказала мне много чего про свою жизнь.
Где же мне было догадаться тогда, что все это, казавшееся выдумками, было на самом деле правдой: одна из картин Фигари[14] — вечерние фиалки, бледные лица, голод и побои по углам. Я поверил тебе потом, на это появились причины, когда мадам Леони, глядя на мою ладонь, которой я, засыпая, ласкал твою грудь, почти что повторила твои слова: «Она сейчас где-то страдает. Она всегда страдала. Нрав у нее веселый, она обожает желтый цвет, ее любимая птица дрозд, ее время — ночь, ее мост — это мост Искусств». (Баржа цвета мутного вина, Мага, почему мы не уплыли на ней, когда для этого было самое время?)
И надо же, не успели мы познакомиться, жизнь сразу же стала кропотливо работать над тем, чтобы развести нас в разные стороны. Поскольку ты не умела притворяться, я сразу же понял: если я хочу видеть тебя такой, какой хочу, нужно прежде всего закрыть глаза, и тогда сначала видишь что-то вроде желтеньких звездочек (плавающих в чем-то похожем на бархатистое желе), потом красное пятно — скачок к веселью вперемежку с молитвой, и, наконец, постепенно попадаешь в мир Маги, где на каждом шагу несуразность и путаница, будто идешь сквозь паутину папоротников, сплетенную пауком Клее,[15] и вдруг попадаешь в круг Миро,[16] в окружении пепельного отлива зеркал Виейры да Силвы,[17] — мир, где ты двигалась, словно шахматный конь, который стал ходить как ладья, которая пошла как слон. В те дни мы ходили в кино на немые фильмы, — я-то ладно, я человек образованный, не так ли, а вот ты, бедняжка, ровным счетом ничего не понимала в этих старомодных конвульсиях, появившихся на свет еще до твоего рождения, в этой веренице кадров, где суетились те, кого давно уж нет; но тут вдруг появлялся Гарольд Ллойд,[18] и ты стряхивала с себя дремоту и в результате вообще утверждала, что все было совершенно замечательно, будь то Пабст или Фриц Ланг.[19] Меня немного раздражало твое пристрастие к превосходной степени, твои стоптанные до дыр туфли, твое неприятие того, что было вполне приемлемо. Мы съедали по гамбургеру в подземном переходе у станции метро «Одеон»[20] и отправлялись на велосипедах на бульвар Монпарнас, в любую гостиницу, в любой номер, где была постель. Но иногда мы доезжали до Порт-д’Орлеан и шли по пустырям, которые тянутся за бульваром Журдан, с каждым разом все лучше узнавая эти места, где иногда в полночь собирались члены Клуба Змеи, чтобы поговорить с ясновидящим слепцом, — будоражащий парадокс. Мы оставляли велосипеды на улице и гуляли по пустырю, то и дело останавливаясь, чтобы посмотреть на небо, поскольку это одно из тех мест в Париже, где стоит смотреть на небо, а не на землю. Мы сидели на мусорной куче и курили, и Мага гладила мои волосы или что-то напевала, какие-нибудь песенки, такие глупые, что и не передать, прерывая их вздохами и воспоминаниями. А я в это время думал о всякой ерунде, много лет спустя этот навык пригодился мне, когда я лежал в больнице, и с каждым разом это занятие казалось мне все более необходимым и плодотворным. С огромным усилием, собрав в памяти множество сопутствующих моментов, стараясь припомнить запахи и лица, мне удавалось выудить из небытия пару коричневых ботинок, которые я носил в Олаваррии[21] в 1940 году. У них были каблуки из каучука и очень тонкие подметки, так что в дождливую погоду вода проникала до самой глубины души. Я хватался за воспоминание об этих ботинках, и остальное являлось само: лицо доньи Мануэлы, например, или поэт Эрнесто Моррони. Но их я отбрасывал, поскольку игра состояла в том, чтобы отобрать самое незначительное, самое невзрачное, самое гиблое. Дрожа от страха, что мне не удастся вспомнить, разъедаемый червем сомнения, который всегда начинает точить, если не удается сделать что-то сразу, в нелепом желании запечатлеть время, мне в конце концов удавалось увидеть рядом с парой ботинок банку «Солнечного чая», которым моя мать поила меня в Буэнос-Айресе. И чайную ложечку, ложку-мышеловку, где маленькие черные чаинки заживо сгорали в чашке с кипятком, разбрасывая крошечные пузырьки, которые тут же едва слышно лопались. Убежденный в том, что память хранит все, а не только Альбертину[22] и ей подобных, да еще великие годовщины, важные для сердца и почек, я пытался восстановить содержимое моего письменного стола во Флоресте,[23] лицо незапомнившейся девушки по имени Хекрептен, сколько перьевых ручек было у меня в пенале, когда я учился в пятом классе, и дело кончалось тем, что меня трясло от отчаяния, как в лихорадке (потому что мне никак не удавалось вспомнить про эти ручки, я знал, что они лежали в пенале, в специальном отделении, но, сколько их было, вспомнить не мог, и еще я не мог вспомнить, когда их бывало две, а когда шесть), до тех пор, пока Мага не начинала целовать меня, обдавая сигаретным дымом и теплым дыханием, и тогда я приходил в себя, и мы смеялись, и снова гуляли среди мусорных куч, и искали наших соклубников. Уже тогда я понял, что искать — это мое предназначение, это знак тех, кто по вечерам выходит из дома без определенной цели, и оправдание для тех, кому хотелось бы уничтожить компасы. Мы с Магой до изнурения говорили о патафизике,[24] поскольку с ней постоянно происходили ни на что не похожие вещи (наша встреча как раз такого порядка, и еще разное другое, загадочное, как свечение фосфора), она вечно умудрялась попадать в ситуации, в какие обычные люди не попадают, не потому, что мы считали других ниже себя, — мы не мнили себя ни исчезнувшими ныне Мальдорорами,[25] ни какими-нибудь выдающимися Мельмотами-Скитальцами.[26] Я не думаю, что светлячок испытывает глубокое удовлетворение на основании того неопровержимого факта, что он является одним из самых удивительных участников в цирковом представлении природы, однако допустим, что он наделен сознанием, — значит, когда его брюшко начинает светиться, он должен чувствовать что-то вроде превосходства. Точно так же Маге нравилось попадать в невероятные ситуации, в которых она постоянно оказывалась по причине полного отрицания общепринятых законов жизни. Она была из тех, кто сжигает за собой мосты, едва перейдя на другой берег, или громко рыдает, вспоминая, что они собственными глазами видели в витрине лотерейный билет, который только что выиграл пять миллионов. Я, со своей стороны, уже давно привык, что со мной происходят вещи довольно необычные, и не находил ничего ужасного в том, что, войдя в темную комнату, чтобы взять альбом с пластинками, я тут же чувствовал, как на ладони у меня копошится гигантская сороконожка, которая мирно спала на корешке именно этого альбома. Или, например, я обнаруживал в пачке сигарет залежи серовато-зеленого пуха, или слышал свисток паровоза в тот самый момент и такого же тона, который неизбежно вводил меня в очередной пассаж какой-нибудь симфонии Людвига вана,[27] или, зайдя в туалет на улице Медичи, я видел мужчину, который сосредоточенно мочился, а потом, выходя из кабинки, повернулся ко мне и продемонстрировал, держа в руке, словно некий священный и бесценный предмет, свой член невероятного размера и цвета, а я в тот момент вдруг понял, что этот мужчина был точь-в-точь как другой (хотя он не был тем другим), который сутки назад, в зале Географического общества, делал доклад о тотемах и табу[28] и демонстрировал публике, бережно держа на ладони, палочки из слоновой кости, перья птицы с хвостом в форме лиры, ритуальные монеты, останки животных, принесенных в жертву, морских звезд, высушенных рыб, фотографии прекрасных наложниц, охотничьи трофеи, огромных забальзамированных жуков-скарабеев,[29] один вид которых заставлял замирать от сладостного испуга сердца присутствующих дам, в которых там не было недостатка.
Итак, мне нелегко говорить о Маге, которая в этот час наверняка бредет по Бельвилю или Пантэну,[30] внимательно глядя себе под ноги, пока не найдет какую-нибудь маленькую вещицу красного цвета. А если не найдет, будет ходить так всю ночь, будет с остекленевшим взором рыться в мусорных баках, убежденная в том, что случится нечто ужасное, если она не найдет залога, чтобы откупить прощение или отсрочку. И так оно и есть, я это тоже знаю, потому что тоже верю в эти знаки и мне тоже порой случалось заниматься поисками красного лоскутка. С детства помню, если что-то падало на пол, я должен был обязательно это поднять, что бы то ни было, потому что, если я этого не делал, случалось какое-нибудь несчастье, не обязательно со мной, но с кем-нибудь из тех, кто мне дорог и чье имя начиналось на ту же букву, что и название упавшего предмета. Хуже всего то, что нет силы, способной удержать меня, когда что-то у меня падает на пол, и ничего не получится, если это поднимет кто-нибудь другой, — несчастье все равно произойдет. Много раз меня из-за этого принимали за сумасшедшего, да я и на самом деле схожу с ума, когда это делаю: бросаюсь, например, поднимать карандаш или какую-нибудь бумажку, выпавшую из рук, или кусок сахара, как это было однажды вечером в прибежище Вакха, в ресторане на улице Скриба, в присутствии огромного количества разномастных менеджеров, проституток в чернобурках и благополучных супружеских пар. Мы были там с Рональдом и Этьеном, и у меня упал кусочек сахара, причем он откатился довольно далеко от нашего столика. Первое, на что я обратил внимание, — как далеко он оказался, ведь вообще-то кусочки сахара остаются там, где падают, по причине своей кубической формы. А этот катился, словно нафталиновый шарик, что еще более усилило мою мнительность, так что в конце концов я решил: не иначе, какая-то сила вырвала его у меня из рук. Рональд, который меня знает, проследил взглядом за кусочком сахара и рассмеялся. Я еще больше перепугался и к тому же разозлился. Подошел официант, который подумал, что я уронил какую-то ценную вещицу, ручку «паркер» или вставную челюсть, например, но он мог только помешать мне, так что я, не говоря ни слова, ринулся на пол и стал искать сахар между ботинками и туфлями сидевших за столиком людей, которые преисполнились любопытства, полагая (и не без оснований), что разыскивается нечто весьма важное. За столиком сидели рыжая толстуха, еще одна женщина, не такая толстая, но тоже по виду шлюха, и двое менеджеров или что-то вроде того. Я сразу же обратил внимание на то, что сахара нигде не видно, а ведь я сам видел, как он упрыгал прямо под ноги сидевших за столиком людей (которые беспокойно ерзали, словно потревоженные куры). Хуже того, на полу лежал ковер, и Хотя он был сильно потерт, сахар мог забиться в ворс, и тогда мне бы не удалось его найти. Официант ползал по ковру с другой стороны столика, так что нас было уже двое четвероногих в этом курятнике, причем владельцы ерзающих ботинок уже начали, как безумные, возмущенно кудахтать. Официант был убежден, что разыскивается «паркер» или слиток золота, и когда мы в обстановке полумрака и интимной доверительности столкнулись с ним под столом нос к носу, и он спросил меня, что именно мы ищем, и я ему ответил, у него сделалось такое лицо — хоть брызгай на него фиксатором, но мне было не до смеха, страх сжимал мне желудок, и в конце концов я, дойдя до отчаяния (официант в ярости выпрямился), стал хватать туфли женщин, чтобы посмотреть, не прилип ли сахар к подметке под каблуком, тут курицы раскудахтались еще больше, а петухи-менеджеры клевали мне хребет, я слышал, как хохотали Рональд и Этьен, пока я ползал от столика к столику, и наконец нашел-таки сахар, который лежал за ножкой столика в стиле Второй империи.[31] Все были вне себя от злости, включая меня; зажав в руке сахар, я чувствовал, как он тает и смешивается с потом ладони, осуществляя свою отвратительную липкую месть, — и такие вещи происходят со мной ежедневно.
(-2)
2
Поначалу я жил здесь, будто все время истекая кровью, будто меня постоянно хлестали бичом, — то от необходимости чувствовать в кармане пиджака этот дурацкий паспорт в синей обложке, то не давала покоя мысль — висит ли ключ от гостиничного номера на доске, на своем гвоздике. Страх, неосведомленность, ослепление — это называется так, а вот так не говорят, сейчас эта женщина улыбнется, вон за той улицей начинается Ботанический сад. Париж — это почтовая открытка с рисунком Клее за рамой мутного зеркала. Однажды вечером на улице Шерш-Миди я встретил Магу; она приходила ко мне в комнату на улице Томб-Иссуар, в руке у нее всегда был цветок или открытка с рисунком Клее или Миро, а когда у нее не было денег, она подбирала в парке лист платана. В те времена я ранним утром собирал на улицах пустые коробки и проволоку и сооружал из них разные штуки, флюгеры, которые крутились среди труб, никому не нужные механизмы, которые Мага помогала мне раскрашивать. Мы не были влюблены друг в друга, мы занимались любовью, относясь к этому критически и с какой-то виртуозной отстраненностью, после чего погружались в жуткое молчание, и пивная пена на стаканах становилась похожей на паклю, уменьшалась и таяла, а мы смотрели друг на друга и понимали, что это и есть время. Наконец Мага вставала и начинала бесцельно слоняться по комнате. Много раз я видел, как она с восхищением рассматривает себя в зеркале, приподнимает груди ладонями, как на арабских статуэтках, и ласкает свою кожу долгим взглядом. И всякий раз я не мог устоять против желания позвать ее, чтобы снова почувствовать, как она постепенно накрывает меня собой, как раскрывается мне навстречу после мгновения одиночества и влюбленности в непостижимость своего тела.
Тогда мы мало говорили о Рокамадуре, наслаждение эгоистично, мы отдавались друг другу со стонами узколобой чувственности, переплетая соленые от пота руки. Я принял беспорядочность Маги как естественное условие повседневной жизни, мы то вспоминали Рокамадура, то разогревали вермишель, запивая ее вином вперемежку с пивом и лимонадом, а на улицу выскакивали только затем, чтобы купить на углу у старой торговки пару дюжин устриц, а то еще мы бренчали на расстроенном пианино мадам Ноге пьесы Шуберта и прелюдии Баха, а иногда вытягивали даже «Порги и Бесс»,[32] под отбивные с солеными огурчиками. Беспорядочность нашей жизни или, скажем так, порядок нашей жизни, при котором биде, например, постепенно превратилось, причем самым естественным образом, в подставку для пластинок и писем, на которые нужно было ответить, казался мне необходимой составляющей, хотя мне не хотелось говорить об этом Маге. Было нетрудно понять, что не стоит оценивать действительность в привычных для Маги понятиях, похвала беспорядку вызовет ее раздражение точно так же, как порицание. Для нее беспорядка вообще не существовало, я понял это в тот момент, когда посмотрел, что творится в ее сумочке (это было в кафе на улице Реомюр, шел дождь, и мы уже начинали хотеть друг друга), я же принял его, и этот беспорядок мне даже нравился, после того как я в нем освоился; исходя из всех этих неудобств строились мои отношения со всем остальным миром, и сколько раз, лежа на постели, которая не перестилалась много дней, и слушая сетования Маги, которая увидела в метро ребенка, напомнившего ей Рокамадура, или глядя, как она причесывается, после того как целый вечер она провела перед портретом Элеоноры Аквитанской[33] и теперь умирала от желания быть на нее похожей, я испытывал что-то вроде умственной отрыжки, понимая, что основу моей нынешней жизни составляет жалкая нелепость, поскольку, исходя из понятий диалектического развития, я выбирал плохое поведение вместо нормального, некую разновидность неприличия вместо обычных приличий. Мага укладывала волосы, распускала прическу, причесывалась снова. Она думала о Рокамадуре, напевала что-то из Гуго Вольфа[34] (плохо), целовала меня, спрашивала, нравится ли мне ее прическа, принималась что-то рисовать на обрывке желтоватой бумаги, и все это было для нее органично, я же, лежа на кровати и сознавая, что постель грязная, а пиво, которое я пью, теплое, я всегда был как бы отдельно от собственной жизни, а я и моя жизнь существовали отдельно от жизни других людей. В то же время я в каком-то смысле гордился своим отдельно существующим сознанием, и в свете сменяющих друг друга лун, среди нескончаемых перипетий, где были Мага, Рональд, и Рокамадур, и Клуб, и улицы, и мое нравственное нездоровье и прочие гнойные нарывы, и Берт Трепа, и голод порой, и старик Труй, который не раз выручал меня из беды, в темноте ночей, блевавших музыкой и табачным дымом, мелкими пакостями и разного рода переделками, — в свете всего этого или над всем этим, но мне не хотелось притворяться, как это делают траченные жизнью представители богемы, что беспорядок в сумочке свидетельствует о высокой духовности или еще о чем-нибудь с тем же душком, а с другой стороны, мне трудно было согласиться с тем, что достаточно всего лишь соблюдать минимальные приличия (приличия, детка!), чтобы избавиться от всей этой грязи. Тогда-то я и встретил Магу, которая, сама того не ведая, стала моим свидетелем и моим соглядатаем, и меня раздражало то, что я все время думал об этом, — я же себя знаю, я сначала мыслю, а уж потом существую, в моем случае ergo[35] из всем известного изречения[36] — никакое не ergo, оно и рядом с ним не стояло, потому мы и шли всегда не по тому берегу, итак, я встретил Магу, которая, сама того не ведая, стала моим свидетелем и моим соглядатаем и безмерно восхищалась моими обширными познаниями и явным превосходством в области литературы и даже cool jazz,[37] что для нее было окутано полнейшим мраком. Из-за всего этого я чувствовал к Маге нечто вроде притяжения-отталкивания, нас тянуло друг к другу по законам диалектики, по принципу взаимодействия между магнитом и стальной стружкой, между нападением и защитой, между мячом и стенкой. Думаю, Мага питала некоторые иллюзии на мой счет, — должно быть, она считала, что я излечиваюсь от предрассудков и перенимаю ее восприятие жизни, всегда такое необременительное и поэтичное. Среди непрочного ощущения счастья, во время этой зыбкой передышки, я протягивал руку и натыкался на спутанный клубок Парижа, на его непознаваемую сущность, запутанную даже для него самого, на густую взвесь его ауры и того, что вырисовывалось за окном, — облаков и мансард; так что это нельзя было назвать беспорядком, мир следовал своим путем незыблемо и стабильно, каждая деталь крутилась в своем пазу, и все вместе составляло единый клубок из улиц, деревьев, имен, месяцев. Это был не тот беспорядок, который мог бы принести освобождение, это были грязь и нищета, стаканы с недопитым пивом, чулки, брошенные в углу, постель, от которой пахло сексом и потом, женщина, которая гладила мое бедро тонкой, почти прозрачной рукой, — запоздалая ласка, которая лишь на короткое время могла вырвать меня из этого бдения в полной пустоте. Всегда было слишком поздно, потому что, сколько бы раз мы ни занимались любовью, счастье — это что-то другое, может быть, более грустное, чем эта умиротворенность и это наслаждение, оно должно быть похоже на то, как будто ты увидел единорога, или попал на остров, или как будто бесконечно падаешь вниз среди полной неподвижности. Мага не могла знать, что мои поцелуи открывают мне нечто неизмеримо большее, чем она сама, что я как бы покидаю свою оболочку, оказываясь в другом измерении, и, словно отчаянный лоцман, стою на черном носу корабля, который разрезает волны времени, оставляя их за собой.
В те дни пятьдесят какого-то года мне стало казаться, что я загнан в пространство между Магой и пониманием того, что все должно измениться.
Было бы глупостью восставать против мира Маги и мира Рокамадура, поскольку внутренний голос говорил мне, что едва я обрету независимость, как тут же перестану чувствовать себя свободным. Будучи лицемером, каких мало, я раздражался оттого, что кто-то наблюдает, какая у меня кожа, ноги, как я развлекаюсь с Магой, за этими попытками попугая, который сидит в клетке и сквозь ее прутья читает Кьеркегора,[38] и, думаю, особенно меня раздражало то, что Маге даже в голову не приходило, что она мой соглядатай, и что она, напротив, была убеждена в моей суверенной самодостаточности; впрочем, нет, больше всего меня злило то, что никогда я не был так близок к свободе, как в те дни, когда чувствовал себя загнанным в мир Маги и когда стремление освободиться было признанием моего поражения. Мне было больно сознавать, что ни изобретенные мной удары судьбы, ни ширма манихейства,[39] ни все эти глупости моих жалких раздвоений не помогали мне просто подняться по ступенькам вокзала Монпарнас, куда Мага притащила меня, чтобы съездить навестить Рокамадура. Почему не принять то, что уже произошло, не пытаясь это объяснить, не изобретая таких понятий, как порядок и беспорядок, свобода и Рокамадур, будто расставляешь горшки с геранью во дворике на улице Кочабамба?[40] Наверное, надо оказаться на самом дне глупости, чтобы найти задвижку на дверях уборной или на калитке Гефсиманского сада. Я поначалу удивлялся, как фантазия Маги дошла до того, чтобы додуматься назвать сына Рокамадуром. Сидя в Клубе, мы до отупения пытались найти этому объяснение, но Мага сказала только, что мальчика назвали как и его отца, а поскольку тот бесследно исчез, будет лучше, если сына будут звать Рокамадур, и что лучше ему расти за городом, у кормилицы. Порой Мага неделями не заговаривала о Рокамадуре, и это всегда совпадало с периодами ее надежд стать камерной певицей. Тогда приходил Рональд, склонял над пианино свою лохматую рыжую голову ковбоя, и Мага принималась голосить Гуго Вольфа, да так яростно, что заставляла вздрагивать мадам Ноге, которая в соседней комнате нанизывала пластмассовые четки, которые носила продавать на Севастопольский бульвар. Нам больше нравилось, когда Мага исполняла Шумана, однако все зависело от расположения звезд на небе и от того, что мы собирались делать вечером, ну и от Рокамадура, потому что, стоило Маге вспомнить о Рокамадуре, пение шло ко всем чертям и Рональд, оставшись у пианино один, мог сколько душе угодно разрабатывать свои идеи бибопа[41] или уничтожать нас сладостной мукой блюза.
Я не хочу писать о Рокамадуре, по крайней мере сегодня, для этого нужно получше разобраться в себе и оставить позади все то, что отделяет меня от центра. Я всегда упоминаю про центр, хотя у меня нет никакой гарантии в том, что я знаю, о чем говорю, я просто попадаю в примитивную геометрическую ловушку, с помощью которой мы пытаемся упорядочить нашу западноевропейскую жизнь: земная ось, центр, смысл существования, «пуп земли»[42] — названия, вобравшие в себя тоску индоевропейских поколений. Даже мое нынешнее существование, которое я порой пытаюсь описать, Париж, по которому что-то гонит меня, словно осенний лист, даже это не удалось бы осмыслить, если бы в нас не билось то мучительное беспокойство, с которым мы стремимся найти ось вращения, и найти первоосновы всего сущего. Сколько слов, сколько названий для обозначения все того же беспорядка. Иногда я убежден в том, что глупость имеет форму треугольника и что, если восемь умножить на восемь, получится безумие или собака. Обнимая Магу, это конкретизированное выражение туманности, я думаю о том, что сделать ли фигурку из хлебного мякиша, или написать роман, который я никогда не напишу, или ценою жизни отстаивать идеи освобождения народов — смысла столько же. Маятник продолжает свои безостановочные колебания, и я снова обращаюсь к успокоительным категориям: пустяковая фигурка из хлебного мякиша, бессмертный роман, героическая смерть. Я расставляю их по местам, от меньшего к большему: фигурка, роман, героизм. Оцениваю их по шкале ценностей, так хорошо разработанной Ортегой, Шелером:[43] эстетическое, этическое, религиозное. Религиозное, эстетическое, этическое. Этическое, религиозное, эстетическое. Фигурка, роман. Смерть, фигурка. Мага щекочет меня языком. Рокамадур, этика, фигурка, Мага. Язык, щекотка, этика.
(-116)
3
Третья бессонная сигарета Орасио Оливейры, который курил сидя на кровати, догорела; один или два раза он легко провел рукой по волосам Маги, которая спала рядом с ним. Было раннее утро понедельника, воскресный вечер и ночь они провели читая, слушая пластинки и по очереди разогревая кофе или заваривая мате.[44] К концу квартета Гайдна[45] Мага уснула, а Оливейра, которому надоело слушать музыку, выключил проигрыватель, не вставая с кровати; пластинка прокрутилась еще несколько раз, но из граммофона уже не вылетел ни один звук. Неизвестно почему, эта бессмысленная инерция напомнила ему бесполезные на первый взгляд движения, свойственные некоторым видам насекомых, а иногда детям. Ему не спалось, он курил у открытого окна, глядя на окошко мансарды, где иногда появлялся скрипач, который допоздна пилил свою скрипку. Было нежарко, но Мага согревала ему ногу и правый бок; он немного отодвинулся, подумав, что ночь предстоит долгая.
Ему было хорошо, как бывало всегда, когда им с Магой удавалось до конца довести свидание, не поссорившись и не поругавшись. Его мало интересовало письмо брата, толстого адвоката из Росарио,[46] который извел четыре листа почтовой бумаги, чтобы напомнить Оливейре о том, что тот пренебрегает своими семейными и гражданскими обязанностями. Письмо доставило Оливейре подлинное наслаждение, и он прикрепил его скотчем к стене, чтобы друзья тоже смогли разделить с ним удовольствие. Единственно важным в письме было подтверждение о денежном переводе через черный рынок, которое его брат деликатно называл «финансовым подтверждением». Оливейра подумал, что теперь он сможет купить кое-какие книги, которые ему хотелось прочитать, и дать три тысячи франков Маге, пусть потратит их, как ей заблагорассудится, — скажем, купит плюшевого слона почти в натуральную величину, чтобы поразить Рокамадура. Утром нужно будет зайти к старику Трую и забрать письма из Латинской Америки. Выходить из дома, что-то делать, что-то забрать — все это не способствует нормальному сну. Забирать — ну и выражение. Делать. Делать что-то, делать добро, делать пись-пись, делать время, чередовать разные действия, будто тасуешь колоду карт. Но за каждым из этих действий кроется протест, потому что любое «делать» означает выйти и пойти куда-то, передвинуть что-то с одного места на другое, войти именно в этот дом, вместо того чтобы войти или не войти в соседний, то есть любое действие предполагает первоначальную недостаточность, что-то еще не сделанное, но что может быть сделано, подразумеваемый протест против ряда очевидных незавершенностей, против убывания или недостаточного количества чего-то, что уже есть. Полагать, что действие может наполнить до краев или что сумма действий может реально соответствовать жизни, достойной так называться, — иллюзии моралистов. Надо чаще отказываться от действия, потому что отказ — это и есть протест в чистом виде, а не его маска. Оливейра закурил еще одну сигарету, и это незначительное действие вызвало у него ироническую улыбку, — как бы то ни было, но ему пришлось совершить это действие. Поверхностный анализ был не в его духе, это почти всегда чревато отвлеченностью и игрой словами. Единственное, что было определенно, — это тяжесть в желудке и почти физическое ощущение, что все идет не так, как надо, и почти никогда и не шло как надо. Пожалуй, он бы не стал называть это проблемой, просто он давно уже отказался участвовать в коллективной лжи и отверг ожесточение одиночества, от которого спасаются изучением радиоактивных изотопов или анализом деятельности президента Бартоломе Митре.[47] Если он что и выбрал еще с юности, так это не самоутверждаться за счет быстрого и жадного накопления «культуры», излюбленный прием среднего класса Аргентины, применяющийся для того, чтобы занять свое место в реальной жизни страны или еще где-то и считать, что ты защищен от пустоты, которая тебя окружает. Возможно, благодаря именно такой системе самооценок, как говорил его друг Травелер, ему удалось избежать вступления в орден фарисеев (куда входили многие из его друзей, в основном по доброй воле, возможно и такое, имеются примеры), где серьезных проблем избегали благодаря принадлежности к любому ордену, чья деятельность соответствовала понятию о якобы высших слоях аргентинского общества. Кроме того, ему казалось неверным и слишком простым путать такие исторические проблемы, как, например, бытие аргентинцев или эскимосов, с проблемами действия или отказа от него. Он достаточно пожил на свете и начинал догадываться о том, что другие уже зарубили себе на носу и что от него довольно часто ускользало: влияние субъективного на восприятие объективного. Мага была одной из немногих, кто никогда не забывал, что лицо человека всегда влияет на его отношение к коммунизму или к крито-микенской культуре,[48] а по форме рук можно понять, что думает их хозяин о Гирландайо или о Достоевском. И потому Оливейра склонялся к тому, чтобы признать: его группа крови, его детство, которое прошло в окружении могущественных дядюшек и тетушек, его мучительные любовные увлечения в отрочестве и склонность к астении могли стать главными факторами в процессе формирования его мировоззрения. Он принадлежал к среднему классу, был родом из Буэнос-Айреса, ходил в государственный колледж, а такие вещи бесследно не проходят. Плохо было то, что он боялся ограниченности своего кругозора и в конце концов стал взвешивать и придавать слишком большое значение каждому «да» и «нет», глядя на чаши весов, как бы находясь ровно между ними. В Париже для него всюду был Буэнос-Айрес, и наоборот; как бы жестоко он ни страдал от любви, он чтил и потерю, и забвение. Позиция порочно-удобная, даже простая, коль скоро это превратилось в рефлекс и стало делом техники; ужасное прозрение паралитика, слепота абсолютно тупого атлета. Он шел по жизни неторопливым шагом философа и клошара,[49] все чаще укрощая свои жизненные порывы, повинуясь инстинкту самосохранения и работе сознания, когда тщательно обходишь правду стороной, чтобы не дать себя обмануть. Личностное бездействие, умеренное душевное равновесие, пристальное рассеяние. Для Оливейры важно было без потрясения выдержать устроенный Тупак Амару[50] дележ земель, не впадая в жалкий эгоцентризм (креолоцентризм, провинциалоцентризм, культуроцентризм, фольклороцентризм), проявления которого он ежедневно наблюдал вокруг, причем в самых разных формах. Когда ему было десять лет, однажды вечером, в обществе тетушек и дядюшек, авторитетно излагавших в тени райских кущ историко-политические сентенции, он впервые робко продемонстрировал свою реакцию на испано-итало-аргентинское «Я же вам говорю!», сопровождаемое крепким ударом кулака по столу в качестве сердитого подтверждения. Glieco dico io![51] Я же вам говорю, черт побери! «Это „я“, — все думал Оливейра, — какова его доказательная ценность? „Я“ взрослых, какое всезнайство стояло за этим местоимением?» В пятнадцать лет он открыл для себя «Я знаю только то, что ничего не знаю»;[52] ему казалось, эти слова содержали еще что-то, словно разъедающий яд цикуты, он не противопоставлял себя людям в такой форме, «я же вам говорю». Позднее он имел удовольствие убедиться, что и на самом высоком уровне культуры, под влиянием авторитета и значительности, а также доверия, которое вызывают ум и начитанность, тоже возникают свои «я же вам говорю», тонко скрытые, а порой незаметные даже для того, кто это говорит: на этом уровне чаще бывает «я всегда полагал», «если я в чем-то уверен», «очевидно, что», причем почти никогда не компенсируемое для беспристрастной оценки противоположной точки зрения. Словно в каждом человеке сидит что-то, что не позволяет ему продвинуться по пути терпимости, разумного сомнения, колебаний чувств. В определенной точке возникает мозоль, склероз, дефиниции: черное или белое, радикал или консерватор, гомосексуальный или гетеросексуальный, образное или абстрактное, «Сан-Лоренсо» или «Бока Юниорс»,[53] мясо или овощи, коммерция или поэзия. И правильно, потому что нельзя полагаться на людей вроде Оливейры; письмо брата как раз и есть признак такого отторжения.
«Самое плохое во всем этом, — подумал он, — что неизбежно приходишь к состоянию „animula vagula blandula“.[54] Что же делать? Этот вопрос лишает сна.
Обломов, cosa facciamo?[55] Великие голоса Истории призывают к действию: Hamlet, revenge![56] Будем мстить, Гамлет, или предпочтем уютный диван в стиле „чиппендейл“,[57] тапочки и яркое пламя в камине? Сириец, как известно, после всего похвалил Марфу,[58] как это ни возмутительно. Даешь битву, Арджуна?[59] Ты не можешь отказаться от храбрости и отваги, нерешительный король. Борьба ради борьбы, жизнь среди опасностей,[60] вспомним Мария-эпикурейца,[61] Ричарда Хиллари, Кио, Т. Э. Лоуренса…[62] Счастливы те, кто выбирает, и те, кого выбирают, прекрасные герои, прекрасные святые, непревзойденные мастера избегать опасности».
Возможно, и так. Почему нет? Но может быть и так, что его точка зрения напоминает известную басню про лису и виноград. А может, он и прав, но его правота мелочная и жалкая, как правота муравья перед стрекозой. Если озарения появляются в результате бездействия, не подозрительно ли это, не есть ли это какая-нибудь особенная форма слепоты? Глупость героя-воина, который взрывает себя и взлетает на воздух, солдат Кабраль,[63] покрывший себя славой, — может, это и есть какое-нибудь особенное сверхвидение, момент приближения к некоему абсолюту, совершенно неосознанное (вряд ли сержант способен осознать подобные вещи), рядом с которым обычное ясновидение, кабинетные озарения, осеняющие в три часа ночи, когда сидишь на кровати с потухшим окурком во рту, не уступают по зоркости земляному кроту.
Он изложил все это Маге, которая проснулась и, свернувшись рядом с ним, как кошка, что-то мурлыкала. Мага открыла глаза и задумалась.
— У тебя так не получится, — сказала она. — Ты слишком много думаешь, прежде чем что-то сделать.
— Я исхожу из принципа, что сначала нужно подумать, а уж потом действовать, глупышка.
— Исходишь из принципа, — сказала Мага. — Уж больно все сложно. Ты везде вроде как зритель, будто ты пришел в музей и рассматриваешь картины. Я имею в виду, что картины там, в музее, и ты в музее, но ты и близко и далеко в одно и то же время. Я для тебя — картина, и Рокамадур — картина. Этьен — тоже картина, и эта комната — картина. Ты думаешь, что ты сейчас в этой комнате, но тебя здесь нет. Ты просто смотришь на эту комнату, но тебя самого в ней нет.
— Эта девочка заткнет за пояс даже святого Фому, — сказал Оливейра.
— При чем тут святой Фома?[64] — спросила Мага. — Это тот кретин, который ни во что не верил, пока сам не увидел?
— Да, дорогая, — сказал Оливейра и подумал, что Мага по своей сущности даст сто очков вперед любому святому. Да пребудет с ней счастье, ведь она способна верить на слово, она есть часть непрерывного течения жизни. Да пребудет с ней счастье, она-то ведь внутри комнаты, и она имела полное право на все, чего могла коснуться рукой, и на то, что жило рядом с ней: рыбы в реке, листья на дереве, облака на небе, образы в стихотворении… Рыба, лист, облако, образ — именно так, хотя…
(-84)
4
Итак, они бродили по сказочному Парижу, повинуясь знакам ночи, выбирая маршруты, которые появились на свет благодаря случайной фразе какого-нибудь клошара или освещенному окну мансарды в глубине темной улицы, целовались на скамейках на маленьких уютных площадях или рассматривали разлинованные на асфальте классики, детский ритуал, — чтобы попасть на Небеса, надо прыгать на одной ножке по квадратам, нарисованным на мощеном тротуаре. Мага рассказывала о своих подругах из Монтевидео, о своем детстве, о каком-то Ледесме, об отце. Оливейра слушал не слишком внимательно, немного сожалея о том, что ему никак не удается заинтересоваться; Монтевидео — это все равно что Буэнос-Айрес, а ему нужно было упрочить свой ненадежный разрыв с обоими городами (что там поделывает Травелер, великий бродяга, в какие великолепные переделки он ввязался после его отъезда? А как там бедная дурочка Хекрептен и кафе в центре города), поэтому он слушал без всякого удовольствия и рисовал веточкой на каменистой земле, пока Мага объясняла, почему Чемпе и Грасиэла хорошие девчонки и как ей обидно оттого, что Люсиана не пришла на пристань попрощаться, Люсиана еще тот сноб, а она терпеть не может этого в людях.
— Что ты имеешь в виду под словом «сноб»? — спросил Оливейра, несколько заинтересовавшись.
— Ну, это значит, — сказала Мага, опустив голову с видом человека, который заранее знает, что скажет глупость, — я ехала в третьем классе, но думаю, если бы я ехала во втором, Люсиана пришла бы меня проводить.
— Сроду не слыхал лучшего определения, — сказал Оливейра.
— И потом, со мной был Рокамадур, — сказала Мага.
Так Оливейра узнал о существовании Рокамадура, которого в Монтевидео скромно именовали Карлос Франсиско. Мага, по всей видимости, была не расположена подробно распространяться о происхождении Рокамадура, сказала только, что она когда-то отказалась делать аборт и что сейчас начинает об этом жалеть.
— Не то чтоб жалеть, проблема в том, как жить дальше. Мадам Ирэн мне дорого обходится, и мне нужно брать уроки пения, — а все это стоит денег.
Мага и сама толком не знала, зачем она приехала в Париж, и Оливейра подумал, что, если бы она ткнула пальцем в какие-нибудь другие турагентства, билеты и визы, ее бы с равным успехом могло занести в Сингапур или в Кейптаун; единственно важным было уехать из Монтевидео, оказаться лицом к лицу с тем, что она называла непритязательным словом «жизнь». Главным преимуществом Парижа было то, что она вполне прилично выучила французский (more Pitman)[65] и что там можно было увидеть полотна великих мастеров, посмотреть лучшие фильмы, — в общем, приобщиться к Kultur в самых известных ее формах. Оливейру умиляла нарисованная ею картина (хотя Рокамадур неприятно отрезвлял его, он и сам не знал почему), и он вспоминал своих блестящих приятельниц в Буэнос-Айресе, не способных двинуться дальше Мар-де-Платы,[66] несмотря на все их метафизические устремления глобального масштаба. А эта козявка, да еще с ребенком на руках, села в каюту третьего класса и отправилась в Париж учиться пению без копейки в кармане. Мало того, она учит его смотреть и видеть, сама не желая того, просто иногда она останавливалась посреди улицы и заглядывала в чей-нибудь подъезд, где на первый взгляд ничего не было, зато дальше зеленоватый отблеск, яркий свет, и она тихонько, чтобы не рассердить консьержку, проскальзывала во внутренний двор, в котором иногда оказывалась старинная статуя или колодец, заросший плющом, или не было ничего, только стертые камни мощеного двора, позеленевшие стены, вывеска часовщика,[67] старичок в углу, куда не заглядывает солнце, и коты, повсюду неизбежные «minouche morrongos мяу-мяу kitten kat chat cat gatto», — серые, белые, черные, пятнистые коты помоек, хозяева времени и мощенных каменной плиткой дворов, неизменные друзья Маги, которая умела чесать им животик и разговаривать с ними на их языке, бессмысленном и таинственном, договаривалась с ними о встрече точно в назначенный час, давала советы или предостерегала. Иногда Оливейра, гуляя с Магой по городу, с удивлением спрашивал себя, стоит ли вообще сердиться на нее из-за того, например, что она почти каждый раз опрокидывала стакан с пивом, а если вытаскивала из-под стола ногу, то словно специально для того, чтобы официант тут же об нее споткнулся и разразился проклятиями; ведь он все равно был счастлив, несмотря на постоянное раздражение из-за того, что она все делала не так, как нужно, что решительно не хотела замечать счетов на огромную сумму и, наоборот, приходила в восторг оттого, что за скромной цифрой 3 тянулся длинный хвост, а то еще она останавливалась посреди улицы (черный «рено» при этом тормозил на расстоянии двух метров от нее, водитель высовывался в окошко и всячески поносил ее с пикардийским акцентом), а она останавливалась, потому что, если смотреть на Пантеон[68] издалека с середины улицы, получается совсем другой вид, гораздо лучше, чем с тротуара. И так далее в том же роде.
Оливейра уже был знаком с Перико и Рональдом. Мага познакомила его с Этьеном, а Этьен познакомил его с Грегоровиусом;[69] так, вечерами, в Сен-Жермен-де-Пре[70] и составился Клуб Змеи. Присутствие Маги все сразу же стали считать чем-то неизбежным и естественным, хотя всех раздражало, что ей постоянно приходится объяснять, о чем они говорят, или что половина картошки «фри» с ее тарелки разлеталась по воздуху, поскольку Мага плохо управлялась с ножом и вилкой, и картошка почти всегда попадала в волосы тем, кто сидел за соседним столиком, и приходилось извиняться и выговаривать Маге за то, что она такая неумеха. Когда собиралась вся компания, ей было не по себе, Оливейра чувствовал, что она предпочла бы общаться с каждым из членов Клуба по отдельности, гулять по улицам с Этьеном или с Бэбс, увести их в свой мир, хотя у нее никогда не было намерений увести кого-то в свой мир, и все равно она уводила, потому что это были люди, которые хотели только одного: уйти от каждодневной обыденности автобусов и сюжетов, так что, как бы там ни было, члены Клуба были благодарны Маге, хотя ругали ее на чем свет стоит по всякому поводу. Этьен, самоуверенный, как пес, и непрошибаемый, как почтовый ящик, смертельно бледнел, когда Мага, глядя на очередную картину, которую он только что закончил, выдавала что-нибудь в своем стиле, и даже Перико Ромеро вынужден был признать, что Мага «еще та телка и кого хочешь достанет». На протяжении недель или месяцев (Оливейре трудно было вести счет времени, счастлив и все тут, будущего не существует) они бродили по Парижу, разглядывая город, не мешая происходить тому, что должно было произойти, любили друг друга, ссорились, и все это не имело никакого отношения к новостям в ежедневных газетах, а также к семейным или любым другим обязанностям казенного или нравственного толка.
Тук-тук.
— Давай наконец очнемся, — иногда говорил Оливейра.
— Зачем? — отзывалась Мага, глядя, как отплывают peniches[71] от Нового моста. — Тук-тук, у тебя в голове сидит птичка. Тук-тук, она тебя долбит не переставая, хочет, чтоб ты покормил ее чем-нибудь аргентинским.
— Да ладно тебе, — ворчал Оливейра, — не путай меня с Рокамадуром. Не хватало еще, чтоб ты начала также сюсюкать с продавцом или с консьержкой, тогда точно скандала не миновать. Ты посмотри, какой-то тип не отстает от той молоденькой негритянки.
— А я ее знаю, она работает в кафе на улице Прованс. Ей нравятся женщины, у бедняги нет шансов.
— А с тобой у негритяночки что-нибудь было?
— Конечно. Мы подружились, я подарила ей мои румяна, а она мне книжечку какого-то Ретефа, нет… подожди, Ретифа…[72]
— Понятно. Ты с ней правда не спала? Для такой, как ты, это должно быть любопытно.
— А ты спал с мужчинами, Орасио?
— Ясное дело. Сама понимаешь, тоже опыт.
Мага искоса смотрела на него, пытаясь понять, не смеется ли он над ней, мало ли что придет ему в голову, когда он злой, потому что птичка долбит у него в голове, тук-тук, просит у него аргентинского корма.
И тогда она прижималась к нему, к большому удивлению супружеской пары, которая прогуливалась по улице Сен-Сюльпис; смеясь, ерошила ему волосы, Оливейра отмахивался и тоже начинал смеяться, а супружеская пара смотрела на них, и мужчина отваживался чуть улыбнуться, а его жена была шокирована подобным поведением.
— Ты права, — в конце концов признал Оливейра. — Я неисправим, че.[73] Призывать проснуться, когда так хорошо спать да спать.
Они остановились у витрины книжного магазина и стали читать названия. Мага расспрашивала его о тех книгах, обложки и формат которых ей нравились. Приходилось объяснять ей, кто такой Флобер, говорить о Монтескье, что-то рассказывать о Раймоне Радиге и о том, когда жил Теофиль Готье.[74] Мага слушала, рисуя пальцем на стекле. «Птичка в голове хочет, чтобы ты дал ей какого-нибудь аргентинского корма», вспомнил Оливейра, слушая сам себя. «Мамочки мои, горе мне, бедному».
— Неужели ты не понимаешь, что так ты ничему не научишься? — говорил он наконец. — Ты хочешь получить образование, гуляя по улицам, дорогая моя, но так не бывает. Уж тогда подпишись на «Ридер дайджест».
— Еще чего, на эту белиберду.
«Птичка в голове, — думал Оливейра. — Не у нее, у него. А что в голове у нее? Ветер или кукурузные хлопья, то есть нечто малопригодное для усвоения. Ее точка опоры не в голове».
«Она зажмуривается и попадает „в десятку“, — думал Оливейра. — Точно, как стреляют из лука по системе дзен.[75] Она попадает „в десятку“ просто потому, что ничего не знает об этой системе. А я наоборот… Тук-тук. Вот так и живем».
Когда Мага задавала вопросы по поводу учения дзен (это вполне могло произойти в Клубе, где постоянно говорили об исканиях духа, о материях столь высоких, что поневоле верилось в их фундаментальность, об оборотной стороне медали, о невидимой стороне Луны и т. д.), Грегоровиус пытался объяснить ей азы метафизики, пока Оливейра потягивал перно и, глядя на них, развлекался. Было бесполезно пытаться объяснить что-либо Маге. Фоконье[76] был прав, когда говорил, что для людей, ей подобных, тайна начинается как раз с объяснения. Мага слушала про имманентность и трансцендентность, широко открыв свои прекрасные глаза, в которых и утопала вся метафизика Грегоровиуса. В конце концов она убеждала себя в том, что поняла учение дзен, и устало вздыхала. Только Оливейра понимал, что Маге каждую секунду открываются горизонты бесконечности времени, которые все они пытались найти с помощью диалектики.
— Не заучивай ты всякие идиотские сведения, — советовал он ей. — Зачем носить очки, если ты в них не нуждаешься.
Иногда Мага теряла веру в себя. Она безумно восхищалась Оливейрой и Этьеном, которые могли спорить три часа подряд без перерыва. Оливейра и Этьен были словно очерчены меловым кругом, ей хотелось проникнуть в этот круг, хотелось понять, почему принцип индетерминизма[77] так важен в литературе, почему Морелли,[78] о котором они столько говорили и которым так восхищались, хотел превратить свою книгу в стеклянный шар, где микро- и макрокосмос соединились бы[79] в едином самоуничтожающемся видении.
— Бесполезно тебе объяснять, — говорил Этьен. — Это все — седьмой уровень, а ты едва дотягиваешь до второго.
Мага становилась грустной, подбирала опавший лист с тротуара, разговаривала с ним, расправляя его на ладони, переворачивала его то одной стороной, то другой, разглаживала его, постепенно счищая мякоть, пока у нее на руке не оставались лишь тонкие контуры рисунка из зеленых прожилок. И тогда Этьен перехватывал у нее лист и смотрел сквозь него на свет. Вот за это они ею и восхищались, и им становилось немного стыдно, что они были грубы с ней, и Мага пользовалась этим, чтобы попросить еще кружку пива и, если можно, немного картошки «фри».
(-71)
5
В первый раз это произошло в гостинице на улице Валетт, они бесцельно бродили по городу, укрываясь в подъездах, дождь с утра — это всегда неприятно, приходится выдерживать ледяную морось, плащи, от которых несет резиной, и вдруг Мага прижалась к Оливейре, и они посмотрели друг на друга, ну какие же они дураки, HOTEL, старуха за облупленной конторкой поздоровалась с ними с понимающим видом, — что еще можно делать в такую поганую погоду. Она подволакивала ногу, и они с опаской смотрели, как она поднимается по лестнице, останавливаясь на каждой ступеньке, чтобы подтянуть больную ногу, которая была гораздо толще здоровой, и так до пятого этажа. Пахло каким-то съедобным месивом, супом, на ковре в коридоре кто-то пролил жидкость синего цвета, которая растеклась, как два крыла. В номере было два окна с красными занавесками, кое-где заштопанными, кое-где рваными; влажный свет заглядывал в окно, будто ангел, и падал на кровать со стеганым одеялом.
Мага решила было с невинным видом сыграть сцену из романа, она встала у окна и делала вид, что смотрит на улицу, пока Оливейра проверял надежность дверной задвижки. Она, наверное, заранее выработала схему действий, а может, у нее всегда так происходило: сначала положить сумочку на стол, потом поискать сигареты, потом стоять и смотреть на улицу и курить, глубоко затягиваясь, сделать замечание насчет обоев и ждать, совершенно очевидно ждать, сделав все необходимое, чтобы дать возможность мужчине выступить в своей лучшей роли, получив время для проявления инциативы. Но они оба вдруг рассмеялись, уж очень все это было глупо. Брошенное в угол стеганое одеяло было похоже на бесформенную куклу у стены.
Позже у них вошло в привычку сравнивать покрывала, двери, светильники, занавески; номера в гостиницах cinquième arrondissement[80] казались им лучше, чем в sixième,[81] а в septième[82] округе им не везло, там всегда что-нибудь происходило, то в соседней комнате чем-то стучали, то водопроводные трубы издавали зловещее гудение, и тогда Оливейра рассказывал Маге историю Тропмена, Мага слушала, прижавшись к нему, надо будет прочесть очерк Тургенева,[83] представить себе невозможно, сколько всего нужно прочитать за эти два года (почему именно два, она сама не знала), в другой раз это был Петио, или Вайдманн, или Джон Кристи,[84] гостиница почти всегда располагала к криминальной теме, но иной раз Магу захлестывала волна серьезности, и она спрашивала, не отрывая взгляда от безоблачного неба, так ли значительна живопись сиенской школы,[85] как это утверждает Этьен, и не следует ли сэкономить, чтобы купить проигрыватель и пластинки Гуго Вольфа, песни которого она иногда напевала, но останавливалась на середине, потому что дальше не помнила, и поэтому сердилась. Оливейре нравилось заниматься любовью с Магой, потому что для нее не было на свете ничего важнее, и в то же время — это трудно понять — сам он оставался как бы под наслаждением, он достигал высшей его точки и припадал к нему, стараясь продлить, и это было все равно что очнуться и вспомнить собственное имя, а потом к нему возвращалось его обычное состояние, всегда немного сумеречное, которое он так любил, потому что боялся совершенства во всех его видах, но Мага по-настоящему страдала, когда он возвращался в свои воспоминания и во все то неясное, о чем ему необходимо было подумать, но он не мог думать, он покрывал ее поцелуями, побуждая снова отдаться любовным играм, и она смирялась, постепенно воодушевляясь, возвращала его себе, отдаваясь ему с яростью бешеного зверя, глядя на него невидящими глазами и заламывая руки, потеряв человеческий облик, похожая на статую, которая катится с горы, цепляясь ногтями за время, среди беспрерывных хрипов и стонов. Однажды ночью она укусила его, до крови укусила в плечо, потому что он словно оставил ее одну, затерявшись в собственных мыслях, и они вступили в безмолвный сговор, Оливейра почувствовал, будто Мага ждет от него смерти, что-то в ней, но не она сама, какая есть, а что-то скрытое в глубине взывало к уничтожению, и, лежа на спине, она медленно наносила ему удары, которые разбивали ночные звезды и возвращали пространству все его проблемы и ужасы. В тот единственный раз он вел себя как матадор из притчи, для которого убить — значит вернуть быка морю, а море — небу, и он мучил Магу всю долгую ночь, о которой они потом почти никогда не вспоминали, он превратил ее в Пасифаю,[86] он сложил ее пополам и употребил, как подросток, он проделал с ней все, что мог, и требовал от нее того, что требуют только от последней проститутки, он превознес ее до небес, сжимая в объятиях с запахом крови, он заставил ее выпить семя, которое вытекало у нее изо рта, подобно словам, он высосал ее всю, со всех сторон, и выплюнул ей в лицо ее саму, чтобы соединить ее в единое целое в этом окончательном акте самопознания, которое только мужчина может дать женщине, он изодрал ее своей кожей, волосами, слюной и стонами, он выпил всю до последнего ее великолепную силу и бросил ее на постель, слыша, как она плачет от счастья совсем близко от его лица и от зажженной им сигареты, которая возвращала его в ночь и в гостиничный номер.
После всего Оливейра встревожился, не придет ли ей в голову, что это и есть вершина всего, и не станет ли она искать в любовных играх источник жертвенности. Больше всего он боялся собачьей преданности как самой завуалированной формы благодарности; он не хотел, чтобы свобода, единственный наряд, который был Маге к лицу, растворилась бы в женской угодливости. Но он тут же успокоился, потому что после черного кофе и посещения биде было видно, что она в крайней растерянности. С ней очень скверно обошлись этой ночью, и, чувствуя, как вокруг нее пульсирует бесконечность пустоты, она должна была бы ощутить его первые слова, как удар хлыстом, а она села на край кровати окончательно подавленная и пыталась прийти в себя с помощью улыбок и смутной надежды, и это совершенно успокоило Оливейру. Потому что, если он ее не любил, желание должно было пройти (а он ее не любил, значит, желание пройдет) и надо, как чумы, избегать в любовных играх чего бы то ни было святого. На протяжении дней, недель, месяцев, в каждом номере гостиницы и на каждой площади, при любой позиции в постели и каждым утром в кафе супермаркета: жестокое представление, хитроумная операция — и разумное равновесие. Он пришел к выводу, что Мага действительно ждала, когда Орасио убьет ее, считая, что через смерть она возродится, подобно фениксу, и станет полноправным членом сообщества философов, иначе говоря, болтунов из Клуба Змеи: Мага хотела приобщиться к знаниям, хотела стать об-ра-зо-ван-ной. Она призывала, подталкивала, подстрекала Орасио принести эту ослепительную жертву, а так как они были совершенно разные люди и даже в самом обычном разговоре ни в чем не совпадали и во всем представляли противоположность друг другу (и она это знала и прекрасно это понимала) — то единственная возможность соединения заключалась в том, что Орасио убьет ее во время любви, и тогда она наконец соединится с ним, они вознесутся на небеса гостиничного номера одинаково обнаженными, и там она сможет воскреснуть, словно феникс, после того как он задушит ее, наслаждаясь, и слюна потечет из ее открытого рта, а он будет смотреть на нее, восторгаясь, будто только сейчас начал узнавать ее, и сделает ее своей, чтобы она навсегда осталась рядом с ним.
(-81)
6
Сложность состояла в том, чтобы случайно встретиться в каком-нибудь квартале в определенный час. Им нравилось испытывать судьбу: а вдруг они не встретятся и целый день проведут поодиночке, сидя в кафе или на скамейке, с мрачным видом читая очередную книгу. Теория очередной книги принадлежала Оливейре, и Мага приняла ее только в силу «осмотического давления». В действительности же почти каждая книга была для нее внеочередной, стремясь удовлетворить свою ненасытную жажду, она готова была потратить бесконечно долгое время (примерно от трех до пяти лет) для того, чтобы прочитать все, что написали Гёте, Гомер, Дилан Томас, Мориак, Фолкнер, Бодлер, Роберто Арльт, Святой Августин[87] и прочие авторы, имена которых заставляли ее вздрагивать во время клубных собраний. Оливейра только презрительно пожимал плечами и говорил об умственной деформации уроженцев Рио-Платы,[88] об особом методе чтения в режиме full time,[89] о «синих чулках», которые кишат в библиотеках, вместо того чтобы отдаваться солнцу и любви, о жилищах, где запах типографский краски окончательно перешиб забористый чесночный аромат. Сам он в то время читал мало, поглощенный рассматриванием то деревьев, то какой-нибудь ерунды у себя под ногами, то пожелтевших фильмов «Синематеки», то женщин Латинского квартала. Его интеллектуальная деятельность сводилась к беспредметным размышлениям, ну и еще, когда Мага просила ей помочь, он называл какую-нибудь дату или что-то объяснял так нехотя, словно речь шла о чем-то совершенно бесполезном. «Надо же, ты и это знаешь», — говорила Мага подавленно. Тогда он брал на себя труд объяснить ей разницу между «знать» и «понимать» и давал специальные задания для индивидуального тестирования, с которыми у Маги ничего не получалось, отчего она приходила в отчаяние.
Они вместе выбирали в городе места, где оба раньше никогда не бывали, договаривались там встретиться и почти всегда находили друг друга. Порой их встреча казалась настолько немыслимой, что Оливейра, словно решая очередную задачу по теории вероятностей, долго и недоверчиво кружил по улицам. Быть того не может, чтобы Мага завернула за угол на улице Вожирар как раз в тот момент, когда он, в пяти кварталах от нее, раздумал идти по улице Бюси и без всякой задней мысли направился к улице Месье-ле-Прэнс и продолжал идти, пока не наткнулся на Магу, которая стояла у витрины, поглощенная зрелищем забальзамированной обезьяны. За столиком кафе они восстанавливали каждый свой маршрут во всех подробностях, со всеми неожиданными изменениями, пытаясь объяснить их телепатией, но их попытки терпели крах, однако они находили друг друга в самом запутанном лабиринте улиц, находили почти всегда и хохотали как сумасшедшие, уверенные в том, что обладают каким-то особенным могуществом. Оливейру приводило в восторг безрассудство Маги, ее спокойное пренебрежение к самым элементарным расчетам. То, что для него было анализом вероятностей, результатом отбора или просто верой в то, что он идет куда надо, для нее всегда было предназначением судьбы. «А если бы ты меня не встретила?» — спрашивал он. «Не знаю, но ведь ты же здесь…» Непонятным образом такой ответ делал его вопрос несостоятельным и обнаруживал ничтожность его логических предпосылок. В результате Оливейра чувствовал новый прилив сил для борьбы с ее библиофильскими псевдоизысканиями, а Мага, как это ни парадоксально, была решительно против его презрения к школьным знаниям. Так они и жили, Панч и Джуди,[90] то тянулись друг к другу, то отталкивались, как и следует делать, если кто не хочет, чтоб от любви осталась лишь цветная литография или романс без слов.[91] Впрочем, любовь, ох уж это слово…
(-7)
7
Я касаюсь твоих губ, обвожу пальцем линию твоего рта, будто рисую его собственной рукой, будто твои губы приоткрываются впервые, и мне достаточно закрыть глаза, чтобы все зачеркнуть и начать сначала, каждый раз под моими пальцами рождаются губы, которые я хочу, губы, которые создает моя рука, и я рисую их на твоем лице, губы, единственные из всех, которые я выбрал по своей воле, и я рисую их своей рукой на твоем лице, и этот рисунок совершенно случайный, я даже не берусь понять как, но он в точности совпадает с губами, что улыбаются из-под тех, которые нарисовала моя рука.
Ты смотришь на меня, смотришь вблизи, все приближаясь и приближаясь, мы играем в циклопа, мы смотрим друг на друга совсем близко, наши глаза становятся все больше и больше, еще сближаются, проникают друг в друга, один циклоп смотрит на другого, дыхание смешивается, губы сливаются в поцелуе, мнут друг друга, чуть прикусывают, упираясь котиком языка в зубы, играют, ласкаясь, и прерывистое дыхание несет им знакомый запах и тишину. И тогда мои руки погружаются в твои волосы, медленно лаская их глубины, и мы целуем друг друга так, словно во рту у нас множество цветов или рыб, и живое движение жизни, и ее неведомый аромат. И если мы кусаем друг друга, то боль сладка, а если чувствуем, что не хватает воздуха, потому что на мгновение перехватило дыхание у обоих, эта маленькая смерть прекрасна. У нас одна слюна на двоих, с привкусом зрелого плода, и я чувствую, как ты дрожишь, прижимаясь ко мне, будто луна трепещет на поверхности воды.
(-8)
8
По вечерам мы ходили смотреть рыб на набережной Межиссери, это было в марте, месяце, когда солнце, словно леопард, то прячется, то появляется снова, а его желтый цвет с каждым днем все больше приобретает рыжеватый оттенок. Гуляя по набережной, равнодушно взирая на букинистов, которые все равно ничего не собирались давать нам без денег, мы ждали момента, когда увидим аквариумы (мы прогуливались медленно, стараясь продлить преддверие встречи), и вот аквариумы начинали светиться в солнечных лучах, и сотни розовых и черных рыб будто парили в воздухе, подобно неподвижным птицам в стеклянном шаре. Нелепое ликование охватывало нас, и ты тащила меня на другую сторону улицы, чтобы и мы могли войти в мир плавающих в воздухе рыб.
Большие аквариумы, похожие на огромные бокалы, вынесенные на улицу, их окружают туристы, любопытная детвора и дамы, коллекционирующие экзотические разновидности (550 fr. pièce),[92] и на солнце сияют кубы и шары, наполненные водой, где пузырьки воздуха перемешиваются с солнечными лучами, и розовые и черные птицы кружатся в медленном танце, в маленькой горсточке воздуха, неторопливые, прохладные птицы. Мы рассматривали их, подойдя к стеклу почти вплотную, прижимались к нему носом, навлекая на себя гнев пожилых торговок, вооруженных сачками для ловли этих водяных бабочек, и все меньше понимали, что такое рыба, и вот так, все больше и больше не понимая, мы приближались к тем, которые не понимают сами себя, мы бродили от одного аквариума к другому и подходили так близко, как одна наша подруга, торговавшая во второй от Нового моста лавочке, которая как-то тебе сказала: «Холодная вода их убивает, тоскливая вещь — холодная вода…» А я вспомнил горничную в отеле, которая советовала мне, как ухаживать за папоротником: «Не поливайте его, поставьте ему под горшок блюдце с водой, он, когда захочет, попьет, а не захочет, не попьет…» И еще мы вспомнили одну невероятную вещь, которую где-то вычитали: когда рыба в аквариуме одна, она грустит, но достаточно поставить перед ней зеркало, и она обрадуется…
Мы заходили в крытые магазинчики, где наиболее ценные разновидности содержались в специальных аквариумах, с градусником и красными червячками. Обмениваясь восторженными восклицаниями, мы наблюдали, к явному неудовольствию продавщиц, — они были совершенно уверены, что мы-то уж точно не купим ничего за 550 франков pièce, — за поведением рыбок, за тем, как они любят друг друга, за их очертаниями. Это было время, пропитанное влагой, похожее на жидкий шоколад или на апельсиновый крем с Мартиники, которое опьяняло нас метафорами и аналогиями, так нам хотелось проникнуть в этот мир. Это рыба, ну настоящий Джотто,[93] помнишь, а эти две разыгрались, словно яшмовые собачки, а эта точь-в-точь тень от фиолетовой тучи… Мы открывали для себя формы жизни, лишенной третьего измерения, которые исчезали, вытянувшись в одну нить, или выглядели едва заметной, неподвижной розовой черточкой, пересекающей толщу воды по вертикали. Удар плавника, и непостижимым образом рыба снова здесь, — глаза-усы-плавники, а от живота иногда тянется, покачиваясь, прозрачная ленточка экскрементов, которая все никак не оторвется, выбрасывание отходов, которое вдруг неожиданно ставит это существо в один ряд с нами, уничтожив совершенство чистого образа, которое компрометирует ее, вынуждая вспомнить одно из самых известных слов, которое мы так часто употребляли в то время и в том месте.
(-93)
9
По улице Варенн мы вышли на улицу Вано. Накрапывало, и Мага, повиснув на руке Оливейры, прижималась к его плащу, пахнущему остывшим супом. Этьен и Перико спорили о возможностях отображения мира посредством живописи или слова. Оливейра от скуки обнял Магу за талию. Это тоже может служить способом отображения мира — обнять тонкую теплую талию, чувствуя при ходьбе легкую игру мускулов, похожую на монотонно-настойчивую речь, назойливое повторение в стиле Берлица, я-люблю-тебя я-люблю-тебя я-люблю-тебя. Никакое это не отображение: просто глагол, любить, лю-бить. «А раз глагол, значит, есть связка», на ум пришли грамматические термины. Если бы Мага могла понять, как раздражала его порой власть желания, никчемна власть неразделенного желанья, как сказал один поэт, но какая она теплая, влажная прядь ее волос касается его щеки, Мага Тулуз-Лотрека,[94] когда она идет вот так по улице, прижавшись к нему. Связка была вначале, взять силой — это тоже способ что-то отобразить, но не всегда взаимообразный. Изобретение метода, противоположного отображению, при котором я лю-блю тебя я лю-блю тебя становится втулкой колеса. А Время? Все начинается вновь и вновь, абсолюта не существует. Снова надо принимать пищу и снова извергать пищу, и снова все дойдет до кризисной точки. Непрестанное желание, во всякую минуту, почти всегда одинаковой силы и все-таки все время разное: время придумало ловушку для поддержания иллюзий. «Любовь как огонь, она горит вечно и созерцает Все. И ведь тут же начинаешь говорить каким-то никому не понятным языком».
— Отображать, отображать, — бурчал Этьен. — Если вы не придумали для чего-то название, то это что-то вы даже не замечаете. Это называется «собака», а это называется «дом», как говорил тот, из Дуино.[95] Надо показывать, Перико, а не просто отображать. Я рисую, следовательно, я существую.
— Показывать что? — спросил Перико Ромеро.
— Единственно существующие подтверждения того, что мы живы.
— Это животное полагает, что существует только один орган чувств — зрение, со всеми вытекающими отсюда последствиями.
— Живопись не просто визуальный продукт, — сказал Этьен. — Я рисую всем существом своим и в этом смысле не так уж отличаюсь от твоего Сервантеса или твоего Тирсо де,[96] как там его. Меня раздражает эта мания все объяснять, когда Логос понимается только как слово.
— И так далее, — хмуро сказал Оливейра. — Когда вы говорите об органах чувств, это похоже на разговор глухих.
Мага еще сильнее прижалась к нему. «Сейчас выдаст какую-нибудь глупость, — подумал Оливейра. — Ей всегда надо сначала потереться об меня. Решиться на уровне эпидермиса». Он почувствовал что-то вроде злобной нежности, нечто настолько противоречивое, что, вероятно, оно и было чем-то истинным. «Следовало бы выдумать нежную пощечину, стрекозиный пинок. Но в этом мире синтез взаимоисключающих понятий еще не найден. Перико прав, великий Логос стоит на страже. Жаль, вот бы, например, появился „любоцид“, или настоящий черный свет,[97] или антиматерия, которая так сильно занимает мысли Грегоровиуса».
— Че, Грегоровиус придет на вечеринку? — спросил Оливейра.
Перико полагал, что да, а Этьен продолжал излагать про Мондриана.[98]
— Возьми Мондриана, — говорил Этьен. — Перед ним меркнут магические знаки какого-то там Клее. Клее играл азартно, во благо культуры. Для Мондриана достаточно лишь чувственного восприятия, тогда как для Клее необходима еще целая куча всякой всячины. Изысканный для изысканных.
Вот уж действительно китаец. Мондриан же, напротив, рисует абсолют. Ты стоишь перед картиной, и ты голый, и тут одно из двух: или ты видишь, или ты не видишь. Наслаждение, мурашки по коже, аллюзии, страхи или восторги — все это совершенно ни к чему.
— Ты понимаешь, что он говорит? — спросила Мага. — Мне кажется, насчет Клее — это несправедливо.
— Справедливость или несправедливость здесь ни при чем, — сказал Оливейра, скучая. — Речь идет о другом. Не надо все переводить на личности.
— Но ведь он говорит, что все эти прекрасные вещи не годятся для Мондриана.
— Он имеет в виду, что на самом деле для понимания такой живописи, как у Клее, надо иметь диплом по литературе или, по крайней мере, по поэзии, в то время как для понимания Мондриана нужно просто мондри-анизироваться — и дело с концом.
— Не в этом суть, — сказал Этьен.
— Нет, в этом, — сказал Оливейра. — Тебя послушать — каждое полотно Мондриана самодостаточно. Следовательно, он нуждается в твоем неведении больше, чем в твоей искушенности. Я говорю о райском неведении, не о глупости. Заметь, даже твоя метафора насчет голого перед картиной отдает доадамовыми временами. Как ни парадоксально, Клее куда скромнее, потому что нуждается в соучастия зрителя во всем многообразии этого процесса, не довольствуясь только самим собой. По сути дела, Клее — это история, а Мондриан существует вне времени. А ты умереть готов за абсолют. Я понятно отобразил?
— Нет, — сказал Этьен. — C’est vache comme il pleut.[99]
— Ты тут треплешься, черт бы тебя побрал, — сказал Перико, — а Рональд надает нам по шее, он ведь живет черт знает где.
— Прибавим шагу, — подхватил Оливейра, — хочется укрыть бренное тело от непогоды.
— Начинается. Вот черт, только я заслушался твоим аргентинским выговором. Как будто «дощь идет» в Буэнос-Айресе. Смотри-ка, как вас всех колонизировал Педро де Мендоса.[100]
— Абсолют, — сказала Мага, ногой перебрасывая камешек из лужи в лужу. — Что такое абсолют, Орасио?
— Ну это когда наступает момент, — сказал Оливейра, — и нечто достигает своей максимальной глубины, максимального предела, максимального смысла и становится совершенно неинтересным.
— А вот и Вонг, — сказал Перико. — Наш китаец похож на суп из водорослей.
Почти сразу же они увидели Грегоровиуса, который появился из-за угла улицы Бабилон, как всегда, с портфелем, до отказа набитым книгами. Вонг и Грегоровиус остановились и в свете фонаря (казалось, они вместе принимают душ) церемонно поздоровались. В подъезде дома, где жил Рональд, состоялась процедура закрывания зонтиков и обмен приветствиями comment ça va,[101] зажгите же кто-нибудь спичку, лампочка перегорела, ah oui c’est vache,[102] после чего все стали подниматься, но остановились, не дойдя до первой лестничной площадки, потому что на ступеньках сидела парочка и самозабвенно целовалась.
— Allez, c’est pas une heure pour faire les cons,[103] — сказал Этьен.
— Ta gueule, — ответил задыхающийся голос. — Montez, montez, ne vous gênez pas. Ta bouche, mon trésor.[104]
— Salaud,[105] — сказал Этьен. — Это Ги Моно, мой большой друг.
На площадке шестого этажа их ждали Рональд и Бэбс, каждый со свечой в руке и дыша перегаром. Вонг сделал знак, все остановились на лестнице и исполнили a capella[106] несколько неприличный гимн Клуба Змеи. После чего всей толпой быстро проникли в квартиру, пока не начали высовываться соседи.
Рональд прислонился к двери. Весь рыжий, в клетчатой рубашке.
— Квартиру обложили со всех сторон, damn it.[107] Начиная с десяти вечера здесь устанавливается царство Тишины, и горе тому, кто ее нарушит. Вчера к нам приходил управляющий делать выволочку. Бэбс, что сказал нам этот достопочтенный сеньор?
— Он сказал: «На вас все время жалуются».
— А что сделали мы? — спросил Рональд, приоткрывая дверь и впуская Ги Моно.
— А мы сделали вот так, — сказала Бэбс, вскинув согнутую в локте руку и издав неприличный звук.
— А твоя девушка? — спросил Рональд.
— Не знаю, может, заблудилась, — сказал Ги. — Я думаю, она ушла, мы там на лестнице так хорошо сидели, и вдруг раз — и нету. Да какая разница, она шведка.
(-104)
10
Низкие тучи с красноватыми отблесками над ночным Латинским кварталом, влажный воздух, еще хранивший капли дождя, которые усталый ветер бросал в плохо освещенные окна с давно не мытыми стеклами, одно из них треснуло и было заклеено кусочком розового пластыря. Чуть дальше, под свинцовыми водосточными трубами, дремали, нахохлившись, голуби, тоже свинцовые, похожие на фигурные окончания водостоков необычной формы. По эту сторону окна пространство запущенной комнаты, где пахнет водкой и свечными огарками, влажной одеждой и остатками жаркого, что-то вроде мастерской, принадлежавшей керамистке Бэбс и музыканту Рональду, место собраний Клуба, плетеные стулья, выцветшая обивка, огрызки карандашей и куски проволоки на полу, чучело совы с наполовину сгнившей головой, приевшаяся музыкальная тема в плохом исполнении, старая пластинка со стершимися бороздками, по которым, непрерывно скрипя, кряхтя и пощелкивая, ездила затупившаяся игла, жалобный саксофон, который году в 28-м или в 29-м звучал так, словно боялся сгинуть, и которого вместо ударника поддерживало пианино, будто в женском колледже. Немного позднее резко вступала гитара, словно объявляя о переходе к чему-то другому, и вдруг (в этот момент Рональд всегда предупреждающе поднимал палец) вперед вырывался корнет и ронял две первые ноты темы, оттолкнувшись от них, как от трамплина. Бикс[108] рванул от всей души, четкие удары будто картину рисовали в тишине. Двое мертвецов схватились в братском поединке, то сплетаясь, то отдаляясь друг от друга, Бикс и Эдди Ланг[109] (которого звали Сальваторе Массаро) перебрасывали друг другу мяч «I’m coming, Virginia[110]», где похоронен Бикс, подумал Оливейра, а где Эдди Ланг, сколько миль пролегло между ними, после того как они превратились в ничто, чтобы в далеком будущем, в одну из парижских ночей, гитара выступила против корнета, джин против злой судьбы — джаз.
— Здесь хорошо. Тепло, темно.
— Бикс, что за потрясный безумец. Старик, поставь «Jazz me Blues».
— Это называется влияние техники на искусство, — сказал Рональд, перебирая пластинки и мельком взглядывая на этикетки. — До появления долгоиграющих пластинок на запись у этих деятелей было всего три минуты. А сейчас является какой-нибудь, с позволения сказать, певец вроде Стэна Гетца[111] и торчит перед микрофоном полчаса, заливаясь соловьем, старается как нельзя лучше. Бедняга Бикс только споется с сопровождением, а тут — всем спасибо, только наддаст жару — а тут все и кончилось. Вот они бесились-то, наверное, когда диски записывали.
— Не думаю, — сказал Перико. — Это было все равно что писать сонеты, а не оды, впрочем, я во всей этой белиберде ничего не понимаю. Я прихожу, потому что мне надоедает сидеть у себя в комнате и читать бесконечные труды Хулио Мариаса.[112]
(-65)
11
Грегоровиус налил в стакан водки и стал пить маленькими глотками. Две свечи горели на каминной полке, куда Бэбс складывала грязные чулки и бутылки из-под пива. Сквозь прозрачный стакан Грегоровиус издали любовался пламенем свечей, таких же чуждых и словно пришедших из других времен, как корнет Бикса, ненадолго появившийся среди них. Ему немного мешали ботинки Ги Моно, который спал на диване, а может, слушал музыку, закрыв глаза. Мага сидела на полу и курила. В ее зрачках отражалось пламя зеленых свечей. Грегоровиус с восторгом наблюдал за ней, вспоминая сумерки на одной из улиц Морлэкса, высоченный виадук, облака.
— Этот свет такой же, как вы, он полон жизни, он все время в движении.
— Так же как тень от Орасио, — сказала Мага. — У него нос то вырастает, то уменьшается, вот здорово.
— Бэбс — пастушка, она пасет тени, — сказал Грегоровиус. — Она работает с глиной, потому и тени такие предметные… Здесь все дышит, восстанавливается утраченная связь; этому помогают музыка, водка, дружба… Посмотрите, какие тени на карнизе; у комнаты есть легкие, есть биение пульса. Нет, все-таки электричество — это неподвижность, оно уничтожило игру теней. Они теперь слились с предметами мебели, с лицами. А здесь наоборот… Посмотрите на этот лепной карниз, как дышит его тень, как поднимается и опускается завиток. Раньше человек жил внутри ночи, она обволакивала его, он вел с ней нескончаемый диалог. А ночные страхи, какое раздолье для игры воображения…
Он соединил ладони, оттопырив большие пальцы: на стене появилась тень собаки, которая открывала пасть и шевелила ушами. Мага рассмеялась. Тогда Грегоровиус спросил ее, каков собой Монтевидео, собака вдруг исчезла, он, впрочем, не был уверен, что Мага уругвайка; Лестер Янг[113] и группа «Канзас-Сити-Сикс». Тсссс… (Рональд приложил палец к губам).
— Уругвай для меня нечто совершенно неведомое. В Монтевидео, должно быть, полно сторожевых башен и колоколов, отлитых в честь побед в сражениях. И не говорите мне, что в Монтевидео нет огромных ящериц по берегам реки.
— Конечно есть, — сказала Мага. — Надо только доехать на автобусе до Поситос.[114]
— А в Монтевидео хорошо знают Лотреамона?[115]
— Лотреамона? — переспросила Мага.
Грегоровиус вздохнул и выпил еще водки. Лестер Янг, тенор-саксофон, Дикки Уэллс, тромбон, Джо Баскин, рояль, Билл Колмэн, труба, Джон Симмонс, контрабас; Джо Джонс,[116] ударные. Four O’clock Drag. Вот именно, огромные ящерицы, тромбоны на берегу реки, тягучий блюз, a drag, наверное, означает ящерицу времени, когда оно нескончаемо тянется в четыре утра. А может, совсем другое. «Ах, Лотреамон, — сказала Мага, вдруг вспомнив. — Да, я думаю, его отлично знают».
— Он был уругвайцем, но было не похоже.
— Было не похоже, — подтвердила Мага в качестве оправдания.
— На самом же деле Лотреамон… Впрочем, Рональд сердится, ведь он слушает своих кумиров. Придется замолчать, какая жалость. Давайте говорить шепотом, расскажите мне о Монтевидео.
— Ah, merde alors,[117] — сказал Этьен, бросив на них гневный взгляд. Звуки будто шарили по воздуху, словно поднимаясь по шаткой лестнице, перескакивая через ступеньку или вдруг через пять ступенек и снова и снова оказываясь на самом верху, Лайонел Хэмптон[118] раскачивался в Save it, pretty mamma, взлетал и падал вниз, скатываясь по стеклу, делал пируэты, создавая зыбкий рисунок созвездий, пять звезд, три звезды, десять звезд, он то гасил их носком ботинка, то обмахивался японским зонтиком, то с головокружительной быстротой вращал его в руках, и вот оркестр вступил в финал, хрипло прозвучала труба — земля, возвращение на землю, эквилибрист спускается на манеж, finibus, все кончилось. Грегоровиус слушал, как шепот Маги водил его по улицам Монтевидео, и, возможно, он побольше бы узнал наконец о ней, о ее детстве и о том, на самом ли деле ее, как и Мими, зовут Люсия, но он уже был в той пьяной кондиции, когда ночь кажется великодушной и все обещает верность и надежду, Ги Моно подогнул ноги, и его жесткие ботинки уже не упирались в копчик Грегоровиусу, Мага чуть прислонилась к нему, он немного чувствовал тепло ее тела, каждое ее движение в такт разговору или музыке. Из-под прикрытых век Грегоровиус смутно различал в углу Рональда и Вонга, перебиравших пластинки, а Оливейра и Бэбс сидели на полу, прислонившись спиной к эскимосской звериной шкуре, висевшей на стене, Орасио ритмично раскачивался, окутанный табачным дымом, Бэбс была совсем пьяна, комната куда-то наклонилась, а цвета совершенно изменились, на все триста градусов, по синему пошли вдруг оранжевые ромбы, что-то невыносимое. В дыму было видно, как губы Орасио неслышно двигались, он говорил сам с собой, обращаясь к кому-то у него за спиной, и от этого у Грегсровиуса непостижимым образом переворачивалось нутро, он и сам не знал почему, может, потому, что отсутствие Орасио — пустой звук, он просто позволяет Маге немного поиграть, а сам следит за ней, шевеля губами в тишине, разговаривая с Магой сквозь дым и джаз, про себя посмеиваясь, — слишком много и Лотреамона, и Монтевидео.
(-136)
12
Грегоровиусу нравились собрания Клуба, потому что на самом деле это был никакой не клуб и, таким образом, собрания отвечали самой возвышенной концепции заведений этого рода. Ему нравился Рональд за его анархизм, за то, что у него была Бэбс, за образ жизни, при котором они старательно убивали себя, ничего не принимая всерьез и погрузившись в чтение Карсона Мак-Каллерса, Миллера, Раймона Кено,[119] в джаз, который считали неким выражением свободы, и еще за признание без лишних слов того факта, что оба они в искусстве не состоялись. Ему нравился, если уж об этом говорить, Орасио Оливейра, в отношениях с которым было что-то от мании преследования, то есть Грегоровиуса начинало раздражать присутствие Оливейры, стоило ему только его увидеть, и это после того, как он сам искал его, не признаваясь в этом самому себе, а Орасио забавляла дешевая таинственность, с которой Грегоровиус скрывал свое происхождение и свой образ жизни, и еще то, что, будучи влюбленным в Магу, Грегоровиус думал, что Орасио об этом не догадывается, между ними было притяжение и отталкивание одновременно, что-то вроде быка и тореро, связанных невидимым поясом, и, в общем, это тоже было свойственно, наряду с разным прочим, атмосфере клубных собраний. Они оба строили из себя больших умников, разговаривали намеками, что приводило в отчаяние Магу и злило Бэбс, достаточно было кому-нибудь упомянуть что-то мимоходом, как Грегоровиус считал это началом гонок между ним и Орасио, кто-нибудь из них цитировал небесного пса, I fled Him,[120] и т. д., и Мага смотрела на них с покорным отчаянием, иной так высоко взлетит,[121] что ты его стрелою, пущенной из лука, не достанешь, и вдруг оба рассмеются, но слишком поздно, потому что Орасио уже тошнит, и не только от этого эксгибиционизма ассоциативной памяти, но и от самого Грегоровиуса, который это чувствовал, появлялась взаимная досада, а через две минуты они начинали все сызнова, и так среди прочего обычно и проходили собрания Клуба.
— Редко я здесь пил такую скверную водку, — сказал Грегоровиус, наполняя стакан. — Люсия, вы рассказывали мне о своем детстве. Легко представляю вас на берегу реки, с косами и румянцем во всю щеку, похожую на моих соотечественниц из Трансильвании,[122] пока они не побледнели в этом проклятом лютецианском климате.[123]
— Лютецианском? — переспросила Мага.
Грегоровиус вздохнул. И пустился в объяснения, а Мага покорно и внимательно слушала, как всегда необыкновенно прилежно, до тех самых пор, пока какое-нибудь очередное развлечение не спасало ее от объяснений. В данном случае Рональд поставил старую пластинку Хокинса,[124] и Маге, видимо, досаждали эти объяснения, которые только портили музыку и не давали ей того, что она обычно ждала от объяснений, мурашки по коже, желание набрать полную грудь воздуха, как, должно быть, и сделал Хокинс, прежде чем снова взяться за мелодию, и как порой делала она сама, когда Орасио удостаивал ее настоящим объяснением каких-нибудь непонятных стихов, которые от этого становились еще более сказочно непонятными, чем были, вот если бы вместо Грегоровиуса про Лютецию объяснил ей он, это вылилось бы в настоящее счастье, музыка Хокинса, лютецианцы, пламя зеленых свечей, мурашки по коже, глубокий вдох, который был ее единственной, неопровержимо существующей достоверностью, как Рокамадур, как губы Орасио или как иногда адажио Моцарта, которое почти невозможно было слушать, такая заезженная была пластинка.
— Да будь оно все неладно, — покорно сказал Грегоровиус. — Я просто хотел побольше узнать о вашей жизни, взглянуть на вас с разных сторон.
— О моей жизни, — сказала Мага, — даже по пьянке не расскажешь. Так что вряд ли вы что-нибудь поймете, если я вам расскажу о моем детстве, например. Да у меня вообще не было детства.
— У меня тоже. В Герцеговине.
— А у меня в Монтевидео. Я вам скажу одну вещь, мне иногда снится школа, и это так ужасно, что я просыпаюсь от собственного крика. Снится, что мне пятнадцать лет, не знаю, было ли вам когда-нибудь пятнадцать лет.
— Думаю, было, — неуверенно сказал Грегоровиус.
— И мне было, я жила в доме с патио, где стояли цветы в горшках и где мой папа пил мате и читал какие-то жуткие журналы. А к вам является ваш папа? Я имею в виду, его призрак?
— Нет, я скорее вижу свою мать, — сказал Грегоровиус. — Особенно ту, что из Глазго. Мать и Глазго иногда мне являются, но не как призрак; сильно намокшее воспоминание, скорее так. Выпьешь алказельтцер, и оно уходит, запросто. А как у вас?…
— Почем я знаю, — нетерпеливо сказала Мага. — Есть музыка. Есть зеленые свечи, вон Орасио сидит в углу, как индеец. Почему я должна рассказывать, что мне является, а что нет? Несколько дней назад я сидела дома, ждала Орасио, было уже поздно, я сидела у постели, шел дождь, немного похоже как на этой пластинке. Да, немного похоже, я сидела и смотрела на постель и ждала Орасио, не знаю, как получилось, но покрывало как-то так лежало, я вдруг увидела, будто это мой папа лежит, повернувшись ко мне спиной и укрывшись с головой одеялом, как он всегда делал, когда напивался и ложился спать. Были видны ноги, а руку он положил на грудь. Мне это показалось, но у меня волосы дыбом встали, я хотела закричать, понятное дело, когда чего-нибудь испугаешься, вам, должно быть, тоже страшно иногда бывает… Я хотела убежать из комнаты, а дверь так далеко, а розовое покрывало то поднимается, то опускается, и слышно, как папа храпит, вот-вот вытащит из-под одеяла руку, потом я увижу его глаза, потом нос как крючок, нет, лучше про все это не рассказывать, — в общем, я так кричала, что прибежала соседка снизу и стала отпаивать меня чаем, а потом пришел Орасио и лечил меня от истерики.
Грегоровиус погладил ее по голове, и Мага опустила голову. «Готово дело, — подумал Оливейра, перестав следить за тем, что проделывал Диззи Гиллеспи[125] на самой верхней трапеции без страховки, — готово дело, и этого следовало ожидать. Он без ума от этой женщины, это видно невооруженным глазом. Старо как мир. Примеряем на себя все то же поношенное тряпье и, как идиоты, разучиваем роли, которые мы все знаем наизусть. Если бы я погладил ее по голове, и она рассказала бы мне свою аргентинскую сагу, и я бы ее пожалел, то я отвез бы ее домой, в несколько нетрезвом виде, впрочем, как и я сам, тихо уложил бы на постель и стал бы медленно целовать, постепенно раздевая ее, тоже медленно, расстегивал бы каждую пуговицу, каждую молнию, а она не хочет, хочет, не хочет, вырывается, закрывает руками лицо, плачет, обнимает меня так, будто собирается предложить нечто возвышенное, помогает снять с нее комбинацию, сбрасывает туфлю с ноги таким образом, что это выглядит как протест, и зовет нас обоих к решительной схватке, ах, как это все непорядочно, непорядочно. Я вынужден набить тебе морду, Осип Грегоровиус, мой бедный друг. Без желания, без сожаления, вот как сейчас выдувает Диззи, без сожаления, без желания, безо всякого желания, точно как Диззи, который, знай, дует свое».
— До чего мерзко, — сказал Оливейра. — Уберите эту гадость из моей тарелки. Ноги моей больше не будет в Клубе, если опять придется слушать эту дрессированную обезьяну.
— Сеньору не нравится боп, — саркастически заметил Рональд. — Потерпи немного, и сейчас мы поставим тебе что-нибудь из Пола Уайтмена.[126]
— Есть компромиссное решение, — сказал Этьен. — Все голосуют «за»: Рональд, душа моя, давайте послушаем Бесси Смит,[127] голубку в золотой клетке.
Рональд и Бэбс рассмеялись, не совсем понятно почему, и Рональд стал рыться в куче старых пластинок. Игла жутко заскрипела, внутри что-то задвигалось, будто между голосом и слухом намоталось несколько слоев ваты, будто Бесси пела с завязанным ртом, зарывшись в корзину с грязным бельем, и звук доходил все более приглушенным, словно через тряпку, в нем не было ни гнева, ни милости, I wonna be somebody’s baby doll,[128] он отступал в ожидании, этот голос улицы, голос дома, набитого старухами, to be somebody’s baby doll, уже горячо и страстно, а теперь совсем задыхаясь, I wonna be somebody’s baby doll…
Обжигая горло долгим глотком водки, Оливейра обнял за плечи Бэбс и привлек к себе ее податливое тело. «Сопричастность», — подумал он, погружаясь в клубы вязкого дыма. К концу пластинки голос Бесси совсем истончился, сейчас Рональд перевернет бакелитовую[129] пластинку (если это бакелит), и этот кусочек пластмассы еще раз возродит к жизни Empty Bed Blues, одну из ночей в двадцатых годах, в каком-то уголке Соединенных Штатов. Рональд закрыл глаза, едва заметно отбивая ритм ладонями по коленям. Вонг и Этьен тоже закрыли глаза, в комнате стало почти совсем темно и слышалось только, как скрипит игла по пластинке, и Оливейра уже с трудом верил, что все это происходит на самом деле. Зачем так далеко, зачем Клуб, все эти дурацкие обряды, почему этот блюз такой, когда его поет Бесси? «Сопричастность», — подумал он еще раз, раскачиваясь вместе с Бэбс, которая была совершенно пьяна и тихо плакала, слушая Бесси, вздрагивая то в такт, то мимо такта, давясь рыданиями, лишь бы ни на секунду не отрываться от этого блюза о пустой постели, о завтрашнем утре, о ботинках, шлепающих по лужам, о том, что нечем платить за комнату, о страхе перед старостью, о том, как в зеркале в изножье кровати отражается пепельный рассвет, блюзы — неизбывная, рвущая душу тоска. «Пересечения, одна ирреальность являет нам собой другую, словно святые, изображенные на фресках, которые указывают пальцем на небеса. Не может быть, чтобы все это было на самом деле, что мы действительно здесь и что я кто-то, кого называют Орасио. И этот призрак, этот голос негритянки, которая погибла двадцать лет назад в автомобильной аварии: звенья несуществующей цепи, как мы все здесь оказались, как мы могли собраться здесь этой ночью, если только мы не игра иллюзий, игра, правила которой мы приняли и которым следуем, став обыкновенной колодой карт в руках неведомого банкомета…»
— Не плачь, — сказал Оливейра на ухо Бэбс. — Не плачь, Бэбс, все это неправда.
— Да нет же, нет, все правда, — сказала Бэбс, сморкаясь. — Все это правда.
— Может, и так, — сказал Оливейра, целуя ее в щеку. — Но все равно неправда.
— Как эти тени, — сказала Бэбс, то глотая слезы, то размазывая их по лицу, — и это так грустно, Орасио, потому что это так красиво.
Но разве все это, пение Бесси, убаюкивающее воркование Колмэна Хокинса, не было иллюзией или даже чем-то худшим, иллюзией другой иллюзии, головокружительная спираль, уводящая в прошлое, к обезьяне, что разглядывает свое отражение в воде в первый день сотворения мира? Но Бэбс плакала, Бэбс сказала: «Да нет же, все это правда», и Оливейра, тоже слегка опьяневший, чувствовал, что правда в том и состоит, что хотя Бесси и Хокинс были иллюзией, но только иллюзия способна взволновать тех, кто в нее верит, иллюзия, а не истина. И более того, была сопричастность, когда именно благодаря иллюзиям они достигли уровня, при котором есть только воображение, а мысль бесполезна, потому что любая мысль разрушит все, что ты хотел найти. Будто чья-то рука уносила дым сигареты от его руки и указывала ему на спуск, если это был спуск, к центру, если это был центр, и дошла до его желудка, где от кристалликов водки тихо поднимались пузырьки, оставляя внутри него безнадежно прекрасную нескончаемую иллюзию, которую в иные моменты называют бессмертием. Закрыв глаза, он все-таки был еще способен подумать, что если какой-то жалкий ритуал может помочь ему дойти до центра, привести к этому центру, пусть даже непостижимому, значит, еще не все потеряно и когда-нибудь, при других обстоятельствах, после еще нескольких попыток, он сможет его постичь. Но постичь что, для чего? Он был слишком пьян, чтобы выработать хоть какую-нибудь рабочую гипотезу, наметить общую идею возможных путей. Однако не настолько пьян, чтобы перестать об этом думать, и от одной этой мысли он почувствовал, как уходит все дальше и дальше от чего-то слишком далекого, слишком бесценного, чтобы увидеть себя среди этого упрямо обволакивающего его тумана, тумана водки, тумана Маги, тумана Бесси Смит. Он увидел зеленые круги, которые вращались с сумасшедшей быстротой, и открыл глаза. Обычно после этих пластинок он чувствовал позывы к рвоте.
(-106)
13
Окутанный сигаретным дымом, Рональд ставил пластинку за пластинкой, не заботясь о том, что хотели слушать остальные, и Бэбс то и дело вставала с пола, рылась в куче старых пластинок на 78 оборотов, выбирала пять или шесть и подкладывала их на стол, под руку Рональду, который всякий раз наклонялся к Бэбс и гладил ее, а она выгибалась, смеясь, и садилась к нему на колени, только на мгновение, потому что Рональд хотел спокойно послушать Dont’t play те cheap.
Сатчмо[130] пел:
— Dont’t you play me cheap Because I look so meek.[131]И Бэбс выгибалась, сидя на коленях у Рональда, Сатчмо возбуждал ее своей манерой пения, тема была довольно заурядная, и можно было позволить себе некоторые шалости, на которые Рональд никогда бы не пошел, если бы Сатчмо пел Yellow Dog Blues, к тому же Рональд дышал ей в затылок водкой и кислой капустой, а это бешено заводило Бэбс. С высоты своей позиции, на вершине чего-то вроде пирамиды из дыма, музыки, водки, кислой капусты и рук Рональда, которые то и дело шарили по ее телу, Бэбс взирала из-под прикрытых век на Орасио, который сидел на полу, прислонившись спиной к звериной шкуре, курил и был уже совершенно пьян, с типичным для латиноамериканца выражением обиды и горечи на лице, иногда, между затяжками, он улыбался, вернее, губы Оливейры, которые Бэбс так хотела когда-то (не сейчас), кривились в улыбке, а лицо при этом оставалось каким-то размытым и отсутствующим. Как бы ему ни нравился джаз, эта игра никогда не захватывала Оливейру, как Рональда, независимо от того, хороший был джаз или плохой, cool или hot, черный или белый, старый или современный, чикагский или нью-орлеанский, джаз никогда не был для него тем, чем он был для Сатчмо, Рональда и Бэбс, Baby, dont’t you play me cheap because I look so meek, и потом внезапный зов трубы, желтый фаллос, разрывающий воздух сладострастными толчками, а в конце три нисходящих ноты, три гипнотических звука из чистого золота, абсолютная пауза, когда вся вибрация окружающего мира пульсирует одно невыносимое мгновение, словно моментальное извержение семени, которое стекает и падает, будто ракета в ночи, исполненной секса, рука Рональда, ласкающая шею Бэбс, шипение иглы, потому что пластинка все крутится, и тишина, которая присутствует в любой настоящей музыке, медленно отлепляется от стен, вылезает из-под дивана, раскрывается, как губы или цветочный бутон.
— Ça alors,[132] — сказал Этьен.
— Да, великая эпоха Армстронга, — сказал Рональд, просматривая стопку пластинок, которые отобрала Бэбс. — Как период гигантизма у Пикассо, если угодно. А сейчас это два старых борова. Рассчитывают, что врачи изобретут какое-нибудь средство для омоложения… Они еще лет двадцать будут нас иметь в хвост и в гриву, вот увидите.
— Нас не будут, — сказал Этьен. — Мы их уже послали подальше, причем давно, — даст бог, и меня пошлют, когда придет время.
— Когда придет время — всего ничего, приятель, — сказал Оливейра, зевая. — Но это точно — мы послали их подальше в изящной форме. Разить не пулей, а шипами роз, скажем так. Все, что они делают сейчас, — просто привычка, как под копирку, подумать только, когда Армстронг впервые приехал в Буэнос-Айрес, ты представить себе не можешь, сколько тысяч кретинов считали, что слушают посланца из других миров, а Сатч-мо со своими приемчиками, которых у него больше, чем у старого боксера, растолстевший, дряблый, упиханный деньгами, которому наплевать на то, как он поет, а поет он как заезженная пластинка, тем не менее некоторые из моих друзей, которых я очень уважаю и которые двадцать лет назад затыкали уши, когда слышали Mahogany Hall Stomp, сейчас платят, насколько я знаю, несметное количество денег, лишь бы послушать эту пережаренную дрянь. Правда, в моей стране предпочитают все пережаренное, должен подтвердить это со всей моей к ней любовью.
— Начиная с тебя, — сказал Перико, отрываясь от словаря. — Явился сюда, следуя обычаю своих соотечественников, которые тащатся в Париж за воспитанием чувств.[133] Черт, в Испании этому учатся в борделях и на корриде.
— И у графини Пардо Басан,[134] — сказал Оливейра, снова зевая. — В остальном ты прав, парень. На самом деле я бы должен сейчас сидеть и играть в карты с Травелером. Впрочем, ты его не знаешь. Ничего ты про это не знаешь. Так зачем говорить?
(-115)
14
Он поднялся из своего угла и осторожно шагнул, предварительно осмотревшись, словно выбирая место, куда поставить ногу, затем так же осторожно подтянул другую ногу и остановился в двух метрах от Рональда и Бэбс, где и замер на месте.
— Дождь идет, — сказал Вонг, указывая пальцем на окно мансарды.
Медленно разогнав дым рукой, Оливейра уставился на Вонга с выражением дружеской приязни:
— Не так уж плохо поселиться у самой земли и ничего не видеть, кроме ног и ботинок. Где твой стакан, че?
— Вот он, — сказал Вонг.
Не сразу, но все-таки ему удалось различить совсем близко наполненный стакан. Они выпили, смакуя, и Рональд устроил им Джона Колтрейна,[135] который бесил Перико. А потом Сиднея Беше[136] эпохи трепетного Парижа, когда испанские увлечения вызывали снисходительную усмешку.
— Это правда, что вы пишете книгу о пытках?
— О, не совсем об этом, — сказал Вонг.
— Тогда о чем?
— В Китае другая концепция искусства.
— Знаю, мы все читаем китайца Мирбо.[137] А правда, что у вас есть фотографии пыток, сделанных в Китае в одна тысяча девятьсот двадцатых или каких-то там годах?
— О нет, — сказал Вонг, улыбаясь. — Они такие мутные, не стоит и показывать.
— А правда, что вы всегда носите с собой в бумажнике самую страшную из них?
— О нет, — сказал Вонг.
— И что вы показывали ее женщинам в каком-то кафе?
— Они так настаивали, — сказал Вонг. — Но хуже всего то, что они так ничего и не поняли.
— Сейчас посмотрим, — сказал Оливейра, протягивая руку.
Вонг смотрел на его руку, улыбаясь. Оливейра был слишком пьян, чтобы настаивать. Он выпил еще водки и переменил позу. На ладонь ему положили сложенный вчетверо листок бумаги. Вместо Вонга он сквозь дым различил улыбку Чеширского кота[138] и что-то вроде почтительного поклона. Столб высотой метра в два, но столбов было восемь, если только это не был один и тот же столб, повторенный восемь раз, поскольку было четыре серии по две фотографии в каждой, один ракурс сбоку, другой сверху, столб точно был один и тот же, несмотря на небольшие перемещения фокуса, менялись только жертвы, привязанные к столбу, лица помощников (слева была одна женщина) и местоположение палача, он всегда был чуть в стороне, из вежливости к фотографу, какому-нибудь американскому или датскому этнологу с крепкими нервами, но у «кодака» в двадцатые годы была довольно слабая выдержка, так что, начиная со второго снимка, где ясно видно было, как отрезают ножом правое ухо и еще что все тело обнажено, другие снимки разочаровывали, — было видно только залитое кровью тело, а из-за плохого качества пленки или проявителя приговоренный был похож на бесформенную темную массу, на фоне которой выделялся открытый рот и очень белая рука, последние три снимка были практически одинаковые, за исключением позы палача, который на шестом снимке склонился над мешком с ножами, выбирая подходящий (но, должно быть, он халтурил, раз начинал с таких серьезных порезов…), если вглядеться получше, было видно, что жертва еще жива, — одна нога была вывернута наружу, несмотря на то что ноги были привязаны веревкой, а голова откинута назад и рот, конечно, открыт, на земле с китайской аккуратностью были густо насыпаны опилки, пятно крови не расплывалось и сохраняло форму почти совершенного овала, окружавшего столб. «Седьмая — самая сильная». — Голос Бонга проступал откуда-то из-за винных паров и табачного дыма, нужно было приглядеться повнимательнее, потому что кровь сочилась как бы из двух медальонов — глубоко вырезанных (это проделали между вторым и третьим снимком) сосков, но на седьмой было видно, что нож поработал еще решительнее, потому что линия слегка раздвинутых бедер несколько изменилась, и, если поднести снимок поближе, было видно, что дело было не в бедрах, а в паху, где вместо темного пятна на первом снимке было кровоточащее углубление, что-то похожее на гениталии изнасилованной маленькой девочки, откуда кровь струйками стекала по ногам. И если Вонг пренебрегал восьмой фотографией, то он, должно быть, был прав, потому что приговоренный уже не мог быть живым, у живого голова не может так свисать набок. «Согласно моим сведениям, вся операция длилась полтора часа», — церемонно произнес Вонг. Листок был снова сложен вчетверо, черный кожаный бумажник открылся, как пасть маленького каймана, и поглотил его вместе с дымом. «Конечно, Пекин сейчас уже не тот, что раньше. Сожалею, что вынужден был показать вам нечто довольно примитивное, но другие документы нельзя носить в кармане, они нуждаются в объяснениях, для них надо быть посвященным…» Голос доносился из такого далека, что казался продолжением увиденных образов, которые растолковывал солидный ученый муж. В довершение всего, а может, из-под всего этого Большой Билл Брунзи[139] затянул как псалом See, see, rider, как всегда, самые несовместимые понятия стремились соединиться в одной точке, создав, таким образом, гротескный коллаж, который еще следовало подправить водкой и кантовскими категориями, этими транквилизаторами против любой слишком плотно сгустившейся действительности. О, так почти всегда — закрыть глаза и вернуться назад, погрузиться в мягкую вату какой-нибудь другой ночи, выбранной из тщательно перетасованной колоды карт. See, see, rider, — пел Большой Билл, тоже уже мертвец, — see what you have done.[140]
(-114)
15
И естественно, ему вспомнилась та ночь на канале Сен-Мартен, предложение, которое ему сделали (за тысячу франков), — посмотреть фильм в доме одного швейцарского врача. Ничего особенного, какой-то оператор из стран Оси сподобился заснять повешение во всех деталях. Два ролика, да, оба немые. Но изображение отменное, фирма гарантирует. Оплата при выходе.
За минуту, необходимую на то, чтобы решиться сказать «нет» и слинять из кафе вместе с гаитянской негритянкой, подружкой приятеля швейцарского врача, он представил себе этот сюжет и поставил себя — как же иначе — в положение жертвы. Когда кого-то вешают, кто бы он ни был, тут добавить нечего, но если этот кто-то знает (а тонкость, возможно, и состояла в том, что ему заранее об этом сказали), что камера запечатлеет каждую его предсмертную гримасу и его конвульсии, чтобы доставить удовольствие любителям из будущего… «Как бы трудно ни было это вынести, я никогда не стану таким равнодушным, как Этьен, — подумал Оливейра. — Суть в том, что я не могу отделаться от неслыханной мысли, что человек создан совсем для другого. И значит, тогда… все это жалкие приспособления, чтобы постараться пролезть в игольное ушко». Самое плохое, что он равнодушно рассматривал фотографии Вонга, потому что пытали не его отца, уже не говоря о том, что со времен пекинской операции прошло сорок лет.
— А знаешь, — сказал Оливейра, обращаясь к Бэбс, которая вернулась к нему после стычки с Рональдом: тот настаивал на том, чтобы послушать Ма Рейни, пренебрежительно отозвавшись о Фэтсе Уоллере.[141] — Просто невероятно, какими мерзавцами мы иногда можем быть. О чем думал Христос перед сном, лежа в постели, че? Допустим, ты улыбаешься, и вдруг — раз, и твои губы превращаются в мохнатого паука.
— О-о, — сказала Бэбс. — Горячечный бред, только не это. В такой час.
— Все это поверхностно, детка, все на уровне ощущений. Вот послушай, в детстве я все время ссорился со старшими членами семьи, с сестрами и прочим генеалогическим мусором, и знаешь почему? Так и есть, из-за всякой ерунды, но еще из-за того, что для этих сеньор уход из жизни, как они выражались, любого жителя их квартала, вообще любое незначительное событие было намного важнее событий на фронте или землетрясения, унесшего десять тысяч жизней, и так далее. Иногда чувствуешь себя настоящим кретином, таким кретином, что ты, Бэбс, и представить себе не можешь, потому что для этого надо прочесть всего Платона, разнообразные труды отцов Церкви, классиков, всех до единого, и, кроме того, узнать все, что нужно узнать сверх познаваемого, и как раз тогда доходишь до полнейшего кретинизма, до того, что с утра пораньше готов кидаться на свою малограмотную мать и злиться, зачем она так скорбит по причине смерти какого-то там русского, жившего на соседнем углу, или чьей-то троюродной племянницы. А ты говоришь ей о землетрясении в Баб-эль-Мандебе или о наступлении в Вардар-Инге[142] и хочешь, чтобы она, бедная, переживала по поводу уничтожению трех четвертей абстрактной иранской армии…
— Take it easy, — сказала Бэбс. — Have a drink, sonny, don’t be such a murder to me.[143]
— На самом деле все сводится опять к тому же: видишь только то, что хочешь видеть… Вот скажи мне, ну какая необходимость в том, чтобы изводить старушек своим подростковым пуританством вонючего кретина? Че, что-то мне скверно, братишка. Пойду-ка я домой.
Однако ему стоило большого труда оторваться от теплой звериной шкуры, от далекого и почти безразличного созерцания Грегоровиуса, поглощенного сентиментальным интервью, которое тот брал у Маги. Для того чтобы из всего этого вылезти, ему потребовались усилия, как будто он ощипывал старого полудохлого петуха, который сопротивляется до последнего, как настоящий мачо, каким был когда-то, и тут Оливейра облегченно вздохнул, узнав мелодию Blue Interlude, пластинка, которая когда-то была у него в Буэнос-Айресе. Он уже не помнил всех исполнителей, но, впрочем, там были Бенни Картер и, может быть, Чью Берри, а слушая сложнейшие в простоте своей соло Тедди Уилсона, он решил досидеть до конца вечеринки. Вонг сказал, что идет дождь, так ведь дождь идет целый день. Это, должно быть, Чью Берри, если только не Хокинс[144] собственной персоной, хотя нет, это не Хокинс. «Просто невероятно, как мы все мельчаем, — подумал Оливейра, глядя на Магу, которая глядела на Грегоровиуса, который глядел в пространство. — Кончится тем, что мы пойдем в Библиотеку Мазарини и будем рыться в каталоге, выискивая труды о мандрагоре, об ожерельях племени банту[145] или о сравнительно-историческом анализе маникюрных ножниц». Представить невозможно, сколько подобной ерунды может служить предметом научного исследования и глубокого изучения. История маникюрных ножниц — две тысячи книг, чтобы сделать следующий вывод: до 1675 года это подсобное средство нигде не упоминается. И вдруг в Магунсии некто печатает изображение женщины, которая обрезает себе ноготь. Не то чтобы именно маникюрными ножницами, но чем-то на них похожим. В XVIII веке некто Филипп Мак-Кинни запатентовал в Балтиморе первые ножницы с пружинкой: проблема решена, ножницы можно сжимать до отказа и подстригать таким образом ногти на ногах, до ужаса ороговевшие, а ножницы сами потом раскроются автоматически. Пятьсот карточек в каталоге, год работы. А если мы займемся изобретением винтика или употреблением глагола «gond» в литературе пали[146] в XVIII веке? Любая из этих вещей может быть интереснее, чем предполагаемый диалог между Грегоровиусом и Магой. Можно найти себе баррикаду из чего угодно — Бенни Картер, маникюрные ножницы, глагол gond, еще стакан водки, процедура сажания на кол, мастерски осуществленная палачом, не упустившим ни одной детали, или чемпион Джек Дюпре,[147] затерявшийся в блюзах, лучше, чем он, баррикады нет, потому что (игла шипит ужасающе):
Say goodbye, goodbye to whisky Lordy, so long to gin, Say goodbye, goodbye to whisky Lordy, so long to gin. I just want my reefers, I just want to feel high again.[148]Это означает, что Рональд сейчас вернется к Большому Биллу Брунзи под влиянием ассоциаций, которые Оливейра хорошо знал и уважал, и Большой Билл поведает им про еще одну баррикаду тем же тоном, каким Мага, должно быть, рассказывает Грегоровиусу о своем детстве в Монтевидео, — большой Билл, и никакой горечи, matter of fact,[149]
They said if you white, you all right, If you brown, stick aroun’ But as you black Mm, mm, brother, get back, get back, get back.[150]— Мне это знакомо, и тут уж ничего не поделаешь, — сказал Грегоровиус, — воспоминания меняют в нашем прошлом даже самое неинтересное.
— Да, тут уж ничего не поделаешь, — сказала Мага.
— Поэтому я и попросил вас рассказать о Монтевидео, вы для меня все равно что королева из колоды карт, — вы передо мной, но у вас нет объема. Только поймите меня правильно.
— А Монтевидео придает объем… Глупости все это, глупости, глупости, и больше ничего. А что вы вообще называете старыми временами? Для меня все, что случилось со мной когда-то, случилось вчера, накануне вечером.
— Тем лучше, — сказал Грегоровиус. — Тогда вы просто королева, уже не из карточной колоды.
— Для меня все это было недавно. Далеко, конечно, очень далеко, но недавно. Мясные лавочки на площади Независимости,[151] ты знаешь, про что я говорю, Орасио, эта площадь такая неуютная, там полно решеток, на которых жарится мясо, так и кажется всегда, что накануне кого-то убили, а кости, выставленные на прилавках, — это и есть сообщения о последних новостях.
— И беспроигрышная лотерея, — сказал Орасио.
— Жуткая разборка в Сальто,[152] политика, футбол.
— Рейсовый катер, винный погребок Анкап. Местный колорит, че.
— Должно быть, весьма экзотично, — сказал Грегоровиус и сел так, чтобы Оливейре не было видно Магу и чтобы, таким образом, остаться с ней как бы наедине, а Мага тем временем смотрела на пламя свечей и ногой отбивала такт.
— В Монтевидео у нас никогда не было времени, — сказала Мага. — Мы жили совсем близко у реки,[153] в огромном доме с патио. Мне тогда было тринадцать лет, я прекрасно помню. Синее небо, тринадцать лет, косоглазая учительница пятого класса. Как-то я влюбилась в одного мальчишку-блондина, который продавал газеты на площади. Когда он выкрикивал: «Свежие новости!» — у меня внутри его голос отдавался эхом… Он носил настоящие длинные брюки, хотя ему было, самое большее, двенадцать. Мой папа не работал, сидел в патио и пил мате. Мама умерла, когда мне было пять лет, меня воспитывали тетки, которые потом уехали в деревню. Когда мне исполнилось тринадцать, мы с папой остались в доме вдвоем. Это было общежитие какое-то, а не дом. Там жили итальянец, две старухи и еще негр с женой, которые каждый вечер ругались, а потом пели песни под гитару. У негра были бесстыжие глаза и такой же, да еще вдобавок мокрый, рот. Мне всегда было немного противно на него смотреть, и я старалась уходить играть на улицу. Но отец, когда видел, что я играю на улице, всегда загонял меня домой и бил. Однажды, когда он меня лупил, я заметила, что негр подглядывает в приоткрытую дверь. Поначалу я не поняла, что происходит, мне показалось, он ногу чешет, он как-то странно шарил рукой… Папа был слишком занят поркой ремнем. Странно все-таки, как можно вдруг потерять невинность и даже не понять, что началась другая жизнь. В тот вечер негр и его жена допоздна пели на кухне, а я была у себя в комнате и так наплакалась, что меня стала одолевать страшная жажда, но выходить я не хотела. Папа пил мате у дверей. Стояла такая жара, вы и представить себе не можете, что это такое, вы ведь все из холодных стран. Да еще эта влажность, особенно влажность, потому что река близко, говорят, в Буэнос-Айресе еще хуже, Орасио говорит, гораздо хуже, — не знаю. В тот вечер, чувствую, одежда прилипла к телу, все без конца пьют мате, два или три раза я выходила попить воды из-под крана в патио, там у нас герань росла. Во всех комнатах свет уже погасили, папа ушел в лавку к одноглазому Рамосу, и я внесла в дом скамеечку, мате и пустой чайник, которые он всегда оставлял у дверей и потом бродяги с соседнего пустыря все это воровали. Помню, когда я шла через патио, выглянула луна, и я остановилась посмотреть, у меня от луны всегда мурашки по коже, я подняла лицо кверху, как будто кто-то со звезд мог меня увидеть, я верила в такие вещи, мне ведь было всего тринадцать. Потом я немного попила из-под крана и пошла к себе в комнату, которая была наверху, — надо было подняться по железной лестнице, однажды я на ней, когда мне было девять лет, вывихнула лодыжку. Но только я собралась зажечь свечу на столике, за плечо меня ухватила чья-то горячая рука, я услышала, как дверь закрылась, а другая рука зажала мне рот, понесло вонью, негр стал меня лапать и что-то шептал мне на ухо, обслюнявил мне все лицо, разорвал на мне одежду, а я ничего не могла сделать, даже закричать не могла, потому что знала: закричу — он меня убьет, а я не хотела, чтоб меня убивали, что угодно, только не это, умереть — это так обидно, а уж глупо как — хуже некуда. Что ты на меня так смотришь, Орасио? Я рассказываю, как меня изнасиловал негр в общежитии, Грегоровиусу хотелось узнать, как я жила в Уругвае.
— Так расскажи ему со всеми подробностями, — сказал Оливейра.
— О, достаточно общей идеи, — сказал Грегоровиус.
— Общих идей не бывает, — сказал Оливейра.
(-120)
16
— Когда он ушел из моей комнаты, уже почти рассвело, а я даже плакать не могла.
— Подонок, — сказала Бэбс.
— О, Мага, как никто, заслуживает подобного внимания, — сказал Этьен. — Любопытно, как всегда, другое: дьявольское расхождение между формой и содержанием. В конечном счете то, что ты рассказала, с точки зрения механизма все как обычно бывает у влюбленных, если не брать во внимание небольшое сопротивление и, может быть, некоторую агрессивность.
— Восьмая глава, четвертый раздел, параграф А, — сказал Оливейра. — «Preses Universitaires Françaises».[154]
— Та gueule,[155] — сказал Этьен.
— В общем, так, — подвел итог Рональд. — По-моему, самое время послушать что-нибудь вроде Hat and Bothered.[156]
— Подходящее название для упомянутых обстоятельств, — сказал Оливейра, наливая себе водки. — А негр-то был бравый малый, че.
— Это не тема для шуток, — сказал Грегоровиус.
— Вы сами напросились, дружище.
— Вы пьяны, Орасио.
— Конечно. Это великий момент, минута озарения. А тебе, детка, придется устроиться в геронтологическую клинику. Посмотри на Осипа, твои увлекательные воспоминания накинули ему еще лет двадцать сверху.
— Он сам захотел, — обиженно сказала Мага. — Что ни скажешь, все вам не нравится. Налей мне водки, Орасио.
Однако было незаметно, что Оливейра собирается и дальше вмешиваться в разговор Маги и Грегоровиуса, который бормотал никому не нужные извинения. Куда внимательнее он прислушался к голосу Вонга, который предложил сварить всем кофе. Очень крепкий и горячий, по рецепту, который он узнал в казино Ментоны. Клуб единодушно поддержал это предложение аплодисментами. Рональд любовно поцеловал этикетку на пластинке, круг завертелся, и он осторожно опустил иглу. На какой-то момент мощная энергия Эллингтона увлекла их за собой волшебной мелодией трубы, тут и Бэби Кокс,[157] и, как бы между прочим, нежное вступление Джонни Ходжеса,[158] крещендо (ритм за тридцать лет стал жестче, тигр постарел, но сохранил упругость) колеблется между напряженностью ритма и свободой звучания одновременно, маленькое непостижимое чудо: swing ergo,[159] — я существую. Прислонившись к эскимосскому ковру, глядя на пламя зеленых свечей сквозь рюмку водки (то же самое, как смотреть на рыб на набережной Межиссери), можно было запросто подумать, что это и есть та самая реальность, о которой Дюк бросил пренебрежительную фразу: It don’t mean a thing if it ain’t swing,[160] но почему рука Грегоровиуса продолжает гладить волосы Маги, бедняга Осип, разнежился, что твой тюлень, опечалился рассказом о стародавней потере девственности, жаль смотреть на него, такого подавленного, в этой атмосфере, где музыка смягчает сопротивление и сплетает дыхание каждого в одно на всех, умиротворяя одно огромное сердце, которое бьется для всех, вобрав в себя все остальные сердца. Вот он, хриплый голос с заезженной пластинки, повторяющий, сам не зная того, старинный призыв времен Возрождения, старую анакреонтовскую печаль, чикагский carpe diem[161]1929 года.
You so beautiful but you gotta die some day, You so beautiful but you gotta die some day, All I want’s a little lovin’ before you pass away.[162]Время от времени бывает, что слова тех, кто уже умер, совпадают с мыслями живых (если считать, что те действительно умерли, а эти действительно живы). You so beautiful. Je ne veux pas mourir sans avoir compris pourquoi j’avais vecu.[163] Блюз, Рене Домаль, Орасио Оливейра, but you gotta die some day, you so beautiful but. Потому-то Грегоровиус и хотел так настойчиво узнать о прошлом Маги, чтобы она умерла чуть меньше, чем от другой смерти, которая есть незнание того, что уже унесено временем, он хотел перенести ее в свое собственное время, you so beautiful but you gotta, чтобы любить не призрак, который позволяет гладить свои волосы в свете зеленых свечей, бедняга Осип, как паршиво кончается ночь, просто невероятно, а тут еще ботинки Ги Моно, but you gotta die some day, негр Иренео (позже, когда он войдет к ней в доверие, Мага расскажет ему о Ледесме, о тех типах на ночном карнавале, — всю уругвайскую сагу целиком). И тут вдруг Эрл Хайнс[164] с непогрешимым совершенством предложил свою версию I ain’t got nobody, и даже Перико, погруженный в древние письмена, поднял голову и прислушался, а Мага, положив голову на колени Грегоровиуса, глядела на паркет, на турецкий половик, на красную нитку по краю узора, на пустой стакан у ножки стола. Она бы закурила, но просить сигарету у Грегоровиуса она не будет, сама не знает почему, но не будет, и у Орасио тоже не будет, хотя, почему она не будет просить у Орасио, она знает, она не хочет смотреть ему в глаза и видеть, как он засмеется в отместку за то, что она прилипла к Грегоровиусу и за всю ночь ни разу к нему не подошла. От ощущения заброшенности в голову ей лезли возвышенные мысли, строчки из стихов, которые отзывались в самой глубине сердца, с одной стороны, I ain’t got nobody, and nobody care for my,[165] что, в общем-то, не соответствовало действительности, поскольку по меньшей мере у двоих присутствующих настроение было испорчено как раз из-за нее, и в то же время стихотворение Перса, что-то вроде Tu est là, mon amour, et je n’ai lieu qu’en toi,[166] служило укрытием, где Мага пряталась, уцепившись за эти звуки, lieu, de Tu est la, mon amour, уйдя в покорное приятие неизбежного, когда требовалось просто закрыть глаза, полагая, что даришь свое тело и что каждый может его взять, и осквернить его, и восхищаться им, как Иренео, и что музыка Хайнса сливается с красными и синими бликами, которые танцуют у нее под веками и которых зовут, неизвестно почему, Волана́ и Волене́, слева Волана́ (and nobody cares for ту) крутится, как безумный, а сверху Волене́, будто звездочка из такой синевы, какая есть только у Пьеро делла Франчески,[167] et je n’ai qu’en toi, Волана́ и Волене́, Рональд никогда не играл так, как Эрл Хайнс, надо бы им с Орасио купить эту пластинку, чтобы слушать в темноте ночи, чтобы научиться любить друг друга под эти фразы, похожие на долгие мучительные ласки, I ain’t got nobody на спине, по плечам, пальцы сомкнуты на затылке, ногти цепляются за волосы, мало-помалу все начинает кружиться в последнем вихре, и Валене́ соединяется с Волана́, tu est là, mon amour and nobody care for ту, Орасио здесь, но никто не заботится о ней, никто не гладит ее по голове, Волене́ и Волана́ куда-то исчезли, а веки болят, потому что она крепко зажмурила глаза, она слышит голос Рональда и чувствует запах кофе, Вонг, дорогой, Вонг Вонг Вонг.
Она выпрямилась и, поморгав, посмотрела на Грегоровиуса, который выглядел каким-то жалким и неряшливым. Кто-то протянул ей чашку.
(-137)
17
— Мне не хочется говорить о нем, только чтобы о чем-то говорить, — сказала Мага.
— Ну ладно, — сказал Грегоровиус. — Я же только спросил.
— Я могу поговорить о чем-нибудь другом, если вам просто хочется меня слушать.
— Не сердитесь.
— Орасио как сладкая гуайава,[168] — сказала Мага.
— Как это понять «сладкая гуайава»?
— Орасио — это все равно что стакан воды в несчастье.
— А-а, — сказал Грегоровиус.
— Ему бы родиться в то время, о котором мадам Леони рассказывает, когда немножко выпьет. Когда все были не такие нервные, как сейчас, когда трамваи везли лошади, а войны велись на полях сражений. Тогда не было таблеток от бессонницы, мадам Леони говорит.
— Прекрасный золотой век, — сказал Грегоровиус. — В Одессе мне тоже рассказывали о тех временах. Моя мать, с распущенными волосами она выглядела так романтично… На балконах выращивали ананасы, ночным горшком не пользовались, это было что-то из ряда вон. Но я как-то не вижу Орасио в эти прекрасные времена.
— Я тоже, но он, может быть, грустил бы поменьше. Сейчас ему от всего больно, даже от аспирина и то больно. Нет, правда, вчера вечером я заставила его принять аспирин, зуб у него болел. Он взял таблетку и стал ее рассматривать, будто никак не мог решиться проглотить. Он говорил мне такие странные вещи: это, мол, безобразие — применять что-то, в чем ты не разбираешься, кто-то что-то изобрел для успокоения чего-то, в чем ты тоже ничего не смыслишь… Вы же знаете, как это бывает, когда он начинает загибать невесть что.
— Вы несколько раз повторили слово «что-то», — сказал Грегоровиус. — Оно весьма неброское, но зато ясно показывает, что происходит с Орасио. Он — жертва чего-то, это очевидно.
— Что значит «чего-то»?
— Это значит испытывать неприятное ощущение: о чем бы ты ни думал, это становится сущим наказанием. Сожалею, что приходится прибегать к абстрактному, даже аллегорическому языку, но я имею в виду, что Оливейра патологически чувствителен к влиянию всего, что его окружает, к миру, в котором он живет, ко всему, что ему приходится переживать, и это еще мягко сказано. Одним словом, ему больно от всего. Вы угадали это, Люсия, и со свойственным вам прелестным простодушием готовы представить себе, что Орасио был бы счастливее в любой карманной Аркадии, придуманной какой-нибудь мадам Леони или моей одесской матерью. Вы-то сами ведь не верите во все их ананасы, я полагаю.
— И про ночные горшки тоже, — сказала Мага. — Уж очень трудно поверить.
Ги Моно угораздило проснуться именно тогда, когда Рональд и Этьен пришли к соглашению, решив послушать Джелли Ролла Мортона;[169] приоткрыв один глаз, он решил, что спина, загораживающая свет зеленых свечей, принадлежит Грегоровиусу. Он с трудом очнулся; зеленые свечи, которые видишь, лежа в постели, — картина малоприятная, дождь в окошке мансарды причудливо сплетается с образами еще не ушедшего сна, ему снилось какое-то странное место, впрочем, залитое солнцем, где Габи, совершенно голая, бросала хлебные крошки голубям, большущим, каждый величиной с утку, и абсолютно безмозглым. «Как голова болит», — подумал Ги. Его нимало не интересовал Джелли Ролл Мортон, хотя забавно было слышать, как под шум дождя в окно мансарды Джелли Ролл пел: Stood in a comer, with her feet soaked and wet…,[170] Вонг наверняка сейчас выдаст какую-нибудь теорию о реальном и поэтическом времени, но не говорил ли Вонг чего-то о том, чтобы сварить кофе? Габи кидает крошки голубям, а Вонг, вернее, голос Вонга между голыми ногами Габи в буйно цветущем саду говорит: «По рецепту казино Ментона». Очень возможно, после всего появится Вонг с полным кофейником.
Джелли Ролл сидел за роялем, негромко отбивая такт ногой за неимением лучшего ударного инструмента, Джелли Ролл пел «Мами Блюз», должно быть немного раскачиваясь, не отрывая взгляда от карниза на фоне безоблачного неба, или от мухи, которая ползает туда-сюда, или вообще от любого пятна, которое маячило перед глазами Джелли Ролла. Two-nineteen done took ту baby away…[171] Жизнь — она такая и есть, поезда, которые увозят и привозят людей, а ты стоишь на углу с мокрыми ногами, слушая механическое пианино и слыша чей-то смех сквозь освещенные окна зала, куда войти не всегда хватает денег. Two-nineteen done took ту baby away… Вот Бэбс, сколько раз она в своей жизни ездила на поезде, она любила отправляться в путешествовие, если в конце пути ее ждал какой-нибудь друг, если Рональд гладил ее бедра, нежно, как сейчас, рисуя мелодию прямо на ее коже, Two-seventeen’ll bring her back some day,[172] ясное дело, другой поезд в один прекрасный день привезет ее обратно, но кто знает, будет ли на перроне Джелли Ролл, за этим роялем, будет ли эта минута, когда он поет блюзы Мами Дедюм под шум дождя за окном парижской мансарды, час ночи, промокшие ноги и проститутка, которая мурлычет If you can’t give a dollar, gimme a lousy dime,[173] что-то похожее Бэбс говорила в Цинциннати, каждая женщина где-то когда-то говорит что-то похожее, даже на королевском ложе. Бэбс имеет смутное представление о королевском ложе, но, как бы то ни было, какая-то женщина вполне могла бы сказать — If you can’t give a million, gimmy a lousy grand,[174] у кого какие запросы, и почему рояль Джелли Ролла звучит так печально, как этот дождь, который разбудил Ги, заставил Магу расплакаться, а Вонг так и не принес кофе.
— С меня хватит, — сказал Этьен и перевел дух. — Сам не понимаю, как я могу выносить такую дребедень, Это, конечно, щекочет нервы, но все равно дребедень.
— Ну, разумеется, это не один из шедевров Пизанелло,[175] — сказал Оливейра.
— И уж конечно, никоим образом это не Шёнберг,[176] — сказал Рональд. — А зачем тогда попросил? У тебя не только ума не хватает, у тебя еще и сострадания нет. Ты сам-то когда-нибудь шлялся ночью по улицам в мокрых ботинках? Джелли Ролл шлялся, это видно по тому, как он поет, он знает, что это такое, так-то, старик.
— Когда я рисую, в сухих ботинках у меня лучше получается, — сказал Этьен. — И не доставай меня аргументами в стиле Армии спасения. Поставь лучше что-нибудь поумнее, соло Сонни Роллинса[177] например. Эти ребята из «West coast» напоминают то ли Джексона Поллока,[178] то ли Тоби,[179] по крайней мере видно, что они вышли из возраста пианолы и акварельных красок.
— Он способен верить в прогресс искусства, — сказал Оливейра, зевая. — Не обращай на него внимания, Рональд, той рукой, которая у тебя свободна, достань-ка пластинку Stack О’Lee Blues,[180] там есть одно соло на рояле, на мой взгляд стоящее.
— Что до прогресса в искусстве — все это глупости, навязшие в зубах, — сказал Этьен. — Просто в джазе, как и в любом другом искусстве, всегда найдется кучка шантажистов. Одно дело, когда музыка вызывает эмоции, и другое дело, когда эмоция претендует на роль музыки. Отцовская боль выражается фа-диезом, а саркастическая улыбка — это смесь желтого, фиолетового и черного цветов. Нет, мой дорогой, искусство — оно или ближе, или дальше всего этого, но оно никогда не начинается этим.
Желающих спорить не нашлось, поскольку Вонг принес кофе, как нельзя кстати, и Рональд, пожав плечами, поставил Warning Pensilvanians, и сквозь ужасное шипение стала пробиваться тема, которая очень нравилась Оливейре, сначала на чьей-то безымянной трубе, потом на рояле, сквозь шумовую завесу старого фонографа и скверную запись, под дешевенький оркестрик, словно доджазовых времен, в конце концов из этих старых дисков, из плавучих ансамблей, из ночей в стори-вилле и родилась единственная универсальная музыка века, которая сближала людей больше, чем эсперанто, ЮНЕСКО или авиалинии, музыка достаточно простая, чтобы быть понятной для всех, и достаточно хорошая, чтобы создать свою собственную историю, с расколами, отступничеством, еретиками, со своим чарльстоном, со своим «black bottom»,[181] с шимми, фокстротом, стомпа-ми, блюзами, чтобы иметь свою классификацию и свои названия, стиль такой-то и такой-то, свинг, бибоп, холодный джаз, уходы и возвращения к романтизму и классицизму, джаз горячий и мозговой, музыка-личность, музыка со своей историей в отличие от глупой животной танцевальной музыки — полька, вальс, самба, — музыка, которая помогает узнать друг друга и внушить взаимное уважение и в Копенгагене, и в Мендосе,[182] и в Кейптауне, которая сближает подростков с пластинками под мышкой, она дает им имена и мелодии, которые для них все равно что пароль, и они узнают друг друга, и тянутся друг к другу, и чувствуют себя уже не такими одинокими среди начальников на работе, членов семьи — дома и бесконечно горьких любовных историй, музыка для любого воображения и на любой вкус, «афоническая коллекция — 78» с Фредди Кеппардом или Банком Джонсоном, реакционная исключительность диксиленда, академическая выучка Бикса Бейдербека или прыжок в великое приключение Телониуса Монка, Ораса Силвера или Тэда Джонса, претенциозность Эррола Гарнера или Арта Тэтума,[183] раскаяние и отречение, пристрастие к маленьким группам, запись тайком под псевдонимом и другим названием в угоду записывающей фирме или капризам времени, все эти франкмасонские сборища в субботу вечером в чьей-нибудь студенческой комнате или в уютном подвальчике, где девушкам хотелось танцевать под звуки Star Dust[184] или When your man is going to put you down, сладкий и нежный запах духов, аромат их кожи и их тепло, они позволяют целовать себя, когда уже наступает ночь и кто-то ставит The blues with a feeling, но никто не танцует, они просто стоят и чуть раскачиваются, и все делается как-то смутно, грязно и скверно, и каждому парню, который гладит теплую спину девушки, хочется сорвать с нее лифчик, а девушки стоят приоткрыв рот, замирая от страха перед этой ночью, и вдруг врывается труба и овладевает ими за всех мужчин сразу, подчинив их себе всего лишь одной жгучей фразой, от которой они падают, как подкошенные, на руки своих партнеров, и есть только неподвижный бег, прыжок в ауру ночи над городом, а потом рояль потихоньку приводит их в себя, вымотанных, успокоенных и таких же девственных, — до следующей субботы, такая эта музыка, которая пугает тех, кто заполняет ряды партера, кто считает, что все это не настоящее, если нет отпечатанных программок и капельдинеров, уж так устроен мир, а джаз — он как птица, которая летает, прилетает, улетает, перелетает, разрушитель границ, насмешник над таможнями, он везде и сразу, сегодня вечером в Вене поет Элла Фицжералд,[185] и в то же время в Париже Кенни Кларк[186] открывает какой-нибудь ночной кабачок, а в Перпиньяне[187] ударяют по клавишам пальцы Оскара Питерсона,[188] и повсюду Сатчмо, ибо Господь сотворил его вездесущим, в Бирмингеме, в Варшаве, в Милане, в Буэнос-Айресе, в Женеве — во всем мире, от него никуда не деться, он как дождь, как хлеб, как соль, нечто существующее вне национальных обычаев, устоявшихся традиций, языковых барьеров и фольклора: туча без конца и края, посланец воздуха и воды, прообраз формы, нечто существовавшее до всего, идущее от самых истоков, что примиряет мексиканцев с норвежцами, с русскими, с испанцами, оно собирает их вокруг невидимого, главного, забытого огня, упрямого и злого, возвращая их к преданной ими первооснове, показывает им, что, возможно, были и другие пути, а тот, который выбрали они, не единственный и не лучший, и что, может быть, были другие дороги, по которым было бы радостно идти, а они по ним не пошли или пошли, но на полпути свернули, и что человек всегда больше, чем просто человек, и всегда меньше, чем человек, больше, потому что заключает в себе то, на что джаз лишь намекает или чего он не говорит, но иногда предвосхищает, и меньше, потому что из этой свободы он сделал эстетическую или психологическую игру, что-то вроде шахмат, а себя низвел до шахматной фигуры, слона или коня, превратив эту свободу в ее определение, которое изучают в школах, в тех самых школах, где никогда не учили и никогда не будут учить детей тому, что такое первый такт рэгтайма, первая фраза блюза и так далее, и так далее.
I could sit right here and think a thousand miles away, I could sit right here and think a thousand miles away, Since I had the blues this bad, I can’t remember the day…[189](-97)
18
Незачем задаваться вопросом, что он делает тут в этот час и среди этих людей, дорогих друзей, которых он не знал вчера и не узнает завтра, людей, которые для него не более чем случайное стечение обстоятельств в данном месте и в данное время. Бэбс, Рональд, Осип, Джелли Ролл,[190] Эхнатон[191] — какая разница? И те, и другие всего лишь тени в пламени все тех же зеленых свечей. Пьянка достигла своего апогея. А водка что-то уж очень крепкая.
Вот бы осуществить некую мысленную экстраполяцию, попытаться понять, что такое Клуб, что такое Gold Wagon Blues, что такое любовь Маги, понять каждую клеточку, из которых состоит суть вещей и явлений, и почувствовать ее кончиками пальцев, каждую из этих марионеток и тех, кто дергает их за ниточки, как проявление божественного начала; понять их не просто как символы иной реальности, возможно непостижимой, но как потенциалоносителей (ну и язык, вот разошелся-то), как вектор направления движения — куда бежать, куда бросаться в этот самый момент, оторвавшись от эскимосской звериной шкуры, такой теплой, такой пахучей и такой эскимосской, что даже страшно, выйти на лестничную площадку, спуститься по лестнице, спуститься одному, выйти на улицу, выйти одному, и пойти по улице одному, дойти до угла, до одинокого угла, кафе Макса, одинокого Макса, фонарь на улице Бельшаз… где я один. И возможно, уже с этой минуты.
Но все это чисто ме-та-фи-зи-чес-ки. Потому что Орасио и слова… То есть слова для Орасио… (Сколько раз этот вопрос пережевывался во время бессонницы.) Взять бы за руку Магу и пойти с ней под дождем, словно она — дымок сигареты, часть чего-то, часть меня, под дождем. И снова заняться любовью с ней, но и во имя нее, а не для того, чтобы тут же отдалиться друг от друга, потому что все это ничего не значило, и не для того, чтобы отречься от этого скорее всего бесполезного усилия робота, который научен необходимому алгоритму, общему, скажем так, для ученых собак и офицерских дочек. Если все это — обсыпанный крупой дождя рассвет, который уже начинал липнуть к окну мансарды, печальное лицо Маги, которая глядела на Грегоровиуса который глядел на Магу которая глядела на Грегоровиуса, Struttin’ with some barbecue, Бэбс, которая все продолжала оплакивать Магу, незаметно для Рональда, который не плакал, которого окружал ореол из сигаретного дыма и винных паров, ни дать ни взять — нимб святого, Перико, этот испанский призрак, который восседает на табурете, сколоченном из презрения и серенькой стилистики, — если бы все это можно было экстраполировать, если бы всего этого не было, а по сути дела, если это и было, то только для того, чтобы кто-то (кто угодно, но в данном случае это был он, потому что он, тот, кто думает, он тот, кто всегда может быть уверен в том, что он тот, кто думает, ау-у, Картезий,[192] старикан долбаный!)… так вот, чтобы кто-то из присутствующих, настойчивый и цепкий и, самое главное, способный вырвать с корнем мне самому непонятно что, но вырвать с корнем и извлечь из всего этого хотя бы одну цикаду покоя, хоть одного крошечного сверчка радости, чтобы через какую-то дверь войти в некий сад, аллегорический для прочих, как аллегорична для непосвященных мандала,[193] и в этом саду он бы смог сорвать цветок, и этим цветком была бы Мага, или Бэбс, или Вонг, но чтобы их можно было объяснить, а объяснив, заново создать не как фигурантов Клуба, но свободных от него, ушедших от него, избавившихся от него, — наверное, все это не более чем тоска по земному раю, по идеалу чистоты, правда, чистота в этом случае станет продуктом неизбежного упрощения, слон быстро движется вперед, ладьи не отстают, скачет конь, падают пешки, а в середине доски, громадные, словно львы из антрацита, стоят короли, окруженные с флангов самым отборным, самым чистым в помыслах, тем, что стоит до конца, войском, на рассвете они скрестят копья судьбы, и тогда станет ясно, кому повезло, и наступит мир. Той чистоты, что есть в совокуплении кайманов, а не той, когда, о Мария, Матерь наша, с немытыми ногами; чистоты шиферной крыши, на которой сидят голуби и, разумеется, гадят на головы сеньорам, а те из себя выходят от злобы, и чистоты пучков редиски, чистоты… Орасио, Орасио, помилосердствуй.
Чистота.
(Хватит. Уходи. Иди в отель, прими душ, почитай «Собор Парижской Богоматери» или «Машкульских волчиц»,[194] проспись. Экстраполяция, чего захотел.)
Чистота. Ужасное слово. «Чисто», а потом «та». Подумай над этим. Игра, которую он перенял у Бриссе.[195] Отчего же ты плачешь? А кто плачет, че?
Понять чистоту как богоявление. Damn the language.[196] Понять. Не умом, а всем существом своим. Возможность обретения рая: не может быть, чтобы мы были здесь для того, чтоб не быть, Бриссе? Человек произошел от лягушки…[197]
Blind as a bat, drunk as a butterfly, foutu, royalement foutu devant les portes que peut-être…[198] (Кусочек льда к затылку, и отправиться спать. Проблема: это Джонни Додс или Альберт Николс?[199] Додс, почти наверняка. На заметку: спросить у Рональда.) Какой-то бездарный стишок бьется в окошко мансарды: «До того, как уйти в ничто с последним ударом сердца…» Полная белиберда. The doors of perception by Aldley Huxdous. Get yourself a tini bit of mescalina brother, the rest is bliss and diarrhoea.[200] Впрочем, поговорим серьезно (да, это был Джонни Додс, бывает, что до истины доходишь окольными путями. Ударник не кто иной, как Зутти Синглтон,[201] значит, кларнет — Джонни Додс, джазология — наука, основанная на дедукции, а это запросто в четыре часа утра. Неприменима для порядочных господ и лиц духовного звания.) Поговорим серьезно, Орасио, прежде чем как-то попытаться встать на ноги и направиться на улицу, зададим себе вопрос положа руку на сердце (руку на сердце? Скорее на язык или что-то в этом роде. Топонимия, хрестоматия дешифрования в двух томах с иллю-стра-ция-ми), зададим себе вопрос, стоит ли это дело того, чтобы в него ввязываться сверху или снизу (но как здорово, как ясно я мыслю, водка припечатывает буквы, как бабочек на картон: А — это A, a rose is a rose, April is the cruellest month,[202] всему свое место, и свое место для каждой розы, а роза есть роза, есть роза…). О-ох. Beware of the Jabber-wocky my son.[203]
Орасио обо что-то споткнулся и тут ясно увидел то, что хотел увидеть. Он не знал, стоит ли ввязываться в это дело сверху или снизу, собрав все свои силы, или быть, как сейчас, несобранным, вялым, обратившись к окошку мансарды, к зеленым свечам, к Маге, похожей на печального ягненка, к Ма Рейни, которая пела Jelly Bean Blues. Лучше уж так, лучше быть несобранным и восприимчивым, впитывать как губка, любой становится губкой, если внимательно смотрит вокруг настоящими глазами. Не так уж он пьян, чтобы не чувствовать: дом его разлетелся на куски, внутри него все не на своем месте, и в то же время — точно так оно и было, чудесным образом так и было — на полу, на потолке, под кроватью, в тазу — всюду плавали звезды и частички вечности, стихи, похожие на солнце, и огромные лица женщин и котов, горевшие яростью, присущей обоим этим видам, вместе с мусором и яшмовыми пластинами, из которых был сделан его язык, переплетающий слова, как день с ночью, в жестокой битве муравьев со сколопендрами, где богохульство сосуществовало с подлинной оценкой вещей, ясность образов с худшим из жаргонов. Беспорядок торжествовал и растекался по комнатам грязными сосульками волос, остекленевшими глазами, игральными картами вразнобой, записками без подписи и обращения, а на столах остывает суп в тарелках, на полу валяются чьи-то брюки, гнилые яблоки, грязные бинты. И вдруг все это стало расти и увеличиваться в размерах, и раздалась музыка еще более чудовищная, чем бархатная тишина прибранных квартир его безукоризненных родственников, а посреди всей этой путаницы, где прошлое не способно найти даже пуговицу от рубашки, а настоящее бреется осколком стекла за неимением бритвенного лезвия, закопанного в цветочный горшок, посреди времени, которое, словно флюгер, готово закрутиться от любого ветра, человек дышит полной грудью, чувствуя, что созерцание окружающего его беспорядка и есть жизнь, до безумия наполненная, и спрашивает себя, имеет ли смысл хоть что-то из всего этого. Всякий беспорядок оправдан, если он помогает уйти от себя самого, через безумие, наверное, можно обрести рассудок, если только это не то безумие, которое выдает себя за рассудок. «Через беспорядок прийти к порядку, — подумал Оливейра. — Да, но разве есть порядок, который не казался бы еще более гнусным, ужасным и нездоровым, чем любой беспорядок? Циклон или лейкемия считаются проявлением божественного порядка, поэты называют порядком антиматерию, твердое воздушное пространство, бутоны трепетных губ, нет, надо все-таки сейчас же отправляться в постель». А Мага плачет, Ги куда-то исчез, Этьен — за спиной у Перико, а Грегоровиус, Вонг и Рональд смотрят на пластинку, которая медленно крутится, тридцать три с половиной оборота в минуту, ни больше ни меньше, на этих круговращениях, — Oscar’s blues, понятное дело, у рояля сам Оскар, тот самый Оскар Питерсон, тот самый пианист, в котором есть что-то от плюшевого тигра, тот самый пианист, печальный и толстый человек у рояля, а дождь за окном, — одно слово, литература.[204]
(-153)
19
— Мне кажется, я тебя понимаю, — сказала Мага и погладила его по голове. — Ты ищешь сам не знаешь что. Я тоже ищу и тоже не знаю что. Но есть разница. Мы как-то ночью об этом говорили… Да, ты вроде как Мондриан, а я как Виейра да Сильва.
— А-а, — сказал Оливейра, — так, значит, я вроде как Мондриан.
— Да, Орасио.
— Хочешь сказать, я суровый духом.
— Я сказала, как Мондриан.
— А тебе не приходило в голову, что за этим самым Мондрианом может начинаться реальность Виейры да Сильвы?
— Ну да, — сказала Мага. — Но ты пока так и не вышел из реальности Мондриана. Ты боишься, хочешь быть уверен. Не знаю только в чем… Ты скорее врач, чем поэт.
— Оставим в покое поэтов, — сказал Оливейра. — И не оскорбляй Мондриана сравнением.
— Мондриан — чудо, но у него нет воздуха. Я перед ним всегда будто немного задыхаюсь. И когда ты начинаешь говорить, что надо обрести единение с самим собой, мне все видится очень красивым, но каким-то мертвым, как засушенные цветы или что-то в этом роде.
— Давай посмотрим, Люсия: ты вообще-то понимаешь, что значит единение?
— Меня и правда зовут Люсия, но ты не должен меня так называть, — сказала Мага. — Конечно, я знаю, что такое единение. Ты хочешь сказать, что все в твоей жизни должно соединиться так, чтобы ты увидел все сразу и в одно и то же время. Разве не так?
— Более или менее, — согласился Оливейра. — Поразительно, как тяжело тебе даются абстрактные понятия. Единение, множественность… Ты в состоянии понять их смысл, если не приводить примеров? Нет, конечно, не в состоянии. Ладно, смотри: твоя жизнь едина с тобой?
— Нет, не думаю. Она вся из кусков, из того, что уже прошло.
— И ты проходишь сквозь эти куски, как эта нить через эти зеленые камешки. Кстати, если уж мы заговорили о камешках, откуда у тебя эти бусы?
— Мне Осип дал, — сказала Мага. — Это бусы его одесской матери.
Оливейра неторопливо тянул мате. Мага подошла к широкой тахте, которую им дал Рональд, чтобы Рокамадур мог спать в комнате вместе с ними. Из-за этой тахты, Рокамадура и скандалов с соседями уже почти не оставалось пространства для жизни, но никто не мог убедить Магу, что в больнице Рокамадур поправится быстрее. А до этого пришлось ехать с ней в деревню в тот же день, как они получили телеграмму от мадам Ирэн, укутывать Рокамадура в какие-то тряпки и одеяла, кое-как втискивать в комнату тахту, возиться с печкой, терпеть хныканье Рокамадура, когда ему ставили свечи или кормили из рожка, от которого, что ни делай, неистребимо несло лекарствами. Оливейра вытянул еще один чайничек мате, искоса поглядывая на пластинку в обложке «Deutsche Grammophon Gesselschaft»,[205] полученную от Рональда, которую, кто знает, когда теперь придется послушать, пока здесь вопит и ерзает Рокамадур. Его ужасала неловкость, с которой Мага запеленывала и распеленывала Рокамадура, ему были невыносимы песни, которые она ему напевала, чтобы он не плакал, запах, который часто исходил от постели, подгузники, детский плач, идиотская уверенность Маги, что ничего особенного не происходит, что она делает для своего ребенка все, что нужно делать, и что Рокамадур поправится через пару-тройку дней. Так всегда бывает, то лучше, то хуже. Но при чем здесь он? Месяц назад у каждого из них была своя комната, а потом они решили жить вместе. Мага сказала, что так они сэкономят деньги, будут покупать одну газету на двоих, хлеб не будет оставаться, она будет гладить Орасио одежду, отопление, электричество тоже на двоих… Оливейра почти восхищался этим неприкрытым наступлением практичности. В конце концов он согласился, поскольку со стариком Труем у него возникли трудности, он задолжал ему около тридцати тысяч франков, и в тот момент ему было все равно, жить с Магой или одному, он был не особенно покладистым, но из-за скверной привычки подолгу все пережевывать невозможное в результате становилось неизбежным. Он решил, что постоянное присутствие Маги освободит его от непрестанных словоизвержений, но он, разумеется, и подумать не мог, что с Рокамадуром может случиться такое. Порой ему удавалось побыть наедине с собой, пока визг Рокамадура не возвращал его самым здоровым образом в обычное плохое настроение. «В конце концов так можно дойти до того, до чего дошли персонажи Уолтера Патера,[206] — думал Оливейра. — Безостановочный разговор с самим собой — это уже порок. Марий-эпикуреец, ведь это настоящий порок. Единственное, что спасает, — запах детских какашек».
— Я всегда подозревал, что ты в конце концов будешь спать с Осипом, — сказал Оливейра.
— У Рокамадура жар, — сказала Мага.
Оливейра потянул мате. Этот чай надо поберечь, в Париже он стоит пятьсот франков за килограмм в аптеках, и еще на вокзале Сен-Лазар продают отвратительную траву с завлекательной рекламой про «mate sauvage, cueilli par les indiens»,[207] мочегонное, противовоспалительное и успокаивающее. К счастью, адвокат из Росарио — тот самый, который приходился ему братом, — снабдил его пятью килограммами мате «Мальтийский крест», но его осталось уже совсем немного. «Кончится чай — совсем плохи будут мои дела, — подумал Оливейра. — Единственный, с кем я могу вести настоящий диалог, — вот этот зеленый чайничек». Он изучал причудливое поведение мате, ароматное дыхание травы, когда вода поднимает ее на поверхность, а когда чай высосан, она опускается на дно, уже не блестит и ничем не пахнет до тех пор, пока струя кипятка не возродит ее снова к жизни, — запасные легкие для одиноких и печальных аргентинцев. Некоторое время назад для Оливейры стали иметь значение вещи незначительные, и преимущество медитаций с помощью зеленого чайничка, на который он смотрел не отрываясь, состояло в том, что его изощренный ум никогда не пытался приложить к зеленому чайничку такие понятия, какими он оперировал самым наипротивнейшим образом, думая о таких вещах, как горы, луна, горизонт, взрослеющая девочка, птица или лошадь. «Этот замечательный чай, возможно, укажет мне центр, — думал Оливейра (и мысль о том, что Мага и Осип будут вместе, куда-то отодвигалась и теряла свою значимость, в этот момент зеленый чайничек был более весомым, он предлагал ему свой маленький булькающий вулкан, свой пенный кратер с гребешком из пара в этой холодной комнате, несмотря на печку, которую надо будет протопить еще раз часов в девять). — Но поскольку я и сам не знаю, что такое этот центр, то, возможно, это топографическое выражение единения? Я иду по огромной комнате с плиточным полом, и одна из плиток и есть то самое место, где мне надлежит остановиться, чтобы все упорядочилось и получило бы ясную перспективу». «Точное место», выделил Оливейра нужное слово, чуть посмеиваясь, дабы убедиться, что это не просто фигура речи. «Анаморфная картина, которую можно увидеть только под определенным углом (и самое наиважнейшее во все этом — угол этот долженствует быть необычайно острым, так что придется собственным носом по стеклу возить, дабы превратить скопище линий, лишенных всяческого смысла, в портрет Франциска I[208] или в битву при Сенигаллии, — словом, во что-нибудь несказанно удивительное)». Но это единение, то есть сумма действий и событий, которые определяют жизнь, судя по всему, никак не обнаруживается до того, как не кончится сама жизнь, вроде этого высосанного мате, то есть получается, что только другие люди, биографы, увидят все собранное воедино, но это уже не будет иметь для Оливейры никакого значения. Проблема состояла в том, чтобы обрести единение с собой, не будучи ни героем, ни святым, ни знаменитым преступником, ни чемпионом по боксу, то есть не будучи видным лицом или духовным наставником. Обрести единство среди множественности, где оно было бы похоже на крутящийся столб вихря, а не на остывший осадок выпитого мате.
— Я дам ему четверть таблетки аспирина, — сказала Мага.
— Если тебе удастся заставить его проглотить, ты переплюнешь самого Амбруаза Паре,[209] — сказал Оливейра. — Выпей мате, только что заварил.
Вопрос о единстве занимал его, поскольку он опасался, что может угодить в наихудшую западню. Еще в студенческие времена, в тридцатые годы, когда он жил на улице Вьямонте,[210] он убедился с удивлением (сначала) и с иронией (потом), что множество людей вполне удобно чувствуют в себе полнейшее единство, находясь при этом в рамках единственного доступного им языка и преждевременного умственного склероза. Эти люди громоздили целую систему принципов, никак не связанных с их внутренней сущностью, — всего лишь дань слову, не более, дань вербальному понятию силы притяжения или отталкивания, которые на деле были варварским образом просто вытеснены и заменены их словесным выражением. И получалось, что долг, мораль, ее отсутствие, аморальность, справедливость, милосердие, все европейское и все американское, день и ночь, супруги, невесты и подруги, армия и банки, знамя и золото янки или золото Москвы, абстрактное искусство или битва при Касеросе[211] — все это что-то вроде собственных зубов или волос, что-то однажды данное и внедренное, что не проживается и не осмысливается просто потому, что это так есть, и оно нас собирает воедино, дополняет и укрепляет. Насилие слова над человеком, высокомерная месть слова по отношению к своему творцу — вот что наполняло горьким разочарованием мысли Оливейры, который силился с помощью своего же врага найти дорогу туда, где он мог бы как раз от него освободиться и следовать по избранному пути, — неизвестно, как и каким образом, в какую светлую ночь или в какой хмурый день, — до обретения совершенного согласия с самим собой и с той реальностью, в которой он обитал. Без слов прийти к слову (как это далеко и как невероятно), без рационального осознания научиться глубокому единению с собой, к тому, чтобы хоть какой-то смысл обрело, например, то, что он сидит тут и потягивает мате и смотрит на голую попку Рокамадура и пальцы Маги с зажатой в них ваткой, которые снуют туда-сюда, и слушает плач Рокамадура, которому совершенно не нравится, когда ему что-то суют в попку.
(-90)
20
— Я всегда подозревал, что ты в конце концов будешь с ним спать, — сказал Оливейра.
Мага закутала сына, который пищал теперь уже не так сильно, и вытерла пальцы ватным тампоном.
— Пожалуйста, вымой руки, как полагается, — сказал Оливейра. — И убери всю эту мерзость.
— Сейчас, — сказала Мага. Оливейра выдержал ее взгляд (что всегда было нелегко), и Мага принесла газету, расстелила ее на постели, собрала тампоны, завернула их в газету и вышла из комнаты, чтобы выбросить все в туалет на лестничной площадке. Когда она вернулась, руки у нее были красные и блестели; Оливейра протянул ей мате. Мага села в низкое кресло и стала тщательно высасывать мате. Обычно она только портила его — то дергала соломинку, то размешивала ею в чайничке, как будто там была каша.
— Вообще-то, — сказал Оливейра, выпуская дым через нос, — вы, так или иначе, могли бы поставить меня в известность. А теперь мне надо где-то взять шестьсот франков на такси, чтобы перевезти вещички на другую квартиру. Да и найти ее не просто в это время года.
— Тебе незачем куда-то уезжать, — сказала Мага. — Сколько можно придумывать всякую небывальщину?
— Небывальщину, — сказал Оливейра. — Слово из лучших аргентинских романов. Тебе остается только ут-робно рассмеяться над моей нелепой одинокостью, и дело с концом.
— Больше не плачет, — сказала Мага, взглянув на тахту. — Давай говорить потише, он сейчас быстро заснет после аспирина. И вовсе я не спала с Грегоровиусом.
— Еще как спала.
— Нет, Орасио. Разве бы я тебе не сказала? С тех пор как мы познакомились, у меня нет другого любовника, кроме тебя. Пусть я не умею говорить, можешь смеяться над моими словами. Говорю, как могу, раз я не умею выразить то, что чувствую.
— Ну ладно, ладно, — сказал Оливейра, заскучав, и протянул ей новую порцию мате. — Наверное, ты из-за ребенка так изменилась. Вот уже несколько дней, как ты превратилась в то, что называется матерью.
— Но ведь Рокамадур болен.
— Не только поэтому, — сказал Оливейра. — Как хочешь, а я вижу перемены и другого порядка. На самом деле мы с трудом выносим друг друга.
— Это ты меня не выносишь. И не выносишь Рокамадура.
— Это точно, ребенок в мои расчеты не входил. Для троих эта комната тесновата. А вместе с Осипом нас будет четверо, что вообще невыносимо.
— Осип не имеет к этому никакого отношения.
— А если пошевелить мозгами? — сказал Оливейра.
— Он не имеет к этому никакого отношения, — повторила Мага. — Зачем ты меня мучишь, дурачок? Я знаю, ты устал, ты больше меня не любишь. Ты никогда меня не любил, это совсем другое, просто такая манера, мечтать. Уходи, Орасио, тебе незачем больше здесь оставаться. У меня уже столько раз это было…
Она посмотрела на кровать. Рокамадур спал.
— Столько раз, — сказал Оливейра, насыпая новую заварку. — По части рассказов о личной жизни ты восхитительно откровенна. Это и Осип скажет. Не успеешь познакомиться с тобой, как тут же услышишь историю про негра.
— Я должна была рассказать об этом, ты никак не можешь понять.
— И не пойму, это просто наваждение какое-то.
— Мне кажется, я должна это рассказать, даже если это наваждение. Это нормально, если кто-то рассказывает о своей жизни кому-то, кому интересно о ней знать. Я сейчас говорю о тебе, а не об Осипе. Ты можешь рассказать мне о своих подружках, а можешь и не рассказывать, но я должна сказать тебе все. Знаешь, это единственный способ заставить уйти всех других мужчин, когда в кого-нибудь влюбляешься, единственный способ оставить их за дверью, чтобы остаться в комнате с тобой вдвоем.
— Что-то вроде обряда — искупить вину, а может, и умилостивить. Первым был негр.
— Да, — сказала Мага, глядя ему в глаза. — Первым был негр. Потом Ледесма.
— Ну ясно, Ледесма.
— Потом те трое, в переулке, в ночь карнавала.
— Дальше, — сказал. Оливейра, потягивая мате.
— Дальше мсье Винсент, брат хозяина гостиницы.
— Проехали.
— И еще солдат, который плакал в парке.
— Дальше.
— И ты.
— Позади всех. То, что ты включила меня в список в моем присутствии, подтверждает мои самые мрачные предположения. На самом деле полный перечень у тебя будет тогда, когда ты добавишь туда Грегоровиуса.
Мага помешала мате соломинкой. Она опустила голову, волосы упали ей на лицо, и Оливейра, который с равнодушным видом следил за его выражением, не мог его видеть.
Ты была аптекаря подружкой, А теперь ты крутишь с Комиссаровым сынком…Оливейра напел мотив в ритме танго. Мага потянула из трубочки мате и пожала плечами, не глядя на него. «Бедняжка», — подумал Оливейра. Он запустил руку ей в волосы и резко отбросил их со лба, будто отдернул занавеску. Соломинка тихо стукнулась о зубы.
— Это почти то же, что ударить, — сказала Мага, проведя дрожащими пальцами по губам. — Мне все равно, но…
— К счастью, тебе не все равно, — сказал Оливейра. — Если бы ты не смотрела на меня как сейчас, я бы стал тебя презирать. Ты прекрасна со своим Рокамадуром и всем прочим.
— И что мне с того, что ты это говоришь?
— Тебе ничего, а мне — есть что.
— Да, тебе есть что. Тебе все сгодится для того, что ты ищешь.
— Дорогая, — любезным тоном сказал Оливейра, — слезы портят вкус мате, это общеизвестно.
— И то, что я плачу, тебе, наверное, тоже необходимо.
— Да, настолько, насколько я признаю себя виноватым.
— Уходи, Орасио, так будет лучше.
— Наверное. Обрати внимание, как бы то ни было, если я уйду сейчас, я совершу нечто почти героическое, ведь я оставляю тебя одну, без денег и с больным ребенком на руках.
— Да, — сказала Мага, мужественно улыбаясь сквозь слезы. — Нечто почти героическое, это точно.
— А поскольку я далеко не герой, лучше уж я останусь до тех пор, пока мы оба не поймем, в каком направлении нам двигаться, как говорит мой брат с присущим ему изяществом слога.
— Тогда оставайся.
— Но ты осознаешь, как и почему я отказался от такого героизма?
— Да, конечно.
— Тогда объясни, почему я не ухожу.
— Ты не уходишь, потому что ты все-таки буржуа и тебе не безразлично, что скажут о тебе Рональд, Бэбс и остальные друзья.
— Верно. Это хорошо, что ты понимаешь, что решение я принял не из-за тебя. Я остаюсь не из чувства солидарности, не из жалости и не из-за того, что надо давать Рокамадуру соску. И уж совсем не потому, что у нас с тобой осталось еще что-то общее.
— Ты иногда такой смешной, — сказала Мага.
— Ну, разумеется, — сказал Оливейра. — Боб Хоуп[212] просто дерьмо рядом со мной.
— Когда ты говоришь, что у нас с тобой нет ничего общего, рот у тебя делается такой…
— Вот так, да?
— Да, вот здорово.
Пришлось носовыми платками заткнуть себе рты, поскольку оба расхохотались так громко, что могли разбудить Рокамадура, просто кошмар какой-то. Хоть Оливейра и смеялся до слез, он, прикусив зубами платок, сделал все возможное, чтобы удержать Магу, но она все равно постепенно сползала с кресла, у которого передние ножки были несколько короче, так что в результате оно опрокинулось и Мага запуталась между ногами Оливейры, который смеялся до икоты и наконец выплюнул платок вместе с очередным взрывом хохота.
— Ну-ка покажи еще раз, какой у меня рот, когда я это говорю, — умоляюще проговорил Оливейра.
— Вот такой, — сказала Мага, и оба опять стали корчиться от смеха, так что Оливейра согнулся пополам, и Мага увидела совсем близко его лицо и глаза, блестевшие от слез. Они стали целоваться, она, подняв лицо кверху, а у него волосы упали на лоб, словно бахрома, они целовались, чуть кусаясь, потому что их губы не узнавали друг друга, это были какие-то другие губы, и они помогали себе руками в этом адском переплетении волос и мате, который опрокинулся со стола на пол и вылился на юбку Маги.
— Расскажи мне, каков Осип в постели, — прошептал Оливейра, прижимаясь губами к губам Маги. — Кровь к голове приливает, не могу больше, это ужасно.
— В постели он что надо, — сказала Мага, прикусывая ему губу. — Он все делает лучше, чем ты, и гораздо дольше.
— А он ласкал тебя веткой мирта? Только не ври. Правда, ласкал?
— Много раз. Везде, иногда даже слишком. Это потрясающее ощущение.
— А он целовал тебя там?
— Да, а потом мы поменялись ролями, и до того дошло, что он стал говорить, хватит, хватит, больше не могу, послушай, надо взять себя в руки. Все равно тебе этого не понять, ты всегда торопишься кончить.
— И я, и любой другой, — недовольно сказал Оливейра и выпрямился. — Че, да тут помойка из-за этого мате, я пойду пройдусь.
— Ты больше не хочешь, чтобы я продолжила рассказ про Осипа? — сказала Мага. — На языке глигли.
— Надоел мне этот глигли. И потом, у тебя нет воображения, ты всегда говоришь одно и то же. Кончить — тоже мне новость. И потом, «продолжила рассказ» не говорят.
— Глигли придумала я, — обиженно сказала Мага. — Ты выдашь какое-нибудь одно слово и сияешь, но это не настоящий глигли.
— Вернемся к Осипу…
— Не глупи, Орасио, говорю же, не спала я с ним. Я должна принести великую клятву племени сиу?
— Не надо. Мне кажется, я в конце концов тебе поверю.
— А потом дело кончится тем, что я, наверное, все-таки буду спать с Осипом, и только потому, что ты этого хотел.
— Тебе что, в самом деле может понравиться такой, как он?
— Нет. Но дело в том, что надо платить аптекарю. От тебя я не приму ни сентаво, что касается Осипа, не могу же я брать у него деньги и оставлять его с носом.
— Само собой. Ты же у нас добрая самаритянка. И того солдатика в парке ты тоже не могла оставить в слезах.
— Да, не могла. Вот видишь, Орасио, какие мы с тобой разные.
— Да уж, сострадание — мое не самое сильное место. Но ведь и я могу от чего-нибудь расплакаться, и тогда ты…
— Никогда не видела, чтоб ты плакал, — сказала Мага. — Для тебя это вроде как слишком большие затраты.
— Мне тоже случалось плакать.
— Если только от злости. Ты не умеешь плакать, Орасио, это одна из тех вещей, которых ты не умеешь.
Оливейра привлек Магу к себе и посадил на колени. Он подумал, что от запаха Маги, запаха ее волос ему всегда делалось грустно. Тот же запах, что и раньше… «Искать посредством чего-то, — смутно подумалось ему. — Да, это действительно одна из тех вещей, которых я не умею, плакать и жалеть себя».
— Мы никогда не любили друг друга, — сказал он, целуя ее волосы.
— Не говори за меня, — сказала Мага, прикрывая глаза. — Ты не можешь знать, люблю я тебя или нет. Даже этого ты не можешь знать.
— Ты считаешь, я так слеп?
— Наоборот, тебе бы не мешало немножко ослепнуть.
— Ах да, осязание, заменяющее выводы разума, инстинкт, который проникает дальше сознания. Путь магии, потемки души.
— Да, не помешало бы, — упрямо повторила Мага, как делала всякий раз, когда она чего-нибудь не понимала, но не хотела этого показывать.
— Послушай, мне достаточно того, что я знаю, чтобы понять: мы должны разойтись. Думаю, мне надо жить одному, Люсия; я действительно не знаю, что мне делать. Я несправедлив и к тебе, и к Рокамадуру, который, по-моему, вот-вот проснется, я плохо обращаюсь с вами и не хочу, чтобы так продолжалось.
— Обо мне и Рокамадуре можешь не беспокоиться.
— А я и не беспокоюсь, но мы тут путаемся под ногами друг у друга, и это неудобно и неэстетично. Я не так уж слеп, моя дорогая, и мой зрительный нерв позволяет мне видеть, что ты отлично справишься и без меня. До сих пор ни одна из моих подруг еще не покончила с собой, как бы это признание ни ранило мою гордость.
— Да, Орасио.
— Так что, если не сегодня завтра у меня хватит героизма настоять на этом, ничего особенного не случится.
— Не случится, — сказала Мага.
— Ты отвезешь своего мальчика к мадам Ирэн и будешь дальше жить в Париже как жила.
— Вот именно.
— Будешь много ходить в кино, читать романы, с риском для жизни будешь гулять по самым небезопасным кварталам в самое небезопасное время.
— Все так и будет.
— Найдешь на улице множество разных странных вещиц, принесешь их домой и что-нибудь из них сделаешь. Вонг обучит тебя фокусам, а Осип будет всюду ходить за тобой, молитвенно сложив руки в смиренном почитании.
— Орасио, прошу тебя. — Мага обняла его, спрятав лицо у него на груди.
— Конечно же, мы самым невероятным образом будем натыкаться друг на друга в самых неожиданных местах, как тогда ночью на площади Бастилии, ты помнишь.
— На улице Даваль.
— Я был здорово пьян, а ты появилась из-за угла, и мы смотрели друг на друга, как идиоты.
— Потому что я была уверена, что в тот вечер ты пошел на концерт.
— А ты мне сказала, что пойдешь к мадам Леони.
— И потому было так здорово встретиться на улице Даваль.
— На тебе был зеленый пуловер, и ты остановилась на углу, чтобы утешить какого-то педераста.
— Его пинками вытолкали из кафе, и он чуть не плакал.
— А еще мы однажды встретились на набережной Жеммап.
— Было жарко, — сказала Мага.
— Ты никогда мне не говорила, что тебе понадобилось на набережной Жеммап.
— Да ничего мне не понадобилось.
— У тебя в руке была монетка.
— Я нашла ее на краю тротуара. Она так блестела.
— И мы пошли на площадь Республики, там были уличные акробаты, и мы выиграли коробку конфет.
— Они были ужасны.
— А еще, выхожу я однажды из метро «Мутон-Дю-верне», а ты сидишь в открытом кафе с каким-то негром и каким-то филиппинцем.
— А ты никогда не говорил мне, что тебе понадобилось у метро «Мутон-Дюверне».
— Я ходил к педикюрше, — сказал Оливейра. — В приемной у нее были обои красновато-фиолетовых тонов, а по ним гондолы, пальмы и обнявшиеся парочки в лунном свете. Представь себе все это в пятисоткратном повторении на площади размером двенадцать метров на восемь.
— Из-за этого ты туда и ходил, а не из-за мозолей.
— То были не мозоли, девочка моя. У меня был настоящий нарост на ступне. Кажется, из-за авитаминоза.
— Она тебя вылечила? — спросила Мага, подняв голову и внимательно глядя на него.
Последовавший за этим взрыв смеха разбудил Рокамадура, и тот заплакал. Оливейра вздохнул, сейчас все повторится, какое-то время он будет видеть только спину Маги, склонившейся над кроваткой, и ее мелькающие руки. Он вновь принялся за мате, вооружился сигаретой. Думать не хотелось. Мага ушла мыть руки, потом вернулась. Оба выпили пару чайничков мате, почти не глядя друг на друга.
— Самое ценное во всем этом, — сказал Оливейра, — что мы не устраиваем из этого радиоспектакль. Не смотри на меня так, если ты немного подумаешь головой, ты поймешь, что я хочу сказать.
— Я и так понимаю, — сказала Мага. — Я не потому на тебя так смотрю.
— A-а, так ты думаешь, что…
— Разве что чуть-чуть. Но лучше к этому не возвращаться.
— Ты права. Кажется, я собирался немного пройтись.
— Ты не вернешься, — сказала Мага.
— Давай не будем преувеличивать, — сказал Оливейра. — Где я, по-твоему, буду ночевать? С одной стороны, гордиев узел надо разрубать, с другой стороны — на улице ветер и минус пять градусов.
— Будет лучше, если ты не вернешься, Орасио, — сказала Мага. — Сейчас мне легче сказать тебе это. Пойми меня.
— Итак, — сказал Оливейра, — по-моему, мы оба торопимся поздравить друг друга с удачным выходом из положения.
— Мне так жалко тебя, Орасио.
— О-о, не надо. Это лучше не трогать.
— Ты знаешь, я иногда вижу. Вижу очень ясно. Подумать только, что всего час назад мне пришло в голову, что лучше пойти и броситься в реку.
— Неизвестная женщина[213] в Сене… Но ты же плаваешь, как рыба.
— Мне тебя жалко, — повторила Мага. — В ночь, когда мы встретились за Собором Парижской Богоматери, я тоже видела, что… Только не хотела верить.
На тебе была такая красивая голубая рубашка. Мы с тобой тогда в первый раз пошли в отель, правда?
— Нет, но это все равно. И ты научила меня языку глигли.
— Я могла бы сказать тебе, что делала это из жалости.
— То есть? — сказал Оливейра, глядя на нее со страхом.
— В ту ночь тебе грозила опасность. Это было очевидно, ну вот как вой сирены вдалеке… невозможно объяснить.
— Мне грозит опасность отнюдь не метафизического свойства, — сказал Оливейра. — Поверь, никто не будет доставать меня крюками из воды. Меня достанет непроходимость кишечника, азиатский грипп или какой-нибудь «пежо-403».
— Не знаю, — сказала Мага. — Мне иной раз хочется наложить на себя руки, но я знаю, что никогда этого не сделаю. И не думай, что только из-за Рокамадура, и до него было то же самое. При мысли о том, что я сама могу убить себя, становится как-то легче. Ты же, который об этом не думает… Вот ты говоришь: метафизические опасности. Бывают и метафизические реки, Орасио. Ты можешь броситься в одну из таких рек.
— Наверное, — сказал Оливейра. — Это река Дао.[214]
— Мне казалось, я могла тебя защитить. Не говори ничего. И тут я поняла, что ты мне не нужен. Мы занимаемся любовью, и это похоже, будто два музыканта встречаются, чтобы вместе исполнить сонату.
— Красиво говоришь.
— Так и есть, рояль ведет свою партию, скрипка свою, вместе выходит соната, но ты же видишь, по-настоящему мы не можем обрести друг друга. Я поняла это только что, Орасио, но ведь сонаты так прекрасны.
— Да, дорогая.
— И язык глигли.
— Еще бы.
— И все остальное: Клуб, та ночь на набережной Берси, когда мы стояли под деревьями, и до рассвета считали звезды, и рассказывали друг другу истории про принцев, и ты захотел пить, и мы купили бутылку чего-то пенящегося, страшно дорогую, и выпили ее на берегу реки.
— Тогда еще к нам подошел клошар, — сказал Оливейра, — и мы отдали ему полбутылки.
— И этот клошар чего только не знал, латынь и много всякого про Восток, и ты с ним заспорил про этого, как его…
— Аверроэса,[215] кажется.
— Да, Аверроэса.
— И еще та ночь, когда какой-то солдат на Королевской ярмарке шлепнул меня по заду, и ты двинул ему по физиономии, и нас обоих отвели в участок.
— Хорошо, что Рокамадур не слышит, — со смехом сказал Оливейра.
— К счастью, Рокамадур тебя не запомнит, он видит пока только глазами. Как птицы, что клюют крошки, которые им бросаешь. Они на тебя смотрят, клюют их и улетают… Будто ничего и не было.
— Да, — сказал Оливейра. — Будто ничего и не было.
На площадке четвертого этажа орала соседка, пьяная, как всегда, в этот час. Оливейра неуверенно посмотрел на дверь, но Мага прижала его к ней, дрожа и плача опустилась на пол и обхватила его колени.
— Ну что ты так переживаешь? — сказал Оливейра. — Метафизические реки текут повсюду, не надо далеко ходить, чтобы их найти. Уж если кому и топиться, так это мне, красавица ты моя. Одно я тебе обещаю: в последнюю минуту я вспомню о тебе, чтобы стало совсем горько. Ну как в дешевом романе в разноцветной обложке.
— Не уходи, — прошептала Мага, еще крепче обхватив его ноги.
— Я только пройдусь здесь, неподалеку.
— Нет, ты не вернешься.
— Пусти. Ты прекрасно знаешь, что я никуда не уйду, по крайней мере сегодня.
— Пойдем вместе, — сказала Мага. — Смотри, Рокамадур спит и будет спать до самого кормления. У нас два часа, пойдем посидим в кафе в арабском квартале, такое грустное кафе, там так хорошо.
Но Оливейре хотелось побыть одному. Он потихоньку высвободил ноги из объятий Маги. Погладил ее по голове, поддел пальцами бусы, поцеловал ее в затылок, за ухом, слыша, как она плачет, укрытая упавшими на лицо волосами. «Не надо меня шантажировать, — подумал он. — Давай поплачем, глядя друг другу в глаза, вместо этих дешевых всхлипов, которым учат в кино». Он заставил ее поднять лицо и посмотреть ему в глаза.
— Я негодяй, — сказал Оливейра. — И позволь мне за это заплатить. Плачь о своем сыне, который, возможно, умирает, но не трать слезы на меня. Боже мой, со времен Золя не было подобных сцен. Пожалуйста, пусти меня.
— Но почему? — сказала Мага, глядя на него снизу, как собака.
— Что «почему»?
— Почему?
— A-а, ты хочешь знать, почему все это. Видишь ли, я думаю, ни ты, ни я особенно не виноваты. Просто мы никак не можем повзрослеть, Люсия. Это можно считать нашим достоинством, но за него надо дорого платить. Дети всегда сначала играют, а потом вцепляются друг другу в волосы. У нас что-то вроде того. Надо будет подумать над этим.
(-126)
21
Со всеми происходит одно и то же, двуликий Янус оказывается ненужной роскошью, и в действительности после сорока лет наше подлинное лицо — у нас на затылке, и мы в отчаянии оглядываемся назад. Обычно это называется общим местом. Ничего не поделаешь, приходится это признать, хотя от этих слов современные подростки, неотличимые друг от друга, презрительно кривят губы. В дыму какого-нибудь кафе на Сен-Жермен-де-Пре, среди парней и девиц в восхитительно засаленных трикотажных майках, читающих Даррела, Бовуар, Дюрас, Дуассо, Кено, Саррот,[216] я, офранцузившийся аргентинец (просто кошмар), уже не вписывающийся в молодежную моду с ее jazz cool, — в руках у меня устаревший «Вы что, сошли с ума?» Рене Кревеля,[217] в памяти по-прежнему сюрреализм, в печенках сидит знак Антонена Арто, на слуху «Ионизации» Эдгара Вареза,[218] а в глазах — Пикассо (хотя я, кажется, похож на Мондриана, так мне сказали).
— Tu sèmes des syllabes pour récolter des étoiles,[219] — смеется надо мной Кревель.
— Каждый делает, что может, — отвечаю я ему.
— А эта фемина, n’arrêtera-t-elle donc pas de secouer l’arbre à sanglots?[220]
— Ты несправедлив, — говорю я ему. — Она плачет едва слышно, она почти не жалуется.
Грустно дожить до того момента, когда, выпив смертельную дозу кофе и скучая так, что хочется наложить на себя руки, ты с легкостью можешь открыть книгу на странице 96 и вступить в диалог с автором, а вокруг за столиками говорят об Алжире, об Аденауэре, о Мижану Бардо,[221] о Ги Требере, о Сиднее Беше, о Мишеле Бюторе, о Набокове, о Дзао Вуки, о Луисоне Бобе,[222] а у меня на родине молодежь говорит… а о чем говорит молодежь у меня на родине? Я уже и не знаю, я так далеко, но они уже не говорят о Спилимберго, о Хусто Суаресе, о Тибуроне де Килья, о Бонини, о Легисамо.[223] И это естественно. Самое смешное в том, что естественность и действительность, неизвестно почему, вдруг становятся врагами, наступает момент, когда естественное звучит до ужаса фальшиво, когда действительность двадцати лет локтями отталкивает действительность сорока лет, и каждый локоть, словно бритва, разрывает твой пиджак в клочья. Я открываю новые миры, чуждый мне сегодняшний день, и каждый раз все более уверяюсь в том, что прийти к согласию — это худшая из иллюзий. К чему это стремление быть везде? К чему бороться со временем? Я тоже читаю Саррот и тоже смотрю на фотографию женатого Ги Требера, но это то, что происходит со мной, между тем если я что-то решаю, это решение как бы идет из прошлого. Я перебираю в библиотеке книги, беру с полки Кревеля, Роберто Арльта, Жарри. Меня захватывает сегодняшний день, но всегда как бы из вчера (я сказал, захватывает?), получается, что в моем возрасте прошлое превращается в настоящее, а настоящее в непонятное запутанное будущее, в котором парни в трикотажных майках и девушки с распущенными волосами пьют свой cafés-crème[224] и ласкают друг друга с ленивой грацией, присущей кошкам и растениям.
Необходимо бороться против этого.
Необходимо внедрить себя в настоящее.
Кажется, я похож на Мондриана, следовательно…
Но Мондриан рисовал свое настоящее сорок лет назад.
(На одной фотографии Мондриан похож на дирижера заурядного оркестра (на Хулио Каро,[225] вот на кого!), очки, прилизанные волосы и жесткий воротничок, вид до тошноты дешевый, танцует с портовой шлюшкой. Какое настоящее ощущал Мондриан, танцуя? Его полотна — и эта фотография… Между ними пропасть.)
Ты старик, Орасио. Квинт Гораций Оливейра, ты старик, Гораций Флакк. В общем, просто старый слабак Оливейра.[226]
— Il verse son vitriol entre les cuisses des faubourgs,[227] — насмехается Кревель.
Что же мне делать? Посреди этого великого беспорядка я по-прежнему считаю себя флюгером, и я уже достаточно накрутился, пора показывать, где север, где юг. Назвать кого-то флюгером — признак скудного воображения: это значит видеть, как он крутится, но не видеть зачем, не замечать, что острие стрелки стремится воткнуться в воздушную реку ветров и так и застыть, не меняя направления.
Есть реки метафизические. Да, дорогая, конечно есть. А ты будешь ухаживать за своим ребенком, порой плакать, а новый день, глядишь, уже наступил, и взошло желтое солнце, которое совсем не согревает. J’habite à Saint-Germain-des-Prés, et chaque soir j’ai rendez-vous avec Verlaine. / Ce gros pierrot n’a pas changé, et pour courir le guilledou…[228] За монетку в двадцать франков, брошенную в автомат, Лео Ферре споет тебе о своей любви, а не он, так Жильбер Беко или Ги Беар.[229] А у меня на родине: Хочешь увидеть жизнь в розовом свете, опусти монетку в двадцать сентаво… А может, ты включила радио (срок проката заканчивается в понедельник, надо будет тебя предупредить) и слушаешь камерную музыку, наверное Моцарта, а может, поставила пластинку, тихонько, чтобы не разбудить Рокамадура. Мне кажется, ты до конца не отдаешь себе отчета в том, как тяжело болен Рокамадур, какой он слабый и больной и что в больнице его лечили бы лучше. Но ничего этого я не могу тебе сказать, мы же договорились — все кончено, я отправляюсь бродить один и кручусь в поисках севера или юга, если это то, что я ищу. Если это то, что я ищу. Но если я ищу не это, что же тогда? Любовь моя, я тоскую по тебе, болит каждая клеточка, а когда дышу, болит горло, ведь я вдыхаю пустоту, и она заполняет мне грудь, потому что там уже нет тебя.
«Toi, — говорит Кревель, — toujours prêt à grimper les cinq étages des pythonisses faubouriennes, qui ouvrent grandes les portes du futur…»[230]
A почему бы и нет, почему не отправиться искать Магу, ведь столько раз бывало, как только я, миновав улицу Сены и выйдя под аркой на набережную Конти, едва начинал различать очертания предметов в пепельно-оливковом тумане, плывущем над водой, ее худенькая фигурка вырисовывалась на мосту Искусств, и мы бродили по улицам, вслед за собственной тенью, покупали картошку фри в предместье Сен-Дени и целовались у баркасов на набережной канала Сен-Мартен. С ней я все ощущал по-новому, я видел волшебные знаки наступающих сумерек, и, когда мы были вместе, все принимало иные очертания, и за оконными решетками Роанского Двора являлись блуждающие тени призрачного и пугающего королевства свидетелей и судей прошлого… Почему мне было не любить Магу и не обладать ею под дюжиной голубых небес за шестьсот франков каждое, на постели с застиранным ветхим покрывалом, если в этой головокружительной игре в классики, в этом беге в мешках я признаю и называю себя участником игры, чтобы наконец выйти из времени, как из обезьяньей клетки с табличкой, уйти от этих витрин «Omega Electron Girard Perregaud Vacheron & Constantin», указывающих часы и минуты наших священных, выхолащивающих все и вся обязанностей, туда, где падут последние оковы и в наслаждении, как в зеркале, отразится примирение, пусть это будет зеркалом для летящего жаворонка, но оно отразится, и наслаждение превратится в таинство двух существ, в танец вокруг сокровищницы, в преддверие сна, не разжимая губ, не разъединяясь, оставаясь в теплом естестве друг друга, со сплетенными, будто лианы, руками, которые не перестают ласкать бедро, шею…
— Tu t’accroches à des histoires, — говорит Кре-вель. — Tu étreins des mots…[231]
— Нет, старик, это лучше получается на том берегу океана, которого ты не знаешь. С некоторых пор я не завожу романов со словами. Я употребляю их, как ты и как все, но прежде, чем надеть на себя, долго чищу щеткой.
Кревель мне не поверил, и я его понимаю. Между Магой и мной выросли целые заросли слов, и как только нас разделили несколько часов и несколько кварталов, как моя боль называется болью, а моя любовь называется любовью… Я чувствую все меньше, а вспоминаю все больше, но что есть воспоминание, как не язык чувств, словарь лиц, дней и ароматов, которые возвращаются к нам в виде глаголов и прилагательных, а те по мере приближения становятся вещью в себе, настоящим в чистом виде, заставляют нас грустить или поучают, как церковный викарий, до тех пор, пока сам не станешь этим викарием, и тогда, обернувшись назад, мы широко открываем глаза, подлинные наши черты постепенно стираются, как на старых фотографиях, и каждый из нас вдруг становится Янусом. Все это я говорю Кревелю, но на самом деле я разговариваю с Магой, сейчас, когда мы далеко друг от друга. Я говорю с ней не теми словами, которые годятся лишь для того, чтобы их не понимали, сейчас, когда уже поздно, я подбираю другие, ее слова, обернутые в то, что ей понятно и что не имеет названия, — это аура или нерв двух тел, от напряжения которых словно вспыхивает искра и золотым дождем наполняет комнату или поэтическую строку. Но разве не так мы жили, с нежностью причиняя страдания друг другу? Нет, мы жили не так, она бы хотела так жить, но я вновь и вновь устанавливал тот фальшивый порядок вещей, который только прикрывает хаос, я только делал вид, что погружаюсь в глубину жизни, а на самом деле я лишь пробовал носком ноги ее бурные воды. Бывают реки метафизические, и она плавает в них, вон как та ласточка в вышине, которая завороженно кружит над колокольней, а потом то камнем падает вниз, то вдруг взмывает ввысь. Я описываю эти реки, называю их, я хочу их, а она в них плавает. Я ищу эти реки, нахожу, любуюсь ими с моста, а она в них плавает. И даже не знает об этом, совсем как та ласточка. Ей в отличие от меня и не нужно этого знать, она может жить и в беспорядке, и никакие представления о порядке ее не сдерживают. Для нее в этом беспорядке содержится таинственный порядок, богемное существование тела и души, которое настежь открывает перед ней врата истины. Ее жизнь не более беспорядочна, чем моя, погребенного под собственными предрассудками, которые я и презираю, и почитаю. Я, приговоренный к неизменно оправдательному приговору со стороны Маги, которая судит меня, сама того не зная. Ах, как бы мне хотелось войти в твой мир и хоть одним глазком взглянуть на все так, как это видишь ты!
Напрасно. Я приговорен быть оправданным. Возвращайся домой и читай Спинозу. Мага понятия не имеет, кто такой Спиноза. Мага читает бесконечные романы русских и немецких классиков, а также Переса Гальдоса[232] и тут же все забывает. Она и не подозревает, что это она обрекла меня на чтение Спинозы. Никем не услышанный судья, потому что судят меня твои руки, то, как ты бежишь по улице, как смотришь на меня и раздеваешь меня взглядом, и то, что ты такая глупенькая, такая незадачливая и такая растяпа и неумеха, что дальше некуда. Учитывая все то, что я знаю с высоты моего горького знания, с моим прогнившим мерилом университетского образования и моей просвещенности, учитывая все это, судья. Бросайся же вниз, ласточка, разрезав, словно острыми ножницами, небо над Сен-Жермен-де-Пре, и выклюй глаза тому, кто смотрит и не видит, я приговорен без права на апелляцию, близок голубой эшафот, куда поднимут меня руки женщины, ухаживающей за ребенком, близко наказание, близок лживый порядок, при котором я в одиночестве получу сколько угодно и самодостаточности, и самопознания, и самокопания. И ко всему этому само-знанию прибавится ненужная тоска по сожалению о чем-то, например о том, чтобы здесь, внутри, прошел дождь, чтобы наконец пролился дождь и запахло бы землей и чем-то живым, да, наконец чем-то живым.
(-79)
22
Мнения были такие, что старик поскользнулся, что машина «прочесала» на красный свет, что старик хотел покончить с собой, что в Париже с каждым днем ходить все опаснее, что уличное движение чудовищное, что старик не виноват, что у машины неисправны тормоза, что старик сам проявил безрассудство и неосторожность, что жизнь дорожает с каждым днем, что в Париже деваться некуда от иностранцев, которые не соблюдают порядок на проезжей части и отнимают работу у французов.
Старик, похоже, пострадал не слишком сильно. Он растерянно улыбался, приглаживая ладонью усы. Приехала машина «скорой помощи», старика положили на носилки, а водитель машины продолжал, размахивая руками, объяснять полицейским и зевакам, как было дело.
— Он живет на улице Мадам, в тридцать втором доме, — сказал молодой блондин, который обменялся несколькими словами с Оливейрой и другими любопытствующими. — Это писатель, я его знаю. Он книги пишет.
— Он получил бампером по ногам, но машина затормозила гораздо раньше.
— Его в грудь ударило, — сказал парень. — Старик поскользнулся на куче дерьма.
— Его ударило по ногам, — сказал Оливейра.
— Все зависит от точки зрения, — сказал господин очень маленького роста.
— В грудь ударило, — сказал парень. — Собственными глазами видел.
— В таком случае… Не будете ли вы так добры сообщить его семье?
— У него нет семьи, он писатель.
— А-а, — сказал Оливейра.
— У него только кот и куча книг. Я однажды был у него, консьержка просила пакет ему передать, и он пригласил меня войти. У него везде книги. Когда-нибудь это должно было случиться, писатели все рассеянные. Чтоб меня сбила машина…
Упали первые капли дождя, и хор свидетелей в одно мгновение рассеялся. Оливейра поднял воротник куртки, подставив нос холодному ветру, и пошел куда глаза глядят. Он был уверен, что старик пострадал не сильно, но никак не мог забыть выражение его лица, почти кроткое, даже смущенное, когда рыжий санитар укладывал его на носилки, дружески подбадривая чем-то вроде «Ничего, папаша, все обойдется!». Должно быть, он говорил это всем. «Полное взаимонепонимание, — подумал Оливейра. — Не потому, что все мы одиноки, это понятно, родной тетки тебе тут нет. Быть одиноким — значит определить свое существование внутри некой данности, в которой другие одиночества могут соприкасаться с тобой, если такое вообще возможно. Но стоит произойти любому конфликту, будь то несчастный случай на дороге или объявление войны, происходит резкое пересечение различных данностей, и человек, который является заметной фигурой в изучении санскрита, например, или квантовой физики, превращается в папашу для санитара, оказывающего ему первую помощь. Эдгар По на носилках, Верлен в руках безграмотных фельдшеров, Нерваль[233] и Арто перед психиатрами. Что мог знать о Китсе[234] итальянский лекарь, пускавший ему кровь и моривший его голодом? Если такие люди, как они, хранят молчание, что бывает чаще всего, то другие слепо торжествуют над ними, без всякого злого умысла, разумеется не сознавая того, что этот оперируемый, этот туберкулезник, этот пострадавший, который лежит на кровати раздетый, одинок вдвойне, потому что его окружают существа, словно отделенные от него стеклом, словно живущие в другом времени…»
Он вошел в какой-то подъезд и закурил сигарету. Вечерело. Девушки стайками выходили из магазинов, они смеялись, громко переговаривались, толкались, чтобы хоть на четверть часа дать выход молодому задору, прежде чем углубиться в бифштекс и еженедельный журнал. Оливейра пошел дальше. Не надо драматизировать, наиболее простая объективная реальность состояла в том, чтобы открыться этому абсурду, который есть Париж с его обычной жизнью. Поскольку он думал о поэтах, естественно было вспомнить всех тех, кто разоблачал одиночество человека среди людей, смехотворную комедию приветствий, всех этих «извините», когда на лестнице пропускают друг друга вперед или в метро уступают место дамам, и тем более братание в политике или в спорте. Только животно-сексуальный оптимизм мог скрывать от некоторых их изолированность — зло, которое мучило Джона Донна.[235] Контакты и совместные действия с себе подобными — на работе, в постели, на теннисном корте — это контакты ветвей и листьев, которые переплетаются от дерева к дереву и ласково касаются друг друга, в то время как их надменные стволы тянут кверху свои несовпадающие параллельные прямые. «В глубине мы могли бы быть такими же, как на поверхности, — подумал Оливейра, — но тогда надо жить по-другому. А что это значит, жить по-другому? Возможно, жить самым абсурдным образом, как раз для того, чтобы покончить с абсурдом, броситься в себя самого с такой силой, чтобы этот скачок привел тебя в чьи-то объятия. Что ж, возможно, любовь, то есть otherness,[236] длится столько же, сколько длится женщина, и только в том, что касается именно этой женщины. На самом деле нет никакого otherness, всего лишь приятное togetherness.[237] Впрочем, это уже кое-что…» Любовь — обряд основополагающий, дающий право быть. И тут ему пришло в голову то, что, наверное, должно было прийти с самого начала: если не обладаешь собой, не будет и обладания чем-то от тебя отличным, а кто действительно обладает собой? Кто может обрести себя, вернувшись из такого абсолютного одиночества, о котором самому себе и то не расскажешь, когда приходится запихивать себя в кино, или в бордель, или в гости к друзьям, или в какую-нибудь захватывающую профессию, или в брак, — по крайней мере будешь один-среди-прочих? И вот парадокс: вершина одиночества ведет к вершине заурядности, к тому, что общество другого — лишь великая иллюзия, человек всегда одинок в этом зале, где есть только отражения в зеркалах и отголоски. Но такие, как он, да и другие тоже, которые принимали себя (или отказывались от себя, стоило им узнать себя поближе), впадали в еще худший парадокс — они подходили к самому краю этой проникнутости другим, но не могли перейти эту грань. Подлинное взаимопроникновение основано на тонком взаимодействии, на волшебном соединении с миром, оно не может осуществляться только с одной стороны, рука, протянутая кому-то навстречу, должна встретить другую руку с той стороны, руку другого.
(-62)
23
Он остановился на углу, потому что устал от этих размышлений, постоянно перебиваемых одной и той же мыслью (он то и дело, неизвестно почему, думал о том, что пострадавший старик лежит сейчас на больничной койке, в окружении врачей, практикантов и медсестер, которые с дежурной любезностью спрашивают его имя, возраст и профессию, говорят ему, что ничего страшного, и, наверное, уже оказали ему необходимую помощь, сделав укол и наложив повязку), и решил осмотреться вокруг себя, поскольку любой перекресток любого города мог предстать для него в виде прекрасной иллюстрации к тому, о чем он думал, почти без усилий с его стороны. В кафе, укрывшись от холода (пришлось-таки войти и заказать стакан вина), несколько рабочих-каменщиков болтали у стойки с хозяином. Двое студентов за столиком что-то читали и делали выписки, и Оливейра видел, как они то смотрели на рабочих, то опять переводили взгляд на книги и тетради. И те, и другие смотрели друг на друга, будто каждый сидел в своей стеклянной коробке: посмотрят, уйдут в свое, снова посмотрят — и это все. В окне второго этажа, над крышей кафе, какая-то сеньора, видимо, что-то шила или кроила. Ее высокая прическа ритмично двигалась. Оливейра представил, о чем она сейчас думает, работая ножницами: о детях, которые вот-вот придут из школы, о муже, который заканчивает рабочий день в какой-нибудь конторе или в банке. Рабочие-каменщики, студенты, сеньора в окне, а теперь еще и клошар, который появился из-за угла переулка с бутылкой красного вина, высовывавшейся из кармана; он толкал перед собой детскую коляску, набитую старыми газетами, консервными банками, ветхим и грязным старьем, — видна была кукла с оторванной головой и сверток, из которого торчал рыбий хвост. Рабочие-каменщики, студенты, сеньора в окне, клошар, а в киоске, это уж просто для приговоренных к позорному столбу, — LOTERIE NATIONALE,[238] — сидит старуха в синих митенках и сером чепце или что-то вроде этого, из-под которого выбиваются пряди волос, TIRAGE MERCREDI,[239] сидит в безнадежном ожидании клиентов, грея ноги на угольной жаровне, запертая в этом вертикальном гробу, почти неподвижная и полузамерзшая, предлагает удачу и думает бог ее знает о чем, маленькие комочки мыслей, пережевывание одного и того же, как у всех стариков, — школьная учительница, которая угостила ее конфетами, муж, погибший на Сомме,[240] сын-коммивояжер, по вечерам окно мансарды, воды нет, суп на три дня, boeuf bourguignon,[241] которое дешевле бифштекса, TIRAGE MERCREDI. Рабочие-каменщики, студенты, клошар, продавщица лотерейных билетов, каждая группа и каждый из группы — в своей стеклянной коробке, но вот какой-то старик попадает под машину, и тут же все бегут к месту происшествия, живо обмениваются впечатлениями, критическими замечаниями, мнениями совпадающими и несовпадающими, до тех пор пока снова не начнется дождь и каменщики не вернутся к стойке бара, а студенты за столик, Иксы к Иксам, Игреки к Игрекам.
«Разорвать эту бесконечную бессмыслицу можно, только живя в бессмыслице, — мысленно повторял Оливейра. — Однако, че, я совершенно промок, надо бы поискать пристанище». Он увидел афиши Географического общества и укрылся от дождя под порталом здания. Лекция об Австралии, неведомом континенте. Встреча выпускников колледжа «Cristo de Montfavet».[242] Фортепианный концерт мадам Берт Трепа. Открыта запись на курс лекций о метеоритах. Станьте дзюдоистом за пять месяцев. Лекция о жилищном строительстве в Лионе. Фортепианный концерт начинался с минуты на минуту, и билеты стоили дешево. Оливейра взглянул на небо, пожал плечами и вошел. Он было подумал, не пойти ли к Рональду или в мастерскую к Этьену, но это лучше оставить для ночлега. Непонятно почему, ему показалось забавным, что пианистку звали Берт Трепа. Забавным было также и то, что он нашел убежище в концертном зале, чтобы хоть ненадолго отдохнуть от себя самого, — ироническая иллюстрация к тому, что он пережевывал, пока бродил по улицам. «Ничего-то мы не значим, че», — подумал он, протягивая сто двадцать франков к самому лицу старухи в окошечке кассы. Она дала ему билет в десятый ряд только в силу старческой зловредности, потому что концерт должен был вот-вот начаться, а в зале не было никого, кроме нескольких лысых стариков, нескольких бородатых и нескольких лысых и бородатых одновременно, по виду похожих на соседей или членов семьи, двух женщин сорока — сорока пяти лет, в поношенных пальто и с зонтиками, с которых ручьями стекала вода, и еще нескольких представителей молодежи, в основном парочек, которые громко спорили, толкались, шуршали фантиками от конфет и скрипели этими ужасными венскими стульями. Всего человек двадцать. Пахло дождливым вечером, большой зал промерз и отсырел, в глубине, за занавесом, были слышны приглушенные голоса. Кто-то из стариков закурил трубку, и Оливейра поспешил достать «Голуаз». Чувствовал он себя довольно скверно. В одном ботинке хлюпала вода, от запаха сырости и мокрой одежды его подташнивало. Он прилежно докурил сигарету до самого фильтра и погасил ее. В фойе нерешительно прозвенел звонок, и кто-то из молодых людей громко захлопал в ладоши. Пожилая капельдинерша в съехавшем на затылок берете и с макияжем, который она наверняка не смывала на ночь, задернула занавес у входа. Только тогда Оливейра вспомнил, что ему дали программку. На плохо отпечатанном листке бумаги с некоторым трудом можно было разобрать, что мадам Трепа, золотая медаль, исполнит «Три прерванных движения», автор Роз Боб (исполняется впервые), «Павану[243] в честь генерала Леклерка[244]», автор Аликс Аликс[245] (исполняется впервые для гражданских лиц), и «Синтез: Делиб — Сен-Санс», сочинения Делиба, Сен-Санса и Берт Трепа.
«Мать твою, — подумал Оливейра. — Вместе с этой долбаной программой».
У рояля появился непонятно откуда взявшийся господин с отвислым двойным подбородком и белой как лунь шевелюрой. Он был одет в черную пару и розовыми пальцами поглаживал цепочку, украшавшую затейливого фасона жилет. Оливейре показалось, что жилет был довольно засаленный. Раздались жидкие хлопки, инициированные сеньоритой в лиловом плаще и очках в золотой оправе. Модулируя голосом, необыкновенно похожим на голос попугая, старик с двойным подбородком предварил концерт вступительным словом, благодаря чему публике стало известно, что Роз Боб — бывшая ученица мадам Берт Трепа, что «Павана» Аликс Аликса была создана бравым офицером действующей армии, который скрывает свое имя под этим скромным псевдонимом, и что в обоих упомянутых произведениях используются в сжатой форме наиболее современные приемы музыкального письма. Что же касается «Синтеза: Делиб — Сен-Санс» (тут старик в экстазе закатил глаза), то это сочинение представляет собой квинтэссенцию современной музыки, одну из самых глубоких новаций автора, то есть мадам Трепа, которая назвала его «пророческий синкретизм». Эта характеристика справедлива в той мере, в какой музыкальный гений Делиба и Сен-Санса тяготеет к космосу, к интерфузии и интерфонии, парализованным чрезмерным индивидуализмом Запада и обреченным так никогда и не состояться в произведении высшего синтеза, если бы не гениальная интуиция мадам Трепа. В самом деле, благодаря своей сверхчувствительности она сумела уловить такие тонкости, которые ускользают от большинства слушателей, и, таким образом, взяла на себя благородную, хотя и тяжелую миссию стать медиумическим мостом, который может соединить двух великих сынов Франции. Будет не лишним заметить, что мадам Берт Трепа, помимо своей деятельности на посту преподавателя музыки, вскоре отметит серебряную свадьбу с занятиями композицией. Оратор не берет на себя смелость в кратком вступлении к концерту, которого публика, учитывая все вышесказанное, ждет с живейшим нетерпением, более глубоко анализировать музыкальное творчество мадам Трепа, как оно, несомненно, того заслуживает. Тем не менее, взяв на вооружение данную ментальную пентаграмму, те, кто будет слушать произведения Роз Боб и мадам Трепа впервые, смогут прийти к выводу, что их эстетика заключается в антиструктуралистских конструкциях, иначе говоря, это автономные звуковые ячейки, плод чистого вдохновения, связанные общим замыслом произведения, однако совершенно свободные от классических форм как додекакофонических, так и атональных (последние два термина он подчеркнул особо). Так, например, «Три прерванных движения» Роз Боб, любимой ученицы мадам Трепа, созданы под впечатлением, которое произвел на душу артистки звук громко захлопнувшихся дверей. И те тридцать два аккорда, из которых состоит первое движение, есть не что иное, как отражение этого звука, перенесенное в плоскость эстетики; оратор не претендует на открытие секрета, если поведает столь образованной аудитории, что техника композиции «Синтеза: Делиб — Сен-Санс» исходит из самых первоосновных, эзотерических источников творчества. Он никогда не забудет, как был удостоен высокой чести присутствовать во время одной из фаз синтеза, помогая мадам Трепа работать с рабдоманическим маятником над партитурами обоих великих мастеров с целью выявить те пассажи, влияние которых на маятник подтверждало потрясающую интуицию, присущую этой артистке. И хотя можно было бы еще много чего добавить к сказанному, оратор считает своим долгом удалиться, как только он поприветствует в лице мадам Трепа один из маяков французской духовности и примеров высокой гениальности, не понятой широкой публикой.
Двойной подбородок сильно заколыхался, и старик, задыхаясь от эмоций и кашля, скрылся среди софитов. Двадцать пар рук издали жидкие аплодисменты, зажглось несколько спичек, Оливейра поудобнее вытянулся в кресле и почувствовал себя лучше. Должно быть, старик, сбитый машиной, тоже чувствует себя лучше на больничной койке, погрузившись в дремоту, всегда наступавшую после шока, блаженное междуцарствие, когда перестаешь распоряжаться собой и кровать становится твоим кораблем, неоплатным отпуском, чем-то, что нарушает рутину повседневной жизни. «Я почти что готов навестить его на днях, — подумал Оливейра. — Но тогда я, наверное, вторгнусь на его необитаемый остров,[246] стану следами на песке. Че, ты становишься таким деликатным».
Аплодисменты заставили его открыть глаза и следить за тем, как трудно давались мадам Трепа поклоны, которыми она благодарила публику. Прежде чем он посмотрел на ее лицо, его парализовало зрелище ее ботинок — это были абсолютно мужские ботинки, которые никакая юбка не могла скрыть. С квадратными носами, без каблуков, правда, со шнурками от женской обуви, но это ничего не меняло. Над ними виднелось нечто плотное и широкое, что-то громоздкое, втиснутое в негнущийся корсет. Но Берт Трепа не была толстой, ее скорее можно было назвать несгибаемой. Видимо, у нее был ишиас или люмбаго, поскольку она могла двигаться только всем телом сразу, сейчас она стояла лицом к публике, с трудом отвечая на приветствия, потом повернулась боком, протиснулась между табуретом и роялем и, сложившись точно под прямым углом, водрузила себя на табурет. Оттуда артистка, резко повернув голову, еще раз кивнула залу, хотя уже никто не аплодировал. «Как будто сверху ее кто-то дергает за ниточки», — подумал Оливейра. Ему нравились марионетки и автоматы, и он ждал каких угодно чудес от пророческого синкретизма. Берт Трепа еще раз взглянула в зал, на ее круглом, будто обсыпанном мукой лице, казалось, отпечатались все страдания мира, а губы, ярко накрашенные киноварью, растянулись, приняв форму египетской ладьи. Она снова повернулась в профиль, маленький нос, похожий на клюв попугая, обратился на клавиатуру, а руки, лежавшие на клавишах от до до си, были похожи на две сумочки из потертой замши. Раздались начальные аккорды из тех тридцати двух, которые составляли первое прерванное движение. Между первым и вторым аккордом прошло пять секунд, между вторым и третьим — пятнадцать. Дойдя до 15-го аккорда, Роз Боб назначила паузу в двадцать пять секунд. Оливейра, который в первый момент оценил с толком примененную Роз Боб веберновскую трактовку пауз,[247] заметил, что повторение его быстро утомило. Между аккордами 7-м и 8-м раздались покашливания, между 12-м и 13-м кто-то энергично чиркнул спичкой, между 14-м и 15-м ясно послышалось восклицание «Ну и дерьмо!», высказанное юной блондинкой. К 20-му аккорду одна из дам в самом потертом пальто, типичная старая дева, энергично взялась за зонтик и уже открыла рот, собираясь что-то сказать, но тут 21-й аккорд всемилостиво пригвоздил ее к месту. Оливейра развлекался вовсю, глядя на Берт Трепа, он сделал вывод, что пианистка следит за публикой, как говорится, краем глаза. И этим краем серо-голубого глаза над едва заметным клювообразным носом несчастная пианистка, как догадался Оливейра, пытается произвести подсчет присутствующих согласно купленным билетам. В момент 23-го аккорда сеньор с круглой лысиной возмущенно поднялся с места, после чего, сопя и фыркая, вышел из зала, четко печатая шаг во время паузы в восемь секунд, заготовленной Роз Боб. Начиная с 24-го аккорда паузы стали уменьшаться, так что между 28-м и 32-м аккордом установился ритм похоронного марша, однако общая идея при этом не пострадала. Берт Трепа сняла ботинки с педалей, положила левую руку на колено и принялась за второе движение. Второе движение длилось всего лишь четыре такта, в каждом из которых было три ноты одинаковой длительности. Третье движение состояло главным образом из хроматической гаммы, нисходящей от верхних регистров, после чего операция повторялась в обратном порядке, причем все это перемежалось трелями и другими украшениями. В самый неожиданный момент, когда никто ничего такого не ожидал, пианистка перестала играть и резко выпрямилась, кивнув залу почти вызывающе, но Оливейре показалось, что он различает в этом взгляде неуверенность, даже страх. Какая-то пара бешено зааплодировала, Оливейра в свою очередь тоже стал аплодировать, сам не зная почему (а когда понял, то разозлился и перестал). Берт Трепа почти в тот же миг обрела положение в профиль и отстраненно провела пальцем по клавишам в ожидании тишины. Она приступила к исполнению «Паваны в честь генерала Лек-лерка».
В последующие две-три минуты Оливейра с некоторым трудом переключал свое внимание с невероятной мешанины, которой Берт Трепа оголтело вспарывала воздух, на передвижения в зале — юные и пожилые, кто потихоньку, кто решительно, удирали с концерта. В «Паване», представлявшей собой смесь Листа и Рахманинова, без устали повторялись две или три темы, которые вскоре затерялись среди вариаций, бравурных пассажей (весьма неважно исполненных, со множеством заштопанных дырок), кусков, напоминающих своей торжественностью катафалк на лафете и прерываемых оглушительными пиротехническими эффектами, которым таинственный Аликс Аликс отдавался с особенным наслаждением. Пару раз Оливейре показалось, что высокая прическа Берт Трепа а-ля Саламбо[248] вот-вот развалится, но кто знает, сколько шпилек поддерживали ее во всеоружии среди шума и грохота «Паваны». Настала очередь оргии из арпеджио, предвещавшей финал, прозвучали все три темы (одна из них была содрана из «Дон Жуана» Штрауса[249]), и Берт Трепа разразилась ливнем аккордов, один громче другого, которые забивало истерическое напоминание первой темы, после чего прозвучали два аккорда в самом низком регистре, причем в последнем была фальшивая нота в правой руке, но такое может случиться с каждым, и Оливейра, который развлекался от души, горячо захлопал в ладоши.
Пианистка выпрямилась несколько странным движением, будто распрямилась пружина, и поклонилась публике. Поскольку глазами она пересчитывала присутствующих, она не могла не заметить, что осталось не более восьми-девяти человек. Берт Трепа с достоинством ушла в левый выход, и капельдинерша, задернув занавеску, предложила публике леденцы.
С одной стороны, пора было уходить, но что-то в атмосфере этого концерта притягивало Оливейру. В конце концов, бедняжка Трепа пыталась представить эти произведения впервые, одно это уже само по себе является достоинством в мире великих полонезов, Лунной сонаты и Танца огня.[250] Было что-то трогательное в этом лице тряпичной куклы, в этой велюровой черепахе, в этой необъятной дуре, которая оказалась в затхлом мире щербатых чайников, старух, еще помнивших концерты Рислера,[251] вечеров музыки и поэзии в залах с выцветшими обоями и месячным бюджетом в сорок тысяч франков и обращенной к друзьям тайной мольбе прийти в конце месяца туда, где царит культ на-сто-я-ще-го искусства в стиле Академии Раймонда Дункана,[252] и нетрудно было представить себе, как выглядят Аликс Аликс и Роз Боб, как они подсчитывали скудные средства на аренду зала для концерта, как кто-то из учеников по доброй воле отпечатал программку, как составлялись списки приглашенных, которые в результате не пришли, и это отчаяние среди софитов при виде пустого зала — ведь все равно нужно выходить на сцену, золотая медаль, — и все равно нужно выходить на сцену. Все это было похоже на главу из Селина,[253] и Оливейра понял, что не способен думать больше ни о чем, кроме как об этой атмосфере убогой и бесполезной борьбы за выживание артистической деятельности, рассчитанной на кого-то, такого же убогого и бесполезного. «И конечно, именно меня угораздило ткнуться в этот траченный молью веер, — со злостью подумал Оливейра. — Сначала старик попал под машину, теперь эта Трепа. Уже не говоря о паскудной погоде и о моем состоянии. Особенно о моем состоянии».
В зале оставалось четыре человека, и он решил, что лучше, пожалуй, пересесть в первый ряд, чтобы как-то поддержать исполнительницу. Его самого смешило подобное проявление солидарности, но он все равно пересел вперед и, закурив сигарету, ждал начала. Так получилось, что какая-то дама решила покинуть зал как раз в тот момент, когда на сцене снова появилась Берт Трепа, и та, прежде чем с огромным трудом приветствовать поклоном почти совсем опустевший партер, пригвоздила ее взглядом. Оливейра подумал, что дама, которая вознамерилась уйти, заслуживает хорошего пинка под зад. И вдруг он понял, что все его реакции исходят оттого, что Берт Трепа ему симпатична, даже несмотря на «Павану» и на Роз Боб. «Давно со мной такого не было, — подумал он. — Видимо, с годами я становлюсь мягче. Столько всяких метафизических рек — и вдруг нападает желание то навестить старика в больнице, то аплодировать этой ненормальной в корсете. Странно. Должно быть, это у меня от холода, ботинки-то промокли».
«Синтез: Делиб — Сен-Санс» длился уже минуты три или около того, когда пара, составлявшая основу оставшейся публики, встала и демонстративно вышла. Оливейре снова показалось, что Берт Трепа украдкой взглянула в партер, но, кроме того, впечатление было такое, что ей сводит пальцы, перегнувшись над роялем, она играла с огромным трудом, используя любую паузу, чтобы искоса взглянуть в партер, где Оливейра и еще один добросердечный сеньор слушали, всем своим видом изображая углубленное внимание. Пророческий синкретизм не замедлил открыть свой секрет, даже для такого невежды, как Оливейра; за первыми четырьмя тактами из «Прялки Омфалы»[254] последовали другие четыре такта из «Девушек Кадиса»,[255] затем левая рука изобразила «Раскрылось сердце тебе навстречу»,[256] а правая в это время в спазматическом ритме добавила сюда же тему колокольчиков из «Лакме»,[257] потом обе прошлись по «Пляске смерти» и «Коппелии»,[258] что же касается других тем, которые в программке были обозначены как «Гимн Виктору Гюго», «Жан де Нивель» и «На берегах Нила»,[259] то они совершенно очевидно сочетались с другими, более известными, и, так как пророческий смысл всего этого невозможно было представить себе более ясно, добросердечный господин начал тихонечко хихикать, затыкая себе рот перчаткой, и Оливейра вынужден был признать, что тот имеет на это право и нельзя требовать от него, чтобы он замолчал, и Берт Трепа, видимо, тоже это подозревала, потому что ошибалась все чаще, казалось, пальцы у нее парализованы, она продвигалась все дальше, встряхивая руками и выставляя локти вперед, словно курица, которая устраивается в гнезде, «И сердце ликует…», потом снова «Куда идет индуска молодая?».[260] Пара синкретических аккордов, куцее арпеджио, «Девушки Кадиса», тра-ля-ля, похожее на икоту, несколько нот подряд в стиле (вот неожиданность) Пьера Булеза,[261] и у добросердечного с виду сеньора вырвалось что-то вроде мычания, после чего он бросился к выходу, зажимая себе рот перчатками, в тот самый момент, когда Берт Трепа опустила руки, уставясь на клавиатуру, и пошла долгая секунда, секунда без конца, момент безнадежной пустоты между Оливейрой и Берт Трепа, которые остались в зале одни.
— Браво, — сказал Оливейра, понимая, что аплодисменты были бы сейчас просто неприличны. — Браво, мадам.
Не поднимаясь с места, Берт Трепа чуть повернулась вместе с табуретом и ткнулась локтем в ля первой октавы. Они смотрели друг на друга. Оливейра встал и подошел к краю сцены.
— Очень интересно, — сказал он. — Поверьте мне, мадам, я прослушал ваш концерт с подлинным интересом.
Вот сукин сын.
Берт Трепа оглядела пустой зал. Одно веко у нее дрожало. Казалось, она о чем-то спрашивает, чего-то ждет. Оливейра чувствовал, надо сказать что-то еще.
— Такой артистке, как вам, должны быть прекрасно известны непонимание и снобизм публики. Я знаю, в глубине души вы играли для самой себя.
— Для самой себя, — повторила Берт Трепа голосом попугая, поразительно похожим на голос господина, который ее представлял.
— Если нет, то для кого? — сказал Оливейра, вспрыгивая на сцену так ловко, будто все это происходило во сне. — Настоящий артист говорит только со звездами, как сказал Ницше.
— Кто вы, месье? — вдруг вскинулась Берт Трепа.
— О, тот, кто интересуется различными проявлениями… — Он мог без конца нанизывать слова одно за другим, его обычное занятие. Надо было еще немного постоять тут, немного побыть с ней. Он сам не знал зачем.
Берт Трепа слушала по-прежнему с несколько отсутствующим видом. С трудом выпрямившись, она оглядела зал, потом софиты.
— Да, — сказала она. — Уже поздно, мне пора домой. — Она сказала это самой себе, и слова прозвучали как наказание или что-то вроде того.
— Не откажите в удовольствии проводить вас немного, — попросил Оливейра с учтивым поклоном. — Конечно, если вас не ждет кто-нибудь в гардеробе или У входа.
— Никто не ждет. Валантэн ушел сразу же после вступительного слова. А как вам показалось вступление?
— Любопытно, — сказал Оливейра, чем дальше, тем больше убеждаясь, что все это ему снится и что сон ему нравится.
— Валантэн мог бы сделать его гораздо лучше, — сказала Берт Трепа. — И мне кажется, с его стороны было отвратительно… да, отвратительно… уйти и оставить меня, как ненужный хлам.
— Он говорил о вас и вашем творчестве с таким восхищением.
— За пятьсот франков он способен говорить с восхищением даже о дохлой рыбе. Пятьсот франков! — повторила Берт Трепа, погружаясь в раздумья.
«Я похож на идиота», — подумал Оливейра. Если сейчас попрощаться и вернуться в партер, она, может, и не вспомнит о том, что он заговорил с ней. Но артистка уже снова смотрела на него, и Оливейра увидел, что она плачет.
— Валантэн — негодяй. Да все они… было больше двухсот человек, вы же видели, больше двухсот. Для первого исполнения это необыкновенно много, вам не кажется? И все заплатили за билет, вы же не думаете, что мы раздавали билеты бесплатно. Больше двухсот, а остались только вы, Валантэн ушел, я…
— Бывает, что отсутствие зрителей и есть подлинный триумф, — произнес Оливейра нечто несусветное.
— Но почему они ушли? Вы видели, как они уходили? Я же говорю, больше двухсот, причем уважаемые люди, я уверена, что видела мадам Рош, доктора Лакура, Монтелье, преподавателя, скрипача, обладателя последнего Гран-при… Думаю, им не слишком понравилась «Павана» и потому они ушли, вам не кажется? Поэтому они и ушли еще до моего «Синтеза», так и есть, я сама видела.
— Разумеется, — сказал Оливейра. — Должен сказать, «Павана»…
— Никакая она не павана, — сказала Берт Трепа. — Сплошное дерьмо. Во всем виноват Валантэн, меня предупреждали, что Валантэн спит с Аликс Аликсом. Но почему, молодой человек, я должна расплачиваться за какого-то педераста? У меня золотая медаль, я могу показать вам, что обо мне писали, какой триумф был у меня в Гренобле, в Пюи…[262]
Слезы стекали ей за воротник и таяли в мятых кружевах и в складках пепельно-серой кожи. Она взяла Оливейру под руку, вся сотрясаясь от рыданий. Дело шло к истерике.
— Почему бы нам не взять ваше пальто и не пойти куда-нибудь? — торопливо произнес Оливейра. — На свежем воздухе вам станет лучше, мы могли бы выпить чего-нибудь, для меня было бы истинным…
— Выпить чего-нибудь, — повторила Берт Трепа. — Золотая медаль.
— Что ж, как хотите, — не совсем впопад сказал Оливейра. Он сделал движение, чтобы освободиться, но артистка сжала его руку и придвинулась ближе. На Оливейру пахнуло запахом концерта с примесью нафталина и ладана (а также мочи и дешевого лосьона). «Сначала Рокамадур, теперь Берт Трепа, поверить невозможно». «Золотая медаль», — повторяла пианистка, глотая слезы. У нее вдруг вырвалось бурное рыдание, и она затряслась всем телом, будто взяла аккорд прямо в воздухе. «Как всегда…» — пронеслось в голове у Оливейры, который понапрасну пытался уйти от собственных ощущений, бросившись в какую-нибудь реку, естественно метафизическую. Не противясь, Берт Трепа позволила ему отвести себя к софитам, откуда на них смотрела капельдинерша, с фонариком в одной руке и шляпой с перьями в другой.
— Вам нехорошо, мадам?
— Это от волнения, — сказал Оливейра. — Сейчас все пройдет. Где ваше пальто?
Среди нагромождения каких-то досок, хромоногих столов, между арфой и вешалкой стоял стул, с которого свисал зеленый плащ. Оливейра помог одеться Берт Трепа, которая стояла опустив голову, но уже не плакала. Через маленькую дверь по темному коридору они вышли на ночной бульвар. Моросил дождь.
— Не так просто будет найти такси, — сказал Оливейра, у которого оставалось, самое большее, франков триста. — Вы далеко живете?
— Нет, рядом с Пантеоном, вообще-то я бы предпочла пешком.
— Да, так будет лучше.
Берт Трепа выступала медленно, поводя головой из стороны в сторону. Капюшон делал ее похожей не то на партизана, не то на короля Убю.[263] Оливейра глубже закутался в куртку и поднял воротник. Было свежо, его начинал мучить голод.
— Вы так любезны, — сказала артистка. — Вам не стоило беспокоиться. Как вам мой «Синтез»?
— Сеньора, я не более чем любитель. Для меня музыка, как бы это сказать…
— Вам не понравилось, — сказала Берт Трепа.
— При первом исполнении…
— Мы с Валантэном работали над ним несколько месяцев. Дни и ночи искали, как соединить этих двух гениев.
— Но вы не можете не признать, что Делиб…
— Гений, — повторила Берт Трепа. — Эрик Сати[264] однажды подтвердил это в моем присутствии. Сколько бы доктор Лакур ни говорил мне, что Сати сказал это… просто так, чтобы что-то сказать. Вы наверняка знаете, каков был этот старик… Но я умею читать мысли мужчин, юноша, и знаю, что Сати был в этом убежден, да, убежден. Вы из какой страны, юноша?
— Из Аргентины, мадам, и я уже далеко не юноша, если уж на то пошло.
— Ах, из Аргентины. Пампа[265] и все такое… А как вы думаете, там могут заинтересоваться моими произведениями?
— Я в этом уверен, мадам.
— Так, может, вы устроите мне встречу с вашим послом? Если уж Тибо[266] ездил в Аргентину и в Монтевидео, почему я не могу, ведь я исполняю собственные сочинения? Вот на этом сделайте упор, это главное: собственные сочинения. И почти всегда первое исполнение.
— Вы много сочиняете? — спросил Оливейра, чувствуя, что еще немного, и его стошнит.
— Сейчас я работаю над восемьдесят третьим опусом… нет, подождите, какой же… Только сейчас вспомнила, что мне надо было перед уходом поговорить с мадам Ноле… Речь идет, конечно же, о денежных вопросах. Двести человек, это значит… — Она шепотом углубилась в подсчеты, и Оливейра подумал, не будет ли милосерднее сказать ей всю правду, как она есть, но ведь она ее знала, наверняка знала.
— Это скандал, — сказала Берт Трепа. — Два года назад я играла в этом же зале, обещал прийти Пуленк…[267] Вы представляете себе? Сам Пуленк. У меня в тот вечер было такое вдохновение, так жаль, что какое-то срочное дело в последний момент помешало ему… но вы же знаете этих модных музыкантов… А в этот раз эта Ноле собрала мне вполовину меньше, — раздраженно добавила она. — Именно вполовину. Значит, если двести человек умножить…
— Мадам, — мягко сказал Оливейра, взяв ее за локоть, чтобы повернуть на улицу Сены, — в зале было почти совсем темно, возможно, вы ошиблись в подсчете.
— Да нет же, — сказала Берт Трепа. — Я уверена, что не ошибаюсь, но вы сбили меня со счета. Подождите, дайте сосчитать…
Она снова старательно зашептала, шевеля губами и считая на пальцах, совершенно не обращая внимания на то, куда ее вел Оливейра, и вообще на его присутствие. Все, что она говорила в полный голос, было обращено к ней самой, в Париже полно людей, которые разговаривают сами с собой, Оливейра тоже не был исключением, исключительным было лишь то, что он — полнейший кретин — шел рядом со старухой, провожая домой эту полинявшую куклу, этот несчастный надутый шар, — короче, глупость в сочетании с безумием танцевали в тот вечер настоящую павану. «Она отвратительна, так бы и столкнул ее с лестницы и еще двинул бы ботинком в рожу, раздавил бы, как таракана, пусть разлетится на куски, как рояль, упавший с десятого этажа. Настоящая доброта в том, чтобы вытащить ее из этой среды, не дать ей и дальше страдать, как собаке, от своих иллюзий, в которые она сама не верит и которые сочиняет, чтобы не замечать промокших ботинок и своего пустого дома, куда иногда заходит старик с порочными склонностями и седой головой. Она мне отвратительна, я сматываюсь на ближайшем углу, она и не заметит. Ну и день сегодня, мамочки мои, ну и день».
Если быстро, будто спасаясь от своры собак, свернуть на улицу Лобино, старуха и сама найдет дорогу домой. Оливейра оглянулся и, дождавшись подходящего момента, попытался незаметно освободить свой локоть, как если бы он не замечал, что на руке у него повисло нечто. Однако то была рука Берт Трепа, и она решительно сжала его локоть, навалившись на него всем своим весом, и Оливейра хоть и смотрел в сторону улицы Лобино, в то же время переводил артистку через дорогу, идя вместе с ней по улице Турнон.
— Он наверняка растопил камин, — сказала Берт Трепа. — Сегодня не так уж холодно, но огонь — друг артиста, вам не кажется? Вы ведь подниметесь выпить рюмочку с Валантэном и со мной?
— О нет, сеньора, — сказал Оливейра. — Никоим образом, для меня и так большая честь проводить вас домой. И, кроме того…
— Не будьте таким скромником, юноша. А вы ведь еще юноша, не так ли? Это заметно по вашей руке, например… — Ее пальцы чуть вцепились в его куртку. — Я выгляжу старше своих лет, вы понимаете, жизнь артиста…
— Ну что вы, — сказал Оливейра. — Что касается меня, мне уже за сорок, так что вы мне льстите.
Слова вылетали сами собой, что-то ведь надо было говорить, положение было критическим. Повиснув у него на руке, Берт Трепа вспомнила прежние времена, то и дело прерываясь на середине фразы, видимо продолжая производить подсчеты в уме. Порой она тайком ковыряла в носу, кося глазом на Оливейру; чтобы засунуть палец в нос, она быстро снимала перчатку, делая вид, что у нее чешется ладонь, почесывала ее другой рукой (после того, как деликатно освобождала от нее руку Оливейры) и, подняв палец профессиональным движением пианистки, секунду ковыряла в носу. Оливейра делал вид, что смотрит в другую сторону, и когда он поворачивал голову, Берт Трепа уже снова висела у него на руке, а ее руки были в перчатках. Так они шли под дождем, разговаривая о разных вещах. Идя вдоль Люксембургского сада, они говорили о том, что жизнь в Париже с каждым днем все труднее, что конкуренция невозможная, молодые наступают на пятки, и это тем более оскорбительно, что у них нет никакого опыта, что публика безнадежно больна снобизмом, обсудили, сколько стоит бифштекс на рынке Сен-Жермен и на улице Бюси, только там достойные люди могут купить хороший бифштекс за разумную цену. Два или три раза Берт Трепа любезно осведомлялась у Оливейры, чем он занимается, о его надеждах и особенно о неудачах, но прежде, чем он успевал ответить, беседа резко сворачивала на необъяснимое исчезновение Валантэна, на ошибку, которую она совершила, исполнив «Павану» Аликс Аликса, и все из-за своей слабости к Валантэну, однако так она поступает в последний раз. «Педераст, — прошептала Берт Трепа, и Оливейра почувствовал, как ее пальцы вцепились в его куртку. — Из-за всего этого свинства я вынуждена играть какое-то дерьмо, которое ни уму ни сердцу, в то время как пятнадцать моих произведений ждут исполнения…» Тут она остановилась, не обращая внимания на дождь, безмятежно спокойная в своем плаще (зато Оливейре дождь стал затекать за воротник куртки, и от воротника, который был не то из кролика, не то из крысы, жутко понесло, как от клетки в зоопарке, в дождь всегда так, ничего не поделаешь), она же стояла и смотрела на него, словно в ожидании ответа. Оливейра вежливо улыбнулся и слегка потянул ее в сторону улицы Медичи.
— Вы слишком скромны и слишком скованны, — говорила Берт Трепа. — Расскажите о себе, ну же, давайте. Вы, должно быть, поэт, правда? Ах, Валантэн тоже, когда мы были молодые… «Ода сумеркам», какой успех в «Меркюр де Франс». Открытка от Тибоде,[268] я помню ее так, будто она пришла сегодня утром. Валантэн плакал, лежа на кровати, он, когда плачет, всегда ложится на кровать ничком, так трогательно.
Оливейра попытался представить себе Валантэна, который плачет, лежа на кровати ничком, но Валантэн, которого он видел, был маленький и красный, как краб, на самом деле он видел Рокамадура, который плачет, лежа на кровати ничком, а Мага пытается вставить ему свечку, Рокамадур сопротивляется и выгибается дугой, чтобы не подставлять свою попку неловким рукам Маги. Старику, сбитому машиной, тоже, наверное, вставили свечу, какая-то невероятная форма лечения нынче в моде, надо будет обдумать с философской точки зрения эти притязания ануса — его возвеличили до положения еще одного рта, чего-то, что уже не довольствуется функцией выделения, это что-то поглощает и проглатывает ароматизированные аэродинамические розово-зелено-белые боеприпасы. Однако Берт Трепа не дала ему сосредоточиться, она снова спросила Оливейру о его жизни, сжав его руку своей рукой, потом обеими руками и глядя на него так, словно была молодой девушкой, — такое, да еще среди ночи, вызвало у него дрожь. Значит, он аргентинец, который живет в Париже, пытаясь… Так что же он пытается здесь делать? Довольно трудно объяснить это вот так, с ходу. Он ищет здесь…
— Красоту, восторг, золотую ветвь,[269] — сказала Берт Трепа. — Не говорите ничего, я знаю все, что вы мне скажете. Я тоже несколько лет назад приехала в Париж из По,[270] за золотой ветвью. Я ничего не умела, была совсем юной, я была… А как вас зовут?
— Оливейра.
— Оливейра… Оливы, Средиземноморье… Я тоже с юга, мы — люди стихийные, мы оба с вами — дети бога Пана. Не то что Валантэн, он из Лилля. Северные люди холодные, расчетливые, как Меркурий. Вы верите в Великое Делание?[271] Фульканелли, вы меня понимаете… Не говорите ничего, я и так вижу, вы из посвященных. Возможно, вы еще не реализовали себя в той степени, в какой вы этого стоите, тогда как я… Взять хотя бы, к примеру, «Синтез». Все, что говорил Валантэн, верно, радиоэстезиология помогла мне увидеть родство двух великих душ, и, думаю, это ясно показано в самом произведении. Или нет?
— О да.
— У вас сильная карма, это чувствуется сразу же… — Крепко сжав его руку, артистка вознеслась в медитации, прижавшись для этого самым тесным образом к Оливейре, который едва сопротивлялся, пытаясь хотя бы перевести ее через площадь, чтобы попасть на улицу Суффло.
«Если меня увидят Этьен или Вонг, это будет черт знает что, — подумал Оливейра. — А почему мне должно быть важно, что подумают Этьен или Вонг, — после метафизических рек вперемежку с закаканными подгузниками будущее уже вряд ли имеет какое-то значение. Все выглядит так, будто меня в Париже вообще нет, но при этом я, как это ни глупо, с большим вниманием отношусь к тому, что со мной происходит, меня раздражает эта несчастная старуха, которая что-то городит о своей печали, ее тяжеленная ручища, а перед этим — ее павана и абсолютно бездарный концерт. Я хуже половой тряпки, хуже перепачканных подгузников, если говорить правду, у меня нет ничего общего с самим собой». Ему оставалось только одно, в этот час, под дождем, у него, тесно спаянного с Берт Трепа, оставалось только это ощущение, словно последнее освещенное окно в огромном доме, где один за другим погасли все остальные окна, ему стало казаться, что он — это уже не он, настоящий он где-то ждет, а тот, кто тащит по улицам Латинского квартала старую истеричку, возможно нимфоманку, — скорее всего его doppelgänger,[272] в то время как другой, другой… «Ты остался там, в квартале Альмагро?[273] Или ты утонул во время путешествия, в постелях проституток, в своих великих экспериментах, среди пресловутого необходимого беспорядка? Все это звучит мне в утешение, так удобно верить в избавление, хотя я уже мало в это верю, должно быть, когда тебя собираются повесить, веришь до последней минуты — вот-вот произойдет нечто, землетрясение, например, или веревка дважды оборвется и его вынуждены будут помиловать, или губернатор позвонит, или случится мятеж и его освободят. Похоже, еще немного, и старуха начнет расстегивать на мне штаны».
Но Берт Трепа была поглощена рассказами о себе и наставлениями ему, с большим энтузиазмом поведав о своей встрече с Жермен Тайефер[274] на Лионском вокзале, которая сказала ей, что «Прелюдия к апельсиновым ромбам» чрезвычайно интересна и она поговорит с Маргерит Лонг,[275] чтобы та включила ее в свой концерт.
— Успех был бы обеспечен, сеньор Оливейра, это было бы посвящением. Но все эти импресарио, вы же знаете, бессовестные тираны, даже лучшие исполнители становятся их жертвами… Валантэн считает, что кто-то из молодых пианистов, не слишком подверженный мукам совести, может, и мог бы… Впрочем, они губят и молодых, и стариков, они все в одной шайке.
— Может быть, вы могли бы сами, в следующем концерте…
— Я больше не хочу быть исполнителем, — сказала Берт Трепа, пряча лицо, хотя Оливейра и сам старался на нее не смотреть. — Это стыдно — выходить на сцену, чтобы исполнять собственные сочинения, хотя в действительности мне бы следовало стать музой, вы понимаете меня, я должна была бы вдохновлять исполнителей, а они просить меня, чтобы я позволила им исполнить мои произведения, умолять меня, да, именно умолять. И я бы согласилась, потому что я верю, мои произведения — это искра, которая разожжет в публике чувства, и здесь, и в Соединенных Штатах, и в Венгрии… Да, я бы согласилась, но прежде они должны были бы прийти ко мне и просить меня оказать им эту честь — исполнять мою музыку.
Она с чувством сжала руку Оливейры, который неизвестно почему решил пойти по улице Сен-Жак и теперь старательно тащил за собой артистку. Порывистый ледяной ветер швырял им в лицо капли дождя, но Берт Трепа, казалось, совершенно не трогали капризы погоды, и, повиснув на руке Оливейры, она продолжала бормотать, время от времени перемежая свое многословие икотой или коротким смешком, то презрительным, то насмешливым. Нет, она живет не на улице Сен-Жак. Нет, но это совершенно не важно, где она живет. Она готова бродить так всю ночь, больше двухсот человек было на исполнении «Синтеза».
— Валантэн будет беспокоиться, если вас долго не будет, — сказал Оливейра, пытаясь придумать, что бы такое сказать, и заставить вырулить в нужном направлении этот шар в корсете, похожий на ежа, который не обращает внимания на дождь и ветер. В результате долгих препирательств удалось выяснить, что Берт Трепа живет на улице Эстрапад. Оливейра, почти совсем запутавшись, стряхнул с век капли дождя свободной рукой и огляделся, подобно какому-нибудь герою Конрада на носу корабля. Ему вдруг захотелось рассмеяться (пустой желудок сводило, мышцы одеревенели, он был жалок и не похож на себя, если рассказать про это Вонгу, тот не поверит). Не над Берт Трепа, которая продолжала рассказ о том, как ее чествовали в Монпелье и в По, время от времени упоминая о золотой медали. Ни над собственной глупостью, которую он совершил, предложив ей свое общество. Он и сам толком не мог понять, почему возникло это желание смеяться, шедшее откуда-то издалека, из прежних времен, и не сам концерт был тому причиной, хотя смехотворней этого концерта не было ничего на свете. Это была радость, что-то вроде физической формы радости. В это трудно было поверить, но то была радость. Ему хотелось смеяться от удовольствия, чистого, чарующего и необъяснимого удовольствия. «Я, видимо, схожу с ума, — подумал он. — Должно быть, заразился от этой чокнутой, которая висит у меня на руке». Для радости не было ни малейшего повода, подошвы у него промокли, и вода хлюпала в ботинках, а также лилась за воротник, Берт Трепа все тяжелее повисала у него на руке и периодически вздрагивала, сотрясаемая рыданием всякий раз, стоило ей упомянуть Валантэна, она вздрагивала и сотрясалась рыданием, что-то вроде условного рефлекса, что никоим образом не могло вызвать радость ни у кого, даже у сумасшедшего. А Оливейре хотелось расхохотаться, пока он, бережно поддерживая Берт Трепа, тихонько вел ее на улицу Эстрапад, к дому номер четыре, и не было ни одного разумного довода, чтобы представить себе такое, а тем более понять, тем не менее все так и было, он вел Берт Трепа к дому номер четыре по улице Эстрапад, стараясь, чтобы она, по мере возможности, не ступила в лужу или чтобы не попала под водопад, низвергавшийся с карниза на углу улицы Клотильды. Недавнее предложение пропустить рюмочку у нее дома (вместе с Валантэном) не вызывало у Оливейры никакого отторжения, придется отбуксировать артистку на пятый или шестой этаж, потом войти в комнату, где Валантэн скорее всего не разжигал камин (но где будет божественная саламандра, бутылка коньяку, где можно будет снять ботинки и согреть ноги у огня и говорить об искусстве, о золотой медали). И возможно, в какую-нибудь другую ночь он еще раз заглянет в дом Берт Трепа и Валантэна, прихватив с собой бутылочку вина, и составит им компанию, чтобы поддержать их немного. Все равно что навестить того старика в больнице, пойти куда-то, куда до сих пор не приходило в голову ходить, — в больницу или на улицу Эстрапад. Но еще до этой радости, до того, как ужасно свело желудок, возникло ощущение, будто чья-то рука, обосновавшись где-то внутри, под кожей, начала свою сладкую пытку (надо будет спросить у Вонга про руку где-то внутри, под кожей).
— Дом номер четыре, так?
— Да, вот этот дом с балконом, — сказала Берт Трепа. — Постройка восемнадцатого века. Валантэн говорит, что на пятом этаже жила Нинон де Ланкло.[276] Он столько лжет. Нинон де Ланкло. О да, Валантэн постоянно лжет. Дождь почти перестал, правда?
— Немного утих, — согласился Оливейра. — Давайте перейдем здесь, если не возражаете.
— Соседи, — сказала Берт Трепа, бросив взгляды в сторону кафе на углу улицы. — Ну конечно, старуха из восьмой квартиры… Вы не представляете, сколько она пьет. Вон она, за угловым столиком. Смотрит на нас, а завтра, увидите, пойдут кривотолки…
— Пожалуйста, сеньора, — сказал Оливейра. — Осторожней, здесь лужа.
— О, я ее знаю, и хозяина дома тоже. Это из-за Валантэна они меня ненавидят. Валантэн, надо вам сказать, несколько раз устраивал им… Он терпеть не может старуху из восьмой квартиры, и однажды, когда он поздно возвращался пьяный в стельку, он вымазал ей дверь кошачьими какашками, сверху донизу, все разрисовал… Никогда не забуду, какой разразился скандал…
Валантэн бросился в ванную смывать с себя какашки, потому что он тоже весь перемазался от творческого энтузиазма, а я вынуждена была принять на себя полицию, старуху-соседку, весь квартал… Никто не знает, что мне пришлось вынести, мне, с моим положением… Валантэн ужасен, просто enfant terrible.
Оливейра мысленно увидел седовласого господина, его шевелюру, цепочку от часов. Как будто в стене вдруг открылся ход: достаточно просунуть плечо и войти, пройти сквозь камень,[277] сквозь толщу стен, и оказаться в чем-то другом. Желудок свело так, что подступила тошнота. Он был непередаваемо счастлив.
— Вот если бы перед тем, как подняться, выпить где-нибудь рюмочку водки, — сказала Берт Трепа, останавливаясь у дверей и глядя на него. — После этой приятной прогулки я немного озябла, кроме того, дождь…
— С большим удовольствием, — сказал Оливейра разочарованно. — Но, может быть, вы все-таки подниметесь, снимете обувь, должно быть, вы промокли до щиколоток.
— Да, но в кафе натоплено, — сказала Берт Трепа. — Я не знаю, вернулся ли Валантэн, он вполне способен бродить всю ночь в поисках своих дружков. В такую ночь он может влюбиться до потери сознания в кого угодно, как дворовый кобель, поверьте.
— А может, он уже вернулся и растопил камин, — попытался схитрить Оливейра. — Теплое пончо, шерстяные носки… Вы должны беречь себя, сеньора.
— О, я в этом смысле похожа на деревья. Но дело обстоит так, что я не захватила денег на кафе. Завтра я схожу в концертный зал за своей выручкой… По ночам небезопасно гулять с такой суммой в кармане, к сожалению, этот квартал…
— С огромным удовольствием готов угостить вас, чем вам будет угодно, — сказал Оливейра. Ему удалось протиснуть Берт Трепа в дверной проем, и из коридора сразу же пахнуло теплым и влажным воздухом, понесло плесенью и, кажется, грибной подливкой. Ощущение радости стало уходить, как будто оно могло бродить вместе с ним только по улице, а в подъезде исчезало. Надо было этому противостоять, радость длилась всего несколько мгновений, но это было так ново для него, так не похоже на все прочее, а рассказ о том, как Валантэн бросился в ванную и стал отмывать кошачьи какашки, вызвал ощущение, как будто он может сделать этот необходимый шаг вперед, настоящий шаг, не ступая ногами, шаг сквозь каменную стену, он может туда войти и пойти вперед и спастись от чего-то, от капель дождя в лицо и промокших ботинок. Все это невозможно понять, как всегда невозможно понять то, что понять необходимо. Радость, рука где-то внутри, под кожей, сжимающая желудок, надежда, если можно так выразиться, если для него еще возможно почувствовать нечто смутное и ускользающее при упоминании о надежде, это было так по-идиотски, так невыразимо прекрасно, и вот она уже уходит, удаляется от него в дождь, потому что Берт Трепа не пригласила его подняться к ней, а завернула его в кафе на углу, снова включив его в Распорядок Дня, во все, что произошло за день, Кревель, набережные Сены, желание уйти куда глаза глядят, старик на носилках, программка, отпечатанная вручную, Роз Боб, вода в ботинках. Медленным движением, будто он сваливает гору с плеч, Оливейра указал рукой на оба кафе, нарушавших мрак на углу улицы. Но у Берт Трепа, видимо, не было каких-то специальных предпочтений, она пробормотала нечто нечленораздельное и, не выпуская руки Оливейры, украдкой взглянула в полумрак коридора.
— Он вернулся, — неожиданно сказала она и уставилась на Оливейру, на глазах у нее блестели слезы. — Он там, наверху, я это чувствую. И наверняка не один, всякий раз, когда я даю концерт, он торопится переспать с кем-нибудь из своих дружков.
Она тяжело дышала, все глубже впиваясь в руку Оливейры, и все время поворачивалась, вглядываясь в темноту. Сверху послышалось приглушенное мяуканье, бархатные лапы пружинисто пробежали лестничную спираль. Оливейра не знал что сказать и в ожидании вытащил сигарету, которую раскурил с большим трудом.
— У меня нет ключа, — сказала Берт Трепа так тихо, что он едва услышал. — Он никогда не оставляет мне ключа, если собирается с кем-то переспать.
— Но вам же нужно отдохнуть.
— Ему на это наплевать — отдыхаю я или загибаюсь. Они наверняка разожгли камин и потратили мой уголь, мне дал немного доктор Лемуан. Они там голые, голые. Да, да, в моей постели, голые, отвратительные. А завтра мне придется все приводить в порядок, Валантэн обязательно заблюет покрывало… И завтра все будет как всегда.
— У вас нет поблизости каких-нибудь друзей, у которых вы могли бы переночевать? — спросил Оливейра.
— Нет, — сказала Берт Трепа, искоса взглянув на него. — Поверьте, юноша, большинство моих друзей живет в Нейи.[278] А здесь только вышедшие в тираж старухи, алжирцы, распоследнее отребье вроде той, из восьмой квартиры.
— Если хотите, я поднимусь и попрошу Валантэна, чтобы он открыл вам, — сказал Оливейра. — Может, вы подождете в кафе, пока все не уладится.
— Как это может уладиться, — проговорила Берт Трепа с трудом, будто пьяная. — Не откроет он, я его хорошо знаю. Они там притихнут и погасят свет. Зачем им сейчас свет? Они зажгут его попозже, когда Валантэн удостоверится, что я ушла ночевать в отель или в какое-нибудь кафе.
— Если я буду громко стучать в дверь, они испугаются. Не думаю, что Валантэну нужен еще один скандал.
— Ему на все наплевать, когда он такой, ему наплевать абсолютно на все. Он способен вырядиться в мою одежду и отправиться в комиссариат за углом, распевая «Марсельезу». Однажды он так и сделал, Робер из магазина вовремя его перехватил и привел домой. Робер — славный малый, у него тоже были свои причуды, поэтому он понимает других.
— Позвольте, я поднимусь, — настаивал Оливейра. — А вы идите в кафе на углу и ждите меня там. Я все улажу, не можете же вы оставаться здесь всю ночь.
Свет на лестнице зажегся как раз в тот момент, когда Берт Трепа собиралась горячо возразить. Она отшатнулась и вышла на улицу, оставив Оливейру, который не знал, что ему теперь делать. Какая-то парочка бегом спустилась по лестнице и, не взглянув на него, направилась к улице Туэн. Нервно оглянувшись, Берт Трепа снова укрылась в подъезде. Дождь лил как из ведра.
Не испытывая ни малейшего желания, просто посчитав это единственным, что он мог делать, Оливейра пошел вглубь коридора, к лестнице. Но он не сделал и трех шагов, как Берт Трепа схватила его за руку и потащила обратно к дверям. Она поочередно бормотала то уговоры, то приказания, то мольбы, и все вместе сливалось в сумбурное кудахтанье из слов и междометий. Оливейра дал себя увести, перестав сопротивляться чему бы то ни было. Свет погас, но через несколько секунд зажегся снова, на третьем или на четвертом этаже послышались голоса — там кто-то прощался. Берт Трепа отпустила Оливейру и вплотную подошла к дверям, делая вид, что застегивает плащ и собирается выйти на улицу. Она не двинулась с места до тех пор, пока двое мужчин не прошли мимо нее, равнодушно взглянув на Оливейру и бормоча «пардон» на каждом повороте коридора. Оливейра на секунду подумал было, не подняться ли ему прямиком по лестнице, но он не знал, на каком этаже живет артистка. Он раздраженно курил, снова погрузившись в темноту, в надежде, что произойдет хоть что-то или не произойдет ничего. Несмотря на шум дождя, всхлипывания Берт Трепа слышались все явственнее. Он подошел к ней и положил руку ей на плечо:
— Пожалуйста, мадам Трепа, не переживайте так. Скажите мне, что мы можем сделать, ведь должен же быть какой-то выход.
— Оставьте меня, оставьте меня, — шептала артистка.
— Вы измучены, вам надо поспать. В любом случае мы можем пойти в отель, у меня тоже нет денег, но я договорюсь с хозяином и заплачу ему завтра. Вы знаете гостиницу на улице Валет, недалеко отсюда?
— Гостиницу, — сказала Берт Трепа, поворачиваясь и глядя на него.
— В ней нет ничего хорошего, но ведь надо же где-то переночевать.
— Вы собираетесь затащить меня в отель.
— Сеньора, я только провожу вас туда и поговорю с хозяином, чтобы вам дали комнату.
— В отель, вы собираетесь затащить меня в отель.
— Да не собираюсь я, — сказал Оливейра, теряя терпение. — Я не могу предложить вам свой дом по той простой причине, что у меня его нет. Вы не даете мне подняться и попросить Валантэна, чтобы он открыл дверь. Вы хотите, чтобы я ушел? В таком случае спокойной ночи.
Неизвестно, говорил ли он все это или только хотел сказать. Никогда он еще не был так далек от этих слов, которые в другое время легко слетели бы с языка. Не так следовало ему поступить. Он не знал, как выйти из положения, но это было не то. Берт Трепа смотрела на него, прижавшись к дверям. Нет, он ничего не говорил, он стоял рядом с ней, не двигаясь, и, хотя это было совершенно невероятно, все еще хотел помочь, хотел что-то сделать для Берт Трепа, которая не отрываясь смотрела на него, медленно поднимая руку, и вдруг обрушила пощечину на Оливейру, который в смятении отступил, почти увернувшись, и почувствовал лишь, как тонкие пальцы скользнули по лицу, чуть задев его ногтями.
— В гостиницу, — повторила Берт Трепа. — Вы слышали, что он мне предложил?
Она смотрела в темноту коридора, вращая глазами, ярко накрашенные губы двигались как бы сами по себе, жили своей жизнью, и Оливейре, потерявшему представление о реальности, вновь показалось, что он видит руки Маш, которая пытается вставить свечу Рокамадуру, а Рокамадур отчаянно вопит, выгибается и сжимает попку, а Берт Трепа беззвучно шевелила губами, неотрывно глядя на невидимую публику во мраке коридора, и ее нелепая прическа колыхалась, когда она встряхивала головой, причем все сильнее и сильнее.
— Ради бога, — прошептал Оливейра, проводя рукой по царапине, которая чуть кровоточила. — Как вы могли такое подумать.
Но она могла такое подумать, потому что (это она ему прокричала, и свет на лестнице снова зажегся) ей прекрасно известно, что за развратники могут пристать к ней на улице, как и к другим порядочным дамам, но она не позволит (дверь квартиры, где жила консьержка, приоткрылась, и Оливейра увидел физиономию, напоминающую гигантскую крысу с маленькими алчными глазками), чтобы какое-то чудовище, слюнявый сатир нападал на нее у дверей ее собственного дома, на это есть полиция, есть правосудие, — кто-то бегом спустился по лестнице, кудрявый парень, похожий на цыгана, перегнулся через лестничные перила и теперь смотрел и слушал в свое удовольствие, — и если соседи не защитят ее, она сумеет постоять за себя, это не впервые, когда растленный тип, эксгибиционист какой-нибудь…
На углу улицы Турнфор Оливейра заметил, что все еще держит сигарету, которая от дождя давно потухла и успела наполовину размокнуть. Он прислонился к фонарному столбу и поднял лицо кверху, подставив его дождю. Невозможно ни о чем думать, когда по лицу стекают струи воды, невозможно ни о чем думать. Он медленно пошел по улице, опустив голову и застегнув воротник куртки до самого подбородка; как всегда, меховой воротник ужасающе вонял гнилью, выделанной кожей. Он ни о чем не думал, просто шел по улице и, наверное, был похож на большого черного пса под дождем, с намокшими лапами, облепленного сосульками шерсти, с которых стекала воды. Время от времени он проводил по лицу ладонью, но потом перестал спорить с дождем и, выпячивая губу, пил что-то солоноватое, что стекало по его лицу. Когда много позже, у Ботанического сада, он восстановил в памяти весь этот день, тщательно и подробно перебирая каждую минуту, то понял, что в конце концов радость, которую он испытал, провожая старуху домой, была не такой уж идиотской. Но, как это обычно бывает, за невесть откуда взявшуюся радость приходится платить. Теперь он, конечно, начнет себя упрекать, разрушать все, что он построил, пока не останется то, что остается всегда, — дыра, куда улетает время, продолжение неопределенности без четких границ. «Не будем впадать в литературу, — подумал он и стал искать сигарету, немного согрев руки в карманах брюк. — Не будем сыпать блестящими фразами — они суки, эти фразы, они блестящие сводницы. Прошло — и кончено с этим. Берт Трепа… это сплошной идиотизм, но было бы так приятно выпить рюмочку с ней и Валантэном, подвинув нога поближе к огню. На самом деле единственное, что могло принести радость, — мысль о том, что можно снять ботинки и просушить носки. План не удался, парень, что тут поделаешь? Оставим все как есть и пойдем спать. Ничего другого не остается, ничего другого и не могло быть. Если я дал таскать себя по улицам, значит, я могу вернуться домой и всю ночь просидеть, как сиделка, у кровати больного ребенка». Оттуда, где он оказался, до улицы Соммерар было двадцать минут ходу под дождем, наверное, лучше было бы зайти в первый попавшийся отель и поспать. Спички размокли и не зажигались, ни одна. Просто смех.
(-124)
24
— Не знаю, как это выразить, — сказала Мага, вытирая ложку не слишком чистой тряпкой. — Может, другие объяснят лучше, но у меня всегда так — мне куда легче говорить о грустном, чем о веселом.
— Это закон, — сказал Грегоровиус. — Прекрасно сформулированная глубокая истина. Если перевести это в план литературных хитростей, получится, что из хороших чувств рождается плохая литература[279] и прочее в том же роде. Счастье невозможно объяснить, Люсия, наверное, потому, что это самое большее, что может открыться нам под покровом Майи.[280]
Мага растерянно посмотрела на него. Грегоровиус вздохнул.
— Под покровом Майи, — повторил он. — Но не будем смешивать одно с другим. Вы наверняка замечали, что несчастье, скажем так, более осязаемо, возможно, потому, что в нем рождается разделение на объект и субъект. Поэтому уделяется так много внимания воспоминаниям, поэтому так охотно рассказывают о катастрофах.
— Дело в том, — сказала Мага, помешивая молоко, которое подогревалось на плитке, — что счастье всегда принадлежит кому-то одному, а несчастье, наоборот, всем сразу.
— Совершенно справедливый вывод, — сказал Грегоровиус. — И вообще, вы, наверное, заметили, что я не любитель задавать вопросы. Но в тот раз, когда собирался Клуб… Да уж, водка у Рональда такая, что развязывает язык. Поверьте, не потому, что я хромой бес[281] какой-нибудь, а потому, что я хочу лучше понять своих друзей. Вы и Орасио… В этом все-таки есть что-то необъяснимое, какая-то главная тайна. Рональд и Бэбс говорят, что вы совершенная пара, что вы дополняете друг друга. А я вот не вижу, чтоб вы так уж дополняли друг друга.
— А вам что за дело?
— Мне нет никакого дела, но вы же говорите, что Орасио ушел.
— Это тут ни при чем, — сказала Мага. — Я не умею говорить о счастье, но это не значит, что у меня его не было. Если хотите, я могу рассказать, почему ушел Орасио, почему я тоже ушла бы, если б не Рокамадур. — Она показала на чемоданы, обвела рукой беспорядок в комнате — повсюду валялись какие-то бумаги, рожки для детского питания, пластинки. — Все это надо где-то держать, и надо еще иметь куда уйти… Я не хочу здесь оставаться, это слишком грустно.
— Этьен может устроить вам комнату, где много света. Когда вы отвезете Рокамадура в деревню. Семь тысяч франков в месяц. Если вам подойдет, я бы переехал сюда, в эту комнату. Мне она нравится, в ней что-то есть, какие-то флюиды. Здесь хорошо думается, и мне здесь хорошо.
— Вам так кажется, — сказала Мага. — Около семи утра девушка с нижнего этажа начинает петь «Les Amants du Havre». Песня хорошая, но когда все время одно и то же…
Puisque la terre est ronde, Mon amour t’en fais pas, Mon amour t’en fais pas.[282]— Очень мило, — равнодушно заметил Грегоровиус.
— Да, в ней заключена «великая философия», как сказал бы Ледесма. Нет, вы его не знали. Он был до Орасио, еще в Уругвае.
— Это тот негр?
— Нет, негра звали Иренео.
— Так история про негра — правда?
Мага удивленно посмотрела на него. Грегоровиус действительно дурак. Кроме Орасио (и то иногда…), все мужчины, которые ее хотели, всегда вели себя как форменные кретины. Помешивая молоко, она подошла к кровати и попыталась заставить Рокамадура выпить несколько ложечек. Рокамадур пищал и отказывался пить, молоко пролилось ему на шею. «Топи-топи-топи, — приговаривала Мага с интонацией зазывалы, призывающего купить выигрышные билеты. — Топи-топи-топи», — пытаясь засунуть ложечку в рот Рокамадура, который весь покраснел и не хотел молока, но вдруг, неизвестно почему, уступил, немного откинулся на подушку и стал глотать ложку за ложкой, к большому удовлетворению Грегоровиуса, который набивал трубку и чувствовал себя немного отцом.
— Чин-чин, — сказала Мага и, поставив кастрюльку рядом с тахтой, стала заворачивать в одеяло Рокамадура, который уже засыпал. — Температура все еще высокая, тридцать девять и пять, не меньше.
— Вы не ставили ему градусник?
— Да разве ему поставишь, он потом плачет полчаса, Орасио не может этого выносить. Я сама чувствую, когда пробую у него лобик. У него больше тридцати девяти, не понимаю, почему она не снижается.
— Боюсь, это не слишком надежный способ, — сказал Грегоровиус. — А молоко ему не повредит, с такой температурой?
— Для ребенка она не такая уж высокая, — сказала Мага, закуривая сигарету «Голуаз». — Давайте лучше погасим свет, тогда он сразу уснет. Выключатель вон там, у дверей.
От печки шел свет, который разгорелся еще ярче, пока они сидели друг напротив друга и молча курили. Грегоровиус смотрел, как поднималась и опускалась сигарета в руке Маги, как ее лицо, до странности бледное, вдруг зажглось жаром, словно угли, глаза, глядевшие на него, заблестели в полумраке, откуда доносились всхлипывания и попискивания Рокамадура, все тише и тише, пока не прекратились совсем, и осталась только икота, которая повторялась через равные промежутки времени. Часы пробили одиннадцать.
— Он не вернется, — сказала Мага. — Он придет только затем, чтобы забрать свои вещи, но это все равно. Все кончено, капут.
— Я вот думаю, — осторожно начал Грегоровиус, — Орасио такой чувствительный, он с таким трудом вживается в Париж. Ему кажется, он делает что хочет, но он пытается пробить стену. Стоит посмотреть на него, когда он ходит по улицам, я один раз довольно долго шел за ним.
— Шпион, — сказала Мага почти с симпатией.
— Скажем так, наблюдатель.
— На самом деле вы следили за мной, даже если меня тогда с ним не было.
— Возможно, я тогда об этом не думал. Мне интересно поведение моих друзей, это куда увлекательнее шахмат. Я узнал, что Вонг мастурбирует, а Бэбс предается человеколюбию в духе янсенизма: поворачивается лицом к стене, а на ладони держит кусок хлеба с чем-то там внутри. Когда-то было время, я и мать свою изучал. Давно, в Герцеговине. Адгаль меня привлекала необычайно, она, не снимая, носила светлый парик, но я-то прекрасно знал, что волосы у нее черные. Никто в замке этого не знал, мы поселились там после смерти графа Росслера. Когда я ее спрашивал (мне тогда было от силы десять лет, и это было счастливое время), моя мать смеялась и заставляла меня поклясться, что я никому не открою правду. Мне покоя не давала эта правда, которую надо было скрывать и которая была понятней и красивей, чем светлый парик. Парик был настоящим произведением искусства, мать запросто причесывалась в присутствии горничной, и та ничего не подозревала. Но когда она оставалась одна, сам не знаю почему, но мне так хотелось в это момент спрятаться под диваном или укрыться за фиолетовыми гардинами. Я решил проделать дырку в стене библиотеки, которая была смежной комнатой с будуаром моей матери, я трудился по ночам, когда все думали, что я сплю. И я увидел, как Агдаль сняла светлый парик, распустила черные волосы, которые делали ее совершенно другой, такой красивой, потом она сняла другой парик и явила моему взору абсолютно гладкий бильярдный шар, нечто настолько отвратительное, что в ту ночь меня тошнило и большая часть гуляша осталась на подушке.
— Ваше детство немного похоже на узника Зенды,[283] — задумчиво сказала Мага.
— Это был мир париков, — сказал Грегоровиус. — Я спрашиваю себя, что бы на моем месте делал Орасио. В самом деле, давайте поговорим об Орасио, вы хотели мне что-то сказать.
— Какая странная икота, — сказала Мага, глядя на Рокамадура. — Первый раз у него такое.
— У него что-то с пищеварением.
— Почему все только и говорят о том, чтобы я положила его в больницу? Вот и врач тоже, ну этот, похожий на муравья. Не хочу я класть его в больницу, ему это не понравится. Я делаю все, что нужно делать. Бэбс заходила сегодня утром и сказала, что ничего опасного нет. Орасио тоже считает, что все не так уж серьезно.
— Орасио не вернется?
— Нет. Орасио придет забрать свои вещи.
— Не плачьте, Люсия.
— Я сморкаюсь. Вроде перестал икать.
— Расскажите мне, Люсия, может, вам станет легче.
— Я ничего не помню, да и не к чему это. Нет, помню. Но зачем? Какое имя странное, Адгаль.
— Да, если только оно настоящее, кто его знает. Мне так сказали…
— Как парик светлый и парик темный, — сказала Мага.
— Как все, — сказал Грегоровиус. — И правда, перестал икать. Теперь он проспит до утра. Когда вы познакомились с Орасио?
(-134)
25
Уж лучше бы Грегоровиус молчал или рассказывал про Адгаль и оставил бы ее в покое, она бы сидела и курила в темноте, далекая от всего, что было в этой комнате, от пластинок и книг, которые надо собрать для Орасио, чтобы он мог забрать их, когда найдет себе комнату. Но не тут-то было, если он и замолчит — только потому, что ждет от нее каких-то слов, и все равно полезет с вопросами, к ней всегда все лезли с вопросами, как будто им мешало, что ей хотелось напевать «Mon p’tit voyou»,[284] или рисовать обгоревшими спичками, или гладить самых паршивых котов на улице Соммерар, или давать соску Рокамадуру.
— «Ну что ж, мой маленький бродяга, — напевала Мага. — Такая жизнь, плевать на все…»
— Я когда-то тоже обожал аквариумы, — вспоминал Грегоровиус. — Но это увлечение прошло, когда я стал заниматься вещами, свойственными моему полу и возрасту. Это было в Дубровнике, в публичном доме, куда меня привел один датский матрос, в то время он был любовником моей одесской матери. В ногах кровати стоял прекрасный аквариум, и сама кровать, покрытая небесно-голубым покрывалом из блестящей ткани, тоже была похожа на аквариум, рыжая толстуха бережно отогнула покрывало, а потом схватила меня, точно кролика, за уши. Вы не представляете себе, Люсия, как мне было страшно, какой ужас я испытал. Мы лежали на спине, один подле другого, и она машинально ласкала меня, меня знобило, а она говорила и говорила обо всякой ерунде, о драке, которая только что случилась в баре, о мартовской непогоде… Рыбы сновали туда-сюда, и была среди них одна, черная, огромная рыбина, гораздо больше всех остальных. Она сновала и сновала туда-сюда, как чужая рука по моим ногам, вверх, вниз… Значит, вот это и есть любовь, черная рыбина, которая настойчиво снует туда-сюда. Образ не хуже всякого другого и довольно точный. Повторенное бесконечное количество раз желание сбежать, пройти сквозь стекло и стать чем-то иным.
— Кто их знает, — сказала Мага. — Мне кажется, рыбы не хотят уйти из аквариума, они почти никогда не тычутся носом в стекло.
Грегоровиус вспомнил, что где-то у Шестова[285] говорилось об аквариумах со вставной перегородкой, — когда ее вынимали, рыба, привыкшая жить в одной половине аквариума, никогда не стремилась заплывать на другую половину. Сколько-то проплыть, повернуться и поплыть назад, даже не зная, что препятствия уже нет и можно продолжать движение…
— В любви тоже может быть так, — сказал Грегоровиус. — Какая прелесть, любоваться рыбками в аквариуме и вдруг увидеть, как они парят в воздухе, точно голубки. Идиотские надежды, конечно. Все мы отступаем в страхе уткнуться носом во что-то малоприятное. Нос как край света, тема для диссертации. Вам известно, как кошку приучают не гадить в комнате? Прием своевременного тыканья носом. А как свинью приучают не выкапывать грибы? Палкой по носу, это ужасно. Я думаю, Паскаль здорово разбирался в проблемах носов,[286] отсюда его знаменитое египетское суждение.
— Паскаль? — сказала Мага. — Какое египетское суждение?
Грегоровиус вздохнул. Все только и делали что вздыхали, когда она задавала вопрос. Орасио и особенно Этьен, который не просто вздыхал, но пыхтел, сопел и всем своим видом показывал, какая она дура. «Я не просто серая невежда, я фиолетовая», — думала Мага, чувствуя себя задетой. Каждый раз, когда ей случалось шокировать кого-нибудь своими вопросами, она чувствовала, как ее обволакивает какая-то фиолетовая масса. Стоило ей сделать глубокий вдох, и масса рассеивалась, уплывала, как рыбы, распадалась на множество фиолетовых ромбов, превращаясь в воздушных змеев на пустыре в Поситос,[287] в лето на пляже, в фиолетовое пятно в глазах, когда смотришь на солнце, солнце по имени Ра, которое тоже было египтянином, как Паскаль. Вздохи Грегоровиуса почти ничего не значили для нее, после Орасио мало кто мог задеть ее своими вздохами по поводу вопросов, но все равно хоть на мгновение, да появлялось фиолетовое пятно, и хотелось расплакаться, всего на секунду, в самый раз, чтобы стряхнуть пепел с сигареты, который непоправимо портит ковры, если предположить, что они у нее были.
(-141)
26
— В сущности, — сказал Грегоровиус, — Париж — это огромная метафора.
Он постучал трубкой по столу, немного примял табак. Мага зажгла другую сигарету, продолжая напевать. Она так устала, что даже не разозлилась на непонятную фразу. Поскольку она, вопреки своему обычаю, не торопилась с вопросом, Грегоровиус решил пояснить свою мысль. Мага слушала словно издалека, защищенная темнотой и сигаретой. Она слушала бессвязные, как ей казалось, фразы, несколько раз был упомянут Орасио, что-то о душевном разладе, о бесцельных прогулках по Парижу почти всех членов Клуба, о причинах, которые помогали верить, что все это может помочь обрести хоть какой-то смысл. На мгновение какая-нибудь фраза Грегоровиуса принимала чьи-то очертания, зеленого или белого цвета, иногда это был Атлан,[288] другой раз Эстеве,[289] или какой-то звук начинал крутиться и, слипаясь, вырастал в Манесье,[290] в Вильфредо Лама, в Пьобера, в Этьена, в Макса Эрнста.[291] Это было забавно, Грегоровиус говорил: «…и все они ищут дорогу, ведущую к Вавилону, если можно так выразиться, и значит…» — и Мага видела, как из слов рождается блистательный Дейроль, Бисьер,[292] но Грегоровиус уже говорил о бесполезности эмпирической онтологии, и тут вдруг появлялся Фридлендер, утонченный Вийон,[293] который отпечатывал сумрак на сетчатке глаз, а потом заставлял его вибрировать, эмпирическая онтология, слова, голубоватые как дым, розовые, эмпирическая, бледно-желтая впадина, где дрожат беленькие искорки.
— Рокамадур уснул, — сказала Мага, стряхивая пепел. — Мне тоже надо немного поспать.
— Орасио, я думаю, сегодня не вернется.
— Откуда я знаю. Орасио, как кошка, которая гуляет сама по себе, может, сидит на полу под дверью, а может, едет на поезде в Марсель.
— Я могу остаться, — сказал Грегоровиус. — Вы поспите, а я присмотрю за Рокамадуром.
— Не в этом дело, я спать не хочу. Вы говорите, а у меня перед глазами все время что-то мелькает. Вы сказали «Париж — это огромная метафора», а я увидела что-то вроде знаков Сугая,[294] все красно-черное.
— Я думал об Орасио, — сказал Грегоровиус. — Любопытно, как он изменился за те несколько месяцев, что я его знаю. Вы, я думаю, этого не замечаете, вы слишком близко к нему и к тому же ответственны за эти перемены.
— Что значит «огромная метафора»?
— Он здесь затем, зачем другие пытаются уйти, кто в вуду,[295] кто в марихуану, кто в музыку Пьера Булеза, а кто в причудливые мобили Тэнгли.[296] Он думает, что в каком-нибудь уголке Парижа какой-нибудь день, или чья-нибудь смерть, или какая-нибудь встреча подарят ему ключ; он ищет его, как безумный. Заметьте, я говорю «как безумный». То есть в действительности он не осознает того, что ищет ключ, он даже не знает, существует ли этот ключ вообще. Он только предполагает, что это может быть и в каких обличьях; поэтому я и говорю, что это метафора.
— Почему вы говорите, что Орасио изменился?
— Вы не могли не задать этот вопрос, Люсия. Когда я познакомился с Орасио, он показался мне интеллектуалом-любителем, я бы сказал, псевдоинтеллектуалом. Вы там все немного такие, правда? В Мату-Гросу, где-то там.
— Мату-Гросу в Бразилии.
— Ну, в общем, где-то там, в Парана. Очень умные и любознательные, донельзя информированные. Гораздо больше, чем мы. В итальянской литературе, например, или в английской. И конечно, золотой век испанской литературы, а также французская литература не сходит у вас с языка. Орасио тоже был такой, это бросалось в глаза. Меня просто удивляет, как он изменился за такой короткий срок. Теперь в нем преобладает животное начало, достаточно на него взглянуть. Нет, конечно, он еще не совсем животное, но делает все возможное, чтобы им стать.
— Не говорите глупостей, — недовольно сказала Мага.
— Поймите меня правильно, я имею в виду, что он ищет темный свет, ключ, и до него начинает доходить, что такие вещи не найдешь в библиотеках. На самом деле этому его научили вы, и если он уходит, то только потому, что никогда не сможет вам этого простить.
— Орасио уходит не поэтому.
— Там ведь тоже есть чье-то обличье. Он сам не знает, почему уходит, и вы, хотя он уходит от вас, тоже не можете этого знать, если только не решитесь мне поверить.
— Нет, я не поверю, — сказала Мага, соскользнув с кресла и улегшись на полу. — Кроме того, я ничего не понимаю. И не вспоминайте Полу. Я не хочу говорить о Поле.
— Тогда продолжайте смотреть на рисунки в темноте, — мягко сказал Грегоровиус. — Конечно, мы можем поговорить о чем-нибудь другом. А вы знаете, что индейцы чиркин[297] все время требовали у миссионеров ножницы, и теперь они владеют таким огромным собранием ножниц, которое превосходит все, что есть у других народов на душу населения. Я прочитал об этом в статье Альфреда Метро.[298] В мире столько всего необычайного.
— Так почему же все-таки Париж — это огромная метафора?
— Когда я был ребенком, — сказал Грегоровиус, — мои няньки занимались любовью с уланами, которые участвовали в военных действиях в районе Бозока. Чтобы я не мешал этим занятиям, меня отправляли играть в огромную гостиную, где было полно ковров, на стенах и на полу, от которых пришел бы в восторг даже Мальте Лауридс Бригге.[299] Один из ковров представлял собой план города Офира,[300] каким он предстал Западу в сказках. Ползая на коленках, я толкал перед собой носом и руками маленький желтый мячик, следуя по руслу реки Шан-Тен, перебирался через стены, охраняемые чернокожими воинами, вооруженными копьями, и после многочисленных опасностей, а также стукнувшись головой о ножку стола из красного дерева, который стоял в центре ковра, я достигал владений царицы Савской[301] и засыпал, словно гусеница, на изображении древней пиршественной залы. Да, Париж — это метафора. Вот и вы сейчас, как мне кажется, также лежите на этом ковре. Что изображает его рисунок? Ах да, поруганное детство, так близко, совсем рядом! Я двадцать раз был в этой комнате, но совершенно не помню, что изображено на этом ковре…
— Его так завозили, что рисунка почти не видно, — сказала Мага. — Кажется, на нем были два павлина, целующиеся клювами. Выглядело это непристойно.
Они замолчали, прислушиваясь, кто-то поднимался по лестнице.
(-109)
27
— Ах, Пола, Пола — сказала Мага. — Я знаю о ней больше, чем сам Орасио.
— Так никогда ее и не увидев, Люсия?
— Я видела ее много раз, — нетерпеливо сказала Мага. — Орасио приносил ее на волосах, на пальто, дрожал от нее, смывал ее с себя.
— Этьен и Вонг говорили мне об этой женщине, — сказал Грегоровиус. — Они как-то видели их обоих в каком-то уличном кафе в Сен-Клу.[302] Только звездам известно, каким образом все они оказались в Сен-Клу, но так случилось. Орасио смотрел на нее не шевелясь, будто у него шея не двигалась.
Вонг потом вывел из этого свою сложную теорию о сексуальном пресыщении; он считает, что можно было бы бесконечно продвигаться в познании, если бы в определенный момент был достигнут такой коэффициент любви (это его слова, вы уж простите мне эти китайские иероглифы), когда дух резко переходит в какую-то иную плоскость и утверждается в сверхреальности. Вы в это верите, Люсия?
— Я думаю, мы все ищем что-то похожее, но нас почти всегда подставляют, или мы кого-то подставляем. Париж — это огромная любовь вслепую, мы тут все потеряли голову от любви, но все увязаем в чем-то зеленом, вроде как во мху, я не знаю. В Монтевидео было то же самое, там тоже по-настоящему не полюбишь, сразу же начинается что-то странное, сюжеты про простыни или про волосы, а у женщин еще много всего другого, Осип, аборты например. И все кончается.
— Любовь, сексуальность. Это одно и то же, о чем мы сейчас говорим?
— Да, — сказала Мага. — Если мы говорим о любви, значит, и о сексуальности. Если наоборот, то это не совсем так. Но сексуальность и секс — это разные вещи, мне кажется.
— Долой теории, — в отчаянии сказал Осип. — Все эти дихотомии и синкретизмы… Возможно, Орасио искал у Полы то, чего не находил в вас, я так думаю. Если говорить практически, так сказать.
— Орасио всегда ищет кучу всяких вещей, — сказала Мага. — Он устает от меня, потому что я не умею думать, вот и все. А Пола, наверное, только и делает, что думает.
— «Несчастна та любовь, которую лишь разум насыщает», — процитировал Осип.
— Давайте будем справедливы, — сказала Мага. — Пола очень красивая, я это знаю по глазам Орасио, когда он смотрел на меня, придя от нее, он был похож на спичку: ее зажжешь, и пламя взлетает кверху, пусть на одно мгновение, но это так здорово — чирк, сильный запах серы, огромное пламя, которое тут же гаснет. Таким он приходил, потому что Пола наполняла его красотой. Я ему это говорила, Осип, и правильно делала, что говорила. Из-за всего этого мы немного отдалились друг от друга, но все равно мы любили друг друга. Такие вещи ни с того ни с сего не происходят, Пола входила к нам в комнату, как солнце в окно, я должна думать именно так, если я хочу быть уверена, что говорю правду. Она входила, и тень постепенно отступала от меня, а Орасио весь зажигался, будто факел на носу корабля, выглядел загорелым и таким счастливым.
— Никогда бы не поверил. Мне казалось, вы… В конце концов, история с Полой прошла, как и многие другие. Можно, например, вспомнить Франсуазу.
— Это ерунда, — сказала Мага, стряхнув пепел на пол. — Это все равно что я буду вспоминать, например, Ледесму или еще кого-нибудь. Ясно одно — вы ничего в этом не понимаете. И не знаете, как все кончилось с Полой.
— Не знаю.
— Пора умирает, — сказала Мага. — Не из-за булавок, это была шутка, хотя я это делала всерьез, поверьте, очень даже всерьез. Она умирает от рака груди.
— И Орасио…
— Не будьте таким противным, Осип. Орасио ничего об этом не знал, когда оставил Полу.
— Помилуйте, Люсия, я…
— Вы прекрасно знаете, о чем говорите и чего хотите этой ночью, Осип. Так не будьте же канальей, даже не намекайте на это.
— Помилуйте, на что?
— На то, что Орасио знал об этом, когда оставил ее.
— Помилуйте, — повторил Грегоровиус. — Я ни сном ни духом…
— Не будьте таким противным, — твердила Мага. — Почему вам так хочется марать Орасио? Разве вы не знаете, что мы разошлись, что он ушел отсюда в дождь?
— Я ни на что не претендую, — сказал Осип, съеживаясь в кресле. — Я не такой, Люсия, вы все время неправильно меня понимаете. Мне придется встать на колени, как в сцене из «Капитана Грэффина», и умолять вас мне поверить, я…
— Оставьте меня в покое, — сказала Мага. — Сначала Пола, теперь вы. И эти пятна по стенам, и эта ночь, которая никак не кончается. Вы способны подумать, что это я убила Полу.
— Да никогда в моем воображении…
— Довольно, хватит. Орасио никогда мне этого не простит, даже если он уже не влюблен в Полу. Это же смешно, восковая куколка из рождественской свечки, хорошенькая зеленая восковая куколка, как сейчас помню.
— Люсия, я никогда бы не подумал…
— Он никогда меня не простил бы, хотя мы об этом ни разу не говорили. Он знал про это, потому что увидел куколку, утыканную булавками. Он бросил ее на пол и растоптал ногами. Он не знал, что так еще хуже, это увеличивает опасность. Пола живет на улице Дофин, он ходил к ней почти каждый вечер. Он не рассказывал вам о зеленой куколке, Осип?
— Очень возможно, — сказал Осип враждебно, не скрывая раздражения. — Вы же все сумасшедшие.
— Орасио говорил о новом порядке, о возможности обрести другую жизнь. Он всегда имел в виду смерть, когда говорил о жизни, это было неизбежно, и мы всегда над этим смеялись. Он сказал, что спит с Полой, и я поняла, он считает, что мне не стоит обижаться или устраивать ему сцену. На самом деле, Осип, я не так уж сильно была обижена, я тоже могу переспать с вами хоть сейчас, если бы мне захотелось. Это трудно объяснить, речь не идет об измене или о чем-то таком, Орасио всегда ужасно злится, когда слышит такие слова, как измена, обман. Должна сказать, как только мы познакомились, он сразу же сказал, что не берет на себя никаких обязательств. Я сделала куколку, потому что Пола вторглась в мою комнату, это было уже слишком, она могла украсть мою одежду, надеть мои чулки, пользоваться моими румянами, давать молоко Рокамадуру.
— Но вы же сказали, что не были с ней знакомы.
— Она была в Орасио, какой вы глупый. Глупый, глупый Осип. Бедный Осип, такой глупый. Она была в его куртке, в меховом воротнике, вы видели, у него куртка с меховым воротником. И Пола была там, когда он входил, в том, как он смотрел, и когда Орасио раздевался, вон там, в углу, и когда мылся вон в той лоханке, видите ее, Осип, от его кожи исходила Пола, я видела ее рядом с ним, словно призрак, и едва удерживалась, чтобы не заплакать, я думала о том, что меня в комнате Полы нет, что Пола никогда не найдет меня ни в волосах, ни в глазах, ни на коже Орасио. Не знаю, почему так вышло, но, как бы то ни было, мы любили друг друга. Не знаю, почему так вышло. Потому что я не умею думать, и он презирает меня за это, наверное, поэтому.
(-28)
28
На лестнице слышались шаги.
— Может, это Орасио, — сказал Грегоровиус.
— Может быть, — сказала Мага. — А может, часовщик с седьмого этажа, он всегда поздно приходит домой. Бы не хотите послушать музыку?
— В такой час? Ребенок может проснуться.
— Нет, мы поставим пластинку и сделаем совсем тихо, квартет звучит так еще лучше. Можно сделать так тихо, что будет слышно только нам, давайте попробуем.
— Это не Орасио, — сказал Грегоровиус.
— Не знаю, — сказала Мага, зажигая спичку и глядя на груду пластинок, сложенных в углу. — Может, он сидит под дверью, такое не раз бывало. Он иногда дойдет до дверей и вдруг передумает. Включите граммофон, вон там белая розетка, рядом с камином.
Стоя на коленях рядом с граммофоном, похожим на обувную коробку, Мага ощупью поставила в темноте пластинку, обувная коробка тихо загудела, и далекий аккорд послышался так близко, что можно было достать рукой. Грегоровиус стал набивать трубку, все еще немного шокированный. Ему не нравился Шёнберг, но дело было не в этом, ночь, больной ребенок, все это как-то за гранью. Вот именно, за гранью. Какой же он идиот. С ним иногда случались подобные приступы, когда некий порядок вещей мстил ему за то, что он его не соблюдал. Мага лежала на полу, головой почти что в обувной коробке, и, казалось, спала.
Время от времени слышалось хриплое дыхание Рокамадура, но Грегоровиус погрузился в музыку, поняв, что может уступить и дать увести себя, не противясь, и на мгновение стать этим давно умершим и похороненным уроженцем Вены. Мага курила, лежа на полу, ее лицо раз или два выступило из темноты, глаза были закрыты, волосы упали на лицо, щеки блестели, будто она плакала, но вряд ли она плакала, глупо думать, что она могла плакать, скорее она в раздражении кривила губы, услышав глухой удар в потолок, еще раз и еще. Грегоровиус вздрогнул и чуть было не закричал, почувствовав, как ее рука сжимает ему щиколотку.
— Не обращайте внимания, это старик с верхнего этажа.
— Но нам и самим-то едва слышно.
— Это трубы, — загадочно сказала Мага. — Все идет по ним, у нас уже так было несколько раз.
— Акустика — удивительная наука, — сказал Грегоровиус.
— Теперь пока не устанет, — сказала Мага. — Придурок.
Наверху продолжали стучать. Мага сердито выпрямилась и сделала звук еще тише. Прозвучали восемь или девять аккордов, пиццикато, и удары послышались снова.
— Не может быть, — сказал Грегоровиус. — Совершенно невозможно, чтобы ему было слышно.
— Ему слышнее, чем нам, в этом-то вся и беда.
— Не дом, а ухо Диониса.[303]
— Чье ухо? Чтоб ему пусто было, прямо во время адажио. Все стучит и стучит. Рокамадур может проснуться.
— Так, может, лучше…
— Нет, я не хочу. Пусть хоть потолок обвалится. Я бы поставила пластинку Марио дель Монако,[304] чтоб его проучить, жаль, у меня нет ни одной. Он кретин и свинья.
— Люсия, — мягко сказал Грегоровиус, — уже за полночь.
— Музыка всегда вовремя, — проворчала Мага. — Съеду я из этой комнаты. Тише уже нельзя, мы ничего не услышим. Подождите, прослушаем еще раз последний кусок. Не обращайте на него внимания.
Стук прекратился, и какое-то время квартет благополучно двигался к финалу, не слышно было даже сопения Рокамадура. Мага вздохнула, почти что припав ухом к граммофонной трубе. Снова послышались удары.
— Ну что за идиот, — сказала Мага. — И вот так всегда.
— Не упрямьтесь, Люсия.
— А вы не будьте дураком. Меня тошнит от них, я бы их всех вытолкала взашей. А если мне хочется послушать Шёнберга, если на одну минуту…
Она заплакала, с последним аккордом резким движением сняла с пластинки иглу, и поскольку она была совсем близко от Грегоровиуса, когда она наклонилась, чтобы выключить граммофон, как-то само собой вышло, что он взял ее за талию и посадил к себе на колени. Он погладил ее по голове, отвел волосы от лица. Мага судорожно всхлипывала и кашляла, дыша на него табаком.
— Бедненькая, бедненькая Люсия, — приговаривал Грегоровиус, лаская ее. — Никто-то ее не любит, никто на свете. Все так плохо обращаются с бедняжкой Люсией.
— Глупый, — сказала Мага, глотая слезы благоговения. — Я плачу не потому, что мне хочется плакать, и уж совсем не для того, чтобы меня утешали. Бог ты мой, ну и коленки у вас, острые, как ножницы.
— Посидите еще немного, — умоляюще сказал Грегоровиус.
— Больше не хочется, — сказала Мага. — Да что же это, он все стучит и стучит, идиот несчастный?
— Не обращайте внимания, Люсия. Бедненькая…
— Да говорю же вам, он никак не перестанет стучать, это невыносимо.
— Пусть себе стучит, — переменил тональность Грегоровиус.
— Но вы сами только что возмущались, — сказала Мага, рассмеявшись ему в лицо.
— Ради бога, если бы вы знали…
— Да я и так все знаю, но будьте спокойны, Осип, — сказала Мага, которая вдруг что-то поняла, — этот тип стучит не из-за музыки. Мы можем поставить другую пластинку.
— Боже мой, не надо.
— Но разве вы не слышите, что он продолжает стучать?
— Я поднимусь и набью ему морду, — сказал Грегоровиус.
— Давайте, — поддержала его Мага, вскакивая с его колен и освобождая ему проход. — Скажите ему, что нет у него таких прав — будить людей в час ночи. Идите, поднимитесь к нему, его дверь налево, к ней ботинок прибит.
— К двери прибит ботинок?
— Да, старик совершенно спятил. Ботинок и кусок зеленого аккордеона. Так что же вы не идете?
— Не думаю, что стоит это делать, — устало сказал Грегоровиус. — Это все не то, бесполезно все. Люсия, вы не поняли, что… Да что же это такое, в конце-то концов, перестанет он стучать или нет?
Мага отошла в угол комнаты, сняла висевшую на стене метелку, как показалось Грегоровиусу, и изо всех сил стукнула ручкой метлы в потолок. Наверху воцарилась тишина.
— Теперь можем слушать что хотим, — сказала Мага.
«Я вот спрашиваю себя…» — подумал Грегоровиус, чувствуя, что страшно устал.
— Например, — сказала Мага, — сонату Брамса. Как чудесно, что ему надоело стучать. Подождите, я найду пластинку, она должна быть где-то здесь. Ничего не вижу.
«А если Орасио за дверью, — продолжал думать свое Грегоровиус. — Сидит себе на лестничной площадке, прислонившись к двери, и все слышит. Подобно рисунку на картах таро, который можно переворачивать и так и сяк, многогранник, где каждая грань и каждая сторона имеют свой смысл, по отдельности ничего не значащий, но в сочетании являющий собой глубинное осмысление, откровение. Вот так и Брамс, и я, и стук в потолок, и Орасио: все это медленно движется к своему объяснению. Впрочем, все бесполезно». Он подумал, а что произойдет, если он попытается еще раз обнять Магу в темноте. «Но ведь он там и все слышит. Может, даже получает удовольствие оттого, что слушает нас, порой он бывает отвратителен». Орасио внушал ему страх, но он не признавался себе в этом.
— Вот она, кажется, — сказала Мага. — Да, серебристая этикетка и на ней две птички. Кто там разговаривает за дверью?
«Многогранник, нечто прозрачное, постепенно проступающее в темноте, — подумал Грегоровиус. — Сейчас она скажет это, а за дверью произойдет то, и я… Но я не знаю, что это и что то».
— Это Орасио, — сказала Мага.
— Орасио и какая-то женщина.
— Нет, это наверняка старик сверху.
— Тот, у которого ботинок на дверях?
— Да, у него голос старухи, на сороку похоже. Он всегда ходит в каракулевой шапке.
— Лучше сейчас не ставить пластинку, — посоветовал Грегоровиус. — Подождем, что будет.
— Значит, мы так и не услышим сонату Брамса, — разозлившись, сказала Мага.
«Забавное смещение ценностей, — подумал Грегоровиус. — На лестничной площадке, в полнейшей темноте, двое почти готовы схватиться врукопашную, а она думает только о том, что не может послушать свою сонату». Но Мага оказалась права, она, как всегда, была единственной, кто оказался прав. «А у меня больше предрассудков, чем мне казалось, — подумал Грегоровиус. — Думаешь, если ты ведешь жизнь свободного художника, паразитируя на материальных и духовных ценностях Лютеции, то ты безгрешен, как представитель доадамовой эпохи. Ну и дурак же я».
— «The rest is silence»,[305] — сказал Грегоровиус, вздыхая.
— Silence my foot,[306] — ответила Мага, которая довольно сносно знала английский. — Сейчас посмотрим, начнут они снова или нет. Первым заговорит старик. Ну вот, начал. «Mais qu’est-ce que vous foutez?»[307] — передразнила она, гнусавя. — Посмотрим, что ответит Орасио. Мне кажется, он тихонько смеется, когда ему смешно, он не может найти слов, просто невероятно. Пойду посмотрю, что там.
— Так было хорошо, — прошептал Грегоровиус, как будто явился ангел специально для того, чтобы его выставить. Герард Давид, Ван дер Вейден, Мастер из Флемаля,[308] в этот час все ангелы, неизвестно почему, были чертовски похожи на фламандцев, толстомордых и глупых, но гладеньких и сияющих, а также непроходимобуржуазных (Daddy-ordered-it, so-you-better-beat-it-you-lousy-sinner),[309] В комнате полно ангелов, I looked up to heaven and what did I see / A band of angels comin after my,[310] обычный финал, ангелы-полицейские, ангелы — налоговые инспекторы, просто ангелы. До чего же обрыдло все, струйка холодного воздуха забралась под штанину, на лестничной площадке слышна ругань, силуэт Маги в дверном проеме.
— C’est pas de façons ça, — говорил старик, — empêcher les gens de dormir à cette heure c’est trop con. J’me plaindrai à la Police, moi, et puis qu’est que vous foutez là, vous planquez par terre contre la porte? J’aurais pu me casser la gueule, merde alors.[311]
— Иди спать, дедуля, — говорил Орасио, поудобнее устраиваясь на полу.
— Dormir, moi, avec le bordel que fait votre bonne femme? Ça alors comme culot, mais je vous préviens, ça ne passera pas comme ça, vous aurez de mes nouvelles![312]
— «Mais de mon frère le Poète on a eu de nouvelles»,[313] — зевая, сказал Орасио. — Ты знаешь, что это за тип?
— Он идиот, — сказала Мага. — Тихо ставишь пластинку — он стучит, снимаешь пластинку — он стучит. Что он хочет, в конце-то концов?
— Да ладно, есть такой анекдот про одного типа, который уронил с ноги башмак,[314] че.
— Не знаю такого, — сказала Мага.
— Я это предполагал, — сказал Оливейра. — В сущности, старики внушают мне почтение с примесью разных других чувств, но этому я бы купил бутыль формалина и засунул бы его внутрь, чтоб он больше нас не доставал.
— Et en plus ça m’insulte dans son charabia de sales metêques, — сказал старик. — On est en France, ici. Des salauds, quoi. On devrait vous mettre à la porte, c’est une honte. Qu’est-ce que fait le Gouvernement, je me demande. Des Arabes, tous des fripouilles, bande de tueurs.[315]
— Да хватит вам про грязных чужаков, знали бы вы, сколько в Аргентине французишек, которые стригут с нее купоны, — сказал Оливейра. — А что вы слушали, че? Я только что пришел, весь промок.
— Квартет Шёнберга. А сейчас я хотела тихонечко поставить сонату Брамса.
— Лучше оставить ее на завтра, — примирительно сказал Оливейра, приподнимаясь на локте, чтобы закурить «Голуаз». — Идите к себе, мсье, больше вам сегодня мешать не будут.
— Des fainéants, — сказал старик. — Des tueurs, tous.[316]
Спичка зажглась и осветила каракулевую шапку, засаленный халат, маленькие злобные глазки. От шапки на лестничной клетке плясали гигантские тени, Маге это очень понравилось. Оливейра поднялся, дунул на спичку и вошел в комнату, осторожно закрыв за собой дверь.
— Привет, — сказал Оливейра. — Ни черта не видно, че.
— Привет, — сказал Грегоровиус. — Слава богу, ты его спровадил.
— Per modo di dire.[317] Вообще-то старик прав, не говоря уже о том, что он старик.
— Быть стариком еще не причина, — сказала Мага.
— Может, и не причина, зато что-то вроде охранной грамоты.
— Ты сам как-то сказал, драма Аргентины в том, что ею руководят старики.
— Над этой драмой уже опустился занавес, — сказал Оливейра. — Со времен Перона[318] все пошло наоборот, теперь молодые держат банк, и это оказывается еще хуже, а что поделаешь. Возраст, поколение, звание, классовая принадлежность в качестве аргументов — сплошная бессмыслица. Я полагаю, поскольку мы все так надрываемся и шепчем, Рокамадур спит сном праведника.
— Да, он уснул еще до того, как мы начали слушать музыку. Можно подумать, ты купался, Орасио.
— Я был на фортепианном концерте, — объяснил Оливейра.
— А-а, — сказала Мага. — Ладно, снимай куртку, я заварю тебе свежий мате.
— И стакан каньи,[319] там, кажется, еще оставалось полбутылки.
— Что такое канья? — спросил Грегоровиус. — То же самое, что грапа?
— Нет, это скорее похоже на сливовицу. Рекомендуется после концертов, особенно если это первое исполнение со всеми вытекающими отсюда последствиями. Что если мы зажжем в комнате хоть какой-нибудь свет, совсем маленький, и так, чтобы он не падал в глаза Рокамадуру?
Мага включила лампу и поставила ее на пол — получилось нечто в духе Рембрандта, что показалось Оливейре вполне подходящим. Возвращение блудного сына, он вернулся, пусть случайно и ненадолго, ведь он сам не знал, зачем вернулся сюда, поднялся по ступенькам и улегся на полу, слушая из-за двери финал квартета и шепот Осипа и Маги. «Должно быть, занимались любовью, как кошки», — подумал он, глядя на них. Впрочем, нет, не может быть, чтобы они, предполагая его возвращение этой ночью, быстренько оделись, да и Рокамадур лежит на кровати. Если бы Рокамадура устроили на двух стульях, а Грегоровиус был бы без ботинок и пиджака… Хотя, какого черта, теперь это значит, что третий лишний здесь — это он, в куртке, с которой натекли лужи, сплошное свинство.
— Акустика, — сказал Грегоровиус, — вещь совершенно необычайная: звук входит в материю и поднимается по этажам, проходит сквозь стену и достигает изголовья кровати, — поверить невозможно. Вы никогда не пробовали погружаться в ванну с головой?
— Мне случалось, — сказал Оливейра, бросая куртку в угол и усаживаясь на табурет.
— Если опустить голову в воду, слышно все, о чем говорят соседи снизу. Я думаю, звук идет по трубам. Однажды, в Глазго, я таким образом узнал, что мои соседи троцкисты.
— Глазго кажется городом, где всегда плохая погода, а в порту много печальных людей, — сказала Мага.
— Смахивает на кинофильм, — сказал Оливейра. — А вот мате — это как отпущение грехов, невыразимое утешение. Мамочки мои, в ботинках полно воды. А знаете, мате — это все равно что красная строка. Выпил — и можешь начинать новый абзац.
— Не понимаю я этих ваших изысков уроженцев пампы, — сказал Грегоровиус. — Но кажется, кто-то говорил про выпивку.
— Тащи сюда канью, — скомандовал Оливейра. — Говорю же, там еще оставалось полбутылки.
— Вы купили ее здесь? — спросил Грегоровиус.
«Какого черта он все время говорит во множественном числе? — подумал Оливейра. — Не иначе, они тут кувыркались всю ночь, это верный признак. Так-то».
— Нет, мне ее присылает брат, че. У меня в Росарио[320] есть брат, просто прелесть что за человек. Поставляет мне канью и наставления в неограниченных количествах.
Он протянул остатки мате Маге, которая сидела у его ног, держа чайник на коленях. Он почувствовал себя лучше. Пальцы Маги коснулись его щиколоток, она стала развязывать ему шнурки. Он вздохнул, когда она сняла с него ботинки. Мага сняла с него мокрый носок и обернула ногу в сложенную вдвое газету «Figaro Lit-teraire».[321] Мате был очень горячий и очень горький.
Грегоровиусу понравилась канья, это, конечно, не сливовица, но похоже.
Она представляла собой целый набор венгерских и чешских напитков, целый ряд ностальгий. Был слышен тихий шум дождя, всем было очень хорошо, особенно Рокамадуру, который уже больше часа спал, ни разу не пикнув. Грегоровиус рассказывал о Трансильвании, о любовных приключениях, которые были у него в Салониках. Оливейра вспомнил, что на тумбочке лежала пачка «Голуаз», а в тумбочке домашние тапочки. Он ощупью подошел к кровати. «В Париже любое воспоминание о чем-то происходившем дальше Вены кажется литературой», — говорил Грегоровиус извиняющимся тоном. Орасио нашел сигареты и открыл дверцу тумбочки, чтобы достать тапочки. В полутьме виднелся профиль Рокамадура, который спал лицом кверху. Не очень понимая, зачем он это делает, Оливейра потрогал рукой его лоб. «Моя мать не слишком часто упоминала о Трансильвании, опасалась, как бы кто-нибудь не вспомнил истории о вампирах или еще о чем-нибудь таком… А еще токай, ну, вы знаете…» Сидя на корточках около кровати, Орасио видел комнату лучше. «Представьте, что вы в Монтевидео, — говорила Мага. — Думаешь, что человечество — это одно целое, но когда живешь около Холма…[322] А токай — это птица?» — «В определенном смысле, да».[323] Естественная реакция в подобных случаях. Что дальше: сначала… («Что значит „в определенном смысле“? Это птица или это не птица?»), надо просто приложить палец к губам, если нет ответа. «Я позволю себе не слишком оригинальный образ, Люсия. В каждом хорошем вине дремлет птица». Искусственное дыхание, какой идиотизм. Еще больший идиотизм сидеть на полу босым, в мокрой одежде, с трясущимися руками (надо бы растереться спиртом, и посильнее). «Un soir, l’âme du vin chantait dans les bouteilles,[324] — декламировал Осип. — Похоже, это Анакреонт…[325]» Мага молчала, и ее обида буквально висела в воздухе, можно было дотронуться рукой до ее мыслей: Анакреонт — это греческий писатель, которого я никогда не читала. Все его знают, кроме меня. Так чьи же это стихи, «un soir, l’âme du vin»?[326] Рука Орасио скользнула под простыню, ему стоило огромного усилия дотронуться до крошечного животика Рокамадура, ножки совсем холодные, повыше показалось, он вроде еще теплый, но нет, тельце было совсем холодным. «Поступить как принято, — подумал Орасио. — Закричать, включить свет, вопить и бесноваться было бы нормально и соответственно ситуации. Но зачем? Но может быть, пока еще… Значит, тогда получается, что это инстинктивное движение ничего не даст, и я знаю это изначально. Если я начну кричать, будет то же, что с Берт Трепа, еще одна бесполезная попытка, жалость. Сделать все как надо, то, что делают в подобных случаях. Нет, хватит. Зачем зажигать свет и кричать, если я знаю, что это ничего не даст? Комедиант, законченный поганый комедиант. Самое большее, что можно сделать, — это…» Было слышно, как бутылка звякнула о стакан Грегоровиуса. «Да, это очень напоминает сливовицу». Держа во рту сигарету, он чиркнул спичкой и внимательно вгляделся. «Ты его разбудишь», — сказала Мага, заваривая свежий мате. Орасио с силой дунул на спичку. Известно, что если на зрачок попадает луч света, и так далее. Quod erat demostrandum.[327]«Похоже на сливовицу, но не такая ароматная», — сказал Осип.
— Старик опять стучит, — сказала Мага.
— Может, он дверью хлопнул, — сказал Грегоровиус.
— В этом доме в квартирах только одна дверь. Просто он спятил, это точно.
Оливейра надел тапочки и сел в кресло. Мате был превосходный, горячий и очень горький. Наверху стукнули два раза, но не слишком сильно.
— Он бьет тараканов, — предположил Грегоровиус.
— Нет, он вошел в раж и решил не давать нам спать. Орасио, поднимись и поговори с ним.
— Поднимись сама, — сказал Оливейра. — Не знаю почему, но тебя он боится больше, чем меня. По крайней мере, он не вытаскивает на свет божий ксенофобию,[328] апартеид и прочую сегрегацию.
— Если я пойду, то наговорю ему такого, что он побежит за полицией.
— В такой-то дождь? Найди к нему подход, похвали украшение на двери, напомни о том, что ты мать. Давай сходи, послушайся меня.
— Мне не хочется, — сказала Мага.
— Иди, детка, — тихо сказал Оливейра.
— Почему ты хочешь, чтобы я ушла?
— Чтобы сделать себе приятное. Вот увидишь, он больше не будет.
Стукнули два раза. Потом еще раз. Мага встала и вышла из комнаты. Орасио пошел за ней, а когда убедился, что она поднимается по лестнице, включил свет и посмотрел на Грегоровиуса. Потом указал на кровать. Спустя минуту он погасил свет, а Грегоровиус вернулся в кресло.
— Представить себе невозможно, — сказал Осип, хватаясь в темноте за бутылку каньи.
— Вот именно. Невозможно, неизбежно и все такое прочее. Старик, давай обойдемся без некрологов. Меня не было в этой комнате всего один день, и этого оказалось достаточно, чтобы произошли такие ужасные вещи. Но, в конце концов, одно убыло, другое прибыло.
— Не понимаю, — сказал Грегоровиус.
— Ты прекрасно меня понимаешь. Ça va, ça va.[329] Ты не представляешь себе, как мало меня это волнует.
Грегоровиус обратил внимание на то, что Оливейра обращается к нему на «ты» и что это меняет дело, как если бы еще можно было… Он что-то сказал насчет Красного Креста, дежурной аптеки…
— Делай то, что считаешь нужным, мне все равно, — сказал Оливейра. — Сегодня выдался такой день… Ну и денек, братишка.
Растянуться бы сейчас на кровати и уснуть на пару лет. «Мокрая курица», — подумал про себя Оливейра. Грегоровиусу передалось его пассивное состояние, он с трудом набил трубку. Издалека доносились голоса, голос Маги сквозь шум дождя, визгливая брань старика. Еще на каком-то этаже хлопнула дверь, кто-то требовал перестать шуметь.
— В сущности, ты прав, — согласился Грегоровиус. — Но существует ответственность перед законом, я так думаю.
— Тогда мы влипли по самые уши, — сказал Оливейра. — Особенно вы двое, я-то всегда могу доказать, что пришел, когда все уже было кончено. Мать оставляет ребенка умирать, пока принимает на ковре любовника.
— Ты хочешь сказать…
— Это уже совершенно неважно, че.
— Но это же неправда, Орасио.
— Мне все равно, это факт второстепенный. Я не имею к этому никакого отношения, я поднялся, потому что промок и хотел выпить мате. Че, сюда идут.
— Надо бы, наверное, позвать свидетелей, — сказал Грегоровиус.
— Давай зови. Тебе не кажется, что это голос Рональда?
— Я здесь не останусь, — сказал Грегоровиус, поднимаясь с места. — Надо же что-то делать, говорю тебе, надо что-то делать.
— Я абсолютно в этом убежден, че. Деятельность, прежде всего деятельность. Die Tätigkeit,[330] старина. Тсс, только вас здесь и не хватало. Говорите тише, че, а то ребенка разбудите.
— Привет, — сказал Рональд.
— Чао, — сказала Бэбс, пытаясь просунуться в дверь с открытым зонтиком.
— Говорите тише, — сказала Мага, которая появилась вслед за ними. — Почему бы тебе не закрыть зонтик, а потом войти?
— И правда, — сказала Бэбс. — Я всегда об этом забываю. Не шуми, Рональд. Мы на минутку, только чтобы рассказать про Ги, это ужасно. У вас что, пробки перегорели?
— Нет, это из-за Рокамадура.
— Тише ты, — сказал Рональд. — И поставь куда-нибудь в угол свой поганый зонтик.
— Он так трудно закрывается, — сказала Бэбс. — А открывается легко.
— Старик грозил полицией, — сказала Мага, закрывая дверь. — Чуть не побил меня, верещал, как безумный. Осип, видели бы вы, что творится у него в квартире, с лестницы видно. На столе полно пустых бутылок, а посредине ветряная мельница, такая огромная, чуть ли не в натуральную величину, как на полях в Уругвае. И крылья крутятся, потому что в квартире ветер гуляет, я не удержалась и подсмотрела в щелку, старик прямо-таки зашелся от злости.
— Никак не могу его закрыть, — сказала Бэбс. — Я поставлю его в угол.
— Он похож на летучую мышь, — сказала Мага. — Дай, я закрою. Видишь, как просто?
— Она сломала две спицы, — сказала Бэбс Рональду.
— Кончай меня доставать, — сказал Рональд. — Так вот, мы сразу же к вам, рассказать, что Ги принял целую упаковку гарденала.
— Бедный ангел, — сказал Оливейра, которому никогда не нравился Ги.
— Этьен нашел его чуть ли не при смерти, мы с Бэбс ходили на выставку (я потом расскажу про нее, это здорово), а Ги поднялся к себе, лег в постель и отравился, представляешь себе?
— Не has no manners at all, — сказал Оливейра. — C’est regrettable.[331]
— Этьен пришел за нами, к счастью, у всех есть ключи, — сказала Бэбс. — Он услышал, кого-то рвет, вошел, а там Ги. Он был при смерти, Этьен на всех парах бросился за помощью. Его отвезли в больницу, состояние крайне тяжелое. Да еще этот дождь, — уныло добавила Бэбс.
— Садитесь, — сказала Мага. — Нет, не сюда, Рональд, у этого стула нет ножки. Так темно, это из-за Рокамадура. Говорите тише.
— Свари им кофе, — сказал Оливейра. — Ну и погодка, че.
— Мне нужно идти, — сказал Грегоровиус. — Не вижу, куда я положил свой плащ. Нет, это не он. Люсия…
— Оставайтесь, выпейте кофе, — сказала Мага. — Все равно метро уже не работает, а нам тут хорошо. Ты не намелешь свежего кофе, Орасио?
— Здесь такой тяжелый воздух, — сказала Бэбс.
— А на улице тебя удивляет, что пахнет озоном, — раздраженно сказал Рональд. — Ты как лошадь, видишь только что-нибудь одно и только в общих очертаниях. Локальные цвета, гамма из семи звуков. Поверьте мне, в ней есть что-то нечеловеческое.
— Человечность — это идеал, — сказал Оливейра, пытаясь ощупью найти кофемолку. — У воздуха тоже есть своя история, че. Пройтись по мокрой улице, где так много озона, как ты говоришь, и вдруг попасть в атмосферу, где пятьдесят веков заботились о сохранении нужной температуры и тепла… Бэбс чувствует воздух просто как Рип ван Винкль.[332]
— О, Рип ван Винкль, — сказал Бэбс растроганно, — мне мама про него рассказывала.
— В Айдахо, знаем, — сказал Рональд. — Короче, Этьен позвонил нам из бара на углу с полчаса назад и сказал, что лучше нам сегодня домой не ходить, по крайней мере до тех пор, пока не выяснится, умер Ги или его вырвало гарденалом. Хорошего мало, если придут полицейские ищейки и застанут нас в квартире, они и так большие мастера соединять одно с другим, тем более когда дело касается Клуба, который им надоел до смерти.
— А что плохого в Клубе? — сказала Мага, вытирая чашки полотенцем.
— Ничего, но именно поэтому и чувствуешь себя незащищенным. Соседи все время жалуются на шум, на громкую музыку, на то, что мы приходим в любое время суток… Не говоря уже о том, что Бэбс переругалась с консьержкой и со всеми женщинами нашего дома от пятидесяти до шестидесяти.
— They are awful,[333] — сказала Бэбс, посасывая карамельку, которую она вынула из кармана. — Они везде унюхают марихуану, даже если готовишь гуляш.
Оливейра устал молоть кофе и передал кофемолку Рональду. Все говорили тихо, Бэбс и Мага обсуждали возможные причины самоубийства Ги. Грегоровиус перестал надоедать со своим плащом и, поудобнее усевшись в кресле, тихо сидел с погасшей трубкой во рту. Капли дождя стучали в стекло.
«Шёнберг и Брамс, — подумал Оливейра, вытаскивая „Голуаз“. — Не так уж плохо, обычно в подобных обстоятельствах прибегают к Шопену или к „Todesmusik“[334] на смерть Зигфрида.[335] В результате вчерашнего торнадо в Японии погибло две или три тысячи человек. Статистика утверждает…» Однако статистика не отбила у сигареты сального привкуса. Он зажег спичку и стал рассматривать сигарету. Это был прекрасный голуаз, белоснежный, с тонкими буковками и колючими травинками, которые слегка топорщились на влажном конце. «Вечно я, когда нервничаю, мусолю сигарету, — подумал он. — Например, когда думаю о Роз Боб… Да, день сегодня выдался — ничего не скажешь, а худшее еще впереди». Надо бы сказать обо всем Рональду, чтобы тот передал Бэбс с помощью одной из своих систем связи, почти телепатической, которые так удивляли Перико Ромеро. Теория коммуникативных систем — одна из интереснейших тем, которые литература не брала на вооружение, пока не появился Хаксли или последователи Борхеса нового поколения. Сейчас Рональд поглощен перешептываниями Маги и Бэбс, кофемолку крутит еле-еле, такими темпами кофе будет готов в одна тысяча неизвестно каком году. Оливейра съехал на пол с кошмарного кресла в стиле art nouveau и устроился на полу, упершись головой в кипу газет. На потолке было какое-то странное свечение, а может, оно было игрой его воображения, еще больше, чем все прочее. Если закрыть глаза, свечение продолжалось еще какое-то время, а потом начинали лопаться огромные фиолетовые шары, один за другим, пф, пф, пф, и каждый шар, совершенно очевидно, соответствовал не то систоле, не то диастоле, поди знай. А где-то в глубине дома, наверное на третьем этаже, звонил телефон. В Париже в этот час вещь немыслимая. «Еще кто-то умер, — подумал Оливейра. — По другому поводу в этом городе не звонят, здесь берегут свой сон». Он вспомнил, как однажды его приятель из Аргентины, из новоприбывших, счел совершенно естественным позвонить ему в половине одиннадцатого вечера.
Ему, видимо, пришло в голову проконсультироваться с телефонным справочником «Bottin», и он тут же набрал первый попавшийся номер телефона дома, где жил Оливейра, — разумеется, он попал не туда. Выражение лица добропорядочного господина с шестого этажа, который постучался к нему в халате, было совершенно ледяным, quelqu’un vous demande au telephone,[336] Оливейра в смущении натягивает футболку, поднимается на шестой этаж, навстречу ему разгневанная мадам, и он узнает, что его приятель Эрмида уже в Париже, когда мы увидимся, че, я тебе новости привез обо всех на свете, о Травелере и обо всех наших из Биду, и так далее и тому подобное, а мадам, скрывая раздражение, ждет, когда Оливейра начнет плакать, узнав о кончине кого-то близкого и дорогого, а Оливейра не знает, что делать, je suis tellement confus, madam, monsieur, c’était un ami qui vient d’arriver, vous comprenez, il n’est pas du tout au courant des habitudes…[337] Ax, Аргентина, там кто когда хочет, тогда и приходит, двери дома открыты всегда, времени — до небес, все впереди, вся жизнь, пф, пф, пф, а вот у того, кто сидит в трех метрах от меня, в глазах ничего такого, наверное, нет, ничего и не может быть, пф-пф, теория коммуникативных систем рухнула, ни мамы, ни папы, ни жареной картошки, ни пи-пи, ни пф-пф — ничего, только трупное окоченение, а вокруг какие-то люди, даже не уругвайцы и не мексиканцы, а те, которые всегда слушают музыку во время бдения у тела маленького ангела Господня и появляются всякий раз, когда потянешь за ниточку из клубка, люди не настолько простые, чтобы пережить это ужасное происшествие, приняв его близко к сердцу как что-то свое, но и не настолько самоуверенные, чтобы не реагировать на подобные обстоятельства, посчитав их за one little casualty,[338] как, например, три тысячи человек, сметенных ураганом «Вероника». «Все это дешевая антропология, — подумал Оливейра, чувствуя, как холодок сводит желудок судорогой. А кончается все и всегда нервами. — Вот что такое настоящая коммуникативная система — предупреждающие знаки под кожей. И для этого нет словаря, че». Кто погасил рембрандтовскую лампу? Он не помнил точно, но кажется, какое-то время назад над полом словно бы клубилась пыль цвета старого золота, однако сколько бы он ни старался восстановить в памяти все, что было после прихода Рональда и Бэбс, ничего не получалось, в какой-то момент Мага (потому что это наверняка была Мага), а может, Грегоровиус, — словом, кто-то из них погасил лампу.
— Как ты будешь делать кофе в потемках?
— Не знаю, — сказала Мага, расставляя чашки. — Только что был какой-то свет.
— Зажги лампу, Рональд, — сказал Оливейра. — Она под твоим стулом. Просто поверни абажур, классический способ.
— Идиотизм какой-то, — сказал Рональд, и никто не понял, относилось ли это к способу включения лампы или к чему-то еще. Свет унес фиолетовые шары, и Оливейра почувствовал вкус сигареты. Сейчас ему было и вправду хорошо, он согрелся, и скоро они будут пить кофе.
— Иди сюда, — сказал Оливейра Рональду. — Тебе здесь будет лучше, чем на стуле, у него в сиденье что-то острое, так и втыкается прямо в задницу. Вонг включил бы его в свою пекинскую коллекцию, я уверен.
— Мне и здесь хорошо, — сказал Рональд. — Если мы правильно поняли друг друга.
— Тебе там неудобно. Иди сюда. Если вообще эти две сеньоры сделают нам когда-нибудь кофе.
— Посмотрите на этого крутого мачо, — сказала Бэбс. — Он что, всегда такой?
— Почти всегда, — сказала Мага, не глядя на него. — Помоги мне, вытри этот поднос.
Оливейра подождал, когда Бэбс начнет свои обычные комментарии насчет того, как готовить кофе, и когда Рональд сполз со стула и оказался вплотную к нему, он сказал ему на ухо несколько слов. Грегоровиус, который их слышал, включился в разговор о кофе, и реакция Рональда потонула в похвалах мокко и сетованиях по поводу исчезающего искусства его приготовления. Потом Рональд снова сел на стул, как раз когда Мага протягивала ему чашку кофе. В потолок тихо стукнули два, нет, три раза. Грегоровиус вздрогнул и выпил кофе залпом. Оливейра с трудом сдерживался, чтобы не расхохотаться, отчего желудочный спазм, может быть, мог бы и пройти. Мага было словно чем-то удивлена, она в потемках переводила взгляд с одного на другого, а потом стала шарить на столе в поисках сигарет, будто хотела уйти от чего-то, чего она не понимала, как иногда бывает во сне.
— Я слышу шаги, — сказала Бэбс, подражая интонациям Блаватской.[339] — Этот старик, должно быть, сумасшедший, с ним надо соблюдать осторожность. Однажды, в Канзас-Сити… Нет, это кто-то поднимается по лестнице.
— Я слышу все, что происходит на лестнице — сказала Мага. — Мне ужасно жалко глухих. — Мне сейчас кажется, что я рукой ступаю по ступенькам, с одной на другую. В детстве я получила десятку за одно сочинение, я написала историю про один маленький шумок. Очень симпатичный шумок, он приходил и уходил, с ним случались разные вещи…
— А я наоборот… — сказала Бэбс. — О’кей, о’кей, перестань меня щипать.
— Душа моя, — сказал Рональд, — помолчи секунду, чтобы мы могли понять, чья это поступь. Да, это король красок, это Этьен, великая бестия Апокалипсиса.
«Как он спокойно все принял, — подумал Оливейра. — Лекарство Рокамадуру полагалось, кажется, в два часа. У нас еще больше часа». Он не понимал и не хотел понимать, зачем нужна эта отсрочка, отрицание того, что уже известно. Отрицание, отрицательный… «Да, все равно что отрицание той действительности, какой-она-должна-быть, то есть… Не впадай в метафизику, Орасио. Alas, poor Yorick, ça suffit.[340] Раз я не могу этого избежать, мне кажется, будет лучше, если мы включим свет и выпустим это известие, как голубя. Отрицание. Полная инверсия… Скорее это он один тут живой, а мы все умерли. Напрашивается простое предположение: он убил нас за то, что мы повинны в его смерти. Повинны, то есть являемся пособниками определенного положения вещей… Ох, мой дорогой, куда тебя занесло, ты как осел, у которого перед носом размахивают морковкой. Это и правда Этьен, не кто иной, как он, великая бестия от живописи».
— Он выжил, — сказал Этьен. — Сукин сын, у него больше жизней, чем у Цезаря Борджиа. Вот уж действительно, что значит вовремя поблевать…
— Расскажи, расскажи, — сказала Бэбс.
— Промывание желудка, клизмы из чего-то там, не знаю из чего, уколы во все места, кровать на пружинах, чтобы голову держать книзу. Он выблевал все меню ресторана «Орест», где он, видимо, обедал. Ужас, что было, вплоть до виноградных листьев, чем-то фаршированных. Вы себе представляете, как я вымок?
— Есть горячий кофе, — сказал Рональд. — А также напиток под названием канья, отвратительный.
Этьен фыркнул, бросил плащ в угол и подошел поближе к печке.
— Как малыш, Люсия?
— Спит, — сказала Мага. — Крепко спит, к счастью.
— Давайте говорить потише, — сказала Бэбс.
— Где-то около одиннадцати вечера он пришел в сознание, — рассказывал Этьен, почти с нежностью. — Обделался, как свинья, что да, то да. Врач разрешил мне подойти к постели, и он меня узнал. «Ну ты и кретин», — сказал я. «Пошел к черту», — ответил он. Врач сказал мне на ухо, что это хороший признак. В палате были еще какие-то типы, я-то перенес все это нормально, притом что больницы для меня…
— Ты дома был? — спросила Бэбс. — Тебе пришлось идти в комиссариат?
— Нет, все улажено. Тем не менее будет осмотрительней, если вы все останетесь здесь на сегодняшнюю ночь, видели бы вы лицо консьержки, когда выносили Ги…
— The lousy,[341] — сказала Бэбс.
— Я скроил добродетельную мину и, проходя мимо нее, дотронулся до ее руки и сказал: «Мадам, любая смерть заслуживает уважения. Этот юноша убил себя из-за неразделенной любви к Крейслеру[342]». Вы не поверите, она окаменела, глаза вылезли из орбит, ну точно яйца вкрутую. И как раз когда носилки поравнялись с дверью, Ги приподнялся, подпер щеку бледной рукой, точь-в-точь как на этрусских саркофагах, и его вырвало чем-то зеленым прямо на кофту консьержки. Санитары корчились от смеха, это было что-то невероятное.
— Еще кофе, — попросил Рональд. — Садись сюда, здесь пол теплее всего. Чашечку доброго кофе для бедняги Этьена.
— Не видно ничего, — сказал Этьен. — А почему я должен сидеть на полу?
— Чтобы составить компанию нам с Орасио, мы тут что-то вроде дозорных, — сказал Рональд.
— Не валяй дурака, — сказал Оливейра.
— Послушай меня, садись сюда, и ты узнаешь такое, о чем даже Вонг не знает. Ошеломляющие книги, документы со скрытым смыслом. Как раз сегодня утром я развлекался, читая «Бардо».[343] Тибетцы — существа необыкновенные.
— Кто тебя на это сподвиг? — спросил Этьен, втискиваясь между Оливейрой и Рональдом и залпом проглатывая кофе. — Выпить, — сказал Этьен, повелительно вытянув руку в сторону Маги, которая передала ему бутылку каньи, зажав ее между пальцами. — Мерзость, — сказал Этьен, отхлебнув глоток. — Не иначе, что-нибудь аргентинское. Что за страна, бог ты мой.
— Не трогай мою родину, — сказал Оливейра. — Ты похож на старика с верхнего этажа.
— Вонг меня тестировал, — стал рассказывать Рональд. — Он говорит, что я уже достаточно набрался ума, чтобы подвергнуть его перестройке мне же во благо. Мы договорились, что я внимательно прочитаю «Бардо» и потом мы перейдем к основам буддизма. А может, и правда существует астральное тело кроме физического, Орасио? И когда кто-то умирает… Ты понимаешь, он переходит в ментальное тело, что-то вроде этого.
Но Орасио говорил что-то на ухо Этьену, который нервно бурчал в ответ, благоухая уличной сыростью, больницей и тушеной капустой. Бэбс перечисляла Грегоровиусу, который слушал с отсутствующим видом, нескончаемый список пороков, которыми отличаются консьержки. Увязнув в недавно обретенных познаниях, Рональд испытывал непреодолимое желание объяснить кому-нибудь, что такое «Бардо», и остановил свой выбор на Маге, которая в темноте была похожа на скульптуру Генри Мура;[344] с пола она виделась ему огромной — сначала колени, которые под юбкой казались сплошной черной массой, потом торс, который возвышался чуть ли не до потолка, а еще выше — копна волос чернее мрака, и во всем этом скопище теней, в свете лампы, стоявшей на полу, блестели ее глаза, — Мага сидела в кресле, то и дело предпринимая усилия, чтобы не сползти на пол, поскольку передние ножки кресла были короче задних.
— Дело дрянь, — сказал Этьен, отхлебнув из бутылки.
— Можешь уйти, если хочешь, — сказал Оливейра. — Не думаю, что будут какие-нибудь серьезные последствия, в этом квартале такие вещи не редкость.
— Я остаюсь, — сказал Этьен. — Это пойло, как ты говоришь, оно называется? Оно не такое уж плохое. Пахнет фруктами.
— Вонг говорит, что Юнг был в восторге от «Бардо», — сказал Рональд. — Это понятно, экзистенциалисты тоже должны были проникнуться к нему вниманием. Вот смотри, в час Страшного Суда Король встречает умершего с зеркалом, но это зеркало есть Карма. Сумма поступков умершего, представляешь? И умерший видит в зеркале все свои деяния, плохие и хорошие, но это не реальные отражения, а только проекция его мысленных образов… Как же старику Юнгу было не поразиться, скажи, пожалуйста? Король мертвых смотрит в зеркало, но на самом деле он смотрит в твою память. Разве можно найти лучшее объяснение, что такое психоанализ? И что самое потрясающее, дорогая моя, вердикт, который произносит Король, это не его вердикт, а твой собственный. Ты судишь себя сама, даже не осознавая этого. Тебе не кажется, что Сартру следовало бы отправиться жить в Лхасу?
— Здорово, — сказала Мага. — А эта книга — она для тех, кто занимается философией?
— Это книга для мертвых, — сказал Оливейра.
Все замолчали, прислушиваясь к шуму дождя.
Грегоровиуеу стало жаль Магу, которая, казалось, ждала каких-то объяснений, но не решалась продолжать расспросы.
— Ламы иногда поверяют откровения умирающим, — сказал он ей. — Чтобы те унесли их в иной мир и помогли спастись. Например…
Этьен прислонился к плечу Оливейры. Рональд, сидевший к нему вплотную, напевал блюз Big Lip Blues, думая о том, что из всех умерших Джелли Ролл[345] у него самый любимый.
Оливейра закурил «Голуаз», и лица друзей осветились, как на картине Латура,[346] выхватив из тени Грегоровиуса, губы которого двигались, потому что он что-то шептал в этот момент, и Магу, которая неудобно сидела в кресле, скользнул по ее лицу, на котором застыло всегдашнее выражение полного невежества и стремления понять, мягко окутал кроткую Бэбс и Рональда, музыканта, запутавшегося в своих жалобных импровизациях. И тут, как раз в тот момент, когда спичка погасла, послышался удар в потолок.
«„Il faut tenter de vivre“,[347] — вспомнил Оливейра. — Зачем?»
Строчка проступила в памяти, как лица из темноты при свете спички, на одну секунду и совершенно неожиданно. От плеча Этьена исходило тепло, создавая обманчивое впечатление его присутствия, близости, которую смерть, эта погасшая спичка, может уничтожить, как темнота уничтожила лица и формы, как тишина уничтожила звук, вновь замкнувшись вокруг стука в потолок.
— Так вот, — заканчивал Грегоровиус свои поучения, — «Бардо» возвращает нас к жизни, к необходимости продолжать жизнь как таковую, в особенности когда у нас безвыходное положение и мы прикованы к постели, потому что рак у нас на подушке.
— А-а, — сказала Мага, вздыхая. Она поняла довольно много, какие-то кусочки головоломки встали на свои места, хотя никогда ей не добиться того совершенства, которое бывает в калейдоскопе, где каждое стеклышко, каждая веточка, каждая песчинка симметрично совершенны и до невозможности скучны, зато все без проблем.
— Дихотомия западноевропейского толка, — сказал Оливейра. — Жизнь и смерть, что здесь — и что там. Вовсе не этому учит твой «Бардо», Осип, хотя я лично не имею даже отдаленного представления о том, чему учит «Бардо». Но в любом случае это что-то более гибкое и менее категоричное.
— Послушай, — сказал Этьен, который чувствовал себя превосходно, хотя новость, сообщенная Оливейрой, скрутила ему кишки, будто внутри у него ползали крабы, но одно другому не мешало. — Послушай, ты, пелота[348] моя аргентинская, Восток не так уж своеобразен, как пытаются доказать востоковеды. Стоит начать их читать, начинаешь чувствовать то же самое, что всегда, необъяснимую попытку уничтожить собственный ум посредством этого же самого ума. Скорпион, вонзающий свое жало, устал быть скорпионом, но ему необходимо проявить свою скорпионову сущность, чтобы покончить со скорпионом. В Мадрасе или в Гейдельберге,[349] но существо вопроса неизменно: в самом начале начал была допущена ошибка, которую не объяснишь словами, но из-за которой и возникает это явление, о котором здесь одни говорят, а другие слушают. Любая попытка объяснить его обречена на провал по причине, понятной каждому, — определить и понять можно, только находясь вне определяемого и познаваемого. Следовательно, Мадрас и Гейдельберг утешаются тем, что вырабатывают какие-то позиции, одни на основе научных докладов, другие на основе интуиции, хотя что доклад, что интуиция — разницы никакой, это знает любой бакалавр. В результате получается, что человек только выглядит уверенным там, где он не пытается докопаться до сути: когда он играет, воюет, когда сооружает разные исторические каркасы, основываясь на различии этносов, когда пытается приписать откровению любое проявление связи с главной тайной бытия. И как ни крути, самое любопытное — это то, что главный наш инструмент, логос, то, что вознесло нас на головокружительную высоту как зоологический вид, является непревзойденной ловушкой. И как неизбежный итог — стремление укрыться в невнятном бормотании, в потемках души, в расплывчатых понятиях эстетического и метафизического толка. Мадрас и Гейдельберг — это разные дозы одного и того же лекарства, где ведущим выступает то Инь, то Ян,[350] но и вверху и внизу — все тот же Homo sapiens, одинаково необъяснимый и всегда поднимающий большой шум, чтобы утвердиться за счет другого Homo sapiens.
— Странно, — сказал Рональд. — В любом случае было бы глупо отрицать действительность, даже если мы не понимаем, какая она. Давай установим ось между верхом и низом. Разве она не может помочь нам понять, что происходит на ее концах? Со времен неандертальцев…
— Слова ради слов, — сказал Оливейра, еще больше опираясь на плечо Этьена. — Вы обожаете доставать их из шкафа и выпускать, чтобы они летали по комнате. Действительность, неандертальцы, — смотри, как они играют, как залезают в уши и скатываются вглубь, будто с горки.
— Это точно, — мрачно сказал Этьен. — Поэтому я и предпочитаю краски, с ними у меня больше уверенности.
— Уверенности в чем?
— В результате.
— В любом случае это результат для тебя, но не для консьержки Рональда. Старик, твои краски не надежнее моих слов.
— По крайней мере, краски не стремятся ничего объяснять.
— И тебя устраивает, что они ничего не объясняют?
— Нет, но в то же время от того, что я делаю, дурной привкус пустоты становится чуточку меньше. По сути, это и есть лучшее определение Homo sapiens.
— Это не определение, а утешение, — вздыхая, сказал Грегоровиус. — На самом деле все мы похожи на комедийную пьесу, которую смотришь начиная со второго действия. Все очень мило, но ничего не понятно. Актеры говорят и действуют неизвестно почему и зачем. Мы проецируем на них собственное невежество, и они кажутся нам безумцами, которые входят и выходят с убежденным видом людей, которые знают, что делают. Кстати, это уже сказал Шекспир, а если не сказал, то должен был сказать.
— Мне кажется, сказал, — вставила Мага.
— Точно, сказал, — подтвердила Бэбс.
— Вот видишь, — сказала Мага.
— И о словах он тоже говорил, — произнес Грегоровиус. — Орасио просто придал проблеме диалектическую форму, если можно так выразиться. В духе Витгенштейна,[351] которым я восхищаюсь.
— Не знаю такого, — проговорил Рональд, — но вы должны согласиться, что проблему действительности вздохами не решить.
— Кто знает, — отозвался Грегоровиус, — кто знает, Рональд.
— Ладно, оставим поэзию до другого раза. Я согласен, не надо доверять словам, но ведь на самом деле слова рождаются из чего-то другого, из того, что мы собрались сегодня здесь и сидим при свете ночника.
— Говорите потише, — попросила Мага.
— Я и без слов знаю и чувствую, что сижу здесь, — настаивал Рональд. — Это я и называю действительностью. Даже если, кроме этого, ничего больше нет.
— Прекрасно, — сказал Оливейра. — Но только нет никакой гарантии ни для тебя, ни для всех прочих, что эта действительность существует, если ты не переведешь ее в концепцию, а оттуда в убеждение, в работающую схему. Простой факт, что ты сидишь от меня слева, а я от тебя справа, превращает реальность по меньшей мере в две реальности, и заметь, я ни во что не углубляюсь и не указываю тебе на то, что мы с тобой два существа, которые абсолютно не могли бы общаться между собой, если бы не смысл слов и вещей, то есть то, чему серьезный человек доверять не должен.
— Но мы оба здесь, — не сдавался Рональд. — Справа или слева — неважно. Мы оба видим Бэбс, и все слышат, что я говорю.
— Твои примеры годятся только для маленьких детей, сын мой, — снисходительно сказал Грегоровиус. — Орасио прав, то, что ты считаешь реальностью, ты можешь только принять. Самое большее, что ты можешь сказать: «Я мыслю…» — этого нельзя отрицать, если не идти на заведомый эпатаж. Но «…следовательно, существую» — это полный провал, хотя это выражение вроде бы всем известно.
— Не строй из себя специалиста-теоретика, — сказал Оливейра. — Давайте говорить как любители, каковыми мы и являемся. Остановимся на том, что Рональд так проникновенно называет действительностью, полагая, что она едина. Ты продолжаешь думать, что есть только одна действительность, Рональд?
— Да. Я готов согласиться, что ощущаю и понимаю ее иначе, чем Бэбс, и что действительность Бэбс отличается от действительности Осипа и так далее, в последовательности. Но ведь существуют разные мнения о Джоконде или о салате из листьев цикория. А реальность — она такая, какая есть, и мы существуем в ней, воспринимая ее каждый на свой лад, но находясь в ней.
— Единственное, о чем стоит говорить: как воспринимает ее каждый из нас, — сказал Оливейра. — Ты исходишь из предпосылки, что существует некая реальность, потому что мы с тобой сидим и разговариваем в этой комнате, этой ночью и потому что мы с тобой знаем, что через час с небольшим здесь произойдет некое событие. От этого ты чувствуешь уверенность чисто онтологического плана, как мне кажется; ты совершенно уверен в себе самом, ты твердо стоишь на своем и уверен в том, что тебя окружает. Но если бы ты одновременно мог ощущать эту реальность с моих позиций или с позиций Бэбс, если бы ты мог стать вездесущим, ты понимаешь меня, то есть ты был бы в этой комнате там, где нахожусь я, со всем тем, что я из себя представляю, и тем, чем я был раньше, и со всем тем, что представляет из себя Бэбс, и тем, чем она была раньше, ты бы, возможно, понял, что твой дешевый эгоцентризм не дает тебе ни малейшего представления о том, что есть настоящая реальность. Он дает тебе только веру, основанную на страхе, необходимость утверждать то, что тебя окружает, чтобы тебя не затянуло в водоворот, выбраться из которого можно бог знает где.
— Мы очень разные, — сказал Рональд, — я это прекрасно знаю. Но у всех у нас есть какие-то внешние проявления. Мы с тобой смотрим на эту лампу и, наверное, видим не одно и то же, но мы также не можем быть уверены, что мы видим разное. Лампа все равно лампа, какого черта.
— Не кричи, — сказала Мага. — Я сварю еще кофе.
— Создается впечатление, — сказал Оливейра, — что мы идем по старым следам. Точно робкие школяры, вновь и вновь приводим запылившиеся аргументы, в которых нет ничего интересного. И все это, дорогой Рональд, потому, что мы рассуждаем диалектически. Мы говорим: ты, я, лампа, действительность. Сделай шаг назад, прошу тебя. Давай, это не так уж трудно. Слова исчезают. Лампа — это сенсорный возбудитель, не более того. Еще один шаг назад. То, что ты называешь своим видением, и этот сенсорный возбудитель вступают в необъяснимые отношения, поскольку для того, чтобы объяснить их, надо снова сделать шаг вперед, а тогда все полетит к черту.
— Но эти шаги назад означают возвращение биологического вида к исходной точке, — сказал Грегоровиус.
— Да, — сказал Оливейра. — В этом-то и состоит самая большая проблема: то, что ты называешь видом, — совершает ли он поступательное движение вперед, или, как считает, кажется, Клагес, в какой-то момент этот вид пошел по ложному пути.
— Без языка нет человека. Без истории нет человека.
— Без преступления нет убийцы. У тебя нет никаких доказательств, что человек мог быть другим.
— Но у нас не так плохо получилось, — сказал Рональд.
— А с чем ты сравниваешь, когда говоришь, что получилось не так плохо? Почему же тогда мы вынуждены выдумывать Эдем, почему живем в постоянной тоске по потерянному раю, создаем утопии, планируем будущее?
Если бы червяк мог думать, ему, наверное, тоже казалось бы, что у него все не так уж плохо. Человек хватается за науку, как за якорь спасения, хотя никто толком не знает, что это такое. Разум, через речь, выстраивает здание наших представлений, которое нас устраивает, такое прекрасное и ритмически организованное, как картины эпохи Возрождения, и ставит нас в центр этой композиции. Несмотря на всю свою любознательность и неудовлетворенность, наука, то есть разум, начинает с того, что успокаивает нас. «Ты здесь, в этой комнате, с твоими друзьями, вокруг лампы. Не бойся, все хорошо. А теперь посмотрим: какова природа этого светящегося явления? Ты уже знаешь, что такое обогащенный уран? Тебе нравятся изотопы, тебе известно, что мы выплавляем золото из свинца?» Все это так здорово, что голова кружится, но только если при этом мы сидим в удобном кресле.
— Ну, я-то как раз сижу на полу, — сказал Рональд, — и ничего удобного в этом нет, сказать по правде. Послушай, Орасио: не имеет смысла отрицать существующую реальность. Она здесь, и каждый из нас — ее часть. Ночь проходит для нас обоих, дождь на улице идет для нас обоих. Я не знаю, что такое ночь, что такое время, что такое дождь, но все это здесь и вне меня, это то, что со мной происходит, и ничего тут не поделаешь.
— Ну ясное дело, — сказал Оливейра. — Никто этого и не отрицает, че. Речь идет о том, почему все происходит так, а не иначе, почему мы здесь, а на улице идет дождь. Абсурдны не сами вещи и явления, абсурдно то, что все таково, каково оно есть, и что мы считаем это абсурдным. От меня ускользает связь между мной и тем, что со мной происходит в данный момент. Я не отрицаю, что это происходит. Раз уж происходит, что поделаешь. В этом и состоит абсурд.
— Что-то не совсем понятно, — сказал Этьен.
— И не может быть понятно, если бы оно было таковым, то было бы ложным, может, с научной точки зрения все Выглядело бы истинным, но как абсолют — было бы ложным. Ясность — это требование интеллекта, не более того. Было бы здорово, если бы мы знали и понимали все, а не только науку и разум. Я говорю «было бы здорово», но кто знает, может, я говорю глупость. Может, единственный якорь спасения — это и есть наука, уран-235 и все прочее. Что бы там ни было, надо жить.
— Да, — сказала Мага, разливая кофе. — Что бы там ни было, надо жить.
— Пойми, Рональд, — сказал Оливейра, положив руку ему на колено. — Ты — это не только твой ум, это понятно. Эта ночь, например, все, что с нами происходит здесь и сейчас, — это как свет на картинах Рембрандта, когда едва освещен лишь один уголок, но это не физический свет, не то, что ты так спокойно называешь и определяешь как лампу с ее ваттами и свечами. Абсурдно полагать, что мы можем объять данный момент или любой другой во всем многообразии его составляющих или хотя бы интуитивно соединить их, чтобы воспринять, если хочешь. Всякий раз, когда у нас наступает кризис, начинается полный абсурд, пойми, диалектика способна приводить шкафы в порядок, только когда все спокойно. Ты же прекрасно знаешь, в кульминационный момент кризиса мы всегда действуем импульсивно, причем с точностью до наоборот, если исходить из того, что предполагалось, мы совершаем нечто несусветное, чего и сами от себя не ждали. Вот сейчас, например, в этот самый момент можно сказать, происходит некое пресыщение реальностью, тебе не кажется? Реальность спешит, показывает себя во всю мощь, и единственный способ противостоять ей — это отбросить диалектику, именно в такую минуту мы в кого-то пускаем пулю, прыгаем за борт, принимаем упаковку гарденала, как Ги, срываемся с цепи, — словом, разбрасываем камни во все стороны. Разум служит лишь для того, чтобы спокойно анатомировать действительность или анализировать будущие испытания, но никогда для того, чтобы разрешить кризис, в котором мы оказались. Но эти кризисы что-то вроде метафизических указателей, че, состояние, которое, не пройди мы путь разума, было бы нашим естественным и обычным состоянием питекантропа, испытывающего эрекцию.
— Осторожно, кофе очень горячий, — сказала Мага.
— И эти кризисы, которые большинство людей рассматривает как нечто скандальное, абсурдное, я склонен рассматривать как нечто вскрывающее истинный абсурд, абсурд упорядоченного, спокойного мира, где несколько совершенно разных людей пьют кофе в два часа ночи, тогда как на самом деле это не имеет никакого смысла, разве что с точки зрения гедонизма, — ведь, право, так хорошо сидеть у печки, от которой так уютно веет теплом. Чудеса никогда не казались мне абсурдными; абсурдно то, что им предшествует и что следует за ними.
— И все-таки, — сказал Грегоровиус, потягиваясь, — il faut tenter de vivre.
«Voilà,[352] — подумал Оливейра. — Еще одно доказательство, о котором я поостерегусь упоминать. Из миллионов стихотворений он выбирает то, о котором я вспоминал десять минут назад. Это то, что обычно называют случайным совпадением».
— Так и быть, — сказал Этьен сонным голосом, — только вовсе не надо пытаться жить, потому что жизнь дается нам по предназначению. Уже давно многие подозревают, что жизнь и живые существа — это две разные вещи. Жизнь живет отдельной от нас жизнью, нравится нам это или нет. Ги попытался сегодня опровергнуть эту теорию, но с точки зрения статистики она неопровержима. О том же говорят концлагеря и пытки. Вероятно, из всех наших чувств единственное, что принадлежит не нам, — это надежда. Надежда принадлежит жизни, это и есть сама жизнь, которая себя таким образом защищает. И так далее. На этом я ухожу спать, потому что после всех этих разборок с Ги я разваливаюсь на части. Рональд, приходи завтра утром в мастерскую, я закончил один натюрморт, ты с ума сойдешь, когда увидишь.
— Орасио меня не убедил, — сказал Рональд. — Я согласен, многое из того, что меня окружает, — абсурд, но мы называем тем же словом и то, чего просто еще не в состоянии понять. И что когда-нибудь узнаем.
— Подкупающий оптимизм, — сказал Оливейра. — Мы могли бы отнести его на счет жизни как таковой. Твоя сила в том, что у тебя нет будущего, как у большинства агностиков. Ты всегда полон жизни, всегда в настоящем, всегда доволен всем происходящим, как на картинах Ван Эйка.[353] Но если бы с тобой произошла ужасная вещь — у тебя не было бы веры, и в то же время ты чувствовал бы, что движешься к смерти, к самому скандальному происшествию из всех скандальных происшествий, твое зеркало сразу бы стало мутным.
— Пойдем, Рональд, — сказала Бэбс. — Поздно уже, я хочу спать.
— Нет, подожди. Я сейчас вспомнил, как умер мой отец, да, многое из того, что ты говоришь, верно. Я так и не смог решить эту головоломку, это было нечто необъяснимое. Человек был молод и счастлив, жил в Алабаме. Шел по улице, и его придавило упавшее дерево. Мне было пятнадцать лет, за мной пришли в колледж. Столько всего абсурдного происходит, Орасио, сколько смертей, ошибок… Хотя дело не в количестве, я полагаю. Но это не тотальный абсурд, о котором ты говоришь.
— Абсурдно то, что не похоже на абсурд, — замогильным голосом произнес Оливейра. — Абсурд, когда утром открываешь дверь и обнаруживаешь на пороге бутылку молока и принимаешь это как должное, потому что так было вчера и так будет завтра. Абсурд — это застой, это непреложность того, что должно быть, это подозрительное отсутствие исключений. Не знаю, че, может, надо было попробовать какой-то иной путь.
— Отказ от разума? — недоверчиво спросил Грегоровиус.
— Не знаю, может быть. Или надо было использовать его иначе. Разве доказано, что логические принципы есть плоть от плоти нашего разума? А как же народы, способные выживать опираясь на магический порядок вещей… Известно, что бедняки едят сырых червей, у каждого своя шкала ценностей.
— Червей, какая гадость, — сказала Бэбс. — Рональд, дорогой, уже так поздно.
— По сути дела, — сказал Рональд, — тебе не нравится законность во всех ее формах. Как только что-то начинает действовать отлаженно, ты чувствуешь себя как в тюрьме. Но и мы все немного такие же, сборище тех, кого называют неудачниками, потому что у нас нет карьерных достижений, званий и прочего. Потому-то мы и оказались в Париже, братишка, и твой пресловутый абсурд выродится в конце концов в смутные анархические идеалы, которые ты сам будешь не в состоянии конкретизировать.
— Ты прав, ты абсолютно прав, — сказал Оливейра. — Если так, я должен идти на улицу и расклеивать плакаты за свободу Алжира. Все, что мне остается, — это включиться в борьбу за социальную справедливость.
— Активная деятельность может продать смысл твоей жизни, — сказал Рональд. — Я думаю, ты читал об этом у Мальро.
— Напечатано в «N.R.F.».[354]
— А ты, наоборот, мастурбируешь, как обезьяна, крутишься между надуманными проблемами в ожидании неизвестно чего. Если все это абсурд, надо что-то делать, чтобы изменить порядок вещей.
— Знакомые слова, — сказал Оливейра. — Едва тебе покажется, что спор повернулся к чему-то, по твоему мнению, конкретному, к кипучей деятельности например, тебя разбирает красноречие. Ты не даешь себе труда подумать, что деятельность, как и бездеятельность, надо заслужить. Как можно начать действовать, если не существует точки отсчета, нет основополагающего понятия о том, что хорошо и что истинно? Твои представления об истине и добре чисто исторические и основываются на этике, унаследованной поколениями. А мне и история, и этика представляются в высшей степени сомнительными.
— В другой раз, — сказал Этьен, выпрямляясь, — я бы с удовольствием послушал подробное объяснение того, что ты называешь основоплагающим понятием. Возможно, вместо основы там просто дырка.
— Об этом я тоже думал, не сомневайся, — сказал Оливейра. — Но если подойти к делу с эстетической точки зрения, которую ты не можешь не оценить, согласись, есть качественная разница в том, чтобы вырабатывать основополагающие понятия или болтаться где-то на периферии сознания, и об этом ты тоже не можешь не думать.
— Орасио, — сказал Грегоровиус, — стал прибегать к словам, которые еще совсем недавно настоятельно советовал нам не употреблять. Насчет поговорить — это у него не задержится, вот и пусть расскажет, что он думает о таких непонятных и необъяснимых вещах, как сны, совпадения, озарения, и особенно о том, что такое черный юмор.
— Этот тип сверху опять стучит, — сказала Бэбс.
— Нет, это дождь, — сказала Мага. — Пора давать лекарство Рокамадуру.
— Еще есть время, — сказала Бэбс, наклоняясь к лампе, чтобы лучше видеть часы на руке. — Без десяти три. Пойдем, Рональд, поздно уже.
— Мы уйдем в пять минут четвертого, — сказал Рональд.
— Почему именно в пять минут четвертого? — спросила Мага.
— Потому что первая четверть часа всегда самая счастливая, — объяснил Грегоровиус.
— Дай мне глотнуть каньи, — попросил Этьен. — Merde,[355] ничего не осталось.
Оливейра погасил окурок. «Стоят на страже, — благодарно подумал он. — Настоящие друзья, даже Осип, черт бы его побрал. Через четверть часа пойдет цепная реакция, которой никто не избежит, никто, даже если думать о том, что через год, в тот же час, самое точное и подробное воспоминание о том, что здесь сейчас произойдет, не сможет вызвать такой же выброс адреналина, или слюны, или заставить так же вспотеть ладони… Вот доказательства, которых Рональду никогда не понять. Что я сделал этой ночью? Если судить априорно, вещь довольно чудовищную. Может, можно было дать кислородную подушку или сделать еще что-нибудь. На самом деле это все идиотизм; мы бы просто продлили ему жизнь, как это было с месье Вальдемаром[356]».
— Надо бы как-то подготовить ее, — сказал Рональд ему на ухо.
— Не говори ерунды, прошу тебя. Ты не видишь, что она уже готова, что это носится в воздухе?
— А теперь заговорили так тихо, — сказала Мага, — и как раз когда уже не нужно.
«Tu parles»,[357] — подумал Оливейра.
— В воздухе? — прошептал Рональд. — Я ничего не чувствую.
— Ну что, уже почти три, — сказал Этьен, которого била дрожь, будто его знобило. — Рональд, сделай над собой усилие, Орасио, может, и не гений, но понять, что он хочет сказать, очень легко. Единственное, что мы можем сделать, — остаться еще на какое-то время и выдержать все, что здесь произойдет. Орасио, насколько я помню, ты очень хорошо сказал сегодня о картине Рембрандта. Существует метаживопись, как и метамузыка, и старина Рембрандт увяз по самые уши в том, что делал. Только слепцы от логики и традиций могут стоять перед каким-нибудь творением Рембрандта и не чувствовать, что это окно в другое измерение, что это некий знак. Это может быть опасно для живописи, но зато…
— Живопись — это жанр искусства, такой же, как всякий другой, — сказал Оливейра. — И как жанр особенно не нуждается в защите. Кроме того, на каждого Рембрандта приходится по сотне обычных живописцев, не меньше, так что живопись не пропадет.
— К счастью, — сказал Этьен.
— К счастью, — согласился Оливейра. — К счастью, все прекрасно в этом лучшем из возможных миров.[358] Включи свет, Бэбс, выключатель за твоим стулом.
— Тут где-то была чистая ложка, — сказала Мага, вставая.
Оливейра, хотя это и казалось ему ужасным, делал отчаянные усилия, чтобы не смотреть в глубину комнаты. Ослепленная ярким светом, Мага терла глаза, а Бэбс, Осип и остальные украдкой бросали на нее взгляды, отводили глаза, потом смотрели на нее снова. Бэбс сделала движение, будто хотела взять Магу за руку, но что-то в выражении лица Рональда ее остановило. Этьен медленно выпрямился, расправил все еще влажные брюки. Осип встал с кресла, сказав, что поищет плащ. «Сейчас должны бы раздаться удары в потолок, — подумал Оливейра, прикрыв глаза. — Несколько ударов, один за другим,[359] и потом еще три удара, самых торжественных. Но ведь все наоборот, вместо того чтобы тушить свет, мы его зажигаем, сцена перед нами, и никуда не деться». Он тоже поднялся, чувствуя ломоту в суставах, — сказалось утомление от прогулки и вообще от всего, что случилось за день. Мага нашла ложку на каминной полке, среди кучи пластинок и книг. Протерла ее подолом и поднесла поближе к лампе, рассматривая. «Сейчас нальет лекарство в ложку и половину прольет, пока дойдет до кровати», — подумал Оливейра, прислоняясь к стене. Воцарилась такая тишина, что Мага посмотрела на них удивленно, но бутылочка с лекарством никак не открывалась, Бэбс хотела ей помочь, подержать ложку, при этом лицо ее кривилось, как будто Мага делала что-то невыразимо ужасное, но Мага наконец налила жидкость в ложку, пристроив пузырек на краю стола, который был завален какими-то бумагами и тетрадями, и, взявшись за ложку обеими руками, будто за шест, помогающий удержать равновесие, или будто она ангел, который удерживает святого от падения в бездну, Мага двинулась к кровати, шаркая тапочками, и наконец приблизилась, сбоку от нее стояла Бэбс, лицо которой искажала гримаса, при этом она то и дело поглядывала на Рональда, а потом снова отводила глаза, остальные собрались у нее за спиной, процессию завершал Оливейра с погасшей сигаретой во рту.
— Вечно у меня все пролива… — сказала Мага, останавливаясь около кровати.
— Люсия, — сказала Бэбс, протянув руки к плечам Маги, но так до нее и не дотронулась.
Лекарство пролилось на покрывало, ложка выпала из рук. Мага закричала и бросилась на постель ничком, потом перевернулась на бок, прижалась лицом к бесчувственной пепельно-серой кукле, которая тряслась и дрожала в ее руках, никак не реагируя, безразличная к тому, что с ней делают — ласкают или трясут.
— Черт бы все побрал, мы должны были ее подготовить, — сказал Рональд. — Мы не имели права, это подло. Сидим тут, треплемся про всякую ерунду, а тут, тут…
— Кончай истерику, — угрюмо сказал Этьен. — Что бы ни случилось, веди себя как Осип, который не теряет головы. Поищи одеколон или что-то на него похожее. Вы слышите, старик сверху опять взялся за свое.
— Ничего удивительного, — сказал Оливейра, глядя, как Бэбс пытается оттащить Магу от кровати. — Ночка у него сегодня — будь здоров, приятель.
— Да пошел он знаешь куда! — сказал Рональд. — Я сейчас пойду и набью ему морду, сволочь старая. Раз он не уважает чужое горе…
— Take it easy,[360] — сказал Оливейра. — Вот тебе одеколон, смочи мой платок, хоть он и сомнительной белизны. Итак, надо, видимо, идти в комиссариат.
— Я могу сходить, — сказал Грегоровиус, который стоял с плащом в руках.
— Ну разумеется, ты же член семьи, — сказал Оливейра.
— Ты бы поплакала, — говорила Бэбс, гладя по голове Магу, которая лежала на подушке и не отрываясь смотрела на Рокамадура. — Смочите водкой платок, ради бога, что-нибудь, чтобы привести ее в чувство.
Этьен и Рональд засуетились около кровати. Старик сверху ритмично ударял в потолок, и Рональд в ответ на каждый удар поднимал лицо кверху, а один раз даже погрозил ему кулаком. Оливейра отступил к печке и оттуда смотрел и слушал. Он чувствовал, как усталость забралась ему в шлепанцы, как она тянет его книзу, как ему трудно дышать и двигаться. Он закурил другую сигарету, последнюю из пачки. Понемногу все как-то улаживалось, Бэбс освободила угол комнаты и соорудила там из двух стульев и одеяла что-то вроде детской кроватки, после чего они с Рональдом (было странно смотреть на их действия, на Магу, забывшуюся в лихорадочном бреду, в бесконечном, но обрывочном, судорожном монологе) положили Маге на веки носовой платок («если он с одеколоном, она у них ослепнет», — подумал Оливейра), до странности проворно они помогали Этьену, который перенес Рокамадура на импровизированную кроватку, вытащили из-под Маги покрывало и накрыли его сверху, они все время что-то тихо говорили ей, гладили ее по голове, прикладывали платок к ее губам. Грегоровиус подошел к дверям и стоял там, не решаясь уйти, украдкой бросая взгляды то на кровать, то на Оливейру, который повернулся к нему спиной, но чувствовал, что на него смотрят. Когда он решился выйти, на лестничной площадке он натолкнулся на старика, тот был с палкой в руках, так что Осип одним прыжком снова оказался в квартире. Палка ударилась о дверной косяк. «Сейчас все соберется в один большой ком», — подумал Оливейра, шагнув к двери. Рональд, который догадался, что он собирается делать, тоже, кипя от гнева, бросился к двери, а Бэбс что-то кричала по-английски. Грегоровиус хотел им помешать, но не успел. Рональд, Осип и Бэбс вышли из квартиры, за ними шел Этьен, который смотрел на Оливейру, как на единственного, кто еще сохранял признаки здравого смысла.
— Посмотри, чтоб они не выкинули какую-нибудь глупость, — сказал ему Оливейра. — Старику под восемьдесят, и он не в своем уме.
— Tous des cons! — разорялся старик на лестничной площадке, — Bande de tueurs, si vous croyez que ça va se passer comme ça! Des fripouilles, des fainéants. Tas d’enculés![361]
Как ни странно, он кричал не так уж громко. В приоткрытую дверь голос Этьена, будто стукнувшись о его слова, влетел в комнату: «Та gueule, pépère».[362] Грегоровиус схватил Рональда за руку, но полоска света, падавшая из комнаты, помогла ему различить, что старик и в самом деле очень стар, так что он ограничился тем, что несколько раз потряс кулаком у него перед носом, все менее и менее убедительно. Раз или два Оливейра взглянул на кровать, на которой неподвижно лежала Мага, укрытая покрывалом. Она судорожно всхлипывала, уткнувшись лицом в подушку, как раз в том месте, где раньше лежала головка Рокамадура. «Faudrait quand même laisser dormir les gens? — говорил старик. — Qu’est-ce que ça me fait, moi, un gosse qu’a claqué? C’est pas une façon d’agir, quand même, on est à Paris, pas en Amasonie!»[363] Его перекрыл голос Этьена, который в чем-то убеждал старика. Оливейра подумал, не так уж сложно подойти к кровати, наклониться и тихо сказать Маге какие-нибудь слова. «Но я бы сделал это только ради себя, — подумал он. — Она сейчас далека от всего этого. А я бы спал спокойнее, хотя это всего лишь подходящие случаю слова. Все я да я. Я бы спал спокойнее, если бы сейчас поцеловал ее, и утешил бы, и сказал бы все, что ей уже и так сказали все присутствующие».
— Eh bien, moi, messieurs, je respecte la douleur d’une mère, — проговорил старик. — Allez, bonsoir, messieurs, dames.[364]
Дождь ручьями стекал по оконному стеклу, Париж, наверное, превратился в один сплошной мутно-серый пузырь, внутри которого медленно занимался рассвет. Оливейра направился в угол комнаты, где была его куртка, которая была похожа на расчлененный торс, пропитанный влагой. Он медленно надел ее, неотрывно глядя на кровать, будто ждал чего-то. Он вспомнил, как шел под дождем вместе с Берт Трепа, висевшей у него на руке. «„На что тебе прелести лета, замерзший в снегу соловей?[365]“ — вспомнил он с иронией. — Конченый человек, че, совершенно конченый. И курить нечего, черт». Теперь ему придется идти в кафе Бебер, в конце концов рассвет все равно будет премерзким, где бы он его ни застал.
— Ну и старик, просто идиот какой-то, — сказал Рональд, закрывая дверь.
— Он вернулся к себе, — сообщил Этьен. — Мне кажется, Грегоровиус пошел заявлять в полицию. Ты остаешься?
— Нет, зачем? Вряд ли им понравится, что в такой час в комнате столько народу. Пусть останется Бэбс, две женщины — это лучший аргумент в подобных случаях. Их это ближе касается, понимаешь меня?
Этьен посмотрел на него.
— Интересно знать, почему у тебя так дрожат губы, — сказал он.
— Нервный тик, — сказал Оливейра.
— Нервный тик и циничный вид как-то не вяжутся между собой. Я с тобой, пошли.
— Пошли.
Он знал, что Мага сидит на кровати и смотрит на него. Он засунул руки в карманы куртки и пошел к двери. Этьен попытался было преградить ему дорогу, но потом последовал за ним. Рональд, видя, что они уходят, сердито пожал плечами. «Это же полный абсурд», — подумал он. При мысли о том, что все на свете абсурд, ему стало не по себе, хотя он и не понимал почему. Он решил помочь Бэбс и, чтобы быть полезным, стал смачивать компрессы. В потолок снова застучали.
(-130)
29
— Tiens,[366] — сказал Оливейра.
Грегоровиус сидел около печки, закутавшись в черный халат, и читал. На стене, на гвоздике, висело бра, тщательно прикрытое газетой, которая уменьшала свет.
— Я не знал, что у тебя есть ключ.
— Остаточные явления, — сказал Оливейра, бросая куртку в тот же угол, что и всегда. — Я отдам его тебе, поскольку ты теперь хозяин дома.
— Только на время. Здесь слишком холодно, да еще этот старик наверху. Сегодня утром он ни с того ни с сего колотил в потолок целых пять минут.
— Это он по инерции. Все продолжается чуть больше того, чем следует. Вот я, например, поднялся сюда, достал ключ, открыл… Здесь бы надо проветрить.
— Холод кошмарный, — сказал Грегоровиус. — Пришлось двое суток держать окно открытым после окуривания.
— И все это время ты был здесь? Caritas.[367] Ну ты даешь.
— Не в этом дело, я боялся, что кто-нибудь из жильцов дома воспользуется ситуацией, займет комнату и начнет качать права. Люсия мне говорила, что владелица — какая-то чокнутая старуха и что некоторые постояльцы не платят годами. В Будапеште я читал лекции по гражданскому праву, такое из головы не выветривается.
— Словом, ты тут устроился как султан. Chapeau, mon vieux.[368] Надеюсь, ты не выбросил в мусорное ведро мой мате?
— Да ты что, нет, конечно, он на тумбочке, там, где чулки. Теперь здесь много свободного места.
— Похоже на то, — сказал Оливейра. — У Маги, что, случился приступ аккуратности, не видно ни пластинок, ни книг, че, теперь, насколько я понимаю…
— Она все увезла, — сказал Грегоровиус.
Оливейра открыл тумбочку и достал мате и чайничек. Он неспешно потягивал чай, поглядывая по сторонам. В голове неотступно крутились слова танго Моя печальная ночь.[369] Он сосчитал по пальцам. Четверг, пятница, суббота. Нет. Понедельник, вторник, среда. Во вторник вечером Берт Трепа, ты меня любила / как никого и никогда, среда (редкостная пьянка, NB. никогда не мешать водку с красным вином), ты в сердце острый шип вонзила / мне душу ранив навсегда, четверг, пятница, Рональд в машине, которую он у кого-то одолжил, они навещали Ги Моно, похожего на вывернутую наизнанку перчатку, нескончаемая зеленая рвота, он вне опасности, ты знала, я тебя любил / ты радость жизни мне дарила / моя надежда и моя мечта, суббота, где же, где же? Где-то в районе Марли-ле-Руа, итого пять дней, нет, шесть, всего почти неделя, а комната стала ледяная, несмотря на печку. Этот Осип просто лягушка какая-то, где угодно приспособится.
— Так, значит, она уехала, — сказал Оливейра, поудобнее устраиваясь в кресле с чайничком в руках.
Грегоровиус кивнул. Он сидел с раскрытой на коленях книгой и всем своим видом давал понять (в пределах воспитанности), что хотел бы продолжить чтение.
— И оставила тебе комнату.
— Она знала, что я оказался в весьма щекотливом положении, — сказал Грегоровиус. — Моя двоюродная бабушка недавно перестала присылать мне деньги, — наверное, скончалась. Мисс Бабингтон хранит молчание, но, учитывая ситуацию на Кипре… Известно, что это всегда отзывается на Мальте: цензура и все прочее. Люсия предложила мне жить здесь, после того как ты объявил, что уходишь. Я колебался, принимать ли мне ее предложение, но она настояла.
— Сама она с отъездом не задержалась.
— Это все было до того.
— До окуривания?
— Вот именно.
— Ты выиграл в лотерею, Осип.
— Это все так печально, — сказал Грегоровиус. — А ведь могло быть совершенно иначе.
— Ну, старина, тебе ли жаловаться. Комната четыре на три с половиной, пять тысяч франков в месяц, притом с водопроводом…
— Я бы хотел, — сказал Грегоровиус, — чтобы между нами все было ясно. Эта комната…
— Она не моя, можешь спать спокойно. А Мага ушла.
— В любом случае…
— Куда?
— Она говорила про Монтевидео.
— На это у нее нет денег.
— Она говорила о Перудже.
— Ты хочешь сказать, о Лукке.[370] С тех пор, как она прочитала «Sparkenbroke»,[371] она умирает по всему этому. Ты можешь вразумительно сказать мне, где она?
— Не имею ни малейшего представления, Орасио. В пятницу она сложила в чемодан книги и одежду, собрала кучу пакетов, после чего появились два негра и все унесли. Она сказала мне, что я могу оставаться здесь, а поскольку она все время плакала, разговора особого не получилось.
— Мне хочется набить тебе морду, — сказал Оливейра, потягивая мате.
— В чем я виноват?
— Это не вопрос вины, че. Ты как герой Достоевского, отвратителен и симпатичен одновременно, что-то вроде метафизического жополиза. Когда ты улыбаешься, становится понятно, что уже ничем помочь нельзя.
— Что ж, как ты со мной, так и я с тобой, — сказал Грегоровиус. — Механизм «challenge and response»[372] типичен для людей буржуазного склада. Ты такой же, как я, и потому бить меня ты не будешь. Не смотри на меня так, я ничего не знаю о Люсии. Один из негров почти всегда торчит в кафе «Бонапарт», я его там видел. Может, он тебе что-нибудь скажет. Но сейчас-то зачем ты ее ищешь?
— Что значит «сейчас-то»?
Грегоровиус пожал плечами.
— Бдение прошло вполне достойно, — сказал он. — Особенно после того, как мы отделались от полиции. Твое отсутствие вызвало противоречивые мнения присутствующих. Клуб тебя защищал, но вот соседи и старик с верхнего этажа…
— Только не говори мне, что старик с верхнего этажа был на бдении.
— Бдением это, пожалуй, не назовешь; нам разрешили побыть у тела до полудня, пока не приехали служащие из государственного бюро ритуальных услуг. Должен сказать, действуют они быстро и слаженно.
— Представляю себе эту картину, — сказал Оливейра. — Но это же не причина, почему Мага взяла и переехала, не сказав ни слова.
— Она все время думала, что ты с Полой.
— Ça alors,[373] — сказал Оливейра.
— Человек не может перестать думать. Сейчас, когда мы по твоей инциативе перешли на «ты», мне гораздо труднее сказать тебе некоторые вещи. Это очевидный парадокс, но это так. Возможно, потому, что это «ты» фальшивое. Но ты первый начал.
— Это наиболее подходящая форма обращения к человеку, который переспал с твоей женщиной.
— Я устал тебе говорить, что это не так; так что, как видишь, у нас с тобой нет никаких причин быть на «ты». Если бы выяснилось, что Мага утопилась, я бы еще понял, — в момент скорби, когда тебя обнимают и утешают… Но это не твой случай, во всяком случае не похоже.
— Ты что-то читал в газете, — сказал Оливейра.
— Наше панибратство совершенно ни к чему. Будем, как прежде, на «вы». Вон газета, на каминной полке.
В самом деле, это совершенно ни к чему. Оливейра отбросил газету и снова взялся за мате. Лукка. Монтевидео, гитара умолкла / теперь ее место в шкафу… И когда укладывают чемодан и собирают вещи в пакеты, можно сделать вывод, что (осторожно: любой вывод еще не доказательство) никто не играет на ней / не звенят ее струны. Не звенят ее струны.
— Ладно, я сам узнаю, куда она подалась. Далеко она не уйдет.
— В любом случае этот дом твой, — сказал Грегоровиус. — К тому же Адгаль, наверное, приедет провести со мной весну.
— Твоя мать?
— Да. Она прислала потрясающую телеграмму, используя метод симметричных чисел. Я как раз читаю «Сефер Йецира»,[374] пытаясь обнаружить его связь с неоплатониками. Адгаль очень сильна в каббалистике; у нас будут жуткие споры.
— Мага, что, намекала, что наложит на себя руки?
— Ну ты же знаешь женщин.
— А поконкретнее.
— В общем, нет, — сказал Грегоровиус. — Она больше говорила про Монтевидео.
— Идиотка, у нее нет ни сентаво.
— Про Монтевидео и про куколку из воска.
— A-а, про куклу. И она думала…
— Она была уверена. Адгаль очень заинтересует этот случай. То, что ты называешь совпадением… Люсия не считала это совпадением. Да и ты тоже, в глубине души. Люсия сказала, когда ты увидел куклу, то бросил ее на пол и растоптал.
— Ненавижу глупость, — ушел от ответа Оливейра.
— Все булавки были воткнуты в грудь, и только одна в гениталии. Ты уже знал, что Пола больна, когда топтал эту куклу из зеленого воска?
— Да.
— Адгаль наверняка этим заинтересуется. Ты слыхал о системе отравленного портрета? Яд подмешивают в краски и ждут благоприятной фазы Луны, чтобы рисовать портрет. Адгаль попыталась проделать это со своим отцом, но возникли какие-то наложения встречных потоков… Но все равно старик умер через три года от дифтерии, кажется. Он был один в замке, в те времена у нас был замок, и когда он начал задыхаться, то попытался сделать себе перед зеркалом трахеотомию кончиком гусиного пера или чем-то в этом роде. Его нашли внизу, у лестницы, впрочем, сам не понимаю, зачем я тебе все это рассказываю.
— Потому что знаешь, что мне это совершенно неинтересно, я полагаю.
— Да, наверное, — сказал Грегоровиус. — Давай сварим кофе, ночь уже чувствуется, хотя ее еще не видно.
Оливейра быстро взят газету. Пока Осип ставил кастрюльку на плиту, он снова пробежал глазами новости. Блондинка, примерно сорока двух лет. Какая глупость думать, что… Хотя, конечно. «Les travaux du grand barrage d’Assouan ont commencé. Avant cinq ans, la vallée moyenne du Nil sera transformée en un immense lac. Des édifices prodigieux, qui comptent parmi les plus admirables de la planète…»[375]
(-107)
30
— Между нами, как всегда, существует некое недопонимание, че. Однако кофе весьма подходит к случаю. Ты выпил всю канью?
— Ты же понимаешь, бдение…
— Над маленьким тельцем, ясное дело.
— Рональд напился как свинья. Он очень сильно переживал, никто так и не понял почему. Бэбс ревновала. Даже Люсия была удивлена. Но часовщик с седьмого этажа принес бутылку водки, так что хватило на всех.
— Народу много было?
— Подожди, значит, наши из Клуба, тебя не было («Нет, меня не было»), часовщик с седьмого этажа, консьержка с дочерью, какая-то сеньора, по виду шлюха, почтальон, который принес телеграмму, побыл здесь немного, и полицейские, которые вынюхивали, не детоубийство ли это, вот так.
— Странно, что не было разговора о вскрытии.
— Был. Бэбс их чуть пинками не вытолкала, а Люсия… Потом пришла одна женщина, осмотрела его, ощупала… Мы все на лестнице не поместились, пришлось выйти на улицу, холод жуткий. Что-то они там делали, что полагается, но в конце концов оставили нас в покое. Сам не знаю, как свидетельство о смерти оказалось у меня в бумажнике, если хочешь, можешь посмотреть.
— Нет, продолжай. Я тебя внимательно слушаю, просто виду не подаю. Давай дальше, че. Я весьма взволнован. По мне не видно, но уверяю тебя, это так. Я слушаю тебя, продолжай, старик. Я живо представляю себе эту сцену. И не говори мне, что Рональд не помогал тебе спустить его вниз.
— Да, и Перико тоже, и часовщик. Я шел с Люсией.
— А дальше?
— Бэбс с Этьеном шли последними.
— Позади.
— Между пятым и четвертым этажом раздался оглушительный стук. Рональд сказал, что это старик с шестого, который таким образом мстит. Когда мама приедет, попрошу ее завязать контакт со стариком.
— Твоя мама? Адгаль?
— Ну да, это моя мать, из Герцеговины. Ей понравится этот дом, она так восприимчива, а здесь происходят такие вещи… Я имею в виду не только зеленую куколку.
— Ну-ка объясни, почему ты считаешь, что твоя мама восприимчива, и при чем здесь этот дом. Давай поговорим, че, перетрясем наше барахло. Слово за слово…
(-57)
31
Грегоровиус давно расстался с иллюзией по вопросу взаимопонимания, но он в любом случае предпочитал сохранять порядочность и здравый смысл, даже при взаимонепонимании. Как ни тасуй загадочные карты таро, их раскладывание — это всегда последовательное действие, которое, так или иначе, совершается на прямоугольнике стола или на одеяле кровати. Пусть этот поглотитель пойла аргентинской пампы раскроет ему суть своих исканий. Причем в самый наихудший момент, какой только можно придумать; чем позже, тем труднее ему будет выбраться из собственной паутины. Потягивая мате, Оливейра снисходил до воспоминаний о каких-то событиях из своего прошлого или отвечал на вопросы. Он и сам спрашивал, проявляя иронический интерес к подробностям похорон и поведению людей. Он редко спрашивал о Маге напрямую, но было видно, он подозревает, что ему скажут неправду. Монтевидео, Лукка, какой-нибудь уголок Парижа. Был момент, Грегоровиусу показалось, что если бы Оливейра хотя бы отдаленно представлял себе, где может быть Мага, он бы бросился бегом из дому. Похоже, он специалист по части проигранных процессов. Сначала упустить из рук, а потом гоняться за потерянным, как безумный.
— Адгаль будет в восторге от пребывания в Париже, — сказал Оливейра, заваривая новый мате. — Если ей хочется устроить себе сошествие в ад, тут есть что показать. Конечно, все очень скромно, но ведь и ад несколько измельчал. Сегодняшнее nekias[376] — это поездка в метро в половине седьмого или поход в полицию для продления la carte de séjour.[377]
— A тебе хочется, чтобы все с парадного крыльца, да? Диалог с Аяксом, с Жаком Клеманом, с Кейтелем, с Тропмэном.[378]
— Да, но сейчас самый парадный вход ведет в сортир. Даже Травелер этого не понимает, хотя знает жизнь до мелочей. Травелер — это мой друг, ты его не знаешь.
— Ты, — сказал Грегоровиус, глядя в пол, — играешь втемную.
— То есть?
— Не знаю, это на уровне ощущений. С тех пор как я тебя знаю, ты все время чего-то ищешь, но при этом кажется, что ты прячешь это самое «что-то» у себя в кармане.
— Об этом говорили мистики, правда, они не упоминали о карманах.
— И между делом ты ломаешь жизнь некоторому количеству людей.
— Они сами на это соглашаются, старик, сами. Их только чуть заденешь, проходя мимо, — и готово дело. Без всякой задней мысли с моей стороны.
— Но ты-то чего этим добиваешься, Орасио?
— Права на проживание.
— Здесь?
— Это метафора. А так как Париж — это другая метафора (ты сам как-то сказал, я слышал), мне кажется совершенно естественным приехать сюда именно для этого.
— А Люсия? А Пола?
— Это неоднородные величины, — сказал Оливейра. — Ты считаешь, раз они обе женщины, их можно ставить в один ряд. А они, разве они не ищут для себя удовольствия? А ты вдруг стал такой пуританин, но разве ты не пролез сюда благодаря менингиту или что там такое нашли у мальчика? Хорошо еще, что мы оба — люди без претензий, а то один из нас был бы покойником, а другого вывели бы в наручниках. Сюжет для Шолохова, уж ты мне поверь. А мы даже не презираем ни себя, ни друг друга, ведь в комнате так уютно.
— Ты, — сказал Грегоровиус, не отрывая глаз от пола, — играешь втемную.
— Поясни, братец, сделай милость.
— Ты, — продолжал Грегоровиус, — в глубине души лелеешь имперские замыслы. Право на проживание? Власть над проживанием. Причина твоей неудовлетворенности — болезненные амбиции. Ты приехал сюда и думал, что тут только и ждут, чтобы воздвигнуть тебе статую на площади Дофин. Чего я не понимаю, какова техника этого вопроса. Амбиции — пусть, почему бы и нет? В чем-то ты человек незаурядный. Но до сих пор, сколько я ни наблюдаю за тобой, ты делаешь как раз обратное тому, что обычно делают амбициозные люди. Этьен, например, не говоря уже о Перико.
— А-а, — сказал Оливейра. — Для чего-то тебе все-таки даны глаза.
— С точностью до наоборот, — повторил Осип, — при этом не отказываясь от амбиций. Я не знаю, как это объяснить.
— Ох уж эти объяснения, сам знаешь… Все так запутано, брат ты мой. Представь себе такую вещь: то, что ты называешь амбициями, можно реализовать, только отказавшись от амбиций. Как тебе такая формула? Это, конечно, не совсем так, но то, что я хочу сказать, выразить невозможно. Будешь, как собака, крутиться, пытаясь поймать собственный хвост. Так что хватит того, что я сказал о праве на проживание, проклятый черногорец.
— Я понял. В общих чертах. Но тогда ты… Не пойдешь же ты по пути полнейшего нигилизма, я надеюсь?
— Нет.
— Отказ в светском его выражении, так, скажем?
— Опять нет. Я ни от чего не отказываюсь, просто делаю все возможное, чтобы все отказалось от меня. Ты разве не знаешь, для того, чтобы достичь конечной точки, надо рыть землю и отбрасывать ее подальше?
— Но тогда право на проживание…
— Вот именно, ты попал в самую точку. Вспомни одно высказывание: Nous ne sommes pas au monde.[379] В чем его острота, если подумать спокойно?
— Значит, эти амбиции что-то вроде чистого листа и приходится все время начинать сначала?
— Самую чуточку, с самой ничтожной малости, с едва заметного ручейка, с чего-то самого незначительного, о суровый трансильванец, разбойник, крадущий женщин, попавших в беду, сын трех специалисток по черной магии.
— И ты, и остальные… — прошептал Грегоровиус, отыскивая свою трубку. — Какая дешевка, боже мой. Мошенничаете с вечностью, расставляете ловушки Небесам, стоите, как псы, на страже у Господа Бога, а у самих бельмо на глазу. Хорошо, что есть один умный человек, который может все назвать своими именами. Астральное свинство.
— Ты мне сильно польстил подобными определениями, — сказал Оливейра. — Доказательство того, что ты уже начал кое в чем разбираться.
— Да уж, я предпочитаю вдыхать кислород и водород в пропорциях, предписанных Господом. Моя алхимия не столь хитроумна, как ваша; единственное, что меня занимает, — это философский камень. Крошечная крепость рядом с твоими ловушками, сортирами и онтологическими изысканиями.
— Давно мы так славно не болтали на метафизические темы, а? Такое уже не назовешь разговором друзей, скорее это диалог двух снобов. У Рональда, например, такие вещи вызывают ужас. А Этьен не выходит дальше солнечного спектра. А с тобой здорово получается.
— На самом деле мы могли бы остаться друзьями, — сказал Грегоровиус, — если бы в тебе было хоть что-то человеческое. Подозреваю, Люсия говорила тебе об этом не раз.
— Да просто каждые пять минут. Вы только посмотрите, что могут сделать люди из слова «человеческое». Но Мага, почему же она с тобой-то не осталась, ведь ты так и светишься человечностью?
— Потому что она меня не любит. Такое бывает и с человечными людьми.
— И она собирается вернуться в Монтевидео, чтобы снова окунуться в ту жизнь, которая…
— Возможно, она отправилась в Лукку. Ей в любом месте будет лучше, чем с тобой. Так же как и Поле, и мне, и всем остальным. Извини за откровенность.
— Все нормально, Осип Осипович. Зачем нам обманывать друг друга? Невозможно жить с кукловодом, дергающим за ниточки тени, с укротителем шлюх. Невозможно принимать всерьез человека, который целыми днями наблюдает за причудливым рисунком бензиновых пятен на водах Сены. Меня то есть, с моими воздушными замками и ключами из воздуха, меня, у которого слова все равно что дым. Не трудись отвечать, я знаю, что ты скажешь: нет субстанций более гибельных, чем эти, они проникают всюду, их вдыхаешь, не отдавая себе в этом отчета, вместе со словами, с любовью, с дружбой. Близок тот час, когда все меня оставят и я буду одинок и один. Заметь, я ни на ком и не висну. О раджа, сын Боснии. В следующий раз, когда ты встретишь меня на улице, то не узнаешь.
— Ты сумасшедший, Орасио. Неизлечимо сумасшедший, потому что тебе самому это нравится.
Оливейра достал из кармана обрывок газеты, завалявшийся с незапамятных времен: адреса дежурных аптек. Тех, что открыты с восьми утра понедельника до восьми утра вторника.
— Первый ряд, — прочитал он. — Реконкиста, 446 (31-54-88), Кордова, 366 (32-88-45), Эсмеральда, 599 (31-17-00), Сармьенто,[380] 581 (32-20-21).
— Что это?
— Инстанции действительности. Объясняю: Реконкиста — это что мы преподнесли англичанам. Кордова — ученая. Эсмеральда — цыганка, которую повесили из-за того, что в нее влюбился один архидьякон. Сармьенто — это как пукнуть на ветер. А вот второй столбик: Реконкиста — улица арабских кофеен и ресторанчиков. Кордова — потрясающие медовые пряники. Эсмеральда — река в Колумбии. Сармьенто — то, чего всегда хватает в школах.[381] Третий: Реконкиста, аптека. Эсмеральда — другая аптека. Сармьенто[382] — еще одна аптека. Четвертый ряд…
— Когда я говорю, что ты сумасшедший, я имею в виду, что не вижу, как ты сумеешь дойти до своего пресловутого отрицания всего и вся.
— Флорида, 620 (31-22-00).
— Ты не пришел на похороны, потому что, хоть ты и отрицаешь все подряд, ты не мог смотреть в глаза своим друзьям.
— Иполито Иригойен,[383] 749 (34-09-36).
— Люсии лучше будет на дне реки, чем в твоей постели.
— Боливар, 800. Номер телефона почти оборван. Если в этом квартале заболеет ребенок, они не смогут достать террамицин.
— Да, на дне реки.
— Коррьентес, 1117 (35-14-68).
— Или в Лукке, или в Монтевидео.
— Или на Ривадавиа,[384] 1301 (38-78-41).
— Оставь этот листок для Полы, — сказал Грегоровиус, поднимаясь. — Я ухожу, делай что хочешь. Это не твой дом, но, поскольку реальности не существует и все надо начинать с nihil[385] и так далее… оставляю на твое усмотрение все эти иллюзии. А я пошел за водкой.
Оливейра догнал его у дверей и положил руку ему на плечо.
— Лавалье,[386] 2099, — сказал он, глядя ему прямо в лицо и улыбаясь. — Кангайо, 1501. Пуэйредон,[387] 53.
— Недостает телефонов, — сказал Грегоровиус.
— До тебя начинает доходить, — сказал Оливейра, убирая руку. — В глубине души ты понимаешь, что мне больше нечего сказать ни тебе, ни кому-либо другому.
Звук шагов замер на третьем этаже. «Сейчас вернется, — подумал Оливейра. — Боится, что я подожгу кровать или порежу простыни. Бедняга Осип». Однако через минуту шаги возобновились.
Он сел на кровать и открыл тумбочку. Роман Переса Гальдоса, счет из аптеки. Прямо ночь аптек какая-то. Бумажки, исчирканные карандашом. Мага увезла все, но остался прежний запах, обои на стенах, кровать с полосатым матрацем. Роман Гальдоса — ну и ну. Она, бывало, читала Вики Баум[388] или Роже Мартен дю Гара,[389] потом, совершенно непонятно почему, бросалась к Тристану Л’Эрмиту, часами повторяя на разные лады «les rêves de l’eau qui songe»,[390] a могла взяться за дешевенькое чтиво в ярких обложках или за рассказы Швиттерса,[391] будто откупалась от чего-то, будто каялась за все изысканное и таинственное, а потом вдруг опять ни с того ни с сего — Джон Дос Пассос,[392] и в последующие пять дней она проглатывала немыслимое количество печатной продукции.
Исчирканные бумажки оказались чем-то вроде письма.
(-32)
32
Мой малыш Рокамадур, детка моя, мальчик мой. Рокамадур!
Рокамадур, теперь я знаю, что ты — это как зеркало. Ты спишь или рассматриваешь свои ножки. А я будто держу зеркало и верю, что это ты. Нет, не верю, я пишу тебе, потому что ты не умеешь читать. Если бы умел, я бы не стала писать или написала бы что-нибудь не очень важное. Когда-нибудь я, наверное, напишу тебе, чтобы ты вел себя хорошо или чтоб одевался теплее. Кажется невероятным это «когда-нибудь», Рокамадур. Сейчас я пишу, будто смотрю в зеркало, и мне то и дело приходится вытирать палец, потому что он мокрый от слез. Почему, Рокамадур? Не потому, что мне грустно, твоя мама такая растяпа, у меня убежал борщ, который я варила для Орасио; ты знаешь, кто такой Орасио, Рокамадур, это сеньор, который в воскресенье принес тебе плюшевого зайчика и все время скучал, потому что мы с тобой разговаривали, а он хотел вернуться в свой Париж; а когда ты заплакал, он показал тебе, как зайчик умеет шевелить ушами; в тот момент он был так прекрасен, Орасио я имею в виду, когда-нибудь ты поймешь, что я хочу сказать, Рокамадур.
Рокамадур, глупо реветь из-за того, что борщ убежал. Теперь вся комната в свекле, Рокамадур, ты бы так смеялся, если б это увидел, весь пол в свекле и в сметане. Конечно, я все успею убрать к приходу Орасио, но сначала я должна написать тебе, сидеть и реветь ужасно глупо, кастрюли остывают, они похожи на нимбы святых на фоне окна, и даже не слышно девушку с верхнего этажа, которая целый день напролет напевает «Les Amants du Havre».[393] Как-нибудь останемся с тобой вдвоем, я тебе ее спою, вот увидишь. Puisque la terre est ronde, mon amour t’en fais pas mon amour, t’en fais pas…[394] Орасио насвистывает ее по вечерам, когда пишет или рисует. Она тебе понравится, Рокамадур.
Обязательно понравится, Орасио сердится, когда я говорю о тебе, он говорит, я совсем как Перико, в Уругвае-то все по-другому. Перико — это тот сеньор, который тебе ничего не принес, когда пришел к нам, но все время говорил о детях и о детском питании. Он знает кучу всяких вещей, когда-нибудь ты станешь очень уважать его, Рокамадур, и будешь очень глупым, если станешь уважать. Если станешь, если станешь уважать его, Рокамадур.
Рокамадур, мадам Ирэн недовольна, что ты такой хорошенький, такой веселый, такой плакса, такой крикун и такой писун. Она говорит, что все хорошо, что ты очаровательный ребенок, а сама прячет руки в карманах передника, как это делают некоторые зловредные животные, и это меня пугает, Рокамадур. Когда я сказала об этом Орасио, он так смеялся, он не понимает, а я чувствую — что-то неладно, и хотя таких животных, которые бы прятали руки в карманы, не существует, я все равно чувствую, только не умею объяснить. Рокамадур, если бы за эти две недели я смогла прочитать в твоих глазенках все, что ты чувствуешь, секунда за секундой. Кажется, я буду искать другую nourrice,[395] хотя Орасио рассердится и скажет, впрочем, тебе неинтересно, что он мне скажет. Другую няню, которая говорила бы поменьше, неважно, говорит ли она, что ты злюка, потому что проплакал всю ночь, или что ты плохо ешь, неважно что, но чтобы, слушая ее, я бы не чувствовала зловредности и знала бы, что любые ее слова не причинят тебе вреда. Все это так странно, Рокамадур, вот, например, мне нравится произносить твое имя или писать его, каждый раз мне кажется, что я дотрагиваюсь до твоего носика и ты смеешься, а вот мадам Ирэн никогда не называет тебя по имени, она говорит l’enfant, представляешь, даже не le gosse,[396] а просто l’enfant, будто надевает резиновые перчатки, когда говорит, а может, и надевает, потому и засовывает руки в карманы, а сама говорит, что ты такой миленький.
Есть такая вещь, Рокамадур, которая называется время, оно похоже на живое существо, которое все идет и идет куда-то. Я не могу тебе объяснить, ты еще такой маленький, я просто хочу сказать, что Орасио должен скоро вернуться. Почитать ему мое письмо, чтобы и он тоже что-нибудь написал тебе? Нет, я не хочу, чтобы кто-то читал мое письмо, оно только мое. Это наш с тобой большой секрет, Рокамадур. Вот я уже и не пла-чу, я довольна, но иногда бывает так трудно во всем разобраться, мне нужно столько времени, чтобы понять хоть немного все то, что Орасио и остальные понимают с ходу, но хоть они и понимают все на свете, они не понимают нас с тобой, не понимают, что я не могу забрать тебя к себе, кормить тебя и пеленать, укладывать тебя спать и играть с тобой, они этого не понимают, да, по большому счету, им это и не важно, а вот мне важно, но я знаю только, что не могу забрать тебя к себе, что это плохо для нас обоих, я должна быть одна с Орасио, должна жить с Орасио, должна помогать ему, кто знает, до каких пор, искать то, что он ищет и что будешь искать ты, Рокамадур, потому что когда ты вырастешь, то станешь мужчиной и тоже будешь искать что-то, как последний глупец.
Так-то, Рокамадур: мы тут в Париже, как грибы, растем на лестничных площадках, в темных комнатах, где пахнет плесенью, где люди только и делают что занимаются любовью, а потом жарят яичницу и слушают пластинки Вивальди, курят и разговаривают, как Орасио, и Грегоровиус, и Вонг, и я, Рокамадур, и как Перико, и Рональд, и Бэбс, мы все занимаемся любовью и жарим яичницу и курим, ой, ты даже не представляешь себе, сколько мы курим, сколько занимаемся любовью, стоя, лежа, сидя, на коленях, руками, губами, плача или напевая, а на улице чего только нет, окно открыто настежь, и все начинается с какого-нибудь воробья или капли дождя, здесь так часто идет дождь, Рокамадур, гораздо чаще, чем в деревне, и все ржавеет, и водосточные трубы, и лапки у голубей, и проволока. Из которой Орасио мастерит разные фигуры. У нас совсем мало одежды, только самое необходимое, теплое пальто, пара обуви, которая не промокает в дождь, ходим грязными, в Париже, Рокамадур, все грязные и красивые, постели пахнут ночью и тяжелыми снами, а под кроватью пыль и книги, Орасио засыпает, и книга падает за кровать, а потом мы ужасно ругаемся, потому что не можем ее найти, и Орасио думает, что книги крадет Осип, и вдруг книга появляется, и мы смеемся, книги уже почти некуда складывать, пару обуви и ту некуда поставить, чтобы пристроить на полу хоть что-нибудь, Рокамадур, надо переставить проигрыватель, а куда его переставить, если весь стол завален книгами. Я никак не могу забрать тебя сюда, ты хоть и маленький, но все равно здесь не поместишься и будешь натыкаться на стены. Когда я об этом думаю, мне хочется плакать, Орасио этого не понимает, он думает, я плохая, потому что не забираю тебя, но я-то знаю, что он тебя долго не выдержит. Здесь никто долго не выдержит, даже мы с тобой, здесь, чтобы выжить, надо бороться, таков закон, единственный способ, который стоит того, но это так больно, Рокамадур, это гнусно и горько, тебе бы не понравилось, тебе, который пока что видел только ягняток на лугу да слышал пение птиц, примостившихся на флюгере дома. Орасио считает, что я сентиментальна или что я материалистка и еще не знаю что, потому что я не забираю тебя к себе или потому что хочу забрать, потому что отказываюсь забрать, потому что хочу съездить навестить тебя, потому что вдруг понимаю, что не могу ехать, потому что способна целый час тащиться под дождем, если в каком-то незнакомом районе идет в кинотеатре «Броненосец „Потемкин“» и надо посмотреть его, Рокамадур, пусть хоть весь мир обрушится, ну а если нет никакого дела до всего мира, если больше нет сил выбирать только настоящее, если кто-то распоряжается тобой, словно ты ящик комода, что всегда под рукой, а по другую руку воскресенье, материнская любовь, новая игрушка, вокзал Монпарнас, поезд, необходимость ехать. Я не хотела ехать, Рокамадур, ты ведь знаешь, у тебя все хорошо, ты не грустишь. Орасио прав, я иногда забываю о тебе, но, думаю, придет день, и ты поблагодаришь меня за это, когда поймешь и увидишь, что я должна была оставаться такой, какая я есть. Но я все равно плачу, Рокамадур, и пишу тебе это письмо, потому что не знаю, потому что, может быть, ошибаюсь, может быть, я плохая, или у меня не все дома, или просто дура, не совсем, а немного, но все равно это ужасно, одна только мысль об этом вызывает у меня колики, а пальцы ног будто сами собой начинают расти внутрь, вот-вот туфли порвутся, если я их не сниму, я так люблю тебя, Рокамадур, малыш Рокамадур, зубчик мой чесночковый, я так тебя люблю, сахарный мой носик, деревце мое, игрушечная моя лошадка…
(-132)
33
«Он намеренно оставил меня одного, — подумал Оливейра, выдвигая и задвигая ящик тумбочки. — Не то из деликатности, не то ловушку подстроил — это как посмотреть. Может, стоит сейчас на лестнице и подслушивает, как дешевый садист. В ожидании кризиса в духе Карамазова или какого-нибудь приступа в духе Селина. Или, за первой рюмкой кирша, плетет свои герцеговинские кружева, а за второй, сидя в заведении Бебера, мысленно комбинирует карты таро и обдумывает, как обставить прибытие Адгаль. Пытка надеждой: Монтевидео, Сена или Лукка. Варианты: Марна, Перуджа. Но тогда ты действительно…»
Он прикурил «Голуаз» от окурка, еще раз осмотрел ящик, достал роман, подумал что-то смутное насчет жалости в качестве темы для диссертации. Жалость к себе самому: это уже лучше. «Я никогда не рассчитывал на счастье, — подумал он, рассеянно листая книгу. — Это не обвинение и не оправдание. Nous ne sommes pas au monde. Donc, ergo, dunque…[397] Почему я должен ее жалеть? Потому что я нашел ее письмо к сыну, которое на самом деле написано для меня? Я — автор полного собрания писем к Рокамадуру. Для жалости нет причин. Оттуда, где она сейчас, своими пылающими, словно башня, волосами, она сжигает меня издалека, она разрывает меня на куски одним своим отсутствием. Тра-та-ти, тра-та-та. Она прекрасно обойдется без Рокамадура и без меня. Прелестная голубая стрекозка, летя к солнцу, иной раз ударяется о стекло, нос в крови, трагедия. А через две минуты она уже весела и покупает какую-нибудь открытку в канцелярском магазине, а потом мчится на почту, чтобы послать ее в конверте подруге с нордическим именем, одной из тех, что разбросаны по всему свету, проживающей в какой-нибудь невероятной стране. Как можно испытывать жалость к кошке, к львице? Механическая жизнедеятельность, очень похоже на регулярные вспышки молнии. Моя единственная вина в том, что у меня не хватило горючего, чтобы она как следует согрела около меня руки и ноги. Она выбрала меня, приняв за пылающий костер, а я возьми да и окати ее холодным душем. Бедняга, черт бы все побрал».
(-67)
34[398]
В сентябре 80-го,[399] спустя несколько месяцев после
Читаешь, бывает, иной плохо написанный роман, да
кончины моего отца, я решил отойти от дел, передав их
еще и скверно изданный, и спрашиваешь себя, как та-
другой фирме, тоже занимающейся производством хере-
кое может быть интересным. Подумать только, сколько
са на тех же правах, что и моя; я, как мог, реализовал
долгих часов потрачено на поглощение этого остывшего
кредиты, оформил права наследства, передал магазинчи-
безвкусного варева, на бездарное чтение «Elle» и «Fran-
ки со всеми имеющимися в них товарами и перебрался
се Soir», скучных журналов, которые давала мне Бэбс;
жить в Мадрид. Мой дядя (родной брат отца), дон Ра-
И перебрался жить в Мадрид, и ведь надо же, стоит
фаэль Буэно Гусман-и-Атаиде, предложил мне жить у
проглотить пять или шесть страниц, как тебя затягива-
него; но я воспротивился этому, дабы не потерять свою
ет, и ты уже не можешь оторваться от чтения, вроде как
независимость. В конце концов мне удалось как-то все
не можешь перестать спать или мочиться, ох уж это
уладить, не утратив преимуществ личной свободы и со-
рабство кнута и пряника. В конце концов мне удалось
хранив радушное отношение моего родственника; я снял
как-то все уладить, подобная манера выражаться идет
квартиру неподалеку от его дома, так что я был предо-
из времен, когда меня еще не было на свете, и нужна
ставлен самому себе, как и хотел, или наслаждался теп-
для того, чтобы донести какие-нибудь архипрогнившие
лом семейного очага, когда чувствовал в том необходи-
мысли, которые передают из рук в руки, как деньги, от
мость. Этот достопочтенный сеньор жил, вернее, мы жи-
одной генерации к другой дегенерации, te voilà en plaine
ли в квартале, где раньше был Поситос. Квартира моего
echolalie.[400] Наслаждался теплом семейного очага, здоро-
дяди занимала весь главный этаж и стоила восемнадцать
во сказано, просто мать твою, как здорово. Ах, Мага, ну
тысяч реалов, она была красивая и светлая, хотя и слиш-
как можно было глотать эту остывшую похлебку, и ка
ком просторная для такой семьи. Я разместился внизу,
кого черта мне дался этот Поситос, че. Сколько времени
в квартире поменьше, чем на главном этаже, но тоже
ты потратила на чтение подобных вещей, убежденная,
слишком большой для меня одного, которую я шикарно
видимо, что это и есть настоящая жизнь, и ты права,
обставил, со всеми привычными для меня удобствами.
это жизнь, и потому следовало с этим покончить. (Глав-
Мое состояние, слава богу, позволяло это с лихвой.
ный этаж, это какой же?) Иной раз, вечером, когда я,
Мое первое впечатление от внешнего облика Мад-
обойдя стенд за стендом египетский отдел Лувра, воз-
рида — это приятное удивление, ведь я не был там со
вращался домой, мечтая о мате и сладкой булочке, я
времен Гонсалеса Браво.[401] Меня приятно поразили кра-
заставал тебя у окна погруженной в неотрывное чте-
сота и простор новых районов, скорость средств сооб-
ние какого-нибудь жуткого толстенного романа, иногда
щения и очевидное улучшение внешнего вида зданий,
в слезах, да, да, не отрицай, в слезах, потому что кому-
улиц и даже прохожих; на месте прежних пыльных пус-
то там отрубили голову, и ты крепко обнимала меня,
тырей были разбиты парки дивной красоты, высились
спрашивала, где я был, но я не говорил, потому что
элегантные особняки богачей, тянулись ряды много
Лувр — это была непосильная нагрузка, я не мог ходить
численных магазинов с большим выбором товаров, не
туда с тобой, твое невежество могло бы испортить мне
хуже, если смотреть на витрины, чем в Париже или
удовольствие, бедняжка, на самом деле вся вина за то,
Лондоне, наконец появилось множество прекрасных те-
что ты читаешь подобные романы, лежала на мне, я был
атров любого жанра, рассчитанных на все вкусы и ко-
эгоистом (на месте прежних пыльных пустырей, это
шельки. Все это, а также прочие изменения, которые я
ладно, а я вот думаю о площадях провинциальных го-
позже заметил в обществе, убедили меня в том, что на
родков, об улицах Риохи[402] в сорок втором, о горах, кото-
ша столица сделала резкий скачок вперед со времен
рые в сумерках становятся фиолетовыми, и о счастье,
68-го года, правда, казавшийся скорее произвольным и
которое охватывает тебя, потому что ты один на краю
не похожим на поступательное движение вперед, когда
света, и о прекрасных театрах. О чем толкует этот
люди знают, что делают; но от этого происшедшие из-
тип? Он только что упомянул Париж и Лондон, он го-
менения не стали менее реальными. Одним словом, на
ворит о вкусах и кошельках, видишь, Мага, ты видишь,
меня пахнуло европейской культурой и благосостояни-
он обводит ироническим взором все то, что тебя волно-
ем, и даже рынком труда.
вало, ведь ты была убеждена, что борешься с невежест-
Мой дядя был в Мадриде крупным агентом по про-
вом, читая книгу испанского писателя с его фотогра-
дажам. В былые времена он занимал важные государ-
фией на обложке, он говорит о дуновении европейской
ственные посты: был генеральным консулом; потом ат-
культуры, а ты убеждена, что подобное чтение поможет
таше в посольстве; позднее, в результате женитьбы, он
тебе понять микро- и макрокосмос, не успевал я войти
оказался при дворе; одно время он служил в министер-
в комнату, как ты доставала из ящика своего стола, —
стве финансов, при поддержке и покровительстве Бра-
ведь у тебя был рабочий стол, в обязательном порядке,
во Мурильо,[403] и наконец интересы семьи побудили его
хотя я никак не мог понять, какую такую работу ты
поменять жизнь вольного труженика, полную надежд и
можешь держать в этом столе, — так вот, ты доставала
приключений, на непритязательность гарантированной
томик стихов Тристана Л’Эрмита, например, или науч-
зарплаты. Он обладал умеренным честолюбием, был
ный труд Бориса Шлецера[404] и показывала мне с нереши-
прямолинеен, активен, неглуп и имел множество свя-
тельным и в то же время самодовольным видом чело-
зей. Он занялся проталкиванием самых различных во-
века, который приобрел нечто совершенно замечатель-
просов и вскоре уже мог поздравить себя с тем, что вся
ное и собирается немедленно приняться за чтение.
эта кутерьма стала приносить свои плоды, а дела, по-
Невозможно было заставить тебя понять, что так ты не
ложенные под сукно, сдвинулись с места. На это он и
добьешься ничего, что есть вещи, которые надо делать
жил, несмотря ни на что, вытаскивая на свет божий
вовремя, не раньше и не позже, и каждый раз ты, всегда
сделки, пылившиеся в архивах, давая ход таким, кото-
такая веселая и беспечная, доходила чуть ли не до от
рые залежались в столах, указывая, по мере возможнос-
чаяния, а твою душу, словно облако, заполняла расте-
ти, дорогу тем, кто заблудился в пути. Ему пригодились
рянность. Давая ход таким, которые залежались в сто-
дружеские отношения с людьми из той и из другой
лах, нет, со мной ты не могла на это рассчитывать, твой
партии, а также высокие посты, которые он занимал в
стол — это твой стол, я его для тебя не ставил, и я его
государственных учреждениях. Для него не существо-
у тебя не отбирал, я просто смотрел, как ты читаешь
вало закрытых дверей. Можно было подумать, что
свои романы и разглядываешь обложки и картинки во
швейцары в министерствах обязаны ему жизнью, с та-
всех этих книжках, а ты ждала, что я сяду рядом с
кой сыновней любовью они его приветствовали и рас-
тобой, и все тебе объясню, и подбодрю тебя, и сделаю
пахивали перед ним двери, как перед своим. Я сам слы-
все то, что женщина ждет от мужчины, чтобы он немно-
шал, говорили, будто он получил большие деньги, при-
го развязал ей тугой поясок на талии, и раз — взял бы
ложив руку к делу о шахтах и железных дорогах;
ее в оборот и заставил делать то, что считает нужным,
однако были другие дела, в которых его застенчивая
чтобы оторвать ее от вечного вязания пуловеров и не-
честность ему вредила. Когда я поселился в Мадриде,
скончаемой пустопорожней болтовни, болтовни ни о
он, судя по всему, мог считаться человеком зажиточ-
чем. Послушай, даже если я и чудовище, чем же мне
ным, но не более. Он ни в чем не нуждался, но у него
хвастаться, у меня даже нет тебя, потому что было твер-
не было накоплений, что, по правде говоря, не так уж
до решено, что я должен тебя потерять (даже не поте-
похвально для человека, который столько работал и те-
рять, потому что для этого я сначала должен был тебя
перь приближался к концу жизни и потому вряд ли мог
обрести), что, по правде говоря, не так уж похвально
вернуть себе упущенные возможности.
для человека, который… Похвально, бог знает сколько
В то время он выглядел моложе своих лет, одевался
времени я не слышал этого слова, как обедняется язык
как самые элегантные молодые люди, тщательно и вы-
у нас, у креолов, когда я был мальчишкой, у меня было
деляясь на фоне остальных. Он был гладко выбрит, для
больше слов, чем теперь, я читал те же книги, и у меня
него это было показателем верности старшему поколе-
был огромный словарный запас, совершенно, впрочем,
нию, к которому он и принадлежал. Тонкое обхождение
бесполезный, но тщательный и выделяющийся на фоне
и веселый нрав были у него как раз в меру и никогда
остальных, уж это точно. Интересно знать, ты действи-
не переходили в наглую фамильярность или в пустое
тельно была увлечена такой книгой или она служила
тщеславие. Умение вести беседу было его главным до-
тебе трамплином для продвижения вперед, в твои не
стоинством и главным недостатком, потому что, зная,
ведомые страны, чему я напрасно завидовал, тогда как
как прекрасно он владеет разговором, он поддавался
ты завидовала моим походам в Лувр, о которых подо-
зуду красноречия и разбавлял свои рассказы утоми
зревала, хотя ничего мне и не говорила. Так мы при-
тельным количеством подробностей. Иной раз они на-
ближались к тому, что в один прекрасный день должно
чинались с первых же слов и были украшены такими
было случиться, когда ты поняла, что я могу дать тебе
незначительными мелочами, что хотелось умолять, ра-
лишь малую толику своего времени и своей жизни и
ди всего святого, сократить повествование. Когда он
разбавлять свои рассказы утомительным количеством
рассказывал какую-нибудь охотничью байку (он был
подробностей, только это, так тяжело становится, когда
страстным любителем этого дела), проходило столько
я вспоминаю об этом. Но как ты была хороша, когда
времени с момента вступления до момента выстрела,
сидела у окна и пасмурное небо скользило по твоей
что слушатель уже забывал, в чем, собственно, дело и,
щеке, ты сидела с книгой в руках, рот, как всегда, чуть
когда раздавалось «ба-бах», вздрагивал от испуга. Не
приоткрыт, а глаза полны неуверенности. Как много
знаю, следует ли отнести к его физическим недостаткам
времени ты потеряла, ты была всего лишь заготовкой
хроническое раздражение слезных желез, но порой, в
чего-то, чем ты могла бы стать под другой звездой, и
особенности в зимнее время, глаза его были такими потому
обнимать тебя и заниматься с тобой любовью
влажными и воспаленными, будто он долго плакал, ис-
было слишком тонкой задачей, сродни чему-то божест-
ходя соплями и слюнями. Я не встречал другого такого
венному, а я обманывал себя, я впадал в глупое вы-
человека, у которого был бы такой обширный выбор
сокомерие интеллектуала, который думает, что он до-
тонких носовых платков. По этой причине и из-за при-
статочно всего поднабрался и теперь ему все понятно
вычки не выпускать белоснежный лоскуток из правой
(плакал, исходя соплями и слюнями, совершенно отвра-
руки или из обеих рук один мой друг из Андалусии,
тительно сказано). Поднабрался, и теперь ему все по-
добряк и ворчун, о котором я расскажу позже, называл
нятно, смех, да и только, Мага. Слушай меня, я говорю
моего дядю Вероникой.[405]
это только для тебя, только прошу тебя, не говори ни-
Он выказывал мне искреннее расположение, и в
кому. Мага, заготовкой был я, а ты трепетала, чистая
первые дни моей жизни в Мадриде буквально не отхо-
и свободная, как пламя, и еще как река из ртути, как
дил от меня, помогая мне устроиться, тысячу разных
первое пение птиц, встречающих зарю, и как приятно
вещей. Стоило заговорить с ним о семье и вспомнить
сказать тебе это словами, которые ты так любила, ты
что-то из моего детства или какой-нибудь случай с мо-
считала, что они существуют только в стихах и что у
им отцом, как моего дорогого дядюшку охватывало
нас есть на них право. Где ты будешь теперь, где будем
нервное возбуждение, и он с лихорадочным энтузиаз-
теперь мы оба, две маленькие точки в непонятной все
мом начинал перечислять имена великих людей, про
ленной, близко ли, далеко ли друг от друга, две точки,
славивших фамилию Буэно де Гусман,[406] и, достав но
соединяющие линию, которые то произвольно удаляют-
совой платок, он пускался рассказывать мне разные
ся, то приближаются (великих людей, прославивших фа-
истории, которым не было конца. Он считал меня пос-
милию Буэно де Гусман, ты только посмотри, что за вы-
ледним представителем мужского пола в этом роду, бо-
ражение, Мага, ну как ты могла читать такое дальше
гатом на личности, и холил и лелеял меня, как ребенка,
пятой страницы…), мне уже не объяснить тебе, что та-
несмотря на мои тридцать шесть лет. Бедный дядюшка!
кое броуновское движение, разумеется, уже не объяс-
За этими выражениями приязни, которые заметно уве-
нить, однако мы с тобой составляем некую фигуру,
личивали у него слезотечение, я видел тайную и глубо-
ты — точка на одном конце, я — на другом, мы в разных
кую печаль, острый шип, вонзившийся в сердце этого
местах, ты сейчас, наверное, на улице Юшетт, а я в
замечательного человека. Уж и не знаю, как мне уда-
твоей опустевшей комнате раскрываю эту книгу, завтра
лось сделать это открытие: я был уверен, эта скрытая
ты будешь на Лионском вокзале (если поедешь в Лук-
рана есть, как будто видел ее собственными глазами и
ку, любовь моя), а я буду на улице Шмен-Вер, где от-
трогал собственными руками. Он был безутешен и по-
купорю бутылочку чудесного винца, и так, мало-пома-
давлен по той причине, что не мог женить меня ни на
лу, Мага, мы с тобой составим замысловатую фигуру,
одной из трех своих дочерей; непреодолимое препят-
мы нарисуем ее нашими перемещениями, такую же, ка
ствие состояло в том, что все три дочери, вот беда, были
кую рисуют мухи, когда влетают в комнату, туда-сюда,
уже замужем.
снова, оттуда сюда, вот это и называется броуновским
движением, понимаешь теперь, под прямым углом,
вверх по прямой, отсюда туда, от той стены к противо-
положной, вверх, вниз, рывок, резкое торможение, и тут
же в другом направлении, и в результате получается
рисунок, фигура, нечто несуществующее, как ты и как
я, две точки, затерянные в Париже, которые бродят от
сюда туда, оттуда сюда, создавая рисунок, танец ни для
кого, даже не для самих себя, рисунок без конца и
без смысла.
(-87)
35
Да, Бэбс, да. Да, Бэбс. Да, Бэбс, давай погасим свет, darling,[407] до завтра, sleep well,[408] считай барашков, все позади, детка, все позади. Какие они злюки, бедняжка Бэбс, давай мы исключим их из Клуба, давай их накажем. Все они противные злюки, бедненькая Бэбс, Этьен злюка, Перико злюка, Оливейра злюка, Оливейра хуже всех, просто инквизитор, поделом так назвала его наша прекрасная, распрекрасная Бэбс. Да, Бэбс, да. Rock-a-bye baby.[409] Тара-тира-ра. Да, Бэбс, да. Так или иначе, что-то должно было произойти, невозможно жить с этими людьми, и чтоб ничего не произошло. Тсс, бэби, тсс. Ну вот, ты уснула. С Клубом покончено, Бэбс, это точно. Мы больше никогда не увидим Орасио, этого подонка Орасио. Клуб этой ночью размазался по потолку, как тесто, да там и остался. Можешь убирать сковородку, Бэбс, тесто обратно не упадет, и не жди. Тсс, darling, перестань плакать, как же напилась эта женщина, душа у нее и та коньяком пропахла.
Рональд немного подвинулся, поудобнее прижался к Бэбс и стал засыпать. Клуб, Осип, Перико, давай припомним: у всякого начала есть свой конец, зависть богов, яичница в сочетании с Оливейрой, основная вина лежала на этой долбаной яичнице, по мнению Этьена, не было никакой необходимости отправлять яичницу в помойное ведро, она была прелестного цвета позеленевшего металла, а Бэбс разорялась, что твой Хокусай:[410] яичница якобы воняла мертвечиной, как можно проводить заседание Клуба, когда рядом такая вонь, и вдруг Бэбс расплакалась, коньяк полился даже из ушей, и Рональд понял, что, пока они спорили о высоких материях, Бэбс в одиночку выдула больше половины бутылки коньяку, яичница была лишь поводом, чтобы его выблевать, и никто не удивился, а Оливейра меньше всех, что от яичницы Бэбс постепенно перешла к пережевыванию темы похорон, а оттуда, беспрестанно икая и «хлопая крыльями», перескочила непосредственно к младенцу, тут уже совершенно вывернувшись наизнанку. Напрасно Вонг раздвигал свою ширму улыбок, пытаясь просунуться между Бэбс и Оливейрой, который сидел с отсутствующим видом, напрасно раздавал похвалы изданию под названием «La rencontre de la langue d’oïl, de la langue d’oc et du franco-provençal entre Loire et Allier — limites phonetiques et morfologiques»,[411] подчеркивал Вонг, автор С. Эскофье,[412] книга чрезвычайно интересная, говорил Вонг, а сам, прилепившись к Бэбс, подталкивал ее в направлении коридора, но это не помешало Оливейре услышать, что он инквизитор, и тот поднял брови то ли от удивления, то ли от растерянности и перевел стрелку на Грегоровиуса, как будто тот мог объяснить ему смысл этого определения. Члены Клуба знали, что если Бэбс ринулась в бой — это будет прыжок с катапультой, такое уже случалось; единственный выход — взять в кольцо представительницу обвинения, ответственную за буфет, в ожидании, что время сделает свое дело, никто не может плакать вечно, вдовы снова выходят замуж. Однако делать нечего, пьяная Бэбс прорвалась сквозь нагромождения из пальто и шарфов соклубников и, выступив из коридора, жаждала свести счеты с Оливейрой, она улучила момент и снова назвала его инквизитором и подтвердила в слезах, что за всю свою собачью жизнь она не встречала никого, кто был бы таким подлым, бессердечным, таким сукиным сыном, таким садистом, негодяем, палачом, расистом, не имеющим ни капли порядочности, таким мерзавцем, такой дрянью, такой кучей дерьма, таким отвратительным типом и сифилитиком. Этот перечень доставил огромное удовольствие Этьену и Перико и вызвал противоречивые чувства у остальных, в том числе и у того, к кому она обращалась.
Это был циклон по имени Бэбс, торнадо шестого округа: круши все вокруг. Члены Клуба, не поднимая глаз, закутались в свои плащи и схватились за сигареты. Когда Оливейра смог наконец вставить слово, воцарилась тишина, как во время театральной паузы. Оливейра сказал, что небольшая картина Никола де Сталя[413] показалась ему прекрасной и что Вонг, вместо того чтобы доставать их какой-то книгой Эскофье, должен сначала ее прочесть и изложить, в чем там суть, на очередном заседании Клуба. Бэбс еще раз назвала его инквизитором, а Оливейра в тот момент, видимо, вспомнил что-то забавное, потому что улыбнулся. Бэбс залепила ему пощечину. Клуб принял срочные меры, Бэбс зарыдала в голос, Вонг мягко остановил ее, втиснувшись между ней и разозленным Рональдом. Клуб окружил Оливейру, так что он оказался вне пределов досягаемости для Бэбс, которой пришлось согласиться: а) сесть в кресло и б) принять носовой платок Перико. Кажется, именно тогда прозвучало что-то насчет улицы Монж, а потом пошла история Маги-самаритянки, и Рональду показалось — воспоминания прошедшей ночи виделись ему в полусне, окруженные огромным зеленым свечением, — что Оливейра спросил у Вонга, правда ли, что Мага снимает комнату на улице Монж, и, кажется, Вонг ответил, что не знает или что да, это правда, и кто-то, по всей вероятности Бэбс, сидя в кресле и шумно всхлипывая, продолжала оскорблять Оливейру, припечатывая его самоотверженностью Маги-самаритянки, которая дежурит у постели больной Полы, и тут, кажется, Оливейра рассмеялся, почему-то глядя на Грегоровиуса, и стал подробно расспрашивать о самоотверженности Маги-сиделки, и правда ли, что она живет на улице Монж, какой номер дома и прочие сопутствующие детали. Рональд вытянул руку и пристроил ее между ног Бэбс, которая недовольно заворчала, будто издалека, Рональду нравилось засыпать, затерявшись рукой на неведомом пространстве ее теплого естества, Бэбс — провокаторша, она ускорила распад Клуба, надо будет утром сделать ей за это выговор: так-не-делают. Значит, Клуб окружил-таки Оливейру, который стоял как у позорного столба, и Оливейра понял это еще раньше, чем сам Клуб, и он стоял в центре этого колеса пыток и смеялся с сигаретой в зубах, засунув руки в карманы куртки, а потом спросил (не кого-то именно, а глядя поверх голов), не ждет ли Клуб amende honorable[414] или чего-то в этом роде, а Клуб сначала не понял или предпочел не понять, кроме Бэбс, которую Рональд насильно удерживал в кресле и которая снова стала кричать про инквизитора, отчего и вовсе повеяло могилой в та-ку-ю позднюю ночь. Тогда Оливейра, который больше не смеялся и как бы вдруг приняв приговор суда (хотя никто его не судил, Клуб у них был не для этого), бросил сигарету на пол, раздавил ее ботинком, потом слегка повел плечом, уклоняясь от руки Этьена, которую тот нерешительно к нему протягивал, очень тихо, но непреклонно объявил, что выходит из Клуба и что Клуб, начиная с него и кончая всеми остальными, может катиться к такой-то матери.
Dont acte.[415]
(-121)
36
Улица Дофин была недалеко, пожалуй, стоило наведаться туда и проверить, так ли все на самом деле, как говорила Бэбс. Конечно, Грегоровиус с самого начала знал, что Мага, которая всегда была сумасшедшей, отправится к Поле. Caritas.[416] Мага-самаритянка. Читайте «Распятого на кресте». И вы прожили день, не совершив ни одного доброго дела? Это же просто смешно. Все на свете просто смешно. Может, как раз потому, что все так смешно, это и называется Историей. Дойти до улицы Дофин, тихо постучать в дверь квартиры на последнем этаже, и появится Мага, ни дать ни взять, nurse[417] Люсия, нет, это было бы слишком. С судном или с клизмой в руке. Увидеть больную сейчас нельзя, уже слишком поздно, она спит. Vade retro, Asmodeo.[418] А может, его пригласят войти и предложат кофе, нет, еще хуже, как обычно бывает в подобных случаях, обе примутся плакать, а ведь это вещь заразная, расплачутся все втроем, потом все простят друг друга, после чего может произойти все что угодно, обезвоженные женщины ужасны. Или они начнут отсчитывать двадцать капель беладонны, одну за другой.
— На самом деле, нужно бы пойти, — сказал Оливейра черному коту на улице Дантон. — Чтобы не нарушать эстетику и закончить рисунок. Три — это цифра. Но не будем забывать о том, что случилось с Орфеем. Может, обрить голову, посыпать ее пеплом и явиться с кружкой для подаяний. О, женщины, я уже не тот, кого вы знали. Шут. Ловкач. Ночь сочащегося гноя и чудовищ с лицом прекрасной женщины и туловищем дракона, зловещая тень, конец большой игры. Как устаешь быть все время самим собой. Непростительно. Я никогда их больше не увижу, решено и подписано. О toi que voilà, qu’as tu fait de ta jeunesse?[419] Инквизитор, эта девушка попала в самую точку… Еще и самоинквизитор, et encore…[420] Самая верная эпитафия: Слишком вялый. Но вялотекущая инквизиция ужасна, пытка манной крупой, костер из тапиоки, зыбучие пески, медуза, присосавшаяся за воротником. Медуза, зашиворотная присоска. А в глубине души слишком много душевной боли, это у меня-то, который считал себя бездушным. Нельзя любить то, что люблю я, и так, как люблю я, и при этом жить среди людей. Надо было научиться жить одному, делал бы свое дело, любя, и оно либо спасло бы меня, либо погубило, и не было бы улицы Дофин, не было бы мертвого ребенка, не было бы Клуба, и всего остального тоже не было бы. Тебе так не кажется, че?
Кот безмолвствовал.
Поблизости от Сены было не так холодно, как на улицах, Оливейра поднял воротник куртки и стал смотреть на воду. Поскольку он был не из тех, кто бросается вниз головой, то он нашел мост, под который можно было забраться и немного подумать о кибуцах, мысль о кибуцах уже давно его занимала, о кибуцах общих устремлений. «Любопытно, как иногда выскочит какая-нибудь бессмысленная фраза, кибуцы общих устремлений, но повторишь ее раза три, и смысл понемногу проясняется, и вдруг чувствуешь, что не так уж она и бессмысленна, не так, как, например, фраза „Надежда — это толстая Пальмира“ — полный абсурд, все равно что урчание в животе, тогда как в кибуце общих устремлений ничего абсурдного нет, это как решение существовать в несколько ограниченном, что уж говорить, пространстве, поворачиваясь то туда, то сюда, словно крейсерская пушка. Кибуц; колония, settlement,[421] огневая позиция, избранное место, чтобы поставить там свою последнюю палатку, откуда можно выйти вечером и подставить ветру умытое временем лицо и соединиться с миром, с Великим Безумием, с Непомерной Глупостью, пусть выкристаллизуются эти устремления, открыться им навстречу. „Остановись, Орасио“», — остановил себя Холивейра, садясь на парапет под мостом и прислушиваясь к хриплому дыханию клошаров, которые спали, накрывшись газетами и дерюгой.
Впервые он поддался грусти, не испытывая горечи. Греясь от сигареты, которую он закурил, слушая хриплое сопение, которое шло будто из-под земли, он вынужден был с болью признать, что расстояние, отделяющее его от его кибуца, непреодолимо. А поскольку надежда — это всего лишь толстая Пальмира, незачем строить иллюзии. Наоборот, воспользовавшись ночной свежестью, следует ясно понять под раскинувшимся прямо над ним звездным небом, что его неопределенные поиски потерпели поражение и что, возможно, в этом-то и состояла победа. Во-первых, потому, что оно, это поражение, было его достойно (в это период жизни Оливейра был достаточно высокого мнения о себе как о представителе рода человеческого), и еще потому, что в поисках безнадежно далекого кибуца его можно было достичь лишь с помощью какого-нибудь волшебного оружия, западной душой здесь ничего не добьешься, так же как и духовностью, тем более что он уже растратил и то, и другое на ложь, как ему только что очень верно сказали в Клубе, на поиски алиби для животного по имени человек, для которого уже нет возврата с избранного пути. Кибуц устремлений, но не души и не духовности. И хотя устремления — это всего лишь смутное определение непонятных сил, он чувствовал, что они у него есть, он чувствовал их присутствие в каждой своей ошибке, в каждом рывке, ведь это и есть — быть человеком не только телом, не только душой, но когда и то, и другое существует в неразрывном единстве, когда преследует неудовлетворенность, та самая, что позаимствована у поэтов, страстная тоска по неведомым краям, где направление жизни могли указывать иные компасы и иные имена. Несмотря на то что смерть с косой притаилась за углом и что надежда — всего лишь толстая Пальмира. А рядом раздается храп, и время от времени кто-то пукает.
Значит, его ошибки не более серьезны, чем если бы он искал кибуц по картам Географического общества, по настоящим компасам, раз Север, значит, надо на север, а если Запад — надо на запад; достаточно было предположить или вдруг догадаться, что в конце концов его кибуц точно так же невозможен в этот час, в этот холод и после всего, что случилось за последние дни, как если бы он искал его в составе племени себе подобных, как полагается, и не заслужил бы живописного определения «инквизитор», если бы все не было перевернуто с ног на голову, если бы люди не плакали, а его бы не мучила совесть и желание послать все к чертовой матери и вернуться туда, откуда его призвали на эту службу, в свою защищенную от всего нишу, и неважно, насколько хватит у него душевных сил и времени. Он может умереть, так и не добравшись до своего кибуца, ведь его кибуц там, далеко, но он есть, и он знал, что он есть, потому что он был дитя своих устремлений, а его устремления были такими же, как он сам, его устремления и мир или представление о мире тоже были устремлениями, его собственными и/или чьими-то еще — сейчас это было неважно. Сейчас можно было закрыть лицо руками, так чтобы только сигарета торчала, и сидеть у реки, среди бродяг, думая о своем кибуце.
Клошарка проснулась оттого, что во сне кто-то все время повторял: «Ça suffit, conasse»,[422] и поняла, что Селестэн куда-то делся еще ночью, прихватив с собой детскую коляску, полную банок с сардинами (не годных для продажи), которые им дали вечером в гетто Марэ. Тото и Лафлер спали, как кроты, накрывшись холстиной, а новый клошар сидел на скамье и курил. Светало.
Клошарка аккуратно собрала номера газет «Франс суар», которыми она укрывалась, и почесала голову. В шесть на улице Жур будут раздавать горячий суп. Селестэн почти наверняка пойдет за супом, и она сможет взять себе банки с сардинами, если только он уже не продал их Пипону или Ла Вазу.
— Merde, — сказала клошарка, принимаясь за сложную процедуру вставания. — Y a la bise, c’est cul.[423]
Кутаясь в черное пальто, доходившее ей до щиколоток, она подошла к незнакомцу. Тот согласился, что холод еще хуже, чем полиция. Новоприбывший угостил ее сигаретой, она закурила и подумала, что он вроде ей знаком. А он сказал ей, что тоже вроде откуда-то ее знает, и обоим очень понравилось, что они узнали друг друга в этот предрассветный час. Клошарка села на скамью рядом с ним и сказала, что за супом идти еще рано. Они немного поговорили о супе, хотя новенький, как оказалось, ничего в супах не понимал, и пришлось объяснить, где дают самый лучший, новый и вправду был совсем новый и очень живо всем интересовался, может, он даже осмелился бы отобрать у Селестэна сардины. Они поговорили о сардинах, и новоприбывший пообещал, как только увидит Селестэна, он у него их отберет.
— У него нож, — предупредила клошарка. — Надо не зевать, сразу стукнуть его чем-нибудь по башке. Тонио он пять раз пырнул, тот орал так, что в Понтуазе[424] было слышно. C’est cul, Pontoise,[425] — добавила она, о чем-то затосковав.
Новенький смотрел, как занимается рассвет над Вер-Галан, на иву, чья тонкая паутина ветвей показалась из тумана. Когда клошарка спросила, почему он дрожит в такой куртке, он пожал плечами и предложил ей еще сигарету. Они сидели и курили и поглядывали друг на друга с симпатией. Клошарка рассказала ему о привычках Селестэна, а новенький припомнил, как по вечерам они видели, как она обнимает Селестэна на всех скамейках и парапетах моста Искусств, на углу Лувра, под платанами, похожими на тигров, под порталами Сен-Жер-мен-л’Оксеруа, а однажды ночью на улице Ги-ле-Кер они целовались и тут же дрались, двое пропащих пьяниц, Селестэн был в блузе, какую носят художники, а клошарка, как всегда, была одета в пять или шесть одежек, сразу в несколько плащей и пальто, а в руках у нее было что-то вроде красной котомки, откуда торчали какие-то рукава и сломанный корнет, она была так влюблена в Селестэна, просто удивительно, выпачкала ему лицо помадой и еще чем-то жирным, и оба выглядели совершенно потерявшими голову, являя всему свету свою идиллию, но, когда они повернули на улицу Невер, Мага сказала: «Это она влюблена, а ему до нее дела нет», — и смотрела им вслед, а потом подняла с земли зеленый листок и накрутила его на палец.
— В это время не так холодно, — говорила клошарка, стараясь его подбодрить. — Пойду посмотрю, не осталось ли у Лафлера немного вина. Ночью винцо в самый раз. Селестэн принес два литра, вообще-то они мои, и сардины тоже. Нет, ничего не осталось. Вы-то одеты прилично, так что можете попросить литр у Хабеба. И хлеба, если получится.
Новоприбывший ей очень понравился, хотя в глубине души она знала, никакой он не новый, раз так прилично одет и может облокотиться на стойку в заведении Хабеба и заказать себе перно, и не раз, и никто не скажет, что от него плохо пахнет и всякое такое. Новоприбывший продолжал курить, рассеянно кивая, но мысли его были далеко. Знакомое лицо. Селестэн бы сразу его узнал, потому что Селестэн, что касается лиц…
— К девяти похолодает по-настоящему. Земля тут глинистая, от нее холод. Но мы тогда пойдем за супом, он вполне ничего.
(И когда их почти уже не стало видно в глубине улицы Невер, когда они, должно быть, дошли до того места, где грузовик сбил Пьера Кюри[426] («Пьера Кюри?» — спросила Мага, страшно удивленная и готовая узнать что-то новое), они неторопливо свернули на высокий берег реки и облокотились на лоток букиниста, хотя Оливейре лотки букинистов всегда казались катафалками в ночи, чередой гробов, некстати выставленных на каменном парапете, и однажды ночью, когда выпал снег, они, шутки ради, палочкой написали RIP[427] на всех жестяных лотках, но полицейскому их шутка совсем не показалась веселой, он им так и сказал, напомнив об уважении и о туризме, хотя при чем здесь был этот последний, было совершенно непонятно. В те дни еще был кибуц, по крайней мере возможность кибуца, можно было ходить по улицам, писать RIP на лотках букинистов и смотреть на влюбленную клошарку, это тоже входило в запутанный список дел, противоречащих общепринятым, всего того, что следует делать, — испытать и оставить за собой. Вот как оно было, а теперь холодно, и нет никакого кибуца. Разве что обмануть самого себя, пойти купить красного вина у Хабеба и устроить кибуц в духе Кубла Хана,[428] не обращая внимания на разницу между опиумной настойкой и винцом старины Хабеба.)
In Xanadu did Kubla Khan A stately pleasure-dome decree.[429]— Иностранец, — сказала клошарка, глядя на новое пополнение уже с меньшей симпатией. — Ну да, испанец. Итальянец.
— И то, и другое, — сказал Оливейра, делая мужественное усилие, чтобы выдержать исходивший от нее запах.
— Но работа у вас есть, это видно, — не могла не признать клошарка.
— Да нет. Я всего лишь приносил книги одному старику, но теперь мы больше не видимся.
— Стыда в этом нет, если только работа не поперек души. Я, когда молодая была…
— Эмманюэль, — сказал Оливейра, кладя руку туда, где под многочисленными одежками должно было быть ее плечо. Клошарка вздрогнула, услышав свое имя, искоса взглянула на него, потом достала зеркальце из кармана пальто и посмотрела на свои губы. Оливейра подумал, в силу каких обстоятельств клошарке могло прийти в голову вытравить волосы перекисью. Она стала красить губы огрызком помады, целиком уйдя в это занятие. У него было достаточно времени, чтобы в который уже раз посчитать себя круглым дураком. Положить руку на плечо, после того что произошло с Берт Трепа. Результат широко известен. Все равно что дать под зад самому себе, бросить себе вызов. Кретин безмозглый, недоумок, придурок недоделанный. RIP, RIP. Malgré le tourisme.[430]
— Откуда вы знаете, что меня зовут Эмманюэль?
— Не помню. Кто-то сказал.
Эмманюэль достала коробочку из-под леденцов Вальда, где у нее была розовая пудра, и стала пудрить щеки. Если бы Селестэн был здесь, тогда конечно. Тогда бы наверняка. На Селестэна удержу нет. Целая куча банок с сардинами, le salaud.[431] Вдруг она вспомнила.
— Ах да, — сказала она.
— Очень может быть, — согласился Оливейра, закутываясь, как мог, в клубы дыма.
— Мы видели вас вместе много раз, — сказала Эмманюэль.
— Мы тут часто бродили.
— Она всегда останавливалась поговорить со мной, когда была одна. Хорошая девушка, немного с сумасшедшинкой.
«Полностью согласен», — подумал Оливейра. Он слушал Эмманюэль, которая вспоминала все охотнее, пакет отдала задаром, а в нем белый свитер, почти не ношенный, прекрасная девушка, она не работала, не тратила времени зря, прикрываясь дипломом, иногда немножко сумасшедшая, деньгами сорила почем зря на корм для голубей на острове Сен-Луи, то грустная была, а то со смеху умирала. А однажды пришла злая.
— Мы с ней подрались, — сказала Эмманюэль, — из-за того, что она мне советовала оставить Селестэна в покое. И больше она не приходила, а я ее так полюбила.
— И часто она приходила с вами поболтать?
— А вам это не по нраву, так ведь?
— Не в этом дело, — сказал Оливейра, глядя на другой берег.
Нет, в этом, потому что Мага не все рассказала ему о клошарке, отсюда неизбежные обобщения и так далее. Запоздалая ревность, смотрите у Пруста, утонченная пытка and so on.[432] Наверное, будет дождь, ива будто повисла в воздухе, пропитанном влагой. И стало не так холодно, чуть потеплело. Кажется, он сказал что-то вроде «она мне много о вас рассказывала», потому что у Эмманюэль вырвался довольный и ехидный смешок, при этом черным от грязи пальцем она продолжала натирать себе щеки розовой пудрой; время от времени она поднимала руку и взбивала слипшиеся волосы, покрытые чем-то вроде головной повязки в красно-зеленую полоску, скорее всего это был шарф, вытащенный из мусорного бака. В общем, пора было уходить, встать и идти в город, он так близко, метров шесть в высоту, там он как раз и начинается, по другую сторону парапета, за жестяными лотками RIP, где голуби, нахохлившись, переговаривались в ожидании первых лучей солнца, еще не набравшего силу, похожего, в половине девятого утра, на бледную манную крупу, которая сеет с низкого неба, но не достает до земли, потому что, как всегда, собирается дождь.
Когда он уже уходил, Эмманюэль окликнула его. Он подождал, пока она подойдет, и они вместе поднялись по лестнице. В заведении Хабеба они купили литр красного вина и, пройдя по улице Ирондель, укрылись в крытой галерее. Эмманюэль соблаговолила вытащить пачку газет, припрятанную между пальто, и они соорудили прекрасную подстилку в уголке, который Оливейра кое-как обследовал, посветив себе спичками. С другого конца галереи доносился храп, от которого несло чесноком, цветной капустой и дешевым забытьем; прикусив губу, Оливейра примостился поудобнее в углу у стены и притулился к Эмманюэль, которая уже прихлебывала из бутылки, то и дело довольно отфыркиваясь. Органы чувств не слишком привередливы, дыши носом и ртом и вдыхай худший из запахов, запах немытого человеческого тела. Одна минута, две, три, все легче и легче, как всегда, когда чему-то учишься. Сдерживая подступающую тошноту, Оливейра взял бутылку, и хоть и не видел, но знал, что горлышко измазано красной губной помадой и слюной, а запахи в темноте проступили еще сильнее. Закрыв глаза, словно от чего-то защищаясь, он, не отрываясь, вытянул около четверти литра красного вина. А потом они закурили, сидя плечом к плечу, очень довольные. Тошнота отступала, не уничтоженная, но униженная, склонив голову в ожидании, так что можно было снова подумать о своем. Эмманюэль без умолку говорила, произносила торжественные речи, прерываемые икотой, по-родственному проклинала невидимого Селестэна, пересчитывала банки с сардинами, и каждый раз, когда Оливейра затягивался, он видел ее лицо с грязными разводами на лбу, полные губы, влажные от вина, победную повязку сирийской богини, поверженной вражеским войском, голову, как у хризо-элефантинной статуи, сброшенную в пыль, перепачканную кровью и грязью, но сохранившую свою бессмертную полосатую красно-зеленую диадему, Великая Мать,[433] распростертая на пыльной земле, отданная на поругание пьяным солдатам, которые развлечения ради мочатся на ее расколотые груди, а потом один из них, самый отъявленный шутник, встает перед ней на колени среди орущей толпы и, высвободив свой восставший член, мастурбирует над ее мраморным телом, заливая спермой глазницы, откуда офицеры уже вынули драгоценные камни, и полуоткрытый рот, принимающий уничижение как последний дар, перед тем как уйти в забвение. И было так естественно, когда в темноте рука Эмманюэль касалась его руки, и она доверительно клала свою руку ему на плечо, а другой рукой искала бутылку, после чего слышались булькающие звуки и довольное сопение, так естественно, словно лицевая сторона медали стала ее обратной стороной, словно это был противоречащий здравому смыслу знак того, что, возможно, удастся выжить.
И хотя Холивейра не верил в хопьянение, в хэтого ловкого сообщника Великого Хобмана, что-то говорило ему — это тоже может быть кибуц, за всем этим всегда есть надежда на кибуц. Это не было уверенностью, основанной на какой-нибудь методике, о нет, старина, дорогой ты мой, и ни на чем другом, что ты так любишь, ни на in vino veritas,[434] ни на диалектике Фихте[435] и других шлифовальщиков в духе Спинозы, это просто означало примириться с тошнотой, когда-то Гераклит[436] забрался в кучу навоза, чтобы вылечиться от водянки, он услышал об этом сегодня ночью, ему сказал об этом кто-то из другой жизни, кто-то вроде Полы или Вонга, люди, которых он высмеивал, но с единственной целью — сблизиться, из самых добрых побуждений, возродить любовь как единственный способ однажды войти в кибуц. Сидеть по уши в дерьме, ничего себе, придумал Гераклит Темный, в точности как они, только без вина, и, кроме того, он-то лечился от водянки. А может, так и надо, сидеть в дерьме по самые уши и все равно надеяться, ведь Гераклит наверняка сидел в дерьме целыми днями, и Оливейра вспомнил, что как раз Гераклит говорил — кто не ждет, тот не встретит нежданное, сверните шею лебедю,[437] говорил Гераклит, хотя нет, он, конечно, ничего такого не говорил, и он еще раз хлебнул из бутылки, и Эмманюэль засмеялась в темноте, услышав бульканье, и погладила его по руке, чтобы показать, как она ценит его общество и его обещание отнять сардины у Селестэна, Оливейра почувствовал, как винной отрыжкой отозвалось в нем прозвище этого удушенного лебедя, и ему захотелось рассмеяться и рассказать об этом Эмманюэль, но вместо этого он передал ей почти пустую бутылку, а Эмманюэль принялась надрывно голосить «Les Amants du Havre», песню, которую напевала Мага, когда грустила, но Эмманюэль пела ее с душераздирающим трагизмом и гладила руку Оливейры, а он сидел и думал — он тот, кто ждет, чтобы найти нежданное, и, прикрыв глаза от мутного рассвета, который заполнял порталы, он представлял себе далекий-далекий (по ту сторону моря, уж не приступ ли у него патриотизма?) пейзаж, такой чистый, какого не было даже в его кибуце. Совершенно очевидно, надо свернуть шею лебедю, пусть даже Гераклит этого и не велел. Он становится сентиментальным, puisque la terre est ronde, mon amour t’en fais pas, mon amour t’en fais pas, от вина и этого назойливого голоса он становится сентиментальным, вот-вот расплачется и начнет жалеть себя, как Бэбс, бедненький Орасио, торчит в Париже, а как, должно быть, изменилась твоя улица Коррьен-тес, Суипача, Эсмеральда и старое предместье. И хотя всей его злости хватило только на то, чтобы закурить еще одну сигарету, где-то в самой глубине зрачков он продолжал видеть свой кибуц, не по ту сторону моря, а может, и по ту сторону моря, а может, совсем рядом, на улице Галан, или на улице Пюто, или на улице Томб-Иссуар, но, так или иначе, его кибуц все-таки где-то был, и это не было миражом.
— Это не мираж, Эмманюэль.
— Та gueulle, mon pote,[438] — сказала Эмманюэль, нашаривая в своих бесчисленных юбках следующую бутылку.
После чего они углубились в совершенно иные темы, Эмманюэль рассказала об утопленнице, которую Селестэн видел в районе улицы Гренель, и Оливейра хотел знать, какого цвета волосы у нее были, но Селестэн не видел, он видел только ноги, которые немного торчали из воды, и решил смотаться оттуда, пока не заявилась полиция и не начала по своей треклятой привычке допрашивать всех, кто попадется под руку. К концу второй бутылки они пришли в прекрасное, как никогда, расположение духа, Эмманюэль прочитала целый кусок из «La mort du loup»,[439] a Оливейра, без перехода, увел ее в секстины «Мартина Фьерро».[440] По улице проехал грузовик, потом другой, ожил шум, который Делиус однажды… Впрочем, незачем говорить с Эмманюэль о Делиусе, несмотря на то что она женщина чувствительная и не довольствуется одной поэзией, а выражает свою приязнь руками, жмется к Оливейре, чтоб согреться, гладит его по руке, мурлыкает арии из опер и бранит на чем свет стоит Селестэна. Зажав сигарету губами так сильно, что она, казалось, срослась с его губами, Оливейра слушал ее, позволяя прижиматься к себе, и повторял, что он ничем не лучше нее и что в худшем случае всегда можно вылечиться, как Гераклит, может, это и было самое проникновенное послание Темного, им не написанное, оставленное как анекдот, чтобы ученики передавали его из уст в уста и чей-то восприимчивый слух однажды его уловил. Ему казалось забавным, что рука Эмманюэль дружески и matter of fact[441] расстегивала ему пуговицы, а он в это время думал, может статься, Темный сидел по уши в дерьме, вовсе не будучи больным, не было у него никакой водянки, просто он тоже вырисовывал некое понятие, которое мир не простил бы ему, выдай он его в виде сентенции или мудрого высказывания, и это понятие контрабандой пересекло границы времени и смешалось с общей теорией как не слишком приятная и даже огорчительная деталь рядом с таким потрясающим бриллиантом, как panta rhei,[442] варварская терапия, которую Гиппократ заклеймил бы как нарушающую элементарную гигиену, как заклеймил бы и то, что Эмманюэль прижималась все теснее и теснее к своему пьяному другу и шершавым языком, будто покрытым танином, старательно облизывала его безжизненный, по понятным причинам, член, поддерживая его пальцами и что-то приговаривая на языке кошек и грудных младенцев, бесконечно равнодушная ко всем этим медитациям, которые происходили несколько выше, усердно выполняя работу, от которой ей самой не было никакой пользы, ею двигало некое потаенное сострадание, чтобы новенькому понравилась его первая ночь клошара, а может, он даже немножко влюбится в нее, тогда она сможет наказать Селестэна, а новенький забудет о тех странных вещах, которые он бормочет на своем диком южно-американском языке, все больше сползая по стене, и вздыхает, и позволяет делать с собой все что угодно, запустив руку в волосы Эмманюэль, на секунду поверив (это, должно быть, было адом), что это волосы Полы, что это снова Пола беснуется на нем, разметав мексиканские пончо, открытки с рисунками Клее и «Квартет»[443] Даррела, чтобы привести его к наслаждению и наслаждаться самой, тщательно, методично и отстраненно, прежде чем она получит свое, и, дрожа, вытянется рядом с ним, требуя, чтоб он взял ее и сжалился над ней, Пола с перепачканным ртом, как та ассирийская богиня, как Эмманюэль, которая вдруг выпрямилась, потому что полицейский встряхнул ее, взяв за шиворот, и она села рывком, и проговорила: «On faisait rien, quoi»,[444] а Оливейра открыл глаза и в сероватом утреннем тумане, который почему-то заполнил порталы, увидел ноги полицейского рядом со своими, и себя, расстегнутого, просто смех, с пустой бутылкой, которая далеко откатилась, когда полицейский пнул ее ногой, второй пинок пришелся в бедро, затем мощная затрещина Эмманюэль, прямо по лицу, та согнулась и застонала и, непонятно как, оказалась на коленях, единственная подходящая поза для того, чтобы побыстрее упрятать в его штаны состав преступления, проявив божественное смирение, побуждаемая великим духом товарищества, но ведь и правда ничего не было, только как объяснить это полицейскому, который гнал их к дежурной машине, что ждала на площади, как объяснить Бэбс, что инквизиция — это совсем другое, а Осипу, особенно Осипу, что все существует для того, чтобы быть, и что единственно достойным было вернуться назад, чтобы получить новый импульс, дать себе пасть, чтобы потом, может быть, подняться, и что Эмманюэль как раз и нужна для этого «потом», для этого «может быть»…
— Отпустите ее, — сказал Оливейра полицейскому. — Бедняга еще пьянее меня.
Он успел наклонить голову, чтобы уклониться от удара. Другой полицейский обхватил его за пояс и одним пинком затолкал в дежурную машину. Его бросили прямо на Эмманюэль, которая распевала что-то вроде «Le temps de cérises».[445] Они остались в фургоне одни, и Оливейра, потирая бок, который отчаянно болел, присоединился у Эмманюэль и тоже стал распевать песню «Время вишен», если только это была она. Машина рванула с места, как из катапульты.
— Et tous nos amours,[446] — голосила Эмманюэль.
— Et tous nos amours, — сказал Оливейра, растягиваясь на скамье и шаря по карманам в поисках сигареты. — Это тебе, старушка, не Гераклит.
— Tu me fais chier,[447] — сказала Эмманюэль и зарыдала в голос. — Et tous nos amours, — пела она, всхлипывая. Оливейра слышал, как смеются полицейские, глядя на них через решетку. «Ладно, я хотел покоя, теперь его будет в достатке. Вот и пользуйся им, че, вместо того чтобы думать невесть о чем». Было бы хорошо позвонить по телефону и рассказать, какой забавный ему приснился сон, ну да ладно, хватит об этом. Все на своих местах, водянку лечат терпением, дерьмом и одиночеством. К тому же Клуб развалился, все, к счастью, развалилось, а то, что еще осталось, развалится, это вопрос времени. Машина затормозила на углу, и когда Эмманюэль заорала Quand il reviendra, le temps de cérises,[448] один из полицейских открыл окошко и пообещал набить морды обоим, если они не заткнутся. Эмманюэль легла на пол машины ничком, продолжая рыдать, а Оливейра уперся ногами в какое-то барахло и поудобнее устроился на скамье. Игра в классики — это когда носком ботинка перебрасывают камешек. Необходимые составляющие: асфальт, камешек, ботинок и красиво нарисованные мелками классики, лучше цветными. Наверху Небо, внизу Земля, очень трудно добраться до Неба, перебрасывая камешек, почти никогда не удается рассчитать правильно, и камешек улетает за линию. Однако постепенно приобретается необходимая сноровка, и ты можешь перепрыгивать в разные квадраты (есть классики-«ракушка», есть прямоугольные классики, есть классики произвольного рисунка, последние весьма малоупотребительны), и однажды наступает день, когда ты можешь уйти от Земли и подняться со своим камешком до Неба и взойти на Небо (Et tous nos amours, всхлипывала Эмманюэль, лежа ничком на полу), плохо лишь то, что как раз тогда, когда ты наконец научился, в отличие от остальных, допрыгивать с камешком до Неба, тут вдруг кончается детство и тебя затягивают книги, тоска по несуществующему, по другому Небу, до которого еще тоже надо суметь дойти. А поскольку ты уже вышел из детства (Je n’oublierai pas le temps de cérises,[449] Эмманюэль притопывала ногой по полу), то забываешь — для того чтобы добраться до Неба, необходимы такие составляющие, как камешек и носок ботинка. Это знал Гераклит, когда забирался в дерьмо, а может, и Эмманюэль знала, когда еще ковыряла в носу в свое время вишен, или два этих педераста, которые неизвестно как оказались в дежурной машине (ну да, дверца то открывалась, то закрывалась, слышались визг и смешки, а один раз раздался свисток) и которые умирали со смеху, глядя, как Эмманюэль валяется на полу, а Оливейра, которому хотелось курить, не может найти ни сигарет, ни спичек, хотя он не помнил, чтобы полицейский проверял его карманы, et tous nos amours, et tous nos amours. Камешек и носок ботинка, это прекрасно знала Мага, а он не так прекрасно, а в Клубе кто как, — со времен его детства в Бурсако или в предместье Монтевидео они указывали прямой путь на Небо, и не надо было прибегать ни к индийским ведам, ни к дзен-буддизму, ни к какой-либо другой изощренной эсхатологии, вот именно, добраться до небес, перепрыгивая из квадрата в квадрат, со своим камешком (или неся свой крест? Такая махина не слишком удобна для маневра), и в последний раз запустить камешком прямо в l’azur l’azur l’azur l’azur[450] бац, — и стекло разбилось, пойдешь спать, десерта не будет, плохой мальчик, но что за беда, если за разбитым стеклом тот самый кибуц, если кибуц это и есть то, что в детстве называется Небо.
— И посему, — сказал Орасио, — споем и закурим. Эмманюэль, вставай, хватит лить слезы, старушка.
— Et tous nos amours, — промычала Эмманюэль.
— Il est beau, — сказал один из педерастов, с нежностью глядя на Орасио. — Il a l’air farouche.[451]
Другой педераст достал из кармана латунную трубу и посмотрел в глазок, улыбаясь и гримасничая. Молодой педераст отнял у него трубу и тоже стал смотреть. «Ничего не видно, Жо», — сказал он. «Нет, видно, так здорово», — сказал Жо. «А вот и нет, нет, нет». — «Нет, видно, видно. LOOK THROUGH THE PEEPHOLE AND YOU’LL SEE PATTERNS PRETTY AS CAN BE».[452]«Там как ночью, Жо». Жо достал спички и посветил перед калейдоскопом. Восторженные вопли, patterns pretty as can be. Et tous nos amours — декламировала Эмманюэль, сидя на полу машины. Все было прекрасно, все в свое время, классики и калейдоскоп, маленький педераст смотрит и смотрит, о, Жо, я ничего не вижу, посвети еще, посвети мне, Жо. Лежа на скамье, Орасио приветствовал Темного, голова Темного виднелась над кучей навоза, и глаза его были похожи на две зеленые звезды, patterns pretty as can be, Темный был прав, это дорога в кибуц, быть может, единственная дорога в кибуц, она не может быть такой, как этот мир, люди хватались за калейдоскоп не с той стороны, значит, надо перевернуть его с помощью Эмманюэль, и Полы, и Парижа, и Маги, и Рокамадура, броситься на пол, как Эмманюэль, и оттуда попытаться посмотреть на кучу навоза, посмотреть на мир через глазок в заднице, и you’ll see patterns pretty as can be, подброшенный носком ботинка камешек должен пройти через глазок в заднице, и тогда раскроются все квадратики от Земли до Неба, лабиринт распадется, как разорванная цепочка от часов, которая дробит на тысячи кусочков время добропорядочных служащих, и через сопли, слюни и смрад, исходящий от Эмманюэль, через навоз Темного можно обрести путь, который ведет в кибуц твоих устремлений, не вознестись на Небо (вознестись — слово лицемерное, Небо, flatus vocis[453]), а идти, как человек, по земле людей, в кибуц, который хоть и далеко, но зато вровень с Землей, с щербатым асфальтом и классиками, и, может быть, наступит день, когда ты войдешь в мир, где слово «Небо» не напоминает тебе замызганное кухонное полотенце, и ты увидишь истинный облик мира, patterns pretty as can be, и, может быть, подбрасывая камешек, ты войдешь наконец в кибуц.
(-37)
С ЭТОЙ СТОРОНЫ
Il faut voyager loin en aimant sa maison.[454]
Аполлинер. «Груди Тиресия»37
Собственное имя приводило Травелера[455] в ярость — он сроду не уезжал из Аргентины, если не считать того, что однажды он переехал на другой берег, в Монтевидео, да съездил как-то в главный город Парагвая Асунсьон, причем обе столицы не произвели на него ни малейшего впечатления. За сорок лет он сжился с улицей Качимайо,[456] а работа в качестве управляющего и всего прочего понемножку в цирке «Звезды» не оставляла ни малейшей надежды пройти по земным дорогам more Barnum;[457] зона деятельности цирка простиралась от Санта-Фе до Кармен-де-Патагония, с длительными заходами в столицу, а также в Ла-Плату и Росарио. Когда Талита, начитавшаяся всяких энциклопедий, интересовалась обычаями и культурой кочевых народов, Травелер хмурился и возносил преувеличенную хвалу дворику с геранью, шезлонгу и родному углу, где ты появился на свет. Иногда, в процессе потягивания мате, ему случалось выдать какую-нибудь мудрость, которая производила сильное впечатление на его жену, однако она считала, что он слишком расположен к самовнушению. Во сне он иногда говорил что-то о далеких краях, о перемене мест, о заморских землях и неведомых маршрутах. Когда он просыпался, Талита подшучивала над ним, и Травелер давал ей крепкого шлепка по заднице, после чего оба смеялись, как сумасшедшие, так что, по всей вероятности, саморазоблачение Травелера шло на пользу им обоим. Надо признать одну вещь: в отличие от своих друзей Травелер никогда не жаловался на жизнь или на судьбу из-за того, что ему не удалось попутешествовать, как ему того хотелось. Он просто опрокидывал стаканчик можжевеловой настойки и называл себя законченным кретином.
— Понятное дело: его лучшее путешествие — это я, — говорила Талита при каждом удобном случае, — но он такой глупый, что этого не понимает. Я, сеньора, уносила его на крыльях фантазии за край горизонта.
Сеньора, к которой она обращалась, все сказанное Талитой принимала всерьез и отвечала примерно следующее:
— Ах, сеньора, мужчины такие непонятные (вместо непонятливые).
Или:
— Поверите ли, у меня с моим Хуаном Антонио то же самое. Ему что говори, что нет, он все мимо ушей пропускает.
Или:
— Как я вас понимаю, сеньора. Жизнь — это сплошная борьба.
Или:
— Не берите в голову, дорогая. Было бы здоровье — остальное приложится.
Потом Талита пересказывала это Травелеру, и оба покатывались со смеху, так что на них одежда лопалась. У Травелера не было лучшего развлечения, как спрятаться в клозете и слушать, зажав рот платком или рубашкой, как Талита раскручивает на разговор сеньор из пансиона «Дубки» и из отеля напротив. В периоды подъема духа, весьма кратковременные, Травелер подумывал написать сериал для радиотеатра и высмеять всех этих толстух, чтобы заставить их целыми днями рыдать навзрыд у своих приемников, даже не понимая, что речь идет о них самих. Как бы то ни было, он никуда не ездил, и это черным камнем лежало у него на душе.
— Настоящий кирпич, — объяснял Травелер, показывая на желудок.
— Никогда не видел черных кирпичей, — говорил директор цирка, случайно посвященный в причину столь глубокой тоски.
— Он лежит у меня на душе из-за излишней оседлости. Подумать только, Феррагуто, а ведь были поэты, которые жаловались на то, что они heimatlos.[458]
— Лучше по-испански, че, — говорил директор, вздрогнув от обращения к нему по имени в этих драматических обстоятельствах.
— Не могу, шеф, — шептал Травелер, извиняясь таким образом за то, что назвал своего начальника по имени. — Прекрасные иностранные слова — это как оазис, как ступени наверх. Так мы не поедем в Коста-Рику? А в Панаму, где когда-то королевские галеоны?..[459] Гардель умер в Колумбии, шеф, в Колумбии!
— Нам не хватало только перечислений, че, — говорил директор, вынимая часы. — Я, пожалуй, пойду, а то моя Кука небось вся извелась.
Оставшись один, Травелер начинал думать о том, каковы вечера в Коннектикуте. Чтобы утешиться, он перебирал в памяти все хорошее, что было у него в жизни. Например, одно из таких хороших событий произошло утром 1940 года, когда он вошел в кабинет своего начальника в Министерстве по налогам и сборам со стаканом воды в руке. Он вышел оттуда уволенным, а начальник в это время промокал салфеткой лицо. Это относилось к хорошему, потому что как раз тогда его собирались повысить по службе, и еще хорошим было то, что он женился на Талите (хотя оба утверждали обратное), поскольку Талита с ее дипломом фармацевта была безоговорочно приговорена состариться среди лейкопластырей, а Травелер зашел в аптеку купить свечей от бронхита, и в тот момент, когда она объясняла ему, как ими пользоваться, любовь вспенилась в нем, как шампунь под душем. Травелер даже утверждал, что влюбился в Талиту именно тогда, когда она, опустив глаза, пыталась объяснить, почему свечи действуют наиболее эффективно после опорожнения кишечника, а не до того.
— Бедненький, — говорила Талита, когда они об этом вспоминали. — Ты прекрасно все понимал, но прикидывался дурачком, чтобы я тебе подольше объясняла.
— Фармацевт всегда на службе истины, даже если дело касается самых интимных вещей. Если б ты знала, с каким волнением я в тот вечер ставил себе первую свечу, после разговора с тобой. Она была огромная и зеленая.
— Эвкалиптовая, — говорила Талита. — Радуйся, что я не всучила тебе одну из тех, от которых за двадцать метров несет чесноком.
Но порой они грустили, смутно понимая, что еще раз изо всех сил пытались отогнать тоску, вечно обуревающую аргентинцев, забыть про свою не богатую событиями жизнь. (А что значит «небогатая событиями»? Смутное ощущение тяжести в желудке, тот самый черный кирпич, что и всегда.)
Талита рассказывает о тоске Травелера сеньоре де Гутуссо:
— Она находит на него во время сиесты, как будто идет откуда-то из плевры.
— Должно быть, внутреннее воспаление, — говорит сеньора де Гутуссо. — Черная болезнь называется.
— Это болезнь души, сеньора. Мой муж поэт, поверьте мне.
Запершись в туалете и уткнувшись в полотенце, Травелер плачет от смеха.
— Может, у него аллергия какая? Мой малыш Витор, видите, он играет среди цветов мальвы и сам как цветочек, разве не так, так вот, когда у него бывает аллергия на сельдерей, он делается похожим на Квазимодо.[460] Его карие глазенки совсем заплывают, ротик раздувается, как у жабы, иной раз пальцы на ногах раздвинуть не может.
— Раздвигать пальцы на ногах не так уж обязательно, — говорит Талита.
Из туалета слышатся сдавленные хрипы Травелера, и Талита тут же меняет тему разговора, чтобы отвлечь сеньору де Гутуссо. Тем не менее Травелер обычно выходит из своего укрытия совсем опечаленным, и Талита относится к этому с пониманием. О понимании Талиты надо сказать особо. Оно состоит из иронии и нежности, будто она смотрит на Травелера издалека. Ее любовь к Травелеру слепилась из мытья кастрюль, ночной бессонницы, терпеливого выслушивания его ностальгических фантазий и его пристрастия к танго и игре в наперстки. Когда Травелер грустит, размышляя о том, что он так нигде и не побывал (Талита знает, что дело совсем не в этом, причина его тоски в другом), надо просто быть с ним рядом, заваривать ему мате, следить за тем, чтобы у него не кончилось курево, — словом, выполнять все обязанности женщины при мужчине, оставаясь при этом в тени, а это не так легко. Талита очень счастлива с Травелером, она очень любит цирк и всегда расчесывает кота, который умеет считать, перед его выходом на арену, кроме того, директор поручил ей вести платежные счета. Иногда ей кажется, что она гораздо ближе, чем Травелер, ко всем этим элементарным глубинам, которые его так заботят, однако любой намек на метафизику ее немного пугает, и она в конце концов убеждает себя, что только он способен пробуравить пространство, из которого забьет черная, маслянистая струя. Все это носится в воздухе, ощущается в словах и образах, как это ни назови — улыбкой, любовью, цирком или самой жизнью, если уж так надо, чтобы у всего непременно было название, каким бы далеким от истины и ужасным оно ни было, все равно вынь да положь.
Тем не менее, в своих масштабах, Травелер — человек действия, так называемого action. Ограниченного action, как говорит он сам, — он же не убивает всех, кто попадется под руку. За четыре десятилетия он прошел несколько разных этапов: футбол (в колледже он был центральным нападающим, не так уж плохо), спортивная ходьба, политика (месяц в тюрьме Девото, в 1934-м), разведение кроликов и пчел (ферма в Мансанаресе, через три месяца дело развалилось, кролики подохли, а пчелы улетели), авторалли (второй пилот у Маримона, в Ресистенсии[461] машина перевернулась, три сломанных ребра), столярные работы (починка мебели, бывшей в употреблении и выброшенной на помойку, полный провал), женитьба и субботние прогулки по проспекту Генерала Паса[462] на взятом напрокат велосипеде. Результатом этой разнообразной деятельности было то, что он собрал массу полезных сведений, выучил два языка, легко писал, приобрел несколько иронический интерес к теологии и стеклянным шарам[463] и даже попытался вырастить корень мандрагоры, посадив картошку в ящик с землей, удобренной спермой, после чего картошка начала расти, как ей и полагается, и заполонила весь дом, опутав окна, так что Тали-та, тайком вооружившись ножницами, вынуждена была вмешаться, Травелер это заподозрил, исследовал картофельный стебель и смиренно отказался от не в меру разросшейся мандрагоры, волшебного корня Alraune,[464] который с детства не давал ему покоя. Иной раз Травелер намекает на какого-то двойника, которому якобы больше повезло, чем ему, но Талите, неизвестно почему, это не нравится, она начинает беспокоиться, обнимает его, целует и делает все возможное, чтобы оторвать его от подобных мыслей. Или она ведет его посмотреть на Мэрилин Монро, от которой Травелер без ума, и, сидя в темноте кинотеатра «Президент Рока[465]», изо всех сил старается не ревновать к чисто художественному образу.
(-98)
38
Талита не была уверена, что Травелера обрадовало возвращение на родину друга юности, поскольку первое, что сделал Травелер, услышав, что некий Орасио в принудительном порядке был водворен в Аргентину на судне «Андреа С», он пнул циркового кота, который умел считать, и заявил, что жизнь — сплошное дерьмо. Тем не менее он отправился в порт вместе с Талитой и котом, умевшим считать, которого посадили в корзинку. Оливейра вышел из-под навеса таможни с небольшим чемоданом и, увидев Травелера, поднял брови не то удивленно, не то сердито.
— Что скажешь, че?
— Привет, — сказал Травелер, пожимая ему руку с неожиданным для Оливейры волнением.
— Ну раз так, пойдем в портовую парилью,[466] поедим копченых колбасок.
— Познакомься, моя жена, — сказал Травелер, указывая на Талиту.
«Очень приятно», — сказал Оливейра и протянул руку, едва взглянув на нее. И тут же спросил, что это за кот и почему его принесли в порт в корзинке. Талита, обиженная такой встречей, нашла Оливейру в высшей степени неприятным и заявила, что возвращается в цирк вместе с котом.
— Ладно, — сказал Травелер. — Поставь корзинку в комнате у окна, сама знаешь, в коридоре ему не нравится.
В парилье Оливейра накинулся на копченые колбаски, жареные сосиски и красное вино. Поскольку говорил он мало, Травелер рассказал ему про цирк и про то, как он женился на Талите. Он коротко обрисовал ситуацию в стране в области политики и спорта, особо остановившись на взлете и падении Паскуалито Переса.[467] Оливейра сказал, что в Париже ему случалось видеть Фанхио[468] и что Кривоногой был какой-то сонный. Травелер почувствовал, что проголодался, и заказал потроха. Ему понравилось, что Оливейра с улыбкой взял первую родную сигарету и с удовольствием ее выкурил. Второй литр вина они заказали на двоих, и Травелер заговорил о своей работе, о том, что не теряет надежды найти что-нибудь получше, то есть поменьше работать и побольше получать, он говорил и все ждал от Оливейры каких-то слов, он и сам не знал каких, хоть какого-нибудь ориентира, который помог бы им обрести почву под ногами после столь долгой разлуки.
— Ну ладно, будет, расскажи хоть что-нибудь, — наконец сказал он.
— Погода, — сказал Оливейра, — была разная, но иные дни ничего себе. Еще: как удачно выразился Сесар Бруто, если ты оказался в Париже в октябре, не забудь посетить Лувр. Что еще? Ах да, однажды я добрался до Вены. Там потрясающие кафе, толстухи приводят туда своих собачек и мужей отведать яблочного пирога.
— Да ладно тебе, — сказал Травелер. — Ты не обязан говорить, если не хочешь.
— Однажды в кафе у меня кусочек сахара упал под стол. В Париже, нет, в Вене.
— Чтобы столько говорить о кафе, не стоило переплывать эту лужу.
— А это для того, кто понимает, — сказал Оливейра, осторожно обрезая кончик сосиски. — А вот такого нет в Столице Мира, че. Тамошние аргентинцы мне так и говорили. Они плакали по хорошему бифштексу, и я даже знал одну сеньору, которая с тоской вспоминала наше креольское вино. Она говорила, французское вино не годится для того, чтобы пить его с содой.
— Ерунда какая-то, — сказал Травелер.
— А уж таких вкусных помидоров и картошки, как у нас, вообще нигде нет.
— Судя по всему, — сказал Травелер, — ты там был «на ты и за руку» с самыми сливками общества.
— Время от времени. Вообще-то, им мое «на ты и за руку» было как-то ни к чему, если использовать твою изящную метафору. Какая здесь влажность, дружище.
— Что да, то да, — сказал Травелер. — Тебе надо акклиматизироваться.
Разговор продолжался еще полчаса в том же роде.
(-39)
39
Разумеется, Оливейра не собирался рассказывать Травелеру, что во время стоянки в Монтевидео он обошел все бедные кварталы, расспрашивая, и разыскивая, и даже пропуская иной раз рюмочку-другую каньи, чтобы войти в доверие к какому-нибудь смуглокожему мулату. В результате ничего, только увидел огромное количество каких-то новых зданий, а в порту, где он провел последний час перед тем, как «Андреа С» поднял якорь, плавали брюхом кверху дохлые рыбины, между которыми на маслянистой поверхности воды то здесь, то там мерно покачивались презервативы. Не оставалось ничего другого как вернуться на пароход, думая о том, что, может быть, она в Лукке, может, и правда она в Лукке или в Перудже. Впрочем, какой это все абсурд.
Еще до того, как он сел на пароход и отправился повидать родину-мать, Оливейра понял: прошлое — никакое не прошлое, и не надо быть семи пядей во лбу, чтобы легко представить себе — в будущем его ждут те же игры, в которые, как ему казалось, он уже отыграл. Он понял (уже на носу корабля, на рассвете, в желтоватом тумане рейда), что ничего не изменилось и, что если он хочет отстоять свои позиции, придется отказаться от легких решений. Зрелость, если предположить, что она вообще существует, — это лицемерие в его законченном выражении. Никакой зрелости нет и в помине, если совершенно естественным кажется то, что женщина с котом в корзинке, которая ждала его рядом с Травелером, оказалась чем-то похожей на ту, которая (но зачем ему понадобилось обходить бедные кварталы Монтевидео, ехать на такси до самого края Холма, проверяя старые адреса, подсказанные несговорчивой памятью). Надо как-то продолжать жить, что-то начать снова или закончить: моста на другой берег пока что нет. С чемоданом в руке он направился к портовой парилье, где однажды ночью какой-то пьяный собутыльник рассказывал ему истории о гаучо Бетиноти[469] и о том, как тот напевал на мелодию вальса: Мой диагноз очень прост, / Нет такого средства. Слово «диагноз» в вальсе тогда резануло слух Оливейры, но сейчас он повторял эти строчки как приговор, а Травелер все рассказывал ему про цирк, про К. О. Лауссе и даже про Хуана Перона.
(-86)
40
Он отдавал себе отчет в том, что его приезд на самом деле был скорее отъездом. Он вел растительную жизнь с незатейливой и безропотной Хекрептен, в номере отеля напротив пансиона «Дубки», где жили Травелеры. Все шло хорошо, Хекрептен была счастлива, и, хотя она никуда не годилась ни в постели, ни по части приготовления спагетти, у нее были свои домашние таланты, и она не мешала ему сколько угодно времени думать об отъезде и приезде, проблеме, которая занимала все его время, свободное от маклерских сделок по продаже отрезов габардина. Поначалу Травелер критиковал его за манию ругать все аргентинское, за то, что он называл Буэнос-Айрес проституткой в корсете, но Оливейра объяснил ему и Талите, что его ругань не мешает ему любить этот город и что только такие как они, которые «с приветом», могут так воспринимать его поношения. В конце концов они поняли, что он по-своему Прав, что, если бы Оливейра примирился с Буэнос-Айресом, это было бы лицемерием с его стороны и что сейчас он гораздо дальше от этой страны, чем когда его носило по Европе. Только самые немудреные вещи, оставшиеся от прежних времен, могли вызвать у него улыбку: мате, пластинки Де Каро да иногда порт в вечерние часы. Они много бродили по городу втроем, когда Хекрептен была занята в магазине, и Травелер, удобряя почву обильными пивными возлияниями, подмечал в Оливейре признаки примирения с городом, Талита была более непримиримой (качество, сопутствующее безразличию) и требовала немедленного подтверждения преданности: по поводу живописи Клориндо Тесты,[470] например, или фильмов Торре Нильсона.[471] Между ними шли нескончаемые баталии по поводу Бьой Касареса, Давида Виньяса, отца Кастеллани, Манауты[472] и политики правящей партии. В результате Талита поняла, что никакого значения не имеет, где именно находится Оливейра, в Буэнос-Айресе или в Бухаресте, — в действительности он не вернулся, а его привезли. Во время этих споров в воздухе витало нечто патафизическое, тройное совмещение гистрионовских поисков[473] такой точки зрения, когда наблюдающий ставит и себя, и наблюдаемое как бы в отстраненную позицию. Нескончаемые войны привели к тому, что Талита и Оливейра в результате стали уважать друг друга. Травелер вспоминал, каким Оливейра был в двадцать лет, и у него сжималось сердце, хотя, быть может, это объяснялось воздействием пива.
— Все дело в том, что ты не поэт, — говорил Травелер. — Ты не чувствуешь этот город, как мы, будто он — это огромное брюхо, которое тихо покачивается под небесами, или огромный паук, раскинувший свою паутину в Сан-Висенте, в Бурсако, в Саранди, в Паломаре[474] и даже в воде, бедная зверюга, вода в реке такая грязная.
— Орасио нужна завершенность, — сочувственно говорила Талита, когда уже вошла к нему в доверие. — Слепень на спине благородного скакуна. Бери пример с нас, скромных жителей Буэнос-Айреса, которые тем не менее знают, кто такой Пьер де Мандьярг.[475]
— И где по улицам, — говорил Травелер, прикрыв глаза, — ходят волоокие девушки, чей взгляд, по причине поглощения большого количества сладкого риса с молоком и радиосериалов, словно припорошен приятным отсутствием мысли.
— Если не считать эмансипированных интеллектуалок, работающих в цирке, — скромно заметила Талита.
— И специалистов по каньенскому фольклору[476] вроде вашего покорного слуги. Старик, напомни мне дома, чтобы я прочитал тебе исповедь Ивонны Гитри, это что-то потрясающее.
— Кстати, сеньора де Гутуссо просила тебе передать, если ты не вернешь ей антологию Гарделя, она разобьет о твою голову цветочный горшок, — сообщила Талита.
— Сначала я прочитаю Орасио исповедь. А чертова старуха пусть подождет.
— Сеньора де Гутуссо — это из тех млекопитающих, с которыми иногда болтает Хекрептен? — спросил Оливейра.
— Именно, на этой неделе они сильно подружились. То ли еще будет, у нас и не такое бывает.
— Под луной серебристой,[477] — сказал Оливейра.
— Всяко лучше, чем твой Сен-Жермен-де-Пре, — сказала Талита.
— Это уж точно, — сказал Оливейра, глядя на нее. Если чуть-чуть прикрыть глаза… И эта манера произносить французские слова, эта манера, если немного прищуриться. (Фармацевт, какая жалость.)
А как им нравилось играть в слова, в те дни они изобрели игру под названием «кладбище слов», когда открываешь, например, словарь Касареса[478] на 558-й странице и подбираешь слова, которые начинаются одинаково, но имеют совершенно разное значение, la halulla, el hámago, el halieto, el haloque, el hamez, el harambel, el harbullista, el harca и la harija.[479] В глубине души они немного грустили о возможностях, растраченных в силу особенностей национального характера и из-за того, что время-уходит-неотвратимо. Что до фармацевтов, Травелер утверждал, что это некое племя, которое уходит корнями к Меровингам,[480] и вместе с Оливейрой они посвятили Талите эпическую поэму, где говорилось о том, как орды фармацевтов наводнили Каталонию, повсюду сея ужас, горький перец и чемерицу. Племя фармацевтов верхом на огромных конях. Размышления о степи, населенной фармацевтами. О властительница фармацевтов, пожалей нас, таких надутых и воинственных, таких праздных и таких ушлых, что всегда готовы удрать с поля боя.
В то время как Травелер потихоньку обрабатывал директора, чтобы тот взял Оливейру в цирк, объект его усилий тихо потягивал мате у себя в комнате и нехотя коротал дни за чтением родной литературы. Пока он вникал в этот вопрос, разразилась страшная жара, и объем продаж габардина существенно упал. Теперь они подолгу сидели в патио дона Креспо, который дружил с Травелером и сдавал квартиры сеньоре де Гутуссо и другим добропорядочным дамам и джентльменам. Отдавшись нежной заботе Хекрептен, которая баловала его, как ребенка, Оливейра спал до изнеможения, а в минуты просветления порой листал книжонку Кревеля, которая валялась на дне чемодана, и делался все более похожим на героя одного известного русского романа. Это методичное ничегонеделание ни к чему хорошему привести не могло, и он смутно надеялся на то, что стоит ему прикрыть глаза, и нарисуется что-то лучшее, а когда он спит, может, в момент сна на его мозги наконец снизойдет озарение. Дела в цирке шли хуже некуда, и директор слышать ничего не хотел о том, чтобы брать еще одного служащего. Вечерами, перед работой, Травелеры спускались выпить мате с доном Креспо, и Оливейра тоже выходил послушать старые пластинки на проигрывателе, который работал не иначе как чудом, — впрочем, старые пластинки только на таком и надо слушать. Иногда Талита садилась напротив Оливейры, чтобы поиграть в «кладбище слов» или в «каков вопрос — таков ответ», другую игру, которую придумал Травелер и которая им очень нравилась. Дон Креспо считал их сумасшедшими, а сеньора де Гутуссо недоумками.
— Ты никогда не рассказываешь «о том», — иной раз говорил Травелер, не глядя на Оливейру. Это было сильнее его; даже если он решался задать этот вопрос, то всегда отводил глаза и, неизвестно почему, никогда не называл столицу Франции, а говорил «о том», словно иная мамаша, которая всячески изворачивается, изобретая для своего чада приличные названия стыдных мест, коими Господу Богу было угодно нас снабдить.
— Ничего интересного, — отвечал Оливейра. — Не веришь — сам поезжай и посмотри.
Это был лучший способ разозлить Травелера, несостоявшегося кочевника. Он больше на настаивал, брался за свою ужасную гитару, приобретенную в «Каса Америка», и начинал наигрывать танго. Талита искоса поглядывала на Оливейру, немного обидевшись. Травелер никогда не говорил об этом прямо, но каким-то образом он все-таки внушил ей, что Оливейра — человек странный, и хотя это и так было видно, его странность была особенного свойства, и путь у него был особенный. Бывали вечера, когда все будто ждали чего-то. Им было хорошо вместе, но казалось, вот-вот грянет буря. В такие дни, если они играли в «кладбище слов», им обязательно попадались слова вроде цирроз, цистит, cito! цитоскопия, цинга, цианид. В результате они расходились спать, смутно чувствуя неприятный осадок, и всю ночь им снилось что-то забавное и приятное, — вероятно, в виде компенсации.
(-59)
41
С двух часов дня солнце стало светить Оливейре прямо в лицо. На такой жаре нелегко выпрямлять гвозди молотком на плиточном полу (каждый знает, как опасно выпрямлять гвоздь молотком, вот он уже почти прямой, но, когда ты ударяешь по нему молотком в очередной раз, он изворачивается, и ты пребольно ударяешь молотком по пальцам; какое-то роковое невезение), упрямо колотишь молотком по плиткам (но каждый знает как) упрямо по плиткам (но каждый) упрямо.
«Хоть бы один прямой, — подумал Оливейра, глядя на рассыпанные по полу гвозди. — А скобяная лавка закрыта, мне дадут пинка под зад, если я постучу и попрошу продать мне гвоздей на тридцать сребреников. Придется выпрямлять, другого выхода нет».
Каждый раз, когда ему удавалось хоть немного выпрямить гвоздь, он поднимал голову и свистел Траве-леру, чтобы тот выглянул в окно. Из своей комнаты ему было хорошо видна часть их спальни, и что-то подсказывало ему — Травелер там вдвоем с Талитой. Травелеры подолгу спали днем не столько потому, что сильно уставали в цирке, сколько потому, что принципиально ленились, и Оливейра это уважал. Рискованно было будить Травелера в половине третьего дня, но Оливейра, выпрямляя гвозди, отбил себе все пальцы, кровоподтеки разрослись, и пальцы стали похожи на недоделанное тушеное мясо, так что смотреть противно. И чем больше он на них смотрел, тем больше понимал, что обязательно должен разбудить Травелера. Ко всему прочему ему хотелось мате, а заварка кончилась, вернее, на ползаварки еще оставалось, и было бы так кстати, если бы Травелер или Талита бросили ему в окно недостающую часть, завернутую в бумажку, а заодно и несколько гвоздей для балласта, чтобы он мог починить оконную раму. С нормальными гвоздями и мате сиесту можно будет пережить.
«Невозможно свистеть громче, дальше некуда», — подумал Оливейра, ослепленный солнцем. На первом этаже, где помещался подпольный бордель с тремя женщинами и служанкой, кто-то, вторя ему, издал жалкий свист, не то чайник закипел, не то беззубый прошепелявил. Оливейре нравилось, что его свист может вызвать восхищение и желание подражать; он не растрачивал свой свист попусту, приберегая его для важных случаев. Предаваясь чтению литературы, обычно это происходило с часу ночи до пяти утра, и не каждую ночь, он пришел к неутешительному выводу, что свисту в литературе уделяется совсем мало внимания. Лишь немногие авторы заставляли своих героев свистеть. Практически никто. Они предлагали им довольно унылый репертуар выразительных средств (говорить, отвечать, петь, кричать, бурчать, цедить сквозь зубы, возвещать, шептать, восклицать и декламировать), но никто из героев или героинь не отмечал решительные моменты своего жизненного пути настоящим свистом, от которого вылетают стекла. Английские сквайры свистом подзывали к себе охотничьих собак, а некоторые диккенсовские персонажи свистом останавливали кеб. Но в аргентинской литературе свистели мало, и это был стыд и срам. Поэтому Оливейра, хотя и не читал Камбасереса,[481] считал его мастером за одни только названия, порой представляя себе продолжение, в котором свист проникнет в Аргентину видимыми и невидимыми путями, оплетет ее сверкающими нитями и покажет изумленному человечеству внутренний облик этого мясного рулета, который будет совсем не похож на рекламную версию, принятую в посольствах, или на пищеварительные воскресные передачи Гайнсы Митре Паса,[482] и еще меньше на заскоки «Бока Юниорс»,[483] на некрофильский культ багуалы[484] и на квартал Боэдо.[485] «Мать твою! (Это гвоздю.) Подумать спокойно и то нельзя, черт бы тебя побрал». Впрочем, подобные размышления только раздражали, все это было бы слишком просто, на самом деле он был убежден, что Аргентину можно взять, только пригвоздив ее к позорному столбу, вызвать у нее краску стыда, спрятанную под целым столетием разного рода узурпаций, о которых наперебой пишут ее очеркисты, и показать таким образом, что ее не стоит принимать всерьез, как она того желает. Но кому захочется быть тем шутом, который высмеет на чем свет стоит ее непомерную гордыню? Кто отважится засмеяться ей в лицо, чтобы увидеть, как она покраснеет, а может, и улыбнется признательно и с пониманием? Че, послушай, парень, что за манера с утра портить себе жизнь. Кажется, вот этот гвоздик не такой упрямый, как другие, во всяком случае вид у него более уступчивый.
«Какой собачий холод», — подумал Оливейра, который верил в эффективность самовнушения. Пот заливал ему глаза, и было невозможно удержать гвоздь острием кверху, потому что стоило ударить молотком, пусть даже несильно, как он тут же выскальзывал из влажных (от холода) ладоней и ударял по посиневшим (от холода) пальцам. Хуже всего было то, что солнце заполнило всю комнату (это луна освещала заснеженную степь, и он свистом подзадоривал лошадей, запряженных в его тарантас), в три часа дня уже не найти ни одного уголка, где бы не было снега, и ему суждено медленно закоченеть, погрузившись в сон, так прекрасно описанный русскими писателями, что в нем есть даже нечто притягательное, и его тело останется погребенным под убийственной белизной мертвящих цветов бескрайней равнины. А вот это хорошо: мертвящие цветы бескрайней равнины. В этот момент он изо всех сил ударил молотком по большому пальцу. Он почувствовал такой сильный озноб, что стал кататься по полу, чтобы не замерзнуть окончательно. Когда он наконец сел на полу и стал трясти рукой, то был с ног до головы в поту, хотя, может быть, это был талый снег или легкий иней, который на бескрайней равнине имеет обыкновение чередоваться с мертвящими цветами и увлажняет шкуру волков.
Травелер затягивал завязки пижамных штанов и прекрасно видел в окно, как Оливейра боролся со снегом и степью. Он уже хотел было повернуться и сказать Талите, что Оливейра сидит на полу и трясет рукой, но понял, что дело плохо и что лучше оставаться свидетелем, суровым и невозмутимым.
— Выглянул наконец, мать твою за ногу, — сказал Оливейра. — Полчаса тебя высвистывал. Посмотри, всю руку начисто отбил.
— Это тебе не габардином торговать, — сказал Травелер.
— А гвозди выпрямлять, че. Мне нужно несколько прямых гвоздей и немного мате.
— Запросто, — сказал Травелер. — Подожди.
— Заверни в бумагу и брось в окно.
— Ладно, — сказал Травелер. — Но сейчас, я так думаю, до кухни не добраться.
— Почему? — спросил Оливейра. — Она не так уж далеко.
— Не в этом дело, по дороге на веревках белье сушится, ну и всякое такое.
— Пролезь под ним, — подсказал Оливейра. — Или перережь веревки. Мокрая рубашка, которая шмякается на пол, — это незабываемо. Если хочешь, я тебе кину перочинный ножик. Спорим, попаду прямо в окно. Я мальчишкой попадал во что хочешь с десяти метров.
— Что в тебе плохо, — сказал Травелер, — о чем ни заговори, ты все переводишь на детство. Я устал тебе повторять, побольше читай Юнга, че. Дался тебе этот ножик, тебе любой скажет, что ножик — это холодное оружие. А ты слова не можешь сказать, чтобы не посверкать ножичком. Ну скажи мне, какое он имеет отношение к мате и гвоздям?
— Ты не улавливаешь ход моей мысли, — обиженно сказал Оливейра. — Сначала я показал тебе руку в синяках, затем упомянул о гвоздях. Ты возразил, что не можешь пройти в кухню, потому что тебе мешают веревки, и совершенно логично было с моей стороны перейти к перочинному ножику. Почитай Эдгара По, че. Ты только и понимаешь что веревки, других связующих нитей для тебя не существует.
Травелер облокотился на окно и посмотрел на улицу. Немного тени распласталось у самой мостовой, а на уровне первого этажа начинало сгущаться солнце, и его желтое неистовство заполонило все вокруг, буквально расплющив лицо Оливейры.
— Днем солнце совсем тебя достает, — сказал Травелер.
— Это не солнце, — сказал Оливейра. — Мог бы и сам заметить, что это луна и что на улице страшный мороз. Рука у меня посинела от мороза. Вот-вот начнется гангрена, и через несколько недель ты будешь носить мне гладиолусы в обитель Курносой.
— Луна? — переспросил Травелер, задрав голову. — Как бы мне не пришлось носить тебе мокрые простыни в больницу Вийетас.[486]
— Там предпочитают более легких больных, — сказал Оливейра. — Ты ляпнул что-то не то, Ману.
— Сто раз тебе говорил, не называй меня Ману.[487]
— Талита называет тебя Ману, — сказал Оливейра и так сильно затряс рукой, будто хотел ее оторвать.
— Разница между тобой и Талитой, — сказал Травелер, — хорошо заметна даже на ощупь. И уже совсем непонятно, почему ты должен выражаться так же, как она. Терпеть не могу раков-отшельников и вообще любую форму сращений, будь то лишаи, например, или другие паразиты.
— Ты так деликатен, что буквально душа разрывается, — сказал Оливейра.
— Спасибо. Мы говорили о мате и гвоздях. Зачем тебе гвозди?
— Пока не знаю, — смущенно сказал Оливейра. — Я достал банку с гвоздями и обнаружил, что они все кривые. Начал их выпрямлять, но такой холод, сам видишь… Мне кажется, если у меня будут нормальные гвозди, тогда я пойму, зачем они мне нужны.
— Очень интересно, — сказал Травелер, пристально глядя на него. — С тобой иногда происходят любопытные вещи. Сначала добыть гвозди, а потом понять, для чего они нужны. Задачка для старших классов, старик.
— Ты всегда меня понимал, — сказал Оливейра. — А мате, как ты догадываешься, нужен мне для того, чтобы заварить чаю покрепче.
— Так и быть, — сказал Травелер. — Подожди минуту. Если меня долго не будет, можешь посвистеть, Талита любит, когда ты свистишь.
Не переставая трясти рукой, Оливейра пошел в туалет и побрызгал водой на лицо и волосы. Он даже намочил футболку и подошел к окну, чтобы проверить одну теорию, согласно которой, если подставить солнцу мокрую одежду, сразу станет ужасно холодно. «Подумать только, а вдруг я умру, — размышлял Оливейра, — и так и не увижу на первой странице газет всем новостям новость: ПИЗАНСКАЯ БАШНЯ УПАЛА! Какое печальное зрелище».
Он принялся составлять заголовки, это всегда помогало ему убить время. ШЕРСТЯНАЯ НИТЬ ОПУТЫВАЕТ ЕЕ, И ОНА КАЖЕТСЯ ЗАДУШЕННОЙ ЭТОЙ НИТЬЮ, КОТОРАЯ ТЯНЕТСЯ С ЗАПАДА. Он сосчитал до двухсот, но больше ничего не приходило в голову.
— Мне нужно уехать отсюда, — прошептал Оливейра. — Эта комната такая маленькая. Мне и в самом деле нужно поступить работать в цирк Ману и поселиться вместе с ними. Мате!
Никто не ответил.
— Мате, — тихо сказал Оливейра. — Мате, че. Не поступай так со мной, Ману. Подумай сам, ведь мы могли бы поговорить через окно с тобой и с Талитой, а может, пришла бы сеньора де Гутуссо или служаночка с первого этажа, и мы бы сыграли в «кладбище слов» или еще во что-нибудь.
«Как бы там ни было, — подумал Оливейра, — в „кладбище слов“ я и один могу сыграть».
Он пошел за словарем Королевской академии Испании, на обложке которой слово «Королевской» было нещадно изрезано бритвой, открыл его наугад и приготовил для Ману следующее задание для игры:
«Устав от клиентов и их клохтанья, они удалили ему клыки и клише и заставили проглотить клубни. Затем вставили ему в клоаку клинический клистир, несмотря на то что вода, смешанная с клещевиной, клокотала ключом, превращая клизму в клинообразный клюв».
— Ни хрена себе, — восхищенно сказал Оливейра. Он подумал, что слово «хрен» тоже могло бы служить отправной точкой, но, к его разочарованию, это слово, в его первоначальном значении, на кладбище отсутствовало; зато хрена как такового было до хрипоты, как в хранилище, хромота да и только; плохо было то, что хроматизм был совершенно хронический и хронометрировал хронопов[488] как хулителей.
«И в самам деле, некрополь какой-то, — подумал он. — Не понимаю, зачем только издают такое дерьмо».
Он начал составлять еще одну комбинацию, но дело не пошло. Тогда он решил заняться типичными диалогами и стал искать тетрадку, в которую их записывал в порыве вдохновения после посещения подвальчиков, кафе и винных погребков. Там уже был записан типичный диалог испанцев, и он внес туда некоторые дополнения, вылив на рубашку еще один кувшин воды.
Типичный диалог испанцев
Лопес. Я целый год прожил в Мадриде. Вы знаете, это было в 1925 году и…
Перес. В Мадриде? Как раз то же самое я говорил вчера доктору Гарсия…
Лопес. С 1925-го по 1926-й, я тогда преподавал литературу в университете.
Перес. Я ему как раз и говорил: «Дружище, всякий, кто жил в Мадриде, знает, что это такое».
Лопес. Для меня специально тогда создали кафедру, чтобы я мог читать лекции по литературе.
Перес. Вот именно. Как раз вчера я говорил доктору Гарсия, это мой близкий друг…
Лопес. Понятно, когда проживешь там год, начинаешь понимать, что уровень преподавания оставляет желать лучшего.
Перес. Это сын Пако Гарсия, который был министром торговли и занимался разведением быков.
Лопес. Просто стыд, поверьте мне, стыд и позор.
Перес. — Не то слово, тут и говорить нечего. Так вот, доктор Гарсия…
Оливейра немного устал от диалога и закрыл тетрадь. «Шива, — вдруг подумал он. — О, танцор всех времен и народов, как бы засверкал ты, покрытый бронзой, под этим солнцем! При чем тут Шива? Буэнос-Айрес. Живешь тут себе. Странно как-то. А кончаешь тем, что приобретаешь энциклопедию. Что тебе прелести лета, о соловей? Но еще хуже специализироваться в каком-нибудь вопросе и пять лет изучать поведение тропических кузнечиков. А что это за странный листок, а, парень, ну-ка, ну-ка, что там такое…»
Это был пожелтевший листок, вырванный из какого-то, скорее всего международного, бюллетеня. Какое-то издание ЮНЕСКО или что-то в этом роде, с именами членов некоего Совета Бирмы. Оливейре захотелось насладиться списком в полной мере, и он не мог удержаться от соблазна достать карандаш и переписать следующую тарабарщину:
U Nu, U Tin, Муа Bu, Thabo Thiri Thudama U E Maung, Sithu U Cho, Wunna Kyaw Htin U Khin Zaw, Wunna Kyaw Htin U Tkein Han, Wunna Kyaw Htin U Myo Min, Thiri Pianchi U Thant, Tkabo Maha Thray Sithu U Chan Htoon.«Три Вунна Kyay Хтин подряд, пожалуй, это несколько однообразно, — подумал он, глядя на строчки. — Должно быть, означает что-то вроде Его Высочайшее Превосходительство. Че, но как здорово — Тхири Пианчи У Тхант, это гораздо лучше. А как произносится Htoon?»
— Привет, — сказал Травелер.
— Привет, — сказал Оливейра. — Собачий холод, че.
— Прости, что заставил тебя ждать. Ты же знаешь, гвозди…
— Разумеется, — сказал Оливейра. — Гвоздь, он и есть гвоздь, особенно если он прямой. Ты их завернул в бумажку?
— Нет, — сказал Травелер, почесывая грудь. — Ну и жарища адова сегодня, как в духовке.
— Посмотри, — сказал Оливейра, показывая на свою рубашку, совершенно сухую. — Ты тут прямо как саламандра среди огнедышащей стихии. Мате принес?
— Нет, — сказал Травелер. — Про мате я забыл. Принес только гвозди.
— Давай сходи за мате, заверни его в бумажку и брось мне в окно.
Травелер посмотрел на свое окно, перевел взгляд на улицу, потом посмотрел на окно Оливейры.
— В этом-то все и дело, — сказал он. — Ты же знаешь, я сроду никуда попасть не мог, даже с двух метров. В цирке надо мной все смеются.
— Да ты можешь до меня рукой достать, — сказал Оливейра.
— Говори, говори, а потом гвозди посыплются на головы соседям с первого этажа — такой скандал будет.
— Принеси мне мате, а потом сыграем в «кладбище слов», — сказал Оливейра.
— Лучше, если ты сам за ним зайдешь.
— Ты что, спятил, парень? Спускаться с третьего этажа, пересекать обледенелый двор, потом подниматься на третий этаж, такое не под силу даже героям «Хижины дяди Тома».
— Не хочешь ли ты сказать, что этим вечерним альпинизмом должен заняться я?
— Я далек от этой мысли, — вывернулся Оливейра.
— Или хочешь, чтобы я нашел в чулане доску и соорудил мост?
— Неплохая мысль, — сказал Оливейра, — во всех отношениях, не считая того, что нам обоим придется вбивать гвозди, тебе на том конце, мне — на этом.
— Ладно, подожди, — сказал Травелер и исчез.
Оливейра остался один и стал думать, как бы покруче поддеть Травелера, когда тот появится. Он заглянул в словарь, вылил на футболку кувшин воды и оперся на подоконник у залитого солнцем окна. Довольно скоро Травелер снова возник в проеме окна, таща за собой огромную доску, которую он приладил на окне и стал понемногу выдвигать вперед.
Только тут Оливейра сообразил, что Талита помогает мужу держать доску, и приветствовал ее свистом. На Талите был зеленый купальный халат, который не столько скрывал все, что было под ним, сколько подчеркивал.
— Да ты никак совсем высох, — сказал Травелер, подтрунивая над Оливейрой. — Посмотри, во что ты нас втравил.
Оливейра понял, что наступил подходящий момент.
— Замолчи, многоножка десяти — двенадцати сантиметров длиной, снабженная парой лапок на каждом кольце туловища, состоящего из звеньев, а также четырьмя глазами и роговыми изогнутыми челюстями, из которых при укусе выделяется сильнодействующий яд, — выпалил он одним духом.
— Роговые челюсти, — проговорил Травелер. — Вот это да! Че, если я и дальше буду выдвигать доску, наступит момент, когда вследствие закона всемирного тяготения мы полетим ко всем чертям, и я, и Талита.
— Понимаю, — сказал Оливейра, — но ты же видишь, конец доски от меня бесконечно далек, и мне его не ухватить.
— А ты выдвинь немного вперед роговые челюсти, — сказал Травелер.
— Они не из того материала, че. Кроме того, ты прекрасно знаешь, что я страдаю horror vacui.[489] Я в чистом виде мыслящий тростник.[490]
— Ближайший тростник, который я знаю, растет в Парагвае, — сказал Травелер, разозлившись. — Я действительно не знаю, что делать, доску держать становится все тяжелее, вес, как ты знаешь, понятие относительное. Когда мы ее сюда тащили, она казалась совсем легкой, правда, там солнце не пекло, как здесь.
— Затащи ее обратно в комнату, — сказал Оливейра со вздохом. — Лучше сделать так: у меня есть другая доска, не такая длинная, но гораздо шире. Я ее обмотаю веревкой на манер лассо, и мы свяжем обе доски посредине. Свою я привяжу к кровати, а ты свою — к чему хочешь.
— Нашу лучше всего засунуть в ящик комода, — сказала Талита. — Ты пока неси свою, а мы тут приготовим нашу.
«Как они все усложняют», — подумал Оливейра, отправляясь за доской, которая стояла в передней, между его дверью и дверью комнаты, где жил турок-знахарь. Это была доска из кедра, гладко обструганная, но на поверхности виднелись две-три ямки. Оливейра просунул палец в одно из отверстий, оно оказалось сквозным, и он подумал, что через эти дырки можно будет продеть веревку. В передней был полумрак (разница тем более ощущалась после залитой солнцем комнаты), а у дверей комнаты турка стоял стул, на котором с трудом помещалась сеньора в черном. Оливейра поздоровался с ней, выглянув из-за доски, которую он поставил вертикально и поддерживал наподобие огромного (и бесполезного) щита.
— Добрый день, дон, — сказала сеньора в черном. — Ну и жара.
— Напротив, сеньора, — сказал Оливейра. — Скорее ужасный холод.
— Не надо шутить, сеньор, — сказала сеньора. — Имейте уважение к страждущим.
— Но с вами-то все в порядке, сеньора.
— В порядке? Да как вы смеете?
«И это реальность, в которой я существую, — подумал Оливейра, поддерживая доску и глядя на сеньору в черном. — Каждую секунду я воспринимаю это как реальность, но не может быть, чтобы все это было на самом деле, не может».
— Не может быть, — сказал Оливейра.
— Убирайтесь отсюда, наглец вы этакий. Вам должно быть стыдно появляться на людях в майке в такое время.
— Она от Масльоренса, сеньора, — сказал Оливейра.
— Какая мерзость, — сказала сеньора.
«То, что я считаю реальностью, — подумал Оливейра, прислонившись к доске и поглаживая ее поверхность, — есть принаряженная витрина, которая сверкает на протяжении пятидесяти или шестидесяти веков благодаря усилиям чьих-то рук, чьего-то воображения, чьих-то компромиссов, соглашений и тайных свобод».
— Горбатого могила исправит, — сказала сеньора в черном.
«Считаешь себя центром мироздания, — подумал Оливейра, стараясь поудобнее ухватить доску. — На самом деле ты идиот, каких мало. Быть центром так же невозможно, как оказаться везде одновременно. Нет никакого центра мироздания, а есть только бесконечное взаимопроникновение влияний, волнообразное движение материи. На протяжении ночи я представляю собой неподвижное тело, а на другом конце города рулон бумаги превращается в утренний выпуск газеты, в восемь сорок я выйду из дома, а в восемь двадцать газета поступит в киоск на углу, и в восемь сорок пять моя рука и газета встретятся и начнут совместное движение в воздухе, на расстоянии метра от пола, в едущем трамвае…»
— Что-то дон Бунче никак не закончит принимать больного, — сказала сеньора в черном.
Оливейра поднял доску и втащил ее к себе в комнату. Травелер делал ему знаки поторопиться, и, чтобы унять его, он дважды пронзительно свистнул. Веревка лежала на шкафу, пришлось ставить стул и доставать ее оттуда.
— Может, поторопишься немного? — сказал Травелер.
— Да, да, сейчас, — сказал Оливейра, высовываясь в окно. — Ты хорошо укрепил свою доску, че?
— Мы запихали ее в ящик комода, а сверху Талита положила Энциклопедический самоучитель Кильета.
— Неплохо, — сказал Оливейра. — А я на свою сторону положу годовую подписку бюллетеня Statens Psykologisk-Pedagogiska Institut, который выписывает Хекрептен неизвестно зачем.
— Чего я не понимаю, так это как мы их соединим, — сказал Травелер и стал двигать комод, чтобы доска немного высунулась из окна.
— Вы похожи на двух ассирийских вождей, которые таранами разрушали крепостные стены, — сказала Талита, которая недаром была владелицей энциклопедии. — Эти книги, которые ты назвал, немецкие?
— Шведские, чучело, — сказал Оливейра. — Там речь идет о таких вещах, как Mentalhygieniska synpunkter i fӧrskoleundervisning. Это великолепные слова, вполне достойные такого парня, как Снорри Стурлуссон, которого так часто упоминают в аргентинской литературе.[491] Похожи на нагрудный крест с изображением сокола в виде талисмана.
— Или на вихрь норвежской вьюги,[492] — сказал Травелер.
— Ты действительно образованный человек или только прикидываешься? — спросил Оливейра с удивлением.
— Не стану утверждать, что цирк не отнимает у меня времени, — сказал Травелер, — но всегда должно найтись время, чтобы во лбу загорелась звезда.[493] Насчет звезды это у меня всякий раз, когда я вспоминаю о цирке, просто болезнь какая-то. Откуда я это взял? Ты не знаешь, Талита?
— Нет, — сказала Талита, пробуя, прочно ли закреплена доска. — Может, из какого-нибудь пуэрториканского романа.
— Самое неприятное, что на самом деле я знаю, где я это вычитал.
— У какого-нибудь классика? — подсказал Оливейра.
— Не помню, в чем именно там было дело, — сказал Травелер, — но книга незабываемая.
— Это заметно, — сказал Оливейра.
— Наша доска в полном порядке, — сказала Талита. — Только я не могу понять, как ты собираешься их соединить.
Оливейра размотал веревку, разрезал ее пополам и одной половиной привязал доску к пружине кровати. Когда он пололсил край доски на подоконник, кровать поехала вперед, и доска стала раскачиваться, как коромысло, постепенно опускаясь на доску Травелера, а ножки кровати тем временем поднялись на пятьдесят сантиметров от пола. «Вся беда в том, что они будут подниматься все больше, когда кто-то будет на мосту», — подумал Оливейра с беспокойством. Он направился к шкафу и стал двигать его в направлении кровати.
— Ты что, недостаточно укрепил доску? — спросила Талита, которая сидела на подоконнике своего окна и наблюдала за действиями Оливейры.
— Повышенные меры предосторожности, — сказал Оливейра, — во избежание несчастного случая.
Он подтолкнул шкаф к самой кровати и стал его наклонять. Талита была восхищена физической силой Оливейры так же, как ловкостью и изобретательностью Травелера. «Ни дать ни взять двое первобытных», — подумала она с нежностью. Доисторическая эпоха всегда казалась ей прибежищем мудрости.
Шкаф набрал скорость и с силой обрушился на кровать, так что задрожал весь дом. Снизу послышались крики, и Оливейра подумал, что его сосед турок, должно быть, получил в этот момент хороший заряд шаманской силы. Он поправил шкаф и сел верхом на доску, естественно с той стороны, которая была внутри дома.
— Сейчас она выдержит любой вес, — объявил он. — Никакой трагедии не произойдет, к разочарованию девушек с первого этажа, которые нас так любят. Для них во всем этом нет никакого смысла, если кто-то не разобьет себе башку об асфальт. Такова жизнь, как они говорят.
— Ты свяжешь доски своей веревкой? — спросил Травелер.
— Видишь ли, — сказал Оливейра, — ты прекрасно знаешь, что я страдаю боязнью высоты, у меня голова кружится, даже когда я поднимаюсь по лестнице. Сказать при мне слово «Эверест» все равно что выстрелить мне в поясницу. Я испытываю отвращение ко многим людям, но альпиниста Тенцинга[494] просто не выношу, поверь мне.
— Это означает, что соединять доски придется нам, — сказал Травелер.
— Видимо, так, — сказал Оливейра, закуривая сигарету «43».
— До тебя дошло? — сказал Травелер Талите. — Он хочет, чтобы ты добралась до середины мостика и обвязала его веревкой.
— Я? — спросила Талита.
— Ну да, ты же слышала.
— Оливейра не говорил, что мне нужно добраться до середины моста.
— Он этого не говорил, но так следует из его слов. И вообще, будет как-то элегантнее, если мате передашь ему ты.
— Но я не умею завязывать веревки, — сказала Талита. — Вы с Оливейрой умеете вязать узлы, а у меня они всегда развязываются. Вернее, даже не завязываются.
— Мы будем тебя инструктировать, — снизошел Травелер.
Талита поправила купальный халат и сняла нитку, приставшую к пальцу. Ей хотелось вздохнуть, но она знала, что Травелера раздражает, когда она вздыхает.
— Ты действительно хочешь, чтобы именно я передала Оливейре мате? — тихо спросила она.
— О чем у вас разговор, че? — сказал Оливейра, высунувшись из окна по пояс и опершись о доску обеими руками. Служанка с первого этажа вынесла из дома стул, поставила его на тротуар и смотрела на них. Оливейра помахал ей рукой. «Двойной излом времени и пространства, — подумал он. — Бедняжка наверняка думает, что мы спятили, и ждет потрясающей картины, когда мы вернемся в нормальное состояние. Если кто-нибудь упадет, ее забрызгает кровью, это наверняка. А она не понимает, что ее забрызгает кровью, не понимает, что поставила стул так, чтобы ее забрызгало кровью, и не знает, что десять минут назад посреди прихожей у нее случился приступ tedium vitae,[495] не иначе как специально для того, чтобы она вынесла стул на тротуар. И что вода в стакане, которую она выпила в двадцать пять минут третьего, была теплой и противной специально для того, чтобы желудок, этот показатель нашего состояния, во второй половине дня устроил ей приступ tedium vitae, который запросто мог бы снять молочно-белый раствор магнезии с тремя таблетками от Филлипса, впрочем, она и не должна знать, что когда начнется, а что прекратится, это вопрос астрального знания, если уж прибегать к этой пустословной терминологии».
— Да так, ничего особенного, — сказал Травелер. — Готовь веревку.
— Вот она, крепче не бывает. Держи, Талита, я тебе брошу ее отсюда.
Талита уселась на доску верхом и продвинулась сантиметров на пять, опираясь на руки и подтягивая заднюю часть.
— Очень неудобно в этом халате, — сказала она. — Лучше бы в твоих брюках или в чем-нибудь таком.
— Еще чего, — сказал Травелер. — А если ты упадешь, ты только представь, что будет с моими штанами.
— Ты не торопись, — сказал Оливейра. — Еще немного, и я доброшу до тебя веревку.
— Какая эта улица широкая, — сказала Талита, глядя вниз. — Куда шире, чем смотреть из окна.
— Окна — это глаза города, — сказал Травелер, — и, естественно, искажают все, на что они смотрят. Сейчас ты все видишь, как оно есть, окружающее предстает перед тобой таким, каким видит его голубь или лошадь, которые даже не знают, что у них есть глаза.
— Оставь свои ценные мысли для журнала N. R. F. и покрепче привяжи доску, — посоветовал Оливейра.
— Ну конечно, ты лопнуть готов, когда кто-то высказывает мысли, которые тебе самому хотелось высказать, да ты не успел. Я прекрасно могу держать доску и при этом думать и разговаривать.
— Я уже почти на середине, — сказала Талита.
— На середине? Да ты только чуть-чуть отодвинулась от окна. Тебе еще метра два до середины — не меньше.
— Поменьше, — сказал Оливейра, чтобы подбодрить ее. — Вот-вот уже можно будет бросать веревку.
— По-моему, доска опускается, — сказала Талита.
— Ничего она не опускается, — сказал Травелер, который сидел верхом на том конце доски, который был в комнате. — Разве что немного вибрирует.
— Кроме того, ее конец лежит на моей доске. Вряд ли они обе обрушатся одновременно.
— Да, но я вешу пятьдесят шесть кило, — сказала Талита. — Когда я дойду до середины, я буду весить по меньшей мере двести. Я чувствую, что доска все больше опускается.
— Если бы она опускалась, — сказал Травелер, — у меня ноги болтались бы в воздухе, а я не просто достаю ими до пола, они спокойно стоят себе на полу. Бывает, конечно, что доски ломаются, но в данном случае это было бы очень странно.
— Сопротивление волокнистого материала гораздо выше в продольном направлении, — изрек Оливейра. — Примерно как у вязанки тростника или чего-то похожего. Я надеюсь, ты не забыла мате и гвозди.
— Они у меня в кармане, — сказала Талита. — Бросай веревку. У меня что-то нервы сдают.
— Это от холода, — сказал Оливейра, наматывая веревку на руку, как это делают гаучо. — Осторожней, держи равновесие. Я, пожалуй, наброшу на тебя лассо, тогда мы будем уверены, что веревка будет у тебя в руках.
«Любопытно, — подумал Оливейра, глядя, как веревка летит над головой Талиты. — Все получается как нельзя лучше, если по-настоящему захотеть. Анализ всегда только портит дело».
— Ну вот и добралась, — объявил Травелер. — Придвинь доски поближе друг к другу, чтобы их можно было связать, а то они немного разошлись.
— Обрати внимание, как я набросил на нее лассо, — сказал Оливейра. — Теперь, Ману, ты не станешь отрицать, что я могу работать с вами в цирке.
— Ты задел меня по лицу, — пожаловалась Талита. — Эта веревка так колется.
— А что если я надену ковбойскую шляпу, свистну что есть мочи и буду накидывать лассо на зрителей? — предложил Оливейра с энтузиазмом. — Трибуны устроят мне овацию, это будет успех, невиданный в анналах циркового искусства.
— Ты перегрелся на солнце, — сказал Травелер, закуривая сигарету. — Кроме того, я уже просил тебя не называть меня Ману.
— У меня сил не хватает, — сказала Талита. — Веревка такая жесткая, никак не завязывается.
— Веревка обладает амбивалентностью, — сказал Оливейра. — Ее естественная функция тормозится таинственной тенденцией к нейтральному состоянию. По-моему, это называется энтропией.[496]
— Вроде привязала, — сказала Талита. — Может, еще раз обвязать? Тут как раз один конец болтается.
— Да, перевяжи еще раз, — сказал Травелер. — Терпеть не могу, когда остается что-то лишнее или что-то болтается; просто черт знает что.
— Любитель совершенства, — сказал Оливейра. — Теперь перебирайся на мою доску, опробуем прочность моста.
— Я боюсь, — сказала Талита. — Твоя доска выглядит не такой прочной, как наша.
— Разве? — обиделся Оливейра. — Ты что, не видишь, это же настоящий кедр? И сравнить нельзя с вашей сосновой ерундой. Давай перелезай спокойно — и все дела.
— А ты что скажешь, Ману? — спросила Талита, обернувшись.
Травелер уже собирался ответить, но тут взгляд его упал на место соединения досок, плохо связанных веревкой. Сидя верхом на доске, он чувствовал, как она ходит под ним ходуном — то страшно, то приятно. Талите нужно было всего лишь упереться обеими руками, сделать небольшое усилие — и она будет на доске Оливейры. Конечно, мост выдержит; сработано что надо.
— Подожди минутку, — сказал Травелер с сомнением. — Ты не можешь передать ему пакет оттуда?
— Конечно не может, — сказал Оливейра удивленно. — И что тебе в голову пришло? Ты же все испортишь.
— Достать до него я не могу, — согласилась Талита. — Но я могу отсюда бросить пакетик в окно, это не так уж трудно.
— Бросить в окно, — сказал Оливейра, обидевшись. — Столько старались, а теперь они говорят — бросить.
— Если ты вытянешь руку, до свертка останется сантиметров сорок, самое большее, — сказал Травелер. — Талите необязательно туда перелезать. Пусть бросит тебе сверток — и чао.
— Она промахнется, как все женщины, — сказал Оливейра, — мате рассыплется по мостовой, не говоря о гвоздях.
— Не беспокойся, — сказала Талита, торопливо доставая сверток из кармана. — Может, прямо в руку я и не попаду, но в окно влетит наверняка.
— Конечно, все рассыплется по полу, а он грязный, в результате я буду пить мате, в котором будут плавать волосины, — сказал Оливейра.
— Не обращай на него внимания, — сказал Травелер. — Бросай пакет и давай назад.
Талита обернулась и посмотрела на него, не понимая, говорит ли он серьезно или шутит. Травелер смотрел на нее, и она узнала этот взгляд — как будто он нежно гладил ее по спине. Она крепко сжала в руке пакетик и прикинула расстояние на глаз.
Оливейра стоял опустив руки, и казалось, ему совершенно все равно, что делает или не делает Талита. Поверх головы Талиты он пристально смотрел на Травелера, который пристально смотрел на него. «Эти двое протянули между собой еще один мост, — подумала Талита. — Если я упаду вниз, они даже не заметят». Она посмотрела на тротуар и увидела служанку, которая стояла и смотрела на нее, открыв рот; за два квартала от их дома она увидела женщину, — судя по всему, это должна быть Хекрептен. Талита ждала, опираясь руками на доску.
— Так и есть, — сказал Оливейра. — Это должно было произойти, ты не меняешься. Доходишь почти до конца, и кажется, что ты наконец что-то понял, но все бесполезно, че, ты поворачиваешь назад, ты способен читать только ярлыки. Ты так и не продвинулся дальше рекламных проспектов, парень.
— Ну и что? — спросил Травелер. — Почему я должен играть в твою игру, приятель?
— Игра идет сама по себе, а вот ты все время вставляешь палки в колеса.
— Колесо смастерил ты, если уж на то пошло.
— Не думаю, — сказал Оливейра. — Я только создал условия, как говорят знающие люди. А играть надо по-честному.
— Это слова проигравшего, старик.
— Проиграешь тут, когда тебе то и дело норовят перебежать дорогу.
— У тебя мания величия, — сказал Травелер. — Как у всякого гаучо.
Талита понимала, что бы они сейчас ни говорили, разговор идет о ней, и все смотрела на девушку-служанку, которая застыла на стуле с открытым ртом. «Что угодно отдала бы, только бы не слышать, как они спорят, — подумала Талита. — О чем бы они ни говорили, на самом деле они всегда говорят обо мне, это, конечно, не так, но почти так». Ей вдруг пришло в голову, что было бы забавно бросить пакетик вниз, чтобы он попал прямо в открытый рот служанки. Но ей было не до смеха, она чувствовала у себя над головой другой мост — из перекрестных фраз, улыбок, напряженного молчания.
«Похоже, как в суде, — подумала Талита. — Будто идет процесс».
Она узнала Хекрептен, которая завернула за угол и шла, задрав кверху голову. «Кто тебя судит?» — сказал в этот момент Оливейра. Но судили не Травелера, судили ее. Она чувствовала, что к затылку и к ногам будто что-то приклеилось, наверное солнце. Сейчас ее хватит солнечный удар, и это будет приговор. «Кто ты такой, чтобы судить меня?» — до этого спросил Ману Оливейру. Но судили не Ману, судили ее. Осуждают ее, однако неизвестно, что они на самом деле имеют в виду, а в это время Хекрептен, как дура, подняла левую руку и машет ей, делая знаки, как будто это она сейчас получит солнечный удар и свалится прямо на улице, приговоренная без права на апелляцию.
— Зачем ты так раскачиваешься? — сказал Травелер, вцепившись в доску обеими руками. — Че, ты ее так раскачаешь, что мы все полетим к чертям собачьим.
— Я не двигаюсь, — жалобно сказала Талита. — Я только хотела бросить сверток и вернуться домой.
— Бедняжка, тебе, наверное, голову напекло. На самом деле все это просто свинство, че.
— Это ты виноват, — сказал Оливейра со злостью. — На всю Аргентину ты самый большой мастер устраивать бардак.
— От такого и слышу, — сказал Травелер, пытаясь быть объективным. — Талита, давай скорей. Швырни пакет ему в морду, чтоб он раз и навсегда перестал нас доставать.
— Я упустила момент, — сказала Талита. — Теперь я уже не так уверена, что попаду в окно.
— Я же говорил, — прошептал Оливейра, который шептал очень редко, только когда был на последнем пределе. — А вон идет Хекрептен, нагруженная пакетами. Ее-то нам и не хватало для полного счастья.
— Бросай, как получится, — сказал Травелер, теряя терпение. — Ничего страшного, если промахнешься.
Талита наклонила голову, и волосы упали ей на лоб, закрыв лицо. Она беспрестанно моргала, пот заливал ей глаза. Язык у нее был соленый, ей казалось, будто маленькие звездочки, как искры, вспыхивают и скачут по деснам и небу.
— Подожди, — сказал Травелер.
— Это ты мне? — спросил Оливейра.
— Нет, Талите. Я, пожалуй, принесу ей шляпу.
— Не слезай с доски, — взмолилась Талита. — Я же упаду.
— Энциклопедия и комод прекрасно ее держат. Не двигайся, я сейчас.
Доски опустились еще больше, и Талита отчаянно в них вцепилась. Оливейра свистнул что было сил, пытаясь остановить Травелера, но в окне уже никого не было.
— Вот скотина, — сказал Оливейра. — Не шевелись и не дыши. Это вопрос жизни и смерти, поверь мне.
— Я понимаю, — чуть слышно сказала Талита. — И так всегда.
— Ко всему прочему Хекрептен поднимается по лестнице. Она с нас сейчас шкуру сдерет, мамочки мои. Не двигайся.
— Я и не двигаюсь. Но мне кажется, что…
— Да, но только чуть-чуть, — сказал Оливейра. — Главное — не двигайся, это единственное, что можно сделать.
«Вот они меня и осудили, — подумала Талита. — Я сейчас упаду, а у них все будет по-прежнему, цирк и вся остальная жизнь».
— Почему ты плачешь? — спросил Оливейра с интересом.
— Я не плачу, — сказала Талита, — это я потею.
— Будет тебе, — сказал Оливейра обиженно, — может, я и невежественный человек, но не настолько, чтобы не отличать слезы от пота. Это совершенно разные вещи.
— Я не плачу, — сказала Талита. — Почти никогда, клянусь тебе. Плачут такие, как Хекрептен, которая сейчас поднимается по лестнице с покупками. А я как лебедь, который поет перед тем, как умереть, — сказала Талита. — Была одна такая пластинка Гарделя.
Оливейра закурил сигарету. Доски закачались. Он с наслаждением затянулся.
— Слушай, пока этот идиот Ману бегает за шляпой, мы могли бы сыграть в «каков вопрос — таков ответ».
— Давай, — сказала Талита. — Я как раз вчера приготовила несколько вопросов, специально для тебя.
— Я начинаю, и каждый задает свой вопрос. Операция, состоящая в том, чтобы нанести на твердое вещество тонкий слой металла, растворенного в жидкости, используя электрический ток; не похоже ли это слово на название старинного римского парусника водоизмещением в сто тысяч тонн.
— Так оно и есть, — сказала Талита, откидывая волосы назад. — Бесцельно бродить по свету, бродяжничать, промахиваться, не попадая в цель, любить острые ощущения и за все в жизни платить втридорога, не совпадает ли это с названием какого-нибудь растительного сока, употребляемого в пищу, такого как вино, масло и тому подобное?
— Отлично, — сказал Оливейра. — Растительные соки, такие как вино, масло… Мне никогда не приходило в голову называть вино растительным соком. Блестяще. А теперь послушай вот это: вновь зазеленеть, покрыться листвой, закутаться в волосы, в теплую шерсть, ввязаться в ссору и драку, отравить воду коровяком или еще чем-нибудь в этом роде, чтобы оглушить рыбу и потом ее выловить, не развязка ли это драматической поэмы в самый мучительный момент для героя?
— Как красиво, — взволнованно сказала Талита. — Как здорово, Орасио. Ты и правда умеешь извлечь сок из «кладбища».
— Растительный сок, — сказал Оливейра.
Дверь открылась, и вошла запыхавшаяся Хекрептен. Хекрептен была крашеная блондинка, весьма говорливая, и она нисколько не удивилась тому, что шкаф лежал на кровати, а ее сожитель сидел верхом на доске.
— Какая жара, — сказала она, бросая пакеты на стул. — В это время невозможно ходить за покупками, точно тебе говорю. А что там делает Талита? Понять не могу, и зачем я только выхожу на улицу во время сиесты.
— Ладно, не мешай, — сказал Оливейра, не глядя на нее. — Давай, Талита, теперь ты.
— Я больше ничего не могу вспомнить.
— Напрягись, не может быть, чтобы ты все забыла.
— И все из-за зубного врача, — сказала Хекрептен. — Мне всегда назначают самое неудобное время, чтобы поставить пломбу. Ты в курсе, что я сегодня ходила к дантисту?
— Я вспомнила один вопрос, — сказала Талита.
— И ведь, главное, что происходит, — сказала Хекрептен. — Я прихожу к дантисту на улицу Уорнес. Звоню, выходит служанка. Я ей говорю: «Добрый день». Она мне говорит: «Добрый день. Проходите, пожалуйста». Я прохожу и после этого торчу в приемной.
— Вот какой, — сказала Талита. — Человек с надутыми, как бочки, щеками или несколько бочек, связанных наподобие плота, который плывет в заросли осоки; магазин товаров первой необходимости для определенной публики, которая хочет сэкономить, в основном в сельской местности, это не то же самое, что применение гальванизма к животному, живому или мертвому?
— Какая прелесть, — сказал Оливейра, весь просияв. — Это же просто чудо.
— Она мне говорит: «Присядьте на минутку, пожалуйста». Я сажусь и жду.
— У меня есть еще один, — сказал Оливейра. — Подожди, дай вспомнить.
— А там еще две сеньоры и один сеньор с ребенком. А время будто стоит на месте. Говорю тебе, я прочитала три номера «Идиллии» от корки до корки. Ребенок плакал, бедное создание, а папаша такой нервный… Я не совру, если скажу, что прошло часа два или больше с половины третьего, когда я пришла. Наконец подошла моя очередь, и врач мне говорит: «Вас не затруднит прийти в другой день?» Я ему говорю: «Ну что вы, доктор, как это может меня затруднить? Уже не говоря о том, что все это время я жую на одну сторону». Он мне говорит: «Прекрасно, так и нужно делать. Садитесь в кресло, сеньора». Я сажусь, он говорит: «Будьте любезны, откройте рот». Такой галантный, этот врач.
— Вспомнил, — сказал Оливейра. — Слушай внимательно, Талита. Зачем ты оборачиваешься?
— Посмотреть, не идет ли Ману.
— Придет он, как же. Слушай: действие, вызывающее противодействие, например, на турнирах и состязаниях, когда лошадь одного всадника ударяется грудью о лошадь другого, не похоже ли это на некий пароксизм, на самый тяжелый и мучительный момент болезни?
— Странно, — сказала Талита задумчиво, — а по-испански есть такое слово?
— Какое именно?
— Ну это, когда всадники сталкивают лошадей грудью?
— Когда речь идет о турнирах — есть, — сказал Оливейра. — Оно есть на «кладбище», че.
— Пароксизм, какое красивое слово. Жаль, что у него такое значение.
— Ну то же самое происходит с колбасой, которая называется «мортадела»[497] и прочее в том же роде. Этим занимался аббат Бремон,[498] что тут поделаешь. Слова как мы, они рождаются каждый со своей физиономией, и все тут. Вспомни, какая была физиономия у Канта, о чем тут говорить. Или у Бернардино Ривадавии,[499] чтоб далеко не ходить.
— Мне поставили пластмассовую пломбу, — сказала Хекрептен.
— Жара невыносимая, — сказала Талита. — Ману сказал, что принесет мне шляпу.
— Принесет он, как же.
— Что если я брошу пакетик тебе в окно и вернусь домой, как тебе кажется?
Оливейра посмотрел на мост, прикинул ширину окна, разведя руки в стороны и покачал головой.
— Неизвестно, попадешь ты или нет, — сказал он. — С другой стороны, мне совсем не улыбается держать тебя на этом жутком морозе. Разве ты не чувствуешь, как у тебя с волос и под носом свисают сосульки?
— Нет, — сказала Талита. — Сосульки — это что-то вроде пароксизма?
— В каком-то смысле, да, — сказал Оливейра. — На первый взгляд это две совершенно разные вещи, вот, например, как мы с Ману, если подумать. Ведь ты должна признать, что мы и ссоримся-то только потому, что мы похожи.
— Да, — сказала Талита, — но иногда это так утомительно.
— Масло растаяло, — сказала Хекрептен, намазывая масло на кусок черного хлеба. — Масло в жару, это такое мучение.
— И самая ужасная разница состоит именно в этом, — сказал Оливейра. — Самая ужасная из ужасных. Два чернявых типа с физиономиями типичных буэнос-айресских кутил, одинаково презирающие примерно одни и те же вещи, и ты…
— Но я… — сказала Талита.
— Не увиливай, — сказал Оливейра. — Это же факт, ты дополняешь нас обоих, и это еще больше увеличивает сходство между нами, а потому и различие.
— Мне не кажется, что я дополняю вас обоих, — сказала Талита.
— Откуда ты знаешь? Что ты вообще можешь об этом знать? Сидишь в своей комнате, живешь себе, готовишь еду, читаешь энциклопедию-самоучитель, по вечерам работаешь в цирке и небось думаешь, что находишься там, где находишься. Ты никогда не обращала внимания на дверные ручки, на металлические пуговицы, на стеклянные предметы?
— Иногда обращала, — сказала Талита.
— Если быть внимательным, можно заметить, что везде, где меньше всего ждешь, отражается каждое твое движение. Я весьма чувствителен ко всем этим идиотским вещам, поверь мне.
— Иди сюда, выпей молока, пока оно не превратилось в сливки, — сказала Хекрептен. — Почему вы всегда говорите о каких-то странных вещах?
— Ты считаешь меня куда сложнее, чем я есть, — сказала Талита.
— Ну, это решать не мне, — сказал Оливейра. — Существует определенный порядок вещей, изменить который я не в силах, и бывает, что докучает далеко не самое важное. Я говорю тебе это, чтобы утешить. Например, я собирался выпить мате. И тут приходит эта и начинает готовить кофе с молоком, хотя ее никто не просит. Вывод: если я его не выпью, оно превратится в сливки. Ерунда на первый взгляд, а достает. Ты понимаешь, что я имею в виду?
— О да, — сказала Талита. — Вы с Ману и правда похожи. Вы оба так здорово умеете говорить про кофе с молоком и про мате, что в конце концов начинаешь понимать — кофе с молоком и мате на самом деле…
— Вот именно, — сказал Оливейра. — На самом деле. То самое, о чем мы говорили раньше. Разница между мной и Ману в том, что мы почти одинаковые. При таком соотношении любое различие вызывает неминуемый катаклизм. Мы друзья? Да, конечно, но я бы не удивился, если бы… Заметь, с тех пор как мы знакомы, могу тебе сказать, да ты сама это знаешь, мы только и делаем, что достаем друг друга. Ему не нравится, что я такой, какой я есть, только я начал выпрямлять гвозди, посмотри, во что он нас втравил, и тебя втянул по ходу дела. Но ему не нравится, что я такой, какой я есть, потому что на самом деле многое из того, что приходит мне в голову, многое из того, что я делаю, как будто уходит у него из-под носа. Он только подумает о чем-нибудь, а тут — раз и готово. Бац, бац, он высовывается в окно, а я уже выпрямляю гвозди.
Талита обернулась и увидела тень Травелера, который слушал, спрятавшись между комодом и окном.
— Да ладно, не надо преувеличивать. — сказала Талита. — Тебе не приходят в голову вещи, которые приходят Ману.
— Например?
— Молоко остынет, — недовольно сказала Хекрептен. — Хочешь, я его подогрею, дорогой?
— Лучше сделай из него флан на завтра, — посоветовал Оливейра. — Продолжай, Талита.
— Не буду, — сказала Талита, вздыхая. — Незачем. Так жарко, мне кажется, я сейчас упаду в обморок.
Она почувствовала, как доска дрогнула, — это Травелер сел на нее верхом на своем краю у окна. Навалившись на подоконник на уровне груди, Травелер положил на доску соломенную шляпу. Метелочкой из перьев он стал сантиметр за сантиметром подталкивать шляпу вперед.
— Если она чуть сдвинется в сторону, — сказал Травелер, — то наверняка упадет, и поминай как звали.
— Лучше бы мне вернуться домой, — сказала Талита, жалобно глядя на Травелера.
— Но сначала ты должна передать Оливейре мате, — сказал Травелер.
— Уже незачем, — сказал Оливейра. — В любом случае, бросит она пакет или не бросит, результат будет один.
Талита по очереди посмотрела на одного и на другого и не двинулась с места.
— Тебя не поймешь, — сказал Травелер. — Столько усилий, а в результате, что есть мате, что его нету, тебе без разницы.
— Минутная стрелка не стоит на месте, сын мой, — сказал Оливейра. — Ты движешься во временном пространстве со скоростью гусеницы. Подумай, сколько всего произошло за то время, пока ты искал эту видавшую виды солому. Цикл мате закончился впустую, между тем о своем приходе шумно возвестила верная себе Хекрептен, доверху нагруженная исходными материалами для кулинарии. Сейчас мы находимся в секторе кофе с молоком, и тут уж ничего не поделаешь.
— Ну и аргументы, — сказал Травелер.
— Это не аргументы, это совершенные по своей объективности доказательства. Ты склонен к движению в режиме непрерывности, как говорят физики, в то время как я необыкновенно чувствителен к головокружительной переменности существования. В этот самый момент кофе с молоком вторгается, утверждается, владычествует, распространяется и множится в сотнях тысячах домашних очагов. Мате смыто, спрятано, упразднено. Зона времени кофе с молоком покрывает эту часть Американского континента. Подумай о том, что стоит за всем этим и что из этого следует. Заботливые мамаши просвещают своих малолеток насчет молочной диеты, дети собираются в столовой, причем над столом все улыбаются друг другу, а под столом пинают друг друга и щиплются. Словосочетание «кофе с молоком» в этот час означает перемену, приятное ощущение того, что все движется к концу рабочего дня и пора подвести итог, что хорошего было сделано за день и что получит за это предъявитель сего, это время случайных ситуаций, смутных предвестников того, что шесть часов вечера, этот ужасный момент, когда в двери повернется ключ и надо будет нестись на автобус, обретает зримые до грубости очертания. В этот час почти никто не занимается любовью, всегда только до или после. В этот час думают только о душе (который мы принимаем только в пять часов), и все начинают потихоньку пережевывать планы на вечер, то есть что идти смотреть, Паулину Сингерман или Токо Тарантола[500] (пока не решили, время еще есть). Что общего у всего этого с часом, когда пьют мате? Я не говорю о мате, который пьют кое-как, вместе с кофе с молоком, я говорю о настоящем мате, который я любил, который пьют в определенный час, в самую стужу. Вот чего, как мне кажется, ты как следует не понимаешь.
— А портниха просто мошенница, — сказала Хекрептен. — Ты шьешь у портнихи, Талита?
— Нет, — сказала Талита. — Я сама немного умею кроить и шить.
— И правильно делаешь, дорогая. Сегодня после зубного врача я побежала к портнихе, которая живет в квартале от него, забрать юбку, которая должна была быть готова еще неделю назад. А она мне говорит: «Ай, сеньора, у меня мама заболела, так я, как говорят, даже нитку в иголку вдеть не могла». А я ей говорю: «Но, сеньора, мне нужна юбка». А она мне: «Поверьте, я вам так сочувствую. Вы у меня такая клиентка. Но вы должны меня извинить». А я ей: «Извинения на себя не наденешь. Будет лучше, если вы сделаете все как можно быстрее, и разойдемся по-хорошему». Она мне: «Если вы так, то почему бы вам тогда не обратиться к другой портнихе?» А я ей: «Я бы и пошла, но ведь мы уже с вами договорились, так что лучше уж я подожду, хотя вы человек, как я вижу, необязательный».
— Все так и было? — сказал Оливейра.
— Конечно, — сказала Хекрептен. — Ты что, не слышишь, я Талите рассказываю?
— Это разные вещи.
— Опять ты начинаешь.
— Ну вот тебе, пожалуйста, — сказал Оливейра Травелеру, который смотрел на него нахмурившись. — Вот так обстоят дела. Каждому кажется, если он говорит, то все остальные его слушают.
— А это совсем не так, — сказал Травелер. — Тоже мне новость.
— Иногда ее не мешает повторить, че.
— Ты всегда рад повторить то, что направлено против других.
— Господь наслал меня на ваш город, — сказал Оливейра.
— Если ты не достаешь меня, то цапаешься со своей женщиной.
— Подкалываю вас, чтобы немножко взбодрить.
— Не строй из себя Моисея. Ты не на горе Синай.
— Я предпочитаю, — сказал Оливейра, — чтобы во всем была предельная ясность. Тебя, похоже, не колышет, что в разгар нашей беседы Хекрептен влезает со своей абсолютно ни на что не похожей историей про дантиста и какую-то там юбку. Тебе не кажется, что такое влезание извинительно, когда речь идет о чем-то прекрасном или хотя бы побуждающем к чему-то, но оно отвратительно, если ломает порядок вещей, разрывает ткань письма. Хорошо сказал, а, братишка?
— Орасио в своем репертуаре, — сказала Хекрептен. — Не обращай на него внимания, Травелер.
— Тряпки мы с тобой оба, Ману. Каждую секунду боимся, что действительность утекает у нас между пальцами, как какая-нибудь водица. Вот она у нас в руках, и такая прекрасная, словно радуга, перекинутая от большого пальца к мизинцу. А каких усилий стоило ее добиться, сколько времени для этого понадобилось, какие качества характера пришлось проявить… Но тут рраз — и по радио объявляют о том, что генерал Писотелли сделал заявление. Капут. Всему капут. «Наконец происходит что-то серьезное», — думает служанка внизу, или эта, которая со мной рядом, а может, и ты сам. Да и я тоже, поскольку, надеюсь, ты далек от мысли, что я считаю себя безгрешным. Откуда мне знать, где находится истина? Просто мне нравится радуга над пальцами, это все равно как маленький лягушонок на ладони. Сегодня… Знаешь, несмотря на такой холод, мне кажется, мы сделали нечто очень серьезное. Талита, к примеру, совершила беспримерный подвиг — не упала на мостовую, и ты, со своей стороны, и я… Иногда такие вещи здорово чувствуешь, черт побери.
— Не уверен, что понимаю тебя, — сказал Травелер. — Насчет радуги, это неплохо. Но почему ты такой нетерпимый? Ведь ты, братишка, сам не живешь и другим не даешь.
— Если ты уже наигрался, подними шкаф с кровати, — сказала Хекрептен.
— Теперь понимаешь? — спросил Оливейра.
— Думаю, да, — убежденно сказал Травелер.
— Quod erat demonstrandum,[501] парень.
— Quod erat, — сказал Травелер.
— А хуже всего то, что мы еще как следует и не начинали.
— Как это? — сказала Талита, откидывая волосы назад, чтобы посмотреть, достаточно ли Травелер подтолкнул шляпу.
— Не нервничай, — посоветовал Травелер. — Спокойно повернись, протяни руку, вот так. Подожди, я еще немножко подвину… Ну, что я говорил? Порядок.
Талита достала шляпу и одним движением нахлобучила ее на голову. Внизу собралось несколько мальчишек и подошла какая-то сеньора, которая разговаривала со служанкой, — все смотрели наверх.
— Все, бросаю пакет Оливейре, и на этом закончим, — сказала Талита, которая в шляпе почувствовала себя несколько уверенней. — Крепче держите доски, это не так уж трудно.
— Будешь бросать? — сказал Оливейра. — Спорим, не попадешь.
— Пусть попробует, — сказал Травелер. — Но если пакет упадет на улицу, как бы не попасть по башке этой старой корове де Гутуссо.
— Ах, так, значит, она тебе тоже не по нутру, — сказал Оливейра. — Очень рад, поскольку не могу ее выносить. А ты, Талита?
— Я бы предпочла бросить пакет, — сказала Талита.
— Сейчас-сейчас, по-моему, ты слишком торопишься.
— Оливейра прав, — сказал Травелер. — Жаль будет, если ты все испортишь под самый конец после стольких усилий.
— Потому что мне жарко, — сказала Талита. — Я хочу домой, Ману.
— Ты не так уж далеко от дома, чтобы жаловаться. Можно подумать, ты пишешь мне письма из Мату-Гросу.
— Это из-за травы весь разговор, — сказал Оливейра Хекрептен.
— Долго вы еще будете в игрушки играть? — спросила Хекрептен.
— Никак нет, — сказал Оливейра.
— А-а, — сказала Хекрептен. — Тем лучше.
Талита вынула пакетик из кармана халата и замахнулась. Мостик под ней задрожал, и Травелер с Оливейрой вцепились в него что было сил. Талита перестала прицеливаться и стала одной рукой описывать круги, другой продолжая держаться за доску.
— Не делай глупостей, — сказал Оливейра. — Успокойся. Ты слышишь меня? Спокойнее!
— Держи! — крикнула Талита.
— Осторожно, ты упадешь!
— Без разницы! — крикнула Талита, бросая пакет, он со всего размаху влетел в комнату, ударился о шкаф, и его содержимое рассыпалось по полу.
— Здорово, — сказал Травелер, который смотрел на Талиту так, будто хотел удержать ее на мостике силой своего взгяда. — Замечательно, дорогая. Более того, невероятно. Вот тебе и demonstrandum.
Тем временем доски перестали дрожать. Талита ухватилась за них обеими руками и наклонила голову. Оливейре видна была только шляпа и волосы Талиты, рассыпавшиеся по плечам. Он поднял взгляд и посмотрел на Травелера.
— Ты так считаешь, — сказал он. — Я тоже думаю, что это, более того, невероятно.
«Наконец-то, — подумала Талита, глядя на плитки мостовой, на тротуар. — Что угодно, лишь бы не сидеть тут, между двумя окнами».
— У тебя два пути, — сказал Травелер. — Двигаться вперед, что легче, и влезть в окно Оливейры или двигаться назад, что труднее, зато не надо будет таскаться по лестницам и переходить улицу.
— Пусть перебирается сюда, бедняжка, — сказала Хекрептен. — У нее все лицо в поту.
— Сборище малых детей и безумцев, — сказал Оливейра.
— Дай передохнуть немного, — сказала Талита. — У меня, по-моему, голова кружится.
Оливейра перегнулся через подоконник и протянул ей руку. Талите нужно было продвинуться всего на полметра, чтобы достать до его руки.
— Настоящий рыцарь. — сказал Травелер. — Сразу видно, читал правила хорошего тона профессора Майданы. Можно сказать, граф. Не упусти, Талита.
— Это все от мороза, — сказал Оливейра. — Отдохни немного, Талита, и пройди достойно остаток пути. А на него не обращай внимания, известное дело, закопавшись в снегу, начинают бредить, перед тем как уснуть вечным сном.
Но Талита медленно выпрямилась и, опираясь на руки, передвинулась сантиметров на двадцать назад. Еще раз так же, и еще на двадцать сантиметров назад. Оливейра так и стоял, вытянув руку вперед, словно пассажир корабля, который отплывает от пристани.
Травелер протянул руки и подхватил Талиту под мышки. Она замерла на минуту, потом откинула голову, да так резко, что шляпа плавно опустилась на мостовую.
— Прямо как на корриде, — сказал Оливейра. — Может, эта самая де Гутуссо нам шляпу и принесет.
Талита повисла на руках Травелера, который оторвал ее от доски и втащил через окно в комнату. Она почувствовала губы Травелера у себя на затылке, его горячее и частое дыхание.
— Вернулась, — прошептал Травелер. — Вернулась, вернулась.
— Да, — сказала Талита, подойдя к кровати. — Как я могла не вернуться? Я бросила этот проклятый пакет и вернулась, бросила ему пакет и вернулась, бросила ему…
Травелер сел на краешек кровати. Он думал о радуге над пальцами и обо всем, что наговорил Оливейра. Талита опустилась рядом с ним и тихонько заплакала. «Это все нервы, — подумал Травелер. — Досталось ей. Надо бы принести ей воды с лимонным соком, дать таблетку аспирина, обмахивать ей лицо журналом, уложить ее поспать. Но сначала надо снять с доски энциклопедию-самоучитель, поставить на место комод и втащить доску обратно. А в комнате-то что творится, — подумал он, целуя Талиту. — Когда наплачется, надо будет попросить ее прибраться». Он стал ласкаться к ней, говорить нежные слова.
— Наконец-то, наконец-то, — сказал Оливейра.
Он отошел от окна и сел на край кровати, не занятый шкафом. Хекрептен собирала остатки чая ложкой.
— Тут полно гвоздей, — сказала Хекрептен. — Как странно.
— Страннее некуда.
— Я, пожалуй, пойду принесу шляпу Талиты. Ты же знаешь, какие сейчас дети.
— Весьма здравая мысль, — сказал Оливейра; он дотянулся до гвоздя и стал вертеть его в руках.
Хекрептен спустилась на улицу. Дети подобрали шляпу и обсуждали случившееся со служанкой и сеньорой де Гутуссо.
— Отдайте-ка ее мне, — сказала Хекрептен, растянув лицо в улыбке. — Это шляпа сеньоры, которая живет напротив, она моя знакомая.
— Она всем знакомая, дорогая моя, — сказала сеньора де Гутуссо. — Что за спектакль устроили, в такой-то час, когда дети на улице.
— Но ведь ничего плохого не случилось, — сказала Хекрептен не слишком уверенно.
— Сидеть на доске, раздвинув ноги, какой пример вы подаете детям. Вы, может быть, не отдаете себе отчета, но отсюда все было прекрасно видно, можете мне поверить.
— У нее там все волосатое, — сказал самый младший из детей.
— Вот, пожалуйста, — сказала сеньора де Гутуссо. — Дети что видят, то и говорят, невинные создания. И что она там делала верхом на доске, скажите на милость? И это в то время, когда порядочные люди отдыхают во время сиесты или занимаются своими делами. Вы бы сели верхом на доску, сеньора, позвольте вас спросить?
— Я — нет, — сказала Хекрептен. — Но Талита работает в цирке, они артисты.
— Так это они репетировали? — спросил кто-то из мальчишек. — А в каком цирке это будут показывать?
— Нет, это не репетиция, — сказала Хекрептен. — Они просто хотели передать немного мате моему мужу, и тут…
Сеньора де Гутуссо и служанка переглянулись. Служанка покрутила пальцем у виска. Хекрептен обеими руками выхватила шляпу и вошла в дом. Мальчишки выстроились в ряд и пропели на мотив из «Легкой кавалерии»:[502]
— Вслед за ним они бежали, вслед за ним они бежали, Палку ему в зад вогна-а-а-ли. Наш сеньор и так, и сяк, Но не вытащить никак. (Повторить два раза.)(-148)
42
Il mioо supplizio
è quando
non mi credo
in armonia.
Ungaretti. I Fiumi[503]Работа состояла в том, чтобы гонять мальчишек, которые пытались пробраться в цирк, проскользнув под шатром, помогать, если произойдет что-то неладное с животными, ассистировать иллюзионисту, сочинять зазывные афиши и буклеты и следить за тем, чтобы они были напечатаны как следует, уметь договариваться с полицией, ставить директора в известность, если что не так, конечно, если это достойно его внимания, помогать сеньору Мануэлю Травелеру по административной части и сеньоре Аталии Доноси де Травелер по части бухгалтерии (если надо) и т. д.
О, мое сердце, не восставай, чтобы свидетельствовать против меня! Книга Мертвых,[504] или Надпись на панцире скарабеяА между тем в возрасте тридцати трех лет умер Дину Липатти.[505] О работе и о Дину Липатти они говорили всю дорогу, чуть ли не до дверей, Талита считала это еще одним фактом в копилке ощутимых доказательств того, что Бога нет, или по крайней мере того, что он подвержен неизличимому легкомыслию. Она предложила им немедленно купить пластинку Липатти и прослушать ее у дона Креспо, но Травелеру и Оливейре хотелось выпить пива в баре на углу и поговорить о цирке, раз уж они стали коллегами по работе, чему оба были страшно рады. От Оливейры не ус-кольз-ну-ло, что Травелеру пришлось приложить ге-ро-и-чес-ки-е у-си-ли-я, дабы уговорить своего шефа взять Оливейру на работу, и если он в конце концов согласился, то все равно по чистой случайности. Уже было решено, что Оливейра подарит Хекрептен два из трех отрезов кашемира, которые ему осталось продать, а из третьего Талита сошьет себе платье. Поступление на работу стоило отпраздновать. Так что Травелер, как и следовало, заказал пиво, а Талита пошла домой готовить обед. Был понедельник, в цирке выходной. Во вторник будут два представления, в семь часов и в девять, с участием медведей («четыре-медведя-четыре»), фокусника, который только что прибыл из Коломбо, и, конечно, кота, умеющего считать. Для начала работа Оливейры будет состоять из всякой ерунды, пока он не набьет руку. А заодно он сможет смотреть цирковые представления, кстати, они ничем не хуже других. Все шло прекрасно.
Все шло настолько прекрасно, что Травелер опустил глаза и стал барабанить пальцами по столу. Официант, который хорошо знал их обоих, подошел перекинуться словом о команде Западной железной дороги, и Оливейра поставил десять песо на команду «Чакарита Юниорс».[506] Отбивая пальцами багуалу, Травелер говорил себе, что все идет как нельзя лучше и что другого выхода не было, а Оливейра тем временем распинался относительно положительных шансов своей ставки и пил пиво. В то утро в голову ему лезли египетские изречения в духе бога Тота,[507] и примечательного в этом было то, что он был богом магии и изобретателем языка. Они немного поспорили о том, не является ли подобный спор сам по себе в некотором смысле фикцией, потому что на каком бы жаргоне они не изъяснялись, он все равно является частью иррациональной структуры, от которой никогда не ходи покоя. Они пришли к выводу, что двойные обязанности Тота служат не иначе как гарантированным подтверждением взаимосвязи между реальностью и ирреальностью; оба были очень довольны тем, что им удалось в общих чертах решить проблему объективного соотношения,[508] всегда сопряженную с неприятностями. Магия или осязаемый мир, но было в Египте такое божество, которое сумело выразить словами гармонию между субъектом и объектом. Все действительно шло прекрасно.
(-75)
43
В цирке было замечательно: фальшивый блеск мишуры, бравурная музыка, кот, умеющий считать, то есть реагировавший на валерьянку, которой предварительно обрызгивали определенные картонные цифры, а взволнованные сеньоры в это время указывали своим чадам на этот впечатляющий пример эволюции по Дарвину. Когда Оливейра в первый вечер вышел на еще пустую арену и посмотрел вверх, отверстие в красном куполе показалось ему дорогой к неведомым мирам, неким центром, оком, соединяющим землю и свободное пространство; смех застрял у него в горле, и он подумал, что другой на его месте тут же самым естественным образом полез бы по самой высокой опоре наверх, но то другой, а не он, он стоит внизу, и смотрит в дыру на потолке, и курит, другой, не он, — он стоит и курит внизу посреди орущей толпы.
В один из первых вечеров он понял, почему Травелер устроил его на работу. Талита сказала ему об этом без обиняков, когда они подсчитывали выручку в кирпичной пристройке, в которой располагались административная часть и бухгалтерия цирка. Оливейра и сам это знал, но немного не так, и надо было, чтобы Талита сказала ему так, как это видела она, тогда из двух точек зрения выработается новая позиция, некий настоящий момент, и ему станет ясно, на каком он свете и что должен делать. Он хотел было возразить, сказать, что все это выдумки Травелера, хотел еще раз оказаться вне времени, в котором жили другие (он категорически терпеть не мог соглашаться с чьим-то мнением, в чем-то участвовать и, вообще, быть), но в то же время он понимал — все это правда, так или иначе, но он разрушил мир Талиты и Травелера, ничего не делая, даже не помышляя об этом, лишь уступая своей сиюминутной тоске. Он слушал Талиту, а ему рисовалась невзрачная линия Холма и слышалась смешная португальская фраза на тему о недостижимом будущем, когда в холодильнике будет полно крепкой каньи. Он рассмеялся Талите в лицо так же, как утром рассмеялся перед зеркалом, когда чистил зубы.
Талита перевязала ниткой пачку банкнот по десять песо, и они машинально стали пересчитывать остальное.
— Что ты хочешь? — сказала Талита. — Я думаю, Ману прав.
— Конечно прав, — сказал Оливейра. — Хоть он и идиот, и ты это прекрасно знаешь.
— Не так уж прекрасно. Я это знаю, лучше сказать, узнала, когда сидела верхом на доске. Это вы всегда все прекрасно знаете, а я посредине, между вами, как эта штука у весов, никогда не знала, как она называется.
— Ты наша нимфа Эгерия,[509] наш медиумный мост. Я заметил, когда ты с нами, мы с Ману впадаем в состояние, подобное трансу. Это заметила даже Хекрептен и сказала мне, употребив именно это живописное выражение.
— Может быть, — сказала Талита, надписывая места на билетах. — Если уж на то пошло, я скажу тебе то, что думаю: Ману не знает, что с тобой делать. Он любит тебя как брата, полагаю, это понимаешь даже ты, и в то же время он жалеет, что ты вернулся.
— Не надо было встречать меня в порту. Я ему открыток не присылал, че.
— Он узнал о твоем приезде от Хекрептен, которая весь балкон уставила горшками с геранью. А Хекрептен узнала в министерстве.
— Черт знает что, — сказал Оливейра. — Когда до меня дошло, что Хекрептен узнала о моем приезде по дипломатическим каналам, я понял: единственное, что мне остается, — позволить ей задушить меня в объятиях, как взбесившейся телке. Ты только представь себе — какое самопожертвование, хуже Пенелопы.
— Не хочешь об этом говорить, — сказала Талита, глядя в пол, — можем закрыть кассу и пойти за Ману.
— Очень хочу, но, похоже, я создаю столько сложностей твоему мужу, что начинаю чувствовать угрызения совести. А это для меня… Одним словом, я не понимаю, почему бы тебе самой не решить все проблемы.
— Хорошо, — сказала Талита, смягчаясь. — Мне кажется, в тот день, если бы он не был таким дураком, он бы и сам все понял.
— Разумеется, Ману есть Ману, на следующий день он идет к директору и устраивает меня на работу. Как раз в тот момент, когда я утирал слезы отрезом, который приготовил на продажу.
— Ману добрый, — сказала Талита. — Ты и представить себе не можешь, какой он добрый.
— Добрейшей души человек, — сказал Оливейра. — Оставим в стороне то, что недоступно моему пониманию, вероятно, это так и есть, и позволь мне навести тебя на мысль, что, возможно, Ману нравится играть с огнем. Это тоже цирковой номер, мы такое не раз видели. Но на твоей стороне, — сказал Оливейра, указывая на нее пальцем, — имеются сообщники.
— Сообщники?
— Во-первых, я, а во-вторых, еще кое-кто, кого здесь нет. Ты считаешь себя стрелкой весов, такой же изящной, как твоя фигурка, но сама не замечаешь, как вес твоего тела опускает одну чашу весов ниже другой. Было бы лучше, если бы ты это поняла.
— Почему ты не уедешь, Орасио? — сказала Талита. — Почему не оставишь в покое Ману?
— Я же тебе говорил, только я собрался распродать отрезы, как этот болван нашел мне работу. Пойми, я не собираюсь делать ему ничего плохого, но все может обернуться хуже некуда. Может случиться любая глупость.
— И, зная это, ты все равно сидишь здесь, а Ману из-за этого плохо спит.
— Дай ему экванилу, старушка.
Талита перевязала пачку банкнот по пять песо. Когда был выход кота, умеющего считать, они всегда смотрели этот номер, потому что кот вел себя совершенно необъяснимо, он уже дважды преуспел в умножении, еще до того как использовали валерьянку. Травелер был поражен и просил близких следить за котом неотлучно. Но в тот вечер кот вел себя как дурак, счет никак не шел дальше двадцати пяти, просто трагедия какая-то. Травелер с Оливейрой стояли и курили в одном из боковых проходов, они решили, что гениальному коту не хватает фосфора и что надо сказать об этом директору. Два клоуна, которые по никому не известной причине ненавидели кота, пританцовывали вокруг небольшой эстрады, на которой представитель рода кошачьих приглаживал усы в свете прожектора. Когда они третий раз поравнялись с котом, напевая какую-то русскую песню, кот выпустил когти и вцепился в лицо тому, который был старше. Публика, как обычно, бешено аплодировала этому номеру. Клоуны уехали с арены на повозке «Бонетти, отец и сын», директор успокоил кота, а с клоунов взял двойной штраф за провокацию. Это была странная ночь, в этот час Оливейру всегда тянуло смотреть в небо, он разглядывал Сириус посреди черного отверстия в потолке и размышлял о тех трех днях, когда мир бывает открыт, когда руки тянутся кверху и воздвигается мост от человека к отверстию в вышине, мост от человека к человеку (ибо зачем взбираться наверх, как не для того, чтобы спуститься уже другим и вновь соединиться, но уже по-иному, со своими соплеменниками? Двадцать четвертое августа было одним из тех дней, когда мир открывался; понятное дело, зачем об этом думать, когда на дворе начало февраля. Другие два дня Оливейра не помнил, любопытно, что он запомнил только один из трех. Почему именно этот? Может, потому, что в нем девять слогов? Память любит выкидывать такие штуки. Но тогда, быть может, Истина — это александрийский стих или одиннадцатисложный; быть может, ритмы, как уже не раз бывало, указывают на приближение к ней и отмечают этапы пути. Вот вам и темы для диссертаций, ловите, выскочки. Было так здорово смотреть на работу жонглера, на его потрясающую ловкость, на арену, по которой тянулся млечный путь табачного дыма и оседал на головах сотен ребятишек из Вилья-дель-Парке, квартала, где, по счастью, еще полно эвкалиптов, которые поддерживают экологическое равновесие, если еще раз упомянуть весы — этот инструмент правосудия и одновременно знак зодиака.
(-125)
44
Травелер и правда спал плохо, посреди ночи он вздыхал, словно на грудь ему что-то давило, и обнимал Талиту, которая, не говоря ни слова, прижималась к нему, чтобы он чувствовал ее совсем близко. В темноте они целовали друг друга в нос, в губы, в глаза, и Травелер гладил Талиту по щеке, вытащив руку из-под простыни, а потом снова прятал ее, как будто ему становилось холодно, хотя оба были мокрые от пота; потом Травелер шепотом начинал считать, старый способ заснуть, и Талита чувствовала, как его объятия слабеют, дыхание становится глубже и он успокаивается. Днем он выглядел довольным, насвистывал танго, потягивая мате, или читал, но когда Талита готовила в кухне еду, он несколько раз, под разными предлогами, приходил к ней о чем-нибудь поговорить, в основном о сумасшедшем доме, переговоры о покупке которого шли успешно и директор все больше склонялся к тому, чтобы купить психушку. Талите не очень нравилась идея с дурдомом, и Травелер это знал. Оба пытались относиться к этому с юмором, предвкушая сцены, достойные Сэмюэля Беккета, и отпуская язвительные замечания по поводу цирка, который заканчивал свои гастроли в Вилья-дель-Парке и готовился дебютировать в Сан-Исидро. Иногда Оливейра заходил выпить мате, но обычно он сидел у себя в комнате, пользуясь тем, что Хекрептен на работе и он может в свое удовольствие читать и курить. Когда Травелер смотрел в темно-синие глаза Талиты, помогая ей ощипывать утку, эту роскошь они позволяли себе дважды в месяц, что страшно радовало Талиту, потому что она обожала утку во всех ее кулинарных видах, он говорил себе, что все идет более или менее ничего, и ему даже нравилось, когда Орасио приходил выпить с ним мате, они тогда могли сыграть в какую-нибудь малопонятную игру, в которой и сами с трудом разбирались, но это помогало убить время, чувствуя, что все трое достойны друг друга. Они много читали, в юности все трое были приверженцами социалистических идей, а Травелер немного еще и теософских, и потому все трое, каждый на свой лад, любили поговорить о прочитанном, поспорить в испано-аргентинском духе, когда каждый старается во что бы то ни стало внушить свое мнение, не принимая ни в коем случае мнения остальных, или начинали смеяться как сумасшедшие, чувствуя себя на голову выше всего остального безутешного человечества под тем предлогом, что они якобы помогают ему выбраться из того дерьмового положения, в котором оно оказалось.
Но Травелер и правда спал плохо, и Талита каждое утро задавала ему риторический вопрос, когда он брился, освещенный утренним солнцем. Раз провел бритвой, другой, Травелер в майке и пижамных штанах долго насвистывал «Клетку»,[510] а потом восклицал: «Ах, музыка, печаль для тех, кто, как и мы, живет любовью!» — и, обернувшись, с вызовом смотрел на Талиту, которая в тот день ощипывала утку и была счастлива, потому что крылышки были само очарование, а вид у утки был благостный, а не злобный, как это часто бывает, когда мертвая утка лежит прикрыв глаза, а в щелочках между веками будто что-то светится, бедная птица.
— Почему ты так плохо спишь, Ману?
— Музыка, мне… Я — плохо? Да я вообще не сплю, любовь моя, я всю ночь размышляю над Liber peniten-tialis,[511] издание Макровиуса Баски, которое я недавно стащил у доктора Феты, воспользовавшись рассеянностью его сестры. Я, конечно, книгу верну, она, должно быть, стоит кучу денег. Liber penitentialis, представляешь себе?
— А что это такое? — сказала Талита, теперь-то она поняла, что прятал от нее Травелер в ящике стола, который запирал на два оборота ключа. — Впервые с тех пор, как мы поженились, ты прячешь от меня то, что читаешь.
— Да вон она, можешь смотреть сколько хочешь, но сначала вымой руки, я ее прячу, потому что она ценная, а у тебя руки вечно в морковке или еще в чем-нибудь этаком, ты же вечно по хозяйству, запросто загваздаешь любой раритет.
— Не нужна мне твоя книга, — обиженно сказала Талита. — Лучше отруби утке голову, не люблю я это делать, хоть она и мертвая.
— Навахой,[512] — предложил Травелер. — Так будет выглядеть более свирепо, а заодно поупражняюсь, мало ли, пригодится.
— Нет. Возьми вон тот нож, он наточен.
— Навахой.
— Нет, ножом.
Травелер подошел к утке с навахой в руке и одним махом отрубил ей голову.
— Учись, — сказал он. — Если мы будем заниматься сумасшедшим домом, нам не помешает опыт типа двойного убийства на улице Морг.[513]
— Разве сумасшедшие убивают друг друга?
— Нет, старушка, но иногда они добиваются своего с помощью бросания лассо. Или веревки, если мне позволят это неудачное сравнение.
— Это пошло, — заметила Талита, прихлопывая ушную тушку по бокам и перевязывая ее белой ниткой, чтобы сохранить форму.
— Что касается того, почему я плохо сплю, — сказал Травелер, вытирая нож бумажной салфеткой, — ты прекрасно знаешь, в чем тут дело.
— Допустим, знаю. Но и ты знаешь, что проблемы-то никакой нет.
— Проблемы, — сказал Травелер, — похожи на примус, все идет хорошо до тех пор, пока он не взорвется. Я бы сказал, что проблемы этого мира лежат в области теологии. Кажется, что они не существуют, вот как сейчас, например, и вдруг оказывается, что часовой механизм поставлен на двенадцать часов завтрашнего дня. Тик-так, тик-так, все хорошо, все нормально. Тик-так.
— Плохо то, — сказала Талита, — что ты сам запускаешь этот механизм.
— Моя рука, мышонок, тоже установлена на двенадцать часов завтрашнего дня. А пока что давай будем жить, глядишь, поживем еще.
Талита смазала утку маслом, поистине оскорбительное зрелище.
— Ты можешь в чем-то меня упрекнуть? — сказала она, словно обращаясь к перепончатолапчатому созданию.
— В данный момент абсолютно ни в чем, — сказал Травелер. — А завтра в двенадцать посмотрим, если уж продолжать этот образ до его завершения в зените.
— Как ты похож на Орасио, — сказала Талита. — Просто неверояно, до чего похож.
— Тик-так, — сказал Травелер, ища сигареты. — Тик-так, тик-так.
— Да, похож, — повторила Талита, роняя из рук утку, которая мягко шлепнулась на пол с неприятным хлюпающим звуком. — Он бы тоже говорил «тик-так» и тоже изъяснялся бы фигурами речи. Почему бы вам не оставить меня в покое? Я тебе недаром говорю, что ты на него похож, я хочу, чтобы мы раз и навсегда покончили с этим абсурдом. Не может быть, чтобы все так изменилось с приездом Орасио. Я сказала ему вчера, я так больше не могу, вы играете мной, как теннисным мячиком, то ты поддашь, то он, это несправедливо, Ману, несправедливо.
Травелер подхватил ее на руки, хотя Талита пыталась сопротивляться, и случайно наступил на утку, качнулся, едва не уронив Талиту на пол, но удержался и поцеловал ее в кончик носа.
— А может, и нет никакой бомбы, а, мышонок? — сказал он, улыбаясь; Талита смягчилась и поудобнее устроилась у него на руках. — Заметь, я не ищу приключений себе на голову, но чувствую, что не стоит полагаться ни на какой громоотвод, лучше ходить с непокрытой головой, пока однажды не пробьет двенадцать часов. Только после этой минуты, после этого дня я снова стану прежним. И это не из-за Орасио, любовь моя, не только из-за Орасио, хотя он явился сюда в роли некоего посланника. Весьма вероятно, если бы он не приехал, со мной произошло бы нечто похожее. Я бы прочитал какую-нибудь книгу и в результате сорвался бы с цепи или влюбился бы в другую женщину… Понимаешь, порой случаются в жизни вещи, которых человек и сам от себя не ждет и которые все приводят в критическое состояние. Ты должна это понимать.
— Ты действительно думаешь, что я нужна ему и что я?..
— Да не нужна ты ему напрочь, — сказал Травелер, отпуская ее. — Ты для Орасио гроша ломаного не стоишь. Не обижайся, я-то знаю тебе цену и всегда буду ревновать тебя ко всем и каждому, кто на тебя посмотрит или скажет слово. Но хоть Орасио и набросил на тебя веревку, даже несмотря на это, можешь считать меня тронутым, но я тебе повторяю: ты ничего не значишь для него, и потому мне не о чем беспокоиться. Дело совсем в другом, — сказал Травелер и повысил голос. — Тут, к дьяволу, совсем в другом дело, вот что!
— Ой, — сказала Талита, подняв утку с пола и вытирая пол тряпкой. — Ты ей ребрышки переломал. Значит, совсем в другом. Я ничего не понимаю, но, может, ты и прав.
— Если бы он сейчас был здесь, — тихо сказал Травелер, разглядывая сигарету, — он бы тоже ничего не понял. Но он тоже знает, что дело совсем в другом. Это невероятно, ведь кажется, когда он с нами, стены рушатся и все летит к чертям собачьим, и вдруг небеса начинают сказочно сиять, звезды сыплются прямо в хлебницу, утка превращается в лебедя Лоэнгрина,[514] и за всем этим, за всем этим…
— Не помешаю? — сказала сеньора де Гутуссо, просовывая голову из коридора. — Может, у вас что-то личное, я никогда не лезу, куда меня не просят.
— Входите смело, — сказала Талита. — Входите, сеньора, и посмотрите, какая чудесная птица.
— Великолепная, — сказала сеньора де Гутуссо. — Я всегда говорю, утка, может, немножко и жестковата, но у нее свой особенный вкус.
— Ману наступил на нее, — сказала Талита. — Она будет мягкая, как масло, клянусь вам.
— Подпишись под сказанным, — сказал Травелер.
(-102)
45
Естественно было предположить, что он будет ждать, когда кто-нибудь выглянет в окно. Для этого достаточно было проснуться в два часа ночи, в липкой жаре, среди едкого дыма от противомоскитной спирали, и увидеть в открытом окне две огромные звезды и другое окно напротив, тоже открытое.
Естественно, потому что доска все еще была в глубине комнаты и отказ на ярком солнце мог превратиться во что-то совсем иное темной ночью, внезапно обернуться согласием, а значит, надо стоять и ждать у окна, курить, отпугивая москитов, и ждать, когда Талита в полусне мягко отодвинется от Травелера и выглянет в окно, глядя из темноты в темноту. А он, возможно, легким движением руки подаст ей знак, рисуя огоньком сигареты. Треугольники, окружности, похожие на гербы, превратятся в формулу любовного напитка или дефинилпропилами-на, в фармацевтические аббревиатуры, которые она сумеет понять, или просто будет движение огонька от рта к подлокотнику кресла, от подлокотника кресла ко рту, от рта к подлокотнику кресла, и так всю ночь.
В окне никого не было. Травелер высунулся в горячий колодец улицы, посмотрел вниз, где так и лежала раскрытая газета, беззащитная под темным небом, усыпанным звездами, которые, казалось, можно было потрогать. Окна гостиницы, что была напротив, ночью казались еще ближе, хороший гимнаст смог бы допрыгнуть. Нет, не смог бы. Только если бы речь шла о жизни и смерти, но не иначе. От досок уже и следа не осталось, даже воспоминания.
Травелер вздохнул и снова лег. Талита что-то сонно спросила у него, он погладил ее по голове и что-то прошептал. Талита послала ему воздушный поцелуй и затихла.
Если он сейчас, в своем черном колодце, стоит в глубине комнаты и Оттуда смотрит в окно, то ему видно Травелера, его белую, словно призрачное свечение, майку. Если он, в своем черном колодце, ждет, что Талита выглянет в окно, белая майка, которой нет до него никакого дела, будет для него изощренной пыткой. Сейчас он, наверное, тихонько почесывает предплечье, он всегда так делает, когда ему не по себе или отчего-нибудь досадно, во рту потухшая сигарета, а может, он выругается шепотом и, наверное, снова растянется на кровати, не обращая никакого внимания на спящую Хекрептен.
Но если его не было в его черном колодце, вставать и подходить к окну в этот ночной час — все равно что признаться в своих страхах, почти примириться. Практически это равносильно признанию, что они с Орасио никаких досок не убирали. А раз так, значит, оставался некий коридор, по которому можно ходить туда-сюда. Любой из них троих во сне может ходить от окна к окну, ступая по плотному воздуху, не боясь упасть вниз, на улицу. Мост исчезнет только при свете дня, с появлением кофе с молоком, который вернет прочность конструкциям и разорвет паутину ночных часов с помощью радионовостей и холодного душа.
Сны Талиты: Ее привели на выставку живописи в огромный разрушенный дворец, картины висят на головокружительной высоте, как будто кто-то превратил в музей «Темницы» Пиранези.[515] Чтобы добраться до картин, нужно карабкаться по сводам, где с трудом можно поставить ступню в выемку, чтобы уцепиться пальцами ног, потом идти по каким-то галереям, обрывающимся прямо в бурное море, где ходят волны, словно из свинца, забираться по винтовым лестницам, чтобы наконец увидеть, хоть и плохо, как-то снизу или сбоку, картины, на которых всегда одно и то же, одно и то же белесое пятно, один и тот же сгусток не то молока, не то тапиоки, который повторяется до бесконечности.
Пробуждение Талиты: Сесть на постели рывком в девять утра, потрясти Травелера, который спит лицом вниз, пошлепать его по заду, чтоб проснулся. Травелер потянулся, ущипнул ее за ногу, Талита села на него верхом, взъерошила ему волосы. Травелер, пользуясь тем, что он сильнее, завел ей руку за спину, и Талита запросила пощады. Поцелуи, ужасная жара.
— Мне приснился какой-то жуткий музей. Ты меня туда привел.
— Терпеть не могу толкование снов. Завари мате, малыш.
— Зачем ты вставал ночью? Ведь не для того, чтоб пописать, когда ты встаешь пописать, ты всегда сначала мне объясняешь, как будто я дурочка, всегда говоришь: «Я, пожалуй, встану, больше не могу терпеть», и мне тебя жалко, потому что я могу терпеть всю ночь, мне даже не надо терпеть, просто у нас разный обмен веществ.
— Разный что?
— Скажи, почему ты вставал? Подошел к окну и вздохнул.
— Но не выбросился же.
— Идиот.
— Было жарко.
— Скажи, зачем вставал.
— Ни за чем, посмотреть, может, у Орасио тоже бессонница, поболтали бы.
— В такой час? Вы и днем-то теперь почти не разговариваете.
— А тут вдруг бы получилось. Кто знает.
— Мне приснился какой-то ужасный музей, — говорит Талита, натягивая трусики.
— Ты уже говорила, — говорит Травелер, глядя в голубое небо.
— Мы с тобой тоже почти не разговариваем, — говорит Талита.
— Это точно. Такая влажность.
— Но кажется, будто что-то само говорит, говорит за нас. У тебя нет такого ощущения? Тебе не кажется, что в нас поселился кто-то другой? Я хочу сказать… Это не так легко объяснить.
— Лучше сказать, переселился. Но заметь, это не навсегда. Каталина, не горюй, — напевает Травелер. — Придут другие времена, / другая будет мебель.
— Болван, — говорит Талита, целуя его в ухо. — Это не навсегда, это не навсегда… Это не должно длиться больше ни минуты.
— Насильственные ампутации ни к чему хорошему не приведут, культя будет болеть всю жизнь.
— Хочешь, скажу тебе правду, — говорит Талита. — У меня такое чувство, будто мы растим пауков и сороконожек. Заботимся о них, ухаживаем за ними, и они растут себе, вначале такие крошечные козявочки, можно даже сказать хорошенькие, столько ножек, и вдруг выросли и впились тебе в лицо. Кажется, пауки мне тоже снились, я смутно помню.
— Ты только послушай этого Орасио, — говорит Травелер, надевая брюки. — В такое время свистит, как полоумный, — видимо, от радости, что Хекрептен ушла. Что за человек.
(-80)
46
— «Ах, музыка, печаль для тех, кто, как и мы, живет любовью», — процитировал Травелер в четвертый раз, настраивая гитару, прежде чем выдать танго «Попугай-гадалка».[516]
Дон Креспо заинтересовался, откуда эта цитата, и Талита поднялась за пьесой[517] в пяти действиях в переводе Астраны Марина.[518] С наступлением сумерек улица Качимайо оживлялась, но в патио дона Креспо кроме кенаря Сто-Песо слышен был только голос Травелера, который уже дошел до того места, где девушка, само очарованье, / несла сплошную радость в отчий дом. Чтобы играть в «15», разговаривать не нужно, и Хекрептен выигрывала у него игру за игрой, так что Оливейра на пару с сеньорой Гутуссо только и делал, что доставал монетки по двадцать песо. Попугай-гадалка (она что жизнь, что смерть предскажет) между тем уже вытащил розовый листок: «Жених, долгая жизнь». Что не помешало Тра-велеру замирающим голосом живописать скоропостижную болезнь героини: печальным вечером настал ее конец, / и маму бедную она все вопрошала: «Он не пришел?». Трррень.
— Какие чувства, — сказала сеньора де Гутуссо. — Поносят танго направо и налево, а ведь ни в какое сравнение не идет с калипсо[519] и прочей дрянью, которую передают по радио. Передайте мне несколько фасолин, дон Орасио.
Травелер прислонил гитару к цветочному горшку, высосал мате до последней капли и почувствовал, что ночь предстоит тяжелая. Лучше бы работа была, или взять да и заболеть — все-таки отвлекся бы. Он налил себе рюмку каньи и выпил залпом, поглядев на дона Креспо, который, водрузив на кончик носа очки, с недоверием углублялся в предисловие к трагедии. Проигравшись в пух и прах, выложив восемьдесят сентаво, Оливейра сел рядом и тоже выпил рюмку.
— Мир полон невероятных вещей, — тихо сказал Травелер. — Тут назревает битва при Акциуме, если у старика хватит терпения дойти до этого места. А рядом две ненормальные, разделив пятнадцать фасолин пополам, бьются за одну оставшуюся.
— Занятие не хуже любого другого, — сказал Оливейра. — Вдумайся в это слово. Быть занятым, иметь занятие. У меня мороз по коже, че. Заметь при этом, не ударяясь в метафизику, что мои занятия в цирке — чистая туфта. Я зарабатываю свои песо, не делая ничего.
— Подожди, вот будем выступать в Сан-Исидро, будет потяжелее. В Вилья-дель-Парке у нас все проблемы решены, даже денежные, что особенно беспокоит директора. А сейчас надо будет начинать все с новыми людьми, и у тебя появится больше занятий, если тебе уж так нравится это слово.
— Да ты что! Какая подстава, че, я и в самом деле все как-то спустил на тормозах. Значит, теперь придется работать?
— Только поначалу, потом все войдет в свою колею. Но скажи мне, приятель, ты что, совсем не работал, пока был в Европе?
— Необходимый минимум, — сказал Оливейра. — Был подпольным бухгалтером. У старика Труя, типичный персонаж Селина. Я бы тебе как-нибудь рассказал, если б оно того стоило, но оно того не стоит.
— Я бы с удовольствием послушал.
— Знаешь, все как-то повисает в воздухе. Что бы я тебе ни рассказал, будет похоже на часть рисунка ковра. Нет связующего начала, когда, скажем, рраз — и все встает на свои места, и появляется прозрачный кристалл, сверкая всеми своими гранями. Плохо то, — сказал Оливейра, разглядывая ногти, — что, наверное, все уже само собой связалось, а я этого не понял, я остался за бортом, как те старики, которым говоришь о кибернетике, а они тихо кивают, думая при этом, что пора бы, пожалуй, поесть вермишелевого супу.
Кенарь Сто-Песо выдал такую оглушительную трель, какой раньше никто от него не слыхал.
— Знаешь что, — сказал Травелер, — мне иногда кажется, что тебе не надо было возвращаться.
— Тебе только кажется, — сказал Оливейра. — А я с этим живу. Может, по сути, это одно и то же, но не будем так запросто падать в обморок. Что нас с тобой убивает, так это стыдливость, че. Мы разгуливаем по дому в чем мать родила, к возмущению некоторых сеньор, но чтоб поговорить… Понимаешь, иной раз, мне кажется, я бы мог сказать тебе… Не знаю, может, наступит момент, и слова найдутся и сослужат нам службу. Но поскольку это слова не для обычной жизни, не для мате в патио, не для беседы как по маслу, то всегда отступаешь, и как раз лучшему другу рассказать об этом труднее всего. Тебе никогда не приходилось доверяться первому встречному?
— Может, и приходилось, — сказал Травелер, настраивая гитару. — Непонятно только, для чего тогда друзья, при таких принципах.
— Для того, чтобы быть рядом, и тот, кто тебе это говорит, один из них.
— Как знаешь. Но в конце концов мы перестанем понимать друг друга так, как понимали в старые времена.
— Во имя старых времен свершается множество подлостей во времена нынешние, — сказал Оливейра. — Видишь ли, Маноло, ты говоришь о взаимопонимании, но в глубине души отдаешь себе отчет в том, что я тоже хочу, чтоб ты меня понял, и что ты означает больше, чем просто ты. Самое неприятное в том, что понимание — это совсем другое. Когда друзья понимают друг друга, когда любовники понимают друг друга, когда в семье понимают друг друга, мы называем это гармонией. Чистый обман, зеркало для жаворонков. Я иногда думаю, что между двумя людьми, которые бьют друг другу морду, больше понимания, чем между теми, кто смотрит на них со стороны. И потому… Че, по-моему, я и в самом деле мог бы сотрудничать в воскресных выпусках газеты «Насьон».
— Так хорошо сказал, — сказал Травелер, пробуя первую струну, — но в конце на тебя напал приступ стыдливости, о которой ты говорил раньше. Ты мне напомнил сеньору де Гутуссо, она считает, что в любом разговоре должна упомянуть о геморрое своего мужа.
— Этот Октавий Цезарь тут такое пишет, — проворчал дон Креспо, глядя на них поверх очков. — Например, что Марк Антоний ел какое-то странное мясо, когда был в Альпах. О чем это он? О козленке, я думаю.
— Скорее о ком-то двуногом, беспёром,[520] — сказал Травелер.
— В этой книге, если кто не сумасшедший, так близко к тому, — уважительно сказал дон Креспо. — А что проделывала Клеопатра, это надо видеть.
— Царицы вообще такие сложные, — сказала сеньора де Гутуссо. — Эта Клеопатра ни одного мужика не пропускала, в кино показывали. Конечно, времена были другие, религии не было.
— Метла, — сказала Талита и забрала шесть карт сразу.
— Вам везет…
— В конце я все равно проигрываю. Ману, у меня монетки кончились.
— Разменяй у дона Креспо, он уже, наверное, добрался до времен фараонов и рассчитается с тобой золотыми слитками. Знаешь, Орасио, все, что ты говоришь о гармонии…
— Иными словами, — сказал Оливейра, — если ты настаиваешь, чтобы я вывернул на стол карманы до последней соринки…
— Обойдемся без выворачивания карманов. Но дело обстоит так, что ты спокойно смотришь, как другие невольно начинают лезть на рожон. Ты ищешь то, что называешь гармонией, но ищешь там, где, как ты сам говорил, ее нету, — среди друзей, в семье, в городе. Почему ты ищешь ее внутри социальных ячеек?
— Не знаю, че. Да и не ищу я ее. Все происходит как-то само собой.
— С тобой что-то там происходит, а другие из-за этого плохо спят?
— Я тоже плохо сплю.
— Вот зачем, к примеру, ты сошелся с Хекрептен? Зачем приходишь ко мне? Разве не Хекрептен и не мы нарушаем тебе гармонию?
— Она хочет выпить настойку мандрагоры! — вскричал пораженный дон Креспо.
— Настойку чего? — сказала сеньора де Гутуссо.
— Мандрагоры! Она приказала рабыне принести ей мандрагору. Говорит, хочет уснуть. Да она совсем с ума сошла!
— Могла бы принять бромурал, — сказала сеньора де Гутуссо. — Конечно, в те времена…
— Ты совершенно прав, старичок, — сказал Оливейра, наполняя стаканы. — Единственная оговорка, которую ты допустил, — ты придаешь Хекрептен слишком большое значение.
— А мы?
— Вы, че, возможно, и есть то связующее начало, о котором мы с тобой говорили раньше. Я пришел к мысли, что наши отношения похожи на химическую реакцию, они развиваются вне нас. Что-то вроде рисунка, который возникает сам по себе. Ведь это ты пришел меня встречать, не забывай.
— А почему нет? Я и предположить не мог, что ты явишься с такой хворобой, что ты настолько переменился, что мне иной раз тоже хочется стать другим… Но не в этом дело, совсем не в этом. В общем, сам не живешь и другим не даешь.
Гитара, будто сама по себе, наигрывала сьелито.[521]
— Тебе достаточно щелкнуть пальцами, — едва слышно сказал Оливейра, — и вы меня больше не увидите. Будет несправедливо, если по моей вине вы с Талитой…
— Талиту оставим в стороне.
— Нет, — сказал Оливейра. — И не подумаю оставлять ее в стороне. Талита, ты и я — это типичный трисмегистов треугольник.[522] Повторяю: малейший знак с твоей стороны — и я сваливаю. Не думай, что я не вижу, как ты обеспокоен.
— Если ты свалишь сейчас, вряд ли это что-то тебе даст.
— Бог ты мой, да почему же нет? Вам я тут ни к чему.
Травелер сыграл вступление к «Крутым парням»[523] и остановился. Было уже совсем темно, и дон Креспо включил свет в патио, чтобы можно было читать.
— Знаешь, — тихо сказал Травелер, — в любом случае когда-нибудь ты съедешь отсюда и потому незачем мне делать тебе какие-то знаки. Пусть я буду плохо спать по ночам, тебе, видимо, Талита сказала, но в глубине души я не жалею, что ты вернулся. Наверное, потому, что мне тебя не хватало.
— Как хочешь, старик. Раз так, лучше все оставить как есть. Мне и так неплохо.
— Разговор двух идиотов, — сказал Травелер.
— Ну чисто два монголоида, — сказал Оливейра.
— Хочешь что-то объяснить, а выходит только хуже.
— Объяснение — это приукрашенное недоразумение, — сказал Оливейра. — Запиши.
— Да, давай лучше поговорим о чем-нибудь другом, например о том, что происходит в партии радикалов. Вот только ты… Карусель какая-то получается, крутимся вокруг одного и того же, белая лошадка, потом красная, снова белая. Мы с тобой поэты, брат ты мой.
— Пророки недоделанные, — сказал Оливейра, наполняя стаканы. — Люди, которые плохо спят и встают по ночам подышать у окна свежим воздухом, так-то.
— Так ты меня видел этой ночью.
— Ни в коем разе. Сначала Хекрептен навалилась, пришлось уступить. Немножко, не более того, но в конце концов… А потом заснул как убитый, я уж и забыл, когда так спал. А почему ты спрашиваешь?
— Просто так, — сказал Травелер, проведя рукой по струнам. Позвенев выигранными монетками, сеньора де Гутуссо придвинула стул и попросила Травелера спеть.
— Тут какой-то Энобарбо говорит, что ночная сырость ядовита, — сообщил дон Креспо. — В этой книге все какие-то тронутые, посреди сражения начинают говорить о вещах, которые не имеют никакого отношения к делу.
— Так и быть, — сказал Травелер, — доставим сеньоре удовольствие, если дон Креспо не возражает. «Крутые парни», танго что надо, автор Хуан де Диос Филиберто. Да, дружище, напомни мне, чтобы я прочитал тебе исповедь Ивонны Гитри, это что-то потрясающее. Талита, принеси сборник Гарделя. Он на тумбочке, там, где ему и положено быть.
— Заодно вернете его мне, — сказала сеньора де Гутуссо. — Ничего страшного, но я люблю, чтоб книги всегда были под рукой. И мой муж такой же, уверяю вас.
(-47)
47
Это я, а теперь он. Теперь мы оба, а вот я, сначала я, и я буду отстаивать свое «я» до последнего. Аталия, это я. Мое ego. Я. Аргентинка с дипломом, с маникюром, довольно хорошенькая, большие темные глаза, я. Аталия Доноси, я. Я. Я-я, тонкая ленточка наматывается на катушку. Смешно.
Ману, вот ненормальный, это же надо, пойти в «Каса Америка» и развлечения ради купить эту штуку. Rewind.[524] Ну и голос, это же не мой голос. Фальшивый и напряженный: «Это я, а теперь он. Теперь мы оба, а вот я, сначала я, и я буду отстаивать… STOP. Аппарат превосходный, но не годится для того, чтобы думать вслух, а может, надо просто привыкнуть, Ману собирается записать свой знаменитый радиоспектакль обо всех этих добропорядочных матронах, но ничего он не запишет. Волшебный глазок и в самом деле волшебный, зеленый огонек подмигивает, прищуривается, на меня смотрит одноглазый кот. Лучше прикрыть его картонкой. REWIND. Лента бежит так ровно, так гладко. VOLUME.[525] Поставим на пять или на пять с половиной: „Волшебный глазок и в самом деле волшебный, зеленый огонек подми…“ Но поистине волшебно, когда мой голос говорит: „Волшебный глазок играет в прятки, красный огонек…“ Слишком громко отдается, надо поставить микрофон поближе и убавить звук. Это я, а теперь он. На самом деле я всего лишь пародия на персонаж Фолкнера. Видимость благополучия. Он диктует на магнитофон или у него виски вместо магнитофонной ленты? А как надо говорить — записывающее устройство или магнитофон? Орасио говорит „магнитофон“, он удивился, увидев эту штуку, и говорит: „Ну и магнитофон, парень“. В инструкции написано „записывающее устройство“, в „Каса Америка“-то должны знать. Тайна: Почему Ману решительно все, вплоть до ботинок, покупает в „Каса Америка“? Навязчивая идея, психоз. REWIND. А это ничего получилось: „…Фолкнера. Видимость благополучия“. STOP. Совершенно неинтересно слушать меня снова. И за всем за этим проходит время, время, время. И за всем за этим проходит время. REWIND. Посмотрим, может, теперь голос звучит естественнее: „…мя, время, время. За всем за этим про-хо…“ То же самое, голос простуженной карлицы. О да, я умею с ним обращаться, Ману удивится, он не верит, что я могу ладить с техникой. На меня, какого-то там фармацевта, Орасио и внимания не обращает, для него человек все равно что пюре, которое протирают сквозь сито, нажал, раз — и оно в тарелке, садись и ешь. Rewind? Нет, давай-ка еще, давай-ка погасим свет. Поговорим о себе в третьем лице, может… И вот Талита Доноси гасит свет, и остается только волшебный глазок с красным огоньком (иногда он бывает зеленый, а иногда фиолетовый) да огонек сигареты. Жара, Ману все еще не вернулся из Сан-Исидро, половина двенадцатого. А там, у окна, Хекрептен, я ее не вижу, но это неважно, она у окна, в ночной рубашке, а Орасио за своим столиком, читает и курит при свече. Комната Орасио и Хекрептен меньше похожа на гостиницу, чем эта. Какая я дура, там же гостиница и есть, даже у тараканов проставлен на спине номер комнаты, да еще приходится терпеть соседство дона Бунче с его туберкулезниками по двадцать песо за консультацию, с хромоногими и эпилептиками. А внизу подпольный бордель, и служанка поет танго, ужасно фальшивя. REWIND. Хватит, перемотка займет по меньшей мере полминуты. Все равно что повернуть время вспять, Ману с удовольствием бы поговорил на эту тему. Громкость пять: „…проставлен на спине номер комнаты…“ Еще назад. REWIND. Вот: „…Орасио за своим столиком, при зеленой свече…“ STOP. Столиком, столиком. Наверное, не к чему говорить „столик“, если ты фармацевт. Нежности какие. Столик! Сюсюканье дурного вкуса. Ладно, Талита. Хватит глупостей. REWIND. Все, уж и лента чуть было не выскочила, недостаток этой машины в том, что надо очень внимательно следить, если лента выскочит, теряешь полминуты на то, чтобы ее снова закрепить. STOP. Как раз два сантиметра осталось. А что я говорила вначале? Уже не помню, но голос был как у перепуганной мыши, всем известный страх микрофона. Посмотрим, громкость пять с половиной, чтобы было хорошо слышно. „Это я, а теперь он. Теперь мы оба, а вот я, снача…“ И зачем надо было все это говорить? Это я, это он, а потом говорить про столик, а потом злиться. „Это я, а теперь он. Это я, а теперь он“».
Талита выключила магнитофон, закрыла крышку, посмотрела на него с глубоким отвращением и налила себе лимонаду. Ей не хотелось думать об этой истории с больницей (директор называл ее «психическая клиника», что было полной бессмыслицей), но если не думать о больнице (не говоря уже о том, что не думать она только хотела, а на самом деле она не могла не думать), тогда на ум немедленно приходило другое, тоже не слишком приятное. Она думала о Ману и об Орасио сразу, и о своем сходстве со стрелкой весов, о чем у них с Орасио состоялась весьма памятная беседа в конторе цирка. Ощущение, что в ней кто-то поселился, сделалось сильнее, мысль о больнице вызывала по меньшей мере чувство страха, неизвестности, она представляла себе небритых буйнопомешанных в смирительных рубашках, которые гоняются друг за другом, размахивая навахой, или кидаются табуретками и ножками от кровати, блюют на температурные листы и регулярно мастурбируют. Забавно будет видеть Ману и Орасио в белых халатах, ухаживающих за больными. «Мне тоже найдется что делать, — скромно подумала Талита. — Директор наверняка поручит мне больничную аптеку, если там есть аптека. А может, пункт первой помощи. Ману, как всегда, будет подшучивать надо мной». Надо бы вспомнить о стольких вещах, все так быстро забывается, время будто все потихоньку стирает наждаком, ежедневную битву этого лета, порт и жару, Орасио, спускающегося по трапу с малоприветливым выражением на лице, и то, как он грубо обошелся с ней, пошла, мол, прочь вместе со своим котом, садись на трамвай и уезжай, нам поговорить надо. А потом началось время, похожее на заброшенный пустырь, где валяются мятые консервные банки, кривые гвозди, о которые можно поранить ногу, где на каждом шагу грязные лужи, а к колючкам чертополоха прицепились какие-то тряпки, вечерний цирк с Орасио и Ману, которые смотрят на нее или друг на друга, кот, который каждый раз то будто глупеет, а то становится гениальным и решает задачки на глазах у восторженной публики, прогулки пешком с заходами в пивные, чтобы Орасио и Ману выпили пива, и разговоры, разговоры ни о чем, она слушает их сквозь жару, дым и усталость. Я — это я, я — это он, — сказала она, не думая о том, что говорит, а значит, это важнее, чем если бы она подумала, потому что это пришло оттуда, где слова похожи на сумасшедших из клиники, нелепые существа, пугающие и несуразные, которые живут своей отдельной от других жизнью и вдруг начинают ни с того ни с сего подпрыгивать, и никому их тогда не унять: Я — это я, я — это он, но он — это не Ману, он — это Орасио, поселившийся в них, тайком напавший на них, тень внутри тени, окутавшей ночную комнату, огонек сигареты, медленно рисующий во мраке бессонные фигуры.
Когда Талите было страшно, она вставала и шла заваривать себе чай из липы и мяты fifty-fifty.[526] Она сделала себе чай, очень надеясь, что ключ Ману вот-вот повернется в замочной скважине. У Ману тогда слетели с языка слова: «Ты для Орасио ничего не значишь». Это было обидно, зато успокаивало. Ману сказал, хотя он и набросил на тебя веревку (да не говорил он этого, даже и намека не было), одна ложка липы одно ложка мяты вода должна быть горячей, кипяток, стоп даже тогда она ничего для него не значила. Но тогда. Если она для него ничего не значит, зачем все время торчать в глубине комнаты, курить или читать, быть (Я — это я, я — это он), как будто она ему все-таки нужна, да, именно так, зачем-то все-таки нужна, нависать над ней издалека и вытягивать из нее душу, словно добиваясь чего-то, словно для того, чтобы что-то получше увидеть или самому стать лучше. Тогда не так: я — это я, я — это он. Тогда все наоборот, я — это он, потому что я — это я. Талита вздохнула, все-таки некоторое удовлетворение этот аргумент ей принес, и чай получился вкусный.
Но дело не только в этом, если так, то все было бы слишком просто. Не может быть (для чего-то ведь существует логика), что она интересует Орасио и одновременно не интересует. Из комбинации этих двух вещей должна получиться третья, нечто не имеющее никакого отношения к любви, например (это так глупо, думать о любви, когда любовь — это только Ману, только Ману до скончания века) нечто сродни охоте, поиску или какому-то ужасному выжиданию, вот как кот смотрит на кенаря, до которого ему не добраться, как будто время застыло, день остановился, игра в кошки-мышки. Полтора кусочка сахару, а все равно пахнет луговыми травами. Кошки-мышки без всяких объяснений касательно э-той-сто-ро-ны-де-ла, или до тех пор, пока Орасио не удостоит ее разговора, или уедет, или пустит себе пулю в лоб, любое объяснение или хоть какой-то материал, на основании которого можно это объяснение вообразить. А то сидит тут, потягивая мате, и смотрит на них, и Ману тоже должен пить мате и смотреть на него, и все трое будто вытанцовывают бесконечную медленную фигуру. «Мне бы, — подумала Талита, — только романы писать, такие замечательные мысли приходят в голову». Она чувствовала себя такой подавленной, что снова включила магнитофон и пела песни до тех пор, пока не приехал Травелер. Оба решили, что голос Талиты звучал не слишком хорошо, и Травелер продемонстрировал ей, как надо петь багуалу. Они поставили магнитофон на подоконник, чтобы Хекрептен могла беспристрастно оценить его пение и, может быть, Орасио тоже, если он дома, но его не было. Хекрептен нашла, что все замечательно, и они решили поужинать вместе, так что к холодному мясу, которое было у Талиты, они, по инициативе Травелера, присоединили овощной салат, который должна была сделать и принести Хекрептен. Талите идея очень понравилась, во всем этом было что-то от покрывала или колпака для чайника, в общем когда что-то прикрывают, или вот как магнитофон и довольный вид Травелера, — словом, что-то решенное и готовое, сверху можно чем-нибудь прикрыть, но что прикрыть, вот в чем вопрос, а в глубине души было понимание того, что все осталось как было до чая из липы и мяты fifty-fifty.
(-110)
48
У склона Холма — хотя у этого Холма и склона-то не было, он начинался как-то сразу, и непонятно было, ты уже на Холме или нет, так что лучше сказать, у самого подножия Холма, — в квартале низеньких домиков и крикливых мальчишек, расспросы ни к чему не привели, все разбивалось о любезные улыбки женщин, которые и хотели бы помочь, да сами ничего не знали, люди переезжают, сеньор, здесь все так переменилось, может, вам лучше в полицию обратиться, может, они скажут. Он не мог оставаться дольше, корабль должен был скоро отправляться, и, хотя он заранее знал, что все потеряно, его вела какая-то смутная надежда, как надеются на выигрыш в лотерею или прислушиваются к предсказаниям астрологов. Он сел на трамвай, доехал до порта и провалялся на койке до обеда.
В ту же ночь, было около двух часов, он снова впервые увидел ее. Было жарко, и в огромной каюте, где храпели и потели более сотни иммигрантов, было еще хуже, чем среди смотанных канатов, под открытым небом, опрокинувшимся в реку, а влажность на рейде всегда такая, что одежда прилипает к телу. Оливейра сидел у переборки и курил, разглядывая редкие невзрачные звезды, проглядывающие сквозь тучи. Мага появилась из-за вентилятора, она несла что-то в руке, волоча по полу, почти тут же повернулась к нему спиной и направилась к одному из люков. Оливейра не последовал за ней, он слишком хорошо знал, что увидит ее еще не раз и что теперь она будет преследовать его. Он подумал, что это, наверное, какая-нибудь фифочка из каюты первого класса, которые иногда спускаются на замурзанную палубу, страстно желая поближе познакомиться с жизнью, что-то в этом роде. Она была очень похожа на Магу, это совершенно очевидно, но еще очевиднее, что остальное он додумал сам, и, когда сердце у него перестало бешено колотиться, он закурил следующую сигарету и попытался взять себя в руки, неизлечимый кретин.
То, что ему показалось, будто он увидел Магу, это еще не самое страшное; он был уверен, неуправляемое желание может вытащить ее из того, что обычно называют подсознанием, и спроецировать на силуэт любой женщины на борту корабля. До этого момента он думал, что мог позволить себе роскошь с грустью вспоминать о некоторых вещах, вызывать их в памяти когда захочется и в соответствующих для подобных историй обстоятельствах, заканчивая это занятие так же спокойно, как гасят окурок сигареты. Когда Травелер в порту познакомил его с Талитой, такой смешной с этим ее котом в корзинке, а выражение лица то приветливое, то похожее на Алиду Валли,[527] он почувствовал, что некое отдаленное сходство вдруг сгустилось до полного и абсолютного, чего быть не могло, как если бы его память, которая на первый взгляд всегда была на его стороне, вдруг вытащила призрак, способный переселиться в другое тело, другие глаза, взгляд которых, как он думал, уже навсегда принадлежал воспоминаниям.
В последние недели, целиком заполненные невыносимой самоотверженностью Хекрептен и обучением трудному искусству продавать отрезы ткани, переходя от одной двери к другой, у него все-таки оставалось достаточно времени, чтобы выпить не одну кружку пива и посидеть на скамейке на площади, препарируя эпизод за эпизодом. Внешне казалось, что расспросы у Холма он предпринял лишь для очистки совести: найти, попытаться объясниться, и прощай навсегда. Мужчинам свойственно всегда ставить точки над i, не оставляя никаких хвостов. Теперь он понял (тень, появившаяся из-за вентилятора, женщина с котом), что он ходил к Холму совсем не за этим. Психоанализ его раздражал, но, как ни крути, не за этим он туда ходил. Он словно летел в колодец, который был внутри него самого. Посреди площади Конгресса он вдруг с иронией спрашивал себя: «И это ты называешь поисками? Ты считаешь, что ты от этого освободился? Как там было у Гераклита? Ну-ка посмотрим, повтори на память все степени свободы, вот смеху-то будет. Ты же сам себя загнал в ловушку, братец». Ему бы, пожалуй, понравилось, если бы он понял, что непоправимо унижен своим открытием, но его беспокоило смутное ощущение удовлетворения где-то в области желудка, физиологическая реакция довольства у организма, который насмехается над метаниями и терзаниями духа, ощущение, которое, словно кот, сворачивается клубком между ребер, в животе и в ступнях. Самое плохое то, что в глубине души ему это ощущение нравилось — никогда не возвращаться, всегда быть в дороге, пусть даже неизвестно куда. А над всем этим его сжигало похожее на отчаяние ясного понимания что-то такое, что стремилось обрести плоть и кровь, однако это растительное удовольствие флегматично отбрасывало это что-то, держа его на расстоянии. Порой Оливейра как бы со стороны наблюдал за этим несоответствием, не желая принимать в нем участия, делая вид, что он тут ни при чем. Так и шло, цирк, потягивание мате в патио у дона Креспо, танго Травелера, и во всех этих зеркалах Оливейра краешком глаза видел себя. Он даже сделал некоторые наброски в тетради, которую Хекрептен любовно берегла в ящике комода, не осмеливаясь прочитать. Постепенно он пришел к выводу, что поездка к Холму была проделана не зря, уже хотя бы потому, что заставила его переменить какие-то суждения, на которых он основывался до этого. Понять, что он влюблен в Магу, — это не поражение и не одержимость прошлым; любовь, которая может обходиться без своего объекта, которая питается ничем, быть может, даст ему силы для другого, определит их и переплавит в стремление разрушить наконец это животное удовольствие тела, раздувшегося от пива и жареной картошки. Слова, которыми он заполнял тетрадь, потрясая в воздухе кулаком под собственный оглушительный свист, порой вызывали у него безумный смех. В результате Травелер высовывался в окно и просил его помолчать хоть немного. Иногда Оливейра обретал душевный покой за какой-нибудь домашней работой, например выпрямляя гвозди или распутывая волокна агавы, чтобы сплести потом из них и прикрепить к абажуру лампы изящное макраме, которое Хекрептен назвала элегантным. Может быть, любовь обогатит его в каком-то другом, более высоком смысле, может быть, она — даритель бытия; значит, только упустив ее, можно избежать эффекта бумеранга, дать ей исчезнуть, чтобы забыть ее, и попытаться удержаться, снова одному, на этой новой ступеньке действительности, где воздух разрежен и дуют ветры. Убить объект любви, древнее намерение мужчины, плата за то, чтобы не останавливаться на очередной ступеньке, так что мольба Фауста остановить мгновение не имеет никакого смысла, если только его самого не покинут, как забывают на столе пустой стакан. И так далее в том же роде, и горький мате.
А было бы так легко выстроить какую-нибудь последовательную схему, упорядочить мысли и жизнь, добиться гармонии. Достаточно его всегдашнего лицемерия, чтобы возвысить прошлое до уровня опыта и только выиграть от новых морщин на лице, это вполне отвечает его привычке сохранять вид человека знающего жизнь, с которым он прожил более сорока лет, улыбался он при этом или молчал. Так что можешь надеть темно-синий костюм, причесать седеющие виски и ходить на выставки живописи, посещать «Сад» или «Ричмонд», примирившись со всем белым светом. Сдержанный скептицизм, вид человека, вернувшегося издалека, постепенное вхождение в зрелость, в брак, в отеческие наставления за ужином, в просматривание дневника с неважными отметками. Я тебе говорю, потому что я достаточно пожил на свете. И повидал мир. Когда был молодым. Они все одинаковые, уверяю тебя. Я тебе говорю, потому что у меня есть жизненный опыт, сын мой. А ты жизни не знаешь.
И все это такое смешное и обыденное, в каком-то смысле еще не худший вариант, размышлению всегда грозит idola fori,[528] слова неверно передают то, что подсказывает интуиция, окаменевшие понятия всегда слишком просты, наступает усталость, и в конце концов ты вытягиваешь из жилетного кармана белый платок как знак капитуляции. Могло случиться так, что предательство привело бы к абсолютному одиночеству, без свидетелей и сообщников: ты наедине с собой, и тебе кажется, что ты бесконечно далек от личных компромиссов и того, что называется драмой чувств, от бесконечной пытки быть связанным общепринятыми правилами твоего племени, или твоего народа, или твоего языка. Обретя видимость полной свободы, не будучи никому и ничем обязанным, выйти из игры, уйти с перекрестка и пуститься по любой дороге, предложенной обстоятельствами, посчитав ее необходимой и единственной. Мага была одной из таких дорог, литература другой (немедленно сжечь тетрадь, даже если Хекрептен будет за-ла-мы-вать руки), уход от какой-либо деятельности — третьей, а размышления над тарелкой с прекрасным куском баранины — четвертой. Остановившись перед пиццерией на улице Коррьентес, дом тысяча триста, Оливейра задавал себе глобальные вопросы: «Значит, так и оставаться, как втулка колеса, посреди перекрестка? Тогда зачем знать или думать, что знаешь, будто любая дорога не та, если мы пускаемся в путь с единственным намерением — быть в пути? Мы же не Будда, че, и тут нет деревьев, под которыми можно усесться в позе лотоса. Тут же подойдет полицейский и выпишет тебе штраф».
С единственным намерением — быть в пути. От всей этой словесной шушеры (что за буква эта «ш», без нее не было бы «шебуршиться, шлындрать, шмонать») только и осталось что этот неясный образ. Формула для медитации. Так что поездка к Холму, в результате всего, не была бессмысленной, поскольку Мага перестала быть утраченным объектом и превратилась в образ для возможной встречи — но уже не с ней, с кем-то, кто на этом или на том берегу; во имя нее, но не с ней —. И Ману, и цирк, и эта невероятная затея с психушкой, о которой они столько говорили в последние дни — все это могло иметь свое значение, потому что все экстраполировалось, неизбежно экстраполировалось в метафизическом времени, — до чего благозвучное слово и всегда наготове. Оливейра принялся за пиццу, обжигая себе десны, как всегда бывало, когда он набрасывался на еду, и почувствовал себя лучше. Сколько раз он проходил все тот же цикл, на скольких углах каких-то улиц, в скольких кафе стольких городов сколько раз приходил к тем же выводам, чувствовал себя лучше, сколько раз ему казалось, что он сможет начать новую жизнь, например однажды вечером, когда его угораздило попасть на нелепый концерт, а потом… А потом был такой дождь, и незачем больше к этому возвращаться. Это как с Талитой, чем больше про это думаешь, тем хуже. Эта женщина и так уже начала страдать по его вине, ничего серьезного не случилось, просто он здесь, и у них с Травелером все идет не так, какие-то мелочи, которые казались закономерными и не брались в расчет, вдруг обострились, и то, что начиналось как солянка по-испански, могло закончиться как селедка а-ля Кьеркегор, чтобы не сказать хуже. День, когда была переброшена доска, все вернул на свои места, но Травелер упустил случай сказать ему то, что должен был сказать в тот же день, чтобы Оливейра исчез из их квартала и из их жизни, но он не только этого не сказал, он устроил его на работу в цирк, а это доказывает что. В этом случае сострадать было бы сплошным идиотизмом, такое уже однажды было: дождь, дождь. А Берт Трепа, она все так же играет на рояле?
(-111)
49
Талита и Травелер столько рассказывали обо всяких сумасшедших, знаменитых и безвестных, что Феррагуто решился-таки купить клинику, а цирк с котом и всем прочим уступить некоему Суаресу Мелиану. Им казалось, особенно Талите, что сменить цирк на больницу — это что-то вроде шага вперед, хотя особенных причин для подобного оптимизма Травелер не видел. Надеясь, что со временем им это станет яснее, они то и дело высовывались из окна или, стоя на пороге комнаты, возбужденно обменивались впечатлениями с сеньорой де Гутуссо, доном Бунче, доном Креспо и даже с Хекрептен, если та была поблизости. Плохо то, что как раз в те дни много говорилось о революции, о том, что Кампо-де-Майо вот-вот поднимет мятеж,[529] и людям это казалось более важным, чем приобретение клиники на улице Трельес. В конце концов Талита и Травелер решили получить хоть какое-то представление о новом деле с помощью учебника по психиатрии. Но они по-прежнему приходили в возбуждение от любой ерунды, и в утиный день, неизвестно почему, разгорались такие жаркие споры, что Сто-Песо просто бесновался в своей клетке, а дон Креспо при появлении в поле его зрения любого знакомого лица выразительно крутил пальцем у виска. В такие дни густые тучи перьев вылетали из кухонного окна, двери хлопали, в воздухе повисало скрытое и непримиримое противостояние, которое ослабевало только к обеду, и это был тот случай, когда утка съедалась вся, до последнего кусочка поджаристой кожицы.
Когда подходило время для кофе с рюмочкой «Марипосы» и наступало тихое умиротворение, их тянуло к серьезным книгам, и тогда они прочитывали немыслимое количество эзотерических журналов, а также к космологическим сокровищам, усвоение которых они считали для себя необходимым в преддверии новой жизни. О психах говорили много, так много, что оба, и Травелер и Оливейра, снизошли до того, что вытащили по пачке старых вырезок из газет и явили миру кое-что из своей коллекции любопытных фактов, которую они вместе начали в то время, когда набегами посещали некий ныне давно забытый факультет, и которую затем продолжали собирать, каждый по отдельности. Изучение этих документов помогало им скоротать послеобеденное время, а Талита завоевала себе право участвовать во всем этом благодаря нескольким номерам «Реновиго» (Революционная билингвистическая газета), мексиканское издание на «испамериканском» языке издательства «Люмен», в котором с потрясающим успехом сотрудничала целая куча сумасшедших. От Феррагуто новости поступали постольку-поскольку, так как цирк был уже практически в руках Суареса Мелиана, а клинику им вроде должны были передать где-то в середине марта. Раз или два Феррагуто появился в цирке — посмотреть считающего кота, разлука с которым, совершенно очевидно, давалась ему тяжело, и каждый раз он говорил о грядущей великой сделке и об ог-ром-ной-от-вет-ствен-нос-ти, которая им всем падет на плечи (вздох). В общем, уже было решено, что Талита будет заведовать аптекой, и бедняжка страшно нервничала, просматривая свои записи тех времен, когда она изучала всякие притирания. Оливейра и Травелер потешались над ней вовсю, но когда они пришли в цирк, то оба загрустили и смотрели на публику и на кота так, будто цирк стал для них непередаваемо чужим и далеким.
— Тут куда больше сумасшедших, — говорил Травелер. — Даже не сравнить, че.
Оливейра по-жи-мал-плечами, ему не хотелось говорить, что в глубине души он думает то же самое, и, глядя вверх, под купол, он снова пережевывал всякую малопонятную ерунду.
— Ты-то, конечно, поездил по свету, — ворчал Травелер. — Я тоже, но все больше здесь, по этому меридиану…
Он делал жест рукой, словно показывая приблизительные очертания местности, которую он объездил.
— Мои переезды, сам знаешь… — говорил Оливейра.
Тут они начинали давиться от смеха, и зрители недовольно поглядывали на них, зачем они отвлекают внимание.
В минуты откровенности все трое сходились на том, что уже совершенно созрели для новой работы. Например, такие вещи, как воскресный выпуск «Ла Насьон», вызывал у них печаль, сравнимую разве что с той, которую вызывали очереди в кино или за журналом «Ридер дайджест».
— Люди перестают общаться, — пророчествовал Травелер. — Кричать хочется.
— Вчера вечером полковник Флаппа крикнул, — ответила Талита. — И что в результате — осадное положение.
— Это был не крик, а предсмертный хрип. А я говорю о вещах, которыми грезил Иригойен, об исторических вехах, о предсказаниях авгуров, о надеждах рода человеческого, которым в этих местах сбыться не светит.
— Вы стали совершенно одинаково выражать свои мысли, что тот, что другой, — говорила Талита, встревоженно глядя на Травелера, но стараясь не выказывать своей озабоченности.
А другой продолжал ходить в цирк, помогая напоследок, чем мог, Суаресу Мелиану и время от времени удивляясь, как ему все это стало безразлично. У него было такое ощущение, что он отдал остатки своей маны[530] Талите и Травелеру, которые все больше воодушевлялись, думая о клинике; единственное, что ему действительно нравилось делать в те дни, — это играть с котом, умеющим считать, который страшно его полюбил и решал примеры, исключительно чтобы сделать ему приятное. Поскольку Феррагуто строго наказал выгуливать кота только в корзинке и только в ошейнике с опознавательной надписью, очень похожем на те, что употреблялись в битве при Окинаве,[531] Оливейра прекрасно понимал чувства кота, и, как только они удалялись от цирка квартала на два, он оставлял корзинку в какой-нибудь заслуживающей доверия лавочке, снимал с бедного животного ошейник и вдвоем они отправлялись на пустыри, где осматривали пустые консервные банки или жевали съестные припасы, занятие более предпочтительное. После таких антисанитарных вылазок Оливейра почти мог выносить дворовое сообщество под предводительством дона Креспо и нежности Хекрептен, которая была поглощена вязанием для него зимних вещей. В тот вечер, когда Феррагуто позвонил в пансион, чтобы уведомить Травелера о грядущем дне великой сделки, все трое совершенствовались в «испамериканском» языке, вычитывая особенно смешные фразы из очередного номера «Реновиго». Они чуть не впали в меланхолию, потому что клиника — вещь серьезная: наука, самоотверженность и всякое такое.
— Какая жись не есть трахедия? — прочитала Талита на прекрасном «испамериканском».
Они продолжали в том же духе, пока не пришла сеньора де Гутуссо и не принесла им последние новости касательно полковника Флаппы и его танков, наконец что-то реальное и конкретное, отчего все трое тут же покинули свои позиции, к изумлению носительницы новостей, опьяненной патриотическими чувствами.
(-118)
50
От остановки на улице Трельес до клиники было два шага, точнее, три квартала и еще чуть-чуть. Феррагуто и Кука уже беседовали с управляющим, когда пришли Талита и Травелер. Сделка века состоялась в зале на первом этаже, два окна которого выходили во внутренний двор с садиком, где гуляли пациенты и где из небольшого бетонного фонтана била струя воды. По дороге к этому залу Талите и Травелеру пришлось пройти множество коридоров и других помещений нижнего этажа, где дамы и господа вступали с ними в разговор на хорошем испанском языке, с тем чтобы им добровольно подарили пару-тройку сигарет. Пациент, который показывал им дорогу, видимо, считал такое поведение абсолютно нормальным, но обстоятельства не располагали к тому, чтобы тут же завязывать знакомство. У них почти не осталось сигарет, когда они добрались до зала великой сделки, где Феррагуто представил их управляющему в самом что ни на есть лучшем виде. Посреди чтения весьма запутанного документа появился Оливейра, и пришлось объяснять ему шепотом и на пальцах, что все идет как нельзя лучше и что никто ни хрена не понимает. Когда Талита шепотом объяснила ему вкратце, как они сюда добирались, тсс, тсс, Оливейра посмотрел на нее с удивлением, потому что он сразу попал в вестибюль, где была только одна дверь, вот эта. Что касается директора, то он был в строгом черном костюме.
Жара стояла такая, что даже радио звучало все глуше и глуше, поскольку дикторы через каждый час сначала объявляли сводку погоды, а потом повторяли официальные опровержения относительно мятежа в Кампо-де-Майо и жестких намерений полковника Флаппы. Управляющий прервал чтение документа в шесть часов без пяти минут и включил свой японский транзистор, для поддержания, как он подчеркнул, предварительно извинившись, контакта с событиями. Фраза, на которую Оливейра не замедлил ответить классическим жестом, будто бы он что-то забыл в вестибюле (в конце концов, подумал он, управляющий должен это принять как еще одну форму контакта с событиями), и, несмотря на то что Талита и Травелер метали в него молнии, он вышел из зала в ближайшую дверь, но не в ту, в которую вошел.
Из некоторых фраз документа он понял, что здание клиники состояло из нижнего этажа и еще четырех, кроме того, в глубине внутреннего двора с садом находился флигель. Лучше всего было бы пройтись по двору-саду, если он найдет дорогу, но с этим ничего не вышло, потому что не успел он пройти и пяти метров, как молодой человек в рубашке с короткими рукавами, улыбаясь, подошел к нему, взял его за руку и, раскачивая рукой, как это обычно делают дети, повел его по коридору, где было довольно много дверей и еще одна, похожая на дверь грузового лифта. Идея осмотреть клинику за руку с сумасшедшим показалась ему чрезвычайно заманчивой, и первое, что сделал Оливейра, — это достал сигареты для своего товарища, молодого человека с вполне осмысленным лицом, который принял сигарету, одобрительно присвистнув. Позже оказалось, что молодой человек — санитар и что Оливейра тоже вроде не болен, — в общем, обычное в подобных обстоятельствах недоразумение. Эпизод проходной и никаких выводов не предполагающий, но, гуляя с этажа на этаж, Оливейра и Реморино подружились, и топография клиники была показана, так сказать, изнутри, причем сдобренная анекдотами, язвительными выпадами в адрес остального персонала, однако и с настороженностью друг к другу. Они были в комнате, где доктор Овехеро держал подопытных кроликов и фотографию Моники Витти,[532] когда вбежал раскосый парень и сказал Реморино, что если сеньор, который с ним ходит, и есть сеньор Орасио Оливейра, то тогда… и так далее. Вздохнув, Оливейра спустился на два этажа и вернулся в зал, где свершалась сделка века и где чтение документа тащилось к концу, сопровождаемое климактерическими приливами Куки Феррагуто и непочтительной зевотой Травелера. Оливейра вдруг вспомнил о фигуре в розовой пижаме, которую он видел на повороте коридора третьего этажа, это был старый человек, который, что называется, пробирался по стенке и гладил голубя, которого якобы держал на ладони. В этот момент Кука Феррагуто издала звук, похожий на мычание.
— Что значит — должны подписать о’кей?
— Помолчи, дорогая, — сказал директор. — Сеньор хочет сказать…
— Это и так понятно, — сказала Талита, которая всегда находила общий язык с Кукой и была готова ее поддержать. — Сделка должна быть подтверждена согласием больных.
— Но это же безумие, — сказала Кука ad hoc.[533]
— Видите ли, сеньора, — сказал управляющий, одергивая жилет свободной рукой. — Пациенты здесь особенные, и закон Мендеса Дельфино[534] в данном случае соблюдается неукоснительно. За исключением восьми — десяти человек, чьи семьи уже дали согласие, остальные пациенты всю жизнь кочуют из одного дурдома в другой, прошу прощения за этот термин, и никто за них ответственности не несет. В этом случае закон уполномочивает управляющего, в момент просветления сознания у этих подопечных, проконсультироваться у них, согласны ли они с тем, что клиника переходит к другому владельцу. Вот здесь отмечены соответствующие параграфы, — добавил он, показывая на книгу в красном переплете, из которой торчали закладки в том месте, где был пятый раздел. — Прочтите их, и дело с концом.
— Мне и так все ясно, — сказал Феррагуто, — с этой заморочкой нужно незамедлительно покончить.
— А для чего, вы думаете, я вас созвал? Вас в качестве владельцев, а этих сеньоров в качестве свидетелей: давайте позовем больных и решим все сегодня же.
— Вопрос в том, — сказал Травелер, — что иметь в виду под просветлением сознания.
Управляющий посмотрел на него с жалостью и нажал кнопку звонка. Вошел Реморино в бобочке, подмигнул Оливейре и положил на стол огромный список. Поставил перед столом стул и скрестил руки на груди, как персидский палач. Феррагуто, который бросился изучать список с понимающим видом, спросил, надо ли ставить «о’кей» в конце списка, и управляющий сказал, что да, сейчас они будут вызывать больных в алфавитном порядке и просить их оставить свой автограф под великой сделкой синей шариковой ручкой «бироме». Несмотря на все эти деловые приготовления, Травелер не унимался и продолжал настойчивые расспросы, вдруг кто-нибудь из больных откажется подписать или выкинет что-нибудь неожиданное. И хотя Кука и Феррагуто не решились поддержать его вслух, они-по-ду-ма-ли-о-том-же-са-мом.
(-119)
51
И тут как раз появился Реморино, сопровождавший довольно перепуганного на вид старичка, который, узнав управляющего, в качестве приветствия сделал что-то похожее на реверанс.
— В пижаме! — воскликнула потрясенная Кука.
— Ты же их видела, когда мы сюда шли, — сказал Феррагуто.
— Но они были не в пижамах. Это скорее было что-то вроде…
— Соблюдайте тишину, — сказал управляющий. — Подойдите, Антунес, и поставьте свою подпись там, где вам покажет Реморино.
Старичок внимательно просмотрел список, пока Реморино держал наготове «бироме». Феррагуто достал носовой платок и несколько раз приложил его ко лбу.
— Это на восьмой странице, — сказал Антунес, — а я, как мне кажется, должен подписывать на первой.
— Вот здесь, — сказал Реморино, показывая на список. — Давайте, давайте, а то кофе с молоком остынет.
Антунес поставил элегантную подпись, сделал всем приветственный жест и удалился изящными шажками, чем совершенно очаровал Талиту. Вторая пижама оказалась гораздо толще, и, проплыв вокруг стола, ее владелец подал руку управляющему, который неохотно пожал ее и сухо указал на список:
— Вы уже в курсе дела, так что подпишите и возвращайтесь к себе.
— Мою комнату не подметали, — сказал толстая пижама.
Кука отметила про себя, что санитария в больнице не на уровне. Реморино попытался вложить «бироме» в руку толстой пижамы, но тот медленно попятился.
— У вас сейчас же подметут, — сказал Реморино. — Подпишите, дон Никанор.
— Никогда, — ответил толстая пижама. — Это ловушка.
— Ну что за ерунда, какая ловушка, — сказал управляющий. — Доктор Овехеро уже объяснил вам, о чем идет речь. Вы подписываете, и с завтрашнего дня двойная порция сладкого риса с молоком.
— Я не подпишу, если дон Антунес не согласен, — сказал толстая пижама.
— Он как раз только что расписался перед вами. Взгляните.
— Подпись какая-то неразборчивая. Это подпись не дона Антунеса. Вы вынудили его подписаться под пыткой электрошоком. Вы убили дона Антунеса.
— Сходи за ним и приведи его сюда, — приказал управляющий Реморино, который мигом исчез и тут же привел дона Антунеса. Толстая пижама издал ликующий возглас и протянул руку старичку.
— Скажите ему, что вы согласны и чтобы он подписал без всяких опасений, — сказал управляющий. — Давайте, а то поздно уже.
— Подпишись, не опасаясь, сын мой, — сказал дон Антунес толстой пижаме. — Так или иначе, все равно получишь по башке.
Толстая пижама выронил ручку. Реморино, ворча, поднял ее, а управляющий в бешенстве вскочил на ноги. Прячась за спиной Антунеса, толстяк дрожал всем телом и крутил рукава пижамы. Кто-то стукнул в дверь, и, прежде чем Реморино успел ее открыть, в зал вошла сеньора в розовом кимоно, молча подошла прямо к столу и оглядела его со всех сторон, как будто это был приготовленный со специями поросенок на блюде. Потом она выпрямилась с довольным видом и положила на список ладонь.
— Клянусь, — сказала сеньора, — говорить правду, только правду и ничего кроме, правды. А вы, дон Никанор, не дадите мне соврать.
Толстая пижама утвердительно кивнул и вдруг взял из рук Реморино ручку «бироме», которую тот ему протягивал, и поставил свою подпись где попало, так что никто и моргнуть не успел.
— Вот скотина, — послышался шепот управляющего. — Посмотри, Реморино, где он расписался. Ладно, сойдет. А теперь вы, сеньора Швитт, раз уж вы пришли. Покажи ей, где надо расписаться, Реморино.
— Если социальная обстановка не улучшится, я ничего не подпишу, — сказала сеньора Швитт. — Необходимо открыть все двери и окна навстречу духовности.
— Я хочу, чтобы у меня в комнате было два окна, — сказал толстая пижама. — А дон Антунес хочет пойти во Франко-английский магазин купить ваты и еще что-то. Здесь так темно.
Оливейра чуть повернул голову и увидел, что Талита смотрит на него и улыбается. Каждый из них знал, что думает другой: что все это идиотская комедия, что толстая пижама и остальные такие же сумасшедшие, как они сами. Плохие актеры, которые даже не стараются достойно сыграть перед ними людей, потерявших рассудок, перед ними, которые так внимательно изучили учебник по психиатрии, общий курс. Например, Кука, которая обычно прекрасно владела собой, теперь сидела вжавшись в кресло, сжимая сумочку обеими руками, и выглядела куда более сумасшедшей, чем трое подписантов, которые в данный момент чего-то бурно требовали, кажется смерти какого-то пса, при этом сеньора Швитт отчаянно жестикулировала. Ничего уж такого непредвиденного, эта непоследовательность и эта словоохотливость была в таких случаях делом обычным, а грозные окрики управляющего просто повторяли на басах рисунок пространных сетований и качаний прав относительно Франко-английского магазина. Итак, они последовательно увидели следующее: как Реморино привел Антунеса, потом толстую пижаму, как сеньора Швитт презрительно подписала документ, как вошел еще один пациент, огромного роста и тощий как скелет, что-то вроде долговязого колебания воздуха в розовой фланели, а затем юноша с совершенно белыми волосами и зелеными глазами, таившими зловещую красоту. Последние двое подписались без особого сопротивления, но зато в один голос выразили желание остаться в зале до конца действа. Чтобы избежать еще каких-нибудь неприятностей, управляющий указал им на стулья в углу, а Реморино привел других больных — девушку с обширными бедрами и мужчину, похожего на китайца, который не поднимал глаз от пола. Удивительно, но разговор опять пошел о смерти какого-то пса. Больные расписались, после чего девушка встала перед присутствующими в позу и сделала балетный поклон. Кука Феррагуто ответила ей любезным кивком, что вызвало у Талиты и Травелера неудержимый приступ смеха. В списке было уже десять подписей, а Реморино все приводил новых пациентов, дальше шли приветствия, раз или два возникала полемика, потом прекращалась, и появлялся новый персонаж: вошел, подписал. Вот уже половина восьмого, Кука достает пудреницу и пудрится с таким выражением лица, как будто она уже директор клиники, что-то среднее между мадам Кюри и Ядвигой Фойер.[535] Талита и Травелер снова корчатся от смеха, а Феррагуто переводит взгляд с подписей в списке на лицо управляющего. Без двадцати восемь одна пациентка заявила — она ни за что не поставит свою подпись, пока не убьют собаку. Реморино пообещал, подмигнув в сторону Оливейры, который расценил это как знак доверия. Прошло уже двадцать больных, и оставалось всего сорок пять. Управляющий подошел к ним и сказал, что наиболее трудные случаи уже охвачены (так он выразился) и что лучше перейти в соседнее помещение, где можно выпить пива и послушать последние новости. За легкой закуской говорили о психиатрии и о политике. Революция захлебнулась благодаря усилиям правительства, главари подались в Лухан.[536] Доктор Нерио Рохас[537] на конгрессе в Амстердаме. Пиво изумительное.
К половине девятого собрали все сорок восемь подписей. В сумерках зал тонул в клубах дыма, по углам сидели люди, время от времени кто-то из присутствующих кашлял. Оливейра вознамерился выйти на улицу, но управляющий был суров и непреклонен. Трое последних пациентов потребовали изменений в режиме питания (Феррагуто сделал знак Куке, чтобы она это записала, еще чего не хватало, питание в их клинике должно быть безупречным) и смерти собаки (Кука соединила пальцы и потрясла рукой — типично итальянский жест, а Феррагуто озадаченно встряхнул головой, глядя на управляющего, который выглядел смертельно уставшим и прикрывался от него сборником кондитерских рецептов). Когда вошел старик с голубкой на ладони, которую он тихонько гладил, убаюкивая, возникла продолжительная пауза — все смотрели на неподвижную голубку на ладони больного, и было почти жаль, когда ему пришлось прервать ритмичные движения, которыми он гладил спинку голубки, чтобы взять авторучку «бироме», протянутую Реморино. Вслед за стариком под руку вошли две сестры и с порога потребовали смерти пса, а также улучшения условий содержания. Реморино, услышав про собаку, рассмеялся, Оливейра же, чувствуя, что у него онемела рука, встал и сказал Травелеру, что пойдет немного пройтись и сейчас же вернется.
— Вам следует остаться, — сказал управляющий. — Вы свидетель.
— Я буду здесь, в доме, — сказал Оливейра. — Посмотрите закон Мендеса Дельфино, он это предусматривает.
— Я с тобой, — сказал Травелер. — Мы вернемся через пять минут.
— Вы должны присутствовать, когда мы будем ставить печать, — сказал управляющий.
— Мы придем задолго до того, — сказал Травелер. — Иди сюда, старик, с этой стороны вроде и есть та дверь, которая ведет в сад. Какое разочарование, тебе не кажется.
— Единодушие всегда, утомительно, — сказал Оливейра. — Ни один не пошел наперекор. А как они все насчет смерти собаки. Давай сядем у фонтана, вода окажет на нас очистительное воздействие.
— Она воняет бензином, — сказал Травелер. — И правда, весьма очистительное.
— В самом деле, а чего мы ждали? Ты же видишь, в конце концов все подписали, между ними и нами нет никакой разницы. Абсолютно никакой. Нам здесь будет здорово.
— Это-то конечно, — сказал Травелер. — Но разница есть, они все в розовом.
— Посмотри, — сказал Оливейра, показывая на верхние этажи. Было уже почти совсем темно, и в окнах второго и третьего этажа зажигали и гасили свет через равные промежутки времени. В одном окне свет, в другом темно. Потом наоборот. Весь нижний этаж освещен, верхний в темноте. Потом наоборот.
— Ну, пошло-поехало, — сказал Травелер. — Подписи-то собрали, да теперь швы стали видны.
Они решили выкурить по сигарете около радужной струи фонтана, разговаривая ни о чем и глядя, как зажигают и гасят свет. Тогда-то Травелер и заговорил о переменах, а когда он замолчал, то услышал, как Орасио тихонько смеется в темноте. Он снова заговорил, потому что хотел определенности, но не знал, как сформулировать главное, — слова и понятия ускользали.
— Мы как два вампира, которых соединяет одна и та же кровеносная система, вернее, разъединяет. Иногда нас двоих, а иногда и троих, не будем себя обманывать. Я не знаю, когда это началось, но это так, и не надо закрывать на это глаза. Я думаю, мы и сюда-то явились не потому, что нас привел директор. Проще было оставаться в цирке с Суаресом Мелианом, там мы знаем нашу работу и нас ценят. Нет, надо было притащиться сюда. Всем троим. Я виноват больше всех, но я не хотел, чтобы Талита думала, будто… И в результате решил, что если оставить тебя в стороне от всего этого, то я буду от тебя свободен. Вопрос самолюбия, сам понимаешь.
— И в самом деле, мне совершенно незачем принимать это предложение. Вернусь в цирк, а лучше мне вообще уехать. Буэнос-Айрес большой. Я тебе уже как-то говорил.
— Да, но ты уедешь после этого разговора, то есть сделаешь это из-за меня, а я как раз этого и не хочу.
— Тогда объясни мне, что ты имел в виду, когда говорил о переменах.
— Почем я знаю, как только я пытаюсь это объяснить, все окончательно покрывается туманом. Вот посмотри, что получается: пока я с тобой, нет проблем, но как только я остаюсь один, у меня такое ощущение, что ты давишь на меня, сидя, например, в своей комнате. Помнишь тот день, когда ты попросил у меня гвозди? Талита это тоже чувствует, она смотрит на меня, а мне кажется, что ее взгляд предназначен тебе, и, наоборот, когда мы втроем, она почти не обращает на тебя внимания, будто тебя и нету. Я думаю, ты и сам все это чувствуешь.
— Да. Давай дальше.
— Это все, и потому мне бы не хотелось, чтобы ты сжег мосты и остался один. Было бы лучше, если б ты решил это сам, я поступаю по-дурацки, поднимая этот вопрос, потому что не оставляю тебе свободы выбора и вынуждаю тебя смотреть на вещи с точки зрения ответственности, а это полная фигня. Этика в данном случае состоит в том, чтобы отдать свою жизнь другу, а я с этим согласиться не могу.
— А-а, — сказал Оливейра. — То есть ты меня не отпускаешь, а сам я уйти не могу. Ситуация слегка напоминает розовые пижамы, тебе не кажется?
— Может, и так.
— Посмотри, как интересно.
— Что именно?
— Свет погас одновременно везде.
— Наверное, поставили последнюю подпись. Клиника перешла в руки директора. Да здравствует Феррагуто.
— Я думаю, теперь, чтобы сделать всем приятное, он прибьет собаку. Просто невероятно, до чего они все против нее ополчились.
— Они не ополчились, — сказал Травелер. — Здесь тоже, бывает, страсти кипят, но на первый взгляд причин не видно.
— У тебя потребность в радикальных решениях, старик. Со мной такое тоже было, но потом…
Они прошлись по саду с большой осторожностью, поскольку было уже совершенно темно, а расположения цветочных клумб они не запомнили. Когда почти у самого входа они наткнулись на площадку, расчерченную классиками, Травелер тихонько рассмеялся и стал перепрыгивать из клетки в клетку. В темноте фосфоресцирующие мелки слегка светились.
— В один из ближайших вечеров я тебе расскажу про тот берег. Мне не очень хочется, но, по всей вероятности, это единственный способ расправиться с собакой, скажем так.
Травелер выскочил из последнего квадрата классиков, и в этот момент окна второго этажа разом зажглись. Оливейра, который собирался что-то добавить, посмотрел на выступившее из тени лицо Травелера, и за ту секунду, что горел свет, прежде чем погаснуть снова, он с удивлением увидел, что оно искажено гримасой, странным оскалом (от латинского rictus, судорога рта: когда губы сводит таким образом, что это похоже на улыбку).
— Насчет расправы с собакой, — сказал Травелер. — Не знаю, заметил ли ты, фамилия главного врача Овехеро, что означает овчар. Такие-то дела.
— Но ведь не это ты собирался мне сказать.
— Смотрите-ка, уж кто бы жаловался на умолчания и эзопов язык, — сказал Травелер. — Конечно, не это, но теперь уже не важно что. Об этом не стоит говорить. Если тебе так хочется попробовать… Но что-то мне говорит, поезд уже ушел, че. Пицца остыла и незачем снова за нее браться. Пойдем лучше включаться в работу, все-таки развлечение.
Оливейра не ответил, и они вернулись в зал сделки века, где управляющий и Феррагуто пропустили уже не одну рюмку. Оливейра тут же решил от них не отставать, а Травелер сел на диван рядом с Талитой, которая с сонным видом читала какую-то книгу. Как только была поставлена последняя подпись, Реморино убрал с глаз долой и список, и больных, присутствовавших на церемонии. Травелер заметил, что управляющий распорядился погасить люстру и оставил включенной только настольную лампу; все тонуло в мягком зеленоватом свете, а общий тон разговора стал тихий и довольный. Он услышал, как обсуждаются планы насчет потрошков по-женевски в каком-нибудь ресторанчике в центре города. Талита захлопнула книгу и сонно посмотрела на него, Травелер погладил ее по голове и почувствовал себя лучше. В любом случае думать о потрошках в этот час и в такую жару было нелепо.
(-69)
52
Потому как в действительности-то он ничего не мог рассказать Травелеру. За какую ниточку ни потяни, волокно тянулось и тянулось, метры волокна, волокнистость, мыслеволокно, волокнокручение, волокно-укрытие, волокнотомия, сливковолокно, волокнокопание, волокнобичевание, волокнопереливание и так до тошноволокна, но распутать клубок все равно не удавалось. Необходимо было как-то внушить Травелеру, что все рассказанное надо понимать не в прямом смысле (но тогда в каком?) и в то же время что это не является ни фигурами речи, ни аллегорией. Существует непреодолимая разница уровней восприятия, которая не имеет никакого отношения ни к умственным способностям, ни к степени информированности, — одно дело играть с Травелером в разные занятные игры или спорить о Джоне Донне, такие вещи происходят в одинаковой системе понятий; и совсем другое — быть чем-то вроде обезьяны среди людей, хотеть быть обезьяной по причинам, которые даже сама обезьяна объяснить не в состоянии, попытайся она это сделать, поскольку разумных причин для этого нет, и именно в этом ее сила, а отсюда и все остальное.
Несколько первых суток в клинике прошли спокойно; персонал, который должен был смениться, еще продолжал выполнять свои обязанности, а новые служащие пока только присматривались, накапливали опыт и собирались в аптеке, где Талита, в белом халате, снова и с большим волнением открывала для себя эмульсии и барбитураты. Проблема была в том, чтобы как-то сладить с Кукой Феррагуто, которая накрепко засела в кабинете управляющего, поскольку она была серьезно намерена подчинить себе все управление клиникой, и даже сам директор с уважением прислушивался к обсуждению вопросов new deal,[538] когда из ее уст звучали такие термины, как гигиена, дисциплина, бог-отечество-домашний очаг, серые пижамы и липовый чай. То и дело заглядывая в аптеку, Кука на-вост-ря-ла-у-ши, внимательно прислушиваясь к разговорам новых сотрудников касательно клиники. Талите она более или менее доверяла, у той, как-никак, на стенке диплом висел, но вот ее муж и его друг-приятель вызывали подозрения. Проблема самой Куки заключалась в том, что, как бы то ни было, оба они были ей ужасно симпатичны, и это вынуждало ее бороться с собой в духе Корнеля, выбирая между чувством долга и платоническими пристрастиями, в то время как Феррагуто занимался организационными вопросами и понемногу привыкал к тому, что шпагоглотатели, которые раньше были у него в подчинении, сменились на шизофреников, а вместо корма для зверей теперь нужно заниматься упаковками инсулина. Врачи, которых было трое, делали утренний обход и в дальнейшем не перетруждались. Практикант, проходивший в больнице интернатуру, большой любитель покера, сдружился с Оливейрой и Травелером; в его кабинете на третьем этаже то одному, то другому удавалось собрать всех тузов, и выигрыш, который выпадал на долю победителя, составлял от десяти до ста монет, te la voglio dire.[539]
Больные чувствуют себя лучше, спасибо.
(-89)
53
И вот в четверг, на тебе, было что-то около девяти часов вечера. Несколько раньше бывший персонал покинул клинику, хлопнув дверью (иронические улыбки Феррагуто и Куки, которые твердо решили не округлять выходное пособие, так сказать, за вредность), а несколько больных на прощание кричали уходившим: «Собака сдохла, собака сдохла!» — что не помешало им вручить Феррагуто заявление с пятью подписями, в котором они требовали шоколада, вечерних газет и смерти собаки. Остались только новые сотрудники, которые еще не совсем освоились, и Реморино, который чувствовал себя хозяином положения, неустанно повторяя, что все будет великолепно. Радиостанция «Мир» поддерживала спортивный дух жителей Буэнос-Айреса сводками о надвигающейся жаре. Побив в этом смысле все рекорды, можно было потеть в свое удовольствие, и Реморино уже нашел четыре или пять пижам, разбросанных по углам. Вместе с Оливейрой им удалось убедить владельцев надеть их снова, хотя бы штаны. Прежде чем углубиться в покер с Феррагуто и Травелером, доктор Овехеро велел Талите раздать всем лимонад, без всяких опасений, за исключением номеров 6, 18 и 31. У 31-го номера это вызвало слезы, и Талите пришлось дать ей двойную порцию лимонада. Наступило время действовать, как говорится, motu proprio,[540] смерть собаке.
Но как можно было начать эту новую жизнь и сохранять спокойствие, не слишком удивляясь на каждом шагу? Почти без предварительной подготовки, поскольку учебник по психиатрии, приобретенный Траве-лерами в магазине Томаса Пардо, нельзя было назвать необходимой пропедевтической подготовкой. Ни опыта, ни настоящего желания, ничего: поистине человек — это животное, которое приспосабливается даже к тому, к чему он совершенно не приспособлен. Взять, например, морг: Травелер с Оливейрой знать не знали, что это такое, и пожалуйста, во вторник вечером Реморино пришел за ними по указанию доктора Овехеро. На втором этаже только что скончался 56-й номер, этого следовало ожидать, надо помочь санитару и отвлечь номер 31-й, которая находилась во власти телепатических предчувствий. Реморино объяснил им, что прежний персонал постоянно качал права и всегда работал ровно столько, сколько положено, особенно с тех пор как вышел закон о неоплачиваемых сверхурочных, так что другого способа нет, надо всерьез браться за работу, заодно можно получить хорошую практику.
Как странно, что в описи имущества, которую им зачитали в день великой сделки, морг не упоминался ни единым словом. Однако, че, где-то ведь надо держать мертвеца, пока не явятся родственники или муниципалитет не пришлет фургон. Может, он проходил в инвентарной описи как складское помещение, или как зал временного содержания, или как холодильная комната, что-нибудь такое, смягченное, а может, упоминался как один из восьми холодильников. Так или иначе, слово «морг», по мнению Реморино, в документе писать некрасиво. А зачем восемь холодильников? A-а, это… Очередное требование государственного департамента по гигиене, а может, бывший управляющий купил их на торгах, но это как раз не так уж плохо, потому что иногда бывает, их будто ветром надует, как в тот год, когда победил «Сан-Лоренсо» (какой же это был год? Реморино не помнил, но это был год, когда все очки взял «Сан-Лоренсо»), вдруг сразу четверо больных «дали дуба», как косой косило, доложу я вам. Конечно, такое редко бывает, 56-й был уже одной ногой в могиле, тут все понятно. Здесь надо разговаривать потише, чтобы не разбудить всю эту компашку. А ты что тут торчишь в такую поздноту, ну-ка быстро в постель, давай, давай. Парень-то он хороший, посмотрите, так и рвется помочь. По ночам ему нравится разгуливать по коридору, не подумайте, что тут дело в женщинах, с этим вопросом у нас все в порядке. Ему нравится, потому что он сумасшедший, впрочем, как и все мы, если на нас найдет.
Оливейра и Травелер были весьма высокого мнения о Реморино. Продвинутый парень, сразу видно. Они помогли санитару, который, когда не был санитаром, был просто номер 7, случай, поддающийся лечению, так что можно привлекать его для несложной работы. Они спустили каталку на грузовом лифте, где было немного тесновато, так что все очень близко почувствовали соседство 56-го номера, лежавшего под простыней неподвижным грузом. Родственники приедут забирать его в понедельник, они из Трелева,[541] люди бедные. А 22-й так до сих пор и не забрали, это уже ни в какие ворота. Люди с деньгами все такие, считал Реморино: хуже не бывает, настоящие стервятники, никаких родственных чувств. А муниципалитет что себе думает, 22-й так тут и будет?.. Какой-то чиновник тут появлялся, эксперт или что-то в этом роде. Но дни-то идут, уже две недели прошло, так что сами видите, хорошо, что холодильников восемь. То да се, вот уже трое, ведь там еще и номер 2, одна из основательниц. И ведь что интересно, у номера 2 семьи нет, но управление ритуальных услуг предупредило, что катафалк прибудет в течение сорока восьми часов. Реморино посчитал для смеху, и выяснилось, что прошло уже триста шесть часов, почти триста семь. Он называет ее основательницей, потому что старушка была здесь с самых первых дней, еще до доктора, который продал ее дону Феррагуто. А дон Феррагуто, по-моему, мужик что надо, разве нет? Подумать только, раньше у него был цирк, это ж надо.
Номер 7 открыл грузовой лифт, толкнул каталку и вприпрыжку побежал за ней по коридору, что выглядело ужасающе нелепо, однако Реморино решительно его остановил и пошел впереди с ключом, чтобы открыть металлическую дверь, а Травелер с Оливейрой одновременно полезли в карман за сигаретами, что поделаешь, рефлекс… На самом деле, что надлежало сделать — это принести какую-нибудь верхнюю одежду, поскольку новость о надвигающейся жаре еще не дошла до морга, который скорее был похож на зал для дегустации напитков, с длинным столом с одной стороны и холодильником от пола до потолка — с другой.
— Достань-ка пиво, — распорядился Реморино. — Вы ничего не видели, ладно? А то здесь правила слишком строгие… Вы, в случае чего, не говорите дону Феррагуто, вообще-то, ничего страшного, просто случается иногда пивка выпить.
Номер 7 скрылся за дверью одного из рефрижераторов и извлек оттуда бутылку. Реморино стал искать открывашку для бутылок в своем перочинном ножике, и Травелер с Оливейрой переглянулись, однако номер 7 заговорил первым:
— Может, лучше сначала этого положим, вам не кажется?
— Ты… — начал Реморино, но осекся с раскрытым ножиком в руках. — Ты прав, парень. Давай положим. Вот этот свободен.
— Нет, — сказал номер 7.
— Ты мне будешь говорить?
— Вы меня простите и извините, — сказал номер 7. — Но свободен вот этот.
Реморино не отрывал от него взгляда, а номер 7 улыбнулся и, помахивая рукой вроде как в знак приветствия, направился к спорному холодильнику и открыл дверцу. Изнутри вырвался яркий свет, похожий на полярное сияние или еще на какое-нибудь явление северной природы, посреди которого четко вырисовались ступни довольно крупных ног.
— Номер двадцать два, — сказал номер 7. — Что я говорил? Я их всех по ногам узнаю. А там номер два. Могу поспорить. Посмотрите сами, если не верите. Убедились? Ладно, этого поставим сюда, раз тут свободно. Вы мне помогите, осторожней, ставьте головой туда.
— Ну прямо отличник, — тихо сказал Реморино Травелеру. — Не могу в толк взять, почему Овехеро до сих пор его здесь держит. Стаканов нет, че, так что присосемся, будто к материнской груди.
Прежде чем взять в руки бутылку, Травелер затянулся так глубоко, как мог. Бутылка пошла по рукам, и первый «соленый» анекдот рассказал Реморино.
(-66)
54
Из окна своей комнаты на втором этаже Оливейра видел дворик с фонтаном, струю воды, классики, начерченные номером 8, три дерева, в тени которых среди травы была разбита клумба с геранью, и высокую глинобитную стену, которая закрывала здание со стороны улицы. Почти каждый вечер номер 8 играл в классики, он был непобедим, номер 4 и номер 19 хотели перехватить у него Небо, но все было напрасно, нога номера 8 точно попадала в цель, била в десятку, его бита всегда оказывалась в самой благоприятной позиции, это было великолепно. По ночам классики слабо светились, и Оливейре нравилось смотреть на них в окно. У себя в постели, под действием кубика гипнозала, номер 8 спит, должно быть, как цапля, поджав под себя одну ногу, мысленно перебрасывая биту короткими и точными толчками, чтобы добраться до Неба, которое скорее всего разочарует его, как только он его завоюет. «Ты невыносимый романтик, — подумал про себя Оливейра, потягивая мате. — Не пора ли подумать о розовой пижаме?» На столе лежало письмецо от безутешной Хекрептен, что же это такое, тебе можно уходить только по субботам, но это же не жизнь, дорогой, мне не выдержать столько времени одной, если бы ты видел, какой стала наша комнатка. Оливейра поставил мате на подоконник, достал из кармана авторучку и стал писать ответ. Во-первых, есть такая вещь, как телефон (далее следовал номер); во-вторых, они здесь очень заняты, впрочем, реорганизация не займет больше двух недель, после чего они смогут видеться кроме субботы и воскресенья еще и по средам. В-третьих, у него закончился мате. «Пишу как из тюрьмы», — подумал он, ставя подпись. Уже около одиннадцати, скоро Травелер придет его будить, он дежурит на третьем этаже. Потягивая мате, он перечитал письмо и запечатал конверт. Он предпочитал писать, телефон в руках Хекрептен был инструментом ненадежным, она не понимала ничего из того, что он пытался ей объяснить.
Слева во флигеле, где помещалась аптека, погас свет. Талита вышла в патио, заперла дверь на ключ (он хорошо видел ее при свете теплого звездного неба) и нерешительно подошла к фонтану. Оливейра тихо свистнул, но Талита неотрывно смотрела на струю воды, потом подставила палец и немного подержала его в воде. Потом она прошла через двор, ступая как попало на клетки классиков, и Оливейра потерял ее из виду. Все это было немного похоже на картины Леоноры Каррингтон:[542] ночь, Талита и классики, она идет по ним, не замечая, струя воды в фонтане. Когда появилась фигура в розовом, взявшаяся неведомо откуда, и медленно приблизилась к классикам, не осмеливаясь ступить на них, Оливейре показалось, что все вернулось на свои места, что сейчас некто в розовом выберет плоский камешек из горки, которую номер 8 аккуратно сложил рядом с клумбой, и потом Мага, а это была Мага, подожмет левую ногу и носком ноги отправит биту в первый квадрат классиков. Сверху ему были видны волосы Маги, ее плечи и как она взмахнула руками, стараясь удержать равновесие, когда прыгнула в первый квадрат и подтолкнула биту во второй (Оливейра дрогнул, бита чуть не вылетела из классиков, неплотно пригнанные плитки удержали ее у самого края второго квадрата), она осторожно переместилась в следующую клетку и на секунду застыла неподвижно, похожая в полумраке на розового фламинго, а потом постепенно приблизилась к камешку, прикинув расстояние до третьего квадрата.
Талита подняла голову и увидела в окне Оливейру. Она не сразу узнала его и закачалась, стоя на одной ноге, будто цепляясь за воздух. С разочарованием и иронией понял Оливейра свою ошибку, увидел, что розовое — это не розовое, что на Талите пепельно-серая блузка, а юбка, кажется, белая. Все объяснялось (как говорят в таких случаях) очень просто: Талита прошла по классикам и сразу же вернулась, ей захотелось поиграть, и этого секундного разрыва между ее исчезновением и вторичным появлением оказалось достаточно, чтобы он обманулся, как той ночью на носу корабля и как в другие ночи. Он вяло ответил на приветствие Талиты, которая опять опустила голову и сосредоточилась, рассчитывая следующий шаг, бита с силой вылетела из второго квадрата и оказалась в третьем, встала на ребро и выкатилась из классиков, остановившись за одну-две плитки от клеток.
— Тебе надо побольше тренироваться, — сказал Оливейра. — Если ты хочешь выигрывать, как номер восемь.
— Что ты здесь делаешь?
— Жарко. Смена караула в половине двенадцатого. Опять же письма.
— А-а, — сказала Талита. — Какая ночь.
— Магическая, — сказал Оливейра; Талита усмехнулась и скрылась в дверях. Оливейра слышал, как она поднялась по лестнице, прошла мимо его комнаты (а может, она поднялась на лифте) и пошла на третий этаж. «Что и говорить, она на нее здорово похожа, — подумал он. — Ошибка потому и произошла, и еще потому, что я кретин». Но он все равно еще какое-то время смотрел во двор, на пустые классики, будто желая в чем-то убедиться. В десять минут двенадцатого пришел Травелер передать ему дежурство. Номер 5 довольно беспокоен, сказать доктору Овехеро, если ему станет хуже; остальные спят.
На третьем этаже все было тихо, даже номер 5 успокоился. Он взял у Оливейры сигарету, выкурил ее до самого фильтра и объяснил Оливейре, что в результате заговора издателей-евреев тормозится публикация его гениального произведения о кометах; он обещал подарить ему один экземпляр с автографом.
Оливейра оставил дверь в его комнату приоткрытой, потому что знал, как устойчивы некоторые привычки, и стал ходить туда-сюда по коридору, время от времени заглядывая в комнаты через глазок, новшество, введенное благодаря находчивости доктора Овехеро, управляющего и фирмы «Liber & Finkel»: каждая комната — это Ван Эйк в миниатюре, за исключением номера 14, где глазок, как всегда, был заклеен кусочком пластыря. В двенадцать часов явился Реморино с несколькими бутылками джина, наполовину початыми; они поговорили о скачках и футболе, после чего Реморино отправился немного поспать на нижний этаж. Номер 5 совершенно затих, а жара только усиливала тишину и темноту коридора. Мысль о том, что кто-то может попытаться убить его, до этой минуты не приходила Оливейре в голову, но достаточно было моментального образа, одного лишь намека на эту мысль, похожего скорее на озноб, чем на что-то другое, и он понял, что мысль эта не новая и родилась она не в этом коридоре с закрытыми дверями и тенью грузового лифта в глубине. То же самое могло случиться с ним среди бела дня в магазине Роке или в подземке в пять часов вечера. Или задолго до того, в Европе, когда он бродил по темным переулкам и пустырям, где любой брошеной консервной банки было бы достаточно, чтобы перерезать ему горло, если бы чья-то злая воля устроила ему соответствующую встречу. Он остановился у двери грузового лифта и, посмотрев в темноту глазка, подумал о Флегрейских полях[543] и снова о пути наверх, в другое измерение. В цирке все было наоборот, глазок наверху был выходом в открытое пространство, символом завершения; сейчас он стоял у края колодца, уходящего в Элевсинские[544] мистерии, и клиника, окутанная жаркой волной, лишь обостряла ощущение зловещей картины, дымящейся серной сопки, спуска куда-то вниз. Он обернулся и увидел прямую линию коридора до самого конца, где над белыми прямоугольниками дверей горели фиолетовым светом маленькие лампочки. Он поступил очень глупо: подогнув левую ногу, он стал маленькими прыжками продвигаться по коридору, и так до первой двери. Когда он снова поставил ногу на зеленый линолеум, он был мокрый от пота. При каждом прыжке он сквозь зубы повторял имя Ману. «Подумать только, а я еще надеялся на какой-то переход», — сказал он, прислоняясь к стене. Невозможно объективно оценить лишь часть какой-нибудь мысли, она сразу превращается в гротеск. К примеру, переход. Подумать только, он надеялся на переход. Надеялся на переход. Он сполз по стене, сел на пол и уставился на линолеум. Переход к чему? И почему клиника должна была служить переходом? В какой храм он должен войти, к каким заступникам обратиться, какие физические или нравственные гормоны должен выработать вне или внутри себя?
Когда пришла Талита со стаканом лимонада (вечно она со своими идеями, вроде тех учительниц, которые раздают в рабочих кварталах гуманитарную помощь в рамках кампании «Капля Молока»), он вдруг взял и все ей выложил. Талита ничему не удивилась; она села напротив и смотрела, как он залпом пил лимонад.
— Если Кука увидит, как мы тут сидим, ее хватит удар. Интересная у тебя манера дежурить. Все спят?
— Да. Думаю, да. Номер четырнадцать заклеила глазок, пойди посмотри, что она делает. Не могу же я просто взять и открыть дверь, че.
— Ты — сама деликатность, — сказала Талита. — А мне, значит, можно, женщина к женщине…
Она тут же вернулась и на этот раз села рядом с ним и тоже прислонилась к стене.
— Спит сном праведника. Беднягу Ману мучит страшный кошмар. И всегда одно и то же, он потом засыпает как ни в чем не бывало, а у меня уже весь сон пропал, и я встаю. Я подумала, жарко, вот и сделала тебе или Реморино лимонаду. Ну и лето, да еще эти стены, которые воздуха не пропускают. Значит, я похожа на ту женщину.
— Немного похожа, — сказал Оливейра. — Но это совершенно неважно. Я хочу знать, почему я видел тебя в розовом.
— Влияние окружающей обстановки, ты уподобил ее остальным.
— Да, но это слишком просто, все гораздо сложнее. А ты, почему ты вдруг решила поиграть в классики? Тоже уподобилась?
— Ты прав, — сказала Талита. — И зачем мне это понадобилось? Вообще-то, я сроду классики не любила. Только не выстраивай тут одну из своих теорий внушения, я никому не позволю себя зомбировать!
— Нет никакой необходимости так кричать.
— Никому, — повторила Талита гораздо тише. — Увидела, что наступила на классики, подняла камешек… Поиграла и ушла.
— Ты проиграла на третьей клетке. С Магой всегда происходило то же самое, она совершенно не умеет добиваться своего, не чувствует расстояния, время вдребезги разбивается у нее в руках, она натыкается на все на свете. Благодаря чему, замечу мимоходом, она отличается совершенством в деле развенчания фальшивого совершенства в других. Но я говорил о грузовом лифте, кажется.
— Да, что-то говорил, а потом выпил лимонад. Нет, подожди, ты сначала выпил лимонад.
— Наверное, ты увидела, как я несчастен, когда ты пришла, я был в состоянии транса, как шаман, готов был броситься в черную дыру, чтобы разом покончить со всеми презумпциями, вот какое изящное слово.
— Дыра кончается в подвале, — сказала Талита. — А там тараканы, чтоб ты знал, и какое-то разноцветное тряпье на полу. Там темно и сыро, а совсем рядом мертвецы лежат. Ману мне рассказывал.
— Ману спит?
— Да. Ему приснился кошмар, он кричал, что потерял какой-то галстук. Я же тебе говорила.
— Сегодня ночь великих откровений, — сказал Оливейра, медленно подняв на нее глаза.
— Самых что ни на есть, — сказала Талита. — Раньше Мага была просто именем, а теперь у нее есть лицо. Правда, она пока еще ошибается в расцветке одежды.
— Одежда — это ерунда, когда я снова ее увижу, поди знай, в чем она будет. Может, она будет голая или со своим сынишкой на руках, будет напевать ему «Les Amants du Havre», ты эту песню не знаешь.
— А вот и знаю, — сказала Талита. — Ее часто передают по радио «Бельграно».[545] Та-ра-ри-ра, та-ра-ра…
Оливейра хотел было дать ей пощечину, а получилось будто приласкал, Талита откинула голову назад и ударилась о стену. Она поморщилась и потерла затылок, но напевать не перестала. Послышался какой-то щелкающий звук, потом жужжание, которое в темноте коридора показалось синим.
Талита отодвинулась и спряталась за спину Оливейры. Щелк. За стеклянной зарешеченной дверью ясно обозначилась фигура в розовой пижаме. Дохнуло свежим воздухом, почти холодным. Оливейра поспешил к грузовому лифту и открыл дверь. Старик посмотрел на него, по всей вероятности не узнавая, и пошел, продолжая гладить голубку, понятно было, что голубка когда-то была белая, но от постоянного прикосновения стариковской руки стала пепельно-серой. Неподвижная, прикрыв глаза, голубка отдыхала на ладони, которую старик держал на уровне груди, а его пальцы все гладили и гладили ее от шеи к хвосту, от шеи к хвосту.
— Идите спать, сеньор Лопес, — сказал Оливейра, переводя дух.
— В постели жарко, — сказал сеньор Лопес. — А посмотрите-ка, как ей нравится, когда я с ней гуляю.
— Уже поздно, идите в свою комнату.
— Я принесу вам холодного лимонаду, — пообещала Талита-Найтингейл.[546]
Дон Лопес погладил голубку и вышел из лифта. Они услышали, как он спускается по лестнице.
— Здесь каждый делает что хочет, — прошептал Оливейра, закрывая дверь лифта. — Придет час, и они тут все другу другу головы поотрезают. Это носится в воздухе, я тебе точно говорю. А эта голубка похожа на револьвер.
— Надо бы сказать Реморино. Старик поднялся из подвала, странно как-то.
— Знаешь что, ты побудь тут на стреме, а я спущусь в подвал, посмотрю, нет ли там кого еще с какими-нибудь глупостями.
— Я с тобой.
— Ладно, остальные, похоже, безмятежно спят.
Внутри лифт освещался голубоватым светом и спускался с жужжанием, напоминающим научно-фантастические фильмы. В подвале не было ни единой живой души, но дверца одного из рефрижераторов была приоткрыта, и оттуда пробивался свет. Талита остановилась в дверях, зажав рот рукой, а Оливейра приблизился к холодильнику. Это был номер 56, он хорошо его запомнил, семья должна была его вот-вот забрать. Он из Трелева. А пока что его навестил приятель, нетрудно было представить себе, как и о чем беседовал тут старик с голубкой, один из тех псевдодиалогов, когда собеседнику совершенно неважно, говорит ли другой, или он вообще никогда не заговорит, лишь бы перед ним кто-то был, лишь бы перед ним что-то было, хоть лицо, хоть ступни, торчащие из холодильника. Он сам только что точно так же говорил с Талитой, рассказывая ей обо всем, что видел, о том, что ему страшно, говорил о колодцах и переходах, Талите или кому-то другому, чьей-то паре ног, торчащих из холодильника, любой субстанции, пусть даже враждебной, лишь бы она была способна выслушать и принять. Но когда он закрыл дверцу и неизвестно зачем оперся обеими руками о край стола, воспоминания тошнотой хлынули из него, он подумал, что еще два или три дня назад он считал для себя невозможным рассказать все это Травелеру, обезьяна вряд ли может разговаривать с людьми, и вдруг, сам не зная как, он услышал, что разговаривает с Талитой так, словно это Мага, и, зная, что это не она, все равно говорит с ней о классиках, о том, как страшно было ему в коридоре, об искушении дверного глазка. И значит, тогда (Талита была рядом, на расстоянии нескольких метров, позади него, она ждала) это был конец, призыв к чужому состраданию, возвращение в семью людей, губка, которая с неприятным хлюпающим звуком шлепается посреди ринга. Он чувствовал, что бежит от себя самого, покидает себя, чтобы броситься — блудный (сукин) сын — в объятия легкого примирения, а оттуда — что еще легче — к возврату в обычный мир, в возможную жизнь, во время, в которое он живет, к здравому смыслу, которым руководствуются добропорядочные аргентинцы и все прочие живые души. Он был в своем маленьком удобном ледяном аду, но сошел он туда отнюдь не в поисках Эвридики, тем более что он спокойно спустился туда на грузовом лифте, а сейчас когда он открыл холодильник и достал оттуда бутылку пива, пусть камень летит в любую сторону, пусть что угодно происходит, лишь бы покончить с этой комедией.
— Иди сюда, глотни, — позвал он Талиту. — Намного лучше, чем твой лимонад.
Талита сделала шаг и остановилась.
— Ты что — некрофил? — сказала она. — Пошли отсюда.
— Это единственное прохладное место, согласна? Я думаю, не поставить ли мне здесь раскладушку.
— Ты побледнел от холода, — сказала Талита, подойдя к нему. — Пойдем, мне не нравится, что ты здесь.
— Не нравится? Не бойся, они не вылезут и меня не съедят, те, которые наверху, страшнее.
— Пойдем, Орасио, — повторила Талита. — Я не хочу, чтобы ты здесь оставался.
— Ты… — сказал Оливейра, глядя на нее в ярости, но сдержался и открыл бутылку пива ударом ладони по крышке, зацепленной за край стула. И тут он ясно увидел бульвар под дождем, но не он вел кого-то под руку, пытаясь найти слова сочувствия, а это его вели, это ему протянули руку из сострадания и говорили с ним, потому что хотели вернуть ему душевный покой, и так его жалели, что это было даже приятно. Прошлое предстало в ином свете, оно поменяло знак на противоположный, и оказалось, что Сострадание его не уничтожило. Эта женщина, которой вдруг пришло в голову поиграть в классики, пожалела его, и это было так ясно, что обожгло ему душу.
— Мы можем подняться на второй этаж и там поговорить, — убеждала его Талита. — Возьми бутылку, я тоже немного выпью.
— Oui, madam, bien sûr, madam,[547] — сказал Оливейра.
— Наконец-то ты заговорил по-французски. Мы с Ману решили, что ты дал обет. Никогда больше…
— Assez, — сказал Оливейра. — Tu m’as eu, petite, Céline avait raison, on se croit enculé d’un centimètre et on l’est déjà de plusieurs mètres.[548]
Талита посмотрела на него, не понимая, однако она непроизвольно подняла руку и положила ее на грудь Оливейры. Когда она отстранилась, он продолжал смотреть на нее так, будто взгляд его шел откуда-то из глубины, будто он видел в этот момент что-то другое.
— Попытайся понять, — сказал Оливейра, обращаясь не к Талите, а, возможно, к кому-то другому. — Попытайся понять, может, это не ты выплюнула на меня сегодня столько жалости. Попытайся понять, может, не стоит плакать по любви и наплакать целых четыре или пять тазов слез. Или чтоб тебе их наплакали, поскольку слезы уже начались.
Талита повернулась к нему спиной и пошла к дверям. Когда она остановилась, поджидая его, сбитая с толку, и в то же время понимая, что бросить его сейчас все равно что оставить у края пропасти (той, где тараканы и разноцветное тряпье), она увидела, что он улыбается и что его улыбка снова предназначалась не ей. Она никогда не видела, чтобы он так улыбался, улыбка была несчастная и в то же время открытая ей навстречу, без обычной иронии, улыбка человека, готового принять что-то идущее из самого сердца жизни, из другой пропасти (где тараканы, разноцветное тряпье, лицо, плывущее в грязной воде?), он подошел к ней, как бы соглашаясь принять то, чему нет названия и что вызывало у него эту улыбку. И когда он поцеловал ее, он целовал другую, и все это было не там, рядом с холодильником с мертвецами и так близко от спящего Ману, а где-то совсем в другом месте. Казалось, они достигли друг друга откуда-то издалека, из другой части своего «я», и что речь идет совсем не о них, как будто они платили за что-то или обрели что-то за счет других, как будто они были не людьми, а големами,[549] посланными хозяевами на встречу друг с другом, потому что для них самих она была невозможна. А Флегрейские поля и то, что Орасио шептал по поводу спуска вниз, — все показалось такой бессмыслицей, что Ману и все, что было Ману и находилось на уровне Ману, просто не могло во всем этом участвовать, ибо то, что началось здесь, это все равно что гладить голубку, или встать и приготовить лимонад дежурному, или, поджав ногу, подбивать камешек из первой клетки во вторую, из второй в третью. Каким-то образом они перешли во что-то другое, куда-то, где можно быть в сером, а казаться в розовом, где можно быть утонувшей в реке (это уже не ее мысли) и вдруг однажды ночью появиться в Буэнос-Айресе, чтобы повторить, играя в классики, тот образ, который они только что сумели создать, последний квадрат классиков, самую суть мандалы, волшебное дерево Иггдрасиль,[550] от которого кружится голова и откуда виден бесконечный берег моря, бескрайний простор, мир под ресницами, который глаза, обращенные внутрь себя, вдруг узнают и изучают.
(-129)
55
Но Травелер не спал, он сделал две-три попытки заснуть, но его одолевали кошмары, и в конце концов он сел на кровати и зажег свет. Талиты не было, ни дать ни взять, лунатик, не спит по ночам, словно кошка. Траве-лер налил в стакан немного водки, выпил и надел куртку от пижамы. Плетеное кресло казалось более прохладным, чем кровать, а ночь была в самый раз такой, чтобы почитать. Несколько раз он слышал шаги в коридоре, и Травелер пару раз выглянул за дверь, которая выходила в административное крыло здания. Никого не было, даже в этом крыле, Талита должна быть у себя в аптеке, просто невероятно, с каким энтузиазмом она вернулась к своей науке, ко всем этим жаропонижающим, к маленьким аптечным весам. Травелер почитал немного, то и дело прикладываясь к стакану. В любом случае это странно, что Талита все еще не вернулась из аптеки. А когда она появилась, похожая на призрак, спустившийся с небес, бутылка водки была почти пуста, так что Травелер что видел, что не видел Талиту, они немного поговорили обо всякой ерунде, Талита гладила ночную рубашку и развивала разные теории, которые Травелер принимал вполне благосклонно, потому что на этой стадии впадал в благостное расположение духа. Потом Талита уснула, лежа кверху лицом, но спала беспокойно, непрерывно ворочаясь и вздыхая. Как всегда, когда Талита ерзала во сне, Травелер тоже никак не мог уснуть, а как только усталость брала свое, она почему-то просыпалась, сон снимало как рукой, а он в это время разговаривал во сне, с чем-то не соглашаясь, или метался в кошмарах, и так проходила вся ночь — вверх, вниз. Ко всему прочему свет был не выключен, а до выключателя было так далеко, что, как ни тянись, все равно не достанешь, кончилось тем, что оба окончательно проснулись, и тогда Талита погасила свет и слегка прижалась к Тра-велеру, который потел и ворочался.
— Сегодня ночью Орасио видел Магу, — сказала Талита. — Он видел ее во дворе, два часа назад, когда ты дежурил.
— А-а, — сказал Травелер, перевернулся на спину и стал шарить в поисках сигарет; система Брайля.[551] Потом произнес какую-то малопонятную фразу из книги, которую читал перед сном.
— Мага — это была я, — сказала Талита, теснее прижимаясь к Травелеру. — Не знаю, понимаешь ли ты.
— Думаю, да.
— Когда-нибудь это должно было случиться. Меня только одно удивляет — почему он так поразился своей ошибке.
— Ну ты же знаешь, Орасио всегда наворотит дел, а потом смотрит на то, что натворил, с большим удивлением, как щенок на свои какашки.
— Я думаю, то же самое у него было, когда мы пришли встречать его в порт, — сказала Талита. — Этого так просто не объяснить, он на меня даже не взглянул, и вы оба отшвырнули меня, как собачонку, да еще с котом под мышкой.
Травелер промычал нечто нечленораздельное.
— Он спутал меня с Магой, — снова сказала Талита.
Травелер понимал, она не столько говорит, сколько намекает, женщины всегда так, у них вечно все предназначено свыше, он бы предпочел, чтобы она молчала, но Талита все говорила и говорила, как в лихорадке, прижимаясь к нему все сильнее, ей хотелось рассказать ему, рассказать, конечно же, рассказать все. Травелер поддался.
— Сначала пришел старик с голубкой, и тогда мы спустились в подвал. Орасио все время говорил о каком-то спуске, обо всех этих дырах, которые не дают ему покоя. Он был в отчаянии, Ману, было страшно, до чего он казался спокойным, и тогда… Мы спустились на грузовом лифте, он пошел закрывать дверцу холодильника, это было так ужасно.
— Значит, ты туда спустилась, — сказал Травелер. — Так, ладно.
— Это было что-то другое, — сказала Талита. — Я не просто спустилась. Мы разговаривали, но я чувствовала, что Орасио где-то не здесь и говорит он с другой женщиной, которая, допустим, утонула. Мне это только сейчас в голову пришло, он ведь ничего не говорил мне о том, что Мага утонула в реке.
— Вовсе она не утонула, — сказал Травелер. — Это ясно как день, хотя, должен признать, я об этом никакого представления не имею. Но я достаточно знаю Орасио.
— Он думает, что она умерла, Ману, и в то же время постоянно чувствует ее рядом с собой, этой ночью ею была я. Он мне сказал, что видел ее на пароходе и еще под мостом на авениде Сан-Мартин… Он говорит об этом не так, как говорят о галлюцинациях, и он не рассчитывает на то, что ему поверят. Просто говорит, и все, и это правда, что-то в этом есть. Когда он закрыл холодильник, а я с испугу уж и не помню, что сказала, он стал смотреть на меня, но мне ясно было — видит он другую. Я никому не позволю себя зомбировать, Ману, я не собираюсь быть зомби.
Травелер погладил ее по голове, но Талита нетерпеливо отстранилась. Она села на постели, и он почувствовал, что она дрожит. Она сказала ему, что Орасио поцеловал ее, хотела все объяснить ему про поцелуй, но не нашла слов, и в темноте Травелер ощутил ее прикосновения, ее руки, словно лоскутки, ложились на его лицо, руки скользили по его груди, упирались в колени, и из всего этого рождалось объяснение, которому Травелер не мог противостоять, он проникался чем-то, что шло к нему из какого-то далека, или из глубины, или сверху, или откуда-то еще, где не было ни этой ночи, ни этой комнаты, он проникался всем этим, в то время как Талита овладевала им, и это было похоже на невнятное бормотание о том, что невозможно выразить, предощущение того, что они оказались перед чем-то, что может прозвучать, но голос, которым это говорилось, сбивался, и, когда она говорила, казалось, что она говорит на незнакомом языке, и в то же время это было единственное, до чего можно было достать рукой, что требовало понимания и прощения, и он, будто проламывая дымовую завесу, похожую на пористую губку, недоступный и обнаженный, отдался во власть этих рук, но так, как бежит между пальцев вода, пополам со слезами.
«Мозги начисто задубели», — подумалось Травелеру. Он слушал весь этот наворот о страхе, об Орасио, о грузовом лифте, о голубке; коммуникативная система постепенно восстанавливалась. Значит, он, бедненький наш, несчастненький, боялся, что это он ее убил, но это же смешно.
— Он что, прямо так тебе и сказал? Верится с трудом, ты же знаешь, какой он гордец.
— На этот раз речь о другом, — сказала Талита, отбирая у него сигарету и жадно затягиваясь, как в немом кино. — Мне кажется, страх для него — что-то вроде последнего прибежища, перила, за которые цепляются, прежде чем броситься вниз. Он был так рад, что испытал страх этой ночью, я знаю, он был рад.
— А вот этого, — сказал Травелер, делая глубокий вдох, как настоящий йог, — не поняла бы даже Кука, можешь мне поверить. А я должен голову себе сломать, пытаясь понять, — радостный страх, это нелегко проглотить, старушка.
Талита завозилась на постели и приникла к Травелеру. Она знала, что снова с ним и что она не утонет, он всегда удержит ее на поверхности, и что в глубине была только жалость, чудесным образом возникшая жалость. Оба почувствовали это одновременно и скользнули навстречу друг к другу, словно для того, чтобы обрести самих себя, на единой для обоих земле, где слова, ласки и губы образуют совершенный законченный круг, ох уж эти успокоительные метафоры, эта застарелая печаль удовлетворенности оттого, что все вернулось на круги своя и продолжается как было, все удержалось на поверхности, несмотря на ветер и шторм, кто бы их ни звал и куда бы ни падал.
56[552]
Откуда взялась у него это привычка собирать в карманы обрывки бечевок, разноцветных ниток, класть их в книги вместо закладок и мастерить из них с помощью тягучего клея разные штуки. Наматывая черную нитку на ручку двери, Оливейра спрашивал себя, не испытывает ли он от непрочности этих нитей что-то вроде извращенного удовлетворения, и решил, что, may be, peut-être,[553] кто знает. Ясно было только одно: нитки и бечевки приносили ему радость, ничто не оказывало на него такого душеспасительного действия, как соорудить, например, гигантский прозрачный двенадцатигранник, труд многих часов и большой сложности, чтобы потом поднести к нему спичку и смотреть, как маленький язычок пламени бегает по нему вверх-вниз, в то время как Хекрептен за-ла-мы-ва-ет-ру-ки и говорит, как ему не стыдно сжигать такую красоту. Невозможно объяснить ей, чем более хрупка и недолговечна конструкция, тем приятнее ее собирать и разбирать. Нитки казались Оливейре единственным подходящим материалом для его изобретений, и только иногда, если только он находил его на улице, он решался использовать кусочек проволоки или старый обруч. Ему нравилось, что в его изделиях так много свободного пространства, где туда-сюда гуляет ветер, и особенно нравилось, что он гуляет не только туда, но и оттуда; то же самое происходило у него с книгами, женщинами и обязанностями, и ему не важно было, что в его празднике ничего не понимает хоть Хекрептен, хоть сам кардинал-примас.
Мысль о том, чтобы намотать черную нитку на дверную ручку, пришла ему в голову часа через два после всего, но, кроме того, надо было еще много чего сделать и у себя в комнате, и вне ее. Мысль насчет тазов была классической, и он не чувствовал никакой гордости оттого, что об этом вспомнил, однако тазы с водой в темноте — это уже серьезная линия обороны, столкновение с которой может вызвать реакцию весьма разного свойства: можно испытать удивление, можно ужас и, уж во всяком случае, слепую ярость, стоит только понять, что ты попал ботинком от «Фанакаль» или от «Тонса» прямо в воду, и носок теперь тоже стал мокрый, с ноги льется вода, и ноге так неудобно в мокром носке, а носку в ботинке, ступня словно утопающая мышь или как один из тех бедняг, которых ревнивые султаны сбрасывали в Босфор в зашитом мешке (естественно, нитками: все соединяется воедино, забавно, что соединение таза, наполненного водой, с нитками является результатом логических выводов, а не их исходной точкой), но тут Орасио позволил себе допустить предположение, что порядок логических выводов не должен а) соответствовать физическому времени, всем этим «до того» и «после того», и что, б) возможно, логические построения подсознательно затем и проводились, чтобы привести его от ниток к тазам с водой. В конце концов едва он попытался это проанализировать, как тут же впал в тяжелые сомнения детерминизма; лучше уж окопаться тут и не слишком вдаваться в логические выводы и преференции. Так или иначе, что было первичным — нитка или таз? Как орудие казни — таз, но с ниткой все решилось гораздо раньше. Не стоит забивать себе этим голову, когда игра идет не на жизнь, а на смерть; куда важнее было раздобыть тазы, и первые полчаса ушли на тщательное обследование второго этажа и частично первого, откуда он вернулся с пятью тазами среднего размера, тремя суднами и пустой банкой из-под бататового[554] десерта, но главной добычей были, конечно, тазы. Номер 18, который не спал, предложил составить ему компанию, и Оливейра в конце концов согласился, решив, что откажется от его услуг, как только операции по самозащите приобретут должный размах. По части ниток номер 18 оказался очень полезен, потому что не успел Оливейра кратко проинформировать его о том, в каких стратегических материалах он нуждается, тот прикрыл зеленые глаза, таившие зловещую красоту, и сказал, что у номера 6 все ящики забиты разноцветными нитками. Единственная проблема состояла в том, что номер 6 помещалась на нижнем этаже, в том же крыле, что и Реморино, а если они разбудят Реморино, он развопится не на шутку. Номер 18 подтвердил, что номер 6 — сумасшедшая, и проникнуть к ней в комнату будет сложно. Прикрыв зеленые глаза, таившие зловещую красоту, он предложил Оливейре постоять на стреме в коридоре, пока он, босиком, попытается конфисковать нитки, но Оливейре показалось, что это уже слишком, и он принял решение взять всю ответственность на себя за проникновение в комнату номера 6 среди ночи. Забавно было думать об ответственности, когда он вошел в спальню девушки, которая храпела, лежа на спине, и кто угодно мог сделать с ней что угодно; набив карманы нитками, с руками, полными разноцветных клубков, Оливейра какое-то время смотрел на нее, потом пожал плечами, как если бы некое подобие чувства ответственности стало давить на него гораздо меньше. Номеру 18, который ждал его в комнате созерцая гору тазов на кровати, показалось, что Оливейра принес недостаточное количество ниток. Прикрыв зеленые глаза, таившие зловещую красоту, он высказался в том смысле, что для более эффективного укомплектования системы защитных сооружений требуется приличное количество шарикоподшипников и пистолет с рукояткой. Идея насчет шарикоподшипников понравилась Оливейре, хотя точного представления о том, что это такое, у него не было, а вот пистолет с рукояткой он решительно отверг. Номер 18 широко открыл зеленые глаза, таившие зловещую красоту, и сказал, что пистолет с рукояткой — это совсем не то, что думает доктор (слово «доктор» он подчеркнул особо, любой бы догадался, что он хочет его поддеть), но, поскольку доктор отказывается, он попытается достать только шарикоподшипники. Оливейра отпустил его, надеясь, что он не вернется, — ему хотелось остаться одному. В два часа Реморино придет, чтобы сменить его на дежурстве, а до этого нужно было еще кое-что продумать. Если Реморино не найдет его в коридоре, он пойдет искать его в комнате, а этого никак нельзя было допустить, разве что испробовать на нем систему защитных сооружений. Но от этой мысли он отказался сразу, поскольку защитные сооружения задумывались ввиду нападения совершенно определенного толка, Реморино же войдет к нему по другому поводу. Его опасения все росли (он то и дело поглядывал на часы, и каждый раз опасения возрастали, поскольку время шло); он закурил, прикидывая, насколько он защищен у себя в комнате, и без десяти минут два решил пойти и разбудить Реморино лично. Он передал ему отчет о своем блистательном дежурстве: обратить внимание на незначительные повышения показателей в температурных листах, не забыть вовремя дать успокоительное, проследить за острыми проявлениями синдрома и быть начеку по поводу опорожнения кишечника — все это касалось пожилой публики нижнего этажа, так что Реморино и отлучиться от них будет некогда, в то время как на втором этаже, согласно тому же отчету, все спят тихо и спокойно и единственное, что им нужно, — это чтобы никто не беспокоил их до утра. Реморино поинтересовался на всякий случай (без особенного рвения), исходит ли такое количество назначений на одном этаже и отсутствие таковых на другом от высокоавторитетного доктора Овехеро, на что Оливейра лицемерно произнес некое односложное восклицание, долженствующее обозначать утверждение, адекватное моменту. После чего они дружески расстались, и Реморино, зевая, поднялся этажом выше, а Оливейра, весь дрожа, еще на один этаж. Нет, ни в коем случае не стоит прибегать к помощи пистолета с рукояткой, хорошо, что он согласился только на шарикоподшипники.
Какое-то время все было тихо, потому что номер 18 не показывался, и надо было идти наливать воду в тазы и судна, расположив их на первой линии обороны, немного позади первого барьера из ниток (он существовал пока только в теории, но уже был тщательнейшим образом продуман), и изучить возможные способы атаки, а в случае падения первой линии проверить эффективность второй. Наливая воду в тазы, Оливейра наполнил раковину, окунул в воду лицо и руки, смочил шею и волосы. Он курил не переставая, но, выкурив полсигареты, подходил к окну, выбрасывал окурок и начинал следующую. Окурки падали на клетки классиков, и Оливейра прикидывал, куда бросить, чтобы сверкающие огоньки хоть немного горели в разных клетках одновременно; это развлекало. В эти минуты он решил подумать о чем-нибудь совершенно постороннем, dona nobis расет,[555] кулебяку съешь мясную, не пройдешь в дверь никакую, что-нибудь такое, но иногда вдруг проносились обрывки мыслей, нечто среднее между понятием и ощущением, например что строить заграждения есть непомерная глупость и, может быть, следовало проэкспериментировать, хотя это и безрассудно, но, возможно, именно поэтому эффективно, и напасть самому, вместо того чтобы защищаться, взять в осаду, вместо того чтобы сидеть тут и курить в ожидании, когда номер 18 вернется с шарикоподшипниками; но такие мысли длились недолго, примерно пока курилась сигарета, руки у него дрожали, и он знал, что ничего другого ему все равно не остается, и вдруг другое воспоминание, оно появлялось словно надежда, чья-то фраза о том, что сон и явь пока что не соединились во времени, а потом он слышал, что кто-то смеется, но, кажется, это был не он, и появлялась гримаса, которая ясно показывала, что до этого соединения еще очень далеко и что все виденное во сне не имеет никакого значения наяву и наоборот. Может, ему напасть на Травелера, ведь лучшая защита — нападение, но это означало вторжение чего-то такого, что он все больше и больше был склонен называть черной массой, на территорию, где люди спят и никто не ждет никакого нападения среди ночи, тем более что нормального объяснения причин для этого нет, кроме как в терминах типа «черная масса». Но хотя он чувствовал это именно так, ему не хотелось формулировать свои ощущения словами черной массы, его чувства сами были подобны черной массе, но по его собственной вине, а не по вине территории, где спал Травелер; и потому лучше было не употреблять таких неприятных слов, как черная масса, а просто называть это территорией, если уж все равно приходится формулировать свои ощущения в словах. Следовало вспомнить, что эта территория начиналась напротив его комнаты, и, значит, атаковать ее не стоило, поскольку мотивация атаки будет не понята частью этой территории, а на то, что это будет уловлено интуитивно, и надеяться нечего. И наоборот, если он забаррикадируется в своей комнате и Травелер на него нападет, никто не сможет утверждать, что Травелер не ведал, что творил, а вот атакуемый, со своей стороны, был прекрасно подготовлен и принял меры, предусмотрительные и шарикоподшипниковые, чем бы ни оказались эти последние на самом деле.
Пока что ему оставалось только стоять у окна и курить, изучая диспозицию тазов с водой и мотки ниток, и думать о том, что единство подвергается испытанию из-за конфликта с территорией, смежной с его комнатой. Видимо, ему и дальше предстоит мучиться из-за того, что у него нет даже первоначального представления об этом самом единстве, которое он иногда называл центром и которое, за неимением более четких очертаний, свелось к отрывочным образам вроде черного крика, или кибуца желаний (каким далеким кажется сейчас этот предрассветный кибуц и красное вино), или просто жизни, достойной этого названия, потому что (он почувствовал это, когда метил окурком в пятую клетку) он был достаточно несчастлив, чтобы представлять себе возможность достойной жизни, наделав столько недостойных дел, каждый раз тщательно доводимых им до логического конца. Не то чтобы он именно так и думал, он скорее мог определить свои ощущения в таких терминах, как спазм желудка, территория, дыхание глубокое или прерывистое, влажные от пота ладони, закуривание сигареты, натянутые кишки, жажда, безмолвные крики, которые черной массой подступали к горлу (в этой игре всегда присутствовала черная масса), желание уснуть, боязнь уснуть, тревожное ожидание, образ голубки, некогда белой, разноцветное тряпье на фоне чего-то, что могло бы быть пейзажем, Сириус в отверстии циркового шатра, и хватит, че, прошу тебя, хватит; но все равно было хорошо чувствовать себя вот так непомерно долго, не думая ни о чем, только зная, что ты тут и что у тебя свело желудок. Все это против территории, явь против сна. Однако сказать: явь против сна — значит подключить сюда диалектику, еще раз подтвердить, что не может быть никакой, даже самой отдаленной, надежды на единство. И потому появление номера 18 с шарикоподшипниками было прекрасным предлогом для возобновления подготовки защитных сооружений, в три часа двадцать минут или чуть раньше.
Номер 18 прикрыл зеленые глаза, таившие зловещую красоту, и развернул полотенце, в котором он принес шарикоподшипники. Он сказал, что проследил за Реморино и что у Реморино полно работы с 31, 7 и 45-м номерами, — ему и думать нечего о том, чтобы подняться на второй этаж. По всей видимости, больные упирались, возмущенные терапевтическими нововведениями, которые Реморино пытался к ним применить, так что пилюли и уколы займут у него много времени. В любом случае Оливейра не хотел терять ни минуты, и, указав номеру 18, как наилучшим образом расположить шарикоподшипники, он решил проверить эффективность тазов с водой, для чего он сначала вышел из комнаты в коридор, преодолев страх перед фиолетовым мерцанием, а потом вернулся в комнату с закрытыми глазами, представляя, что он — это Травелер, и ставя ноги немного носками врозь, как Травелер. На втором шаге (хотя он все знал) он угодил-таки левой ногой в судно с водой, а когда резко выдернул ногу, судно пролетело через комнату и упало, к счастью, на кровать, не наделав никакого шума. Номер 18, который ползал под столом, собирая шарикоподшипники, вскочил, прикрыв глаза, таившие зловещую красоту, и посоветовал сделать горку из шарикоподшипников между первой заградительной линией тазов и второй, мало того что нападающий неожиданно попадет ногой в холодную воду, он еще и ляпнется на пол со всего размаху, потому что поскользнется. Оливейра ничего не сказал, но не стал ему мешать, он поставил судно с водой на прежнее место и стал наматывать черную нитку на ручку двери. Нитка дотянулась до письменного стола, и он привязал ее к спинке стула; он установил стул на две ножки, уперев ребро сиденья о край стола, так что достаточно было открыть дверь — и стул упадет. Номер 18 вышел в коридор разведать обстановку, а Оливейра придерживал стул, чтобы не было шума. Его начинало раздражать дружеское участие номера 18, который время от времени прикрывал зеленые глаза, таившие зловещую красоту, и все хотел рассказать, как он попал в клинику. Правда, достаточно было приложить палец к губам, чтобы он стыдливо умолк и на пять минут замер, прижавшись к стене, но все равно Оливейра подарил ему непочатую пачку сигарет и сказал, чтобы он шел спать и постарался при этом не разбудить Реморино.
— Я останусь с вами, доктор, — сказал номер 18.
— Нет, иди спать. Я сумею защититься в лучшем виде.
— Вам не хватает пистолета с рукояткой, я же говорил. И прибейте везде крючочки, нитки будут лучше держаться.
— Я так и сделаю, старик, — сказал Оливейра. — Иди спать, я тебе очень благодарен.
— Ладно, доктор, тогда удачи вам.
— Чао, хороших тебе снов.
— Обратите внимания на шарикоподшипники, они точно не подведут. Оставьте их как есть, и увидите, что будет.
— Обязательно.
— Но если вы все-таки захотите пистолет с рукояткой, скажите мне, у номера 16 есть один.
— Спасибо. Чао.
В половине четвертого Оливейра закончил привязывать нитки. Номер 18 унес с собой слова, кроме того, не надо было больше ни с кем встречаться глазами или угощать кого-то сигаретой. Почти в темноте, поскольку он обернул настольную лампу зеленым пуловером, который все больше и больше подпаливался на огне, он был похож на паука, когда ходил с ниткой из конца в конец, от кровати к дверям, от умывальника к шкафу, и тянул за собой пять-шесть нитей, ступая с большой осторожностью, чтобы не наступить на шарикоподшипники. В конце концов он загнал себя в угол между окном, краем стола (расположенного в углублении стены, справа) и кроватью (придвинутой к левой стене). Между дверью и последней линией обороны тянулись в следующем порядке предупредительные нити (от ручки двери к наклоненному стулу, от ручки двери к пепельнице с логотипом Мартини, которая стояла на краю умывальника, и от ручки двери к ящику шкафа, забитому книгами и бумагами, который пришлось выдвинуть почти до упора), а тазы с водой представляли собой две неровные оборонительные линии, протянувшиеся почти что вплотную от левой стены к правой или, лучше сказать, первая линия шла от умывальника к шкафу, а от ножек кровати до ножек письменного стола шла вторая линия. После второй линии тазов оставалось меньше метра свободного пространства, по которому протянулись многочисленные нити, а дальше шла стена с окном, выходившим в патио (двумя этажами ниже). Сидя на краешке стола, Оливейра закурил очередную сигарету и стал смотреть в окно; в какой-то момент он снял рубашку и бросил ее под стол. Теперь и попить не пойдешь, даже если очень захочешь. Так он и сидел в майке, курил и смотрел во двор, в то же время внимательно следя за дверью, впрочем периодически отвлекаясь на то, чтобы попасть окурком в клетку классиков. Не так уж ему было и плохо, хотя сидеть на краю стола было жестко, а от пуловера омерзительно несло паленой шерстью. В конце концов он погасил лампу и постепенно стал различать под дверью фиолетовую черту, а это значит, когда Травелер подойдет к дверям в своих спортивных тапочках на резиновой подошве, фиолетовая черта будет прервана в двух местах, непроизвольный знак к началу атаки. А когда Травелер откроет дверь, много чего произойдет, а может произойти еще больше. Сначала механическое и неизбежное, в соответствии с дурацкой последовательностью причинно-следственных связей между стулом и ниткой, между дверной ручкой и рукой, между рукой и волевым импульсом, между волевым импульсом и… Далее он перешел к другим вещам, которые могут или не могут произойти — например, упадет ли стул на пол, разобьется ли пепельница Мартини на пять или на шесть кусочков, вывалится ли ящик из шкафа — и как все это отразится на Травелере, да и на самом Оливейре, потому что теперь, когда он закурил новую сигарету от предыдущей и бросил окурок, стараясь попасть в девятую клетку, но увидел, как тот попал в восьмую и отскочил в седьмую, что за поганый окурок, так вот именно в этот момент он спросил себя, а что будет делать он сам, когда откроется дверь, и полкомнаты полетит ко всем чертям, и послышится приглушенный вскрик Травелера, если он вскрикнет и если это будет приглушенно. Все-таки зря он отказался от пистолета с рукояткой, потому что, кроме лампы, которая ничего не весила, и стула, в том углу у окна, где он оказался, из оборонительного арсенала решительно ничего не было, а с лампой и со стулом далеко не уедешь, если Травелеру удастся преодолеть две линии тазов с водой и не поскользнуться на шарикоподшипниках. Но ему это не удастся, в этом вся стратегия и состояла; оборонительное оружие не может быть точно таким же, как наступательное. Нитки, к примеру, должны вызвать у Травелера ужасную реакцию, в темноте он продвигается вперед, и вдруг что-то налипает ему на лицо, руки, ноги и мешает идти, и он чувствует непреодолимое отвращение, которое охватывает любого человека, запутавшегося в паутине. Предположим, он рывком освобождается от ниток, предположим, он не угодит ботинком в таз с водой, и не поскользнется на шарикоподшипниках, и доберется до сектора окна, и, несмотря на темноту, различит неподвижный силуэт на краю стола. Сомнительно, что он сюда доберется, но, если это произойдет, нет никакого сомнения в том, что пистолет с рукояткой Оливейре совершенно не понадобится, но не потому, что номер 18 посоветовал ему везде набить крючочки, а потому, что это будет совсем не такая встреча, как воображает Травелер, а нечто совсем иное, что он и сам не способен вообразить, но знает это так хорошо, будто видел собственными глазами или пережил, извне наваливается черная масса и наступает на то, что он знает, не зная, эта невычислимая невстреча между черной массой по имени Травелер и тем, что сидит на краешке стола и курит. Явь против сна, что-то вроде этого (сны и явь, сказал кто-то когда-то, никогда не совпадают между собой во времени), но сказать «явь против сна» — значит согласиться, что нет никакой надежды на единство. И наоборот, могло случиться так, что приход Травелера стал бы крайней точкой, оттолкнувшись от которой можно было бы сделать еще одну попытку и перепрыгнуть из одного в другое и одновременно из другого в первое, но прыжок этот был бы не столкновением, а чем-то ему противоположным. Оливейра был уверен, что территория Травелер все равно не сможет его достичь, даже если навалится на него сверху, поколотит, порвет на нем майку, наплюет ему в глаза, в рот, выкрутит руки и выбросит в окно. И если пистолет с рукояткой был абсолютно неэффективен против территории, поскольку, по словам номера 18, был не опаснее крючка для застегивания пуговиц или чего-то в этом роде, что может сделать нож-Травелер или кулак-Травелер, бедный пистолет с рукояткой, ему не уничтожить неуничтожаемое расстояние между двумя телами, если одно тело отрицает другое или другое отрицает первое? Вообще-то, Травелер мог и убить его (во рту почему-то пересохло, а ладони противно вспотели), однако все в нем восставало против того, что такие планы вынашиваются, потому что тогда это можно было бы расценивать как предумышленное убийство и никак иначе. Пока что лучше было предполагать, что убийца — не убийца, что территория — не территория, отодвигать от себя, минимизировать угрозу, исходящую от территории, и нарочно недооценивать ее, чтобы в результате всей этой возни, кроме шума и вдребезги разбитой пепельницы, не было бы других, более значительных последствий. Если исходить (борясь со страхом) из того, что ударным моментом встречи с территорией следует считать крайнее изумление, тогда лучшая атака — оборона, а лучшее оружие не лезвие, а клубок ниток. Но чего стоят все эти метафоры посреди ночи, когда самое умное, что можно сделать, — это тупо уставиться на фиолетовую черточку под дверью, эту линию температурных показателей территории.
Без десяти четыре Оливейра выпрямился, расправил онемевшие плечи и пересел на подоконник. Приятно было думать о том, что, если ему повезет и он сойдет с ума этой ночью, с территорией Травелер будет покончено. Этот вывод никак не сочетался с его гордостью и намерением противостоять и ни за что не сдаваться. В любом случае представить, как Феррагуто вписывает его фамилию в список пациентов, с номером на дверях комнаты и волшебным глазком, чтобы наблюдать за ним по ночам… А Талита будет приготавливать ему облатки в своей аптеке и ходить через патио с большой осторожностью, чтобы не наступить на классики, чтобы больше никогда не наступить на классики. А что говорить о Ману, бедняга, он будет безутешен, ведь причиной всему его упрямство и его нелепая попытка нападения. Повернувшись спиной к патио, довольно рискованно раскачиваясь на подоконнике, Оливейра почувствовал, как страх начинает уходить, — это плохо. Он не отрывал глаз от полоски света, но с каждым вдохом его все больше наполняло чувство покоя, безмолвная и не имеющая ничего общего с территорией радость, которую ему давало ощущение, что территория отступает. Неважно, сколько это будет продолжаться, однако жаркий воздух окружающего мира с каждым вдохом примирял его с самим собой, как это уже не раз бывало в его жизни. Даже курить не хотелось, на несколько минут он заключил мир с самим собой, а это было равносильно тому, чтобы уничтожить территорию, выиграть без боя, снова захотеть спать, едва проснувшись, оказаться там, где сон и явь смешивают первые воды и вдруг понимаешь, что их вода едина; но, естественно, все это не годится, естественно, все это будет прервано внезапным появлением двух черных отрезков где-то посредине светящейся фиолетовой полоски, и в дверь вкрадчиво поскребутся. «Но ведь тебе только этого и надо, — подумал Оливейра, съезжая с подоконника к самому столу. — А правда-то в том, что, наклонись я чуть больше, я бы разбил голову с клетки классиков. Так входи же, Ману, все равно ты не существуешь, или не существую я, или мы оба такие дураки, что во все это верим и сейчас убьем друг друга, да, брат, на этот раз до победы, и привет родителям».
— Входи же, — повторил он вслух, но дверь как была закрыта, так и осталась. Кто-то тихо царапался в дверь, и, вероятно, это было чистое совпадение, но внизу, у фонтана, кто-то стоял, какая-то женщина стояла к нему спиной, — распустив по плечам длинные волосы, уронив руки вдоль тела, она была поглощена созерцанием фонтанной струи. В такой час и в таком сумраке она могла оказаться Магой, или Талитой, или кем-нибудь из здешних сумасшедших, даже Полой, если уж начать о ней думать. Ничто не мешало ему смотреть на женщину, которая стояла к нему спиной, распустив по плечам волосы и уронив руки вдоль тела, потому что, если Травелер решит войти, оборонительная система сработает сама собой и будет достаточно времени, чтобы отвлечься от патио и обратить взор на то, что перед тобой. В любом случае было довольно странно, что Травелер продолжает царапаться в дверь, дабы удостовериться, что Оливейра спит (нет, это не Пола, у Полы шея покороче, а бедра более четко очерчены), если только он тоже не придумал какую-нибудь особую систему нападения (это Мага или Талита, они так похожи, особенно ночью и со второго этажа), которая должна вы-вес-ти-его-из-се-бя (по крайней мере с часу ночи до восьми утра, не может быть, чтобы сейчас было больше восьми, никогда ему не добраться до Неба, никогда не найти свой кибуц). «Чего ты ждешь, Ману? — подумал Оливейра. — И зачем нам все это?» Конечно, это была Талита, которая сейчас, подняв голову, смотрела вверх, но продолжала стоять неподвижно, когда он высунул в окно свою голую руку и вяло помахал ей.
— Подойди сюда, Мага, — сазал Оливейра. — Отсюда ты так похожа, что тебе бы надо сменить имя.
— Закрой окно, Орасио, — попросила Талита.
— Это невозможно, жара ужасная, а твой муж царапается в дверь, хочет меня напугать. Это то, что называется стечением неблагоприятных обстоятельств. Но ты не беспокойся, найди камешек и попробуй еще раз, кто знает, может, однажды…
Ящик шкафа, пепельница и стул разом рухнули на пол. Немного пригнув голову, ослепленный Оливейра смотрел на фиолетовый прямоугольник, появившийся вместо двери, на черное пятно, которое двигалось на этом фоне, и слушал проклятия Травелера. Грохот был такой, что разбудил, должно быть, полсвета.
— Ну ты докатился, — сказал Травелер, останавливаясь в дверях. — Ты что, хочешь, чтобы директор всех нас отсюда вышвырнул?
— Учит меня жить, — сообщил Оливейра Талите. — Он мне всегда был как отец родной.
— Пожалуйста, закрой окно, — сказала Талита.
— Нет ничего нужнее открытого окна, — сказал Оливейра. — Если прислушаться к тому, что делает твой муж, станет ясно, что он угодил ногой в воду. А физиономия у него наверняка вся опутана нитями, и он не знает, что делать.
— Сукин ты сын, — сказал Травелер, размахивая в темноте руками и пытаясь освободиться от ниток. — Да зажги ты свет, черт бы тебя побрал.
— Что-то он все никак не упадет, — сообщил Оливейра. — Шарикоподшипники не на высоте.
— Не высовывайся! — закричала Талита, вскидывая руки. Сидя спиной к окну, он обернулся, чтобы, разговаривая, смотреть на нее, и при этом все больше свешивался из окна. Кука Феррагуто выбежала во двор, и только тут Оливейра заметил, что уже утро и что халат Куки того же цвета, что и булыжник во дворе, и стены аптеки. Решив обратить взор на театр военных действий, он вгляделся в темноту и догадался, что, несмотря на трудности проникновения через систему защитных сооружений, Травелеру удалось закрыть дверь. Кроме ругани он услышал, как щелкнула задвижка.
— Вот это мне нравится, че, — сказал Оливейра. — Один на один на ринге, как положено мужчинам.
— Мне насрать на то, что тебе нравится, — сказал Травелер в бешенстве. — У меня в ботинке суп, и это самая противная вещь на свете. Зажжешь ты свет, наконец, не видно же ничего!
— Во время атаки на Канча-Раяда[556] эффект неожиданности был примерно такой же, — сказал Оливейра. — Ты же понимаешь, я ни за что не пожертвую преимуществом своих позиций. Скажи спасибо, что я с тобой хотя бы разговариваю, вообще-то не должен был бы. Я ведь тоже ходил в Государственную школу стрельбы, братец.
Он слышал, как тяжело дышит Травелер. Внизу колотили в дверь, доносился голос Феррагуто и еще чьи-то вопросы и ответы. Силуэт Травелера проступал все яснее; остальное тоже приобрело свое местоположение и количество — пять тазов, три судна, дюжины шарикоподшипников. Свет стал такого же оттенка, какого была голубка на ладони сумасшедшего старика.
— Ну так что? — сказал Травелер, поднимая упавший стул и нехотя усаживаясь. — Ты можешь мне объяснить, что за бардак ты тут устроил?
— Это будет очень трудно, че. Говорить, сам знаешь…
— Ты, чтобы поговорить, находишь такое время, что и представить невозможно, — раздраженно сказал Травелер. — То тебе понадобилось усаживать нас обоих верхом на доску, когда сорок пять в тени, то ты ставишь меня ногой в воду и заматываешь этими паршивыми нитками.
— И заметь, в позициях, всегда симметричных друг другу, — сказал Оливейра. — Как два близнеца на качелях или как кто-то один перед зеркалом. Ты этого не замечал doppelgӓnger?[557]
Вместо ответа Травелер достал из кармана пижамы сигарету и закурил, Оливейра в это время тоже достал сигарету и тоже закурил. Они взглянули друг на друга и рассмеялись.
— Ну ты совсем спятил, — сказал Травелер. — На этот раз ты себя превзошел. Значит, ты вообразил, что я…
— Оставим в покое мое воображение, — сказал Оливейра. — Не зацикливайся только на том, что я принял меры предосторожности, ведь пришел-то ты. Не кто-нибудь. А ты. Причем в четыре часа утра.
— Талита сказала мне, и мне показалось… Так ты что, на самом деле думал?..
— А может, это было необходимо, Ману? Ты думаешь, что встал для того, чтобы пойти и утешить меня, вернуть мне уверенность. Если бы я спал, ты бы просто вошел, как всегда делает тот, кто спокойно подходит к зеркалу, и понятно, что подходит спокойно, когда в руке кисточка для бритья, но заметь, на этот раз вместо кисточки ты принес то, что сейчас у тебя в кармане пижамы…
— Он у меня всегда с собой, че, — сказал Травелер с возмущением. — Или ты думаешь, мы тут в детском саду? Если ты не носишь оружия, то только потому, что ничего не соображаешь.
— Так что, — сказал Оливейра, помахав рукой Куке и Талите и снова усаживаясь на подоконник, — все, что я по этому поводу думаю, — это пустяки по сравнению с тем, что могло бы быть на самом деле, нравится нам это или не нравится. Все это время мы с тобой как та собака, которая крутится на одном месте, пытаясь укусить собственный хвост. И не потому, что мы ненавидим друг друга, наоборот. Существует нечто, что использует нас с тобой в своей игре, пешка белая и пешка черная, что-то в этом роде. И, как во всякой игре, исхода может быть только два: один выигрывает, другой проигрывает, потом наоборот.
— Нет у меня к тебе никакой ненависти, — сказал Травелер. — Просто ты загнал меня в угол, и теперь я не знаю, что мне делать.
— Mutatis mutandis,[558] ведь это ты ждал меня в порту, вроде как предлагая перемирие, ты выкинул белый флаг, этот печальный призыв все забыть. У меня тоже нет к тебе ненависти, братец, просто я вывожу тебя на чистую воду, а ты говоришь, что я тебя загоняю в угол.
— Я живой человек, — сказал Травелер, глядя ему прямо в глаза. — А в этой жизни приходится платить за все. Ты же не хочешь платить ни за что. И никогда не хотел. Сектант-экзистенциалист в чистом виде. Или Цезарь, или никто,[559] знай рубишь с плеча. Ты думаешь, я по-своему не восхищаюсь тобой? Думаешь, я перестал бы восхищаться тобой, наложи ты на себя руки? Настоящий Doppelgӓnger — это ты сам, некое бесплотное существо, концентрация воли в виде флюгера, который крутится на крыше. Хочу того, хочу этого, хочу на север, хочу на юг, причем одновременно, хочу Магу, хочу Талиту, и тут сеньор решает посетить морг и одаряет поцелуем жену своего лучшего друга. И все потому, что реальность и воспоминания перемешались у него в голове в совершенно неевклидовой манере.
Оливейра пожал плечами, но взгляда не отвел, чтобы Травелер не расценил это как пренебрежение. Он словно пытался внушить Травелеру: то, что на их территории называется поцеловать, поцеловать Талиту, поцеловать Магу или Полу, — это еще одна игра с зеркалом, такая же как повернуть голову к окну и смотреть на Магу, которая стоит у самого края классиков, в то время как Кука, Реморино и Феррагуто, столпившись у дверей, видимо, ждут, когда Травелер высунется из окна и скажет им, что все нормально, достаточно таблетки эмбутала, а если смирительную рубашку, то, может, всего на несколько часов, пока парень не войдет в норму. Стук в дверь не способствовал процессу взаимопонимания. Если бы Ману был способен почувствовать — все, о чем он сейчас думает, не имеет никакого смысла по ту сторону окна, это годится только по эту сторону, где тазы и шарикоподшипники, и если бы тот, за дверью, перестал хоть на минуту молотить кулаками, может быть, тогда… А так, ему не оставалось ничего другого — только смотреть на Магу, такую красивую на краю классиков, и пожелать ей, чтобы она, перебрасывая камешек из клетки в клетку, прошла бы весь путь от земли до Неба.
— …в совершенно неевклидовой манере.
— Я ждал тебя все это время, — устало сказал Оливейра. — Ты же понимаешь, я не мог так запросто позволить выпустить себе кишки. Каждый делает то, что считает нужным, Ману. А если тебе нужно объяснение тому, что произошло внизу… так это яйца выеденного не стоит, и ты это прекрасно знаешь. Ведь знаешь, doppelgӓnger, прекрасно знаешь. Для тебя этот поцелуй ничего не значит и для нее тоже. В конце концов, важно только то, что происходит между вами двумя.
— Откройте! Откройте сейчас же!
— Они все это приняли всерьез, — сказал Травелер, поднимаясь со стула. — Ну что, откроем? Это, наверное, Овехеро.
— Для меня…
— Он хочет сделать тебе укол, поскольку Талита подняла на ноги весь наш дурдом.
— Вон она стоит, видишь, скромненькая такая, около классиков… Лучше не открывай, Ману, нам и без них хорошо.
Травелер подошел к двери и приложился губами к замочной скважине. Стадо кретинов, хватит нас доставать, что вы разорались, как в фильме ужасов. Они с Оливейрой в полном порядке и откроют, когда сочтут нужным. Лучше бы кофе на всех приготовили, никакой жизни в этой клинике.
Было хорошо слышно, что Феррагуто в этом не убежден, однако Овехеро своим монотонным мурлыканьем переубедил его, и дверь оставили в покое. Еще какое-то время на переполох указывало лишь собрание во дворе, да свет на третьем этаже то зажигался, то снова гас, — номер 43 таким образом развлекался. Очень скоро Овехеро и Феррагуто снова появились во дворе и оттуда стали смотреть на Оливейру, который, сидя на подоконнике, помахал рукой им обоим и сделал извиняющийся жест — за то, что он в одной майке. Номер 18 подошел к Овехеро и стал объяснять ему что-то насчет пистолета с рукояткой, и Овехеро, казалось, очень заинтересовался, глядя на Оливейру с профессиональным интересом, как смотрят на своего лучшего соперника в покер, что страшно понравилось Оливейре. Почти все окна второго этажа были открыты, и некоторые больные принимали во всем происходящем живейшее участие, хотя ничего особенного не происходило. Мага подняла правую руку, чтобы привлечь внимание Оливейры, как будто это было нужно делать, и попросила его сказать Травелеру, чтобы тот подошел к окну. Оливейра объяснил ей, как мог, что это невозможно, поскольку зона окна относится исключительно к линии обороны и в этом случае следовало бы подписать пакт о перемирии. Он еще добавил, что жест, который она сделала, подняв руку, напомнил ему актрис прошлого, особенно оперных певиц, таких как Эмми Дестин, Мельба, Марджори Лоуренс, Муцио, Бори, да, и еще Теду Бара и Ниту Нальди,[560] он сыпал именами с величайшим удовольствием, и Талита опустила руку, а потом снова умоляюще подняла ее, Элеонору Дузе, естественно, Вильму Банки,[561] конечно же, Гарбо, это ясно, и Сару Бернар, фотографию которой он мальчишкой приклеил себе в школьную тетрадь, и Карсавину, и Баронову[562] — все эти женщины непременно делали такое движение, будто по велению судьбы, но в этом случае совершенно невозможно выполнить ее любезную просьбу.
Феррагуто и Кука вопили во весь голос, но, судя по всему, они хотели противоположного, поскольку Овехеро выслушал их крики, не меняя заспанного выражения лица, а потом сделал им знак молчать, чтобы Талита смогла договориться с Оливейрой. Операция кончилась ничем, потому что Оливейра, в седьмой раз выслушав просьбу Маги, повернулся к ней спиной, и было видно (хотя и не было слышно), что он разговаривает с невидимым Травелером.
— Слыхал, они хотят, чтобы ты высунулся.
— Вот что, давай я выгляну хотя бы на секунду. Я могу пролезть под нитками.
— Ерунду говоришь, че, — сказал Оливейра. — Это последняя линия обороны, если ты ее прорвешь, мы с тобой действительно окажемся в infighting.[563]
— Хорошо, — сказал Травелер, садясь на стул. — Продолжай свой словесный понос.
— Это не понос, — сказал Оливейра. — Если ты хочешь пройти сюда, тебе незачем просить у меня разрешения. Думаю, это и так ясно.
— Ты можешь поклясться мне, что не выбросишься из окна?
Оливейра посмотрел на него так, как будто перед ним стоял огромный, редкой породы медведь.
— Наконец-то, — сказал он. — Открыл свою кухню. И Мага внизу думает то же самое. А я-то думал, вы меня хоть немного знаете.
— Это не Мага, — сказал Травелер. — Ты прекрасно знаешь, что это не Мага.
— Это не Мага, — сказал Оливейра. — Я прекрасно знаю, что это не Мага. И что ты, со знаменем в руках, выступаешь глашатаем капитуляции, дабы восстановить в доме порядок. Мне становится тебя жалко, старик.
— Да забудь ты обо мне, — сказал Травелер с горечью. — Единственное, чего я хочу, дай мне слово, что ты не наделаешь глупостей.
— Обрати внимание, если я выброшусь, — сказал Оливейра, — я попаду прямо на Небо.
— Пройди с этой стороны, Орасио, и дай мне поговорить с Овехеро. Я все улажу, и завтра об этом никто не вспомнит.
— Ты хорошо проштудировал учебник по психиатрии, — сказал Оливейра почти восхищенно. — Память, достойная отличника.
— Послушай, — сказал Травелер. — Если ты не дашь мне высунуться из окна, мне придется сказать им, чтоб ломали дверь, будет только хуже.
— Мне все равно, одно дело войти, а другое — добраться до меня.
— Хочешь сказать, если они попытаются тебя схватить, ты выбросишься.
— Возможно, на твоей территории это называется именно так.
— Прошу тебя, — сказал Травелер, делая шаг вперед. — Тебе не кажется, что все это похоже на кошмар? Они подумают, что либо ты действительно спятил, либо я действительно хотел тебя убить.
Оливейра немного отклонился назад, и Травелер остановился на уровне второго ряда тазов с водой. Он откатил ногой пару шарикоподшипников, но дальше продвигаться не стал. Под встревоженные крики Куки и Талиты Оливейра медленно выпрямился и сделал им знак успокоиться. Как бы признав себя побежденным, Травелер немного подвинул стул и сел. В дверь снова заколотили, правда не так сильно, как раньше.
— Не ломай ты себе голову, — сказал Оливейра. — Почему ты все время ищешь каких-то объяснений, старик? Единственная разница между нами в данный момент — это то, что я один. И потому будет лучше, если ты спустишься вниз, к своим, и мы поговорим через окно, как добрые друзья. Около восьми я думаю отсюда смыться, Хекрептен наверняка уже ждет, с тостами и мате.
— Ты не один, Орасио. Ты носишься со своим одиночеством из чистого тщеславия, изображаешь из себя Мальдорора из Буэнос-Айреса. Так ты говоришь dop-pelgӓnger, да? Ну видишь теперь, кто-то и правда следует за тобой, кто-то, такой же как ты, хотя он и стоит по другую сторону твоих проклятых ниток.
— Жаль, — сказал Оливейра, — что ты все сводишь к тщеславию, это было бы слишком просто. В этом все дело, во что бы то ни стало найти всему определение. А ты не способен почувствовать на секунду, что все может быть совсем не так?
— Представь себе, способен. Но ты все равно сидишь на краю окна и раскачиваешься.
— Если бы ты действительно представил себе, что все совсем не так, если бы действительно добрался до самого нутра… Никто не просит тебя отрицать очевидное, но если бы ты и в самом деле хоть пошевелился, понимаешь меня, ну хоть кончиком пальца шевельнул…
— Если бы все было так просто, — сказал Травелер. — Если бы все можно было решить, развесив эти идиотские нитки… Ну вот, ты взял и пошевелился, и посмотри на результат.
— А что плохого, че? Не так уж мало — сидеть у открытого окна и вдыхать волшебный утренний воздух, ты только почувствуй, какая свежесть в этот час. А внизу все прогуливаются по двору, это потрясающе, они делают зарядку, сами не зная того. Кука, ты только посмотри на нее, а директор-то, обычно этого сурка из норы не выманишь. А твоя жена, да это же сама лень. И ты, со своей стороны, не можешь отрицать, что сегодня впервые проснулся так рано. И когда я говорю «проснулся», ты понимаешь, что я имею в виду, ведь правда?
— А я вот думаю, не наоборот ли все, старик?
— Ох уж эти мне легкие решения, сюжеты для антологий фантастических рассказов. Если ты способен увидеть вещи такими, какие они есть, ты не сдвинешься с места. Если ты выйдешь из территории, то, скажем так, перейдешь из первой клетки во вторую или из второй в третью… Это так трудно, doppelgӓnger, сегодня ночью я проделывал это с помощью окурков и дальше восьмой клетки так и не попал. Все мы хотим царствовать тысячу лет, мечтаем о некой Аркадии, где, вполне возможно, будем куда более несчастны, чем здесь, но речь идет не о счастье, doppelgӓnger, мы не хотим участвовать в этой грязной игре в подмену понятий на протяжении тех пятидесяти — шестидесяти лет, что нам отпущены, мы хотим протянуть руку правде, вместо того чтобы постоянно съеживаться от страха, думая о том, не прячет ли кто-то другой нож за пазухой. Если говорить о подменах, меня нисколько не удивляет, что мы с тобой одно и то же, но только каждый на своем берегу. Поскольку ты считаешь меня тщеславным, то получается, что я выбрал наиболее благоприятную сторону, но как знать, Ману. Единственное, что я знаю, — это то, что я уже не могу быть на твоем берегу, все, что попадает мне в руки, разбивается, я проделываю все эти ужасные вещи, чтобы сойти с ума, полагая, что это очень просто. Но тебе, поскольку ты состоишь в гармонии со своей территорией, не понять этих метаний, я даю первоначальный толчок, и что-то начинает происходить, но тут пять тысяч лет генетики, вроде бы уже сильно полинялой, все равно отбрасывают меня назад, и я снова попадаю на территорию и шлепаю по ней две недели, два года, пятнадцать лет… Однажды я тычу пальцем во что-то привычное, и просто невероятно, палец вдруг продырявливает это привычное и вылезает с другой стороны, кажется, ты уже почти добрался до последней клетки, и вдруг женщина возьми и утопись, или со мной случается приступ, приступ сострадания, когда оно того не стоит, ох уж это мне сострадание… Я говорил тебе о подмене понятий, так ведь? Какая все это грязь, Ману. Почитай Достоевского насчет подмены понятий. Так вот, пять тысяч лет снова отбрасывают меня назад, и приходится начинать все сначала. И я считаю тебя своим doppelgӓnger, потому что постоянно перехожу с твоей территории на мою, если она и вправду моя, и во время этих достойных сожаления перебежек я смотрю на тебя как на свою оболочку, которая осталась на другом берегу и смотрит на меня с жалостью, ты и есть эти самые пять тысяч лет существования человека, втиснутые в метр семьдесят, которые смотрят на меня как на клоуна, который хочет выпрыгнуть из своей клетки классиков. Я все сказал.
— Хватит нас доставать, — крикнул Травелер тем, кто снова колотил в дверь. — Че, в этом дурдоме поговорить спокойно не дадут.
— А ты молодец, брат, — сказал Оливейра растроганно.
— В любом случае, — сказал Травелер, еще немного придвигая стул, — ты не можешь отрицать, что на этот раз перегнул палку. Перевоплощения и прочая фигня — это все, конечно, хорошо, но твои номера будут всем нам стоить работы, и особенно мне жалко Талиту. Ты можешь что угодно говорить про Магу, но свою жену кормлю я.
— Ты абсолютно прав, — сказал Оливейра. — Иногда как-то забываешь о работе и обо всем таком. Хочешь, я поговорю с Феррагуто? Вон он, стоит напротив. Прости меня, Ману, я не хотел, чтобы вы с Магой…
— Ты нарочно называешь ее Магой? Перестань врать, Орасио.
— Я знаю, что это Талита, но она только что была Магой. Их две, как двое нас с тобой.
— Вот это и называется сойти с ума.
— Все как-нибудь да называется, выбор за тобой, стоит только назвать, а там и пошло. С твоего разрешения я скажу несколько слов тем, кто на улице, они там из себя выходят, дальше некуда.
— Я ухожу, — сказал Травелер, поднимаясь со стула.
— Оно и к лучшему, — сказал Оливейра. — Это к лучшему, что ты уходишь и что я отсюда смогу разговаривать с тобой и с остальными. Это к лучшему, что ты уходишь, а не ползаешь на коленях, как сейчас, потому что я объясню тебе ясно и просто, что будет дальше, тебе, который обожает объяснения, как и всякое другое дитя этих пяти тысяч лет. Как только ты, движимый дружескими чувствами и диагнозом, который ты мне поставил, напрыгаешь на меня сверху, я отскочу в сторону, не знаю, помнишь ли ты, что когда-то я ходил на занятия по дзюдо с мальчишками с улицы Анчорена, и в результате ты вылетишь, как ласточка, в это окно, и на четвертой клетке классиков от тебя останется мокрое место, но это — если повезет, потому что наиболее вероятно, что ты не улетишь дальше второй?
Травелер смотрел на него, и Оливейра видел, как его глаза наполняются слезами. Он сделал рукой движение, будто издали гладил его по волосам.
Травелер подождал еще секунду, потом пошел к двери и открыл ее. Реморино попытался протиснуться в дверь (за ним было еще двое санитаров), но Травелер обхватил его за плечи и оттолкнул от дверей.
— Оставьте его в покое, — приказал он. — Через несколько минут с ним все будет в порядке. Его надо оставить одного, хватит его доставать.
Выйдя из диалога, который быстро перерос в трилог, во внелог, в двенадцатилог, Оливейра закрыл глаза и подумал, что все идет хорошо и что Травелер ему действительно как брат. Он услышал, как хлопнула дверь, и голоса стали удаляться. Дверь снова приоткрылась в тот момент, когда он с трудом пытался приподнять веки.
— Закройся на защелку, — сказал Травелер. — Я им не доверяю.
— Спасибо, — сказал Оливейра. — Спускайся во двор, на Талите лица нет.
Он пролез под немногими уцелевшими нитками и закрылся на задвижку. Прежде чем подойти к окну, он набрал в раковину воды, опустил туда лицо и стал лакать, как животное, жадно глотая и отфыркиваясь. Снизу слышалось, как Реморино дает указания больным разойтись по комнатам. Когда он снова выглянул в окно, освеженный и успокоенный, он увидел Травелера, который стоял рядом с Талитой и обнимал ее за талию. После того что сделал для него Травелер, он был полон волшебного чувства примирения со всем миром, и ничто не могло нарушить эту гармонию, пусть бессмысленную, но живую и ощутимую, если не кривить душой, то в глубине души надо признать — Травелер сделал то, что должен был сделать, просто у него поменьше проклятого воображения, он человек территории, неисправимая ошибка биологического вида, пошедшего не по тому пути, но как она прекрасна, эта ошибка, как прекрасны эти пять тысяч лет, неправильных и ненадежных, как прекрасны глаза, полные слез, и этот голос, который советовал ему: «Закройся на защелку, я им не доверяю», как прекрасна его любовь, с какой он сейчас обнимал за талию женщину. «Наверное, — подумал Оливейра, помахав рукой в ответ на дружеское приветствие Овехеро и Феррагуто (не такое дружеское), — единственный способ убежать от территории — это окончательно в ней увязнуть». Он знал, что стоит ему только напомнить себе об этом (еще раз об этом), и в памяти возникнет образ мужчины, который ведет под руку старуху по холодным и дождливым улицам. «Кто знает, — подумал он. — Кто знает, может, я тогда был у самого края, может, там и был переход в другое измерение. Ману бы его нашел, наверняка бы нашел, но он же идиот, этот Ману, он никогда ничего не ищет, а я наоборот…»
— Дружище Оливейра, почему бы вам не спуститься выпить кофе? — предложил Феррагуто, на которого Овехеро в этот момент посмотрел весьма недружелюбно. — Вы уже выиграли пари, вам не кажется? Посмотрите на Куку, она так нервничает…
— Не расстраивайтесь, сеньора, — сказал Оливейра. — Вы, с вашим-то цирковым опытом, не станете убиваться из-за такой ерунды.
— Ах, Оливейра, вы с вашим Травелером просто ужасны, — сказала Кука. — Почему бы вам не последовать совету моего мужа? Я тоже думаю, что нам лучше выпить кофе всем вместе.
— И правда, че, спускайтесь, — сказал Овехеро как бы невзначай. — У меня тут к вам пара вопросов по поводу одной французской книги.
— Отсюда хорошо слышно, — сказал Оливейра.
— Ладно, старик, — сказал Овехеро. — Спуститесь, когда захотите, а мы пошли завтракать.
— Со свежими круассанами, — сказала Кука. — Пойдем сварим кофе, Талита?
— Не стройте из себя идиотку, — сказала Талита, и в наступившей тишине, которая воцарилась вслед за ее высказыванием, Травелер и Оливейра встретились глазами, словно две птицы столкнулись на лету и упали, пойманные сетью, на девятую клетку, по крайней мере так показалось обоим участникам. Какой-то момент Кука и Феррагуто только тяжело дышали, но в конце концов Кука открыла рот и заверещала: «Что означает это оскорбление?» — а Феррагуто выпятил грудь и снизу доверху смерил взглядом Травелера, который в свою очередь смотрел на свою жену с восхищением, хотя и немного с упреком, и тут Овехеро нашел подходящее случаю научное определение и сухо изрек: «Утренняя истерия на почве производственного фактора, пойдемте со мной, я дам вам успокаивающее», а в это время номер 18, вопреки указаниям Реморино, вышел во двор, объявив, что номер 31 совершенно не в себе и что звонят из Мар-де-Плата.[564] Благодаря усилиям Реморино он был принудительно удален со двора, а дирекция и Овехеро покинули, таким образом, место событий без лишнего ущерба для своего престижа.
— Ай-ай-ай, — сказал Оливейра, раскачиваясь на подоконнике, — а я-то думал, что фармацевты — это хорошо воспитанные люди.
— Ты представляешь? — сказал Травелер. — Она была потрясающа.
— Она пожертвовала собой ради меня, — сказал Оливейра. — Кука не простит ее даже на смертном одре.
— Не больно-то и надо, — сказала Талита. — «Со свежими круассанами», вы только подумайте.
— Овехеро тоже хорош! — сказал Травелер. — «В одной французской книге»! Че, не хватало только, чтоб они тебя соблазняли бананом. Удивляюсь, как ты не послал их к чертовой матери.
Вот как было дело, невероятная гармония все длилась, и не было слов, чтобы ответить на доброту этих двоих, которые там, внизу, смотрели на него и разговаривали с ним из клеток классиков, потому что Талита, не отдавая себе отчета, стояла на третьей клетке, а Травелер поставил одну ногу на шестую, и потому единственное, что он мог сделать, — слегка помахать им правой рукой в робком приветствии и смотреть на Магу и Ману, думая о том, что встреча все-таки произошла, хотя длилась она только это мгновение, невыносимо сладостное, когда, может быть, лучше всего было бы, без отговорок и сомнений, чуть-чуть наклониться вперед и дать себе уйти, бац — и все кончено.
* * *
(-135)
С ДРУГИХ СТОРОН (разрозненные главы)
57
— Я тут освежил в памяти кое-какие понятия в связи с приездом Адгаль. Как тебе кажется, если я приведу ее как-нибудь в Клуб? Этьен с Рональдом будут от нее в восторге, она же сумасшедшая.
— Приведи.
— Тебе она бы тоже понравилась.
— Почему ты говоришь так, как будто я уже умер?
— Не знаю, — сказал Осип. — Правда, не знаю. Просто у тебя лицо такое.
— Сегодня утром я рассказывал Этьену свои сны, некоторые были прекрасны. А сейчас они перемешались с другими воспоминаниями, пока ты тут так прочувственно живописал похороны. Должно быть, и правда волнующее мероприятие, че. Это так странно, быть одновременно в трех местах, но сегодня вечером со мной так и было, возможно под влиянием Морелли. Да, да, я тебе расскажу. Я даже думаю, в четырех местах одновременно. Я приблизился к вездесущности, а оттуда — прямо в безумие… Ты прав, я, видимо, так и не познакомлюсь с Адгаль, свихнусь гораздо раньше.
— Дзен как раз предполагает возможность предощущения вездесущности, это как раз то, что ты сегодня почувствовал, если ты действительно что-то почувствовал.
— Да еще как ясно, че. Сразу в четырех местах: во сне, который мне приснился утром и в котором я продолжаю пребывать, он меня не отпускает. Потом какие-то разборки с Полой, которые я опускаю, дальше — твои животрепещущие описания похорон мальчика, а сейчас я отдаю себе отчет в том, что одновременно еще и разговаривал с Травелером, моим другом из Буэнос-Айреса, которому за всю его долбаную жизнь удалось понять одно мое стихотворение, которое начиналось так, вот послушай: «Мне приснилось, что я водолаз, что залез головой в унитаз». Это легко, если ты немного сосредоточишься, то тоже поймешь. Когда просыпаешься, отголоски рая, который ты видел во сне, свисают с тебя, подобно волосам утопленника: тебя вот-вот вытошнит, ты чувствуешь тревогу, зыбкость всего сущего, его фальшь и особенно бесполезность всего и вся. Ты падаешь куда-то внутрь себя, и когда чистишь зубы, то и правда чувствуешь себя водолазом унитазов, потому что белая раковина всасывает тебя, ты соскальзываешь в ее отверстие вместе с зубным налетом, соплями, грязью, перхотью, слюной и надеешься выйти из этого потока другим, таким, которым ты был до того, как проснулся, и ты еще чувствуешь его в себе, он еще жив в тебе, это ты сам и есть, но это уже покидает тебя… Да, ты на какой-то момент падаешь внутрь себя, пока бодрствование не выставит защиту — о боже, что за дивное выражение, что за язык — и не остановит это падение.
— Типично экзистенциалистские рассуждения, — оборвал его Грегоровиус.
— Разумеется, но все зависит от дозы. Меня и вправду засасывает в унитаз, че.
(-70)
58
— Какой ты молодец, что пришел, — сказала Хекрептен, заваривая свежий мате. — Дома тебе уж всяко лучше, совсем другая обстановка, здесь все как ты любишь. Тебе надо взять два-три дня выходных.
— Я уже думал об этом, — сказал Оливейра. — И не только об этом, старушка. Твои пирожки просто объедение.
— Как я рада, что они тебе понравились. Только не ешь много, а то желудок расстроится.
— Ничего страшного, — сказал Овехеро, закуривая сигарету. — Устроите себе сейчас хорошую сиесту, а вечером уже будете в состоянии выложить мне за покером всех королей и тузов.
— Сиди и не двигайся, — сказала Талита. — Просто невозможно, ты ни минуты не можешь усидеть на месте.
— Моя супруга очень недовольна, — сказал Феррагуто.
— Возьми еще пирожок, — сказала Хекрептен.
— Не давайте ему ничего, кроме соков, — приказал Овехеро.
— Государственная корпорация практикующих докторов наук, представляющих каждый свое научное учреждение, — пошутил Оливейра.
— Я серьезно, че, ничего не ешьте до завтрашнего утра, — сказал Овехеро.
— Вот этот, тут побольше сахарной пудры, — сказала Хекрептен.
— Попытайся уснуть, — сказал Травелер.
— Че, Реморино, встань у дверей и проследи, чтобы номер восемнадцать ему не надоедал, — сказал Овехеро. — Его что-то совсем зашкалило, только и говорит о каком-то пистолете с рукояткой.
— Если хочешь поспать, я опущу жалюзи, — сказала Хекрептен. — Так будет не слышно радио дона Креспо.
— Нет, оставь так, — сказал Оливейра. — Там, кажется, поют что-то из Фалу.[565]
— Уже пять, — сказала Талита. — Ты не хочешь немного поспать?
— Лучше поменяй ему компресс, — сказал Травелер. — Сразу видно, ему от него легче.
— Да он и так весь компрессами облеплен, — сказала Хекрептен. — Хочешь, я сбегаю куплю «Нотисиас графикас»?
— Давай, — сказал Оливейра. — И пачку сигарет.
— Наконец засыпает, — сказал Травелер. — Но уж теперь он проспит всю ночь, Овехеро дал ему двойную дозу.
— Веди себя хорошо, сокровище мое, — сказала Хекрептен. — Я скоро вернусь. А вечером приготовлю тебе жаркое из вырезки, хочешь?
— С овощным салатом, — сказал Оливейра.
— Дыхание стало ровнее, — сказала Талита.
— И сделаю тебе сладкий рис с молоком, — сказала Хекрептен. — Ты так плохо выглядел, когда пришел.
— Я ехал в битком набитом трамвае, — сказал Оливейра. — Ты же знаешь, что это такое — площадка трамвая в восемь утра, да еще в такую жару.
— Ты и правда веришь, что он будет спать, Ману?
— В той мере, в какой я осмеливаюсь в это поверить, да.
— Тогда пошли к директору, который ждет нас, чтобы уволить.
— Моя супруга очень недовольна, — сказал Феррагуто.
— Что означает это оскорбление? — вскричала Кука.
— Замечательные парни, — сказал Овехеро.
— Таких днем с огнем не найдешь, — сказал Реморино.
— Он мне не верил, а ему нужен был пистолет с рукояткой, — сказал номер 18.
— Отправляйся к себе в комнату, а то велю вкатить тебе клизму, — сказал Овехеро.
— Смерть собаке, — сказал номер 18.
(-131)
59
И тогда, просто чтобы убить время, они ловят несъедобную рыбу; а чтобы она не тухла тут же, на берегу, везде развешаны объявления, что рыбакам надлежит весь улов сразу же закапывать в песок.
Клод Леви-Стросс.[566] Печальные тропики(-41)
60
Морелли подумывал о списке acknowledgments,[567] который он так никогда и не включил в опубликованные произведения. Он оставил только несколько имен: Джелли Ролл Мортон, Робер Музиль, Дайзетцу Тейтаро Судзуки, Раймон Руссель, Курт Швиттерс, Виейра да Силва, Акутагава, Антон Веберн, Грета Гарбо, Хосе Лесама Лима, Бунюэль, Луи Армстронг, Борхес, Мишо, Дино Буццати, Макс Эрнст, Певзнер, Гильгамеш (?), Гарсиласо, Арчимбольдо, Рене Клер, Пьеро ди Козимо, Уоллес Стивенс, Айзек Динесен. Имена Рембо, Пикассо, Чаплина, Альбана Берга[568] и некоторых других были зачеркнуты тоненькой линией, как будто их известность была слишком очевидна, чтобы о ней упоминать. Но они все были более или менее таковыми, почему Морелли и не решился включить перечень имен ни в одно из своих изданий.
(-26)
61
Неоконченные заметки Морелли
У меня всегда такое ощущение, что прямо передо мной, у самого моего лица, и между пальцами рук вдруг вспыхивает свет, я словно бы вторгаюсь в кого-то другого, или кто-то другой вторгается в меня, нечто абсолютно прозрачное, что может сгуститься и стать материей света, без времени и пространства. Что-то похожее на дверь из опала и алмазов, за которой начинается то, что ты есть на самом деле и чем ты не хочешь, не умеешь и не можешь быть.
Нет ничего нового ни в этой жажде, ни в этих сомнениях; впрочем, согласен, с каждым разом я чувствую все большее замешательство перед эрзацем, который предложен мне в виде таинственной связи между днем и ночью, в виде хранилища фактов, и воспоминаний, и страстей, о которые я в клочья ободрал отведенное мне время и свою шкуру, все эти проявления, упрятанные куда-то в глубину, такие далекие от того, что совсем рядом, у самого моего лица, предвидение, которое становится видением, изобличающее ту мнимую свободу, с которой я бреду сквозь улицы и годы.
Поскольку я — это всего лишь тело, уже гниющее в какой-нибудь точке будущего, и кости, этот отживший анахронизм, и я чувствую, что мое тело взывает и взывает к сознанию, требуя сделать что-нибудь, пока еще непонятно что, лишь бы не дать себе превратиться в кучу падали. Это тело, которое есть я, предвидит такое состояние, при котором, отрицая себя такого, какой ты есть, и отрицая объективную связь вещей и явлений, сознание уходит за пределы тела и за пределы мира, что и является подлинным восхождением к бытию. Тело мое будет продолжать жить, но это будет не Морелли, это буду не я в тысяча девятьсот пятидесятом году, сгнивший уже настолько, как будто сейчас девятьсот восьмидесятый, тело мое будет жить, потому что за дверью из света (как еще назвать то, что облепляет мое лицо) существование будет значить нечто совсем другое, не тело, и не тело и душа, и не я или другой, не завтра и вчера. Все зависит от… (далее зачеркнуто).
Печальный финал: подобное satori[569] длится лишь мгновение, затем все возвращается на круги своя. Но чтобы достичь его, надо пройти вспять всю историю, и внешнюю, и внутреннюю. Trop tard pour moi. Crever en italien, voire en occidental, c’est tout ce qui me reste. Mon petit café-crème le matin, si agréable…[570]
(-33)
62[571]
Одно время Морелли подумывал о книге, которая состояла бы из отдельных заметок. Лучше всего его намерения выражает следующая запись: «Психология — слово, похожее на старуху. Один швед работает над теорией химической природы мысли.[572] Химия, электромагнетизм, таинственные флюиды живой материи — все это странным образом вызывает в памяти понятие маны как первоисточника; получается, что за пределами социального поведения может существовать взаимодействие иной природы, похожее на игру в бильярд, которую затевают и которой мучатся некие индивидуумы, драма без Эдипа, без Растиньяка, без Федры,[573] драма безличная, где сознание и страсти персонажей подключаются, так сказать, уже по ходу дела. Как если бы на высшем уровне клубок взаимоотношений участников драмы завязывался и развязывался сам собой. Или — чтобы сделать приятное тому шведу — некие индивидуумы решили бы без всякой задней мысли проникнуть в глубинные химические процессы остальных людей, и наоборот, следствием чего являются наиболее любопытные и вызывающие наибольший интерес цепные реакции как расщепления, так и преобразования.
Таково положение вещей, и, значит, достаточно одной несложной экстраполяции, чтобы установить существование группы людей, которые считают свои реакции психологическими, в классическом смысле этого старого-престарого слова, но на самом деле это является лишь проявлением флюидов одушевленной материи, бесконечным рядом взаимодействий того, что некогда мы называли желаниями, симпатиями, волевыми усилиями, убеждениями и что выступает теперь как нечто не подвластное ни разуму, ни объяснению: переселившиеся в нас чужеродные силы порабощают нас, пытаясь получить себе вид на жительство; в поисках чего-то, что выше нас самих как индивидуумов, они используют нас в своих целях, удовлетворяя темную необходимость уйти от состояния homo sapiens к… к какому homo? Поскольку sapiens — это другое старое-престарое слово, из тех, что надо как следует почистить, прежде чем пытаться использовать его в каком-нибудь смысле.
Если бы я писал такую книгу, то стандарты поведения (включая самые необычные, даже их элитную категорию) было бы невозможно объяснить с помощью психологического инструментария. Участники в этом случае казались бы нездоровыми людьми или просто полными идиотами. И не потому, что они оказались бы неспособны к обычным реакциям типа „вызов-ответ“: к любви, ревности, состраданию и всему, что за этим следует, а потому, что способность к сублимации, которая заложена в любом homo sapiens, с трудом выберется на дорогу, будто некий третий глаз[574] неотступно следит за ней исподлобья. И все превратилось бы в беспокойство, тревогу, самоуничтожение, все стало бы территорией, где вероятность психологических изысканий отступила бы в растерянности, и эти марионетки изничтожали бы друг друга, или любили бы, или узнавали бы друг друга, даже не подозревая, что жизнь пытается поменять ключ — в них самих, через них и ради них, — что происходит едва ощутимая попытка зарождения его в человеке, как когда-то родились ключ-разум, ключ-чувство, ключ-прагматизм. И что каждое последующее поражение есть приближение к окончательному преобразованию, что человек есть то, чем он хочет быть, чем пытается быть, запутавшись в словах и поступках, в радости, забрызганной кровью, и прочей риторике вроде этой».
(-23)
63
— Лежи спокойно, — сказала Талита. — Можно подумать, я тебе не компресс холодный ставлю, а поливаю тебя серной кислотой.
— Похоже на электрошок, — сказал Оливейра.
— Не говори ерунду.
— А перед глазами какое-то свечение, что-то в духе Нормана Мак-Ларена.[575]
— Подними чуть-чуть голову, подушка низковата, я тебе подложу еще одну.
— Лучше бы ты оставила в покое подушку и поменяла мне голову, — сказал Оливейра. — Хирургия у нас еще в пеленках ходит.
(-88)
64
Однажды, когда они, как обычно, встретились в Латинском квартале, Пола стояла и что-то рассматривала на тротуаре, и половина прохожих тоже стояли и смотрели на тротуар. И правда, стоило остановиться — тут можно было увидеть профиль Наполеона, затем прекрасное изображение собора в Шартре, а чуть подальше кобылу с жеребенком на зеленом лугу. Авторами рисунков были два светловолосых парня и девушка азиатского типа. Коробочка из-под цветных мелков была доверху наполнена монетами по десять — двадцать франков. Время от времени кто-нибудь из художников наклонялся, чтобы добавить какую-нибудь деталь, и легко было заметить, что в этот момент количество подношений увеличивалось.
— Они действуют по системе Пенелопы, разве только не распускают то, что плетут, — сказал Оливейра. — Вот эта сеньора, например, не собиралась развязывать завязочки своего кармана, пока малышка Цонг-Цонг не бросилась на асфальт, чтобы подправить портрет голубоглазой блондинки. Всегда приятно смотреть, как другие работают.
— Ее зовут Цонг-Цонг? — спросила Пола.
— Почем я знаю. Но щиколотки у нее красивые.
— Столько трудились, а вечером придут дворники и все сотрут.
— В этом-то все и дело. Цветные мелки как эсхатологическое явление — вот тебе тема для диссертации. Если муниципальные дворники не покончат со всем этим на рассвете, Цонг-Цонг лично явится сюда с ведром воды. По-настоящему кончается только то, что начинается каждое утро. Люди бросают монетки, даже не зная, что их надувают, поскольку на самом деле эти рисунки не стираются никогда. Их можно сделать на другом тротуаре и в других цветах, но они сделаны той же рукой, мелками из той же коробочки, теми же ловкими приемами. Говоря точнее, если один из этих парней будет все утро просто махать руками, он все равно заслужит свои десять франков, как если бы он нарисовал Наполеона. Но нам нужны доказательства. Они перед нами. Брось им двадцать франков, не скупердяйничай.
— Я уже бросила до твоего прихода.
— Чудно. По сути дела, эти монетки мы вкладываем в рот умершим, вносим свою искупительную лепту. Чествуем эфемерное, поскольку этот храм всего лишь видимость из цветных мелков, которую немедленно смоет струя воды. Стоит положить монетку, и завтра снова вырастет храм. Мы платим за бессмертие, за то, чтобы длилось мгновение. No money, no cathedral.[576] Разве ты сама не нарисована мелками?
Но Пола не ответила; он обнял ее за плечи, и они дважды прошли по Буль-Миш из конца в конец, а потом медленно направились к улице Дофин. Рядом с ними кружился мир, нарисованный цветными мелками, увлекая их в свой танец, жареная картошка — желтый мелок, вино — красный мелок, бледно-нежное небо — небесно-голубой мелок с добавлением зеленого там, где река. Еще раз бросить монетку в коробку из-под сигар, чтобы не допустить исчезновения собора, и в то же время приговорить его к уничтожению, чтобы снова возродить к жизни, позволить струе воды смыть его, чтобы снова выстроить, мелок за мелком, черный, синий, желтый. Улица Дофин — серый мелок, лестница, конечно, темного оттенка, комната с ее ускользающими линиями причудливо выписана светло-зеленым, занавески — белый мелок, покрывало на кровати — мелки всевозможных цветов (да здравствует Мексика!), любовь — мелки, жаждущие фиксатива, который закрепил бы ее в настоящем, остановив мгновение, любовь — мелок ароматный, губы — оранжевый, печаль и пресыщенность — бесцветные мелки, рассыпавшиеся невидимой пылью, оседающей на спящих лицах и на мелках гнетущей тоски, охватившей тело.
— Ты разрушаешь все, к чему прикасаешься, а бывает, тебе достаточно только взглянуть, — сказала Пола. — Ты как серная кислота, я тебя боюсь.
— Ты придаешь слишком большое значение некоторым метафорам.
— Это касается не только того, о чем ты говоришь, но какой ты вообще… Не знаю, как объяснить, будто что-то затягивает в воронку. Ты обнимаешь меня, а мне иногда кажется, что я куда-то проваливаюсь и падаю в колодец. Еще хуже, чем во сне, когда пропадаешь в пустоту.
— Тем не менее, — сказал Оливейра, — ты еще не совсем пропала.
— Прошу тебя, дай мне жить спокойно. Поверь, я сама знаю, как мне жить. Я живу как живется, и мне хорошо. Здесь, где мои дела и мои друзья.
— Давай давай, перечисли. Это помогает. Надо всему дать название, тогда не будешь никуда падать. Вот стоит тумбочка, вот задернутая занавеска, Клодетта живет все в том же доме, Дантон, тридцать четыре, не помню точно, и твоя мама пишет тебе письма из Экс-ан-Прованса.[577] Все в порядке.
— Ты пугаешь меня, латиноамериканское чудовище, — сказала Пола, прижимаясь к нему. — Мы же договорились, в моем доме не говорить про…
— Про цветные мелки.
— Про все про это.
Оливейра закурил «Голуаз» и посмотрел на сложенную пополам бумажку, которая лежала на тумбочке:
— Направление на анализы?
— Да, сказали сделать как можно скорее. Потрогай здесь, сейчас хуже, чем неделю назад.
Была почти ночь, и Пола казалась похожей на одну из женских фигур Боннара[578] — она лежала на кровати, освещенная закатными лучами света, падавшими из окна, будто окруженная зеленовато-желтым сиянием. «На рассвете явится подметальная машина, — подумал Оливейра, наклоняясь, чтобы поцеловать ее в грудь, в то самое место, куда она только что нерешительно указала. — Только она не поднимется на пятый этаж, никогда не слышал, чтоб подметальная или поливальная машина поднялась на пятый этаж. Разве что завтра придет художник и в точности срисует этот тонкий изгиб, где появилось какое-то уплотнение…» Ему удалось перестать об этом думать, по крайней мере когда он целовал ее, ему удалось не думать ни о чем, кроме поцелуя.
(-155)
65
Образец удостоверения члена Клуба
Грегоровиус, Осип.
Без родины.
Луна, полная (обратная сторона Луны еще была невидимой в те доспутниковые времена) кратеров, морей, лунной пыли?
Имеет обыкновение одеваться в черные, серые, темные тона. Никто никогда не видел его в костюме. Есть люди, которые говорят, что у него их три, но он их комбинирует, надевая пиджак от одного костюма с брюками от другого. В этом не так уж трудно убедиться.
Возраст: говорит, что ему сорок восемь.
Профессия: интеллигент. Двоюродная бабушка посылает ему скромное содержание.
АС 3456923 (действителен на полгода, потом продлевается. Продлевалось уже девять раз, каждый раз все с большими трудностями).
Место рождения: Боржок (дата рождения скорее всего неправильная, судя по заявлению Грегоровиуса, которое он сделал в полицейском управлении Парижа. Основания для такого предположения находятся в полицейской картотеке).
Место рождения: в год, когда он родился, Боржок входил в состав Австро-Венгрии. Мадьярское происхождение очевидно. Ему самому нравится называть себя чехом.
Место рождения: возможно, Великобритания. Грегоровиус, видимо, родился в Глазго от отца-матроса и матери — сухопутной жительницы, как результат вынужденной стоянки, суматошной погрузки, выпитого эля и симпатии ко всему иностранному со стороны мисс Марджори Бэбингтон, прожирающей по адресу: Стюарт-стрит, 22.
Грегоровиус охотно живописует свою предысторию и с удовольствием позорит своих матерей (у него их три, когда выпьет), приписывая им беспутные нравы. Герцогиня Магда Разенсвил, которая появляется в его рассказах после виски или коньяка, была лесбиянкой и автором псевдонаучного трактата о carezza[579] (переведенного на четыре языка). Мисс Бэбингтон, облик которой проступает под действием джина, кончила тем, что стала проституткой на острове Мальта. Образ третьей матери является неразрешимой проблемой для Этьена, Рональда и Оливейры, свидетелей ее появления по ходу поглощения божоле, кот-дю-рон или бургундского алиготе. Зовут ее то Галль, то Адгаль или Минти, живет она то в Герцеговине, то в Неаполе, ездит в Соединенные Штаты с водевильной труппой, она первая женщина в Испании, которая курит, она же продает фиалки у входа в Венскую оперу, изобретает противозачаточные средства, умирает от тифа, живет, правда, уже ослепнув, в Уэрте,[580] сбегает с шофером русского царя из Царского Села, не дает покоя своему сыну в високосные годы, занимается гидротерапией, состоит в сомнительной связи с одним священником из Понтуаза, умерла при родах Грегоровиуса, который ко всему прочему является еще и сыном Сантос-Дюмона.[581] Свидетели заметили, что каким-то необъяснимым образом все эти последовательные (или одновременные) версии судьбы третьей матери всегда переплетаются с упоминаниями о Гурджиеве,[582] которого Грегоровиус то почитает, то, в равной степени, ненавидит.
(-11)
66
Разные стороны Морелли, то он похож на Бувара и Пекюше,[583] то он составитель литературного альманаха (иногда он называет «Альманахом» все, что он написал).
Ему бы хотелось нарисовать некоторые из своих идей, но у него ничего не получается. Рисунки, которые попадаются на полях его заметок, ужасны. Навязчивое повторение какой-то сбивчивой спирали, в ритме, похожем на тот, которым отличается ступа в Санчи.[584]
Он работает над одним из бесчисленных финалов своей неоконченной книги и уже изготовил макет. Первая страница содержит всего одну фразу: «В глубине души он знал, что дальше идти нельзя, потому что дальше ничего нет». Вся страница исписана этой фразой и производит впечатление стены, преграды. Нет ни точек, ни запятых, ни полей. Это действительно стена, сложенная из слов, показывающая смысл фразы, барьер, о который ударяешься и за которым ничего нет. Но в нижнем правом углу страницы в одной из фраз нет слова «дальше». Внимательное око заметит выемку среди кирпичиков стены и свет, который проникает сквозь нее.
(-149)
67
Я зашнуровываю ботинки, я всем доволен, насвистываю и вдруг чувствую, что несчастлив. Но на этот раз я тебя поймал, моя тоска, я ощущал твое приближение еще до того, как осознал рассудком, который пытался тебя отрицать. Было похоже на боль в желудке серого цвета. И почти сразу же (нет, позже, на этот раз ты меня не обманешь) появился ряд внятных повторений и объяснительная мысль, которая всегда наготове: «Придется прожить еще один день, и т. д.». Откуда следует: «Меня одолевает тоска, потому что… и т. д.».
Мысли на раздутых парусах, однако главное — это ветер, их подгоняющий, который дует снизу («снизу» означает просто физическое местоположение). Достаточно перемениться ветру (но что меняет радиус его действия?), и тут же приплывают корабли счастья под разноцветными парусами. «В конце концов, нет никаких причин жаловаться, че», что-нибудь в этом духе.
Я проснулся и сквозь щели жалюзи увидел рассвет. Я выходил из глубины ночи, и мне казалось, что я выблевываю сам себя и весь ужас наступающего дня со всем тем, из чего он обычно состоит, из безразличия механических действий: очнуться, почувствовать, что уже светло, открыть глаза, жалюзи, рассвет.
И в этот момент, в промежуточном состоянии между сном и явью, когда нам открывается нездешнее знание, я вдруг ощутил то, что так поражает и восхищает в религиях: вечное совершенство космоса, бесконечное вращение земного шара вокруг своей оси. Тошнота, невыносимое ощущение принуждения. Я вынужден терпеть то, что солнце встает каждый день. Это чудовищно. Это бесчеловечно.
Прежде чем снова уснуть, я представил себе (увидел) гибкое, переменчивое пространство вселенной, заполненное восхитительными случайностями, небо, которое то сжимается, то растягивается, солнце, которого нет, или которое неподвижно застыло на месте, или стало другой формы.
И очень захотелось, чтобы рассыпался неизменный рисунок созвездий, эта гнусная сверкающая реклама фирмы Часовщика Господня.[585]
(-83)
68
Едва он приласкивал ноэму,[586] все в ней растыркивалось, и они впадали в грызность, в дикую кричность и в черезкрайние выспуги. Всякий раз как только он пырался принуздать междусомья, он запутывался в жалобстной мурзости и вынужден был дрызнуться лицом по свежевспаханному, чувствуя, как постепенно зныки перетускиваются, становятся хризлыми, уяливаясь до тех пор, пока не натянутся, словно зилючие крипитаки, куда упадут последние филулы несобрасия. Однако это было только начало, потому что в какой-то момент она начинала прилюскивать примишелости, чувствуя, что он мягко приближает сзою стриклость. Как только они начинали междуперьевать, что-то похожее на улюкон распростыкивало их, нахрякивало и наузюкивало, и тут же возникал кликон, судорожская зловливость матриков, бескрокетная разверточность оргуминия, вылист-ность глусемы в своем высшем переборствовании. Эвоэ! Эвоэ! Забросамшись на гребень стеновья, оба чувствовали хрепускуляр, ужность и примирание. Дрожала кречь, колыхрались плюмавы, и все разрешалось в глубоком пикише, в ниоламах газообразных разумностей, в ластках, почти жестоких, которые силоразбаливали их до последнего предела гуфанций.
(-9)
69
(«Реновиго», № 5)
Исчо адин самоубийтса
Тижелым сюрпризом было узнать из «Ортографики» новось о кончине в Сан-Луисе-Потоси,[587] 1-го марта етово года, потпалковника (повышенного в полковники, чтоп уволить в запас) Адольфо Абилы Сранчеса. Сюрпризом, патамушто мы не знали, што он прекован к пастели. Хотя вот уже давно назад он числицца среди наших друзей-самаубийтц, и аднажды был случай, когда «Реновиго» некоторые призднаки етово в ем замечал. Только вот Абила Сранчес выбрал не ребольбер, как ето зделал француский эсперантист Ехуенио Ланти.
Абила Сранчес был чиловек заслуживаюшчий внимания и почетания. Чесный до счепетильности солдат, он был честью вааружонных сил как ф теории, так и на практике. У нево было высокое понятие о законности, и он даже бывал в сражениях. Чиловек культурный, он обучал наукам и молодых и старых. Мыслитель, он достаточно напесал дла газет и оставил несколько неизданных произведений, среди которых «Казарменная Мудрость». Поэт, он с лехкостью творил стихи различных жанров. Художник карандаша и автаручьки, он многа раз адаревал нас своими произведениями. Лингвист, он любил пириводить произведения сопственного со-чекения на английский, эсперанто и другие языки.
Говоря конкретно, Абила Сратес был чиловек мысли и действия, моральный и культурный. Таковы принтцыпы ево жызни.
Фтарой раздел расказа о нем, в катором исчо много других разделоф, посвяшчен с истественными колебаниями, преподниманию покрова с ево часной жызни. Но чиловек апщественный не мог ее не иметь, а Абила Сранчес был таковым, так што мы фпали ф соблазн открыть то, што раньше было оборотной стороной мидали. В нашем деле биографоф и историкоф мы не должны поддавацца сумнениям.
Мы лично знали Абилу Сранчеса исчо ф 1936-м, в Линаресе, а патом в Монтерее, в ево домашнем ачаге, который казался про-цвитаюитим и щасливым. Через несколько лет, когда мы нависти-ли ево в Саморе, фпечатление было противоположным, мы поняли, што ево очаг разваливаецца, и ето случилось через несколько нидель, ево первая жена покинула ево, а затем и дети разбрелись тоже. Пожже, в Сан-Луис-Потоси, он встретил одну добрую маладую девушку, которой он показался семпатичным, и она согласилась вытти за нево замуш: так што он создал фтарую семью, которая самоотверженна поддержывала ево, не то што первая, и не покинула ево.
Што было первым в Абиле Сранчесе, умственное растройство или алкоголизм? Мы етаво не знаем, но вместе, соединенные воедино, они разрушили ево жызпь и стали пречиной ево смерти. Ф последние годы он сильно болел, и мы уже не сумневались, зная, што он самоубийтса, быстро идушчий к своему неотвратимому канцу. Фатализьм неизбежен, когда видиш человека, так ясно напраеляюшчегося к бтскому и трагическому закату.
Ушетший верил в будущюю жызнь. И он удтверждал, што в ней есь щастье, к которому хоть и разными путями, но стремяцца все человеческие сушчества.
(-52)
70
«Когда я был в первичном своем состоянии, у меня не было Бога… я любил лишь самого себя и никого больше; я был тем, что я любил, и любил то, чем я был, и был свободен от Бога и от всего, что есть Бог… И потому мы молим Бога освободить нас от Бога, дабы мы могли постичь истину и вечно радоваться этому там, где ангелы небесные, и всякая мошка, и душа человеческая едины, там, где был я, и где я любил то, чем я был, и где я был тем, что любил…»
Майстер Экхарт,[588] проповедь. «Beati pauperes spiritu»[589](-147)
71
Мореллиана
Что, в сущности, Означает вся эта история о том, чтобы обрести тысячелетнее царство, некий Эдем, другой мир? Все, что пишется в наше время, конечно из того, что стоит читать, все определено тоской по нему. Комплекс Аркадии, возвращение в великое лоно, back to Adam, le bon sauvage.[590] Потерянный рай,[591] ищу, чтоб найти, теперь я во мраке навек… Носишься с идеей то островов (см. Музиля), то гуру (если у тебя хватит денег на самолет Париж — Бомбей), то просто вцепляешься в чашечку кофе и рассматриваешь ее со всех сторон, и это уже никакая не чашечка, а свидетель того свинства, в котором мы все по уши увязли, да и как она может быть всего-навсего чашечкой кофе, если самый тупой из журналистов просвещает нас насчет квантовой теории, Планка и Гейзенберга,[592] выбивается из сил, чтобы на трех колонках объяснить нам, что все вокруг дрожит, и вибрирует, и, как кот, изготовившийся к прыжку, с нетерпением ждет мощного выброса водорода или окислов кобальта, от которого все мы взлетим вверх тормашками. Выражаясь без прикрас, так сказать.
Чашечка с кофе — белая, простодушный дикарь — смуглый, а Планк — потрясающий немец. А за всем этим (всегда есть какое-то «за», надо признать, это ключевая идея современного мышления) Рай, другой мир, попранная невинность, которую напрасно пытаются вернуть, обливаясь слезами, где ты, земля Уркалья.[593] Так или иначе, но все ее ищут, все хотят отворить эту дверь, чтобы войти и тоже сыграть свою партию. И все это не из-за Эдема как такового, и не столько из-за него, просто хочется оставить за спиной реактивные самолеты, физиономию Никиты или Дуайта, Шарля или Франсиско,[594] подъем по будильнику, градусник и банки, уход на пенсию пинком под зад (сорок лет протирать задницу, чтобы потом не было мучительно больно, но все равно больно, все равно носок ботинка впивается каждый раз все глубже и припечатывает все сильнее бедную задницу, чья бы она ни была — кассира, лейтенанта, преподавателя литературы или медсестры), и мы говорим, что homo sapiens ищет дверь не для того, чтобы войти в тысячелетнее царство (хотя ничего плохого, ей-богу, ничего плохого в этом нет), а лишь для того, чтобы закрыть ее за собой и, вильнув хвостом, как собака от радости, знать, что ботинок этой сучьей жизни остался позади и колотит в закрытую дверь, а ты можешь расслабиться и не поджимать свою бедную задницу, расправить плечи и войти в цветущий сад или сидеть и смотреть на облака хоть пять тысяч лет, хоть двадцать тысяч, если б было можно, и никто на тебя не рассердится, — сиди тут и любуйся себе на цветочки.
Время от времени в стане тех, кто получает всевозможные пинки под зад, попадается кто-то, кому хочется не только закрыть за собой дверь, дабы защититься от пинков во всех трех традиционных измерениях, не считая тех, которые исходят от таких категорий, как познание как давно прогнивший принцип здравого смысла, или другой подобной белиберды, но еще и потому, что такие субъекты верят вместе с другими безумцами, что нас в этом мире нет, что наши великие прародители бросили нас в этот мир против течения и надо как-то из этого выбираться, если не хочешь превратиться в конную статую или в образцового дедушку-семьянина, и что ничего еще не потеряно, если у тебя есть смелость заявить, что потеряно все, и надо начинать сначала, как в той истории о славных рабочих, которые в одно прекрасное утро августа 1907 года поняли, что туннель из Монте-Браско рассчитан неверно и что они выйдут на поверхность, отклонившись в сторону на пятнадцать метров от югославских рабочих, которые шли им навстречу из Дубливны. Что же сделали те славные рабочие? Славные рабочие оставили туннель в том виде, в каком он был, вышли на поверхность и, проведя несколько дней и ночей в тавернах Пьемонта, начали рыть на свой страх и риск в другой части Браско, двигаясь вперед и не заботясь о том, что делают в это время югославские рабочие, и дошли, таким образом, через четыре месяца и пять дней до южной части Дубливны, к немалому удивлению школьного учителя-пенсионера, который увидел, как они выходят на поверхность совсем рядом с его уборной. Похвальный пример, которому должны были бы последовать рабочие из Дубливны (правда, надо признать, что славные рабочие никому не сообщили о своих намерениях), вместо того чтобы упорно пытаться соединиться с несуществующим туннелем, как это бывает с некоторыми поэтами, которые высовываются из окна своей комнаты прямо посреди ночи.
Кому-то это может показаться смешным, кто-то может подумать, что все это говорится не всерьез, ан нет, очень даже всерьез, одна улыбка прорыла гораздо больше всяких полезных туннелей, чем все слезы мира, хотя разные упертые выскочки могут и дальше считать, что Мельпомена плодотворнее, чем Королева Маб.[595] Следовало бы раз и навсегда с этим не согласиться. Выход, может, и есть, но этот выход должен стать входом. Может, и есть тысячелетнее царство, но, если бежать от неприятеля, вражеской крепости не возьмешь. По сей день нынешний век только и делает, что убегает от тысячи разных вещей, ищет какие-то двери и порой их вышибает. Что происходит потом, никому не известно, те, кому удавалось это увидеть, погибали, тут же проваливаясь во мрак забвения, другие осуществляли свое маленькое бегство, встав на путь конформизма, в небольшой загородный домик, в литературные или научные изыскания, в туристические поездки. Бегства планируются, они технологически разработаны, у них есть соответствующий модуль или формула, как у нейлона. Существуют дураки, которые верят, что напиться — это метод или что можно найти выход в наркотиках или гомосексуализме, сгодится любая вещь, прекрасная или пустяковая сама по себе, однако глупо возводить ее в систему или считать ключом к тысячелетнему царству. Может, и есть другой мир где-то внутри этого, но только мы его не отыщем, складывая по кусочкам из потрясающей беспорядочности дней и жизней, не отыщем мы его, ни атрофируя жизнь, ни гипертрофируя ее. Того мира не существует, его нужно заново возрождать, как птицу феникс. Тот мир существует внутри этого, как в составе воды существуют кислород и водород или как на страницах 78, 457, 3, 271, 688, 75 и 456 Академического словаря испанского языка есть все необходимое, чтобы написать какую-нибудь одиннадцатисложную строфу из Гарсиласо.[596] Допустим, что мир — это некая фигура речи, которую надо суметь прочесть. Прочитав, мы сумеем ее воссоздать. Кому интересен словарь сам по себе? Но если в результате сложных алхимических реакций, взаимопроникновения и смешения простейших элементов появляется Беатриче на берегу реки, почему естественным образом не предположить, что из этого тоже может что-то в свою очередь родиться? Какой бессмысленной выглядит задача человека, нацепившего на себя парик и складывающего по кусочкам свой надоевший до тошноты еженедельный распорядок: одна и та же еда, одни и те же дела, чтение одной и той же газеты, приложение одних и тех же принципов в тех же самых обстоятельствах. Может, это и есть тысячелетнее царство, но если мы однажды туда войдем, если станем им — оно будет называться по-другому. Даже если подхлестывать время хлыстом Истории, даже если покончить с нагромождением всяких даже, все равно нашей целью останется красота, а пределом желаний — мир на земле, мы всегда будем по эту сторону двери, где, в сущности, не всегда так уж плохо, где достаточно людей, довольных своей жизнью, у которых есть хорошие духи, приличная зарплата, высокохудожественная литература, стереофонический проигрыватель, и что, собственно, волноваться, если мир все равно когда-нибудь придет к концу, история уже приближается к своей наивысшей точке, род человеческий выходит из промежуточной стадии и переходит в эру кибернетики. Все хорошо, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо.
Так что надо быть полнейшим дураком, надо быть поэтом под луной Валенсии, чтобы терять больше пяти минут на всю эту непонятную тоску, с которой можно запросто покончить. Каждое международное совещание руководителей фирм или людей науки, каждый искусственный спутник, новый гормон или атомный реактор работают на уничтожение напрасных надежд. А само это царство, наверное, будет пластмассовым, это уж точно. И дело не в том, что мир превратится в кошмар типа Оруэлла или Хаксли; будет гораздо хуже, это будет мир приятный во всех отношениях, в соответствии с пожеланиями его обитателей, где не останется ни одного комара и ни одного неграмотного, где курицы будут огромного размера и скорее всего о восемнадцати ножках, одна другой вкуснее, где в уборных будет телеуправление, а вода в ванных разноцветная, на каждый день недели свой цвет, в соответствии с ненавязчивой заботой государственной службы по поддержанию гигиены, где в каждой комнате будет по телевизору, например с великолепными тропическими пейзажами для жителей Рейкьявика, с изображениями иглу[597] для жителей Гаваны, — утонченная компенсация, которая призвана погасить любое недовольство, и так далее.
Одним словом, мир, удовлетворяющий здравомыслящих людей.
А останется ли в нем хоть кто-то, хоть один нездравомыслящий?
В каком-нибудь уголке да сохранится какой-нибудь пережиток забытого царства. В каждой насильственной смерти будут видеть наказание за память об этом царстве. Каждый взрыв смеха, каждая слеза будут казаться признаком его оживания. Все-таки не похоже, чтобы человек кончил тем, что убьет человека. Он сумеет этого избежать, он успеет схватиться за рукоять электронной машины, за руль межпланетного корабля, он увернется от подножки, которую ему подставили, и поминай как звали. Можно убить все, кроме тоски по тысячелетнему царству, мы несем ее в цвете наших глаз, в каждой нашей любви, во всем, что нас глубоко волнует, обманывает нас или придает нам смелости. Wishful thinking,[598] возможно; впрочем, это еще одно свойство двуногого беспёрого.[599]
(-5)
72
— Ты хорошо сделал, дорогой, что пришел домой, ведь ты так устал.
— There’s not a place like home,[600] — сказал Оливейра.
— Выпей еще мате, я только что заварила.
— Если закрыть глаза, он кажется еще более горьким, это просто чудесно. Что если ты дашь мне немного поспать, а сама почитаешь журнал?
— Конечно, любовь моя, — сказала Хекрептен, утирая слезы и разыскивая «Идиллию» из чистого послушания, поскольку читать что-либо она была не способна.
— Хекрептен!
— Да, любовь моя.
— Не бери все это в голову, старушка.
— Конечно, не буду, мой сладкий. Постой, я тебе поменяю холодный компресс.
— Я скоро встану, и мы пойдем прогуляемся по Альмагро.[601] Может, там идет такой-нибудь цветной мюзикл.
— Лучше завтра, любовь моя, а сейчас отдохни. Когда ты пришел, у тебя было такое лицо…
— Работа такая, что поделаешь. Не бери в голову. Послушай, как Сто-Песо внизу заливается.
— Ему сейчас дадут корм, божьей твари, — сказала Хекрептен. — Вот он и благодарит…
— Благодарит, — повторил Оливейра. — Вот ведь как, благодарит того, кто держит его в клетке.
— Животные этого не понимают.
— Животные, — повторил Оливейра.
(-77)
73
Да, но кто исцелит нас от бесшумного и бесцветного огня, который несется в сумерках по улице Юшетт, вырываясь из траченных временем порталов, из небольших подъездов, от огня, у которого нет облика, который лижет камни и подстерегает в дверных проемах, как нам отмыть его сладостные ожоги, преследующие нас, которые поселяются в нас, чтобы надолго связать время с воспоминаниями и со всем тем, что к нам налипло, пока мы живем на этих берегах, и что так сладко сжигает нас до тех пор, пока мы не перегорим совсем. И значит, тогда лучше жить как живут кошки и мхи, сами по себе, заводить недолгую дружбу с охрипшими консьержками или с несчастными бледными созданиями, которые торчат у окна, поигрывая засушенным цветком. Беспрерывно гореть, терпеливо снося ожог, который растекается в тебе, как спелость плода, быть пульсом этого костра, горящего в нескончаемых каменных зарослях, брести сквозь ночь нашей жизни, подчиняясь слепому току крови.
Сколько раз я спрашивал себя, не есть ли это все обыкновенная писанина, в наше-то время, когда все мы напичканы заблуждениями и живем среди непогрешимых уравнений и запущенного в действие конформизма. Но ведь спрашивать себя, сможем ли мы переступить через привычное, или лучше дать увлечь себя бойкой кибернетике, не есть ли это все та же литературщина? Мятеж и конформизм, гнетущая тоска и пища земная, все эти раздвоения: Инь и Ян, созерцание или Tӓtigkeit,[602] овсянка или куропатка faisandées,[603] Ласко или Матье,[604] раскачивание гамака из слов, карманная диалектика с бурями, одетая в пижаму, и катаклизмами в масштабе гостиной. Сам факт того, что ты спрашиваешь себя о возможном выборе, портит и запутывает сам выбор. То да, то нет, то есть, то нет… Начинает казаться, что в выборе вообще не может быть диалектики, что сама постановка выбора ее обедняет, лучше сказать фальсифицирует или, еще лучше, трансформирует во что-то другое. Сколько эонов[605] между Инь и Ян? Сколько их может быть между да и нет? Это все та же писанина, то есть баснословие. Но зачем нам нужна истина, которая успокаивает добропорядочного собственника? Наша возможная истина должна быть выдумкой, то есть писаниной, литературой, скульптурой, живописной культурой, сельхозкультурой, рыборазведениякультурой, — короче, любой турой в мире. Мировые ценности — тура, то, что свято, — тура, общество — тура, любовь — одна сплошная тура, красота — всем турам тура. В одной из своих книг Морелли рассказывает о неаполитанце, который провел годы сидя на пороге своего дома и глядя на винтик, который лежал на земле. На ночь он забирал его домой и клал под матрац. Сначала винтик вызывал улыбки, потом насмешки, потом всеобщее раздражение, потом он объединил всех соседей вокруг и стал символом попрания гражданского долга, а кончилось тем, что все успокоились и только пожимали плечами, мир и покой — вот что такое был этот винтик, он стал миром и покоем, никто не мог пройти по улице, чтобы краешком глаза не взглянуть на винтик и не почувствовать тут же, что винтик — это мир и покой. Тот человек неожиданно скончался от удара, и винтик исчез, едва собрались соседи. Кто-то из них, должно быть, хранит его у себя и, может быть, достает тайком и смотрит на него, а потом снова прячет и идет на фабрику, чувствуя нечто такое, чего он и сам не понимает, что-то достойное порицания. Он успокаивается, только когда достает винтик и смотрит на него, смотрит, пока не услышит шага, и ему не приходится торопливо прятать его снова. Морелли считает, что винтик — это нечто совсем иное, Бог, что-то вроде этого. Слишком легкое решение. Было бы заблуждением считать, что этот предмет был винтиком, только потому, что он имел форму винтика. Пикассо берет игрушечный автомобиль и превращает его в челюсть павиана. Возможно, тот неаполитанец был просто слабоумным, но он мог быть и изобретателем целого мира. От винтика к глазу, от глаза к звезде… Почему надо предаваться только Великой Привычке? Можно выбрать какую-нибудь туру, выдумку, например винтик или игрушечную машинку. Вот так и Париж разрушает нас постепенно и ненавязчиво, перемалывая нас увядшими цветами, и бумажными скатертями с пятнами от вина, и бесцветным огнем, который вырывается в сумерках из траченных временем порталов. Нас сжигает придуманный огонь, раскаленная добела тура, хитроумная, но примитивная ловушка рода человеческого, город, который есть не что иное, как Великий Винтик, ужасная игла, через игольное ушко которой, сквозь ночь, бежит нитка Сены, машина для пыток, сотканная из кружева, клетка, в которой агонизирует множество обезумевших ласточек. Мы сгораем в том, что сами же и создаем великолепную посмертную славу, достойный вызов птице фениксу. И никто не излечит нас от бесшумного, от бесцветного огня, который несется в сумерках по улице Юшетт. Неизлечимые, безнадежно неизлечимые, мы выбираем своей турой Великий Винтик, мы склоняемся над ним, проникаем в него, каждый день выдумываем его снова и снова, в каждом пятне от вина на скатерти, в каждом поцелуе у влажных от предрассветной росы стен Кур-де-Роан мы выдумываем наш пожар, который жжет нас изнутри, а потом сжигает целиком, может, это и есть наш выбор, может, слова просто оборачивают его, как салфетка хлеб, а внутри — аромат пышного теста, «да» без всяких «нет» или «нет» без всяких «да», день без злых духов, без Ормузда и Аримана,[606] раз и навсегда мир и покой, и на этом закончим.
(-1)
74
Нонконформист, как его видит Морелли, в записке, приколотой скрепкой к счету из прачечной: «Он примет все, и камень под ногами, и бету Центавра, первый — из-за его бессодержательности, вторую — из-за ее безмерности. Такой человек двигается только на самых высоких или на самых низких частотах, сознательно пренебрегая средними, то есть обычной зоной духовной агломерации людей. Не будучи способен преодолеть обстоятельства, он поворачивается к ним спиной; он не может присоединиться к тем, кто борется с ними, потому что считает, что на смену этим обстоятельствам придут другие, столь же несправедливые и невыносимые, и потому он только пожимает плечами. Для его друзей тот факт, что он находит удовольствие в каких-то ничтожных пустяках, в ребячестве, в обрывке нитки или в каком-нибудь соло Стэна Гетца,[607] означает достойную сожаления нищету духа; они не знают, что существует другой край, приближение к некой высшей точке, которая все более и более отодвигается, слабеет и исчезает из виду, и потому это приближение не имеет конца и не кончится даже со смертью этого человека, поскольку его смерть не будет смертью в зоне средних частот, которые улавливает слух во время исполнения траурного марша Зигфрида[608]».
Возможно, чтобы несколько сгладить излишне взволнованный тон этих записок, на желтоватой бумаге было накарябано карандашом: «Камень и звезда: нелепые образы. Однако близкое общение с обкатанным камнем порой приближает нас к переходу; между рукой и камнем дрожит сочетание звуков, неподвластное времени. Сверкнувший на мгновение… (слово написано неразборчиво)… он похож на бету Центавра; имена и значительность отступают, растворяются, перестают быть тем, за что наука пытается их выдавать. И тогда все становится тем, что оно есть на самом деле (чем? чем?): рукою, что дрожит, сжимая прозрачный камень, который дрожит тоже». (Ниже приписка чернилами: «Речь не идет о пантеизме, о сладостной иллюзии, падении вверх, в небеса, горящие у кромки моря».)
В другом месте сделано пояснение: «Говорить о частотах низких и высоких — значит еще раз пойти на поводу у idola fori[609] и у наукообразного языка, этой иллюзии Запада. Моему нонконформисту весело смастерить воздушного змея, на радость реально существующим детям, — не является реальностью такой уж пустяковой (слово „высокий“ вызывает почтение, при слове „много“ уважение не возникает, и т. д.), он воспринимает это как сочетание простейших элементов, отчего и возникает недолговечная гармония, удовлетворение, которое помогает ему вынести все остальное. И точно так же моменты отстраненности, счастливого отчуждения, которые тут же низвергают его оттуда, где мог бы быть его рай, не представляются ему опытом более высокого уровня, чем создание бумажного змея; это тоже конечный опыт, но не сверх и не далее того, что уже было. Это не конец во временном его понимании, это подход к наивысшей точке процесса освобождения себя от всего лишнего, в конечном итоге процесса обогащающего; это может произойти, когда сидишь в сортире, и особенно когда входишь в женское лоно, или когда в сигаретном дыму читаешь что-нибудь весьма малоценное в силу неизменно повторяющегося культа воскресного времяпрепровождения.
В плане повседневной жизни поведение моего нонконформиста выражается отрицанием всего того, что хоть отдаленно напоминает общепринятую идею, традицию, любую заурядную структуру, основанную на страхе и на якобы взаимной выгоде. Он запросто мог бы быть Робинзоном. Он не мизантроп, но в мужчинах и женщинах принимает лишь то, что не вылеплено общественными структурами; он и сам наполовину заштампован, и он это знает, но его знание активно, оно не похоже на смирение тех, кто выверяет каждый свой шаг. Свободной рукой он большую часть дня отвешивает себе пощечины, а в остальное время делает то же самое по отношению к другим, которые платят ему тем же в тройном размере. Все его время уходит на поддержание каких-то чудовищных отношений с любовницами, друзьями, кредиторами и разными чиновниками, а когда у него выдаются редкие свободные минуты, он так пользуется своей свободой, что всем прочим остается только удивляться, и это всегда заканчивается смешными маленькими катастрофами, вполне в духе его самого и его возможных амбиций; другая свобода, тайная и невыявленная, направляет его, но только он сам (да и то едва-едва) смог бы понять смысл этой игры».
(-6)
75
Как было прекрасно в старые времена чувствовать себя обосновавшимся среди царственного стиля жизни, который подразумевал наличие сонетов, общение со звездами, медитации буэнос-айресскими ночами, атмосферу гётевского покоя на собраниях в кафе «Колумб» или на лекциях заграничных маэстро. До сих пор его окружал мир, который именно так и жил, который любил себя таким, сознательно приукрашенным и нарядным, искусственно выстроенным. Чтобы почувствовать, как далек он был теперь от этого колумбария, Оливейре не оставалось ничего другого, как вторить с горькой усмешкой трескучим фразам и витиеватым ритмам прошлого, этой заученной манере говорить и молчать. В Буэнос-Айресе, этой столице страха,[610] он снова почувствовал себя в обстановке сглаживания острых углов, что называют обычно проявлением здравого смысла, и, кроме того, демонстрации самодостаточности, которая слышалась в голосе и молодых, и старых, их готовность принять существующее за истину в последней инстанции, подмену сути за самую суть, самую суть, самую суть (стоя перед зеркалом, зажав в кулаке тюбик зубной пасты, Оливейра в который уже раз рассмеялся себе в лицо и, вместо того чтобы почистить зубы, поднес щетку к своему отражению в зеркале и старательно вычертил на нем губы розовой пастой, а сверху нарисовал сердце, потом руки, ноги, потом буквы вперемежку с непристойностями, он водил щеткой по зеркалу, а потом разом выдавил весь тюбик, задыхаясь от смеха, но тут пришла Хекрептен с губкой, и т. д.).
(-43)
76
Что касается Полы, все дело было в ее руках, как всегда. Был вечер, была усталость оттого, что столько времени потеряно в кафе за чтением газет, которые похожи на одну и ту же бесконечную газету, а пиво было вроде крышки, которая слегка давила на желудок. Он был готов к чему угодно, мог попасть в любую ловушку, подстроенную одиночеством и силой инерции, и вдруг женщина открывает сумочку, чтобы заплатить за кофе со сливками, и пальцы теребят замочек, который всегда заедает. Такое впечатление, что замочек охраняет доступ в зодиакальный дом, и когда женщине удастся потянуть за тонкий золоченый язычок так, чтобы неуловимым движением подтолкнуть застежку, произойдет некое озарение и ослепит всех этих завсегдатаев, пьяных от перно и велогонок, или вообще их всех поглотит, и весь привычный мир затянет в воронку из фиолетового бархата, вместе с Люксембургским садом, улицей Суффло, улицей Гей-Люссак, с кафе «Капулад», фонтаном Медичи и улицей Месье-ле-Прэнс, засосет все это с последним бульканьем, и не останется ничего, только пустой столик, раскрытая сумочка, пальцы женщины, которые вынимают монету в сто франков и протягивают ее папаше Рагону, в то время как Орасио Оливейра, понятное дело благополучно избежавший катастрофы, готовится сказать то, что говорится обычно в моменты великих катаклизмов.
— О, вы знаете, — ответила Пола, — страх не самое сильное мое место.
Она сказала это «Oh, vous savez»,[611] как, наверное, сказал бы сфинкс, прежде чем загадать загадку, почти извиняясь, стараясь не выпячивать свою значительность, которая, как всем известно, и так достаточно велика. Так говорят женщины в многочисленных литературных произведениях, где автор, чтобы не терять времени, лучшее включает в диалоги, соединяя таким образом приятное с полезным.
— Когда я говорю «страх», — заметил Оливейра, сидя на том же диване из красного плюша слева от сфинкса, — я думаю прежде всего об оборотной стороне медали. Ваша рука двигалась так, словно подошла к некой границе, за которой начнется другой мир, где все будет перевернуто и где я мог бы оказаться вашей сумочкой, например, а вы — папашей Рагоном.
Он ждал, что Пола засмеется и все перестанет быть таким изощренным, но Поле (что ее зовут Пола, он понял позже) подобная возможность не показалась слишком абсурдной. Она улыбнулась, показав ровные маленькие зубы за растянутыми, ярко накрашенными оранжевой помадой губами, но Оливейра все никак не мог оторвать взгляда от ее рук, его всегда привлекали руки женщины, ему хотелось коснуться их, гладить ее пальцы фалангу за фалангой, медленно изучая, как какой-нибудь японский массажист, неощутимый ток крови в ее венах, исследовать ее ногти, пытаясь понять хиромантическое назначение роковых линий и счастливых бугорков, услышать шум лунных морей, прижав к уху маленькую ладонь, немного влажную не то от любви, не то от чашки с чаем.
(-101)
77
— Вы же понимаете, после всего этого…
— Res, non verba,[612] — сказал Оливейра. — Восемь дней по семьдесят песет за день, восемь на семьдесят — будет пятьсот шестьдесят, давайте пятьсот пятьдесят, а на оставшиеся десять купите больным кока-колу.
— И будьте любезны, немедленно заберите свои личные вещи.
— Конечно, не сегодня завтра, и скорее сегодня, чем завтра.
— Вот ваши деньги. Распишитесь в получении, сделайте милость.
— Никакой милости. Просто распишусь, и все. Ессо.[613]
— Моя супруга очень недовольна, — сказал Феррагуто, поворачиваясь к нему спиной и покусывая кончик сигары.
— Женская чувствительность, климакс и все такое.
— Затронуто ее достоинство, сеньор.
— Именно так я и подумал. Раз уж мы заговорили о достоинстве, спасибо, что дали работу в цирке. Забавно было, и работы немного.
— Моя супруга никак не может понять, — сказал Феррагуто, но Оливейра был уже в дверях. У кого-то из них двоих открылись глаза или, наоборот, закрылись, И на двери тоже было что-то вроде глаза, который то открывался, то закрывался. Феррагуто снова зажег сигару и засунул руки в карманы. Он думал о том, что он скажет этому неразумному выпендрежнику, когда тот придет в себя. Оливейра позволил поменять себе компресс (наверное, глаза закрылись все-таки у него) и подумал о том, что скажет ему Феррагуто, когда призовет его на ковер.
(-131)
78
Душевная близость с Травелерами. Когда я прощаюсь с ними в прихожей или в кафе на углу, я вдруг на какой-то момент чувствую что-то вроде желания остаться около них в качестве неназойливого соглядатая, дружелюбного и немного грустного. Душевная близость, какие слова, так и хочется приписать неизбежный уменьшительно-ласкательный суффикс. Но какое еще слово может ближе, чем это, выразить (в полном смысле слова) то, что ощущается кожей, каждой клеткой эпителия, а именно что Талита, Маноло и я стали друзьями. Люди считают себя друзьями, потому что им случается несколько часов в неделю проводить на одном и том же диване, глядя в один и тот же телевизор, или в одной и той же постели, или потому, что они делают одну и ту же работу. В юности, в кафе, сколько раз нас охватывало иллюзорное чувство полнейшего единения с товарищами, и как мы были тогда этим счастливы. Чувство единения с мужчинами и женщинами, которых мы едва знали лишь по манере себя вести, подавать себя, с теми, кого мы видели лишь в профиль. Я прекрасно помню, время ничего не стерло из моей памяти, как в каком-нибудь кафе Буэнос-Айреса нам на несколько часов удавалось освободиться от семьи и обязанностей, и, окутанные дымом и чувством доверия к себе и своим друзьям, мы доходили до того, что верили в незыблемость временного, ибо это несло нам нечто похожее на бессмертие. Тогда, в двадцать лет, мы сказали друг другу наши самые замечательные слова, познали наши самые глубинные связи между людьми, мы были похожи на богов, собравшихся за пол-литровой бутылкой кубинского рома. Под звуки сьелито, звучавшего в кафе, под райские звуки прекрасного сьелито. Улица потом всегда была похожа на изгнание из рая, и ангел пылающим мечом регулировал движение на перекрестке улиц Коррьентес и Сан-Мартин.[614] Домой, уже поздно, к папкам с бумагами, к супружеской постели, к чаю из липы для твоей старушки, к послезавтрашнему экзамену, к нелепой невесте, которая читает Вики Баум[615] и на которой мы в конце концов женимся, другого выхода нет.
(Странная женщина Талита. Такое впечатление, что она несет в руке зажженную свечу, освещая путь. При этом сама скромность, С дипломированными аргентинками это редко бывает, здесь достаточно звания землемера, чтобы принимать себя всерьез. А тут, подумать только, целая аптека на ее попечении, это же гигантская работа, это захватывает. А у нее при этом всегда такая милая прическа.)
А сейчас я должен объяснить: когда Маноло называют Ману, это означает близость. Талита считает вполне естественным называть Маноло Ману, она не понимает, что для его друзей — это скрытое оскорбление, кровоточащая рана. Впрочем, по какому праву я… По праву блудного сына, не иначе. Кстати сказать, блудному сыну надо бы поискать себе работу, последняя ревизия имеющихся материальных средств напоминала спелеологические изыскания. Если я приму нежности бедняжки Хекрептен, которая сделает что угодно, лишь бы спать со мной, у меня будет комната, где можно жить, выглаженные рубашки и т. д. Идея ходить по домам и продавать отрезы такая же идиотская, как и любая другая, надо просто набить руку, но куда приятнее было бы войти в цирковой коллектив вместе с Маноло и Талитой. Войти в цирковой коллектив, прекрасно сказано. Вначале был цирк,[616] это стихотворение Каммингса, в котором говорится, что для создания мира Старик набрал в легкие воздуху и они раздулись как купол циркового шатра. По-испански так не скажешь. Нет, скажешь, примерно так: набрал воздуху в цирковой шатер. Так что мы примем нежности Хекрептен, она чудесная девушка, и это позволит нам жить рядом с Маноло и Талитой, поскольку, выражаясь топографическим языком, нас будут разделять две стены и тонкая воздушная прослойка. Бордель под рукой, магазин рядом, рынок в двух шагах. Подумать только — Хекрептен меня ждала. Порой происходят поразительные вещи. В любой семье есть место подвигам, вот, к примеру, этот случай, в доме Травелеров девушка узнает о моих заморских злоключениях и между тем продолжает ткать и распускать все тот же фиолетовый пуловер в ожидании своего Одиссея, одновременно работая в магазине на улице Майпу. Было бы неблагородно не ответить на притязания Хекрептен и отказать ей в ее и без того разнесчастной судьбе. Ты столько раз к цинизму прибегал / Что сей порок твоею сутью стал. ХОдиосный ХОдиссей.
Да уж, откровенно говоря, самое нелепое в нашей жизни, которую мы якобы проживаем, это ненужное общение. Мы крутимся по непересекающимся орбитам, время от времени встречаясь касанием рук, в пятиминутном разговоре, днем в беготне, вечером в опере[617] или на каком-нибудь бдении у тела, где все чувствуют себя немного более едиными, чем всегда (так и есть, но это ощущение тут же исчезает, как только кончается процедура, всех объединившая.) И в то же время живешь в убеждении, что друзья рядом с тобой, что общение существует и что согласие и несогласие между вами глубоко и неизменно. Как мы все ненавидим друг друга и не понимаем того, что любовь и нежность лишь одна из форм этой ненависти, а причина этой глубинной ненависти в том, что мы не можем найти центр, и потому остается непреодолимое пространство между мной и тобой, между этим и тем. Всякая нежность — это онтологическая отправная точка, че, в попытке овладеть чем-то неовладеваемым, и если мне хочется стать для Травелеров близким человеком под предлогом того, чтобы узнать их получше и стать для них настоящим другом, то на самом деле я просто хочу завладеть маной Ману, стать прирученным домовым Талиты, завладеть их взглядом на вещи, их настоящим и будущим, которое так отличается от моего. Откуда эта мания духовного присвоения, Орасио? Откуда эта тоска по аннексиям у тебя, который только что обрубил концы и покончил со смутой и упадком духа (а может, стоило задержаться в Монтевидео и поискать получше) в прославленной столице духовной жизни Латинской Америки? Ну и что мы имеем: с одной стороны, ты сознательно распрощался с одной из самых ярких страниц своей жизни и даже думать не позволяешь себе на том нежном языке, на котором ты с удовольствием лепетал всего лишь несколько месяцев назад; а с другой, о запутавшийся в себе идиот, ты чуть ли не в буквальном смысле в лепешку разбиваешься, чтобы сблизиться с Травелерами, стать одним из Травелеров, утвердиться среди Травелеров, даже в цирк к ним пролезть (вряд ли директор захочет дать мне работу, так что придется серьезно подумать, не переодеться ли мне матросом, который привозит на продажу отрезы тканей сеньорам на платья). Вот дурак-то. Посмотрим теперь, станешь ли ты снова сеять смятение в рядах, раз уж ты появляешься только для того, чтобы портить жизнь порядочным людям. Когда-то мне рассказывали об одном типе, который считал себя Иудой и по этой причине вел собачью жизнь, принадлежа к высшим слоям буэнос-айресского общества. Не надо быть тщеславными. Ты всего-навсего вкрадчивый инквизитор, как однажды ночью тебе совершенно правильно это заметили. Взгляните, сеньора, на этот отрез. Шестьдесят пять песо за метр, только ради вас. Вашему му… простите, вашему супругу непременно понравится, когда он вернется из… простите, с работы. Он на стенку полезет от радости, поверьте мне, слово матроса с «Вифлеемской реки». Что делать, маленькая контрабанда ради приработка, малыш у меня рахитом болеет, а же… простите, супруга шьет для одного ателье, надо помочь ей, сами понимаете.
(-40)
79
Сверхученые записи Морелли: «Попытаться написать roman comique[618] таким образом, чтобы текст отражал другую шкалу ценностей, и участвовать тем самым во всей этой антропофонии, в которую мы продолжаем верить. Пожалуй, в рамках обычного романа такой поиск невозможен, читатель ограничен его пространством, тем более определенным, чем талантливее автор. Он вынужден резко тормозить на разных уровнях в плане драматическом, психологическом, трагическом, сатирическом или политическом. В противоположность этому попытаться написать книгу, которая не вцеплялась бы в читателя, но делала бы его невольным соучастником, тихо нашептывая ему о том, что кроме обычных путей бывает и нечто эзотерическое. Массовое чтение, рассчитанное на читателя-самку (который при этом не уйдет дальше нескольких первых страниц, начисто запутается, будет шокирован и станет проклинать себя за выброшенные деньги), в котором, однако, будут смутно угадываться признаки чтения избирательного.
Провоцировать, слепить текст будто бы неряшливый, бессвязный, неконгруэнтный, антироманический (но не антиромантический). Не запрещая себе использовать великие достижения этого жанра, когда того требует ситуация, однако всегда помня совет Андре Жида: Ne jamais profiter de l’élan acquis.[619] Как любое создание западной культуры, роман довольствуется установленными нормами. Решительно противостоять им, найти способ уйти от них и для этого срубить под корень всю системную конструкцию характеров и ситуаций. Приемы: ирония, непрестанная самоирония, неконгруэнтность, безудержная игра воображения.
Попытка такого рода есть фактический отказ от литературы; отказ частичный, поскольку она опирается на слово, но она должна скрывать в себе этот отказ в каждой операции, которую предпринимают автор и читатель. То есть использовать роман, как используют револьвер, чтобы поддержать мир, поменяв таким образом его знак. Взять от литературы ее назначение быть живым мостиком от человека к человеку, которое в трактате или эссе сохраняется только для специалистов. Повествование, которое не стало бы предлогом для передачи „послания“ (не бывает посланий, есть только посланники, они сами и есть послание, так же как любовь — это тот, кто любит); повествование, которое служит коагулянтом человеческих жизней, катализатором запутанных и малопонятных представлений, от которого достается в первую очередь тому, кто пишет, — вот что такое написать эту книгу как антироман, потому что установленные нормы неизбежно оставляют за рамками малейшие признаки того, что могло бы превратить нас в посланцев, приблизить нас к нашему пределу, нас, которые пока еще так от этого далеки.
Странным образом автор создает себя сам через свое произведение. Если в этом месиве, которое есть прожитый день, погружение в существование, мы хотим найти эффективно работающие ценности, которые приведут нас наконец к тому, что мы услышим друг друга, то что тогда делать с чистым разумом,[620] со здравомыслящим здравым смыслом? Со времен античной Греции до сегодняшнего дня диалектическое мышление располагало достаточным временем, чтобы это принесло свои плоды. И мы поедаем эти плоды, они прекрасны на вкус, правда кишат радиоактивными элементами. Но вот сейчас-то, в конце банкета, что же это мы все такие невеселые, братья мои по одна тысяча девятьсот пятьдесят какому-то году?»
Еще одна запись, видимо в дополнение:
«Положение читателя. Вообще говоря, каждый романист ждет от своего читателя, что тот поймет его, учитывая собственный жизненный опыт, или воспримет написанное как своего рода послание, которое глубоко заденет его душу. Писатель-романтик хочет, чтобы его поняли через него самого или через его героев; писатель-классик стремится научить, оставить свой след в истории.
Третья возможность: сделать читателя своим соучастником, товарищем и попутчиком. Объединить того и другого одновременностью, поскольку чтение уничтожает время, в которое живет читатель, и переносит его во времена автора. Таким образом, читатель может стать соучастником и сопереживателем авторского опыта, в тот же момент и в той же форме. Любые эстетические ухищрения в этом случае бесполезны: важен только материал, причем в процессе его вынашивания, непосредственный жизненный опыт (который передается через слово, конечно, однако через слово, как можно меньше нагруженное эстетически; вот тогда получится „комический“ роман с его антиградациями, иронией и прочими знаками-указателями, которые ведут к чему-то совершенно иному).
Для такого читателя, для mon semblable, mon frère,[621] комический роман (а что такое „Улисс“?[622]) должен быть похожим на сон, где за пределами того обычного, что происходит, мы чувствуем нагруженность чем-то более серьезным, во что не всегда умеем проникнуть. В этом смысле комический роман должен обладать образцовым целомудрием; он не обманывает читателя, не погоняет его, словно взнузданную лошадь, своими эмоциями или намерениями, но дает ему что-то вроде податливой глины, некую начальную разработку, содержащую в себе признаки, присущие всем людям вообще, а не какому-то отдельному индивидууму. Или, лучше сказать, дает фасад с окнами и дверями, за которым кроется тайна, которую читателю-соучастнику предстоит отыскать (в этом его соучастие) и которую он может так и не раскрыть (в этом его сопереживание). То, что автор подобного романа может достичь для себя самого, повторится (возможно, в преувеличенном объеме, и это замечательно) в читателе. Что касается читателя-самки, он, возможно, остановится перед фасадом, известно ведь, что фасады бывают необыкновенно красивыми и весьма trompe l’œil,[623] и что перед ними могут разворачиваться, ко всеобщему удовольствию, и комедии, и трагедии о так называемом honnête homme.[624] И все будут довольны, а кто против — чтоб заболеть ему бери-бери[625]».
(-22)
80
Когда я заканчиваю стричь ногти или мыть голову или вот сейчас, например, когда я пишу, я чувствую урчание в желудке, и меня охватывает такое ощущение, словно мое тело осталось где-то позади меня (я не впадаю в дуализм, просто делаю различие между собой и моими ногтями) и что с моим телом вообще что-то не то, не то мне его мало, не то слишком много (как посмотреть).
Или по-другому: мне кажется, мы заслуживаем лучшего механизма. Психоанализ показывает, что созерцание своего тела приводит к ранним комплексам. (Вот и Сартр в самом факте того, что женщину «протыкают», видит экзистенциальное противоречие, которое определяет всю ее жизнь.) Больно думать, что мы как бы ушли вперед от собственного тела, но это опережение является и ошибкой, и препятствием, и скорее всего чем-то бесполезным, поскольку эти ногти, этот пупок, я хочу сказать, другое, что почти невозможно объяснить: что «душа» (мое я-не-ногти) — это душа тела, которое не существует. Когда-то, возможно, душа подтолкнула человека в процессе его телесной эволюции, но потом она устала его теребить и продолжает путь одна. Едва сделает пару шагов, тут же душа и разрывается, ой-ой, поскольку ее настоящее тело не существует, ничто ее не держит, вот она и падает, шлеп.
Бедняжка возвращается домой, и т. д., но только это не то, что я… В конце-то концов.
Долгий разговор с Травелером о безумии. Заговорили о снах, и оба почти одновременно заметили, что сновидения определенной структуры вполне могли бы сойти за обычное безумие, если бы они продлились наяву. В снах нам дается бесплатная возможность потренировать наши способности к безумию. В то же время мы решили, что любое безумие есть зафиксировавшийся сон.
Народная мудрость: «Да он с ума спятил, грезит наяву…»
(-46)
81
Согласно Аристофану, софистам присуще изобретать новые рассуждения.[626]
Попробуем же изобрести новые страсти или воспроизведем старые с равной силой.
Еще раз анализирую это заключение, корнями уходящее к Паскалю: подлинная вера лежит между суеверием и отрицанием веры.
Хосе Лесама Лима. Научные заметки из Гаваны(-74)
82
Мореллиана
Зачем я все это пишу? Четкой идеи у меня нет, да и вообще никакой идеи нет. Есть обрывки, намерения, отдельные куски, но все это ждет, чтобы ему придали форму, и тут в игру включается ритм, и я пишу в этом ритме, я следую ему, это он побуждает меня писать, он, а не то, что обычно называют мыслью и что творит прозу, литературную или какую-то еще. Сначала лишь смутно улавливаешь ситуацию, которую можно только обозначить словом; я выхожу из этой полутени, и если то, что я хочу сказать (если то, что хочет быть сказанным), обладает достаточной силой, тут же возникает swing, ритмичное раскачивание, которое выталкивает меня на поверхность, озаряет светом все вокруг, и материал начинает приобретать очертания, различимые для того, кто сопереживает, находясь в третьей ипостаси, понятной и уже неизбежной: фраза, абзац, страница, глава, книга. Это раскачивание, этот swing, в котором прокручивается еще неясная материя, является для меня единственным доказательством ее необходимости, потому что стоит ему прекратиться, как я чувствую, что мне нечего сказать. Кроме того, это единственное вознаграждение за труды: чувствовать, что написанное мной как кошачья спинка, когда ее гладят — она рассыпает искорки и плавно выгибается. Итак, когда я пишу, я спускаюсь в кратер вулкана, я приближаюсь к Материнским Истокам,[627] я достигаю Центра — чем бы он ни оказался. Писать для меня — значит рисовать свою мандалу и одновременно в ней находиться, достигать очищения, очищаясь; чем не занятие для бедняги белого шамана в нейлоновых носках?
(-99)
83
Человек придумывает себе душу, когда он ощущает свое тело как паразита, как пиявку, присосавшуюся к его «я». Достаточно почувствовать, что живешь (не просто принять жизнь как допущение вроде как-хорошо-что-я-живу), как тут же нечто близкое и любимое в твоем теле, к примеру правая рука, превращается в объект, который самым неприятным образом имеет двойственную природу: рука — это не я, в то же время — это одна из моих составляющих.
Я ем суп. И тут, впадая в безумие, думаю: «Суп во мне, он у меня в мешке, который я никогда не увижу, у меня в желудке». Я ощупываю его пальцами и чувствую вздутие, чувствую, как бродит еда у меня внутри. Вот что такое я, мешок с едой внутри.
Тогда-то и рождается душа: «Нет, я не это».
А вот как раз это (давайте по-честному хоть раз)
да, да, именно это. С изящной оговоркой для самых чувствительных: «И это тоже я». Или еще одна ступенька: «Я в этом».
Я читаю «The Wawes»,[628] эти кружева, сотканные из пепла, этот сюжет, созданный из пены. А в тридцати сантиметрах от моих глаз медленно булькает суп в моем желудке, на ноге растет волосок, и незаметно набухает жировик у меня на спине.
Однажды, в конце того, что Бальзак назвал бы оргией, один тип, в котором не было никакой метафизики, сказал мне, намереваясь пошутить, что когда он испражняется, то всегда испытывает чувство чего-то нереального. Я помню его слова: «Встаешь, оборачиваешься, смотришь и тут же говоришь себе: „Неужели это сделан я?“»
(Как в стихотворении Лорки: «Другого средства нет, сынок, пусть вытошнит тебя! И нет другого средства».[629] И кажется, еще у Свифта, этого безумца: «Но, Селия,[630] Селия, Селия испражняется».)
О физической боли как о метафизическом стрекале написано множество всякой всячины. Для меня любая боль — это двойная атака: она, как никогда, заставляет меня почувствовать разлад между моим «я» и моим телом (и фальшь этого разлада, придуманного для самоутешения), и в то же время она сближает меня с моим телом, она делает его моей болью. Боль для меня — что-то более свое, чем наслаждение или даже ощущение подвижности моих членов. Это подлинные узы. Если бы я умел рисовать, я бы изобразил боль в виде аллегории, изгоняющей душу из тела, но в то же время показал бы, что все это не по-настоящему: разные варианты все того же комплекса, чье единство состоит в отсутствии такового.
(-142)
84
Бродя по набережной Селестэн, я наступаю на сухие листья, и когда поднимаю какой-нибудь из них и всматриваюсь в него, то вижу, что он наполнен пыльцой старого золота, под которым кроются земные глубины с запахом мшистых зарослей, прилипающих к моей ладони. И потому я приношу сухие листья к себе в комнату и прикрепляю их к абажуру лампы. Заходит Осип, сидит часа два, а на лампу даже не взглянет. На следующий день появляется Этьен и, не успев стянуть берет с головы, тут же Dis done, c’est épatant, ça!,[631] берет лампу в руки, рассматривает листья, приходит в полный восторг, Дюрер, прожилки и т. д.
Одна и та же ситуация и два варианта… Я сижу и думаю обо всех тех листьях, которых я не увижу, я, собиратель сухих листьев, и о стольких вещах, которые носятся в воздухе и которых не видят глаза, бедные летучие мыши среди книг, фильмов и засушенных цветов. Вокруг меня лампы, вокруг меня листья, которых мне не увидеть.
И так, оттолкнувшись от feuille en aiguille,[632] я думаю о том особенном состоянии, когда всего лишь на момент мы угадываем в пространстве невидимые лампы и листья, чувствуем, что они есть, где-то тут, рядом, за пределами видимого. Это так просто, любое возбуждение или депрессия подталкивают меня к состоянию, благоприятному для
я бы назвал его паравидением
иначе говоря (самое плохое как раз то, что надо говорить)
способность на секунду как бы уйти от себя, чтобы вдруг попытаться понять себя извне или изнутри, но в другом плане,
как будто я — это тот, кто смотрит на меня (нет, лучше — потому что на самом деле я себя не вижу — как будто кто-то проживает за меня эти мгновения).
Это длится так недолго, длиной в пару шагов, когда я иду по улице или когда делаю глубокий вдох (иногда, когда я просыпаюсь, чуть дольше, и тогда это сказочное ощущение),
и в этот момент я знаю, что я такое, потому что я точно знаю, что я не что иное, как это (и что я очень скоро ухитрюсь снова этого не знать). Однако не существует такого слова, которое определило бы материю, соединяющую слово и чистое видение в единый блок. Невозможно точно и объективно определить это несовершенство, которое мне удалось уловить и которое было отсутствием в чистом виде, или ошибкой в чистом виде, или недостаточностью в чистом виде, в общем,
неизвестно, чем, чем.
Попытка по-другому сказать то же самое: Когда это приходит, уже не я смотрю на мир, от себя — к нему, но я сам на секунду становлюсь миром, тем, что вне меня, всем остальным, что на меня смотрит. Я вижу себя таким, каким могут видеть меня другие. Это трудно переоценить: поэтому это и длится так недолго. Я способен измерить собственное несовершенство, заметить все то, что мы, по нашей ущербности или неспособности, не можем видеть. Я вижу то, чем я не являюсь. Например (я выстраиваю это уже по возвращении, но исходит это оттуда): есть огромные пространства, которых я не достигал никогда, а то, чего не знаешь, не существует. Страстное желание бежать куда-то, войти в какой-то дом, в какую-ту лавку, вскочить в какой-то поезд, проглотить всего Жуандо,[633] понять немецкий, узнать, что такое Аурангабад…[634] Жалкие, локальные примеры, но они могут дать общее представление об идее (если это идея).
Еще одна попытка сказать то же самое: Несовершенство ощущается скорее как бедность интуиции, нежели как недостаточность опыта. В самом деле, меня не слишком расстраивает тот факт, что я не прочел всего Жуандо, печаль моя оттого, что за такую короткую жизнь мне не вместить всех библиотек на свете, и так далее. Недостаточность опыта неизбежна, если я читаю Джойса, я автоматически жертвую какой-то другой книгой, и наоборот, и так без конца. Ощущение недостаточности наиболее остро, когда
Немного похоже вот на что: в воздухе вокруг твоей головы, твоего взгляда прочерчены некие линии,
за ними зоны, недоступные для твоих глаз, твоего обоняния, твоего вкуса,
то есть существуют некие ограничители в пространстве, которое вне тебя,
и ты не можешь ступить за эти ограничители, хотя тебе уже кажется, что ты полностью овладел каким-то знанием, а знание это словно айсберг, на поверхности видна лишь частица, а вся его огромная суть за пределами твоего проникновения, картина, похожая на гибель «Титаника». Хетот Холивейра вечно с хетими примерами.
Поговорим серьезно. Осип не увидел сухих листьев на лампе просто потому, что его ограничители располагаются до понимания того, что означает эта лампа. А Этьену ничего не стоит их увидеть, но зато его ограничители не позволили ему увидеть, что мне очень горько и я не представляю, как мне быть во всей этой истории с Полой. Осип это тут же понял и дал мне понять, что понял. И так мы все. Я представляю себе человека в виде амебы, которая протягивает щупальца, чтобы достать и схватить свою пищу. Щупальца бывают длинные и короткие, они двигаются, описывают круги. В один прекрасный день характер движений устанавливается (это называют зрелостью, когда сам себе голова). С одной стороны, достает далеко, с другой — не видит лампы у себя перед глазами. И тут уж ничего не поделаешь, как говорят уголовники: кому где отколется. И таким образом, человек живет себе, будучи вполне убежден, что ничто интересное не ускользнет от него, до тех пор пока внезапно не отскочит в сторону и ему не покажут на секунду, к счастью такую короткую, что он не успевает понять, что это было,
покажут, что существование его частично, а щупальца неправильные,
вселят подозрение, что там, дальше, где сейчас я вижу только чистый воздух,
или что в этой неопределенности, на этом перекрестке выбора,
я сам, в той, иной реальности, которая мне неизвестна,
я напрасно жду и надеюсь.
(Suite)[635]
Люди, подобные Гёте, не должны обладать слишком большим опытом такого типа. В силу своих природных способностей или решительности характера (гений — это тот, кто делает гениальный выбор и попадает в точку) щупальца у таких людей вытянуты на максимальную длину во всех направлениях. Они охватывают все во всеобъемлющем диаметре, их ограничители — это их собственная кожа, простирающаяся в духовном смысле на огромные пространства. Я не думаю, что у них возникает желание понять (или продолжить понимание) того, что лежит вне их огромной сферы. На то они и классики, че.
Амебу uso nostro[636] неведомое обступает со всех сторон. Я могу знать много и, в определенном смысле, многое прожить, но тут другое приближается ко мне со стороны моего самого уязвимого места и чешет мне голову своим холодным ногтем. Самое плохое, что чешет, когда у меня не чешется, а вот когда зуд начинается — когда я хочу знать, — все, что меня окружает, выглядит таким установившимся, таким благоустроенным, таким завершенным, таким основательным и так хорошо снабженным ярлыками, что я начинаю думать, уж не приснилось ли мне все это, возможно, мне и так хорошо, возможно, я достаточно защищен и не должен давать волю воображению.
(Последняя suite)
Воображение совсем захвалили. А оно, бедняга, не способно продвинуться на сантиметр дальше ограничителей, до которых достанут щупальца. До этого места — куда хочешь, с живостью необыкновенной. Но в ином пространстве, где дуют космические ветры, которые Рильке ощущал над своей головой, Мадам Воображение не в ходу. Но detto.[637]
(-4)
85
Бывают жизни, похожие на литературные статьи в газетах и журналах, поначалу всего так много, а кончается все облезлым хвостиком, где-то на тридцать второй странице, между объявлениями о распродажах и рекламой зубной пасты.
(-150)
86
Все члены Клуба, за исключением двоих, сходились на том, что легче понять Морелли по тому, что он цитирует, нежели по его авторским выкрутасам. Вонг до самого своего отъезда из Франции (полиция не захотела продлить ему carte de séjour[638]) настаивал на том, что не стоит дурить себе голову, пытаясь размотать навороты старика, раз и навсегда запечатленные в следующих двух цитатах, из Повеля и Бержье[639] соответственно:
«Возможно, есть в человеке такое место, откуда можно ощутить всю реальность целиком. Это предположение кажется бредовым. Огюст Конт[640] объявил, что химический состав звезд, видимо, узнать будет невозможно. А на следующий год Бунзен[641] изобрел спектроскоп».
«Язык, так же как и мышление, основывается на двоичном арифметическом функционировании нашего мозга. Мы различаем „да“ и „нет“, позитивнее и негативное. <…> Единственное, о чем свидетельствует мой язык, — о медлительности мировосприятия, ограниченной этой двоичностью. Недостаточность языка очевидна и вызывает горькие сожаления. Но что в таком случае можно сказать о недостаточности двоичного разума как такового? Внутренний смысл бытия, суть вещей от него ускользают. Он способен открыть, что свет по своему характеру является одновременно постоянным и переменным, что в молекуле бензола все ее шесть атомов имеют двойную связь и тем не менее являются взаимоисключающими; он принимает это, но не может понять, он не способен ввести в свою структуру реальность глубинных структур, которые он изучает. Чтобы достичь этого, необходимо изменить его состояние, необходимо, чтобы в головном мозгу начали действовать иные механизмы, чтобы двоичный разум был таким аналогом сознания, который вобрал бы в себя все формы и усвоил бы любые невоспринимаемые до сих пор ритмы этих глубинных структур».
«Le matin de magiciens»[642](-78)
87
В 1932 году Эллингтон записал Baby, when you ain’t there,[643] одну из своих тем, которую хвалили меньше всего и которую даже верный Барри Уланов[644] не счел достойной отдельного упоминания. Кути Уильямс[645] поет, до странности бесчувственно, следующее:
I get the blues down North, The blues down South, Blues anywhere, I get the blues down East, Blues down West, Blues anywhere. I get the blues very well О my baby when you ain’t there ain’t there ain’t there.[646]Почему в определенную минуту так хочется сказать: «Я это любил»? Я любил эти блюзы, чей-то силуэт на улице, жалкую пересохшую северную речку. Что-то вроде доказательства, борешься против небыти, которая сметет нас всех. Потому и витают в воздухе души все эти мелочи, воробышек, принадлежавший Лесбии,[647] блюзы, занимающие в памяти небольшое место, где-то между запахами, эстампами и пресс-папье.
(-105)
88
— Че, если ты будешь так дергать ногой, я тебе всажу иголку под ребро, — сказал Травелер.
— Давай рассказывай дальше про все желтое, — сказал Оливейра.
Если глаза чем-нибудь прикрыть, все мелькает, как в калейдоскопе.
— Все желтое, — сказал Травелер, протирая ему бедро ваткой, — находится в ведении государственной корпорации уполномоченных агентов по соответствующим вопросам.
— Звери с желтой шерстью, растения с желтыми цветами и желтые минералы, — послушно произнес Оливейра. — Почему бы и нет? В конце концов, по четвергам у нас модистка, в воскресенье мы не работаем, за субботу, с утра до вечера, происходят удивительные метаморфозы, и все спокойно. Ты меня так уколол, я даже испугался. Ты вогнал в меня металл желтого цвета или что?
— Дистиллированную воду, — сказал Травелер. — Чтоб ты думал, что это морфий. Ты совершенно прав, мир Сеферино может казаться странным только тем, кто верит исключительно в свои постулаты, а на остальные плевать хотел. А если подумать, как все меняется, стоит только шагнуть с тротуара на мостовую и пройти три шага…
— Все равно что перейти от окрашенного в желтый к окрашенному в пампасский, — сказал Оливейра. — Что-то меня в сон клонит, че.
— Это снотворная вода По мне, так я бы вкатил тебе какого-нибудь дурману, ты бы тогда быстренько проснулся.
— Объясни мне одну вещь, пока я не заснул.
— Сомневаюсь я, что ты заснешь, ну говори давай, что там у тебя.
(-72)
89
Появились два письма лиценциата Хуана Куэваса, и было много споров, в каком порядке их читать. Первое содержало поэтическое изложение того, что он назвал «мировым господством»; второе, также продиктованное машинистке в одном из порталов на площади Санто-Доминго, компенсировало вынужденную сдержанность первого:
С настоящего письма можно снять копий кто сколько хочет, особенно для членов ООН и членов правительств всего мира, которые есть настоящие свиньи и волки позорные без границ. С другой стороны, в порталах на Санто-Доминго так шумно, просто трагедия какая-то, но мне все равно тут нравится, потому что здесь я могу разбрасывать камни, самые большие в истории.
В качестве первых камней фигурировали следующие строки:
Папа Римский — самая большая свинья в истории, и никакой он не представитель Господа; Римская церковь — это сплошное дерьмо, исчадье сатаны; все римские храмы следовало бы сровнять с землей, чтобы воссиял свет Христа не только в самой глубине людских сердец, но и проступил бы во вселенском свете Господа Бога, а говорю я все это потому, что предыдущее письмо я писал в присутствии одной очень милой сеньориты и потому не мог выражаться как мне того хотелось, поскольку она смотрела на меня затуманенным взором.
Благородный лиценциат! Злейший враг Канта, он настаивал на том, чтобы «сделать более гуманной современную философию», в связи с чем заявлял:
А современный роман должен стать более психопсихиатрическим, то есть чтобы подлинные элементы духовности такого романа содержали бы в себе элементы науки на уровне высших достижений мировой психиатрии…
Порой внушительный арсенал диалектики оставался в стороне, и начинало проглядывать царство мировой религии:
Пусть человечество всегда ведут по верному пути две всемирные заповеди; и самые твердокаменные камни на Земле станут мягче воска под сияющим светом…
Да он поэт, и неплохой.
Голоса всех камней мира звучат во всех водопадах и ущельях мира, сливаясь с тонким голосом серебра, бесконечной возможностью любви к женщине и к Богу…
Вдруг прорывается, а затем разливается во всю мощь картина прообразов:
Космос и Землю, а в них — мысленный вселенский образ Господа, который позднее превратится в плотную материю, символизирует в Ветхом Завете тот архангел, который повернул голову и увидел темный мир, освещенный огнями, конечно, я не помню наизусть весь текст Ветхого Завета, но сказано там примерно так: как будто лик Вселенной обернулся светом Земли и остался вокруг солнца, наподобие орбиты космической энергии… Точно так же все Человечество и все народы должны повернуть свои тела, души и головы… И Вселенная и вся Земля обернулись бы к Христу, сложив к его ногам все законы Земли…
И тогда,
…останется лишь вселенский свет многих огней, освещая до самой глубины сердца народов…
И все было бы хорошо, как вдруг:
Дамы и господа! Настоящее письмо я пишу среди ужасного шума. Однако я продолжаю писать; вы все никак не поймете, — для того чтобы о МИРОВОМ ГОСПОДСТВЕ написалось (?) как следует, чтобы действительно было достигнуто вселенское понимание, я заслуживаю, мягко говоря, вашей всесторонней помощи, дабы каждая строка и каждая буква стояли бы на своем месте, вместо этого поноса, мать вашу так и растак, и еще раз так же, сукины вы дети, пошли вы все, знаете куда, вместе с вашей долбаной матерью и с вашим шумом.
Ну и что с того? В следующей строчке опять экстаз:
О, вселенские миры! Да расцветет их духовный свет, подобно прекрасным розам, в сердцах всех народов…
И заканчивалось письмо столь же цветисто, хотя и с довольно любопытными добавлениями в последний момент:
…Вся Вселенная должна очиститься, подобно Вселенскому свету Христа, и в каждом человеке расцветет цветок с бесчисленными лепестками, которые вечно будут освещать земные пути; и да воссияет все чистым светом МИРОВОГО ГОСПОДСТВА, говорят, ты меня больше не любишь и теперь у тебя на уме совсем другое. — С глубоким уважением. Мехико, Д. Ф., 20 сентября 1956 г. — улица 5 Мая, 32, 111. Дом «Париж». Лиц-ат ХУАН КУЭВАС.
(-53)
90
В те дни его мучило беспокойство, а дурная привычка подолгу мусолить одно и то же вовсе добивала, но он ничего не мог с собой поделать. Он беспрестанно возвращался к своему главному вопросу, а то неуютное состояние, в котором он жил по вине Маги и Рокамадура, побуждало его все глубже анализировать ту западню, в которую он попал. В таких случаях Оливейра брал чистый лист бумаги и писал главные слова, определяющие ход его мысленной жвачки. Например, он писал: «Виликий вапрос» или «зопадня». Этого было достаточно, чтобы расхохотаться и с удовольствием заварить себе еще один мате. «Единение, — писал Холивейра. — Мое эго и его эго». Подобные графологические штуки действовали на него, как на других пенициллин. Становилось легче, думалось спокойнее. «Самое главное — не слишком заноситься», — говорил себе Оливейра. После чего чувствовал, что способен думать без того, чтобы слова играли с ним самым подлым образом. Прогресс, однако, был чисто теоретическим, поскольку великий вопрос был все равно неразрешимым. «Кто бы мог подумать, парень, что ты кончишь метафизиком? — спрашивал себя Оливейра. — Если надо выдержать напор трехстворчатого шкафа, че, попытайся не поддаваться хотя бы тумбочке, в часы еженощной бессонницы». Приходил Рональд и предлагал ему подключиться к своей маловразумительной политической деятельности, и всю ночь (Мага тогда еще не привезла Рокамадура из деревни) они проспорили, как Арджуна с Возничим,[648] о действии и пассивности, о причинах, по которым стоит рисковать в настоящем во имя будущего, этой непременной составляющей каждого действия, направленного на социальные цели, о той мере, в которой риск может хоть как-то прикрыть порочность сознания того, кто рискует, и те личные мерзости, которые он совершает каждый день. Рональд в конце концов ушел расстроенный, так и не убедив Оливейру в необходимости поддержать выступления мятежных алжирцев. Дурное послевкусие не покидало Оливейру целый день, потому что гораздо легче сказать «нет» Рональду, чем себе самому. В одном он был абсолютно уверен: нельзя, не предав что-то в себе, отказаться от пассивного ожидания, в котором он жил со дня приезда в Париж. Уступить поверхностному великодушию и пуститься в расклеивание на улицах антиправительственных плакатов — решение чисто светского плана, как будто он улаживает таким образом отношения с друзьями, которые оценили бы его за смелость гораздо выше, чем если бы он нашел подлинные ответы на великие вопросы. Пытаясь рассмотреть вопрос с точки зрения преходящего и абсолютного, он чувствовал, что ошибался в первом случае и был прав во втором. Плохо, когда человек отказывается от борьбы за независимость Алжира или не выступает против антисемитизма или расизма. Но хорошо, когда человек отказывается от быстродействующего дурмана коллективных действий и снова остается наедине с собой перед стаканом горького мате, размышляя над великим вопросом, крутя его, как клубок ниток, конец которого спрятан или, наоборот, из которого торчат четыре или пять концов.
Да, это, несомненно, хорошо, однако надо признать, с таким характером, как у него, можно попрать любую диалектику действия наподобие «Бхагавадгиты».[649] Заваривать ли мате самому, или пусть его заваривает Мага — тут нет никаких сомнений. Но все остальное распадалось на части и тут же получало противоречивые толкования: с пассивным характером сочеталась наибольшая свобода и раскрепощенность, праздное отсутствие принципов и убеждений заставляло его острее чувствовать, что у любой жизни есть своя ось (то, за что его называли флюгером), и если он из-за лени отказывался от чего-то, то он мог заполнить пустоту новым содержанием, которое свободно могло выбирать его сознание или его инстинкт, без всяких ограничений, более экуменически, скажем так.
«Более экуменически», — аккуратно записал Оливейра.
Кроме того, какова подлинная мораль всякого действия? Общественная деятельность, например, профсоюзов с лихвой оправдывалась историческими условиями. Счастливы те, кто жил и упокоился под сенью истории. В самопожертвовании почти всегда проявляются религиозные корни. Счастливы те, кто возлюбил ближнего своего как самого себя. В любом случае Оливейра отвергал этот уход от себя самого, это наступление на чужой загон из прекрасных побуждений, онтологический бумеранг, призванный в результате всего обогатить того, кто его запускает, придать ему больше человечности, больше святости. Святым всегда становятся за счет кого-то другого и пр. Он ничего не имел против действия как такового, но его останавливало то, что в собственные поступки он не верил. Он опасался предательства, стоит ему только начать расклеивать плакаты на улице или заняться еще какой-нибудь общественной деятельностью; предательства под видом работы, которая приносит удовлетворение, под видом радостей повседневной жизни, под видом спокойной совести и чувства исполненного долга. Он достаточно знавал коммунистов в Буэнос-Айресе и в Париже, способных на любые низости, которые они оправдывали своей «борьбой», чтобы, например, вскочить посреди ужина и бежать на какое-нибудь собрание или на выполнение очередного задания. Общественная деятельность таких людей сильно смахивала на некое алиби, как, например, дети, которые служат алиби для своих матерей, чтобы не надо было заниматься чем-нибудь стоящим в этой жизни, или как эрудиция с очками на носу служит для того, чтобы не вникать в события соседнего квартала, где в тюрьмах гильотинируют людей, которые не должны быть гильотинированы. Псевдодеятельность всегда была напоказ, и за ней всегда следовали уважение, почет и конная статуя. Ее легко было примерить, как пару ботинок, можно было даже заслужить похвалу («в конце концов, было бы лучше, если бы алжирцы получили независимость и если бы мы все им в этом немного помогли», — подумал Оливейра); предательство было в другом, это как отказ от центра, перемещение на периферию, чудесное ощущение братства с другими людьми, которые заняты тем же делом. Но там, где человек определенного склада мог стать героем, Оливейра был обречен на самую худшую комедию, и он знал это. Так что лучше было взять на себя грех упущения, чем допущения. Быть актером означает не замечать зрительный зал, а он, похоже, родился, чтобы быть зрителем в первом ряду. «Плохо то, — подумал Оливейра, — что я пытаюсь быть зрителем активным, отсюда все и происходит».
Хактивный сритель. Надо бы проаналисироватъ этот вопрос повнимательнее. Иногда бывало так, что, глядя на картину какого-нибудь художника, на какую-нибудь женщину или читая чьи-нибудь стихи, он проникался надеждой, что когда-нибудь достигнет пространства, где не будет внушать себе такого отвращения и недоверия. Его немалым преимуществом было то, что его худшие недостатки помогали ему не то чтобы в выборе пути, но в поисках опорной точки для этого выбора. «Моя сила в моей слабости, — подумал Оливейра. — Великие решения я всегда принимал в виде замаскированного бегства». Большинство его начинаний (его наченаний) заканчивались not with a bang but a whimper;[650] все эти bang-обрушения были всего лишь укусами загнанной в угол крысы, только и всего. Все медленно прокручивалось, разрешаясь во времени, в пространстве или в поступках как-то само по себе, без применения усилий, от усталости — так заканчивались все его любовные истории — или от постепенного угасания, как бывает, когда начинаешь реже навещать друга, меньше читаешь какого-нибудь поэта, меньше заходишь в кафе, дозируя надвигающуюся пустоту, чтоб себя не так жалко было.
«На самом деле со мной не может произойти ничего, — думал Оливейра. — Мне даже цветочный горшок на голову не упадет». Тогда отчего это беспокойство, если не из старого доброго духа противоречия, эта тоска по своему делу и действию? Анализ этого беспокойства в его возможных пределах всегда указывал на перемещение, на удаление от центра некоего существующего порядка, уяснить который Оливейра был не в состоянии. Он чувствовал себя как зритель, который не видит спектакля, потому что сидит в театре с завязанными глазами: порой до него доходил скрытый смысл какого-то слова, музыкальной фразы, и он чувствовал себя взбудораженным, потому что понимал — ему удалось открыть главный смысл. В такие минуты он чувствовал себя ближе к центру, чем те, кто считал себя осью колеса, но его приближение выглядело бесполезным, танталовы усилия, которые даже муками не назовешь. Однажды он поверил в любовь, в то, что она обогатит его, разбудит неосуществленные возможности. Но пришел день, и он понял, что в его любви не было чистоты, потому что в нем изначально жила эта надежда, тогда как подлинно любящий не ждет ничего, кроме любви, слепо принимая то, что день стал более голубым, ночь более нежной, а в трамвае не так уж неудобно. «А я, даже когда суп ем, анализирую свои действия с точки зрения диалектики», — подумал Оливейра. В конце концов, он пытался делать из своих возлюбленных подруг соучастниц в процессе наблюдения за окружающей действительностью. Сначала женщины обожали его (в самом деле абажали), восхищались им (бизгранично воскищались), а потом что-то заставляло их чувствовать какую-то пустоту, они уходили прочь, и он сам облегчал им этот уход, он открывал им дверь, пусть играют в другой команде. В двух случаях он чуть было не пожалел об этом и не оставил им иллюзию, что они его понимали, но что-то говорило ему: жалость его неискренняя, она скорее похожа на дешевое проявление его собственного эгоизма, его лени и привычек. «Сострадание уничтожает», — говорил себе Оливейра, он не удерживал их и скоро про них забывал.
(-20)
91
На столе разбросаны бумаги. Чья-то рука (Вонга). Чей-то голос медленно читает, с ошибками, л произносит, будто зацепляет крючком, е смазано.
Какие-то записи, библиотечные карточки, на которых написано одно слово, какое-то стихотворение на чужом языке, в общем, — писательская кухня. Снова чья-то рука (Рональда). Чей-то низкий голос, который читает со знанием дела. Кто-то тихо здоровается с Осипом и Оливейрой, которые входят с виноватым видом (Бэбс открыла им дверь, и в каждой руке у нее было по ножу). Коньяк, золотистый свет, легенда об осквернении причастия,[651] маленькая картина Де Сталя.[652] Плащи можно оставить в спальне. Скульптура (возможно) Бранкузи.[653] В глубине спальни, затерянная между манекеном в гусарском мундире и нагромождением коробок с проволокой и картоном. Стульев не хватило, и Оливейра приносит две табуретки. Воцаряется тишина, сравнимая с той, как говорит Жене,[654] которую сохраняют воспитанные люди, когда вдруг чувствуют, что в гостиной кто-то неслышно испортил воздух. И тогда Этьен открывает папку и вынимает оттуда бумаги.
— Мы решили без тебя их не разбирать, — говорит он. — Только посмотрели кое-какие разрозненные листки. Эта дурища выбросила в мусорное ведро прекрасную яичницу.
— Она заплесневела, — говорит Бэбс.
Грегоровиус кладет дрожащую руку на одну из папок. На улице так холодно, хорошо бы двойную порцию коньяку. Согревающий свет лампы, зеленая папка, Клуб. Оливейра смотрит в центр стола, пепел от сигареты прибавляется к тому, который уже есть в пепельнице.
(-82)
92
Теперь он понимал, что в моменты наивысшего подъема желания ему так никогда и не удавалось нырнуть головой под гребень волны и пройти сквозь волшебное ощущение могучих токов крови. Любить Магу стало для него ритуалом, от которого он не ждал озарений; слова и движения чередовались с изобретательной монотонностью, похожей на танец тарантулов на полу, освещенном луной, долгое и вязкое повторение одних и тех же действий.
И он все время ждал от этого веселого хмеля чего-то такого, что его разбудит и он лучше увидит то, что его окружало, дешевые ли обои гостиниц или причины своих поступков, не желая понимать, что, загоняя себя в рамки ожидания, он уничтожает всякую реальную возможность дождаться, как будто заранее приговаривая себя к жалкому и душному настоящему. Он перешел от Маги к Поле одним махом, не обидев Магу и ни на кого не обидевшись, не смущаясь, ласкал розовое ухо Полы, повторяя при этом будоражащее имя Маги. Провал с Полой был одним из многих таких же провалов, игрой, которая все равно закончится проигрышем, но пока она длилась, она была прекрасна, в то время как после Маги он чувствовал что-то вроде досады, какой-то осадок не давал ему покоя, словно запах предрассветного окурка в уголке рта. И потому он привел Полу в ту же самую гостиницу на улице Валетт, где их встретила все та же старуха, которая понимающе кивнула, что же еще делать в такую паскудную погоду. Все так же пахло каким-то варевом, но синее пятно на ковре вычистили, освободив место для новых пятен.
— Почему именно здесь? — удивленно спросила Пола Она оглядела желтое покрывало, облезлую сырую комнату, абажур с розовой бахромой, свисавший с потолка.
— Здесь ли, в другом ли месте…
— Если дело в деньгах, так я ведь просто так спросила, дорогой.
— Если дело в том, что тебе противно, так ты только скажи, и мы пойдем в другое место, сокровище мое.
— Мне не противно. Просто здесь некрасиво. А может быть…
Она улыбнулась ему, словно пытаясь понять. Ее рука нашла руку Оливейры, когда они одновременно наклонились, чтобы снять покрывало. И весь вечер он еще раз, в который уже раз, как бессчисленное количество раз, был ироничным и растроганным свидетелем собственного тела, свидетелем открытий, очарований и разочарований последовавшей за тем церемонии. Он безотчетно привык к ритмам Маги, и вдруг другое море, другой прибой увлек его, оттащив от автоматизма, вставал перед ним новой волной и, казалось, мог вслепую уничтожить его одиночество, заполненное призраками. Очарование и разочарование перехода от одних губ к другим, оттого что ты гладишь шею там, где только что спала твоя рука, и вдруг чувствуешь другой изгиб, кожа более плотная, и жилка немного напряглась от усилия, потому что она приподнялась, чтобы поцеловать тебя или укусить. Каждый миг ты встречаешь не то, к чему привык, и это так сладостно, тебе нужно то отодвинуться чуть подальше, то опустить голову, чтобы найти губы, которые раньше были так близко, ты гладишь бедро, оно более покатое, ждешь каких-то слов, а их нет, настаиваешь рассеянно, пока не поймешь, что все надо выдумывать заново, что код еще не найден, что ключ к нему и шифр должны быть другими, новыми и означать должны совсем другое. Тяжесть тела, запах, звук голоса в смехе или мольбе, когда тянуть время, а когда подгонять, теперь все будет иным, все родится заново в бесконечном повторении, любовь богата на выдумки, бежит от себя самой, чтобы закрутиться головокружительной спиралью, груди отзываются по-другому, губы затягивают глубже или будто издалека, а тот момент, который раньше вызывал гнев и тревогу, теперь лишь игра, не более, резвое веселье, и, наоборот, в тот час, когда тебя клонило в сон под нежное бормотание всяких глупостей, сейчас это минута напряжения, что-то, чего не выразить, но что жаждет вырваться из тебя, словно порыв неутолимой ярости. И только наслаждение в его последнем взмахе все то же; но весь мир до него и после него разлетелся на куски, и надо всему придумать новое имя, каждому движению руки, каждому изгибу рта, каждой тени.
Второй раз это произошло в комнате Полы, на улице Дофин. Если можно выразить словами все то, что он там увидел, то действительность превзошла все его самые смелые ожидания. Каждая вещь была на своем месте, и у каждой вещи было свое место. История современного искусства была скромно представлена на почтовых открытках: одна с работой Клее, одна с Поляковым,[655] одна с Пикассо (последняя в силу определенной снисходительности), одна с Манесье[656] и одна с Фотрье.[657] Развешаны они были весьма художественно, на хорошо продуманном расстоянии друг от друга. Небольшого размера Давид[658] с площади Синьории тоже выглядел весьма к месту. Бутылка перно и бутылка коньяку. На постели мексиканское пончо. Пола иногда играла на гитаре, память об одной любви, случившейся на плоскогорье. У себя в комнате она была похожа на Мишель Морган,[659] но только с темными волосами. На двух книжных полках разместились: «Александрийский квартет» Даррелла, зачитанный и исчерканный пометками, Дилан Томас в переводе, испачканный помадой, несколько номеров журнала «Two Cities»,[660] Кристиан Рошфор, Блонден,[661] Саррот (не разрезанная) и несколько номеров «NRF». Остальные книги лежали около постели, на которой Пола немножко поплакала, вспомнив подругу, которая покончила с собой (фотографии, страничка, вырванная из дневника, засушенный цветок). После чего Оливейре уже не казались странными несколько извращенные ласки Полы, и то, что она первая открыла путь к наслаждениям, и что когда наступила ночь, они будто лежали на пляже, где песок медленно отступает перед водой, полной водорослей. Он тогда впервые назвал ее Полюс Парижа, в шутку, и ей понравилось, она повторила это имя и чуть укусила ему губу, прошептав: «Полюс Парижа», словно вбирала в себя это имя и хотела быть его достойной, полюс Парижа, Париж Полы, зеленоватый свет неоновой рекламы мерцает за шторами из желтой соломки, Пола Париж, Полюс Парижа, обнаженный город, ее естество отзывается на его ласки в ритме трепещущих занавесок, Пола Париж, Полюс Парижа, с каждым разом все более своя, груди уже не удивляют, рука, повторяя ласку, изучила изгиб живота и беспрепятственно дойдет до нужного предела, раньше или позже, губы уже стали знакомыми и понятными, язык маленький и острый, слюны меньше, зубы ровные, губы раскрываются, чтобы он мог коснуться десен, войти и изучить каждую теплую складочку, где чуть слышен запах коньяка и табака.
(-103)
93
Что до любви, ах, это слово… Моралист Орасио, опасающийся без всяких оснований омута страстей, запутавшийся в себе нелюдим, в городе, где зов любви слышится в названии каждой улицы, где им полон каждый дом, каждая квартира, каждая комната, каждая постель, каждый сон, каждое забвение и каждое воспоминание. Любовь моя, я люблю тебя не ради тебя, и не ради себя, и не ради нас обоих, я люблю тебя, потому что чувствую зов любви в моей крови, я люблю тебя, потому что ты не моя, потому что ты на другом берегу, ты зовешь меня перепрыгнуть к тебе, на твой берег, а я этого не могу, потому что на самом деле не обладаю тобой, тебя нет в глубине меня, я не достигаю тебя, твое тело, твоя улыбка мне не принадлежат, бывают часы, когда меня мучит то, что ты меня любишь (ну до чего тебе нравится слово «любовь», с какой непосредственностью ты роняешь его то на тарелку, то на простыни, то в автобусе), меня мучит твоя любовь, которая не служит мне мостом, потому что никакой мост не может опираться только на один берег, никакой Райт,[662] никакой Ле Корбюзье[663] не смогли бы построить мост, который опирается на один берег, и не смотри на меня так, словно ты птица, для тебя совершить обряд любви — такая простая вещь, и ты излечишься от любви раньше меня, несмотря на то что любишь меня так, как я тебя не люблю. Конечно, излечишься, потому что живешь здоровой жизнью, и после меня у тебя будет кто-то другой, ведь это все равно что сменить лифчик. Как грустно слушать этого циника Орасио, который хочет, чтобы любовь стала для него удостоверением личности, проводником, ключом, оружием, чтобы любовь одарила его тысячью глаз, как Аргуса, чтобы он стал вездесущим, чтобы стал тишиной, в которой звучит музыка, корнем, из которого вырастет волокно, чтобы соткать слова. И это глупо, потому что все это дремлет в тебе, тебе нужно только погрузиться в это, как погружают в стакан с водой японский цветок,[664] и постепенно начинают раскрываться яркие лепестки, набухают, делаясь выпуклыми, и рождается красота. Ты, дающая мне ее бесконечно, прости меня, ибо я не умею ее взять. Ты протягиваешь мне яблоко, а я забыл вставную челюсть на тумбочке. Стоп, достаточно. Я тоже умею быть грубым, учти. И учти это как следует, это все говорится недаром.
А почему стоп? Из опасений начать мастерить какие-нибудь выдумки, это у нас запросто. Вытаскиваешь откуда-нибудь какую-то идею, с другой полки достаешь ощущения, связываешь их при помощи слов, этих черных сук, и получается — я тебя люблю. В частности: я тебя хочу. А вообще: я тебя люблю. Так живут многие мои друзья, не говоря уже о моем дяде и двоюродных братьях, которые убеждены в любви-ко-то-рую-они-чувст-ву-ют-к-сво-им-же-нам. От слов к делу, че; обычно нет verbum, нет и res. То, что множество людей называет любовью, означает просто выбрать какую-нибудь женщину и жениться на ней. И ее выбирают, клянусь тебе, сам видел, Как это бывает. Как будто в любви можно выбирать, как будто любовь — это не когда тебя поражает громом и сбивает с ног прямо посреди двора. Ты мне скажешь, что ее выбирают, потому что любят, а я думаю, что все нао-тороб. Беатриче не выбирают, Джульетту не выбирают. Ты не выбираешь дождь, под которым ты вымокнешь до нитки, когда возвращаешься с концерта. Но я у себя в комнате один, нагромождаю слова одно на другое, а эти черные суки мстят как хотят и кусают меня под столом. Как правильно, под столом или за столом? Один черт, так и так кусают. За что, за что, почему, why, warum, per che этот ужас перед черными суками? Посмотри, вот в этом стихотворении Нэша[665] они превратились в пчел. А здесь, в двустишии Октавио Паса, в бедра, заполненные солнцем,[666] в прибежище лета. Но женское тело может быть телом Мари Бренвилье,[667] а затуманенный взор, созерцающий прекрасный закат, — это тот же самый оптический прибор, который используют, глядя на конвульсии повешенного. Я испытываю страх перед этим проксенитизмом[668] чернил и голосов, этим морем языков, которые лижут задницу мира. Мед и молоко под языком твоим…[669] Да, но говорят и про то, что от одной дохлой мухи могут завонять самые прекрасные духи. В войне со словами, всегда в войне, а ведь, в сущности, что необходимо, хотя от умственной работы придется отказаться, необходимо остаться в рамках картошки фри, сообщений агентства Рейтер, писем моего добропорядочного брата и кинодиалогов. Любопытно, что Путтенхэм[670] ощущал слова как предметы и даже как живые существа со своей собственной жизнью. Вот и я тоже чувствую иногда, что вокруг меня полчища злобных муравьев, готовых сожрать весь мир. Ах, если бы из молчания вылупился бы Рок…[671] Logos, faute éclatante![672] Зачать бы расу, которая выражала бы себя в рисунке, в танце, в макраме и в абстрактной мимике. Может, тогда эти люди избежали бы подтекста, творящего обман? Honneur des hommes[673] и пр. Да, но каждая фраза бесчестит эту честь, получается что-то вроде борделя девственниц, если бы такое было возможно.
От любви к филологии,[674] ты великолепен, Орасио. А виноват во всем Морелли, который завладел тобой, его бессмысленная попытка заставляет тебя искать пути к потерянному раю, бедный доадамовый человек из снэк-бара, из золотого века, завернутого в целлофан. This is а plastic’s age, man, a plastic’age.[675] Забудь о черных суках. Черт бы их побрал, эту свору, нам нужно подумать над тем, что такое подумать, то есть почувствовать, утвердиться и занять твердые позиции, прежде чем позволить пройти какому-то самому маленькому предложению, главному или придаточному. Париж — это центр, понимаешь меня, который нужно обойти без всякой диалектики, лабиринт, где прагматические формулы годятся лишь для того, чтобы совсем заблудиться. Так что cogito[676] здесь означает дышать Парижем, входить в него и впускать его в себя, пневма вместо логоса.[677] Аргентинский парень, он сошел на этот берег, нахватавшись кое-какой незамысловатой культуры, разбираясь во всем понемногу, во всем, что сегодня требуется, не лишенный вкуса, кое-что знающий об истории человечества, о периодах расцвета искусства, о романтизме и готике, о философских течениях, о политических разногласиях, о «Шелл Мекс»,[678] о действии и бездействии, о компромиссах и свободе, о том, кто такие Пьеро делла Франческа и Антон Веберн, что такое высокие технологии, «Леттера-22», «Фиат-1600» и кто такой Иоанн XXIII. Здорово, просто здорово. И был маленький магазинчик на улице Шерш-Миди, был теплый ветер,[679] налетавший порывами, был вечер и был час,[680] было цветущее время года,[681] было Слово (как всегда вначале), и был человек, который считал себя человеком. Какая глупость, мамочки мои, какая беспредельная глупость. И она вышла из этого магазинчика (совсем недавно я понял, что это была метафора, она вышла не из какого-нибудь, а из книжного магазинчика), и мы обменялись парой слов и пошли пропустить по рюмочке pelure d’oignon в кафе возле «Севр-Вавилон» (если говорить метафорами, я — это тонкий фарфор, который недавно выгрузили на эти берега, НЕ КАНТОВАТЬ, а она — Вавилона, корень времени, древние дела, primeval being,[682] ужас и нежность начала, романтизм Аталы,[683] только за деревом притаился настоящий тигр). Итак, Севр с Вавилоной отправились пропустить по стаканчику pelure d’oignon, мы смотрим друг на друга и, как мне кажется, начинали хотеть друг друга (нет, это было позже, на улице Реомюр), и произошел достопамятный диалог, торжество полного взаимонепонимания, сплошной разнобой и затяжные паузы, пока не заговорили наши руки, так приятно было гладить руки друг друга, глядеть друг другу в глаза и улыбаться, потом мы закурили «Голуаз», прикурив один у другого, лаская друг друга глазами, готовые на все так, что даже стыдно, а Париж танцевал вокруг, поджидая нас, новоприбывших, едва начавших жить, еще ничто не имело ни истории, ни имени (особенно для Вавилоны, а бедняге Севру приходилось делать героические усилия, он был очарован манерой Вавилоны смотреть на готику, не навешивая ярлыков, и бродить по набережным, не замечая, что везде торчат нормандские землечерпалки). Прощались мы как двое детей, которые шумно играли в гостях на дне рождения и теперь никак не могут расстаться, хотя родители тянут их за руки в разные стороны, пытаясь расстащить, ах эта сладкая боль и это ожидание, и известно только, что одного зовут Тони, а другую Лулу, и этого достаточно, потому что сердце и так словно сладкий плод, и…
Орасио, Орасио.
Merde, alors.[684] А почему бы и нет? Я говорю о тех временах, о «Севр-Вавилоне», а не об этой элегической успокоенности, когда знаешь, что игра уже сыграна.
(-68)
94
Мореллиана
Проза может протухнуть, так же как бифштекс из вырезки. Я еще несколько лет назад заметил признаки гниения в моей писанине. Как и я, она подвержена ангинам, желтухам, аппендицитам, но она значительно быстрее меня продвигается к окончательному распаду. Сгнить окончательно означает покончить с нечистотой любых составов и вернуть натрию, магнию, углероду их химически чистые права. Моя проза гниет со стороны синтаксиса и приближается — какого труда это стоит — к простоте. Думаю, поэтому я уже не смогу писать «связно»; с первых же шагов слова встают дыбом, и я буксую. Fixer des vertiges,[685] как здорово. Однако я чувствую, что следует установить основные составляющие. Стихи служат как раз для этого, и некоторые ситуации в романах, рассказах и пьесах тоже. Все остальное — начинка, и у меня это не получается.
— Значит, выходит, главное — это составляющие? Но углерод заслуживает меньшего внимания, чем история семьи Германтов.[686]
— Мне почему-то кажется, то, что я называю составляющими, — это из области композиции. Чтобы перевернуть школьные представления о химии. Когда композиция доходит до своего крайнего предела, открывается поле действия для составляющих. Надо установить их и, если возможно, стать ими.
(-91)
95
В записках, оставленных Морелли, он до странности часто упоминал о своих намерениях. Проявляя странный анахронизм, он интересуется исследованиями, утверждающими или опровергающими дзен-буддизм, которым в те годы лихорадочно увлекались beat generation.[687] Анахронизм состоял не в самом этом факте, а в том, что Морелли был куда более радикален в своих духовных устремлениях, чем калифорнийские юноши, пьяные от санскрита и баночного пива. В одной из своих записей он, как и Судзуки, предполагает, что язык — это что-то вроде возгласа или крика, идущего непосредственно от внутреннего опыта. Далее следовали образцы диалогов учителей с учениками, абсолютно непонятных для рационального слуха и для любой логики, основанной на дуализме и двоичности, таким образом, ответы учителей на вопросы учеников заключались в основном в том, чтобы дать ученику палкой по башке, вылить на него кувшин воды, вытолкать пинками на улицу или, в лучшем случае повторить вопрос ученика, глядя ему в лицо. Похоже, Морелли по вкусу этот совершенно безумный мир, он полагает, что подобный стиль поведения может служить настоящим уроком, единственным способом открыть ученику глаза души и действительно разбудить его дремлющий разум. Подобное насаждение иррационального казалось ему, в определенном смысле, правомерным, ибо уничтожало те структуры, на которых зиждились западные ценности, ту ось, которая корнем проросла в историческое сознание человека и которая в аналитическом мышлении (включая эстетическое чувство и даже поэтическое) предполагает инструмент выбора.
Тон этих записей (заметки сделаны учитывая метод мнемотехники[688] или еще с какой-то невыясненной целью), по всей вероятности, указывает на то, что Морелли пустился в авантюру, аналогичную тому произведению, на создание и публикацию которого он потратил в те годы столько сил. Некоторым его читателям (и ему самому) показалась забавной попытка написать что-то вроде романа, где не просматривалась бы никакая логическая последовательность. В конце концов ему удалось прийти к компромиссу с самим собой и найти соответствующий метод (хотя все равно нелепо выбирать литературный прием для целей, которые к литературе отношения не имеют)*.
*А почему бы и нет? Этот вопрос Морелли задает сам себе на листочке в клеточку, где на полях написан список овощей, возможно, memento buffandi.[689] Пророки, мистики, темная ночь души:[690] для рассказа часто употребляется форма притчи или видения. Конечно, речь о романе… Однако эта ненормальность скорее идет от мании, присущей западной обезьяне, все классифицировать, чем от подлинных внутренних противоречий**.
** Нечего и говорить, что чем сильнее внутренние противоречия, тем эффективнее может оказаться, скажем так, техника дзен. Чем лупить палкой по башке, выдать абсолютно антироманный роман, за которым последуют шок и неприятие и который, возможно, откроет новые пути тем, кто видит дальше других***.
*** Как бы в надежде на это последнее, на другом листочке продолжается тема Судзуки в том смысле, что понимание необычного языка учителей приведет ученика к пониманию самого себя, а не к пониманию смысла высказывания. В противоположность выводу, к которому мог бы прийти изощренный ум европейского филолога, язык учителя дзен передает идеи, а не чувства или интуитивные ощущения. И потому он не является языком в привычном смысле этого слова, а поскольку выбор фраз исходит от учителя, таинство совершается в той области, которая ему присуща, и ученик раскрывается самому себе, понимает себя, и самая обычная фраза становится ключом****.
**** Именно поэтому Этьену, который аналитически исследовал штучки Морелли (метод, который Оливейра считал гарантией провала), казалось, что некоторые абзацы книги, даже целые главы, являются чем-то вроде непомерно амплифицированных пощечин ad usum homo sapiens от дзен. Эти места в книге Морелли назвал «археглавы» и «главатипы», нелепые словообразования, в которых угадывается мешанина, ни больше ни меньше, джойсовская. А вот какую роль должны играть в романе подобные архетипы — эта тема весьма интересовала Вонга и Грегоровиуса*****.
***** Наблюдение Этьена: никоим образом Морелли не собирался карабкаться на дерево бодхи, на гору Синай или еще на какое-нибудь возвышение. Он не предполагал найти указатель основных позиций, по занятии которых читателю бы открылись новые зеленые луга. Не заискивая (старик был итальянец по происхождению и считал, надо признать, что легко возьмет верхнее до), он писал так, как будто сам он, в трогательной и отчаянной попытке, ждал учителя, который просветит его. Он давал одну дзеновскую фразу, прислушивался к ней — порой на протяжении пятидесяти страниц, вот чудище-то, — и было бы нелепо и зло думать, что эти фразы предназначены только читателю. Если Морелли их и публиковал, то отчасти потому, что был итальянцем («Ritoma vincitor!»[691]), а отчасти потому, что ему нравилось, какими цветистыми они у него получались******.
****** Этьен видел в Морелли законченного западника, колонизатора. Собрав скромный, урожай буддийского мака, он привез его семена в Латинский квартал. И если последним откровением явилось то, что он ожидал гораздо большего, все-таки надо признать, что эта книга — литературное предприятие именно потому, что она предполагает разрушение всех форм (литературных формул)*******.
******* Он еще и потому был западником, да будет это сказано ему в похвалу, что имел христианские убеждения, и считал невозможным спасение каждого человека по отдельности, и был уверен, что ошибки одного пятнают всех и наоборот. Возможно, поэтому (ощущение Оливейры) он выбрал форму романа для своих поисков и, кроме того, публиковал все, что попадалось и не попадалось ему на пути.
(-146)
96
Новость обе-жа-ла-всех-со-ско-ро-стью-пы-ле-во-го-вих-ря, и практически весь Клуб в десять часов вечера был в сборе. Этьен с ключами, Вонг с поклонами до земли, чтобы смягчить консьержку, которая при виде их впала в бешенство, mais qu’est’ce qu’ils viennent fiche, non mais vraiment ces étrangers, écoutez, je veux bien vous laisser monter puisque vous dites que vous êtes des amis du vi… de monsieur Morelli, mais quand même il aurait fallu prevenir, quoi, une bande qui s’amène à dix heures du soir, non, vraiment, Gustave, tu devrais parler au syndic, ça devient trap con, etc.,[692] Бэбс, вооруженная улыбкой, которую Рональд назвал «улыбкой аллигатора», Рональд взволнован и похлопывает Этьена по спине, подталкивая и поторапливая, Перико Ромеро поносит литературу, на втором этаже РОДО и МЕХА, на третьем ДОКТОР, на четвертом ГУССЕНО, просто невозможно, дальше ехать некуда. Рональд толкает в бок Этьена и проходится насчет Оливейры, the bloody bastard, just another of his practical jokes I imagine, dis donc, tu vas me foutre la paix, toi,[693] вот это и есть Париж, дерьмо сплошное, одна долбаная лестница за другой, до чего надоело карабкаться, до синих чертей. Si tous les gars du monde…[694] Вонг замыкает шествие, Вонг — улыбка Гюставу, улыбка консьержке, поганый ублюдок, дерьмо, заткнись, свинья. На пятом этаже дверь справа приоткрылась сантиметра на три, и Перико увидел гигантскую крысу в белой ночной рубашке, которая подсматривала одним глазом и вынюхивала всем носом. Прежде чем крыса успела закрыть дверь, Перико просунул в дверь ботинок и выдал ей про то, что из всех ядовитых гадов василиск по природе своей самый ядовитый и зловредный, что от его свиста каменеют, при виде его бросаются врассыпную, а его взгляд убивает наповал. Мадам Рене Лавалетт, урожденная Франсийон, толком не поняла, но в ответ фыркнула и захлопнула дверь, Перико успел убрать ботинок за одну восьмую секунды до того, БА-БАХ. На шестом все стояли и смотрели, как Этьен торжественно вставляет ключ в скважину.
— Не может быть, — в который уже раз повторил Рональд. — Мы грезим, как говорят княгини Турн-унд-Таксис[695]. Ты взяла выпивку, Бэбси? Харону — его лепту[696], сама знаешь. Сейчас откроется дверь и начнутся чудеса, сегодня ночью может произойти все, что угодно, в воздухе веет концом света.
— Похоже, проклятая ведьма мне ногу повредила, — сказал Перико, разглядывая свой ботинок. — Давай открывай, слышишь, ты, находился я уже по этим лестницам.
Но дверь не открывалась, и Вонг заметил, что во время обрядов посвящения самым простым операциям мешают Силы, которые следует побеждать Терпением и Хитроумием. Погас свет. Хоть бы кто-нибудь
Бэбс достал зажигалку, черт. Tu pourrais quand même parler français, non? Ton copain l’argencul n’est pas là pour piger ton charabia.[697] Зажги спичку, Рональд. Проклятый ключ заржа
Рональд вел, наш старик держал его в ста
Этьен кане с водой. Приятель, приятель, никакой он не приятель. Я не думаю, что он вообще придет. Ты его
Этьен не знаешь. Он получше тебя. Вот так-то. Wanna bet something? Ah
Вонг merde, mais la tour de Babel, ma parole. Amène ton briquet, Fleuve Jaune de mon cul, la poisse, quoi.[698]
ПЕРИКО В день Инь надо запастись Терпением. Два литра, но хорошего. Ради бога, смотри не урони их тут,
Рональд на лестнице. Я помню, как однажды ночью, дело было в Алабаме. На
ПЕРИКО небе были звезды, любовь моя. How funny, you ought to be in the radio.[699] Вот наконец-то ключ повер
Вонг нулся, а то застрял — и ни в какую, конечно, это все Инь, stars fell
Бэбс on Alabama[700], что она сделала с мо
ЭТЬЕН ей ногой, зажгите еще спичку, ничего не видно, où qu’elle est, la mi
ЭТЬЕН nuterie?[701] Не работает. Меня кто-то хватает за зад, любовь моя… Тсс…
Бэбс Рональд Тсс… Пусть Вонг входит первым,
Бэбс Бэбс чтобы изгнать духов. Ой, нет, ни в коем случае. Двинь ему как следу
Рональд ет, китаец, он и есть китаец. — Да замолчите вы, — сказал Рональд. —
Рональд Это другая территория, я серьезно говорю. Если кто-то пришел, чтобы валять дурака, лучше пусть убирается отсюда. Дай мне бутыл
ЭТЬЕН ки, сокровище мое, у тебя все валится из рук, and chorus когда ты волнуешься.
— Мне не нравится, когда в темноте меня кто-то хватает за зад, — сказала Бэбс, глядя на Вонга и Перико.
Этьен медленно провел рукой с внутренней стороны дверного проема. Остальные молча ждали, пока он не нашел выключатель. Квартирка была маленькая и запыленная, приглушенный и уютный свет окутывал предметы золотистым ореолом, и члены Клуба сначала с облегчением вздохнули, а потом стали осматривать жилище и тихо обмениваться впечатлениями: репродукции таблички из Ура[702], «Легенда об осквернении причастия» (Паоло Учелло pinxit[703]), фотографии Эзры Паунда[704] и Музиля, маленький портрет Де Сталя, огромное количество книг — на полках, на полу, на столе, в уборной, в крошечной кухне, где была обнаружена яичница, полупротухшая-полуокаменевшая, прекрасный натюрморт, по мнению Этьена, помои, по мнению Бэбс, следует дискуссия свистящим шепотом, а в это время Вонг почтительно раскрывает «Dissertatio de morbis a fascino et fascino contra morbos»[705] Цвингера[706], Перико, по своей привычке встав на табуретку, осматривает длинный ряд книг по испанской поэзии «золотого века» и маленькую оловянную астролябию[707], инкрустированную слоновой костью, а Рональд неподвижно застыл перед книжным столом Морелли, зажав под мышками по бутылке коньяку, уставившись на папку из зеленого бархата, ни дать ни взять рабочий стол Бальзака, а не Морелли. Так вот, значит, как старик жил здесь, в двух шагах от Клуба, а чертов издатель всякий раз говорил, что он то в Австрии, то на Коста-Брава, когда кто-то пытался узнать его местонахождение. Папки справа, папки слева, штук двадцать, а может, сорок, всех цветов, пустые и полные материала, а посредине пепельница, словно еще один архив Морелли, помпейское нагромождение пепла и обгоревших спичек.
— Выбросить такой натюрморт в мусорное ведро, — разорялся Этьен. — Если бы это сделала Мага, ты бы ее изничтожил. А тут, ну как же, ты же муж…
— Посмотри, — сказал Рональд, показывая на стол, чтобы он наконец успокоился. — Раз Бэбс говорит, что она протухла, вообще нет причин базарить. Заседание можно считать открытым. Председательствует Этьен, назначим его. А аргентинец?
— Не хватает аргентинца и трансильванца, Ги уехал за город, а Мага бог ее знает где. Но в любом случае кворум есть. Вонг ведет протокол.
— Подождем Оливейру и Осипа. Бэбс — бухгалтер.
— Рональд — секретарь. Насчет бара, Sweet, get some glasses, will you?[708]
— Переходим к четвертому действию, — сказал Этьен, садясь рядом со столом. — Сегодня вечером Клуб собрался по желанию Морелли. Пока придет Оливейра, если придет, давайте выпьем за то, чтобы старик снова сел за этот стол. Мамочки мои, какое жалкое зрелище. Мы похожи на кошмарный сон, который Морелли видит в больнице. Ужасно. Так и запишите в протокол.
— Давайте все-таки поговорим о нем, — сказал Рональд, у которого в глазах стояли слезы от усилий, которые он предпринимал, сражаясь с коньячной пробкой. — У нас другого такого заседания не будет, я уж сколько лет среди посвященных, но такого со мной не было. И с тобой, и с Вонгом, и с Перико. Со всеми. Damn it, I could cry.[709] Наверное, что-то подобное чувствуешь, когда стоишь на вершине горы или побил рекорд, что-то вроде этого. Sorry.
Этьен положил руку ему на плечо. Все уселись вокруг стола. Вонг погасил свет, оставил только лампу, которая освещала зеленую папку. Сцена почти для Эусапии Паладино[710], подумал Этьен, который уважительно относился к спиритизму. Они говорили о книгах Морелли и пили коньяк.
(-94)
97
Грегоровиуса, посредника оккультных сил, очень заинтересовала одна запись Морелли: «Внедриться в реальность или в наиболее вероятный способ ее существования и чувствовать, как то, что на первый взгляд казалось полнейшим абсурдом, начинает быть на что-то похожим, соединяется с какими-то другими формами, тоже абсурдными или какими-то иными, до тех пор пока на разномастной ткани (если сравнить ее со стереотипным рисунком каждого дня) не выступит и не определится четкий рисунок, который только очень несмелое воображение может соотнести с предыдущим и посчитать бессмысленным, или бредовым, или непонятным. Однако не грешу ли я излишней самоуверенностью? Отказаться от психологии и в то же время решиться ввести читателя — правда, определенного читателя — в свой личный мир, в свой образ жизни и в свои размышления… У этого читателя не будет никакого моста, никакой последовательной связи, никакого причинного импульса. Все необработано: поступки, последующие результаты, разрывы, катастрофы, высмеивание. Там, где должно быть расставание, — рисунок на стене; вместо крика — удочка; смерть выражается в виде трио мандолин. Но это есть расставание, это есть крик, и это есть смерть, однако кто захочет переменить позицию, уйти от себя, уйти от своего центра, раскрыться? Внешние формы романа изменились, однако герои — это очередные перевоплощения Тристана, Джейн Эйр, Лафкадио, Леопольда Блюма[711], это все те же люди с улицы, из соседнего дома, из спальни, человеческие характеры. На одного такого героя, как Ульрих (см. Музиль) или Моллой (см. Беккет), найдутся пятьсот Дарли[712] (см. Даррелл). Меня же волнует только одно — я спрашиваю себя, удастся ли мне когда-нибудь заставить читателя почувствовать, что подлинный и единственный персонаж, который мне интересен, — это читатель и есть, в той мере, в какой все то, что я пишу, может хоть как-то изменить его, заставить переменить позицию, удивить его, свести его с ума». Несмотря на то что в последней фразе ощущалось сознание поражения, Рональд считал эту запись свидетельством самомнения, и это его раздражало.
(-18)
98
Так оно и бывает: те, кто освещают нам путь, — слепы. Так и бывает: тот, кто, сам не зная того, стремится указать нам единственно возможный путь, сам не способен следовать по этому пути. Мага никогда не узнает, что своим пальцем она провела по всем самым тонким трещинкам на зеркале, с какой точностью ее молчание, ее нелепое внимание, ее суета ослепленной сороконожки были паролем и отзывом для меня, который жил в себе, который жил нигде. А вот это вот, насчет тонких трещинок… Поэтизировать легко[713], Орасио, / но стать счастливым трудно.
Объективный взгляд на вещи: Она была не способна указать мне на что-либо на моей территории, она и на своей-то передвигалась путаясь, спотыкаясь и на ощупь. Металась, как безумная летучая мышь, как муха, которая летает по комнате. А я сидел и смотрел на нее, как вдруг — указание, догадка. Она и не знала, что ее очередные слезы или то, как она делала покупки или жарила картошку, были знаками. Морелли имеет в виду именно это, когда пишет: «До полудня чтение Гейзенберга, записи, картотека. Сын консьержки приносит мне почту, и мы говорим с Ним о модели самолета, которая стоит у него дома на кухонном столе. Разговаривая, он два раза подпрыгивает на левой ноге, три раза на правой, потом два раза на левой. Я его спрашиваю, почему два и три, а не по два и не по три. Он удивленно смотрит на меня, не понимая. Такое впечатление, что мы с Гейзенбергом по другую сторону территории, а мальчишка, который продолжает подпрыгивать то на одной ноге, то на другой, не сознавая того, где-то за пределами этой территории и что вот-вот он сойдет с нашей и всякое общение будет потеряно. Общение с кем, для чего? Ладно, читаем дальше; быть может, Гейзенберг…»
(-38)
99
— Он не в первый раз намекает на бедность языка, — сказал Этьен. — Я бы мог привести несколько моментов, когда персонажи не убедительны даже для самих себя и чувствуют себя так, будто вместо них существует только рисунок из их мыслей и слов и что этот рисунок обманчив. Honneur des hommes, Saint Langage…[714] Но мы-то от этого далеки.
— Не так уж далеки, — сказал Рональд. — Морелли хочет одного: вернуть языку его права. Он говорит о том, чтобы очистить его, исправить, заменить «нисходить» на «спускаться» в качестве санитарной меры; но по сути, он пытается вернуть глаголу «нисходить» весь его блеск, чтобы его можно было употреблять запросто, как я зажигаю спички, а не как декоративный фрагмент, чтоб он стал таким же общим местом, как и любой другой.
— Да, но эта битва происходит в нескольких планах, — сказал Оливейра после долгого молчания. — Из того, что ты сейчас прочитал, ясно видно: Морелли обвиняет язык в том, что он всего-навсего оптический обман, отражение фальшивого и несовершенного organum,[715] который показывает нам лишь внешнюю сторону реальности и людей. Язык как таковой для него не важен, разве что в плане эстетическом. Однако его ссылки на ethos[716] абсолютно верны. Морелли понимает, что эстетическое письмо — это мошенничество и обман, оно создает читателя-самку, читателя, который хочет не проблем, а готовых решений или проблем надуманных и далеких, над которыми можно было бы пострадать, удобно усевшись в кресле, не участвуя в драме, которую нужно принять как свою собственную. В Аргентине, если Клуб позволит мне привести конкретный пример, подобное жульничество держит нас в состоянии покоя и довольства на протяжении целого века.
— Счастлив тот, кто находит себе подобных, читателей активных, — процитировал Вонг. — Это написано на листке голубой бумаги, в папке двадцать один. Когда я впервые прочитал Морелли (в Медоне[717], мы смотрели запрещенный фильм, сделанный кубинскими друзьями), мне показалось, что вся его книга — Большая Черепаха лапами кверху. Его трудно понять. Морелли глубокий философ, хотя иногда невыносимо грубый.
— Ты не лучше, — сказал Перико, слезая с табуретки и протискиваясь к столу. — Все эти фантазии по исправлению языка — академические изыскания, чтобы не сказать грамматические. Низойти или спуститься, важно, что персонаж идет вниз по лестнице, и точка.
— Перико, — сказал Этьен, — уводит нас от излишней изысканности, от нагромождения абстракций, которые порой так нравятся Морелли.
— Я б тебе сказал, — проговорил Перико угрожающе. — По мне, все эти абстракции…
Коньяк обжег горло Оливейре, он с благодарностью поддержал дискуссию, которая помогала хоть ненадолго забыться. В каком-то месте своих записок (он не помнил, в каком именно, надо будет посмотреть) Морелли говорил о ключевых моментах композиции. Первой возникала проблема «усушки и утруски», — его мучил тот же страх, который испытывал Малларме перед чистой страницей, в сочетании с непреодолимой потребностью начать писать. Какая-то часть его произведений неизбежно становилась отражением проблем творческого процесса. Так что каждый раз он все более удалялся от профессионального использования литературы, от прозы и поэзии в той форме, которая вначале как раз и принесла ему признание. В другом месте Морелли говорит о том, что перечитал с тоской, и даже с удивлением, свои произведения прошлых лет. Как могли прорасти все эти измышления, это чудесное, но такое удобное и все упрощающее раздвоение на повествователя и повествование? В то время у него было такое ощущение, как будто все, что он писал, лежало прямо перед ним и что писать — это значит пробежать пальцами по пишущей машинке «Леттера-22», где уже написаны невидимые слова, как алмазной иглой по желобку пластинки. Теперь писательство стоило ему труда, на каждом шагу он внимательно вглядывался, нет ли каких-либо противоречий, не прячется ли какая-нибудь фальшь (надо бы перечитать, подумал Оливейра, этот любопытный пассаж, который так понравился Этьену), подозревая, что если мысль ясна, значит, она ошибочна или является правдой лишь наполовину, и потому он не доверял словам, которые норовили выстроиться легко и благозвучно, ритмически организованно, будто благостное мурлыканье, которое гипнотизирует читателя после того, как его первой жертвой сделался сам писатель. («Да, но вот стихи…», «Да, но вот то место, где он говорит о свинге как о моторе, который приводит в действие слова…»). Бывали моменты, когда Морелли приходил к выводу, горькому и простому: ему больше нечего сказать, в силу профессиональных реакций он путает необходимость с повседневной привычкой, типичный случай для писателя, которому за пятьдесят и который снискал все крупные премии. И в то же время он еще никогда не чувствовал такую жажду творчества, такую потребность писать. Рефлекс ли это, привычка ли — это сладкое томление перед тем, как начать сражаться с собой, строка за строкой? И почему тут же — контрудар, и чувствуешь себя словно мехи, из которых выпустили воздух, и ничего, кроме удушливых сомнений, выжатости, готовности все бросить?
— Че, — сказал Оливейра, — где то место, в котором речь идет об одном слове и которое тебе так нравится?
— Я помню его наизусть, — сказал Этьен. — Это слово если, на которое идет сноска, которая в свою очередь снабжена сноской, за которой тоже следует сноска. Я уже говорил Перико, что теории Морелли не так уж и оригинальны. То, что он делает здорово, — это практика, те усилия, которые он предпринимает, чтобы анти-писать, как он выражается, чтобы заработать право для себя (и для всех остальных) по-новому нести добро в дом человека. Я употребляю те же самые слова или очень похожие.
— Сюрреалисты тут много чего могут для себя найти, — сказал Перико.
— Речь идет не только о свободе обращения со словом, — сказал Этьен. — Сюрреалисты считали, что подлинный язык и подлинная реальность подвергались цензуре или изымались из обращения рационалистскими структурами западной буржуазии. Они были правы, это скажет любой поэт, но это всего лишь один момент в сложной процедуре очистки банана от кожуры. В результате многие съедали его с кожурой. Сюрреалисты обвешивались словами, вместо того чтобы начисто отбросить их, как того хотел Морелли, начиная с самого первого. Фанатики слова в чистом виде, они, как исступленные пифии, были готовы на все, лишь бы это не соответствовало грамматическим нормам. Они и не догадывались, что создание языка, даже если он в конце концов и предаст свой исходный смысл, служит неоспоримым подтверждением человеческой природы, кто бы его ни создавал, китаец или краснокожий. Язык всегда означает, что человек находится в некой реальности, проживает в некой реальности. И хотя известно, что язык, на котором мы говорим, всегда нас предает (и Морелли не единственный, кто кричал об этом на всех углах), недостаточно просто освободить его от всех табу. Необходимо вдохнуть в него новую-жизнь, новую-душу.
— Уж очень торжественно звучит, — сказал Перико.
— Это написано в любом толковом трактате по философии, — скромно сказал Грегоровиус, который с чисто энтомологическим интересом разглядывал папки и, казалось, старался не уснуть. — Невозможно вдохнуть в язык новую жизнь, если ты сам интуитивно не найдешь другой взгляд на все то, что составляет нашу действительность. От бытия к слову, а не от слова к бытию.
— Интуитивно найти, — сказал Оливейра, — одно из тех слов, за которым стоит не то стрижено, не то брито. Давайте не приписывать Морелли проблем, которыми занимались Дильтей, Гуссерль и Витгенштейн[718]. Из всего того, что написал старик, ясно одно: если мы и дальше будем использовать язык в его обычном ключе и с обычными целями, мы умрем, даже не узнав, как по-настоящему называется сегодняшний день недели. Глупо без конца твердить, что нам продают жизнь, как говорит Малькольм Лаури[719], в виде полуфабриката. И Морелли тоже незачем это повторять, но Этьен попал в точку: старик нашел выход на практике и нам показал. Для чего существует писатель, как не для того, чтобы разрушать литературу? А мы, те, кто не хочет быть читателем-самкой, для чего мы, как не для того, чтобы всемерно помогать ему ее разрушить?
— Но потом, что мы будем делать потом? — сказала Бэбс.
— И я себя об этом спрашиваю, — сказал Оливейра. — Еще двадцать лет назад на этот вопрос был могучий ответ: Поэзия, смерть, Поэзия. Тебе затыкали рот словом огромного значения. Поэтическое видение мира, завоевание поэтической реальности. Но в результате последней войны, согласись, все закончилось. Поэты остались, спору нет, но их никто не читает.
— Не говори глупостей, — сказал Перико. — Я читаю кучу всяких стихов.
— Конечно, и я тоже. Но речь не о стихах, че, а о том, что провозгласили сюрреалисты, о том, что всякий поэт ищет и жаждет найти, о пресловутой поэтической реальности. Поверь, дорогой мой, начиная с пятидесятых годов мы живем полностью погруженными в технократическую реальность, по крайней мере если говорить языком статистики. Это ужасно, это печально, и мы можем рвать на себе волосы, но это так.
— По мне, вся эта технократия гроша ломаного не стоит, — сказал Перико. — Монах Фрай Луис[720], например…
— У нас тут, между прочим, одна тысяча девятьсот пятьдесят какой-то год.
— Да знаю я, отстань.
— Не похоже.
— Так ты что, считаешь, я окажусь на позициях воинствующего историзма?
— Нет, но газеты-то мог бы читать. Мне технократия нравится не больше, чем тебе, просто я чувствую, как изменился мир за последние двадцать лет. Каждый, кто пересчитал сорок весен, должен это понимать, и потому вопрос Бэбс припирает Морелли к стене, и нас заодно. Это прекрасно — вести войну против проституированного языка, против так называемой литературы, во имя реальности, которую мы считаем подлинной, достижимой, которую ощущаем какой-то частью своего духа, извините за выражение. Но даже сам Морелли видит только отрицательную сторону этой войны. Он чувствует, что должен вести ее, как и ты, как и все мы.
Ну и?
— Давайте будем последовательны, — сказал Этьен. — Оставим пока в покое твое «ну и?» На первом этапе хватит и лекции Морелли.
— Нельзя говорить об этапах, если не поставлена конечная цель.
— Назовем это рабочей гипотезой или еще как-нибудь в этом роде. То, к чему стремится Морелли, — взломать привычный менталитет читателя. Как видишь, куда как скромно, это тебе не переход Ганнибала через Альпы. По крайней мере, до сих пор никакой особенной метафизики у Морелли не замечалось, если только ты, Гораций-Куриаций[721], не нашел что-нибудь, поскольку ты способен обнаружить метафизику в банке консервированных помидоров. Морелли — художник, у которого собственные представления об искусстве, состоящие главным образом в том, чтобы ниспровергать привычные формы, что присуще всякому настоящему художнику. Например, его из себя выводят романы-сериалы. Роман, который прочитывается страница за страницей, от начала до конца, похожий на пай-мальчика. Ты, наверное, заметил, что он чем дальше, тем меньше озабочен тем, чтобы отдельные части были связаны между собой, тем, что одно слово тянет за собой другое… Когда я читаю Морелли, у меня такое ощущение, что он все время ищет наименее механический способ взаимодействия, пытаясь установить минимальные причинно-следственные связи между теми элементами, которыми он оперирует; кажется, что написанное ранее едва соотносится с тем, что пишется в данный момент, более того, что старик, через сотню-другую страниц, сам толком не помнит, что он написал.
— И в результате, — сказал Перико, — получается, что карлица с двадцатой страницы вырастает на сотой до двух метров пяти сантиметров. Я много раз с этим сталкивался. Есть сцены, которые начинаются в шесть вечера и заканчиваются в половине шестого утра. Просто тошнит.
— А у тебя самого так не бывает: ты то карлик, то гигант, в зависимости от состояния духа? — спросил Рональд.
— Я говорю об основе метода, — сказал Перико.
— Он верит в эту основу, — сказал Оливейра. — Основа во времени. Он верит во время, в до и после. Бедняга не нашел ни в одном ящике письменного стола ни одного своего письма, написанного двадцать лет назад, он не понимал тогда: ничто не держится на этом свете, если не прилепить к нему хлебную крошку времени, если мы не изобретем время как таковое, чтобы не сойти с ума.
— Это все касается профессии, — сказал Рональд. — Но что за этим, за этим-то что…
— Поэт, — сказал Оливейра, искренне волнуясь. — Тебе бы следовало называться Behind[722] или Beyond,[723] дорогой мой американец. Или Yonder,[724] уж такое красивое словечко.
— Ничто не имеет смысла, если «за этим» ничего нет, — сказал Рональд. — Любой автор бестселлеров пишет лучше Морелли. Если мы его читаем, если мы собрались здесь сегодня вечером, так все потому, что у Морелли есть то, что было у Берда[725], что иногда вдруг появляется у Каммингса или у Джексона Поллока, и хватит примеров, в конце концов. А почему, собственно, хватит? — выкрикнул Рональд, в то время как Бэбс смотрела на него с восхищением, буквальновпитываякаждоеслово. — Приведу еще несколько примеров, первое, что придет в голову. Каждый понимает, что Морелли усложняет себе жизнь не ради собственного удовольствия и, кроме того, что его книга есть беспардонная провокация, как все на свете, что хоть чего-то стоит. В этом технократическом мире, о котором ты говоришь, Морелли пытается спасти то, что в нем умирает, но чтобы спасти — сначала надо убить или, по крайней мере, сделать переливание крови, то есть как бы воскресить. Ошибка поэтов-футуристов, — сказал Рональд, к огромному восхищению Бэбс, — в том, что они пытались объяснить машинизацию, веря, что таким образом они спасутся от лейкемии. Но если мы будем вести литературные беседы о том, что происходит на мысе Канаверел, мы не станем лучше понимать окружающую действительность, я полагаю.
— Правильно полагаешь, — сказал Оливейра — Продолжим поиски Yonder, есть куча всяких Yonder’oв, которые можно открывать одного за другим. Для начала я бы сказал, что эта технократическая реальность, которую приемлют сегодня люди науки и читатели «Франс суар», этот мир кортизона, гамма-лучей и очищения плутония имеет довольно мало общего с действительностью, как, впрочем, и мир «Roman de la Rose».[726] Если я несколько минут назад напомнил об этом Перико — так это для того, чтобы он понял: его эстетические критерии и его шкала ценностей уже почти не существуют и что человек, столько ожидавший от разума и духа, чувствует себя преданным и смутно сознает, что его оружие повернулось против него самого, что культура, civiltà,[727] завела его в тупик, где вся barbarie[728] науки есть не более чем вполне объяснимая реакция. Извините за словарь.
— Это уже было сказано Клагесом[729], — произнес Грегоровиус.
— А я на авторские права и не претендую, — сказал Оливейра. — Суть в том, что реальность, принимаешь ли ты реальность Святого престола, Рене Клера[730] или Оппенгеймера[731], — это всегда реальность условная, неполная и частичная. Восхищение иных людей, которое вызывает у них электронный микроскоп, представляется мне не более плодотворным, чем восхищение консьержки перед святым чудом в Лурде[732]. Одни верят в так называемое материальное, другие в так называемое духовное, одни живут как Эмманюэль, а другие следуют нормам дзен, одни рассматривают человеческую судьбу как экономическую проблему, другие — как полнейший абсурд, перечисление может быть очень долгим, выбор огромный. Но сам факт того, что есть выбор и что перечислять можно без конца, лишь доказывает, что мы находимся на предысторическом этапе и что мы предчеловечество. Я не оптимист и сильно сомневаюсь, что когда-нибудь мы достигнем нашей настоящей истории и станем настоящим человечеством. Будет очень трудно дойти до того самого Yonder, о котором я говорил Рональду, ведь никто не станет отрицать, что проблема действительности ставится в рамках всеобщности, речь не идет о спасении отдельных избранных. Люди, которые реализовали себя, которым удалось преодолеть время и сделаться его интегрированным выражением, если можно так выразиться… Да, я полагаю, что такие были раньше и что такие есть теперь. Но этого недостаточно, я чувствую, что мое спасение, если предположить, что оно вообще возможно, должно быть спасением всех до последнего человека. Вот так-то, старик… Мы не среди полей близ Ассизи и не можем рассчитывать на то, что один пример подлинной святости — это уже святость для всех, что каждый гуру станет спасителем для своих учеников.
— Спустись из Бенареса к нам, на землю — посоветовал Этьен. — Мы говорили о Морелли, так мне кажется. И чтобы собрать все воедино, мне кажется, что этот пресловутый Yonder не стоит представлять себе в виде будущего, во времени или в пространстве. Если мы так и будем держать за основу кантовские категории, как, мне кажется, хочет сказать Морелли, то мы никогда не выберемся из трясины. То, что мы называем реальностью, подлинной реальностью, которую мы можем назвать также Yonder (иногда очень помогает, если назвать одно и то же явление разными именами, по крайней мере так мы избежим того, что понятие замкнется в себе и одеревенеет), повторяю, подлинная реальность — это не что-то грядущее, не цель, не последняя ступенька, не конец эволюции. Нет, это что-то уже существующее, оно внутри нас. Его можно почувствовать, достаточно решиться и протянуть руку в темноте. Я чувствую это, когда рисую.
— Может быть, это абсолютное Зло, — сказал Оливейра. — А может, просто творческая экзальтация. Это тоже может быть. Да, может, это именно она.
— Вот она, — сказала Бэбс, пробуя рукой свой лоб. — Я ее чувствую, когда немного выпью или когда…
Она прыснула и закрыла лицо руками. Рональд любовно толкнул ее в бок.
— А у меня нет, — серьезно сказал Вонг. — A-а, вот, есть.
— По этой дороге мы далеко не уйдем, — сказал Оливейра. — Что нам дает поэзия, как не предвидение? Тебе, мне, Бэбс… Царство человека родилось не от нескольких вспыхнувших искр. Весь мир был полон этим предчувствием, плохо только, что он снова впал в hinc и nunc.[733]
— Ну вот, ты понимаешь только тогда, когда с тобой говорят в рамках абсолюта, — сказал Этьен. — Дай мне закончить то, что я хотел сказать. Морелли верит в то, что если бы «певцы заветной лиры», как выражается Перико, смогли проложить дорогу сквозь окаменевшие и угасающие формы, будь то обычное наречие, чувство времени или любое другое, что тебе нравится, они бы впервые в жизни сделали что-то полезное. Покончили бы с читателем-самкой или, по крайней мере, серьезно уменьшили количество таковых и помогли бы тем, кто пытается достичь Yonder. Техника рассказа таких, как он, — это попытка сдвинуться с насиженного места.
— Да, чтобы оказаться в грязи по самые уши, — сказал Перико, в котором к одиннадцати часам вечера просыпался дух противоречия.
— Гераклит, — сказал Грегоровиус, — закопался в дерьмо по макушку и вылечился от водянки.
— Оставь в покое Гераклита, — сказал Этьен. — Меня уже в сон клонит от всей этой белиберды, тем не менее я хочу сказать следующее, два момента: Морелли, похоже, убежден в том, что если писатель пойдет на поводу у языка, который ему продали вместе с бельем, что на нем надето, вместе с именем, вероисповеданием и гражданством, его произведения будут иметь лишь эстетическую ценность, ту самую, которую старик презирает чем дальше, тем больше. Он говорит об этом достаточно ясно: он считает, что невозможно обличать, находясь внутри системы, к которой принадлежит то, что он обличает. Выступать против капитализма с ментальным и словарным багажом, которые происходят из этого самого капитализма, — значит терять время. В качестве исторических результатов можно достигнуть марксизма или еще чего-нибудь на твой вкус, но Yonder — это не просто история, Yonder — это кончики пальцев, которые высовываются из воды, ища, за что зацепиться.
— Вздор, — сказал Перико.
— И потому писатель должен бросить язык в костер, покончить с устойчивыми формами и идти дальше, поставить под сомнение то, что этот язык вообще способен выразить его мысль. Покончить не со словами как таковыми, но с языковой структурой в целом как со структурой общения.
— Для чего, в общем-то, и пользуются языком более или менее понятным.
— Конечно, Морелли не верит ни в звукоподражание, ни в буквализмы. Речь не идет о том, чтобы заменить синтаксис автоматическим письмом или каким-нибудь другим расхожим трюком. Он хочет переступить через литературу как таковую, через книгу, если хочешь. Иногда через слово, иногда через то, что это слово передает. Он действует как партизан, взорвет, что сможет, остальное — как получится. Но, согласись, из этого не следует, что он не умеет писать.
— Вообще-то, уже пора домой, — сказала Бэбс, которой хотелось спать.
— Можешь говорить что хочешь, — упорствовал Перико, — однако ни одна революция не была направлена против существующих форм. Речь идет о содержании, приятель, о содержании.
— Мы столетиями тащим за собой содержательную литературу, — сказал Оливейра, — результат видите сами. Именно через литературу я понимаю, представь себе, все, что говорится и думается.
— Уже не говоря о том, что различия между формой и содержанием надуманны, — сказал Этьен. — Это давным-давно известно. Мы делаем различие между способом выражения, то есть языком как таковым, и тем, что он выражает, то есть существующей реальностью как следствием.
— Как тебе угодно, — сказал Перико. — Но мне-то хотелось бы знать вот что: это разрушение, на которое претендует Морелли, то есть разрушение того, что ты называешь способом выражения, во имя лучшего понимания того, что оно выражает, стоит ли это таких усилий?
— Наверное, все это ни к чему, — сказал Оливейра, — но, может быть, мы почувствуем себя чуть менее одинокими в этом тупике, на службе у Великого-Само-довольного-Идеалистического-Реалистического-Эспиритуалистического-Материалистического Запада.
— Думаешь, кому-нибудь удалось прорваться сквозь язык к самым корням? — спросил Рональд.
— Все может быть. У Морелли не хватает для этого не то таланта, не то терпения. Он указывает направление, долбит по одному и тому же месту… Вот книгу оставил. Не так уж много.
— Пошли, — сказала Бэбс. — Поздно уже, и коньяка больше нет.
— И еще одно. То, чего он добивается, абсурдно в том смысле, что никто не знает больше того, что знает, — иными словами, существует антропологическое ограничение. По Витгенштейну, проблемы раскручиваются назад, то есть то, что человек знает, есть человеческое знание, но о самом человеке никто не знает всего того, что нужно знать, для того чтобы его понимание действительности было приемлемым. Гносеологи поставили эту проблему и даже, как им кажется, нашли твердую почву, откуда можно начать движение вперед, в направлении метафизики. То, что какой-нибудь там Декарт в оздоровительных целях пошел на попятную, нам представляется чем-то частичным и даже незначительным, потому что в эту самую минуту некто сеньор Уилкокс из Кливленда с помощью электродов и разных других штук доказал, что мысль распространяется подобно электромагнитным волнам (ему тоже в свою очередь кажется, что он все это хорошо знает, поскольку ему внятен язык, эти явления определяющий, и так далее). Мало того, некий швед выдает живописную теорию о химических процессах, происходящих в головном мозгу.
Мысль как результат взаимодействия каких-то там кислот, названия которых мне не хочется вспоминать. Acido, ergo sum.[734] Капаешь одну каплю на мозговую оболочку — и нате вам, получается Оппенгеймер или доктор Петио, страшный убийца. И таким образом, видно, что cogito, эта Способность Человека, в основном относится к довольно смутной области, где-то между электромагнетизмом и химией, и, возможно, не настолько, как мы думаем, отличается от таких вещей, как северное сияние или фотография в инфракрасных лучах. Вот до чего дошло твое cogito, всего лишь звено в головокружительном потоке сил, ступени которого в тысяча девятьсот пятидесятом году называются, inter alia,[735] электрическими импульсами, молекулами, атомами, нейтронами, протонами, микрочастицами, радиоактивными изотопами, частицами киновари, космическими лучами: Words, words, words,[736]«Гамлет», второе действие, кажется. Не считая того, — добавил Оливейра со вздохом, — что все может оказаться наоборот, и получится, что северное сияние есть явление духа, а все мы такие, какими хотим быть…
— С таким нигилизмом — только харакири, — сказал Этьен.
— Ясное дело, дорогой, — сказал Оливейра. — Но вернемся к старику: итак, цель, которую он преследует, абсурдна, поскольку это все равно что лупить бананом Шугара Рэй[737] Робинсона, настолько малозаметна его атака в обстановке всеобщего кризиса и тотального разрушения классического образа homo sapiens, и не будем забывать, что ты — это ты и что я — это я, или по крайней мере нам так кажется, и хотя у нас нет ни малейшей уверенности в том, что для наших гигантов предков являлось неопровержимым, у нас остается приятная возможность жить и действовать как будто, выбирать рабочую гипотезу, нападая, как Морелли, на то, что кажется особенно фальшивым, во имя некоего смутного ощущения определенности, которая на самом деле не более определенна, чем все остальное, но которая, однако, заставляет нас поднимать голову и, отыскав в который уже раз созвездие Плеяды, пересчитывать звездочки, этих букашек времен детства, этих непостижимых светлячков. Коньяку.
— Кончился, — сказала Бэбс. — Пошли, я засыпаю.
— Все кончается, как всегда, очередным аутодафе, — сказал, смеясь, Этьен. — И это продолжает оставаться лучшим определением человека. А сейчас вернемся к вопросу о яичнице…
(-35)
100
Он опустил жетон в щель, медленно набрал номер. В этот час Этьен, наверное, рисует и взбесится, если его побеспокоят во время работы, но все равно надо ему позвонить. На другом конце провода, в мастерской недалеко от площади Италии, в четырех километрах от почты на улице Дантон, раздался звонок. Старуха, похожая на крысу, заняла позицию у стеклянной будки, украдкой поглядывая на Оливейру, который сидел на скамейке, прижавшись лицом к телефонному аппарату, и чувствовал, что старуха смотрит на него и что она уже начала считать минуты. Стекла будки были чистые — редкий случай: люди шли на почту и выходили на улицу, то и дело слышался глухой (и почему-то зловещий) звук, когда ставят штемпель на марки. Этьен отозвался с другого конца, и Оливейра нажал никелированную кнопку, которая их соединила, окончательно проглотив, таким образом, жетон за двадцать франков.
— Тебе не надоело меня доставать? — проворчал Этьен, который, похоже, сразу его узнал. — Знаешь ведь, что в это время я работаю, как сумасшедший.
— Я тоже, — сказал Оливейра. — Я тебе звоню, потому что, пока я работал, я видел сон.
— Когда работал?
— Да было около трех часов утра. Мне приснилось, что я пришел в кухню, нашел хлеб и хотел отрезать себе кусок. Хлеб был не такой, как здесь, а французская булка, как в Буэнос-Айресе, ну знаешь, такая, которая ничего общего с французской булкой не имеет, но ее все-равно называют французской. Она такая толстенькая, белая, очень мягкая. Чтобы намазывать масло и джем, ты знаешь.
— Да знаю я, — сказал Этьен. — Я в Италии такую ел.
— Ты что, спятил? Ничего общего. Я тебе как-нибудь ее нарисую, чтобы ты понял. В общем, она по форме похожа на рыбу, короткая и широкая, сантиметров Пятнадцать, не больше, а посредине утолщение. В Буэнос-Айресе это называется французская булка.
— В Буэнос-Айресе это называется французская булка, — повторил Этьен.
— Да, но это произошло в кухне на улице Томб-Иссуар, еще до того как я переехал к Маге. Я был голоден и взял хлеб, чтобы отрезать кусок. И тут я услышал, что хлеб плачет. Да, это был сон, но хлеб и правда заплакал, когда я стал разрезать его ножом. Какая-то французская булка — и плачет. Я проснулся, не понимая, что же теперь будет, а ножик, я думаю, так и остался в булке, когда я проснулся.
— Tiens,[738] — сказал Этьен.
— Теперь ты понимаешь, после такого сна проснешься и идешь подставлять голову под кран с холодной водой, потом снова пытаешься заснуть, куришь всю ночь… Я и подумал, лучше мне поговорить с тобой, а может, нам вместе сходить навестить старика, которого сбила машина, я тебе рассказывал.
— Правильно сделал, — сказал Этьен. — Какой-то детский сон. Обычно дети такие вещи видят во сне или придумывают. Мой племянник мне рассказывал однажды, что он был на Луне. Я его спросил, что он видел. Он ответил: «Там был хлеб и сердце». Нетрудно понять, что после подобного опыта на хлебную тему я не мог смотреть на мальчишку без страха.
— Хлеб и сердце, — повторил Оливейра. — Да, но я видел только хлеб. И все. Тут старуха одна стоит около будки и смотрит на меня весьма неприязненно. Сколько минут можно говорить, если звонить из будки?
— Шесть. Потом тебе будут стучать в стекло. Там только одна старуха?
— Старуха, еще раскосая женщина с ребенком и кто-то вроде коммивояжера. Он точно коммивояжер, потому что все время, как безумный, листает свою записную книжку, а из верхнего кармана у него торчат три карандаша.
— Может, он налоговый инспектор.
— Еще двое подошли, мальчишка лет четырнадцати, который ковыряет в носу, и старуха в шляпке странного фасона, как с картины Кранаха.
— Ну вот, тебе уже и получше, — сказал Этьен.
— Да, тут в будке неплохо. Жаль только, что столько людей ждет. Как ты думаешь, шесть минут уже прошло?
— Никоим образом, — сказал Этьен. — От силы три, не больше.
— Значит, старуха не имеет никакого права стучать мне в стекло, так ведь?
— Да пошла она к дьяволу. Конечно не имеет. За шесть минут ты можешь рассказать мне все свои сны, какие захочешь.
— Я видел только этот, — сказал Оливейра. — Но самое плохое не сон. Хуже всего, когда просыпаешься… Тебе не кажется, что на самом деле я сейчас во сне и вижу сон?
— Да что ты говоришь? Это же избитая тема, старик, — философ и бабочка[739], это всем известно.
— Да, но извини, что настаиваю. Просто я хотел, чтобы ты представил себе мир, где ты отрезаешь себе кусок хлеба, а он при этом стонет.
— В самом деле, это трудно представить.
— Нет, серьезно, че. У тебя так не бывает, ты просыпаешься и в этот момент чувствуешь, что тут-то и начинается чудовищное заблуждение?
— Именно в этом заблуждении, — сказал Этьен, — я пишу великолепные картины, и мне не важно, кто я, бабочка или Фу-Манчу[740].
— Но не в этом дело. Кажется, как раз в результате заблуждения Колумб добрался до Гуанаани[741], или как он там называется, этот остров. Почему обязательно нужно опираться на греческий критерий истины и заблуждения?
— Да я-то тут ни при чем, — сказал Этьен с досадой. — Это ты сказал о чудовищном заблуждении.
— Это была фигура речи, — сказал Оливейра. — А можно было назвать это сном. Этому трудно придумать название, заблуждение — это как раз и есть то, про что даже нельзя сказать, что это заблуждение.
— Старуха сейчас разнесет стекло, — сказал Этьен. — Отсюда слышно.
— Да пошла она к черту, — сказал Оливейра. — Не может быть, чтобы шесть минут уже прошло.
— Около того. И это называется хваленая латиноамериканская вежливость.
— Шесть минут еще не прошло. Мне хотелось рассказать тебе этот сон, а когда мы увидимся…
— Приходи, когда захочешь, — сказал Этьен. — Сегодня утром я работать уже не буду, ты меня сбил.
— Ты слышишь, как мне колотят в стекло? — сказал Оливейра. — Не только старуха, похожая на крысу, но и мальчишка, и раскосая женщина. Того и гляди, сюда подтянется служащий телефонной компании.
— Тебе сейчас накостыляют там, это ясно как день.
— Ну зачем же. Есть великий способ — притвориться, что ни слова не понимаешь по-французски.
— Ты и на самом деле понимаешь немного, — сказал Этьен.
— Да. Грустно только, что для тебя все это шуточки, хотя на самом деле ничего смешного тут нет. Правда в том, что я не хочу ничего понимать, если, поняв, мне придется принять то, что мы называем заблуждением. Че, тут дверь открыли, и какой-то тип хлопает меня по плечу. Чао, спасибо, что выслушал меня.
— Чао, — сказал Этьен.
Оливейра одернул пиджак и вышел из будки. Служащий кричал ему прямо в ухо про правила пользования телефоном-автоматом. «Если бы у меня в руке был нож, — подумал Оливейра, вытаскивая сигареты, — возможно, этот тип закукарекал бы или превратился в букет цветов». Но все сохраняло свой неизменный облик на протяжении ужасно долгого времени, надо было закурить сигарету, постараясь не обжечься, поскольку руки у него дрожали, служащий, уже удаляясь, все продолжал кричать и через каждые два шага останавливался, смотрел на него и возмущенно взмахивал руками, раскосая женщина и коммивояжер тоже смотрели на него — одним глазом, другой не спуская со старухи, чтобы она не наговорила больше шести минут, а та, в стеклянной будке, была точь-в-точь мумия индейцев кечуа[742] из Музея антропологии, из тех, что снабжены подсветкой, если нажать на кнопочку. Но все было наоборот, как бывает в снах, старуха изнутри нажимала на кнопочку и начинала говорить с другой старухой, которая сидела в какой-нибудь мансарде в этом огромном сне.
(-76)
101
Стоило чуть приподнять голову, и взгляд Полы падал на календарь, розовая корова на зеленом поле, на фоне фиолетовых гор под голубым небом, четверг — 1, пятница — 2, суббота — 3, воскресенье — 4, понедельник — 5, вторник — 6, святой Мамер, святая Соланж, святой Ахилл, святой Серве, святой Бонифаций, восход в 4 ч. 12 м., заход в 19 ч. 23 м., восход в 4 ч. 10 м., заход в 19 ч. 24 м., восход-заход, восход-заход, восход-заход, заход, заход, заход.
Уткнувшись в плечо Оливейры, она поцеловала кожу, пахнущую табаком и усталостью. Легко и свободно она водила рукой по его животу и бедрам, ласкала волосы на лобке, запуская в них пальцы, и чуть дергала, чтобы Орасио рассердился и укусил ее, играя. На лестнице шаркали чьи-то тапочки, святой Фердинанд, святая Петронилла, святой Фортюне, святая Бландина, раз, два, раз, два, справа, слева, справа, слева, хорошо, плохо, хорошо, плохо, вперед, назад, вперед, назад. Гука гладит ее спину, медленно спускается вниз, будто паук, один палец, другой, еще один, святой Фортюне, святая Бландина, один палец здесь, другой там, один сверху, другой снизу. Ласка медленно проникла в нее, будто откуда-то извне. Минута излишеств, момент изыска, чуть-чуть укусить, найти друг друга, постепенно узнавая, словно стараясь скрыть колебания, упереться кончиком языка в кожу, медленно прижать ноготь, прошептать, закат в 19 ч. 24 м., святой Фердинанд. Пола приподняла голову и посмотрела на Орасио — глаза его были закрыты. Она подумала, делает ли он то же самое со своей подругой, матерью мальчика. Он не любил говорить о ней, требовал, будто из уважения, если уж говорить, то только в случае крайней необходимости. Когда она спросила его об этом, приподняв ему веко пальцами и яростно целуя в губы, которые не отвечали на ее вопрос, то единственным утешением в ту минуту была тишина, они лежали, тесно прижавшись, слушая дыхание друг друга, время от времени проводя то рукой, то ногой по телу другого, тихонько прокладывая путь, за которым ничего не последует, — все, что осталось от ласк, растерянных в постели, в воздухе, призраки поцелуев, незаметные личинки запахов или привычек. Нет, ему не нравилось делать это со своей подругой, только Пола может понять его, только она может изогнуться точно по его очертаниям. Поразительно, как она ему подходила. Даже когда она стонала, наступал момент, когда она стонала, и тогда ему хотелось освободиться от нее, но было уже поздно, петля затянулась, и его мятеж мог только усилить наслаждение и боль, двойное недоразумение, которое надо было преодолеть, потому что оно было фальшивым, объятие не может быть одним и тем же, или все-таки может, или все-таки оно должно быть таким же.
(-144)
102
Будучи по натуре муравьем, Вонг откопал-таки в библиотеке Морелли подписанный экземпляр «Die Vervir-rungen des Zӧglings Tӧrless»[743] Музиля, где был жирно подчеркнут следующий абзац:
Что это за вещи, которые могут показаться мне странными? Самые обычные. Особенно предметы неодушевленные. Что странного я в них нахожу? Что-то, чего я не знаю. Именно это! Откуда, к дьяволу, я достаю это нечто? Я чувствую, оно там, оно существует. Оно вызывает во мне ответную реакцию, как будто разговаривает со мной. Это раздражает меня — будто стараешься прочитать что-то по губам, которые свело параличом, и у тебя ничего не получается. Как будто у меня есть некое дополнительное чувство, но совершенно неразвитое, оно есть, и я ощущаю его, но оно не действует. Мне кажется, что мир полнится безмолвными голосами. Это означает, что я ясновидящий или что у меня галлюцинации?
Рональд нашел эту цитату из «Письма лорда Чандоса» Гофмансталя[744]:
Точно так же как я увидел сквозь увеличительное стекло кожу своего мизинца, похожую на равнину с бороздами полей и лощинами, я вижу теперь людей и их поступки. У меня больше не получается увидеть их упрощенно и привычно. Все распадается на части, которые в свою очередь распадаются тоже; больше не удается уловить ни одного определенного понятия.
(-45)
103
Пола так и не могла понять, почему по ночам он задерживал дыхание и слушал, как она спит, стараясь уловить шорохи ее тела. Она лежала на спине, ублаготворенная, тяжело дыша, и только иногда, в неглубоком сне, поводила рукой или выставляла вперед нижнюю губу и дышала прямо себе в нос. Орасио неподвижно застывал с погасшим окурком во рту, немного приподняв голову или подперев ее рукой. В три часа ночи на улице Дофин было тихо, Пола делала вдох и выдох, но было в ее дыхании что-то еще, будто на мгновение возникал маленький вихрь, какое-то внутреннее движение, еще одна жизнь, и тогда Оливейра медленно выпрямлялся и прикладывал ухо к обнаженной коже, к закруглению этого туго натянутого, теплого барабана, и слушал. Шумы, спуски и падения, трения и шорохи, ползают раки и улитки, темный, уснувший мир, распростертый на плюшевом диване, вспыхивал то тут, то там и снова исчезал (Пола вздыхала, чуть заметно шевелилась). Космос текучий и влажный, ночное зарождение, плазма поднимается и опускается, невидимая и медленная машина движется будто нехотя, и вдруг резкий звук, стремительное движение почти под самой кожей, что-то пробежит и забулькает, столкнувшись с препятствием или фильтром, живот Полы, это черное небо с круглыми неторопливыми звездами, сверкающими кометами, где крутятся и громко взывают планеты, море, где планктон перешептывается с медузами, Пола-микрокосмос, выжимка вселенской ночи в своей маленькой ночи, где бродят кефир с белым вином, перемешиваясь с мясом и овощами, центр химических реакций, которым несть числа, таинственных, далеких, вот они, рядом с тобой.
(-108)
104
Жизнь как комментарий к чему-то другому, чего нам не постичь и что находится в одном прыжке от нас, но мы этого прыжка не делаем.
Жизнь, балет, поставленный на исторический сюжет, история о прожитом факте, факт проживания, основанный на реальном факте.
Жизнь, фотография божества, обладание во мраке (женщиной, чудовищем?), жизнь, сводня смерти, сверкающая колода карт таро, которые никто не знает, как толковать, и которые чьи-то подагрические руки раскидывают в печальном одиночестве.
(-10)
105
Мореллиана
Я думаю о забытых жестах, о тех словах и движениях, которые были в ходу у наших дедушек и бабушек, постепенно утраченных, не унаследованных нами, опавших, словно листья, с дерева времени. Сегодня ночью я обнаружил на столе свечу, развлечения ради зажег ее и пошел с ней в коридор. Сквозняк чуть было не задул ее, и тут я увидел, что безотчетным движением поднимаю левую руку, складываю лодочкой и загораживаю пламя этой живой ширмой. Огонь выровнялся, а я подумал, что это движение стало привычным для всех нас (я подумал для всех нас, и подумал правильно, или я так почувствовал) за те тысячелетия, что длилась Эпоха Огня, пока мы не заменили его на электричество. Я вспомнил другие жесты, как женщины приподнимали подол юбки, а мужчины хватались за эфес своей шпаги. Похоже на слова, которые потерялись еще в детстве, потому что ты слышал их в последний раз от стариков, которых уже нет на свете. В моем доме уже никто не скажет «комод камфарного дерева» и никто не говорит «треножник». Это как музыка прошлых лет, как вальсы двадцатых годов, как польки, приводившие в умиление наших дедушек и бабушек.
Я думаю о разных предметах, обо всех этих шкатулках, о вещицах домашней утвари, которые находишь вдруг где-нибудь в сарае, в кухне или в чулане и употребление которых уже никто не может объяснить. Напрасно думать, будто мы понимаем, что такое время: оно хоронит своих мертвецов и хранит ключи. И только в снах, в поэзии, в игре зажжешь свечу, идешь с ней по коридору — и вдруг высунешься в то, чем мы были, прежде чем стали тем, что мы есть теперь, да и есть ли еще — неизвестно.
(-96)
106
Джонни Темпл:
Between midnight and dawn, baby, we may ever have to part, But there’s one thing about it, baby, please remember I’ve always been your heart.[745]«The Jas Jas Girl»:[746]
Well it’s blues in my house, from the roof to the ground, And it’s blues everywhere since my good man left town. Blues in my mail-box ’cause I can’t get no mail, Says blues in my bread-box ’cause my bread got stale. Blues in my meal-barrel and there’s blues upon my shelf And there’s blues in my bed, ’cause I’m sleepin’ by myself.[747](-13)
107
Написано Морелли, когда он лежал в больнице:
Лучшее качество моих предков — это то, что они умерли; скромно, но с достоинством я ожидаю момента, когда это качество перейдет ко мне по наследству. У меня есть друзья, которые обязательно сделают из меня статую, я буду лежать ничком и разглядывать лужу с настоящими лягушками. Если бросить в щель монетку, я начну плеваться водой, а лягушки поднимут переполох и проквакают полторы минуты, время, достаточное для того, чтобы статуя перестала вызывать интерес.
(-113)
108
— Клош, клошар,[748] клошарка, клошарить. В Сорбонне даже как-то состоялась защита диссертации о психологии клошаров.
— Очень может быть, — сказал Оливейра. — Зато у них нет Хуана Филлоя[749], который написал бы им «Толпу». А что сталось с Филлоем, че?
Естественно, Мага этого знать не могла, прежде всего потому, что не подозревала о его существовании. Пришлось объяснить ей, кто такой Филлой и что это еще за «Толпа». Маге очень понравилось содержание книги и то, что креольские линьерос — это все равно что клошары. Она была твердо убеждена, что оскорбительно путать линьерос с нищими, и ее симпатия к клошарке с моста Искусств имела основания, которые теперь казались ей научно подтвержденными. Особенно в те дни, когда она узнала, гуляя по берегу, что клошарка влюблена, симпатия и пожелание, чтобы все кончилось хорошо, стали для Маги как пролеты моста, которые всегда приводили ее в восторг, или как куски жести или проволоки, которые попадались Оливейре под ноги во время прогулок.
— Филлой, черт побери, — говорил Оливейра, глядя на башни Консьержери[750] и думая о Картуше[751]. — Как далеко отсюда моя страна, че, просто невероятно, что в этом безумном мире оказалось столько соленой воды.
— Зато воздуха гораздо меньше, — сказала Мага. — Всего-то тридцать два часа лету.
— Ну да, конечно. А что ты скажешь насчет того, где деньги взять?
— И о желании ехать. У меня нет никакого.
— У меня тоже. Но представь, что есть. Все бывает.
— Ты никогда не говорил о том, чтобы вернуться, — сказала Мага.
— А никто и не говорит, это просто так, грозовой перевал[752], никто об этом не говорит. Просто, когда в кармане пусто, чувствуешь себя обезьяной.
— В Париже все бесплатно, — процитировала Мага. — Ты сам так сказал в тот день, когда мы познакомились. На клошаров смотреть бесплатно, заниматься любовью бесплатно, говорить тебе, что ты плохой, бесплатно, не любить тебя… Почему ты переспал с Полой?
— Это все из-за запахов, — сказал Оливейра, садясь на обломок рельса у самой воды. — Мне показалось, она пахнет «Песнью песней», индийской корицей, миррой, чем-то таким. И так оно и есть.
— Клошарка сегодня не придет. Иначе уже была бы здесь, она почти всегда приходит.
— Их иногда забирают в участок, — сказал Оливейра. — Чтоб вшей извести, я думаю, или чтобы город спал спокойно на берегах своей невозмутимой реки. Клошар — это еще более неприлично, чем жулик, это известно; но поскольку с ними ничего нельзя поделать, лучше оставить их в покое.
— Расскажи мне про Полу. А тут, может, и клошарка придет.
— Почти ночь на дворе, американские туристы вспоминают об отелях, они уже стоптали ноги, накупили кучу всякого дерьма и обзавелись полным собранием сочинений де Сада, и Миллера, и романом «Одиннадцать тысяч ударов»[753], и художественными фотографиями, и фривольными открытками, и романами Саган, и работами Бюффе[754]. Смотри, у моста почти никого нет. А Полу оставь в покое, не стоит про это рассказывать. А вот и художник сложил свой мольберт, больше никто не остановится посмотреть, что он там рисует. Просто невероятно, как все отчетливо видно, воздух будто вымыт, как волосы той девушки, которая бежит вон там, видишь, в красном платье.
— Расскажи мне про Полу, — повторила Мага, слегка ударив его по плечу тыльной стороной ладони.
— Чистая порнография, — сказал Оливейра. — Тебе не понравится.
— Но ей ты наверняка про нас рассказываешь.
— Нет. Разве что в общих чертах. Что я могу ей рассказать? Пола не существует, ты же знаешь. Где она? Покажи мне ее.
— Софизмы, — сказала Мага, которая запомнила этот термин из разговоров Рональда с Этьеном. — Здесь ее, может, и нет, но она есть на улице Дофин, это уж точно.
— А где эта улица Дофин? — сказал Оливейра. — Tiens, la clocharde qui s’amène.[755] Че, да она великолепна.
Клошарка спускалась по ступенькам, качаясь под тяжестью огромного тюка, из которого торчали обтрепанные рукава пальто, рваные шарфы, какие-то штаны, вынутые из мусорных баков, разное тряпье и даже моток почерневшей проволоки, а когда она дошла до нижней ступеньки, то издала какое-то восклицание, что-то среднее между мычанием и глубоким вздохом. Поверх ночных рубашек, которые, должно быть, уже приклеились к телу, подаренных на бедность блузок и лифчика, способного поддержать самый роковой бюст, на ней были еще два-три, а может, и все четыре платья, целый гардероб, на который был напялен мужской пиджак с полуоторванным рукавом, а сверху шарф, заколотый латунной брошкой с камнями, зеленым и красным, на волосах же, выкрашенных в немыслимую блондинку, было что-то вроде зеленой газовой повязки, съехавшей на одну сторону.
— Она великолепна, — сказал Оливейра. — Ее приятели, те, что под мостом, будут покорены.
— Она влюблена, это же видно, — сказала Мага. — А как она накрасилась, посмотри на ее губы. А тушь небось извела всю, что была.
— Похоже на Грока[756], в худшем варианте. От Энсора[757] тоже что-то есть. Она поразительно хороша. А как эти двое устраиваются, чтобы заниматься любовью? Ты же не станешь утверждать, что они делают это на расстоянии.
— Я знаю один уголок рядом с отелем «Санс», клошары встречаются там специально для этого. Полиция их не трогает. Мадам Леони мне сказала, что среди них всегда есть стукач из полиции, в такой ситуации легко выведывать секреты. Клошары, наверное, много чего знают о воровских притонах.
— Притон, какое слово, — сказал Оливейра. — Еще бы они не знали. Они на дне общества, у края воронки. Они, наверное, много чего знают и о рантье, и о священниках. Если внимательно пересмотреть содержимое мусорного бака…
— А вот и клошар. Пьянее, чем всегда. Бедная, как она его ждет, смотри, оставила тюк на земле, машет ему, а как обрадовалась.
— Несмотря на то что ты мне говорила про отель «Санс», я все думаю, как же они устраиваются, — прошептал Оливейра. — С таким количеством одежек, че. Ведь она, даже когда тепло, не снимает с себя больше одной-двух, а под ними еще пять-шесть, не говоря уже о так называемом нижнем белье. Ты представляешь себе, как это должно происходить, да еще на пустыре? Ему-то что, со штанами-то управиться просто.
— Они не раздеваются, — предположила Мага. — Мало ли, полиция. Да и дождь может пойти, не забывай. Они забиваются в укромные уголки, на том пустыре есть много ям примерно в полметра глубиной, рядом с кучами строительного мусора, рабочие сбрасывают туда мусор и бутылки. Я думаю, они делают это стоя.
— И во всей этой одежде? Но это же немыслимо. Хочешь сказать, он никогда не видел ее обнаженной? Тогда это и вовсе свинство.
— Посмотри, как они любят друг друга, — сказала Мага. — Они смотрят друг на друга совершенно по-особенному.
— Да у него вино из глаз лезет, че. Нежность при одиннадцати градусах может быть, только когда ты задубел от выпивки.
— Они любят друг друга, Орасио, они любят друг друга. Ее зовут Эмманюэль, она была проституткой в провинции. Приехала сюда на какой-то барже и осталась на набережной. Однажды ночью мне было грустно, и мы разговорились. Воняет от нее, страшное дело, я долго выдержать не могла и сбежала. Знаешь, о чем я ее спросила? Я ее спросила, когда она меняла белье. Разве не глупо спрашивать про такое? Она вообще-то хорошая, немного сумасшедшая, той ночью ей казалось, что на мостовой выросли полевые цветы, она даже называла, какие именно.
— Как Офелия, — сказал Орасио. — Природа подражает искусству.[758]
— Офелия?
— Прости меня, я такой педант. А что она тебе сказала, когда ты спросила у нее про белье?
— Она засмеялась и залпом выдула пол-литра. А потом сказала, что последний раз снимала что-то через низ, потому что это путалось у нее в коленках. Все превратилось в рвань. Они так мерзнут зимой, что натягивают на себя все, что найдут.
— Мне бы не хотелось заболеть, чтобы однажды ночью меня вынесли на носилках. Предрассудок, каких полно. Устои общества. Я хочу пить, Мага.
— Отправляйся к Поле, — сказала Мага, наблюдая, как клошарка обнимается со своим возлюбленным под мостом. — Смотри, сейчас она будет танцевать, она всегда в это время танцует.
— Он похож на медведя.
— Она такая счастливая, — сказала Мага, поднимая с земли маленький белый камешек и осматривая его со всех сторон.
Орасио взял у нее из рук камешек и лизнул его. У него был солоноватый вкус.
— Это мой, — сказала Мага и хотела отобрать камешек.
— Ну и что, зато посмотри, как он меняет цвет у меня в руках. У меня он светится.
— А у меня ему лучше. Отдай, это мой.
Они встретились глазами. Пола.
— Ладно, — сказал Орасио. — Опять двадцать пять. Ты такая глупая, девочка моя, если бы ты знала, как спокойно ты можешь спать.
— Спать одной, вот радость-то. Но ты же видишь, я не плачу. Можешь говорить что хочешь, я плакать не буду. Я как она, смотри, вон она танцует, посмотри, она как луна, весит больше горы, а танцует, грязная как прах, а танцует. Вот с кого надо брать пример. Отдай мне камешек.
— Возьми. Знаешь, это так трудно сказать тебе: я люблю тебя. Вот сейчас, так трудно.
— Да, мне будет казаться, что ты выдал мне копию под копирку.
— Говорил глухой немому, — сказал Орасио.
— Мы же не всерьез, — сказала Мага. — Если хочешь, я тебе дам его на минутку, пока клошарка танцует.
— Ладно, — сказал Орасио, взяв камешек и снова лизнув его. — Зачем нам говорить о Поле? Она больна и одинока, я пойду навестить ее, мы все еще занимаемся любовью, но хватит, я не хочу превращать ее в слова, даже с тобой.
— Эмманюэль сейчас упадет в воду, — сказала Мага. — Она еще пьянее, чем он.
— Нет, все закончится гнусно, как всегда, — сказал Оливейра, поднимаясь со своего места. — Видишь благородного представителя власти, который к ним приближается? Пойдем, все это слишком грустно. Бедняжке так хотелось танцевать…
— А какая-то старая зануда увидела ее из окна и подняла шум. Если мы ее встретим, дай ей хорошего пинка под зад.
— Непременно. А ты извинишься за меня и скажешь, что иногда нога у меня сама стреляет, из-за того что под Сталинградом в нее угодил снаряд.
— А тут вступаешь ты и делаешь легкий реверанс.
— Это мне запросто, че, я научился этому, гуляя в парке Палермо[759]. Пошли, выпьем чего-нибудь. Не хочу оглядываться и слышать, как блюститель порядка ее материт. В этом вся проблема. Разве я не должен вернуться и дать под зад ему? О Арджуна, дай совет. А под формой у него запах обычных низостей гражданской жизни. Но detto. Пошли, напьемся еще разок. Я грязнее, чем твоя Эмманюэль, моя грязь копилась веками, «Persil lave plus blanc»[760] а тут надо средство получше, девочка, мытье в космических масштабах. Тебе нравятся красивые слова? Привет, Гастон.
— Salut messieurs dames, — сказал Гастон. — Alors, deux petits blancs secs comme d’habitude, hein?[761]
— Comme d’habitude, mon vieux, comme d’habitude. Avec du Persil dedans.[762]
Гастон посмотрел на него и отошел, покачав головой. Оливейра взял руку Маги в свою и осторожно разогнул ее пальцы, один за другим. Потом положил камешек ей на ладонь и стал по очереди загибать пальцы, после чего запечатал ее руку поцелуем. Мага видела, что он закрыл глаза и что вид у него какой-то отсутствующий. «Комедиант», — подумала она растроганно.
(-64)
109
Иной раз Морелли пытается оправдать бессвязность своей прозы, утверждая, что жизнь других людей, такая какой она предстает перед нами в так называемом реальном плане, похожа не на фильм, а на фотографию, то есть мы не можем охватить весь сюжет целиком, а только отдельные его фрагменты, как греки досократовской эпохи. Только в отдельные моменты мы можем быть с кем-то другим, чью жизнь, как нам кажется, мы понимаем, — либо когда нам говорят о нем, либо когда он сам рассказывает нам о своем прошлом или развертывает перед нами планы своих будущих действий. В конце концов получается что-то вроде альбома с фотографиями, собрание зафиксированных моментов: для нас остается невидимым и процесс перехода из вчера в сегодня, и первый укол неизбежного забвения. Поэтому нет ничего странного в том, что он говорит о своих персонажах в максимально хаотической форме, которую только можно себе представить; связать разрозненные фотографии таким образом, чтобы из этого получился фильм (что так нравится читателю, которого он называет читателем-самкой), означало бы заполнить литературой, предположениями, гипотезами и измышлениями зияющие пробелы между снимками. Порой на фотографии видна только чья-то спина, или рука, опирающаяся на дверной косяк, последние минуты прогулки в поле, открытый рот, из которого вот-вот вырвется крик, пара башмаков в шкафу, люди, гуляющие по Марсову полю, потрепанная открытка, запах духов «Мой коготок» и прочее в том же роде. Морелли полагал так: все, что читатель видит на таких фотографиях и что он старался представить в максимально заостренном виде, должно поставить читателя в условия сопереживания, сделать его почти что участником событий, переживаемых его героями. Все, что он узнавал о них благодаря работе своего воображения, тут же конкретизировалось в действии, но он никогда не пытался включить это в уже написанное или использовать как литературный материал. Мостик между одним событием и другим во всех этих жизнях, так смутно и так непоследовательно описанных, должен представить себе или придумать сам читатель — от манеры причесываться, если Морелли никак об этом не упомянул, до побудительных причин тех или иных поступков, пусть даже необычных или эксцентричных. Книга должна походить на один из тех рисунков, которые предлагают психологи гештальт-школы[763], где определенный набор линий побуждает наблюдателя дополнить в своем воображении недостающие, чтобы рисунок получился законченным. Но порой недостающие линии как раз являются главными и единственными, которые раскрывают смысл. В этом вопросе игривости и дерзости Морелли не было предела.
При чтении книги порой создается впечатление, будто Морелли надеется, что в какой-то момент накопление отдельных моментов само собой вдруг превратится в реальность. Без всякого придумывания мостов, без сшивания отдельных кусков ковра вдруг получится город, получится ковер, получатся мужчины и женщины в динамическом развитии, и Морелли как автор будет первым в мире, кто с удивлением обнаружит, что все обрело последовательность и связь.
Однако не следовало особенно обольщаться, ибо последовательность, по сути дела, означала бы легкость восприятия времени и пространства, подчинение вкусам читателя-самки. Морелли никогда бы не пошел на поводу у такого читателя, он скорее стал бы искать такой степени кристаллизации, которая бы, не нарушая беспорядка, в котором крутятся частички этой маленькой планетарной системы, позволила бы понять целиком и полностью законы ее существования, будь то беспорядок как таковой, его бессодержательность или необоснованность. Такой степени кристаллизации, при которой ничто не осталось бы без внимания, но где внимательный глаз мог приникнуть к калейдоскопу и воспринять огромное многообразие цветовых оттенков, воспринять как единую фигуру, imago mundi,[764] который вне калейдоскопа превратился бы в гостиную в провансальском вкусе или в дамское собрание, попивающее чай с печеньем «Бэгли».
(-27)
110
Сон был похож на башню, состоящую из многих слоев, которые вздымались ввысь и терялись в бесконечности или кругами уходили в недра земли. Меня затянуло в этот водоворот, который стал спиралью, а эта спираль превратилась в лабиринт. Не было ни потолка, ни пола, ни стен, ни выхода. Только какие-то темы, которые все время повторялись с абсолютной точностью.
Анаис Нин[765]. Зима притворства(-48)
111
Эту историю ее главная героиня Ивонна Гитри рассказала Николасу Диасу, который дружил с Гарделем в Боготе:
«Моя семья происходит из венгерской интеллигенции. Моя мать была директрисой женской семинарии, где учились девочки из элитарных семей славного города, называть который я не хочу. Когда началось смутное послевоенное время, разметавшее троны, сословия и состояния, я не знала, какой жизненный путь мне избрать. Моя семья разорилась, пав жертвой Трианоновских границ (sic), как тысячи и тысячи других. Моя красота, молодость и воспитание не позволяли мне стать скромной машинисткой. И тут в моей жизни появился прекрасный принц, аристократ из высоких космополитических миров, из европейской золотой молодежи. Я вышла за него замуж, сохраняя все иллюзии юности, несмотря на сопротивление моей семьи, поскольку я была очень молода, а он был иностранцем.
Свадебное путешествие. Париж, Ницца, Капри. Затем крушение иллюзий. Я не знала, куда мне деваться, и не осмеливалась рассказать близким о трагедии моего брака. Мой муж был не способен сделать меня матерью. Мне шестнадцать лет, и я, словно странница, бреду куда глаза глядят, пытаясь забыть свою боль. Египет, Ява, Япония, Поднебесная[766], весь Дальний Восток, круговорот шампанского и фальшивого веселья и моя сокрушенная душа.
Идут годы. В 1927-м мы окончательно оседаем на Лазурном берегу. Я — женщина из высших слоев общества, я принадлежу к космополитам, которые проводят свою жизнь в казино, дансингах, на скачках, у меня хорошие доходы.
В один прекрасный летний день я приняла окончательное решение: развод. Все в природе было в полном цвету: море, небо, цветущие луга пели песнь любви и праздник молодости.
Праздник мимозы в Канне, карнавал цветов в Ницце, улыбка весны в Париже. Итак, я покинула семейный очаг, богатство и роскошь и устремилась одна в большой мир…
Мне было тогда восемнадцать лет, и я жила в Париже одна, без определенных планов. Париж 1928 года. Париж оргий и потоков шампанского. Париж обесцененных франков, Париж, чужеземный рай. До отказа набитый янки и латиноамериканцами, маленькими золотыми королями. Париж 1928 года, где каждый день открывалось новое кабаре — новая сенсация, которая могла облегчить кошелек иностранца.
Восемнадцать лет, блондинка с голубыми глазами. Одна в Париже.
Чтобы забыть о моих бедах, я закружилась в вихре удовольствий. В кабаре я обращала на себя внимание, поскольку всегда приходила одна, заказывала шампанское танцорам и платила сказочные чаевые официантам. Я понятия не имела, какова цена денег.
Как-то раз один из тех типов, которые мародерствуют на чем угодно в этой космополитической среде, открыл мою тайную печаль и предложил мне средство ее забыть… Кокаин, морфин, наркотики. И я начала искать экзотические места, где были танцоры своеобразного вида, латиноамериканцы со смуглой кожей и пышной шевелюрой.
В те времена огромный успех снискал недавно прибывший певец кафешантана. Он дебютировал во „Флориде“ и пел странные песни на странном языке.
Он одевался в экзотический костюм, до того времени в тех местах неизвестный, и пел танго, ранчеро[767] и аргентинскую самбу. Это был очень худой и очень смуглый парень, с белозубой улыбкой, которого все красавицы Парижа безмерно одаряли своим вниманием. Это был Карлос Гардель. Его сентиментальные танго, которые он пел так проникновенно, пленяли публику неизвестно почему. Его песни тех лет — „Дорожка“, „Ла Чакарера“, „Горностаевое манто“, „Плач индеанки“, „Грезы“ — не были похожи на современные танго, это были песни старой Аргентины, настоящая душа гаучо пампы. Гардель был в моде. Ни одного светского обеда или приема не проходило без того, чтобы его не пригласили. Его смуглое лицо, белые зубы, его ослепительную, сияющую улыбку можно было увидеть повсюду. В кабаре, в театре, в мюзик-холле, на ипподроме. Он был завсегдатаем в Отейе и Лоншане.
Но Гарделю больше нравилось развлекаться на свой лад, среди своих, в узком кругу.
В те времена в Париже было кабаре, которое называлось „Палермо“, на улице Клиши, куда ходили почти исключительно латиноамериканцы… Там я с ним и познакомилась. Гарделя интересовали все женщины подряд, но меня интересовал только кокаин… и шампанское. Конечно, мое женское тщеславие было удовлетворено, ведь меня видели с человеком дня, идолом всех женщин, но сердце мое оставалось равнодушным.
Эта дружба окрепла в другие вечера, во время прогулок и доверительных бесед, в бледном свете парижской луны, среди цветущих лугов. В таком романтическом общении прошло много дней. Этот человек запал мне в душу. Его слова были нежнее шелка, его речи подтачивали скалу моего равнодушия. Я потеряла голову. Моя шикарная, но невеселая квартирка наполнилась светом. Я перестала ходить в кабаре. В моей очаровательной светло-серой гостиной, в свете электрических ламп, кроме белокурой головки виднелось теперь худощавое смуглое лицо. Моя голубая спальня, которая знавала тоску одинокой души, теперь стала настоящим прибежищем любви. Это была моя первая любовь.
Дни бежали стремительно и неудержимо. Не знаю, сколько времени прошло. Экзотическая блондинка, которая ослепляла Париж своим экстравагантным поведением, своими туалетами dernier cri (sic),[768] бесследно исчезла.
Через несколько месяцев завсегдатаи „Палермо“, „Флориды“ и „Гарона“ оповестили прессу о том, что некая белокурая голубоглазая танцовщица двадцати лет сводит с ума молодых аристократов аргентинской столицы своими эфирными танцами, которые она исполняет с несказанной дерзостью и сладострастием, свойственным расцвету молодости.
То была ИВОННА ГИТРИ.
(И т. д.)»
Школа Гарделя Издательство Сисплатина, Монтевидео
(-49)
112
Мореллиана
Редактирую рассказ, который хочу сделать как можно менее литературным. Предприятие безнадежное с самого начала, поскольку правленные фразы тут же получаются невыносимыми. Персонаж подходит к лестнице: «Рамон начал спуск…» Зачеркиваю и пишу: «Рамон стал спускаться…» Перестаю править и в который уже раз спрашиваю себя, каковы подлинные причины моего неприятия «литературного» языка. Начать спуск, вообще-то, не так уж плохо, если бы это не было так просто; но стал спускаться, в сущности, то же самое, разве что не так обработано, более прозаично (то есть является средством для передачи информации), в то время как другая форма, похоже, сочетает в себе полезное с приятным. В результате выражение «начал спуск» вызывает у меня неприятие, потому что глагол несколько декоративен, а существительное малоупотребительно в обычной речи; итак, мне вообще претит литературный язык (в моих произведениях, разумеется). Почему?
Если я и дальше буду упорствовать в своей позиции, которая страшно обеднила все, что я написал за последние два года, то скоро буду не способен сформулировать самую простую мысль, осуществить самое простое описание. Если бы мои рассуждения совпадали с рассуждениями гофмансталевского лорда Чандоса, не было бы причин жаловаться, но если это неприятие риторики (по сути дела, речь идет именно об этом) вызвано всего лишь иссушением слов, которое соотносительно и параллельно другому соперничающему с ним процессу, тогда нужно на корню уничтожить всякое писательство. Перечитывать все, что я сейчас пишу, мне скучно. Хотя порой, за этой умышленной бедностью, за этим «стал спускаться», которое заменяет «начал спуск», я усматриваю нечто такое, что меня воодушевляет. Я пишу очень плохо, но, несмотря на это, что-то получается. Прежний «стиль» был зеркалом для читателей-жаворонков; они смотрели друг на друга, радовались, узнавали себя, как та публика, что ждет, узнает и получает удовольствие от персонажей Салакру или Ануя[769]. Гораздо легче писать так, чем писать (я бы сказал, «неписать»), как мне бы хотелось сейчас, когда нет ни диалога, ни встречи с читателем, есть только надежда на нечто похожее на диалог с кем-то похожим на далекого, далекого читателя. Конечно, это проблема нравственного плана. Возможно, атеросклероз сосудов с возрастом обострит эту тенденцию — боюсь, несколько мизантропического свойства — превозносить этику и открывать на собственном опыте (в моем случае эти открытия несколько запоздали), что эстетическая сторона дела скорее зеркало, чем переход к метафизическому непокою.
Я жажду абсолюта так же, как в двадцать лет, но то щемящее чувство, то терпкое и пронзительное наслаждение, которое приносит творческий процесс или простое созерцание красоты, уже не кажутся мне наградой, приближением к абсолютной реальности, которая бы меня удовлетворяла. Это всего лишь красота как таковая, и она пока еще не может дать мне такое приближение: красота, которая есть цель, а не средство, и она такая потому, что для ее творца его человеческие чувства идентичны его чувствам художника. И напротив, в плане чисто эстетическом я только этот план и вижу, и ничего другого. Объяснить лучше я не могу.
(-154)
113
Узелок на память об одной прогулке пешком от улицы Гласьер до улицы Соммерар:
— До каких пор мы все будем датировать «от Р.Х.»?[770]
— Литературные документы, которые увидели свет через двести лет, — это окаменевшее дерьмо.
— Клагес был прав.
— Взять Морелли и его теории. Порой он отвратителен, ужасен, жалок. Столько слов, чтобы отмыться от других слов, столько грязи, чтобы перебить запахи «Пиве», «Карон», «Карвен» и прочего «от Р.Х.». А может, и нужно через все это пройти, чтобы завоевать утраченное право на использование слов в их первоначальном смысле.
— Использование в первоначальнм смысле (?). По-моему, за этой фразой ничего нет.
— Маленький гробик, коробка из-под сигар, Харону стоит чуть дунуть, и ты переплывешь эту лужу, качаясь, как в колыбели. Лодка только для взрослых. Женщины и дети бесплатно, легкий толчок, — и ты на другом берегу. Смерть по-мексикански, сахарная голова; «Totenkinder lieder»…[771]
— Морелли увидит Харона. Два мифа смотрят друг на друга. Какое неожиданное путешествие по черным водам!
— Как игра в классики на асфальте; мелок красный, мелок зеленый. НЕБО. Тротуар там, в Бурсако, камешек, выбранный с такой любовью, легкий толчок носком ботинка, потихоньку, потихоньку, хотя Небо совсем близко, впереди вся жизнь.
— Бесконечная шахматная партия, это так легко предположить. Но холод проникает через дырявую подметку, а в окне вон той гостиницы лицо, похожее на клоуна, корчит рожи за стеклом. Тень голубки слегка коснулась кучки собачьего дерьма: Париж.
— Пола Париж, Пола? Пойти навестить ее, faire Pamour. Carezza.[772] Как две ленивые личинки[773]. Но слово «личина» означает еще и маска, Морелли где-то писал об этом.
(-30)
114
4 мая 195… (Агентство печати). Несмотря на все усилия своих адвокатов и последнюю апелляцию, поданную 2-го числа текущего месяца, Лу Венсан был казнен сегодня утром в газовой камере тюрьмы Сан-Кинтин, штат Калифорния.
…руки и щиколотки привязаны к стулу. Начальник тюрьмы приказал четырем помощникам выйти из камеры, потом похлопал Венсана по плечу и вышел тоже.
Приговоренный остался в камере один, а пятьдесят три свидетеля наблюдали за ним через специальные окошки.
...откинул голову назад и глубоко вздохнул.
…через две минуты его лицо покрылось потом, он пошевелил пальцами, словно пытаясь освободиться от пут…
…шесть минут, конвульсии повторились, Венсан дергает головой, потом снова откидывает голову назад. В углах рта появляется пена.
…восемь минут, голова падает на грудь, потом последняя конвульсия.
…В десять часов двенадцать минут доктор Рейнольдс констатировал, что приговоренный умер. Свидетели, среди которых было трое журналистов…
(-117)
115
Мореллиана
Основываясь на разрозненных записках, часто противоречивых, Клуб пришел к выводу, что Морелли видел в современной прозе приближение к тому, что было неудачно названо абстракцией. «Музыка утрачивает мелодию, живопись утрачивает сюжет, роман утрачивает описание». Вонг, мастер диалектических коллажей, так подвел итог сказанному: «Роман, который нам интересен, — не тот, что помещает героев в ситуацию, а тот, что предлагает ситуацию героям. Отчего эти последние перестают быть персонажами и становятся личностями. Происходит что-то вроде экстраполяции, посредством которой они делают скачок по направлению к нам, а мы делаем скачок по направлению к ним. К., герой романа Кафки, — это его читатель, и наоборот». К этому надо добавить одно туманное замечание, в котором Морелли разрабатывает эпизод, где имена действующих лиц не будут указаны, чтобы в каждом отдельном случае сия предполагаемая абстракция обязательно была бы заменена каким-нибудь возможным определением.
(-14)
116
В записках Морелли попадается следующий эпиграф из «L’Abbé С»[774] Жоржа Батая[775]: «Il souffrait d’avoir introduit des figures décharnées, qui se déplaçaient dans un monde dément, qui jamais ne pourraient convaincre».[776]
Дальше написано карандашом, почти неразборчиво: «Да, иной раз страдаешь, но это единственный достойный выход. Хватит гедонистических романов[777], где все уже разжевано, романов с психологиями. Надо выкладываться по максимуму, стать voyant,[778] как говорит Рембо. Писатель же гедонистического плана не более чем voyeur,[779] с другой стороны, хватит этой чисто описательной техники, романов о „поведении“, этих киносценариев, лишенных подлинных персонажей».
На эту же тему в другом месте: «Как рассказывать без кухни, без макияжа, без подмигиваний читателю? Тогда придется отказаться от того, что писательство — искусство. И чувствовать написанное так, словно это гипс, наложенный на лицо, чтобы снять с него маску. Но само лицо должно оставаться нашим».
И вот еще одна отдельная запись: «Лионелло Вентури[780], говоря о Мане и его „Олимпии“, отмечает, что Мане, оставляя в стороне природу, красоту, поступки и нравственные побуждения, сосредоточивается на пластике образа. Таким образом, он, сам не зная того, осуществил поворот современного искусства к средневековым временам. Тогда под искусством понимали ряд образов, замененных в эпоху Возрождения и в современные времена изображением действительности как таковой. Сам Вентури (или это Джулио Карло Арган[781]?) добавляет: „Историческая ирония состоит в том, что в тот самый момент, когда изображение действительности стало получаться объективным, а следовательно, фотографическим и механическим, один блестящий парижанин, который собирался стать реалистом, был сподвигнут своим огромным гением на то, чтобы вернуть искусству его функцию создания образов…“»
Морелли добавляет: «Привыкнуть употреблять слово „изображение“ вместо слова „образ“ во избежание путаницы. Да, все совпадает. Впрочем, речь не идет о возвращении к Средневековью и ни о чем подобном. Это заблуждение — рассматривать время как абсолютный постулат: разные эпохи могут быть параллельны друг другу[782]. В этом смысле эпоха, которую называют Средневековьем, может в чем-то совпадать с временами, которые называются Современностью. Писатели и художники, которые живут в это время и каким-то образом его воспринимают, отказываются опираться на окружающие их обстоятельства, „быть современными“ в том смысле, который вкладывают в это слово их современники, но это вовсе не означает, что они хотят быть анахроничными; просто они находятся за пределами времени своей эпохи, и оттуда, из другого времени, где все происходит в контексте „изображения“, где все приобретает ценность знака, а не только является темой для описания, они пытаются создать произведение, которое может показаться чуждым или антагонистическим для своего времени и для своего исторического момента, но которое тем не менее включает его, несет его в себе, объясняет его и в конечном итоге указывает нам путь к трансцендентности, потребность в которой свойственна каждому человеку».
(-3)
117
Я увидел суд, на который оказывали давление, которому даже угрожали, только бы он приговорил к смерти двоих детей вопреки гуманизму, науке, философии, жизненному опыту, вопреки самым гуманным и самым лучшим идеям эпохи.
По какой причине, мой друг, мистер Маршал[783], откопавший среди реликтов прошлого прецеденты, которые заставили бы покраснеть и дикаря, не прочитал следующую фразу Блэкстоуна[784]:
«Если ребенок моложе четырнадцати лет, хотя и осужденный, не может быть повинен в первородном грехе, то почему же, по мнению суда и присяжных, он повинен в том, что не отличает добро от зла, и, значит, может быть приговорен к смертной казни?»
Итак, тринадцатилетняя девочка была сожжена за то, что убила свою учительницу.
Мальчик десяти лет и другой — одиннадцати лет были приговорены к смертной казни, и десятилетний — повешен.
За что?
За то, что знал: есть разница между тем, что хорошо и что плохо. Его научили этому в воскресной школе.
КЛАРЕНС ДАРРОУ[785]. Защита Леопольда и Лейба, 1924(-15)
118
Как может убитый убедить своего убийцу, что он не должен ему являться?
МАЛЬКОЛЬМ ЛАУРИ[786]. «Из-под вулкана»(-50)
119
У АВСТРАЛИЙСКОГО ПОПУГАЙЧИКА НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ РАСПРАВИТЬ КРЫЛЬЯ!
Инспектор Департамента охраны и защиты животных обнаружил в одном доме домашнего попугая в клетке, ширина которой едва достигала 8 дюймов! На хозяина птицы был наложен штраф в 2 фунта. Для того чтобы уберечь беззащитные создания, необходима не только моральная поддержка. Департаменту охраны и защиты животных необходима экономическая помощь. Обращаться в канцелярию и пр.
«Обсервер», Лондон(-51)
120
в часы сиесты все спали, и потому можно было запросто встать с постели, не разбудив мать, подкрасться к дверям и тихонько выйти из комнаты, с жадностью вдыхая запах влажного земляного пола, через дверь, выходившую на выгон, заросший травой; стволы плакучей ивы были облеплены личинками насекомых, Иренео выбирал самую большую, усаживался рядом с муравейником и начинал выдавливать червячка из панциря до тех пор, пока через узенькое шелковистое горлышко не высовывалась головка и можно было осторожно взять его за кожицу шеи, как кота за шкирку, и без всяких усилий вытащить, не причинив ему вреда, и вот уже голенький червячок смешно извивается в воздухе; Иренео клал его рядом с муравейником, а сам устраивался в тени и, лежа на животе, ждал; в это время черные муравьи работали изо всех сил, сновали туда-сюда в поисках пищи, отовсюду таская насекомых, живых и мертвых, и тотчас же кто-то из разведчиков замечал червячка, который так смешно извивался, ощупывал его своими антеннами, словно не мог поверить в такую удачу, и начинал бегать от одного муравья к другому, и тоже касался их антеннами, а через минуту муравьи окружали и облепляли червячка со всех сторон, напрасно он извивался, пытаясь высвободиться из щупальцев, впивающихся ему в кожу, пока муравьи подталкивали его к муравейнику и тащили, но особенное удовольствие доставляла Иренео растерянность муравьев, когда они не могли просунуть червячка в муравейник, игра в том и состояла, чтобы выбрать червячка толще, чем отверстие входа, муравьи были глупые и ничего не понимали, они проталкивали его внутрь с обеих сторон, пытаясь втолкнуть в муравейник, но червячок яростно извивался, должно быть, это было ужасно, что он тогда чувствовал, лапки и щупальца муравьев на всем теле, они впиваются в глаза и в кожу, он борется, пытаясь освободиться, а получается только хуже, потому что появляются еще муравьи, а иные такие злобные, что вонзают в него свои щупальца и не отпускают его до тех пор, пока им не удается засунуть голову червячка в колодец муравейника, а те, что в муравейнике, должно быть, изо всех сил тянут его внутрь, Иренео тоже хотелось бы оказаться внутри муравейника, чтобы посмотреть, как муравьи тянут червячка, вонзив щупальца ему в глаза и в рот, и как они стараются изо всех сил, пытаясь втащить его целиком и утащить в глубину, и убить его, и сожрать его.
(-16)
121
Красными чернилами и с очевидным удовольствием Морелли переписал в записную книжку конец стихотворения Ферлингетти:
Yet I have slept with beauty[787] in my own weird way and I have made a hungry scene or two with beauty in my bed and so spilled out another poem or two and so spilled out another poem or two upon the Bosch-like world.[788](-36)
122
Медсестры сновали туда-сюда, они говорили о Гиппократе. Достаточно небольшого усилия, чтобы любой кусочек реальности сложился в блестящие стихи. Но зачем загадывать загадки Этьену, который уже достал свой блокнот и с живостью, одним росчерком рисовал белые двери, носилки, прислоненные к стенам и окнам, сквозь которые мягко струилась сероватая муть и виднелся скелет дерева, на ветвях которого сидели две голубки, по-буржуйски раздув зоб. Ему хотелось рассказать другой свой сон, было так странно, что все утро он никак не мог отделаться от того сна про хлеб, а тут раз, на углу бульвара Распай и бульвара Монпарнас, другой сон упал на него сверху, будто стена или, скорее, как будто он все утро был раздавлен стеной плачущего хлеба, и вдруг, как на кинопленке, которую крутят назад, стена с него поднимается, выпрямляясь одним движением, а он остается перед воспоминанием о другом сне.
— Как пожелаешь, — сказал Этьен, пряча блокнот. — Когда тебе придет в голову, спешить некуда. Я собираюсь прожить еще лет сорок, так что…
— Time present and time past[789], — процитировал Оливейра, — are both perhaps present in time future.[790] Предначертано, что сегодня все кончится стихами Т. С.[791] Я думал о сне, че, прости. Сейчас пойдем.
— Да, потому что со сном мы уже разобрались. Вот так носишься с чем-нибудь, носишься, а в конце концов…
— А на самом деле все дело в другом сне.
— Misere![792] — сказал Этьен.
— Я не рассказал тебе его по телефону, потому что в тот момент я его не помнил.
— Кроме того, все упиралось в шесть минут, — сказал Этьен. — В глубине души власть весьма мудра. Мы только и делаем, что обсераем их без конца, а они между тем знают, что делают. Шесть минут…
— Если бы я его в тот момент вспомнил, я бы вышел из той кабины и позвонил тебе из другой.
— Ладно, — сказал Этьен. — Давай рассказывай сон, а потом спустимся по лестнице и пойдем выпьем вина у Монпарно. Меняю твоего пресловутого старика на сон. То и другое вместе — перебор.
— Ты попал в самую точку, — сказал Оливейра, глядя на него с интересом. — Проблема в том, можно ли менять эти две вещи. Не далее как сегодня ты мне говорил: бабочка или Чан Кай-ши[793]? А может, меняя старика на сон, ты на самом деле меняешь сон на старика.
— По правде говоря, пропади оно все, и то и другое.
— Художник, — сказал Оливейра.
— Метафизик, — сказал Этьен. — Но мы вот тут стоим, а там медсестра задает себе вопрос, мы с тобой сон или парочка бродяг. Что произойдет? Если она станет нас выгонять, это будет медсестра, которая нас выгоняет, или сон, который выгоняет двоих философов, которым снится больница, где среди другого прочего есть один старик и одна взбесившаяся бабочка?
— Он был совсем простой, — сказал Оливейра, немного откинувшись на спинку скамейки и прикрыв глаза. — Так вот, там был только дом моего детства и комната Маги, и то и другое в одном сне. Я не помнил о нем, после того, как он мне приснился, я совершенно о нем забыл, а сегодня утром, когда я думал о сне про хлеб…
— Про хлеб ты уже рассказывал.
— Вдруг появился тот, другой, и тот, который про хлеб, полетел ко всем чертям, потому что их даже сравнить нельзя. Сон про хлеб мог мне явиться… Явиться, ну скажи пожалуйста, слово-то какое.
— Ты не должен стесняться этого слова, если это то, о чем я думаю.
— Ты подумал про мальчика, конечно. Ассоциация напрашивается сама собой. Но я не чувствую за собой никакой вины, че. Я его не убивал.
— Все не так просто, — сказал Этьен в замешательстве. — Пойдем навестим старика, хватит всяких идиотских снов.
— Пожалуй, я не смогу тебе его рассказать, — сказал Оливейра примирительно. — Представь, ты прилетаешь на Марс, а там какой-то тип просит рассказать тебя, что такое пепел. Примерно так.
— Мы идем к старику или не идем?
— Мне, в общем-то, все равно. Но раз уж пришли… Койка десять, кажется. Надо было ему принести чего-нибудь, глупо являться как мы, без всего. Ты мог бы подарить ему рисунок.
— Мои рисунки можно только купить, — сказал Этьен.
(-112)
123
Настоящий сон происходил в промежуточном состоянии, когда ему казалось, будто он проснулся, хотя по-настоящему он еще не просыпался; чтобы об этом говорить, нужно оперировать понятиями иных измерений, убрать такие категории, как видеть во сне и проснуться, которые ни о чем не говорят, и попытаться переместиться туда, где снова будет дом его детства, гостиная и сад, и все необыкновенно четко и ясно, и цвета такие, как бывают, когда тебе десять лет, красное — такое красное, синее, как в ширмах из цветного стекла, зеленое, как листва, как аромат, запах и цвет, которые ощущаешь одновременно и зрением, и обонянием, и на вкус. Только во сне гостиная в два окна, которые выходили в сад, была одновременно и комнатой Маги; забытое местечко в предместье Буэнос-Айреса и улица Соммерар без усилий слились воедино, не наложились одно на другое и не присоединились друг к другу, но образовали единый сплав, без всякого усилия устранив возможные противоречия, и появилось ощущение, будто ты у себя, будто обрел нечто главное, как бывает в детстве, когда ни на секунду не сомневаешься, что эта гостиная будет всю жизнь: неотъемлемая принадлежность. И так вышло, что дом в Бурсако и комната на улице Соммерар были местом, и во сне надо было найти самый спокойный угол этого места, смысл сна, кажется, как раз в этом и был — найти спокойный угол. В этом месте был еще один человек, его сестра, которая молча помогала ему найти спокойный угол, как бывает в некоторых снах, когда человек или вещь даже не появляются, но ты знаешь, что они здесь и участвуют в твоем сне; некая сила без видимого выражения, нечто существующее или действующее благодаря присутствию, внешне не проявившемуся. И вот они вместе с сестрой выбрали гостиную как самый спокойный угол места и правильно сделали, потому что в комнате Маги нельзя играть на пианино или слушать радио после десяти вечера, а не то старик с верхнего этажа тут же начнет колотить в потолок, или соседи с пятого этажа пришлют раскосую карлицу с жалобами и претензиями. И все это без единого слова, потому что ведь сестры, как бы там и ни было, они выбрали гостиную с окнами в сад, отказавшись от комнаты Маги. В этом месте сна Оливейра проснулся, возможно, потому, что Мага провела своей ногой у него между ног. Единственное, что он ощущал в темноте, — он в гостиной, в доме своего детства, со своей сестрой, и еще ему ужасно хотелось отлить. Бесцеремонно отпихнув ногу Маги, он встал и вышел на лестничную площадку, ощупью нашел выключатель и включил подслеповатый свет в клозете, после чего, даже не потрудившись закрыть дверь, стал мочиться, держась одной рукой за стенку, стараясь не заснуть и не упасть на пол тут же, в клозете, полностью погрузившись в свой сон, и смотрел, не видя, на струю, выходившую между пальцев, которая терялась в отверстии унитаза, то и дело попадая на потемневшие фаянсовые края. А может быть, настоящий сон как раз и был в тот момент, когда он думал, что проснулся и мочится в четыре часа утра на шестом этаже на улице Соммерар, зная, что гостиная, выходившая в сад, в Бурсако, — это реальность, он знал это, как знают немногие непреложные вещи, как знают, что ты — это ты и что эти мысли твои, а не кого-то другого, и знают без удивления и возмущения, что твоя жизнь наяву — это сплошной вымысел рядом с прочностью и постоянством этой гостиной, хотя после того, как ты вернешься в постель, никакой гостиной уже не будет, останется только комната на улице Соммерар, а ты знаешь, что место — это гостиная в Бурсако с запахом жасмина, проникавшего в оба окна, гостиная со стареньким пианино «Блютнер», розовым ковром, и зачехленными стульями, и его сестрой, тоже зачехленной. Он сделал неимоверное усилие, чтобы выйти из ауры сна, отвергнуть место, которое его обманывало, он уже достаточно проснулся, чтобы иметь представление об обмане, о том, где сон и где явь, но, пока он стряхивал последние капли сна, гасил свет и тер глаза, возвращаясь с лестницы в комнату, все было в минусе, под знаком минус, минус лестница, минус дверь, минус свет, минус кровать, минус Мага. Он с трудом сделал глубокий вдох и прошептал «Мага», прошептал «Париж», кажется, прошептал «сегодня». Это прозвучало как бы издалека, из пустоты, из непрожитого на самом деле. Он вернулся в комнату, чтобы снова уснуть, как возвращаются на свое место и в свой дом после долгах скитаний в дождь и холод.
(-145)
124
Надо уяснить себе, по мнению Морелли, что необходимо как можно дальше держаться от какой бы то ни было увлекательности. Как далеко от нее держался он сам, легко увидеть по стремительному оскудению мира его романов, в котором он демонстрирует не только бедность образов, почти обезьяноподобных, но и бедность их действий и особенно бездействия. В результате с ними вообще ничего не происходит, они только и делают, что саркастически пережевывают собственную бесполезность, делая вид, что поклоняются смехотворным идолам, открытие которых они без ложной скромности себе же и приписывали. Очевидно, для Морелли это было очень Еажно, потому что в его записках много раз выдвигается почти что требование — найти окончательное и непреложное средство, чтобы стереть малейшие следы изначально существующей и недоступной для понимания этики, в стремлении к обнаженности, которую он называл осью, а иногда порогом. Порогом между чем и чем? Он сделал провоцирующий вывод — вывернуть все наизнанку, как перчатку[794], и вступить в контакт с реальностью, с которой содрали шкуру, — с реальностью без мифов, религий, каких бы то ни было систем и прикрытий. Любопытно, что Морелли с энтузиазмом обращается к новейшим рабочим гипотезам в области физики и биологии, видимо будучи убежденным, что старый добрый дуализм дал трещину перед очевидностью общепринятого толкования материи и духа как вида энергии. Вследствие чего его ученые обезьяны, казалось, все более замыкаются на самих себе, отрицая, с одной стороны, химеры действительности, урезанной и искаженной предложенными инструментами познания, а с другой стороны, отрицая и собственную мифопоэтическую силу, свою «душу», чтобы в конце концов прийти к чему то вроде ab ovo,[795] от зажатости к максимуму, к той точке, где теряется последняя искорка (фальшивой) человечности. Вероятно, он предлагал — хотя никогда этого не формулировал — путь, который начинался бы вот с такого внешнего и внутреннего уничтожения. Но у него почти не осталось слов, людей, предметов, а в перспективе, конечно, и читателей. Клуб вздыхал полуподавленно-полураздраженно, как всегда или почти всегда.
(-128)
125
Ощущаешь себя словно собакой среди людей: вопрос неотвязных размышлений за парой рюмок каньи, во время прогулок по предместьям, растущее подозрение, что только альфа может привести к омеге, а упереться где-нибудь на промежуточном этапе — эпсилон, лямбда — это все равно что крутиться на одной ноге, прибитой к полу. Стрела, пущенная рукой, попадает прямо в конечную цель: середины пути нет, нет века XX между веком X и XXX. Человеку следовало бы научиться каким-нибудь образом обособиться от своего биологического вида внутри самого вида и принять за исходную точку пути к самому себе собаку или какую-нибудь диковинную рыбу. Для доктора филологии не существует перехода в другое качество, не может быть никаких открытий в этом смысле у знаменитого аллерголога. Включенные в свой вид, они могут быть только тем, что они есть, или не быть ничем. Чем-то весьма достойным, тут и разговору нет, но это всегда эпсилон, лямбда или пи, и никогда альфа, и никогда омега. Человек, о котором идет речь, не может принять подобную псевдореализацию, эту заплесневелую маску, великое изобретение Запада. У индивидуума, который бродил по городу и дошел до моста Авенида Сан-Мартин[796] и теперь курит, стоя на углу и глядя на женщину, поправляющую чулок, имеется абсолютно нелепое представление о том, что именуют реализацией, и он об этом не жалеет, потому как что-то подсказывает ему — в нелепости-то и содержится самое зерно, и что лай собаки куда ближе к омеге, чем какая-нибудь диссертация об употреблении герундия в произведениях Тирсо де Молина. Какие тупые метафоры. Однако он упорно стоит на своем, тут уж ничего не скажешь. Что он ищет? Себя? Он бы не стал себя искать, если бы уже не нашел.[797] То есть он нашел себя (но тогда это не так уж нелепо, ergo надо все время быть начеку. Только ослабишь внимание, как Разум тут же подсовывает тебе готовый образец, первый силлогизм в цепи, которая никуда не ведет, разве что к диплому или к уютному домику в Калифорнии и детишкам, играющим на ковре в присутствии немыслимо очаровательной мамы). Давайте спокойно разберемся. Что ищет этот человек? Себя? Ищет себя как индивидуума? И тогда какого индивидуума он ищет — того, который вне времени или который есть существо историческое? Если второе, то тогда он просто теряет время. Если же, напротив, он ищет себя за пределами обычных возможностей, возможно оттолкнувшись от собаки, то это не так уж плохо. Давайте спокойно разберемся (ему ужасно нравится говорить в таком тоне, будто отец обращается к сыну, чтобы потом сын доставил себе удовольствие и наподдал старику в том же тоне), так вот, давайте потихонечку-полегонечку посмотрим, что же это все-таки за поиски. Так вот, никакого поиска нет. М-да, хитроумно. Поиска нет, потому что все уже найдено. Только найденное все никак не загустеет. Мясо есть, картошка есть, лук-порей есть, а блюдо не получается. Или мы уже не вместе со всеми остальными, или мы уже перестали быть гражданами (ведь меня то и дело зачем-то куда-то таскают, раздирая на части, пусть Лютеция подтвердит), но мы все равно не можем выйти из состояния собаки и прийти к тому, что не имеет названия, — скажем так, к миру и примирению.
Ужасная задача — шлепать по кругу, у которого везде центр[798], а окружности нет нигде, если говорить на языке схоластики. Так что ты ищешь? Что ты ищешь? Повторить этот вопрос пятнадцать тысяч раз, будто бьешь молотком в стену. Что ты ищешь? Что за штука это примирение, без которого жизнь не более чем мрачное издевательство? Не примирение святого, потому что в стремлении опуститься до собаки, начать с собаки, или с рыбы, или с грязи, уродства и нищеты или любой другой никчемности — это всегда тоска по святости, и, кажется, святости не религиозной (вот тут начинается нелепость), по состоянию без различий, без святости (поскольку святой — он всегда святой, и те, которые не святые, тоже, и вот это приводит в ужас беднягу, который любуется икрами девушки, поглощенной съехавшим на сторону чулком), то есть если возможно примирение, то должно быть состояние, которое не имеет никакого отношения к святости, состояние ни на что не похожее с самого начала. Должно быть, что-то изначально присущее, без принесения свинца в жертву золоту, целлофана в жертву стеклу, малого в жертву большому; наоборот, нелепость требует, чтобы свинец стоил золота и чтобы большее было в меньшем. Вот такая алхимия, такая неевклидова геометрия, неопределенность up tu date[799] для работы духа и ее плодов. Речь не идет о том, чтобы подняться, старый надуманный идол, опровергнутый историей, старая морковка, которой уже не обмануть никакого осла. Речь не идет о том, чтобы ты стал совершенным, воспетым, откупившимся, избранным, свободным духом, чтобы ты прошел от альфы до омеги. Ты такой уже есть. И любой другой тоже. Выстрел уже в пистолете; надо только нажать на курок, а палец в этот момент занят, потому что рука машет автобусу, чтобы он остановился, или еще что-нибудь в этом роде.
Как он говорит, сколько он говорит, этот курильщик, что бродит по предместьям. Девушка уже поправила чулок, все в порядке. Вот видишь? Это тоже форма примирения. Il mio supplizio…[800] Наверное, это совсем просто — подтянуть петлю, послюнить палец и провести им по спущенной петле. А может, хватило бы просто взять себя за нос и подтянуть нос к уху, сдвинув таким образом абсолют обстоятельств. Нет, тоже не то. Легче всего подвесить на безмене все, что вне, словно ты уверен, что вне и внутри — это две несущие конструкции дома. Но и это никуда не годится, сам сюжет говорит тебе об этом, а сам факт, что ты продумываешь все это, вместо того чтобы проживать, лишний раз доказывает, что все никуда не годится, что все мы являемся частью общей дисгармонии и что все наши ресурсы спрятаны под маской общественного здания, под маской истории, от ионического стиля к радостям Возрождения и неглубокой печали романтизма, и так мы и живем, и не пошли бы мы все куда подальше.
(-44)
126
— Зачем своими дьявольскими чарами ты вырвал меня из покоя моей первой жизни… Солнце и луна светили мне без притворства; я просыпалась, и мысли мои были покойны, а на рассвете я собирала листья и возносила молитву. Я не видела ничего плохого, ибо у меня не было глаз; я не слышала ничего плохого, ибо у меня не было ушей; но я отомщу!
Речь Мандрагоры из «Изабеллы Египетской» Ахима фон Арнима[801](-21)
127
И вот эти чудовища всячески изводили Куку, чтобы она убралась из аптеки и оставила их в покое. Мимоходом, и куда более серьезно, они обсуждали систему Сеферино Пириса и идеи Морелли. Поскольку Морелли был мало известен в Аргентине, Оливейра снабжал их книгами и цитировал кое-какие заметки, которые ему довелось читать в другие времена Таким образом, обнаружилось, что Реморино, который, наверное, и дальше будет работать санитаром и который всегда появлялся в тот момент, когда пили мате или пропускали рюмку-другую каньи, был большим знатоком Роберто Арльта, и это произвело на них такое впечатление, что всю неделю они не говорили ни о чем другом, кроме Арльта, и о том, что никто еще не развешивал пончо в этой стране, где предпочитали ковры. Но больше всего и особенно серьезно они говорили о Сеферино и то и дело переглядывались как-то по особенному, — например, им случалось поднять глаза всем троим одновременно, и они тут же понимали, что все трое сделали одно и то же, то есть посмотрели друг на друга по-особенному, да так, что совершенно невозможно выразить, так иногда переглядываются между собой игроки в труко[802] или иногда безнадежно влюбленный мужчина, которому приходится выдерживать чай с печеньем, нескольких почтенных сеньор и даже одного отставного полковника, объясняющего причины того, почему все в стране так скверно, — так вот, этот мужчина сидит на стуле и смотрит одинаково на всех, на полковника, на женщину, которую любит, на тетушек этой женщины, смотрит на всех одинаково любезно, потому что и правда, ведь это просто стыдно, что страна оказалась в руках шайки коммунистов-сектантов, и тут от пирожного с кремом, третьего слева на подносе, от чайной ложечки на вышитой тетушками скатерти любезный взгляд устремляется куда-то и поверх коммунистов-сектантов, переплетается в воздухе с другим взглядом, который поднялся от пластмассовой сахарницы густо-зеленого цвета, и нет больше ничего, свершилось что-то, что существует вне времени и превращается в нежную тайну, и если бы нынешние мужчины были настоящими мужчинами, юноша, а не говенными педиками («О боже, Рикардо!» — «Да ладно, Кармен, но меня это из себя выводит, вы-во-дит-из-се-бя то, что происходит со страной»), mutatis mudandis,[803] это похоже на взгляд тех чудовищ, когда им то и дело случается переглядываться, бегло, но многозначительно, тайком, но куда яснее, чем когда они смотрят подолгу, но на то они и чудовища, как говорила Кука своему мужу, а те трое начинали хохотать, ужасно стыдясь, что смотрели вот так, хотя не играли в труко и не таили в себе запретную любовь. Разве только.
(-56)
128
Nous sommes quelques-uns à cette époque à avoir voulu attenter aux choses, créer en nous des espaces à la vie, des espaces qui n’étaient pas et ne semblaient pas devoir trouver place dans l’espace.
Aitaud. Le Pèse-nerf[804](-24)
129
Но Травелер не спал, раз или два он пытался уснуть, но кошмары одолели его, и в конце концов он сел на постели и зажег свет. Талиты не было, прямо лунатик какой-то, бессонная ночная кошка, и Травелер выпил рюмку каньи, а потом натянул пижамную куртку. В плетеной качалке, казалось, было прохладнее, чем в постели, а ночь располагала к тому, чтобы заняться штудированием Сеферино Пириса.
Dans cet annonce ou carte, — говорил Сеферино буквально следующее, — je réponds devant ou sur votre demande de suggérer idées pour UNESCO et écrit en le journal «El Diario» de Montevideo.[805]
О, офранцузившийся Сеферино! Впрочем, это не опасно, «Свет мира на Земле», текстом которого бережно владел Травелер, был написан на прекрасном испанском, вот как, например, это вступление:
В настоящем предисловии я предлагаю фрагменты из недавно написанного мною произведения, названного мною «Свет мира на Земле». Все произведение целиком было представлено, вернее, сейчас представлено на международном конкурсе… и потому вышло так, что я не могу послать коего произведения вам целиком, впрочем, чего Журнал и не позволяет, чтобы произведение чего-то какое-то время не могло быть показано в полном объеме никакому постороннему лицу для коего Журнала…
Так что в этом предисловии я ограничусь лишь выжимками из этого произведения, которые те самые, что имеют продолжение и потому не могут быть напечатаны сейчас.
Куда яснее, чем эквивалентный текст Хулиана Мариаса, к примеру. Пару рюмок каньи — и есть контакт, поехали. Травелеру даже начинало нравиться, что он встал с постели и что Талита где-то бродит, движимая романтическими порывами. В который уже раз он стал медленно углубляться в текст Сеферино.
В этой книге представлено то, что мы могли бы назвать «великой формулой провселенского мира». Так получилось, что в каковую великую формулу входит Общество Наций или какая-нибудь ООН, где это Общество стремится к ценностям (самым высоким и т. д.) и к человеческим расам; и, конечно же, как неоспоримый пример в плане интернациональном, в него входит страна, которая является подлинным примером уже потому, что состоит из 45 НАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ, или министерств, если попроще, и 4 национальных властей.
Вот так-то: министерство, если попроще. Ах, Сеферино, философ по природе, составитель уругвайского рая, любитель напускать туману…
С другой стороны, эта великая формула, какая она есть, не чужда, соответственно, миру провидцев; природе самых ДЕТСКИХ принципов; ресурсам естества, которые в этой формуле, как они есть, не приемлют никаких изменений, в каковой формуле, как они есть; и т. д.
Как всегда, мудрец уповает на ясновидение и интуицию, но прежде всего для Сеферино характерна мания все классифицировать, присущая homo occidentalis,[806] и она так разгулялась в его владениях, что между одним мате и другим он реорганизовал цивилизацию в три этапа:
Первый этап цивилизации
За точку отсчета первого этапа цивилизации можно считать незапамятные времена далекого прошлого и до 1940 года. Этап состоял в том, что все шло к мировой войне, начиная с тех времен, пока не пришло к 1940 году.
Второй этап цивилизации
Точно так же за точку отсчета второго этапа цивилизации можно считать 1940 год и до 1953 года. Этап состоял в том, что все шло ко всеобщему миру и всеобщей реконструкции.
(Всеобщая реконструкция: сделать так, чтобы во всем мире каждый остался с тем, что у него было; эффективно реконструировать все, что было разрушено раньше: здания, права человека, всеобщее равновесие цен и т. д., и т. д.)
Третий этап цивилизации
Точно так же сегодня или сейчас можно считать точкой отсчета третьего этапа цивилизации 1953 год, и до будущего 2000 года. Этап состоит в том, что все твердой поступью направляется к эффективному улаживанию всех дел.
Очевидно, для Тойнби… Однако критика теряет дар речи перед антропологическими изысканиями Сеферино:
Итак, тут у меня человеческие существа на упомянутых этапах:
A) Люди, жившие в самом втором этапе, в те самые дни, не слишком старались задумываться о первом этапе.
B) Люди, жившие или, как мы сейчас, живущие в третьем этапе сегодняшнего дня, в эти самые времена, не слишком стараются задумываться, или мы не слишком стараемся задумываться о втором этапе. И
C) И вот завтра, которое потом наступит или начнется от 2000 года, люди тех дней и в те дни, они не слишком будут стараться задумываться о третьем этапе: то есть про сегодня.
По поводу того, что не слишком стараются задумываться, довольно верно, beati pauperes spiritu,[807] а Сеферино добрался уже до Рауля Риве[808], и ниже следует классификация, которая по вечерам во дворе у дона Креспо приводила их в восторг, вот она, чтоб вы знали:
В мире можно насчитать шесть человеческих рас: белая, желтая, бурая, черная, красная и пампасская.
БЕЛАЯ РАСА: те, которые этой расы, все жители с белой кожей, такие как в странах Балтики, норвеги, европейцы, американцы и т. д.
ЖЕЛТАЯ РАСА: те, которые этой расы, все жители с желтой кожей, такие как китайцы, японцы, монголы, индусы в своем большинстве из них и т. д.
БУРАЯ РАСА: те, которые этой расы, все жители с бурой кожей от рождения, такие как русские, которые из них бурые, как турки с бурой кожей, арабы с бурой кожей, цыгане и т. д.
ЧЕРНАЯ РАСА: те, которые этой расы, все жители с черной кожей, такие как жители Восточной Африки в большинстве своем из них и т. д.
КРАСНАЯ РАСА: те, которые этой расы, все жители с красной кожей, такие как большая часть эфиопов с темно-красной кожей, где НЕГУС, или король Эфиопский, сам краснокожий экземпляр; большая часть индусов с темно-красной кожей или «цвета кофе»; большая часть египтян с темно-красной кожей и т. д.
ПАМПАССКАЯ РАСА: те, которые этой расы, все жители с кожей разного или пампасского цвета, такие как все индейцы трех Америк.
— Сюда бы сейчас Орасио, — сказал себе Травелер. — Эту часть он особенно хорошо комментирует. В конце концов, почему бы и нет? Бедняга Сефе столкнулся с классическими трудностями налепливания ярлыков и делает, что может, как Линней или как те, кто составляет наглядный материал для энциклопедий. Что же касается бурой расы, это вообще гениальный вывод, надо признать.
В коридоре послышались шаги, и Травелер выглянул за дверь, выходившую в административное крыло. Как бы сказал Сеферино, первая дверь, вторая дверь и третья дверь были закрыты. Талита вернулась к себе в аптеку, просто невероятно, с каким рвением она снова взялась за науку, за свои аптечные весы и жаропонижающие примочки.
Чуждый всяким пустякам, Сеферино переходит к объяснению своего Общества Наций как модели:
Общество, которое может быть основано в любой части света, хотя лучшее место для него — Европа. Общество, которое функционировало бы постоянно, то есть во все рабочие дни. Общество со своим зданием или дворцом, и располагать должно не меньше чем семью (7) комнатами или какими другими большими помещениями. И т. д.
Итак, ладно; из семи упомянутых комнат дворца какового Общества первая комната должна быть занята Делегатами стран белой расы и ее Президентом такого же цвета; вторая комната должна быть занята Делегатами стран желтой расы и ее Президентом такого же цвета; треть…
И так — все расы подряд, перечисление можно было бы опустить, но это уже будет не совсем то, после четырех рюмок каньи (марки «Марипоса», а не «Анкап», а жаль, поскольку все, что касается высокого патриотизма, того стоило); это уже будет совсем не то, поскольку мысль Сеферино была кристаллографической, она вбирала в себя все грани и точки пересечения, руководимая симметрией и horror vacui,[809] так что
…третья комната должна быть занята Делегатами стран бурой расы и их Президентом такого же цвета; четвертая комната должна быть занята Делегатами стран черной расы и их Президентом такого же цвета; пятая комната должна быть занята Делегатами стран красной расы и их Президентом такого же цвета; шестая комната должна быть занята Делегатами стран пампасской расы и их Президентом такого же цвета; и еще одна — та самая, — седьмая комната должна быть занята «Главным Штабом» всего которого Общества Наций.
Травелера всегда приводили в восхищение слова «та самая», разрушавшие кристаллическую систему так же, как таинственный сад сапфира, таинственная точка в драгоценном камне, определяющая, возможно, средоточие системы, которая и вызывает в сапфире свечение прозрачного небесно-голубого креста, вобравшего, должно быть, всю энергию сердцевины камня. (И почему он называется сад, разве что по ассоциации с садом камней из восточных сказок?)
Сефе, решительно не склонный толочь воду в ступе, тут же разъясняет важность данного вопроса:
Кое-какие подробности об упомянутой седьмой комнате: в каковой седьмой комнате дворца Общества Наций должен быть Генеральный Секретарь всего какового Общества и Генеральный Президент, тоже всего какового Общества, но так, чтобы Генеральный Секретарь в то же время был бы и прямым Секретарем упомянутого Генерального Президента.
Еще подробности: итак, в первой комнате должен находиться соответствующий Президент, который всегда должен представлять каковую первую комнату; если говорить в отношении второй комнаты, idem;[810] если говорить в отношении третьей комнаты, idem; если говорить в отношении четвертой комнаты, idem; если говорить в отношении пятой комнаты, idem; и если говорить в отношении шестой комнаты, idem.
Травелер умилился, подумав, что это «idem» немало стоило Сеферино. Это была колоссальная уступка читателю. Но он уже подошел к самой сути вопроса и дальше перечислял все то, что он назвал: «Первоначальные задачи Общества Наций как модели», а именно:
1) Держать в поле зрения (чтобы не сказать уставиться) цену и ценность денег в международном обращении; 2) назначить поденную оплату рабочим, зарплату служащим и т. д.; 3) определить ценности всего международного (назначить или установить цену каждого продаваемого предмета, установить стоимость или количество всего прочего: сколько военного оружия должна иметь страна; сколько детей, по международной конвенции, может рожать одна и та же женщина и т. д.); 4) назначить, сколько должен получать в деньгах, по причине достигнутого возраста, в этом возрасте пенсионер и т. д. 5) до скольки детей может рожать каждая соответствующая женщина мира; 6) справедливое распределение всего международного; и т. д.
Почему, обоснованно задавал себе вопрос Травелер, он все время твердит о свободе «одного места» и о демографии? В пункте 3) под этим подразумевается одна из ценностей, а в пункте 5) как конкретный вопрос, который находится в компетенции Общества. Любопытные искажения симметрии, строгой нерушимости последовательного и упорядоченного перечисления, вызванные, быть может, обеспокоенностью, ощущением того, что классический порядок — это всегда, некоторым образом, принесение истины в жертву красоте. Но Сеферино тут же продемонстрировал отказ от романтизма, в котором его заподозрил Травелер, и предложил следующий образец распределения:
Распределение военного оружия:
Уже известно, что каждая отдельная страна мира насчитывает свои соответствующие квадратные километры территории.
Ну и вот, тут у меня пример:
А) Страна, которая в распоряжении имеет 1.000 квадратных километров, должна иметь 1.000 пушек; страна, которая в распоряжении имеет 5.000 квадратных километров, должна иметь 5.000 пушек; и т. д.
(Это долженствует понимать 1 пушку на каждый квадратный километр);
Б) Страна, которая в распоряжении имеет 1.000 квадратных километров, должна иметь 2.000 ружей; страна, которая имеет 5.000 квадратных километров, должна иметь 10.000 ружей; и т. д.
(Это долженствует понимать 2 ружья на каждый квадратный километр); и т. д.
Этот пример должно понять всем отдельным странам, которые существуют: Франция — 2 ружья на каждый свой километр; Испания, idem; Бельгия, idem; Россия, idem; Североамерика, idem; Уругвай, idem; Китай, idem; и т. д., и то же должно понять ко всем классам военного оружия, которые существуют: а) танки; в) пулеметы; с) террористические бомбы; ружья; и т. д.
(-139)
130
ОПАСНЫЕ ЗАСТЕЖКИ-МОЛНИИ
Британская медицинская газета информирует о новом виде несчастных случаев, которые могут произойти с детьми. Указанный несчастный случай может возникнуть из-за употребления застежек-молний вместо пуговиц на детских брюках (передает наш корреспондент по вопросам медицины).
Опасность состоит в том, что застежка-молния может зажать крайнюю плоть. Уже зарегистрировано два случая. Оба раза, чтобы освободить ребенка, потребовалось делать обрезание.
Наибольшая вероятность такого несчастного случая возникает, когда ребенок ходит в туалет. Стремясь помочь, родители только делают хуже, дергая застежку не в том направлении, из-за чего ребенок не в состоянии объяснить, произошел ли несчастный случай оттого, что застежку дергали вверх или вниз. Если речь идет о ребенке, уже подвергшемся обрезанию, травма может быть значительно серьезней.
Врач полагает, что, откусив нижнюю часть молнии плоскогубцами или клещами, можно легко разъять две половинки. Но приходится применять местную анестезию, чтобы извлечь ту часть, которая впилась в кожу.
«Обсервер», Лондон(-151)
131
— Как тебе кажется, не вступить ли нам в национальную корпорацию монахов молитвы крестного знамения?
— Если сравнить это с тем, что говорится о национальном бюджете…
— Мы будем выполнять потрясающие обязанности, — сказал Травелер, следя за дыханием Оливейры. — Я все прекрасно помню, мы должны будем творить молитву или осенять крестным знамением людей, предметы и некие таинственные области, которые Сеферино именует местами расположения.
— Это может быть только одно место, — сказал Оливейра, как будто издалека. — Причем совершенно определенное место, братишка.
— А еще мы должны будем осенять крестом посевы, а также женихов, сильно переживающих из-за соперника.
— Нареки его Сеферино. — Голос Оливейры доносился будто бы из определенного места расположения. — Как бы мне хотелось… Че, мне сейчас пришло в голову, а ведь Сеферино-то уругваец.
Травелер ничего не ответил и посмотрел на Овехеро, который вошел в палату и наклонился, чтобы пощупать пульс больного «утренней истерией на почве производственного фактора».
— Монахи должны неустанно бороться со злым духом во всех его проявлениях, — четко произнес Оливейра.
— Ага, — сказал Овехеро, чтобы поддержать дух Оливейры.
(-58)
132
И пока кто-то, как всегда, что-то объясняет, я, сам не знаю почему, оказываюсь в кафе, во всех кафе, в кафе «Слон и За́мок», в «Дюпон Барбе», в «Саше», в «Педроччи», в «Жихоне», в «Греко», в кафе «Мир», в кафе «Моцарт», в «Флориане», в «Капулад», в кафе «Дё Маго́», в баре, где расставляют стулья на площади Коллеони[811], в кафе «Данте», в пятидесяти метрах от могилы Скалигеров[812] и розового саркофага с ликом святой Марии Египетской, будто сожженным от слез, в кафе напротив Джудекки, где старые обнищавшие маркизы долго и тщательно пьют чай в обществе траченных молью господ, выдающих себя за послов, в «Жандилье», в «Флокко», в «Клюни», в «Ричмонде Суипачи», в «Вязах», в «Сирени», в «Стефане» (что на улице Малларме), в «Токио» (которое в Чивилкое[813]), в кафе «Курящая собака», в «Оперн кафе», в «Крыше», в кафе «Старый порт», в любом кафе любого места на земле, где
We make our meek adjustments[814], Contented with such random consolations As the wind deposits In slithered and too ample pockets.[815]Харт Крейн dixit.[816] Все это больше чем кафе, это нейтральная территория для тех, кто потерял душу, неподвижный центр колеса, где можно отделиться от себя самого на полном ходу и увидеть, как ты входишь и выходишь, будто маньяк, одержимый то женщинами, то счетами, то диссертацией по гносеологии, и пока кофе наливается в чашечку, которая переходит от губ к губам на протяжении череды дней, можно отстраненно провести ревизию и подсчитать баланс, будучи одинаково чуждым себе самому, и тому, который входил час назад в это кафе, и тому, который через час оттуда выходил. Сам себе свидетель, и сам себе судья, и сам себе биограф, иронически оглядывающий собственную жизнь между двумя выкуренными сигаретами.
В кафе я вспоминаю сны, одна no man’s land[817] сменяет другую; сейчас вспоминается одна, но нет, я помню только, что должно было сниться что-то чудесное и что в конце концов у меня осталось ощущение, будто меня изгнали (или я сам ушел, но против воли) из сна, который непоправимо остался где-то за спиной. Не знаю, вроде за мной закрылась какая-то дверь, кажется, так; ясно было одно: то, что приснилось (совершенное сферическое, законченное), отделилось от того, что сейчас. Но я продолжал спать, насчет изгнания и закрывшейся двери мне тоже приснилось. И во сне, в момент перехода в сон, надо мной довлела единственная и ужасная уверенность: я знал, что изгнание непоправимо и что оно означает полное забвение всего прекрасного, что было раньше. Я думаю, захлопнувшаяся дверь как раз это и означала: роковое забвение, моментальное и окончательное. Самое удивительное — это вспоминать, как мне снилось, будто я забыл о предыдущем сне и что этот сон должен быть забыт (я изгнан из своей завершенной сферы).
Я думаю, все это уходит корнями в Эдем. Возможно, Эдем, каким мы хотим его видеть, есть мифопоэтическая проекция чудесных мгновений в зародыше, которые проживаются нами подсознательно. Мне вдруг стал более понятен жест ужаса у Адама Мазаччо[818]. Он закрывает лицо, чтобы защитить свое ви́дение, то, что видел только он; он хранит в этой маленькой темноте ладони последнее видение своего рая. И плачет (потому что это всегда жест того, кто плачет), понимая, что все бесполезно, что истинное наказание — это то, что уже началось: забвение Эдема, а это значит стадный конформизм, дешевые радости, грязная работа до пота на лбу и оплаченный отпуск.
(-61)
133
Ясное дело, тут же подумал Травелер, самое главное — это результат. Однако к чему такой прагматизм? Он был несправедлив к Сеферино, поскольку его геополитическая система была разработана точно так же, как и многие ей подобные и такие же нелепые (и такие же многообещающие, надо признать). Неустрашимый Сефе, бойко орудовавший на теоретической почве, почти незамедлительно продемонстрировал потрясающие практические выкладки:
Зарплаты рабочих в мире
В согласии с Обществом Наций будет или должно быть, что если, например, французский рабочий, возьмем кузнеца на этот случай, зарабатывает дневную зарплату, базирующуюся на минимальной зарплате от 8,00$ до максимальной зарплаты до 10,00$, тогда и должно быть, что итальянский кузнец тоже должен зарабатывать столько же, от 8,00$ до 10,00$ за день; дальше: если итальянский кузнец зарабатывает, как сказано, от 8,00$ до 10,00$ за день, тогда и испанский рабочий должен зарабатывать от 8,00$ до 10,00$ за день; дальше: если испанский рабочий зарабатывает от 8,00$ до 10,00$ за день, тогда и русский кузнец должен зарабатывать от 8,00$ до 10,00$ за день; если русский кузнец зарабатывает от 8,00$ до 10,00$ за день, тогда и североамериканский кузнец должен зарабатывать от 8,00$ до 10,00$ за день; и т. д.
— Что за смысл, — рассуждал Травелер, — кроется в этом «и т. д.», почему в определенный момент Сеферино останавливается и прибегает к этому «и так далее», такому для него трудному? Ведь не оттого, что он устал повторять одно и то же, поскольку совершенно очевидно, что это ему страшно нравится (это прилипло к нему и стало его стилем). В этом «и т. д.» чувствовалось что-то тоскливое для Сеферино, космолога, вынужденного предоставлять читателю ненавистный дайджест. Бедняга компенсирует издержки, добавляя к списку кузнецов:
(В остальном, под эти соображения, если продолжать о них говорить, попадают или попадут все соответствующие страны или хотя бы все кузнецы каждой соответствующей страны.)
«Вообще-то, — подумал Травелер, наливая себе еще каньи и разбавляя ее содовой, — странно, что Талиты до сих пор нет. Надо бы пойти посмотреть, где она». Ему было жаль расставаться с миром Сеферино, где во всем царил такой порядок, причем именно в тот момент, когда Сефе взялся за перечисление 45 Национальных Корпораций, которые должны составлять образцовое государственное устройство:
1) НАЦИОНАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ (все подразделения и служащие Министерства внутренних дел вообще). (Заправляет стабильностью всего эстеблишмента и т. д.); 2) НАЦИОНАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ (все подразделения и служащие Министерства финансов вообще). (Заправляет, вроде патронажа, всеми благосостояниями (всей собственностью) внутри национальной территории и т. д.); 3)
И вот так, все корпорации в количестве 45, среди которых выделялись особым образом 5, 10, 11 и 12-я:
НАЦИОНАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ МИНИСТЕРСТВА ГРАЖДАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ (все подразделения и служащие вообще коего Министерства). (Образование, Просвещение, Любовь ближнего к другому с ним же, Контроль, Учет (книги про все), Здоровье, Сексуальное воспитание и т. д. (Администрирование или Контроль и Учет (юрист…), которые должны дополняться «Образовательными судами», «Гражданскими судами», «Советом по детям», «Судьей по малолетним», «Регистрацией»: рождений, смертей и т. д.). (Администрирование, которое должно понимать все, что касается Гражданских Отношений: БРАК, ОТЕЦ, СЫН, СОСЕД, МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА, ИНДИВИДУУМ, ИНДИВИДУУМ ХОРОШЕГО ИЛИ ПЛОХОГО ПОВЕДЕНИЯ, ИНДИВИДУУМ АМОРАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ, ИНДИВИДУУМ С ДУРНЫМИ БОЛЕЗНЯМИ, ОЧАГ (СЕМЬЯ И), НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК, ГЛАВА СЕМЬИ, РЕБЕНОК, МАЛОЛЕТНИЙ РЕБЕНОК, ЖЕНИХ, СОЖИТЕЛЬ и т. д.).
………….
10) НАЦИОНАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ (все сельские учреждения по Крупному Разведению животных и все служащие вообще коих учреждений). (Крупное Разведение или разведение тучных животных: волов, лошадей, страусов, слонов, верблюдов, жирафов, китов и т. д.);
11) НАЦИОНАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ ФЕРМ (все сельскохозяйственные фермы и все служащие вообще каковых подразделений). (Посадка всех соответствующих растений кроме овощей и плодовых деревьев);
12) НАЦИОНАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ ДОМОВ-ПИТОМНИКОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ (все учреждения Малого Разведения животных и все служащие вообще каковых учреждений). (Малое разведение или разведение не тучных животных: свиней, овец, коз, собак, тигров, львов, кошек, кроликов, кур, уток, пчел, рыб, бабочек, мышей, насекомых, микробов и т. д.).
Травелер так растрогался, что забыл о времени и о том, что бутылка почти опустела. Вопросы, встававшие перед ним, умиляли его. Почему надо исключать овощи и плодовые деревья? Почему в слове тела слышалась какая-то дьявольщина? А это видение почти что буддийской чакры, где козы пасутся рядом с тиграми, мышами, бабочками, львами и микробами… Задыхаясь от смеха, он вышел в коридор. Почти ощутимое зрелище земельного участка, где служащие-коего-учреждения обсуждают, как растить кита, закрывало собой мрачноватый вид ночного коридора. Это озарение было вполне достойно и времени, и места, и казалось просто глупым спрашивать себя, где разгуливает Талита, в аптеке она или в патио, когда ровный строй Корпораций звал вперед, словно светильник.
25) НАЦИОНАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ БОЛЬНИЦ И СМЕЖНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (все больницы всех типов, мастерские по починке и ремонту, по выделыванию кожи, конюшни, где содержат лошадей, стоматологические клиники, парикмахерские, заведения для стрижки зеленых насаждений, заведения по улаживанию запутанных судебных тяжб и т. д., а также все служащие вообще каковых учреждений).
— Вот оно, — сказал Травелер. — Вот та трещина, которая доказывает, что Сеферино совершенно здоров. Орасио прав, нельзя считать порядком то, что кажется нам таковым на ощупь. Сефе кажется, что есть какая-то связь между зубным врачом и запутанной судебной тяжбой; цена дорожно-транспортного происшествия равняется цене на масло для двигателя… Но ведь это настоящая поэзия, брат ты мой. Сефе разбивает коросту на мозгах, как говаривал, уже не помню кто, и мир видится ему под другим углом. Понятно, что за это его и называют блаженным.
Когда пришла Талита, он дошел до двадцать восьмой Корпорации:
28) НАЦИОНАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ СТРАНСТВУЮЩИХ УЧЕНЫХ ДЕТЕКТИВОВ И ИХ НАУЧНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ (все конторы детективов и/или сыскной полиции, и все конторы следователей (передвижные), и все конторы ученых следователей, и все служащие вообще коих самых учреждений). (Все упомянутые служащие должны принадлежать к классу, который следует именовать «СТРАНСТВУЮЩИМ».)
Талите и Травелеру эта часть понравилась меньше всего, казалось, беспокойство, присущее Сеферино, слишком быстро оставило его. Возможно, странствующие ученые детективы были, по его мнению, не настоящими дознавателями, понятие «странствующий» придавало им нечто донкихотское, и Сефе, который считал, что это все и так понятно, решил не утруждать себя разъяснениями.
29) НАЦИОНАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ УЧЕНЫХ ДЕТЕКТИВОВ ПО ИСКАМ И ИХ НАУЧНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ (все конторы детективов и/или сыскной полиции, и все конторы следователей, и все служащие вообще каковых самых учреждений). (Все упомянутые служащие должны принадлежать к классу, который следует именовать «ИСКОВЫМ», и все служащие этого класса должны отстоять отдельно от других классов, как и упомянутый «СТРАНСТВУЮЩИЙ».)
30) НАЦИОНАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ УЧЕНЫХ ДЕТЕКТИВОВ ПО СВИДЕТЕЛЬСКИМ ПОКАЗАНИЯМ ДЛЯ И ИХ НАУЧНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ (все конторы детективов и/или сыскной полиции, и все конторы следователей, и все служащие вообще каковых самых учреждений). (Все упомянутые служащие должны принадлежать к классу, который следует именовать «ОСВИДЕТЕЛЬСКИМ», и все конторы и служащие этого класса должны отстоять отдельно от других классов, как уже упомяну-тые «СТРАНСТВУЮЩИЙ» и «ИСКОВОЙ».)
— Похоже на устав рыцарских орденов, — убежденно сказала Талита. — Странно только, что во всех этих трех корпорациях детективов, единственное, что упоминается, — это конторы.
— С одной стороны, это, а с другой — что означает «показания для»?
— Наверное, это значит для дачи свидетельских показаний. Впрочем, это все равно ни о чем не говорит. Никакой разницы.
— Разницы никакой, — повторил Травелер. — Ты совершенно права. Прекрасно то, что возможен мир, где существуют детективы странствующие, исковые и освидетельские. И потому мне кажется совершенно естественным, что Сеферино переходит от рыцарских орденов к религиозным, не забыв вставить между ними научные изыскания духа (как-то ведь надо их назвать, че) нашего времени. Вот, читаю:
31) НАЦИОНАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ ДОКТОРОВ НАУК ПО СКЛОННОСТЯМ И ИХ НАУЧНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ (все заведения и конторы общины докторов наук по склонностям и все которые сами доктора наук). (Доктора наук по склонностям: врачи, гомеопаты, целители (все хирурги), акушерки, техники, механики (техники всех видов), инженеры второй категории или архитекторы в каждой соответствующей области (все исполнители заранее разработанных проектов, так же как это было с инженерами второй категории), классификаторы вообще, астрономы, астрологи, спириты, законченные доктора в каждой области закона или законов (все эксперты), классификаторы родов по видам, бухгалтеры, переводчики, учителя начальных школ (все композиторы), оперативники — мужчины — по убийствам, проводники или гиды, ботаники, парикмахеры и т. д.)
— Ну ты скажи! — произнес Травелер, залпом опрокинув рюмку. — Это же гениально!
— Не страна, а рай для парикмахеров, — сказала Талита, бросаясь на кровать и закрывая глаза. — Какой скачок они сделали по социальной лестнице. Одного не понимаю, почему оперативники по убийствам обязательно мужчины.
— Сроду не слыхал о существовании оперативниц, — сказал Травелер. — Должно быть, Сефе это тоже кажется маловероятным. А ты обратила внимание, в вопросах секса он ужасный пуританин, это заметно на каждом шагу.
— Какая жара, просто невыносимо, — сказала Талита. — А ты заметил, с каким удовольствием он включил сюда классификаторов, он назвал их дважды? Ладно, погрузимся в таинственное, почитай мне еще что-нибудь.
— Слушай и заруби себе на носу, — сказал Травелер.
32) НАЦИОНАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ МОНАХОВ МОЛИТВЫ КРЕСТНОГО ЗНАМЕНИЯ И ИХ НАУЧНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ (все здания монашеской общины и все монахи). (Монахи и крестители, которые не должны принадлежать ни к какому чужому культу, а только к культу слова и таинства исцеляющего и к «поклонению» такового). (Кающиеся монахи и анахореты, которые должны молиться и осенять крестом как людей, как и предметы, как и места расположения, как и посевы, как и женихов, сильно переживающих из-за соперника и т. д.)
33) НАЦИОНАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ БЛАЖЕННЫХ ХРАНИТЕЛЕЙ КОЛЛЕКЦИЙ И МЕСТ ХРАНЕНИЯ КОЛЛЕКЦИЙ (все места хранения и idem, здания — склады, магазины, архивы, музеи, кладбища, тюрьмы, богадельни, институты слепых и т. д., и также все служащие вообще коих учреждений). (Коллекции: пример: архив хранит коллекцию судебных дел; кладбище хранит коллекцию трупов; тюрьма хранит коллекцию заключенных и т. д.)
— Насчет кладбища, такое не пришло бы в голову даже Эспронседе[819], — сказал Травелер. — Ничего не скажешь, провести аналогию между Курносой и архивом… Сеферино предугадывает причинно-следственные связи, в сущности, это и есть настоящий ум, тебе не кажется? После подобных предварений его окончательная классификация вовсе не выглядит странной, совсем наоборот. Так и надо было бы обустроить мир.
Талита промолчала, но приподняла верхнюю губу «домиком» и глубоко вздохнула, что означало первые позывы ко сну. Травелер опрокинул еще одну рюмку каньи и углубился в Корпорации, финальные и определяющие:
40) НАЦИОНАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ АГЕНТОВ ВСЕГО ОКРАШЕННОГО В КРАСНОЕ И ПОМЕЩЕНИЯ, ГДЕ ИДЕТ АКТИВНАЯ РАБОТА ПО ВСЕМ ВИДАМ ОКРАШЕННОГО В КРАСНОЕ (все помещения общины уполномоченных агентов по видам всех родов, окрашенного в красное и большие Офисы коих агентов, а также все каковые те самые агенты). (Все виды по родам окрашенного в красное: животные с шерстью, окрашенной в красно-рыжий; растения с цветами, окрашенными в красный, и минералы, с виду крашенные красным.)
41) НАЦИОНАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ АГЕНТОВ ВСЕГО КРАШЕННОГО ЧЕРНЫМ И ПОМЕЩЕНИЯ, ГДЕ ИДЕТ АКТИВНАЯ РАБОТА ПО ВСЕМ ВИДАМ КРАШЕННОГО ЧЕРНЫМ (все помещения уполномоченных по видам всех родов черного и большие Офисы коих агентов, а также все каковые те самые агенты). (Все виды по родам крашенного только черным: животные с черной шерстью, растения с черными цветами и минералы с виду черные.)
42) НАЦИОНАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ АГЕНТОВ ВСЕГО КРАШЕННОГО БУРЫМ И ПОМЕЩЕНИЯ, ГДЕ ИДЕТ АКТИВНАЯ РАБОТА ПО ВИДАМ ВСЕХ РОДОВ БУРОГО (все помещения общины уполномоченных агентов всех видов по родам крашенного бурым и большие Офисы коих агентов, а также все каковые те самые агенты). (Все виды по родам крашенные бурым или просто бурые: животные с бурой шерстью, растения с бурыми цветами и минералы с виду бурые.)
43) НАЦИОНАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ АГЕНТОВ ВСЕГО КРАШЕННОГО ЖЕЛТЫМ И ПОМЕЩЕНИЯ, ГДЕ ИДЕТ АКТИВНАЯ РАБОТА ПО ВСЕМ ВИДАМ ЖЕЛТОГО (все помещения общины уполномоченных агентов по видам всех родов, крашенного желтым и большие Офисы коих агентов, а также все каковые те самые агенты). (Все виды по родам крашенного в желтый или просто желтые: животные с желтой шерстью, растения с желтыми цветами и минералы с виду желтые.)
44) НАЦИОНАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ АГЕНТОВ ПО ВИДАМ ВСЕХ РОДОВ БЕЛОГО И ПОМЕЩЕНИЯ, ГДЕ ИДЕТ АКТИВНАЯ РАБОТА ПО ВИДАМ ВСЕХ РОДОВ КРАШЕННОГО БЕЛЫМ (все помещения общины уполномоченных агентов по видам всех родов крашенного белым и большие Офисы коих агентов, а также все каковые те самые агенты). (Все виды по родам крашенного белым: животные с белой шерстью, растения с белыми цветами и минералы с виду белые.)
45) НАЦИОНАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ АГЕНТОВ ПО ВИДАМ ВСЕХ РОДОВ ПАМПЫ И ПОМЕЩЕНИЯ, ГДЕ ИДЕТ АКТИВНАЯ РАБОТА ПО ВИДАМ ВСЕХ РОДОВ КРАШЕННОГО В ПАМПАССКИЙ (все помещения общины уполномоченных агентов по видам всех родов крашенного в пампасский и большие Офисы коих агентов, а также все каковые те самые агенты). (Все виды по родам крашенного в пампасский или просто пампасские: животные с шерстью пампы, растения с цветами пампы, и минералы пампы по виду.)
Взломать коросту на мозгах… Как виделось Сеферино все то, о чем он писал? Какая сияющая (или не сияющая) реальность питала его видения, в которых полярные медведи разгуливали по мраморным подмосткам среди кустов Жасмина? Или вороны, которые гнездились на угольном склоне с черным тюльпаном на вершине… И почему «крашенные черным», «крашенные белым»? Почему не «окрашенные в черный», «окрашенные в белый»? И вот еще, что значит «крашенный желтым или просто желтый»? Что это за цвета, которых ни с какой марихуаной не увидишь, ни Мишо-хуаной, ни с Хаксли-хуаной? Пояснения Сеферино, пригодные разве только для того, чтобы запутаться еще больше (если это можно назвать пригодным), не слишком многословны. Но все-таки:
Об упоминавшемся уже цвете пампы: цвет пампы — это любой цвет, который переменчивый или который состоит из двух и более красок.
И еще одно пояснение, чрезвычайно необходимое:
Об упомянутых и уже упоминавшихся агентах всех родов по видам: кои агенты должны быть Губернаторами, чтоб при их посредстве не прекращались бы в мире никакие рода всех видов; и чтобы рода всех видов, внутри своего класса, не пересекались бы, так чтоб один класс с другим, или чтоб один тип с другим, или чтоб одна раса с другой, или чтоб цвет одного вида с цветом другого вида и т. д.
Пуританин и расист, Сеферино Пирис! Космос чистых цветов, мондрианство в крайней степени! Опасный Сеферино Пирис, того и гляди, он станет кандидатом в депутаты, а может быть, и президентом! Будь настороже, Восточная Республика[820]! Еще рюмка каньи перед тем, как уснуть, пока Сефе, опьяневший от красок, выдавал последнюю поэму, похожую на огромное полотно Энсора, представлявшее все, что только можно представить, в масках и антимасках. Неожиданно в его систему ворвался милитаризм, и надо было видеть это соединение макаронического[821] с трисмегистическим[822], присущее уругвайскому философу. Так вот:
По поводу заявленного произведения «Свет мира на Земле», речь идет о том, что в нем объясняется нечто подробное о милитаризме, но сейчас, в коротком объяснении, мы расскажем о следующей или следующих версиях по милитаризму:
Гвардия (вроде древнегреческих стражников) для военных, родившихся под знаком Овна; профсоюзы, противостоящие региональному правительству, для военных, родившихся под знаком Тельца; Управление и шефство над праздниками и общественными мероприятиями (балы, приемы, проведение помолвок; брачные знакомства и т. д.) для военных, родившихся под знаком Близнецов; Авиация (военная) для военных, родившихся под знаком Рака; Перо федеральное проправительственное (военная журналистика, все политические действа в интересах федерального и национального правительства) для военных, родившихся под знаком Льва; Артиллерия (тяжелое оружие вообще и бомбы) для военных, родившихся под знаком Девы; Патронаж и практические презентации общественных празднеств и/или национальных) (ношение маскарадных костюмов, соответствующих военному поприщу, момент переодевания, сюда же военные парады, сюда же карнавальные шествия, сюда же статисты для карнавала, сюда же праздник «сбора винограда» и т. д.) для военных, рожденных под знаком Скорпиот; Кавалерия (кавалерия обычная и моторизованная, с соответствующими подразделениями, сюда же стрелки, сюда же копьеносцы, сюда же мачетеносцы[823]: обычный случай: «Республиканская Гвардия», сюда же фехтовальщики и т. д.) для военных, родившихся под знаком Козерога; Деловая военная челядь (гонцы, нарочные, пожарники, практикующие проповедники, бытовая прислуга и т. д.) для военных, родившихся под знаком Водолея.
Травелер растолкал Талиту, которая в раздражении проснулась, и прочитал ей военный раздел, после чего оба были вынуждены засунуть головы под подушки, чтобы не перебудить всю клинику. Но до этого они пришли к выводу, что большинство аргентинских военных родились под знаком Тельца. Поскольку Травелер, родившийся под знаком Скорпиона, был пьян, он объявил, что намерен немедленно потребовать для себя чин младшего лейтенанта запаса, с тем чтобы ему было дозволено заняться ношением маскарадных костюмов, соответствующих военному поприщу.
— Мы организуем мощные празднества по сбору винограда, — говорил Травелер, высовывая голову из-под подушки и тут же засовывая ее обратно, едва заканчивал фразу. — Ты придешь со всеми своими соплеменниками пампасской расы, нет никакого сомнения, что ты из пампасских или могла бы ею быть, поскольку на тебя пошло две или более красок.
— Я белая, — сказала Талита. — Очень жаль, что ты не родился под знаком Козерога, мне бы так хотелось, чтобы ты был фехтовальщиком. Или по крайней мере гонцом или нарочным.
— Гонцы — это Водолеи, че. А Орасио — Рак, так ведь?
— Да, но даже если нет, то он того стоит, — сказала Талита, закрывая глаза.
— Ему скромно поручили авиацию. Так и представляю себе его за штурвалом какого-нибудь «боинга» или еще чего-нибудь, как он влетает прямо в кондитерскую «Орел» в час, когда там все пьют чай с печеньем. Было бы здорово.
Талита погасила свет и немного прижалась к Травелеру, который потел и ворочался, весь уйдя в зодиакальную символику, национальные корпорации уполномоченных агентов и минералы желтые с виду.
— Орасио видел Магу этой ночью, — сказала Талита как во сне. — Он видел ее в патио, около двух часов назад, когда ты дежурил.
— А-а, — сказал Травелер, переворачиваясь на спину и пытаясь найти сигареты по системе Брайля. — Может, уже пора определить его к блаженным хранителям коллекций.
— А Магой была я, — сказала Талита, теснее прижимаясь к Травелеру. — Не знаю, понимаешь ли ты.
— Мне кажется, да.
— Рано или поздно это должно было случиться. Меня удивляет только, почему его так потрясло то, что он ошибся.
— Ну ты же знаешь Орасио, сам заварит кашу, а потом смотрит на то, что натворил, с таким удивленным видом, с каким щенки разглядывают собственные какашки.
— Я думаю, это началось еще в тот день, когда мы пришли встречать его в порт, — сказала Талита. — Это невозможно объяснить, потому что он даже не взглянул на меня толком, а потом вы оба отпихнули меня, как собачонку, да еще с котом под мышкой.
— Разведение не тучных животных, — сказал Травелер.
— Он спутал меня с Магой, — продолжала свое Талита. — Все остальное пошло как в перечислении Сеферино, одно за другим.
— Мага, — сказал Травелер, раскурив сигарету так, что ее огонек высветил из темноты его лицо, — она тоже из Уругвая. Видишь, это неспроста.
— Дай мне сказать, Ману.
— Лучше не надо. Незачем.
— Сначала пришел старик с голубкой, и тогда мы спустились в подвал, Орасио все время говорил про какой-то спуск и про эти пустоты, которые не дают ему покоя. Он в отчаянии, Ману, страшно смотреть, он кажется таким спокойным, а на самом деле… Мы спустились на грузовом лифте, и он пошел закрыть дверцу одного из холодильников, это было ужасно.
— Значит, ты спустилась, — сказал Травелер. — Так, ладно.
— Это было другое, — сказала Талита. — Мы не просто спустились. Мы разговаривали, но я чувствовала, что Орасио не здесь, он говорит с другой, с женщиной, которая утопилась, может быть. Мне это сейчас в голову пришло, он тогда еще не сказал, что Мага утопилась в реке.
— Да ничего она не утопилась, — сказал Травелер. — Уверен на все сто, хотя признаю, что не имею об этом ни малейшего представления. Но я хорошо знаю Орасио.
— Он думает, что она умерла, Ману, и в то же время чувствует, что она рядом, а этой ночью Магой была я. Он сказал мне, что видел ее на пароходе и под мостом Авениды Сан-Мартин… Он говорит об этом не как о галлюцинации и не рассчитывает на то, чтобы ему поверили. Просто говорит и все, но это все есть на самом деле, это существует. Когда он закрыл холодильник, мне стало страшно, и я сказала не помню что, а он смотрел на меня, и я была та, другая, на которую он смотрел. Я никому не дам делать из меня зомби, Ману, я не собираюсь быть зомби.
Травелер погладил ее по голове, но Талита нетерпеливо отстранилась. Она села на кровати, и он почувствовал, что она дрожит. При такой жаре и дрожит. Она сказала ему, что Орасио ее поцеловал, и попыталась объяснить этот поцелуй, но нужные слова не находились, и она в темноте коснулась Травелера, ее ладони, словно лоскутки, легли на его лицо, руки скользили по груди, упирались в колени, и из всего этого рождалось объяснение, которому Травелер не мог противостоять, он проникался чем-то, что шло к нему откуда-то издалека, или из глубины, или с каких-то неведомых высот, или еще откуда-то, что не было этой ночью и этой комнатой, оно передавалось ему через то, что делала с ним Талита, через ее невнятное бормотание, через смутное ощущение, что перед ним нечто, из чего могло сложиться объяснение, но голос, его произносивший, срывался, и объяснение происходило на непонятном языке, однако это было единственное, до чего можно было достать рукой, что требовало прощения и примирения, и он, будто проламывая дымовую завесу, похожую на пористую губку, обнаженный и недоступный, отдался во власть этих рук, как бежит между пальцев вода пополам со слезами.
«Мозги начисто задубели, — подумалось Травелеру. Он слушал что-то про страх, про Орасио, про грузовой лифт, про голубку; коммуникативная система постепенно начинала реагировать на слух. — Так, значит, наш бедный-несчастный боится, что он ее убил, но это же смешно».
— Он тебе так и сказал, че? Верится с трудом, ты же знаешь, какой он гордец.
— На этот раз речь о другом, — сказала Талита, отбирая у него сигарету и жадно затягиваясь, как в немом кино. — Я думаю, страх, который он чувствует, для него что-то вроде последнего прибежища, это перила, за которые хватаются, прежде чем броситься вниз. Он был так рад, что испытал страх этой ночью, я знаю, в глубине души он был рад.
— А вот это, — сказал Травелер, делая глубокий вдох, как настоящий йог, — не поняла бы даже Кука, можешь мне поверить. А я должен голову себе ломать, пытаясь понять, потому что радостный страх — это нелегко проглотить, старушка.
Талита завозилась на постели и приникла к Травелеру. Она знала, что снова с ним, что она не утонет, что он всегда удержит ее на поверхности и что в глубине души у нее была только жалость, чудесным образом возникшая жалость к Орасио. Оба почувствовали это одновременно и скользнули навстречу друг другу, чтобы обрести самих себя, на единой для обоих земле, где слова, ласки и губы образуют совершенный законченный круг, ох уж эти успокоительные метафоры, эта застарелая печаль удовлетворения оттого, что все вернулось на круги своя, все продолжается как было, все удержалось на поверхности, несмотря на ветер и шторм, кто бы ни звал и куда бы ни падал.
(-140)
134
О ЦВЕТНИКАХ
Следует знать, что сад строгой планировки, в стиле «французского парка», с клумбами, газонами и дорожками, составляющими геометрические фигуры, требует больших знаний и тщательного ухода.
Напротив, в саду «английского» типа все недостатки, допущенные садоводом-любителем, совершенно незаметны. Несколько кустов, квадратный газон, цветочная грядка, где перемешаны разные виды цветов, не заглушающих друг друга, у каменной стены или живописно расположенной живой изгороди, — все это главные элементы ансамбля, красивого и практичного.
Если, к несчастью, какие-то экземпляры не дадут желаемых результатов, их легко можно будет пересадить в другое место; общий вид ансамбля не будет выглядеть нарушенным или неухоженным, поскольку остальные цветы, разбросанные яркими пятнами, разными по высоте и цветовым оттенкам, будут и так создавать прекрасный вид.
Сады, разбитые таким образом, очень популярны в Англии и в Соединенных Штатах и называются там mixed border, то есть «смешанный газон». Цветы, посаженные этим способом, смешиваются между собой, переплетаются, разрастаются так, будто они выросли сами по себе, придавая саду естественный и живописный вид, тогда как в посадках, спланированных квадратами и кругами, всегда есть что-то искусственное и требующее абсолютного совершенства.
Итак, по причинам как практическим, так и эстетическим мы советуем садоводу-любителю остановиться на планировке типа mixed border.
Альманах «Hachette»(-25)
135
— Потрясающе вкусно, — сказала Хекрептен. — Я уже два съела, пока жарила, просто тают во рту, можешь мне поверить.
— Завари покрепче мате, старушка, — сказал Оливейра.
— Сию минуту, любовь моя. Подожди, я поменяю тебе холодный компресс.
— Спасибо. Как-то странно есть жареные пирожки с повязкой на глазах, че. Так, наверное, тренируют этих типов, которые откроют нам космос.
— Это те, которые полетят на Луну в каких-то там аппаратах, да? Их засовывают в какую-то капсулу или что-то в этом роде, так?
— Да, и дают им горячие пирожки с мате.
(-63)
136
У Морелли просто мания цитировать:
«Мне было бы трудно объяснить, почему в одной и той же книге я публикую стихи — и тут же отрицаю поэзию, печатаю дневник умершего — и записки моего друга прелата…»
Жорж Батай. Ненависть к поэзии(-12)
137
Мореллиана
Если объем или тональность произведения могут навести на мысль, что автор пытается подводить суммарные итоги, срочно указать ему, что эта попытка обернется против него и он получит вместо суммы жалкий остаток.
(-17)
138
И Мага, и я, мы оба иногда занимаемся тем, что оскверняем наши воспоминания. Достаточно любой малости, просто плохое настроение вечером, или гнетет тоска, которая, бывает, возникает, когда мы смотрим в глаза друг другу. Мало-помалу, в ходе разговора, который больше похож на рваные лоскуты, мы переходим на воспоминания. Два разных мира, чуждые друг другу, почти всегда непримиримые, открываются за наши словами, и тут же рождается насмешка, как будто мы договорились об этом заранее. Обычно начинаю я, с презрением вспоминая свой старинный культ слепого поклонения перед друзьями, свою верность кому-то, кто ее не понял и соответственно мне отплатил, плакаты, которые я со стоическим упорством носил на политических демонстрациях, интеллектуальные дискуссии и бешеные любовные страсти. Мне смешна моя не внушающая доверия честность, которая столько раз оборачивалась несчастьем и для меня, и для других, в то время как предательство и непорядочность плели свою паутину, а я не мог им помешать, только чувствовал, что у меня перед носом другие оказываются предателями и непорядочными людьми, а я ничего не делаю, чтобы помешать им, и, значит, виновен вдвойне. Я смеюсь над своими дядюшками, в высшей степени достойными, которые сидят по уши в дерьме, но блистая при этом безупречным крахмальным воротничком. Они бы в обморок упали, если бы узнали, что барахтаются в навозной куче, поскольку один убежден в правоте Тукумана, а другой верит в Девятое июля[824], которое является для них образцом истинного аргентинизма (это их собственное выражение). И все равно я храню добрые воспоминания о них. И все равно я топчу эти воспоминания в те дни, когда мы с Магой в полном отрубе от Парижа и хотим причинить боль друг другу.
Когда Мага отсмеется, она спрашивает меня, почему я говорю такие вещи о своих дядьях, и тогда мне хочется, чтобы они были рядом, чтобы я слышал их за дверью, вот как старика с шестого этажа. Я тщательно готовлю объяснение, потому что не хочу выглядеть несправедливым или хватить через край. И еще я хочу, чтобы оно послужило на пользу Маге, которая никогда не разбиралась в вопросах морали (как и Этьен, но не в такой степени эгоистично; просто она верит в ответственность только перед настоящим моментом, то есть именно сейчас надо быть добрым или благородным; но, по сути дела, в ее мотивации столько же гедонизма и эгоизма, сколько у Этьена).
И тогда я объясняю ей, что оба мои честнейшие дядюшки — истинные аргентинцы, как это понималось в 1915 году, в момент пика их жизни, у одного на сельскохозяйственно-животноводческом поприще, у другого на чиновничьем. Когда говорят о «креолах тех времен», это, значит, говорят об антисемитизме, ксенофобии, о владельцах поместий, тоскующих по молоденьким метискам, которые заваривают им мате, получая десять песо в месяц, о патриотических чувствах как можно более белоголубых, о почтении ко всему военному и экспедициям в пустынную глубь страны, по дюжине отглаженных рубашек, хотя денег недостает даже на то, чтобы в конце месяца заплатить униженному и забитому слуге, которого вся семья называет «русский» и на которого беспрестанно кричат, которому грозят или в лучшем случае с которым балагурят. Стоит Маге разделить эту точку зрения (о которой лично она никогда не имела ни малейшего представления), я тут же спешил заверить ее, что в рамках этой общей картины мои дядюшки и члены их семейств — это люди в высшей степени замечательные. Преданные до самоотречения отцы и сыновья, граждане, выполняющие свой долг и читающие самые влиятельные газеты, добросовестные служащие, чрезвычайно ценимые своими начальниками и коллегами, люди, способные или ночами не спать у постели больного, или надуть кого угодно. Мага смотрит на меня растерянно, опасаясь, уж не смеюсь ли я над ней. Приходится развивать свою мысль, объясняя. Почему я так люблю своих дядюшек, почему только иногда, когда нас с ней достают улицы или погода, я вытаскиваю все это старое барахло на свет божий и топчу воспоминания, которые у меня от них остались. Тогда Мага немного оживляется и начинает говорить гадости о своей матери, которую она и любит, и ненавидит, в зависимости от текущего момента. Порой она ужасает меня, рассказывая о каком-нибудь эпизоде из своего детства, о котором уже рассказывала мне как-то со смехом, будто о чем-то забавном, и который вдруг завязывается зловещим узлом, превращаясь в болото с пиявками и клещами, которые бросаются друг на друга и высасывают всю кровь до капли. В такие минуты Мага становится похожей на лисицу, крылья носа у нее приподнимаются, она бледнеет, говорит сбивчиво, заламывая руки и тяжело дыша, и будто на пузыре, выдутом из жевательной резинки, огромном и безобразном, проступает пористое, как губка, лицо ее матери, ее бедняцкая одежда, улица в предместье, где ее мать осталась брошенной, будто старая плевательница на помойке, нищета, где ее мать — это рука, вытирающая кастрюли засаленной тряпкой. Беда в том, что Мага не может рассказывать долго, она тут же начинает плакать, пряча лицо у меня на груди, она так мучится, это что-то ужасное, надо заварить ей чаю, забыть обо всем, уйти от всего и заняться любовью, никаких дядюшек и никакой матери, заняться любовью — это уж, как всегда, или уснуть, но любовью — это уж почти как всегда.
(-127)
139
Обозначения нот для фортепиано (ля, ре, ми-бемоль, до, си, си-бемоль, ми, соль), обозначения нот для скрипки (ля, ми, си-бемоль, ми), обозначения нот для охотничьего рожка (ля, си-бемоль, ля, си-бемоль, ми, соль) представляют собой музыкальный эквивалент имен ArnolD SCHoenberg, Anton WEBErn и ALBAn BErG (согласно немецкой системе, где Н соответствует си, В — си-бемоль и S — ми-бемоль). В музыкальной анаграмме такого типа нет ничего нового. Достаточно вспомнить, что Бах использовал таким же образом собственное имя, и то же самое было на вооружении многих мастеров полифонии XVI века. <…> Еще одна примечательная аналогия для будущего скрипичного концерта состоит в строгой симметрии подбора инструментов. Ключевое число для Скрипичного концерта — два: две самостоятельные музыкальные темы, каждая из которых делится на две части, кроме того, разделяются скрипка — оркестр. «Kammerkonzert» отличается, напротив, числом три: он посвящен Маэстро и двум его ученикам; инструменты делятся на три группы: фортепиано, скрипка и ансамбль духовых инструментов; его архитектоника основана на трех взаимосвязанных темах, каждая из которых обнаруживает в большей или меньшей степени трехчастное строение.
Из анонимного комментария к Камерному концерту для скрипки, фортепиано и 13 духовых инструментов АЛЬБАНА БЕРГА (запись Pathé Vox PL 8660).
(-133)
140
За неимением ничего более увлекательного — то упражнения по растаптыванию воспоминаний, то непонятные для других разговоры в аптеке от полуночи до двух часов ночи, когда Куке уже случалось предаваться-оздоровительному-сну (или пораньше, чтобы она ушла: Кука упорствует, но усилия, которые требуются на непринужденную улыбку в ответ на словесные выпады этих чудовищ, ее добивают. С каждым днем она все раньше уходит спать, и чудовища любезно желают ей спокойной ночи. Талита, самая нейтральная из них, наклеивает этикетки или листает Index Pharmacorum Gottinga.
Упражнения вроде: перевести с манихейскими перестановками знаменитый сонет:
О наше прошлое, растленное, гнилое, Не возродит ли нас надменный твой полет?Чтение странички из записной книжки Травелера: «Пока ждал своей очереди в парикмахерской, запал на один буклет ЮНЕСКО, где прочитал следующие слова: Opintotoveri / Tyӧlӓisopiskelija / Tyӧvӓenopisto. Похоже на названия каких-то финских журналов по педагогике. Полнейшая ирреальность для читателя. Такое действительно существует? Opintotoveri означает „В помощь учителю общеобразовательной школы“. Для меня… (Трясусь от злобы.) Зато они не знают, что, „cafisho“ означает мошенник (аргентинская месть). Ирреальность усиливается. Это же надо, разработчики этой писанины полагают, что если до Хельсинки можно долететь всего за несколько часов на „Боинге-707“… Выводы делать каждому свои. Мне обычную американскую стрижку, Педро».
Лингвистические задачки с непонятными словами. Талиту повергает в задумчивость Genshiryoku, Kokunai, Jijo, ей почему-то кажется, что это развитие ядерных исследований в Японии. Она убеждается в этом, то соединяя, то разъединяя слова, в то время как ее муж, зловредный поставщик материала, собранного по парикмахерским, показывает ей другой вариант: Genshiryoku, Kaigai, Jijo, которые кажутся развитием ядерных исследований за границей. Талита полна энтузиазма, путем анализа она приходит к убеждению, что Ко-кунаи — это Япония, а Каигаи — заграница. Полный отлуп со стороны красильщика Матсуи с улицы Ласкано, по поводу полиглотских изысканий Талиты, которая возвращается от него, бедняжка, с поджатым хвостом.
Профанация: оттолкнувшись от такого, например, предположения, как знаменитая строка «Ощутимая гомосексуальность Христа», выстроить последовательную систему, подтверждающую данное высказывание. Выдать мысль о том, что Бетховен был копрофагом и т. д. Настаивать на неоспоримой святости сэра Роджера Кэйзмента[825], опираясь на его «The Black Diaries». Кука удивлена, она прошла конфирмацию и регулярно причащается.
По сути дела, это означает — сходить с ума исключительно на почве профессионального самоотречения. Этого пока не принимают всерьез (не может быть, чтобы Аттила собирал марки), но вот это Arbeit macht Frei[826] еще принесет свои результаты, поверьте, Кука. Например, изнасилование епископа из Фано стало таким случаем, который…
(-138)
141
Не надо особенно углубляться в записи Морелли, чтобы понять: он имел в виду другое. Его намеки на глубинные слои Zeitgeist,[827] пассажи, где lo(gi)ca[828] кончает тем, что вешается на шнурках от ботинок, совершенно неспособная противостоять несообразностям, заложенным в ее законах, свидетельствуют о спелеологическом характере произведения. Морелли то уходит далеко вперед, то отступает, в открытую взламывая равновесие и принципы того, что он мог бы назвать нравственным пространством, так что вполне могло произойти (на самом деле этого не произошло, но ни в чем нельзя быть уверенным), что события, о которых он рассказывает, заняли пять минут и вместили период от битвы при Акциуме[829] до Австрийского Аншлюса (эти три «А», возможно, послужили отправной точкой для отбора и соединения именно этих исторических событий), или, например, человек, который нажимает кнопку звонка на улице Кочабамба, дом номер тысяча двести, переступает через порог и оказывается во дворе Менандро в Помпее. Все это было достаточно тривиальным, бунюэльским[830], и от членов Клуба не ускользнула главная ценность: это было настоящим подстрекательством, иносказанием, открывающим иной смысл вещей, более глубокий и более обнаженный. Благодаря этим упражнениям в эквилибристике, чрезвычайно похожим на те, что так ярко представляет нам Библия, Упанишады[831] и другие материи, напичканные тринитротолуолом шаманизма, Морелли доставлял себе удовольствие, придумывая литературу, которая по своим внутренним законам являлась миной, контрминой и насмешкой над всем и вся. Вдруг получалось так, что слова, сам язык, суперструктура стиля, семантика, психология и сама придуманность — все сшибало себя с ног убийственным харакири. Банзай! Вперед, к новому порядку, но без всяких гарантий: впрочем, всегда есть некая путеводная нить, которая ведет куда-то туда, за пределы книги, указывая на некое возможно или на некое наверно, кто знает, которые тут же вышибали из-под сего произведения окаменевший фундамент. Как раз это и приводило в отчаяние Перико Ромеро, которому была необходима определенность, заставляло дрожать от наслаждения Оливейру, будоражило воображение Этьена, Вонга и Рональда и заставляло Магу танцевать босой, держа по артишоку[832] в каждой руке.
Во время продолжительных обсуждений, обильно сдобренных кальвадосом и табаком, Этьен и Оливейра задавались вопросом: почему Морелли так ненавидел литературу и почему он ненавидел ее с позиций самой литературы, вместо того чтобы повторять «Exeunt» Рембо[833] или испробовать на собственном левом виске хваленую безотказность «кольта-32»? Оливейра склонялся к мысли, что Морелли угадывал сатанинскую природу любого письменного творчества (а какой еще она могла быть, если она всего лишь вспомогательная субстанция для того, чтобы мы проглотили gnosis, praxis и ethos[834] других людей, которые жили на самом деле или были выдуманы?). Внимательно изучив наиболее провокационные пассажи, он снова почувствовал особенный тон, в который были окрашены произведения Морелли. Прежде всего, в этой тональности можно было различить разочарование, за которым, однако, чувствовалось, что разочарование это относится не к обстоятельствам и событиям, о которых рассказывается в книге, а к манере рассказывать о них — Морелли скрывает это, как только можно, — но им пропитано все повествование. Устранение надуманного конфликта между содержанием и формой то и дело происходит по мере того, как старик отказывается от формального материала, используя его, впрочем, на свой манер; подвергнув сомнению свой инструментарий, он заодно счел негодным и все то, что он с его помощью произвел. То, о чем рассказывается в книге, никому не нужно, это ничто, потому что плохо рассказано, потому что рассказано как всегда рассказывают, — в общем, это литература. Не раз было так, что его переполняло раздражение, которое вызывают у автора собственные сочинения и вообще чьи бы то ни было. Очевидный парадокс состоял в том, что Морелли собирал воображаемые и четко сфокусированные эпизоды в самых разнообразных формах, пытаясь покорить их и решить все проблемы с помощью всевозможных средств, как писатель, который знает свое дело. Это не выглядело так, что он предлагал некую теорию, и не было в этом ничего такого, что вызывало бы могучую работу интеллекта, тем не менее написанное им с куда большей эффективностью, чем любое описание или любой анализ, разворачивало перед нами картину мира, глубоко прогнившего и, с его точки зрения, насквозь фальшивого, нападая на него не для того, чтобы разрушить, но сохранить, с убийственной иронией, которая угадывается за обезоруживающей откровенностью иных фрагментов, за жестко выстроенными эпизодами, за кажущимся ощущением литературной легкости, которые уже давно снискали ему славу среди читателей его рассказов и романов. Великолепная оркестровка мира, для тонкого слуха, в результате, упиралась в ничто; но вот тут как раз и начиналась тайна, потому что в то же самое время, несмотря на общий нигилизм произведения, интуиция пусть не сразу, но могла угадать, что не это было главным намерением Морелли, что виртуальное саморазрушение в каждом фрагменте книги — это поиски благородного металла среди пустой породы. Тут бы надо остановиться, чтобы не ошибиться дверью и не слишком умничать. Самые горячие споры Оливейры с Этьеном и были вызваны надеждой на то, что этого не произойдет, потому что оба страшно боялись впасть в ошибку и оказаться парочкой законченных кретинов, которые упорно стоят на том, что нечего городить вавилонскую башню, если в конечном итоге она никому не нужна. Западная мораль в такие минуты казалась им чем-то вроде сводни, которая подсовывала им одну за другой иллюзии, так или иначе за тридцать веков унаследованные, воспринятые и пережеванные. Это тяжело — перестать верить, что цветок может быть красив просто так, ни для чего; горько сознавать, что можно танцевать в полной темноте. Намеки Морелли на то, что знаки можно переменить на противоположные, мир можно увидеть в других и из других измерений, в качестве неизбежной подготовки к более чистому видению (все это в одном пассаже, блестяще написанном и одновременно пронизанном насмешкой и холодной иронией человека перед зеркалом), — эти намеки их раздражали, потому что протягивали им что-то похожее на надежду, за которую можно ухватиться, некое оправдание, одновременно лишая их уверенности и создавая невыносимую двойственность. Единственным утешением для них могло служить то, что сам Морелли жил в состоянии точно такой же двойственности, оркеструя произведение, первое настоящее звучание которого должно было представлять собой абсолютную тишину. И так они продвигались вперед, страница за страницей, то ругаясь, то восторгаясь, а Мага, уставшая в конце концов от иносказаний, сворачивалась в кресле, как котенок, глядя, как над шиферными крышами занимается рассвет, сквозь дым, заполняющий пространство между глазами и закрытым в бесполезно жаркую ночь окном.
(-60)
142
1. — Я не знаю, какая она была, — сказал Рональд. — И мы никогда этого не узнаем. Мы знали ее потому, какое действие она производила на нас. В каком-то смысле мы были ее зеркалом, а она — зеркалом нас самих. Этого не объяснить.
2. — Она была так глупа, — сказал Этьен. — Блаженны в неведении своем и так далее. Клянусь тебе, я говорю вполне серьезно, и цитирую тоже. Меня раздражала ее глупость, Орасио утверждал, что у нее просто информации мало, но он ошибался. Разница между невеждой и дураком хорошо известна, и каждый это знает, кроме самого дурака, к счастью для него. Она верила, что если будет учиться, ох уж это пресловутое учение, то поумнеет. Она путала две вещи: знать и понимать. Бедняжка понимала многое из того, о чем мы понятия не имеем именно потому, что все это знаем.
3. — Да отстань ты со своей эхолалией, — сказал Рональд. — Сумбур из антиномий и полярных понятий. Для меня ее глупость была платой за то, что она жила как трава, как ракушка, прилепившись к самым таинственным вещам на свете. Вот, смотри: она не верила в названия, ей нужно было пальцем ткнуть во что-то, только тогда она верила, что оно существует. Так далеко не уедешь. Это все равно что повернуться спиной ко всему Западу, ко всем школам. Все это никуда не годится, если живешь в городе и вынужден зарабатывать себе на жизнь. Она так маялась из-за этого.
4. — Да, это так, но зато она могла чувствовать себя бесконечно счастливой, я не раз бывал тому свидетелем и завидовал ей. Ее могла привести в восторг форма стакана, например. А что я ищу в живописи, скажи мне? Мучусь, тычусь туда-сюда, пытаясь найти нужное направление, а в результате оказываюсь перед вилкой и парой маслин. Соль мироздания и его центр должны быть здесь, на этом кусочке скатерти. Она входила и чувствовала это. Однажды ночью я поднялся к себе в мастерскую, а там она — стоит перед картиной, которую я закончил утром. Стоит и плачет, как умела плакать только она, всем лицом, это было ужасно и здорово. Она смотрела на мою картину и плакала. У меня не нашлось мужества сказать ей, что утром я сам плакал. А ведь это, надо думать, могло принести ей успокоение, ты же знаешь, как она всегда комплексовала, чувствуя себя ничтожеством среди наших блестящих изгаляний.
5. — Она могла расплакаться по тысяче других причин, — сказал Рональд. — Это еще ничего не доказывает.
6. — По крайней мере, это доказывает, что у нее есть контакт. А когда другие, стоя перед тем же холстом, оценивали его посредством отточенных фраз, пересказывая чужие мнения, все их комментарии были как-то вокруг. Видишь ли, надо иметь определенный уровень, чтобы соединить эти две вещи. Я считаю, что у меня он есть, но таких, как я, немного.
7. — Немногим откроется Царствие Небесное, — сказал Рональд. — Тебе все сгодится, лишь бы себя похвалить.
6. — Я просто знаю, что это так, — сказал Этьен. — Да, знаю. Но мне понадобилось жизнь прожить, чтобы соединить две руки, левую с сердцем, а правую с кистью и угломером. Сначала я был из тех, кто смотрит на Рафаэля, сравнивая его с Перуджино[835], и бил хвостом, как лангуст, перед Леоном Баттистой Альберти[836], соединяя их, переплавляя всех в одно целое. Пико[837] здесь, Лоренцо Валла[838] там, и заметь, Буркхард[839] говорит, Беренсон[840] отрицает, Арган полагает, здесь лазурь сиенской школы, там кусок холста из Мазаччо. Не помню точно, когда это было, я был в Риме в галерее Барберини и, стоя перед какой-то работой Андреа дель Сарто[841], анализировал, а лучше сказать, якобы анализировал, и вдруг, в какой-то момент, я увидел. Не проси меня объяснить, все равно не получится. Я увидел (не всю картину, всего лишь какую-то деталь в глубине холста, фигуру идущего человека). У меня слезы полились из глаз, вот все, что я могу сказать.
5. — Это ничего не доказывает, — сказал Рональд. — Мало ли из-за чего плачут.
4. — Нет смысла тебе отвечать. Она бы поняла меня куда лучше. В сущности, мы все идем по одной и той же дороге, только одни начинают свой путь по левой стороне, а другие по правой. И порой прямо посреди дороги кому-то случается увидеть край стола, покрытого скатертью, где стоит бокал, лежит вилка и есть пара маслин.
3. — Опять заговорил образами, — сказал Рональд. — Как всегда, одно и то же.
2. — Нет другого способа приблизиться к тому, что утеряно или неведомо. А вот она была ближе ко всему этому и чувствовала это. Единственная ее ошибка: она хотела доказательств того, что ее приближение стоило всего нашего красноречия. Никто не мог предоставить ей таких доказательств, во-первых, потому, что мы не способны понять ее, а во-вторых, потому, что, так или иначе, нам и так хорошо и наше коллективное общение нас вполне удовлетворяет. Благодаря Литтре[842] мы можем спать спокойно, он всегда под рукой, с ответами на все вопросы. Так-то оно так, но только мы не умеем задавать вопросы, которые не оставили бы от него камня на камне. Когда Мага спрашивала, зачем деревья летом укрываются листвой… впрочем, бесполезно, старик, лучше заткнуться.
1. — Да, такое объяснить невозможно, — сказал Рональд.
(-34)
143
Утром, упрямо продолжая дремать, не обращая внимания на ужасающее верещание будильника, которому не удавалось добиться от них моментального пробуждения, они со всей откровенностью рассказывали друг другу свои ночные сны. Лежа голова к голове, лаская друг друга, с переплетенными руками и ногами, они пытались перевести на обычный человеческий язык все то, что они пережили во тьме. Травелера, друга юности Оливейры, приводили в восторг сны Талиты и то, как она их рассказывала: губы, которые то кривились, то растягивались в улыбке в зависимости от того, что она говорила, ее жесты и восклицания, которыми она выделяла что-то в рассказе, ее простодушные предположения о причинах ее сновидений и их толковании. Потом наступала его очередь рассказывать, и случалось так, что посредине рассказа его руки начинали ласкать ее, и от снов они переходили к любви, потом снова засыпали и в результате везде опаздывали.
Слушая Талиту, ее голос, чуть охрипший со сна, глядя на ее волосы, рассыпавшиеся по подушке, Травелер удивлялся, как такое может быть.
Кончиком пальца он проводил пальцем по виску и лбу Талиты («И тут моя сестра стала моей тетей Ирэн, но я не уверена»), пытаясь преодолеть барьер, который был всего в нескольких сантиметрах от его собственной головы («А я был голый, вокруг жнивье, а я видел реку мертвенно-белого цвета, которая поднималась гигантской волной…»). Они спали, почти соприкасаясь головами, и тут же, несмотря на эту тесную физическую близость, на схожесть поз, позиций, ритма дыхания, несмотря на то что они были в одной и той же комнате и спали на одной и той же подушке, в одной и той же темноте, под одинаковое для обоих тиканье будильника, жили и действовали на одних и тех же улицах одного и того же города, подверженные одним и тем же магнитным полям, пили кофе одного и того же сорта, и ходили под одними и теми же звездами, и ночь у них была одна на двоих, — несмотря на все это, снилось им разное, они проживали совершенно непохожие события, и, когда он улыбался, она куда-то в ужасе убегала, а когда он снова сдавал экзамен по алгебре, она в это время бродила по городу из белого камня.
О чем бы ни рассказывала утром Талита, о радостном или гнетущем, Травелер упрямо и втайне от нее искал совпадений. Как могло быть, что совместная жизнь днем неизбежно превращалась в какой-то развод, в невыносимое одиночество во сне? Иногда бывало, что он был одним из действующих лиц во сне Талиты или образ Талиты появлялся в кошмарах Травелера. Но сами они этого не знали, надо было, чтобы другой проснулся и рассказал: «И тут ты хватаешь меня за руку и говоришь…» И Травелер вспоминал, что когда он во сне Талиты хватал ее за руку, в своем собственном сне он спал с лучшей подругой Талиты, или разговаривал с директором цирка «Звёзды», или плавал в заливе Мар-де-Плата. Присутствие собственного призрака в чужом сне низводило его самого до уровня рабочего материала, ничем не лучше, чем все эти манекены, незнакомые города, железнодорожные вокзалы, лестницы — все, что применялось в ночных видениях. Соединяясь с Талитой, словно ощупывая губами и пальцами ее лицо и волосы, Травелер чувствовал непреодолимый барьер, бесконечное расстояние, от которого даже любовь не могла спасти. В течение долгого времени он надеялся на чудо, вдруг однажды утром Талита расскажет свой сон, и это будет тот самый сон, который привиделся и ему. Он ждал такого сна, он подманивал его, старался вызвать, обращаясь ко всем аналогиям, какие только были возможны, выискивая хоть что-то похожее, что вдруг привело бы его к узнаванию. Только однажды, причем Талита не придала этому никакого значения, им приснился одинаковый сон. Талита рассказывала о какой-то гостинице, куда она пришла со своей матерью и куда можно было войти только со своим стулом. И тут Травелер вспомнил свой сон: гостиница без ванных комнат и он ходит по какому-то железнодорожному вокзалу с полотенцем в руках, ищет, где бы помыться. Он сказал ей: «Нам приснился почти один и тот же сон, мы были в гостинице без ванных комнат и без стульев». Талита рассмеялась: пора вставать, стыдно быть такими лентяями.
Травелер хоть и продолжал верить и надеяться, но все меньше и меньше. Сны приходили, но с разных сторон для каждого. Головы соприкасались, и в каждой из них поднимался занавес, за которым каждый видел свою сцену. Травелер с иронией подумал, что все это похоже на смежные залы в кинотеатре на улице Лаваль, и перестал надеяться. Он не верил, что произойдет то, чего он так ждет, и знал, что без веры оно уж точно не произойдет. Он знал, если не верить, не произойдет ничего, что должно произойти, да если и верить, тоже далеко не всегда.
(-100)
144
Фимиам, орфические гимны, мускус на первую пробу, да и на вторую… Здесь ты пахнешь сардониксом. А здесь хризопразом. А здесь, подожди. Подожди, вроде немного отдает петрушкой, но только чуть-чуть, совсем маленький кусочек на замшевой коже. А здесь ты пахнешь собой. Нет, правда, как странно, что женщина не может чувствовать свой запах, только мужчине дано чувствовать ее аромат. Вот здесь. Не шевелись, ты мне мешаешь. Ты пахнешь фруктовым желе, медом в коробочке из-под табака, водорослями, хотя это я уже много раз говорил. Водоросли тоже бывают разные, Мага пахла свежими водорослями, только что выброшенными на берег приливом. Или самой волной. Иногда запах водорослей смешивался с еще каким-то густым звучанием, и тогда я должен взывать к извращенности — извращенности, так, скажем, гортани, изыск лихорадочной дрожи, испытанной по велению всепобеждающей ночи, — чтобы приблизить свои губы к ее губам, коснуться кончиком языка легкого розового язычка пламени, мерцающего в темноте, как я сейчас делаю это с тобой, я медленно раздвигаю ее бедра, придвигаюсь к ней и вдыхаю ее бесконечно долго, чувствуя, как ее рука, хотя я не просил ее об этом, с силой отрывает меня от меня самого, так же как пламя, которое начинает пожирать смятую газету, отрывает от нее кусочки сверкающего топаза. И тут кончаются запахи, чудесным образом исчезают, и все становится вкусом, я впиваюсь в нее и чувствую, как ее жизненные соки стекают с моих губ, а дальше — падение в темноту, в primeval darkness,[843] в начало всех начал. Да, это так, в тот момент, когда мы почти становимся животными, когда мы так близко от низменных выделений и механизмов, их выделяющих, тогда и возникают перед нами образы начала и конца всего сущего, и здесь, во влажном гроте твоих каждодневных облегчений, дрожит Альдебаран, вспыхивают гены и созвездия, все от альфы до омеги, ракушка, растение, ребенок, реквием, милениум, Армагеддон[844], террамицин, ох, да замолчи же и не уносись бог весть куда со своими ничтожными образами и сменяющими друг друга отражениями. Какая тишина исходит от твоей кожи, какая это пропасть, где кружатся изумруды игральных костей, комары, и птица феникс, и кратеры вулканов…
(-92)
145
Мореллиана
Цитата:
Таким образом, именно это и послужило фундаментальными, основополагающими и философскими причинами, побудившими меня создать произведение на основе разрозненных отрывков, — если иметь в виду, что любое произведение является частицей творчества, — рассматривая человека как сплав отдельных частей тела и отдельных частей души и все Человечество в целом тоже как смесь отдельных частиц. Но если кто-то мне возразит: мол, эта моя концепция частиц на самом деле никакая не концепция, а сплошное надувательство, шутовство, издевательство и обман и что я, вместо того чтобы следовать строгим правилам и канонам Искусства, пытаюсь насмехаться над ними посредством безответственного ерничанья, высмеивания и всяческих гримас, — я отвечу, да, все это верно, таковы мои намерения и есть. И бога ради, заверяю вас, нимало не колеблясь: единственное мое желание — отделаться от вашего Искусства, господа, как и от вас самих, поскольку терпеть вас не могу, вместе с вашим Искусством, со всеми вашими концепциями, вашей художественной деятельностью и со всей вашей артистической средой!
ГОМБРОВИЧ[845]. Фердидурка. Гл. IV. Предисловие к «Филидору в детском обличье»(-122)
146
Письмо в «Обсервер»:
Уважаемый господин редактор!
Заметил ли кто-либо из ваших читателей, как мало бабочек в этом году? В этих местах, где их обычно в избытке, я их почти не вижу, за исключением нескольких роев капустниц. С начала марта и до сих пор я наблюдал только одну Толстоголовку, ни одной Пухокрылой, всего нескольких Шашечниц, одну Черепахообразную, ни одного Павлиньего Глаза, ни одной Пестрокрыльницы, и даже ни одной Адмиральской Ленты у себя в саду, где прошлым летом было полно бабочек.
У меня вопрос, везде ли так, и если да, то в чем причина этого явления?
М. Уошборп. Питчкомб, Глос(-29)
147
Почему так далеко от богов? Может, потому, что спрашиваем об этом.
Так что с того? Человек — животное спрашивающее. В тот день, когда мы по-настоящему научимся задавать вопросы, получится диалог. А сейчас вопросы и ответы разделяет непомерное расстояние. Какого богоявления мы можем ждать, если задыхаемся в самой фальшивой из свобод — иудейско-христианской диалектике? Нам не хватает Novum organum[846] правды, надо бы настежь открыть окна и выбросить все на улицу, но прежде всего выбросить само окно и нас самих вместе с ним. Нам конец, если мы не поторопимся вылететь отсюда. Это обязательно надо сделать, — как угодно, но надо. Набраться мужества, чтобы явиться посреди праздника и положить на голову блистательной хозяйки дома прекрасную зеленую жабу, подарок ночи, и наблюдать без ужаса месть ее лакеев.
(-31)
148
Об этимологии слова персона, которую дает Габий Басс[847].
Мудрое и изобретательное объяснение, на мой взгляд, дает Габий Басс в своем трактате «О происхождении слов» слову персона, в значении маска. Он считает, что оно происходит от глагола personare — удерживать, сохранять. Вот как он объясняет свою точку зрения: «Поскольку маска не накрывает все лицо целиком, а оставляет отверстие для рта, то звук голоса, вместо того чтобы рассеиваться во всех направлениях, сужается, имея лишь один выход, и оттого становится более проникновенным и сильным.[848] Итак, поскольку маска делает человеческий голос более звучным и глубоким, ее назвали словом персона, и, следуя форме самого слова, звук „о“ в нем является долгим».
Авл Геллий[849]. Аттические ночи(-42)
149
Мои шаги по этой улице Звучат На улице другой Там Слышу я свои шаги И эту улицу я слышу Там Где лишь туман один реален.[850] Октавио Пас(-54)
150
НЕМОЩНЫЕ И БОЛЬНЫЕ
Из больницы графства Йорк сообщают, что вдовствующая герцогиня Грэфтон, которая сломала ногу в прошлое воскресенье, вчера провела день довольно спокойно.
«Санди таймс», Лондон(-95)
151
Мореллиана
Достаточно просто бросить взгляд на поведение кота или мухи, чтобы почувствовать это новое ви́дение, к которому тянется наука, эту деантропоморфизацию, которую так рьяно предлагают нам биологи и физики как единственную возможность связи с такими вещами, как инстинкт или растительная жизнь, и которая есть не что иное, как давний, неуслышанный и настойчивый призыв, с которым выступают некоторые направления буддизма, индийские веды, исламский суфизм[851] и западная мистика, требуя от нас раз и навсегда отринуть понятие смертности.
(-152)
152
ОБМАН СОЗНАНИЯ
Этот дом, где я живу, во всем походит на мой: так же расположены комнаты, тот же запах в прихожей, та же мебель, те же косые лучи солнца по утрам, которые к полудню становится мягче и тают вечером; все то же самое, даже дорожки и деревья в саду, и старая, полу-развалившаяся калитка и патио, мощенный плиткой.
Часы и минуты времени, которое проходит, тоже очень похожи на часы и минуты моей жизни. Когда они крутятся вокруг меня, я говорю себе: «Они похожи на настоящие. Нет, ну как они похожи на настоящие минуты, которые я проживаю в этот момент!»
Я, со своей стороны, упразднил все отражающие поверхности в доме, но когда оконное стекло, которого, как ни крути, не избежать, пытается вернуть мне мое отражение, я вижу в нем кого-то очень на меня похожего. Да, да, очень на меня похожего, это я признаю!
Но только не надо мне говорить, что это я! Будет вам! Здесь все фальшиво. Когда мне вернут мой дом и мою жизнь, тогда ко мне вернется мое настоящее лицо.
Жан Тардье[852](-143)
153
— Вы же из столицы, из Буэнос-Айреса, вот вам и подсунут солового, пока будете хлопать ушами.
— Ну что ж, постараюсь не хлопать ушами.
— И хорошо сделаете.
Камбасерес[853]. Сентиментальная музыка(-19)
154
Так или иначе, но ботинки ступили на линолеум, а нос ощутил сладковато-горький запах антисептического опрыскивателя, а на кровати сидел старик, весь обложенный подушками, будто зацепившись крючковатым носом за воздух, чтобы удержаться в сидячем положении. Бледный как смерть, с кругами под глазами. На температурном листе непонятный зигзаг. И чего ради они пришли надоедать?
Разговора как-то не получалось, мол, аргентинский друг оказался случайным свидетелем происшествия, а французский друг — художник-авангардист, а все больницы — одно сплошное свинство. Морелли, да, писатель.
— Не может быть, — сказал Этьен.
Почему нет, выйдет издание — и-будто-камень-в-воду: плюх, а что дальше, никто не знает. Морелли озаботился сказать им, что всего было продано (и подарено) четыреста экземпляров. Ах да, еще два в Новой Зеландии, волнующая деталь.
Оливейра достал сигарету дрожащей рукой и посмотрел на медсестру, которая согласно кивнула и вышла, оставив их между двумя желтыми ширмами. Они сели в ногах кровати, убрав с нее какие-то тетрадные листки и свернутые в трубочку бумаги.
— Если бы мы видели сообщение в газетах… — сказал Этьен.
— Оно вышло в «Фигаро», — сказал Морелли. — Под короткой строкой об ужасном снежном человеке.
— Надо же, — наконец прошептал Оливейра, — но, с другой стороны, может, и к лучшему, я думаю. А то бы тут собрались все толстозадые старухи, каждая с альбомом для автографа и с баночкой домашнего желе.
— Из ревеня, — сказал Морелли. — Оно самое вкусное. Но все-таки лучше, что не пришли.
— Что касается нас, — сказал, искренне встревожившись, Оливейра, продолжая предыдущую тему, — если наше присутствие для вас обременительно, так вы только скажите. У нас еще будет случай, ну и вообще. Вы ведь понимаете, что я хочу сказать?
— Вы пришли, не зная, кто я. Лично я думаю, вам стоит побыть здесь немного. Палата спокойная, самый большой крикун умолк вчера, в два часа дня. А ширмы вообще замечательные, это врач распорядился поставить, когда увидел, что я пишу. Вообще-то он запретил мне работать, но медсестрички поставили ширмы, и никто меня не беспокоит.
— А когда вас выпишут?
— Никогда, — сказал Морелли. — Мои старые кости останутся здесь, ребята.
— Глупости, — почтительно сказал Этьен.
— Это вопрос времени. Но чувствую я себя хорошо, больше нет проблем с консьержкой. Никто не приносит мне писем, даже из Новой Зеландии, там такие красивые марки. Когда выходит в свет мертворожденная книга, единственный результат — это немногочисленные письма от самых верных читателей. От сеньоры из Новой Зеландии, от юноши из Шеффилда. Франкмасонская ложа в миниатюре, члены которой счастливы тем, что их так мало. Хотя сейчас на самом деле…
— Мне никогда не приходило в голову написать вам, — сказал Оливейра. — Мы с друзьями знаем ваши книги, и нам кажется, что это так… Для меня подобные речи были бы сплошным кошмаром, я думаю, и для вас тоже. Но мы, правда, спорили о ваших книгах ночи напролет, но никогда не думали, что вы здесь, в Париже.
— До прошлого года я жил в Вьерзоне[854]. В Париж я приехал, чтобы поработать в библиотеках. Понятно, что Вьерзон… Издателю было дано указание не давать моего адреса. Бог его знает, как его откопали мои немногочисленные почитатели. Уж очень у меня спина болит, ребятки.
— Нам, пожалуй, лучше уйти, — сказал Этьен. — Мы обязательно придем завтра.
— Она и без вас будет так же болеть, — сказал Морелли. — Давайте закурим, тем более что мне это запрещено.
Речь пошла о том, что надо находить такой язык, который бы не был литературой.
Когда мимо проходила медсестра, Морелли с дьявольским проворством засовывал всю сигарету в рот и смотрел на Оливейру с видом мальчишки, который нарядился стариком, такая прелесть.
…в чем-то он разделял магистральные идеи Эзры Паунда, но без педантизма, и потом, он не путал второстепенные символы с основополагающим значением.
Тридцать восемь и два. Тридцать семь и пять. Тридцать восемь и три. Рентген (написано что-то непонятное).
…понимать, что лишь немногие смогли приблизиться к подобным попыткам, не считая их новой литературной игрой. Benissimo.[855] Беда в том, что еще столького не хватает, а он умрет, не закончив игры.
— Двадцать пятая партия, черные проигрывают, — сказал Морелли, откидывая голову на подушку. Он вдруг стал выглядеть очень старым. — Жаль, партия начиналась интересно. Это правда, что существуют индийские шахматы по шестьдесят фигур с каждой стороны?
— Может быть и такое, — сказал Оливейра. — Бесконечная партия.
— Выигрывает тот, кто завоюет центр. Из такой позиции он владеет полным набором возможностей, и противнику не имеет смысла продолжать игру. Но центр может находиться и в какой-нибудь боковой клетке или даже за пределами доски.
— Или в жилетном кармане.
— Фигуры речи, — сказал Морелли. — Так трудно уйти от них, ведь они так красивы. Женщины ментального процесса, честное слово. Мне бы хотелось лучше понять Малларме, смысл, который он вкладывал в понятия «отсутствие» и «тишина», гораздо глубже, чем просто крайняя степень чего-то, это метафизический тупик. Однажды, в Херес-де-ла-Фронтера[856], я услышал пушечный выстрел на расстоянии двадцати метров, и мне открылся иной смысл тишины. А собаки, которые слышат свист, неразличимый для нашего уха. Я думаю, художник — это вы.
Его руки пришли в движение, он стал собирать тетрадные листки и складывать их один к другому, разглаживая те, что помялись. Время от времени Морелли, не переставая говорить, бросал взгляд на какую-нибудь страницу и присоединял ее к тем, что были сколоты скрепкой. Пару раз он достал из кармана карандаш и пронумеровал страницу.
— А вы пишете, я полагаю.
— Нет, — сказал Оливейра. — Что писать, ведь для этого должна быть хоть какая-то уверенность, что ты действительно жил.
— Существование предшествует сущности[857], — улыбаясь, сказал Морелли.
— Если хотите. Но в моем случае это не совсем так.
— Вы устали, — сказал Этьен. — Пойдем. Орасио, если ты начнешь говорить… Я его знаю, сеньор, это просто ужас.
Морелли продолжал улыбаться и складывать страницы, проглядывал их, что-то сличал, сравнивал. Он опустился немного пониже, чтобы лучше пристроить голову. Оливейра поднялся.
— Это ключ от квартиры, — сказал Морелли. — Я был бы доволен, правда.
— Но получится полный беспорядок, — сказал Оливейра.
— Нет, это не так сложно, как кажется. Вам помогут папки. У каждой свой цвет, номер и буква, целая система. Вы сейчас все поймете. Например, вот эта тетрадка пойдет в голубую папку, в ту часть, которую я называю «посторонней», потому что в ней то, что в стороне от основного текста, игра слов, которая помогает мне лучше ориентироваться. Номер пятьдесят два: нужно всего лишь положить его на положенное ему место, между пятьдесят один и пятьдесят три. Арабская нумерация — самая простая вещь в мире.
— Но вы сами сможете это сделать через несколько дней, — сказал Этьен.
— Я плохо сплю. Да и сам я уже вне этих тетрадных листков. Помогите мне, раз уж вы ко мне пришли. Разложите все по местам, и мне здесь будет хорошо. Эта больница великолепна.
Этьен посмотрел на Оливейру, Оливейра на Этьена и т. д. Можно себе представить их удивление. Такая честь, ничем не заслуженная.
— Затем завяжете все в один пакет и отошлете Паку́. Он издает авангардистские книги, улица Арбр-Сек. А вы знаете, что Паку — это имя Гермеса в Аккаде? Мне всегда казалось… Но поговорим об этом в другой раз.
— Имейте в виду, мы такого можем наворотить, — сказал Оливейра, — что запутаем все окончательно и бесповоротно. С первым томом у нас были ужасные сложности, мы вот с ним часами спорили, не ошиблись ли в типографии, когда текст набирали.
— Ничего страшного, — сказал Морелли. — Мою книгу можно читать как кому вздумается. Liber Fulguralis,[858] мантические листы и прочее в том же роде. Я ведь только хочу сложить все так, чтобы мне захотелось перечитать. В худшем случае все перепутается, но, может, наоборот, это выйдет здорово. Очередная шутка Гермеса-Паку, крылатого любителя розыгрышей и ловушек. Вам нравятся эти слова?
— Нет, — сказал Оливейра. — Ни розыгрыш, ни ловушка. Оба кажутся мне довольно затасканными.
— Надо быть осторожным, — сказал Морелли, закрывая глаза. — Мы все ищем чистоты, выливая из старого мочевого пузыря нечистоты. Однажды Хосе Бергамин[859] чуть не умер, когда я позволил себе сократить у него две страницы, доказывая ему, что… Будьте осторожнее, друзья мои, возможно, то, что мы называем чистотой…
— Квадрат Малевича[860], — сказал Этьен.
— Ессо.[861] Скажем так, надо подумать и о Гермесе, пусть поиграет. Возьмите, приведите это в порядок, раз уж вы ко мне пришли. Может, я смогу бросить на это взгляд оттуда.
— Мы придем завтра, если хотите.
— Ладно, но я уже буду писать о другом. Вы просто с ума сойдете, так что сначала подумайте прежде, чем приходить. Принесите мне «Голуаз».
Этьен отдал ему свою пачку. Оливейра стоял с ключом в руке, не зная, что сказать. Все было не так, этого не должно было произойти сегодня, какая-то вонючая партия в шахматы шестьюдесятью фигурами, неуместная радость посреди глубочайшей печали, надо бы прогнать ее как муху, предпочесть печаль, а он единственное что мог, — это держать в руке ключ к радости, к переходу во что-то, что восхищало его и было ему необходимо, ключ, который откроет дверь Морелли, в мир Морелли, и посреди этой радости он чувствовал себя печальным и нечистым, в шкуре усталого человека с гноящимися глазами, от которого пахло бессонной ночью, виной за то, что кого-то нет, и еще тем, что прошло слишком мало времени, чтобы понять, правильно ли он сделал все, что сделал или не сделал за эти дни, слыша сдавленные вскрики Маги, стук в потолок, ледяной дождь в лицо, рассвет над мостом Мари, горькую отрыжку от вина, смешанного с каньей и водкой и еще с вином, ощущение, что рука, которую суешь в карман, не твоя, это рука Рокамадура, кусочек ночи, из которого сочится слюна, стекая по бедрам, эта радость такая запоздалая, а может быть, преждевременная (утешение: наверное, преждевременная, пока еще незаслуженная, но тогда, может быть, vielleih, maybe, forse, peut-être,[862] ну и дерьмо, вот дерьмо, до завтра, маэстро, дерьмо, бесконечное дерьмо, да, в обычные часы посещений, упорное, нескончаемое дерьмо, лицом в дерьме, и весь мир в дерьме, дерьмовый мир, мы принесем вам фруктов, архидерьмо контрдерьма, супердерьмо инфрадерьма, передерьмо переконтрдерьма, dans cet hôpital Laen-nec découvrit l’ascultation:[863] a может быть, все-таки… Ключ, невыразимый образ. Ключ. Все-таки, может быть, можно выйти на улицу и идти себе, а ключ в кармане. Может быть, все-таки ключ Морелли, поворот ключа, и войдешь в другое измерение все-таки, может быть.
— По сути дела, это посмертная встреча, днем раньше, днем позже, — сказал Этьен, когда они сидели в кафе.
— Да ладно тебе, — сказал Оливейра. — Очень плохо, если ты впадаешь в такое состояние, впрочем, ладно. Предупреди Рональда и Перико, встречаемся в десять на квартире старика.
— Неудачное время, — сказал Этьен. — Консьержка нас не впустит.
Оливейра достал ключ, посмотрел сквозь него на солнце и протянул Этьену так, будто это ключ от города.
(-85)
155
Просто невероятно, сколько всего может высыпаться из карманов брюк: мусор, часы, вырезки из газет, застарелые таблетки аспирина, лезешь в карман за носовым платком — и вдруг вытаскиваешь за хвост дохлую мышь, вполне возможная вещь. Он шел к Этьену, а сон про хлеб все еще не оставлял его, и вдруг воспоминание о другом сне возникло перед ним, как дорожное происшествие, — раз, и ничего не поделаешь, Оливейра сунул руку в карман коричневых вельветовых брюк как раз на углу бульвара Распай и бульвара Монпарнас, поглядывая в то же время на гигантскую скорчившуюся жабу в халате, Бальзак-Роден или Роден-Бальзак[864], запутанное переплетение двух враждебных спиралевидных молний, и вытащил из кармана газетную вырезку с перечнем дежурных аптек Буэнос-Айреса и еще одну, с объявлениями о ясновидящих и гадалках. Было забавно узнать, что сеньора Коломье, венгерская предсказательница (которая вполне могла оказаться одной из матерей Грегоровиуса) жила на улице Абесс и владела secrets des bohèmes pour retour d’affection perdues.[865] Ниже запросто предлагалось нечто великое: Désenvoûtements,[866] после чего объявление о предсказании по фото казалось просто смешным. Этьену, востоковеду-любителю, было бы интересно узнать, что профессор Мин vous offre le vérit. Talisman de l Arbre Sacré de l’Inde. Broch. c. 1 NF timb. B.P. 27, Cannes.[867] А как не удивиться существованию некой мадам Сансон, Medium-Tarots, predict, étonnantes, 23, rue Hermel[868] (особенно если учесть, что Эрмель был, кажется, зоологом, имя у него в самый раз для алхимика), или потешить свою латиноамериканскую гордость коротким и емким объявлением Аниты, cartes, dates précises,[869] Жоана-Жопеса (sic!) Secrets indiens, tarots espagnols,[870] a также мадам Хуаниты, voyante par domino, coquillage, fleur.[871] Надо было обязательно сходить с Магой к мадам Хуаните. Раковина, цветы! Но не с Магой, теперь уже нет. Маге бы очень захотелось узнать судьбу по цветам. Seule MARZAK prouve retour affection.[872] Но какой смысл возвращать то, чего не было? Это и так понятно. Уж лучше строго научный тон Жана де Ни, reprend ses VISIONS exactes sur photos, cheveux, écrit. Tour magnétiste intégral.[873] Дойдя до кладбища Монпарнас, Оливейра скатал из бумажки шарик, тщательно прицелился и послал их всех подальше, к Бодлеру, лежавшему за забором, к Девериа[874], к Алоизиусу Бертрану[875] — к людям, достойным того, чтобы им погадали по руке ясновидящие вроде мадам Фредерик, la voyante de l’élite parisienne et internationale, célèbre par ses predictions dans la presse et la radio mondiales, de retour de Cannes.[876] Че, a еще к Барбе д’Оревильи[877], который сжег бы их всех на костре, если б мог, а также, ну конечно же, а также к Мопассану, а может, к Алоизиусу Бертрану, как узнаешь, если ты по эту сторону забора.
Этьену показалось нелепым, что Оливейра пришел доставать его в такой ранний час, хотя в то же время он ждал его, чтобы показать три свои новые картины, но Оливейра, не успев войти, тут же сказал, что над бульваром Монпарнас висит великолепное солнце и надо воспользоваться случаем, а оттуда пойти в больницу Неккера[878], чтобы навестить старичка. Этьен тихо выругался и запер мастерскую. Консьержка, нежно их любившая, сказала, что оба они похожи не то на мертвецов из могилы, не то на пришельцев из других миров, из чего они заключили, что мадам Бобе читала научную фантастику, и это показалось им большим достижением. Придя в кафе «Курящая собака», они взяли по стакану белого вина, обсуждая, могут ли сны и живопись быть эффективными средствами в борьбе с НАТО и другой бубонной чумой нынешнего времени. Этьену не показалось особенно странным, что Оливейра собирается навестить незнакомого ему человека, оба считали, что это вполне удобно, и т. д. У стойки бара какая-то сеньора восторженно описывала сумерки в Нанте, где, как она говорила, живет ее дочь. Этьен с Оливейрой внимательно выслушали набор слов, состоящий из: солнце, ветерок, живая изгородь, луна, сороки, покой, хромоногая, Господь Бог, шесть тысяч франков, туман, рододендроны, старость, здрасте, я ваша тетя, небесный, чтоб не забылось, горшки с цветами. После чего они полюбовались на мемориальную доску с надписью: «В ЭТОЙ БОЛЬНИЦЕ ЛЭННЕК ОТКРЫЛ АУСКУЛЬТАЦИЮ[879]», и оба подумали (и сказали об этом вслух), что аускультация — это, должно быть, какая-то змея или саламандра, укрывавшаяся в больнице Неккера, за которой, бог знает почему, гонялся по запутанным коридорам и подвалам, пока не настиг ее, задыхающуюся, ученый молодой человек. Оливейра навел справки, и они направились к палате Шоффар, второй этаж, направо.
— К нему, наверное, никто не ходит, — сказал Оливейра. — И вообще, может, это просто совпадение, что его зовут Морелли.
— Пойди узнай, не умер ли он, — сказал Этьен, разглядывая фонтан с красными рыбками в патио.
— Тогда бы мне сказали. А этот тип посмотрел на меня, и все. Мне не хотелось спрашивать, приходил ли кто-нибудь до нас.
— К нему могли прийти и не заглядывая в справочное.
И так далее. Бывают моменты, когда так муторно, или так страшно, или надо подняться на два этажа, а вокруг пахнет фенолом, что начинаешь без умолку нести какую-то занудную чушь, как бывает, когда утешают кого-то, у кого умер ребенок, изобретая наиглупейшие диалоги, садятся рядом с матерью, застегивают ей халат, который немного распахнулся, и говорят: «Ну вот, смотри не простудись». Мать вздыхает: «Спасибо». Ей говорят: «Кажется, что не холодно, а на самом деле в это время начинает рано холодать». Мать говорит: «Да, это правда». Ей говорят: «Ты бы накинула шаль». Нет. Раздел внешнего согревания закончен. Переходим к разделу внутреннего согревания. «Я заварю тебе чай». Нет, не надо, ей не хочется. «Нет, надо, тебе нужно выпить что-нибудь горячее. Нельзя столько времени ни пить, ни есть». Она не знает, сколько прошло времени. «Сейчас девятый час. Ты с половины пятого ничего не ела. А утром ты едва надкусила бутерброд. Надо хоть что-то поесть, хотя бы тост с джемом». Ей не хочется. «Сделай это ради меня. Главное — начать, сама увидишь». Следует вздох, ни да, ни нет. «Вот видишь, ты сама хочешь. Я мигом сделаю тебе чай». Если это не срабатывает, переходят к сиденьям. «Тебе здесь так неудобно, у тебя ногу сведет». Нет, все нормально, «Да нет же, у тебя, должно быть, спина затекла, весь вечер в таком жестком кресле. Ты бы прилегла». Да нет же, не надо. Непонятно почему, кажется, что лечь на кровать — предательство. «Нет, надо, тебе бы хоть немного поспать». Двойное предательство. «Тебе это необходимо, ты увидишь, тебе надо отдохнуть. А я с тобой посижу». Нет, не надо, мне и так хорошо. «Ладно, тогда принесу тебе подушку под спину». Хорошо. «У тебя ноги отекут, я тебе табуретку поставлю, чтобы пристроить ноги повыше». Спасибо. «А потом в постель. Обещай мне». Вздох. «Да, да, не капризничай. Раз доктор велел, ты должна слушаться». И наконец. «Надо поспать, дорогая». Варианты ad libitum.[880]
— Perchance to dream,[881] — прошептал Этьен, который бормотал эту фразу на разные лады, поднимаясь ступенька за ступенькой.
— Надо было купить ему бутылку коньяку, — сказал Оливейра. — Купил бы, у тебя-то деньги есть.
— Да мы же с ним даже не знакомы. А может, он и правда умер. Ты смотри, какая рыженькая, я бы с удовольствием дал ей себя помассировать. У меня иногда бывают фантазии насчет себя больного, и медсестрички рядом. А у тебя?
— Были в пятнадцать лет, че. Что-то ужасное. Амур со шприцем наперевес, на манер стрелы, делает мне внутримышечную инъекцию, а очаровательные девушки моют меня сверху донизу, и я умираю у них на руках.
— Мастурбатор ты, одним словом.
— Ну и что? А почему надо стыдиться мастурбации? Не бог весть какое искусство по сравнению с прочим, но в любом случае оно тоже идет от Бога, и для него тоже нужно единство времени, места и действия и прочие выкрутасы. В девять лет я мастурбировал под сенью дерева омбу[882], — по-моему, очень патриотично.
— Омбу?
— Одна из разновидностей баобаба, — сказал Оливейра. — Я доверю тебе одну тайну, если ты не расскажешь ее больше ни одному французу. Омбу — это не дерево, это просто трава.
— A-а, тогда ладно, тогда это не так серьезно.
— А как мастурбируют французские мальчики?
— Не помню.
— Прекрасно помнишь. У нас целые системы были. Молоточек, зонтичек… Сечешь? Я некоторые танго до сих пор не могу слышать, вспоминаю, как моя тетя играла на пианино, че.
— Не вижу связи, — сказал Этьен.
— Потому что ты не видишь пианино. Между пианином и стеной была ниша, и я туда прятался, чтобы заняться своим делом. Тетушка играла «Милонгиту»[883] или «Черные цветы»[884], что-то очень грустное, и это помогало мне в моих грезах о смерти и принесении меня в жертву. В первый раз, когда я запачкал паркет, это было ужасно, я подумал, что пятно никогда не отчистить. У меня не было даже носового платка. Я стащил с ноги чулок и стал тереть пол, как безумный. Тетушка играла «Пайанку», если хочешь, могу насвистеть, она такая печальная…
— В больнице не свистят. А тебе и так не слишком весело. Ты иногда бываешь отвратителен, Орасио.
— Я этого и добиваюсь, мальчик мой. Король умер, да здравствует король. Если ты думаешь, что из-за женщины… Омбу или женщина, по сути дела, все равно трава, че.
— Дешевка, — сказал Этьен. — Сплошная дешевка. Как в плохом кино, диалоги накручиваются на метры, мы это уже проходили. Стоп, второй этаж. Мадам…
— Сюда, — сказал медсестра.
— Мы так и не встретили аускультацию, — сообщил ей Оливейра.
— Не говорите глупостей, — сказала медсестра.
— Заметь, — сказал Этьен, — сначала тебе не дает покоя сон о плачущем хлебе, потом тебе удается задолбать всех вокруг, а теперь у тебя даже шутки не получаются. Почему бы тебе не убраться куда-нибудь за город на время? У тебя и правда лицо как с картины Сутина[885], братишка.
— По сути дела, — сказал Оливейра, — тебя достает, что я роюсь в твоем барахле и вытаскиваю твои комплексы, твои тридцать три несчастья и еще то, что ты из чувства братской солидарности вынужден таскаться со мной по Парижу на следующий день после похорон. Друг в печали, надо его отвлечь. Друг звонит, надо его утешить, друг говорит о больнице, ладно, придется тащиться.
— Сказать по правде, — произнес Этьен, — ты интересуешь меня все меньше и меньше. С кем надо побыть, так это с бедной Люсией. Ей это действительно необходимо.
— Ошибаешься, — сказал Оливейра, садясь на скамейку. — У Маги есть Осип, есть на что отвлечься, Гуго Вольф и всякое такое. У Маги есть своя внутренняя личная жизнь, мне много времени понадобилось, чтобы это понять. А вот я, наоборот, я пуст и обладаю неограниченной свободой, чтобы мечтать и бродить где хочу. Все игрушки поломаны, никаких проблем. Дай огоньку.
— В больнице нельзя курить.
— We are the makers of manners,[886] че. Это очень полезно для аускультации.
— Палата Шоффар здесь, — сказал Этьен. — Не будем же мы сидеть на этой скамейке целый день.
— Подожди, я докурю.
(-123)
ПРИМЕЧАНИЯ
Роман Кортасара «Игра в классики» («Rayuela») первым изданием вышел в 1963 году в Буэнос-Айресе.
Вероятно, то, что книга Хулио Кортасара, жившего тогда в Париже, впервые увидела свет именно в Аргентине, в данном случае отнюдь не случайность. Аргентинская ностальгическая нота, хотя и скрываемая иронией, ерничеством, «штукачеством», звучит во многих главах романа. («Без юмора моя книга скорее всего была бы просто невыносимой», — скажет автор позже. А незадолго до смерти, уже подводя итоги, в одном из интервью признается: «Я рад, что написал такой роман, как „Игра в классики“».)
Сама тема «двух берегов», Старого и Нового Света, присутствует практически во всех произведениях Кортасара. Писателю довелось жить по обе стороны Атлантики.
Книгу рассказов, написанных в Аргентине в середине 40-х годов и сохранившихся в архиве Кортасара, писатель озаглавил «Другой берег». В те годы Хулио Кортасар обдумывал планы своего отъезда во Францию, и родина («перонистская Аргентина») была для него уже «другим берегом». Уезжая в 1951 году, он думал, что сжигает за собой все мосты. Но в романе 1963 года главам, посвященным Буэнос-Айресу, живущий в Париже Кортасар дает название «С этой стороны». И тем самым подтверждает (что было для него чрезвычайно важно): он — писатель аргентинский. (Позже, в романе «62. Модель для сборки», Кортасар сделал одним из героев свое alter ego — аргентинского писателя Калака, живущего в Европе.) Подтверждает он это и использованием в романе лунфардо — языка жителей Буэнос-Айреса, богатого всяческими словесными играми. (Не знаю, знал ли Кортасар, как переводится на русский язык название его романа, — в России «Игра в классики» вышла первым изданием в 1986 году, уже после смерти автора. Но если бы знал, то как человек, любящий игры со словами, остался бы, скорее всего, доволен переводом, поскольку по-русски это название допускает двойное прочтение…)
Приведу слова Кортасара из его открытого письма кубинскому поэту Роберто Фернандесу Ретамару: «Не кажется ли странным тот факт, что аргентинец, чьи интересы всецело были обращены в молодости к Европе — и до такой степени, что он сжег за собой все мосты и перебрался во Францию, — там, спустя десятилетие, внезапно понял, что он — истинный латиноамериканец? Этот парадокс влечет за собой и еще более серьезный вопрос; не было ли это необходимо — овладеть отдаленной, но более глобальной перспективой, открывающейся из Старого Света, чтобы потом открывать истинные корни латиноамериканизма, не теряя из виду глобальное понимание человека и истории?» И еще цитата из Кортасара — на этот раз из вышедшей посмертно стихотворной книги «Только сумерки»; «Словно Орфей, я столько раз оглядывался назад и расплачивался за это. Я и поныне расплачиваюсь; и все смотрю и смотреть буду на тебя, Эвридика-Аргентина».
Расплатился Кортасар щедро: всем своим творчеством, в том числе и шедевром — «Игрой в классики».
Роман принес Кортасару известность по обе стороны Атлантики. До 1967 года, до появления «Ста лет одиночества» Гарсиа Маркеса, это был самый читаемый в мире латиноамериканский роман. Даже французы, законодатели литературной моды, признали книгу «аргентинца-провинциала» новаторской. Высокую оценку дали ей и кортасаровские собратья по перу; среди них — аргентинец Хорхе Луис Борхес и колумбиец Габриэль Гарсиа Маркес, чилиец Пабло Неруда и кубинец Алехо Карпентьер, венесуэлец Мигель Отеро Сильва и перуанец Марио Варгас Льоса.
Например, Варгас Льоса, вдумчивый читатель и прозорливый критик, писал:
«До появления самого значительного из романов Кортасара — „Игра в классики“ (1963) его творчество было попеременно то реалистическим, то фантастическим, но эти два направления не создали двух манер письма. Автобиографический голос боксера из „Торито“, интеллигентный голос музыковеда из „Преследователя“ — это один и тот же чистый голос. Тот же голос рассказывает, как человек превращается в маленькое водяное животное в „Аксолотле“, и описывает в „Менадах“ концерт, переходящий в жертвоприношение. Это единство идет от стиля, который точно мост перекинут через пропасть, разделяющую в испанском языке устную и письменную речь.
Эти два направления соединяются в романе „Игра в классики“, где не существует границы между реальным и воображаемым. Однако эти два мира не смешиваются, а сосуществуют таким образом, что невозможно указать черту, которая их разделяет. Погружаясь попеременно то в повседневную жизнь, то в чудо, читатель никогда не знает, в какой момент пересекает их границу. Тут все дело в легчайших переменах дыхания повествования, в едва заметном чередовании его ритмов и законов.
Действие происходит в Париже и Буэнос-Айресе, но эпизоды не перемежаются, не подчиняются один другому. Они, если можно так сказать, суверенны, и их связывает между собой только герой по имени Оливейра, загипнотизированный мнимостью современной жизни. Его поступки и мечты — это маниакальный поиск причин этой неподлинности. В Париже он ведет свое исследование среди интеллигентов, таких же, как он, париев, сходящихся в кафе „Клуб Змеи“, а в Буэнос-Айресе — среди людей, социально более интегрированных.
Роман „Игра в классики“ — это открытое произведение со многими дверьми, которые могут служить и входом и выходом, как заблагорассудится читателю. Книгу можно читать двумя способами: „традиционным“ (в этом случае в роман войдет только половина его страниц) и другим, применять который нужно с главы 73, продвигаясь вперед зигзагообразно, согласно указаниям автора. Эти два возможных (и не единственных) способа чтения дают начало разным книгам, ибо, помимо автора и читателя, есть третий герой, чья роль настолько же решающа, насколько неожиданна, для правильного понимания романа. Этот „герой“ занимает целую треть романа и зовется культурой. Кортасар собрал ряд чужих текстов, которые выступают как полноправные главы, так как в сопоставлении с этими стихами, цитатами, газетными вырезками эпизоды меняют перспективу и даже содержание. Культура в ее самом широком понимании ассимилируется, таким образом, художественным повествованием как динамический элемент, который действует внутри повествуемого. Среди современных романов „Игра в классики“ — это, без сомнения, одно из произведений с наиболее оригинальной структурой».
«Мнимость жизни…» В этом — исток кортасаровского романа и связь с первым романом Нового времени — с «Дон Кихотом» Сервантеса.
Коснусь еще одной проблемы, имеющей к примечаниям прямое отношение. Речь пойдет об именах ряда персонажей «Игры в классики».
Прежде всего — Орасио Оливейра.
Орасио — испанская форма имени Гораций. Это — напоминание и о римском поэте, и о персонаже «Гамлета», и о братьях из рода Горациев, что, одержав победу над Куриациями, положили тем самым конец войне между Альба-Лонгой и Римом. Кроме того, Орасио — это имя уругвайского писателя Орасио Кироги (1878–1937), почти всю жизнь прожившего в Аргентине. (О нем Кортасар в своих произведениях писал неоднократно и высоко ценил его творчество.) Рассказы Кироги окрашены фатализмом, их основные темы — зыбкость человеческого существования, патологическая психология (один из его сборников называется «Рассказы о любви, безумии и смерти»). Будучи тяжело больным, Кирога добровольно ушел из жизни. И возможно, попытка самоубийства Орасио Оливейры связана с самоубийством Орасио Кироги.
В основе фамилии Оливейра — слово «олива». Возникают ассоциации и с оливковой ветвью мира (а также мудрости и славы), и с евангельским Гефсиманским садом — горой олив. А в связи с темой Христа отмечу: контур невинных классиков, начертанных мелом на асфальте, напоминает, если присмотреться, крест.
Имя умершего мальчика — Рокамадур — это название городка в юго-западной части Франции. Городок Рокамадур — место паломничества, связанное с культом Девы Марии.
Уругвайку Лусию (мать Рокамадура и подругу Оливейры) в романе называют Магой (женский род от слова «маг»). Тема магии так или иначе проходит через весь роман.
Пианистке, с которой Орасио Оливейра познакомился накануне смерти Рокамадура, автор дал фамилию Трепа. Эта фамилия — омоним архаического французского слова, означающего «смерть». К тому же в числе произведений, которые «синтезировала» Берт Трепа, — «Пляска смерти» Сен-Санса.
Фамилия «старика Труя» — это фамилия французского художника-сюрреалиста Кловиса Труя (1889–1970). Сюрреализмом (и в поэзии, и в живописи) Кортасар интересовался всю жизнь.
Как представляется, уже эти «фамильные» метафоры хорошо демонстрируют тот поэтически-ассоциативный метод, каким пользовался Кортасар при работе над романом.
Большое значение имеет также ассоциативная связь с произведениями других авторов — прежде всего с новеллами Хорхе Луиса Борхеса (1899–1986), которого Хулио Кортасар неизменно называл своим литературным учителем.
Автор примечаний приносит благодарность за помощь Алексею Балакину, Александру Гузману, Борису Дубину и Галине Соловьевой.
Виктор Андреев
Примечания Виктора Андреева отмечены *
Примечания
1
* Примечания Виктора Андреева
* Мартини Антонио (1720–1809) — итальянский церковный деятель и писатель.
(обратно)2
* Святой Кайетано (1480–1547) — итальянский религиозный деятель. В 1524 году основал Орден театинцев.
(обратно)3
* Грапа — виноградная водка.
(обратно)4
* Бруто Сесар (?—1984) — аргентинский писатель-сатирик, художник-карикатурист.
(обратно)5
* Пес Святого Бернардо — то есть сенбернар.
(обратно)6
Ничто так не убивает в вас человека, как необходимость представлять какую-нибудь страну (фр.).
(обратно)7
* Ваше Жак (1896–1919) — французский писатель-дадаист.
(обратно)8
* Бретон Андре (1896–1966) — французский писатель, основатель дадаизма и сюрреализма.
(обратно)9
* Брак Жорж (1882–1963) — французский художник, основатель кубизма.
Гирландайо Доменико (1449–1494) — итальянский художник.
Эрнст Макс (1891–1976) — французский художник-сюрреалист.
(обратно)10
* Валькирия — в скандинавско-германской мифологии: дева, дарующая победу в битвах и уносящая павших героев во дворец бога Одина. «Валькирия» — опера Вагнера (о нем в кор-тасаровском романе говорится неоднократно).
(обратно)11
«Море, что вероломней летом, чем зимой» (фр.).
* Иронический парафраз строки из «Мемуаров» французского хрониста Жана де Жуэнвиля (1224–1317). В «правильном» переводе: «море, что вероломней зимой, чем летом».
(обратно)12
* Гензель и Гретель — персонажи одноименной сказки братьев Гримм. Ее сюжет лег в основу стихотворения немецкого поэта Фридриха Рюккерта (1788–1866), вошедшего в вокальный цикл «Песни об умерших детях» Густава Малера (1860–1911), — этим вводится одна из важнейших сквозных тем романа, связанная с мальчиком Рокамадуром.
(обратно)13
* Буль-Миш — обиходное название бульвара Сен-Мишель.
(обратно)14
* Фигари Педро (1861–1938) — уругвайский поэт и художник (изображал в основном жизнь негров).
(обратно)15
* …пауком Клее… — Клее Пауль (1879–1940) — швейцарский и немецкий художник-экспрессионист, сюрреалист, абстракционист. Для картин Клее характерны паукообразные пятна.
(обратно)16
* …круг Миро… — Миро Хуан (Жоан; 1893–1983) — испанский (каталонский) художник-сюрреалист и абстракционист. Ряд его работ посвящен цирку. (Тема цирка развита Кортасаром во второй части романа.)
(обратно)17
* Виейра да Силва Мари-Элен (1908–1992) — французская художница (родом из Португалии).
(обратно)18
* Ллойд Гарольд (1893–1971) — американский киноактер.
(обратно)19
* Пабст Георг Вильгельм (1885–1967) — немецкий кинорежиссер.
Ланг Фриц (1890–1976) — немецкий и американский кинорежиссер.
(обратно)20
* «Одеон» — парижский театр. Открыт в 1797 году. С 1959 года официально называется «Театр Франции».
(обратно)21
* Олаваррия — город в Аргентине (в провинции Буэнос-Айрес).
(обратно)22
* Альбертина — героиня романной эпопеи Марселя Пруста (1871–1922) «В поисках утраченного времени», возлюбленная главного героя.
(обратно)23
* Флорест — район Буэнос-Айреса.
(обратно)24
* Патафизика — слово, придуманное французским писателем Альфредом Жарри (1873–1907). Сам он определял патафизику как науку об исключениях, как «описание мира, который можно увидеть, а вероятно и должно увидеть, на месте традиционного». После смерти Жарри в Париже был создан Коллеж патафизики — нечто вроде «шутейного Ордена» с пародийными ритуалами, званиями и регалиями. Вскоре после публикации «Игры в классики» Хулио Кортасар был избран членом этого Коллежа.
(обратно)25
* Мальдорор — герой книги «Песни Мальдорора» французского поэта Лотреамона (Исидора Дюкасса; 1846–1870). Лотреамон родился в Монтевидео.
(обратно)26
* Мельмот-Скиталец — заглавный герой романа Чарлза Метьюрина (1780–1824). Во второй главе первой части романа Метьюрина его герой назван Травелером (странником, путешественником). Травелером назван и один из главных героев второй части кортасаровского романа.
(обратно)27
* Людвиг ван — Бетховен.
(обратно)28
* …о тотемах и табу… — Отсылка к труду Зигмунда Фрейда (1856–1939) «Тотем и табу».
(обратно)29
* …жуков-скарабеев… — Навозные жуки-скарабеи в Древнем Египте считались священными.
(обратно)30
* Бельвиль, Пантэн — северо-восточные районы Парижа, населенные в основном бедняками и иммигрантами.
(обратно)31
* …в стиле Второй империи. — Вторая империя — 1852–1870 годы (правление Наполеона III).
(обратно)32
* «Порги и Бесс» — джазовая опера американского композитора Джорджа Гершвина (1898–1937).
(обратно)33
* Элеонора Аквитанская (1122–1204) — королева Франции и Англии, мать Ричарда Львиное Сердце, покровительница поэтов.
(обратно)34
* Вольф Гуго (1860–1903) — австрийский композитор, автор многочисленных песен.
(обратно)35
Следовательно (лат.).
(обратно)36
* …из всем известного изречения… — отсылка к философскому афоризму Рене Декарта (1596–1650) «Cogito ergo sum» («Я мыслю, следовательно, существую»). Полностью либо частично, вполне серьезно либо иронически, этот афоризм проходит через весь роман Кортасара.
(обратно)37
Холодный джаз (англ.).
* Cool jazz («холодный» джаз) — направление в джазовой музыке, возникшее в конце 40-х годов XX века (в противоположность «горячему» джазу).
(обратно)38
* Кьеркегор Сёрен (1813–1855) — датский философ, теолог, писатель.
(обратно)39
* Манихейство — религиозное учение, возникшее на Ближнем Востоке и названное по имени его основателя Мани (216–274). В его основе — идея извечного сосуществования и противоборства в мире и человеке двух начал: света и тьмы, добра и зла.
(обратно)40
* Кочабамба — город в Боливии; улица в Буэнос-Айресе.
(обратно)41
* Бибоп (боп) — стиль джазовой музыки, возникший в начале 1940-х годов, для которого характерно стремление к повышенной выразительности, импровизационное начало и т. д. Одним из создателей бибопа был американский музыкант Чарлз Паркер.
(обратно)42
* «Пуп земли» — Омфалос (букв.: пуп) — священный камень в дельфийском храме бога Аполлона; фигурально — центр мира.
(обратно)43
* Ортега — Хосе Ортега-и-Гассет (1883–1955), испанский философ, эссеист. В 1939–1945 годах жил в Аргентине.
Шелер Макс (1874–1928) — немецкий философ, один из создателей философской антропологии.
(обратно)44
* Мате (парагвайский чай) — тонизирующий напиток, популярный в юго-восточных странах Латинской Америки. Приготовляется из высушенных и измельченных листьев и стеблей дерева йерба-мате. Пьют мате из специальной посуды, которую чаще всего называют тоже мате.
(обратно)45
* Гайдн Йозеф (1732–1809) — австрийский композитор.
(обратно)46
* Росарио — город в Аргентине.
(обратно)47
* Митре Бартоломе (1821–1906) — аргентинский военный и политический деятель, историк, публицист. Президент Аргентины в 1862–1868 годах.
(обратно)48
* Крито-микенская культура — древнегреческая культура эпохи бронзы.
(обратно)49
* Клошар (фр.) — бродяга, бездомный, бомж.
(обратно)50
* Тупак Амару (1544–1572) — вождь индейского народа инков, один из руководителей борьбы индейцев Перу с испанскими конкистадорами.
(обратно)51
Я же вам говорю! (ит.)
(обратно)52
* «Я знаю только то, что ничего не знаю» — исходная установка философских рассуждений Сократа. (Сократ вынужден был покончить жизнь самоубийством, выпив цикуты.)
(обратно)53
* «Сан-Лоренсо», «Бока Юниоре» — аргентинские спортивные клубы.
(обратно)54
Душа, скиталица нежная (лат.).
* «Animula vagula blandula» — первая строка эпитафии римского императора Адриана (76—138). Эта строка вынесена в эпиграф к восьмой главе упоминаемого чуть ниже романа Патера «Марий-эпикуреец», а также к переведенному Кортасаром роману Маргерит Юрсенар (1903–1987) «Воспоминания Адриана». Реминисценции этой строки можно найти также в стихах Элиота, Паунда, Сернуды и др.
(обратно)55
Что делать? (ит.)
* Cosa facciamo? — Так как эти слова идут вслед за упоминанием гончаровского Обломова, то они, вероятно, иронический намек на роман Чернышевского «Что делать?» и на одноименную работу Ленина.
(обратно)56
Гамлет, отомсти! (англ.)
* Hamlet, revenge! — Шекспир. «Гамлет», I, 5.
(обратно)57
* …в стиле «чиппендейл»… — Чиппендейл Томас (1718–1779) — английский мебельный мастер.
(обратно)58
* Сириец… похвалил Марфу… — ироническая отсылка к Евангелию (см.: Лука. 10: 41–42).
(обратно)59
* Арджуна — царь-воин из индийского мифологического эпоса «Махабхарата», заколебавшийся перед решающим боем и ободренный его возничим, богом Кришной.
(обратно)60
* …жизнь среди опасностей… — цитата из книги Фридриха Ницше (1844–1900) «Веселая наука».
(обратно)61
* Марий-эпикуреец — заглавный герой романа английского писателя Уолтера Патера (1839–1894).
(обратно)62
* Хиллари Ричард (1917–1943) — английский военный летчик.
Кио — герой романа французского писателя Андре Мальро (1901–1976) «Условия человеческого существования», китайский революционер-подпольщик.
Лоуренс Томас-Эдуард (Лоуренс Аравийский, 1888–1935) — английский разведчик на арабском Востоке.
(обратно)63
* Кабраль Хуан Баутиста (1789–1813) — сержант, герой Войны за независимость испанских колоний в Америке (1810–1826). Погиб, спасая Хосе де Сан-Мартина в бою под Сан-Лоренсо.
(обратно)64
* При чем тут святой Фома? — Мага смешивает Фому Аквинского с апостолом Фомой. Возможно, что эта путаница — отсылка к упоминаемому далее роману французского писателя-сюрреалиста Рене Кревеля (1900–1935) «Вы в своем уме?».
(обратно)65
По методике Питмана (англ.).
* Питман Исаак (1813–1897) — английский педагог и лексикограф.
(обратно)66
* Мар-де-Плата — город в провинции Буэнос-Айрес.
(обратно)67
* …вывеска часовщика… — начало сквозного мотива, развитого далее в главе 28 (часовщик с шестого этажа и его стук — как бетховенские удары Судьбы) и завершающегося в главе 67 образом Часовщика Господня.
(обратно)68
* Пантеон — одна из достопримечательностей Парижа (на холме Сент-Женевьев). Памятник архитектуры. Построен по проекту архитектора Жермена Суффло (1713–1780) в 1758–1790 годах. Усыпальница многих выдающихся людей Франции.
(обратно)69
* Грегоровиус — это фамилия персонажа из новеллы Борхеса «Секта Феникса», а также фамилия немецкого историка Фердинанда фон Грегоровиуса (1821–1891).
(обратно)70
* Сен-Жермен-де-Пре — район в центральной части Парижа. В 40—50-е годы XX века в кабачках и кафе этого района любили собираться молодые музыканты, артисты, художники, философы, поэты.
(обратно)71
Баржи (фр.).
(обратно)72
* Ретиф де ла Бретонн Никола (1734–1806) — французский писатель.
(обратно)73
* Че — характерное аргентинское словечко: междометие и обращение к собеседнику.
(обратно)74
* Монтескье Шарль Луи (1689–1755) — французский философ-просветитель.
Радиге Раймон (1903–1923) — французский писатель.
Готье Теофиль (1811–1872) — французский поэт и прозаик.
(обратно)75
* …как стреляют из лука по системе дзен. — Отсылка к притче из древнекитайского трактата «Чжуан-Цзы», где говорится о мастере, чей секрет попадания в цель состоит именно в том, чтобы в нее не целиться.
(обратно)76
* Фоконье Анри (1879–1955) — французский писатель.
(обратно)77
* Индетерминизм — философское учение, отрицающее причинную обусловленность явлений природы и общества.
(обратно)78
* Морелли — Фамилия кортасаровского героя отсылает к фантастическому роману аргентинского прозаика Адольфо Бьой Касареса (1914–1999) «Изобретение Мореля» и к новелле Борхеса «Жестокий освободитель Лазарус Морель».
(обратно)79
* …стеклянный шар, где микро- и макрокосмос соединились бы… — символ откровения из новеллы Борхеса «Алеф».
(обратно)80
Пятый округ (фр.).
(обратно)81
Шестой (фр.).
(обратно)82
Седьмой (фр.).
(обратно)83
* …очерк Тургенева… — речь идет об очерке Тургенева, в котором он описал казнь (19 января 1870 года) французского уголовного преступника Жана-Батиста Тропмена.
(обратно)84
* Петио, Вайдманн, Джон Кристи — уголовные преступники. Кортасар писал о них в одном из очерков своей книги «Вокруг дня на восьмидесяти мирах» (1966).
(обратно)85
* Сиенская школа — итальянская живописная школа XIII–XIV веков. Работы мастеров этой школы — синтез византийского канона с новыми веяниями европейской готики.
(обратно)86
* Пасифая — в греческой мифологии: жена критского царя Миноса, из мести которому бог Посейдон заставил ее совокупиться с быком (вследствие этого на свет появился Минотавр). Своеобразную интерпретацию мифа о Минотавре Кортасар дает в своей драматической поэме «Цари» (1947).
(обратно)87
* Томас Дилан (1914–1953) — английский поэт. В произведениях Кортасара упоминается неоднократно.
* Мориак Франсуа (1885–1970) — французский писатель, лауреат Нобелевской премии (1952).
* Фолкнер Уильям (1897–1962) — американский прозаик, лауреат Нобелевской премии (1949). Оказал существенное воздействие на авторов «нового латиноамериканского романа» (более всего — на Гарсиа Маркеса).
* Бодлер Шарль (1821–1867) — французский поэт, критик, переводчик. На творчество Кортасара оказал влияние и как оригинальный поэт, и как переводчик Эдгара По.
* Арльт Роберто (1900–1942) — аргентинский писатель. Значение его творчества для аргентинский литературы XX века Кортасар определил так: «Все мы вышли из Роберто Арльта».
* Святой Августин (354–430) — христианский богослов, церковный деятель.
(обратно)88
* Рио-Плата — залив, на берегах которого расположены Буэнос-Айрес и Монтевидео.
(обратно)89
Все время, непрерывно (англ.).
(обратно)90
* Панч и Джуди — персонажи английского кукольного театра.
(обратно)91
* …романс без слов. — Отсылка к сборнику Верлена «Романсы без слов».
(обратно)92
550 франков за штуку (фр.).
(обратно)93
* Джотто ди Бондоне (1266–1337) — итальянский художник.
(обратно)94
* Тулуз-Лотрек Анри де (1864–1901) — французский художник.
(обратно)95
* Дуино — замок на побережье Адриатики, где многие годы жил австрийский поэт Райнер Мария Рильке (1875–1926).
(обратно)96
* Тирсо де Молина (наст. имя — Габриэль Тельес; 1571–1648) — испанский драматург.
(обратно)97
* Черный свет — образ скрытого божества в учениях гностицизма, алхимии, каббалы. Встречается во многих произведениях мировой литературы (начиная с Данте).
(обратно)98
* Мондриан Пит (1872–1944) — нидерландский художник-абстракционист.
(обратно)99
Льет как из ведра (фр.).
(обратно)100
* Мендоса Педро де (1487–1537) — испанский конкистадор, основатель Буэнос-Айреса (1535).
(обратно)101
Как дела? (фр.)
(обратно)102
И правда, льет как из ведра (фр.).
(обратно)103
Валите отсюда, нашли время трахаться (фр.).
(обратно)104
Заткни глотку. Давайте поднимайтесь, не мешайте нам. Давай твои губы, сокровище мое (фр.).
(обратно)105
Вот скотина (фр.).
(обратно)106
Без сопровождения (ит.).
(обратно)107
Черт возьми (англ.).
(обратно)108
* Бикс — прозвище американского джазового музыканта Леона Бейдерберка (1903–1931).
(обратно)109
* Ланг Эдди (1904–1933) — американский джаз-гитарист.
(обратно)110
* Виргиния (Вирджиния) — это и имя собственное, и название североамериканского штата.
(обратно)111
* Гетц Стэнли (Стэн; 1927–1991) — американский саксофонист.
(обратно)112
* Мариас Хулио (р. 1914) — испанский философ.
(обратно)113
* Янг Лестер (1909–1959) — американский джазовый музыкант.
(обратно)114
* Поситос — район Монтевидео, примыкающий к заливу Ла-Плата.
(обратно)115
* см. прим. 25
(обратно)116
* Уэллс Уильям (Дикки; 1909–1985) — американский джазовый композитор, музыкант, певец.
* Баскин Джозеф (Джо; р. 1916) — американский джазовый композитор и пианист.
* Колмэн Уильям (Билл; 1904–1981) — американский джазовый певец и трубач.
* Симмонс Джон (1918–1979) — американский джазовый музыкант.
* Джонс Джонатан (Джо; 1911–1985) — американский джазовый музыкант.
(обратно)117
Ну что вы за дерьмо такое (фр.).
(обратно)118
* Хэмптон Лайонел (1909–2002) — американский джазовый музыкант, вибрафонист.
(обратно)119
* Мак-Каллерс Карсон (1917–1967) — американская писательница, представитель «южной готики».
Миллер Генри (1891–1980) — американский прозаик.
Кено Раймон (1903–1976) — французский писатель.
(обратно)120
Я бежал от него (англ.).
* I fled Him — первая строка стихотворения английского поэта Френсиса Томпсона (1859–1907) «Небесный пес». А также — отсылка к поэме Джона Мильтона «Потерянный рай» (песнь одиннадцатая).
(обратно)121
* …иной так высоко взлетит… — из стихотворения испанского поэта-мистика Сан-Хуана де ла Круса (1542–1591).
(обратно)122
* Трансильвания — область на севере Румынии, с которой связаны многочисленные легенды о вампирах.
(обратно)123
* ...лютецианском климате. — Лютеция — древнее название Парижа.
(обратно)124
* Хокинс Колмэн (1904–1969) — американский джазовый саксофонист.
(обратно)125
* Диззи — прозвище американского джазового трубача Джона Беркса Гиллеспи (1917–1993).
(обратно)126
* Уайтмен Пол (1890–1967) — американский музыкант, создатель одного из первых в мире симфоджазоркестров.
(обратно)127
* Смит Бесси (1895–1937) — американская джазовая певица.
(обратно)128
Я хочу быть чьей-нибудь куколкой (англ.).
(обратно)129
* Бакелит — синтетическая смола.
(обратно)130
* Сатчмо — прозвище Луи Даниэла Армстронга (1900–1971). Кортасар писал об Армстронге неоднократно и называл его «величайшим хронопом».
(обратно)131
Не надо дешевки бэби, Я смирный только на вид (англ.). (обратно)132
Вот так вот (фр.).
(обратно)133
* …за воспитанием чувств. — Отсылка к роману Гюстава Флобера «Воспитание чувств».
(обратно)134
* Пардо Басан Эмилия (1852–1921) — испанская писательница. В ее творчестве ощутимо влияние французского натурализма.
(обратно)135
* Колтрейн Джон (1926–1967) — американский джаз-саксофонист.
(обратно)136
* Беше Сидни (1887–1959) — американский джазовый композитор и исполнитель (кларнет, саксофон).
(обратно)137
* …китайца Мирбо. — Мирбо Октав (1848–1917) — французский писатель. Автор книги о Китае «Сад пыток» (1899).
(обратно)138
* …улыбку Чеширского кота… — Чеширский кот — персонаж английского фольклора и сказочной повести Льюиса Кэрролла (1832–1898) «Алиса в стране чудес».
(обратно)139
* Брунзи Уильям (прозв. Большой Билл; 1893–1958) — американский певец и гитарист.
(обратно)140
Посмотри, всадник, посмотри, что ты наделал (англ.).
(обратно)141
* Рейт Гертруда (прозв. Ma; 1886–1939) — американская певица, исполнительница блюзов.
Уоллер Фэтс (1904–1943) — американский джазовый композитор, пианист, певец.
(обратно)142
* Баб-эль-Мандеб — пролив, соединяющий Красное море с Аденским заливом и Аравийским морем.
Вардар-Инга — селение в Македонии.
(обратно)143
Отдохни. Выпей, солнце мое, и не доставай ты меня всем этим (англ.).
(обратно)144
* «Blue Interlude» — джазовая композиция, записанная в 30-х годах ансамблем Бенни Картера. В записи действительно принимали участие все перечисленные Кортасаром музыканты: Берри, Уилсон, Хокинс.
* Картер Бенни (Беннетт Лестер; 1907—?) — американский джазовый композитор, саксофонист, трубач.
* Берри Чью (1910–1941) — американский джазовый музыкант.
* Уилсон Теодор (Тедди; 1912–1986) — американский джазовый пианист.
* Хокинс — см. примеч. 124.
(обратно)145
* Мандрагора — южное травянистое растение с корневищем, напоминающим человеческую фигуру (поэтому считавшееся колдовским).
* Банту — группа народов Южной Африки.
(обратно)146
* Пали — священный язык населения острова Цейлон (разновидность санскрита), на котором Будда излагал свое учение.
(обратно)147
* Дюпре Джек (наст. имя — Уильям Томас; 1910–1992) — американский джазовый певец и пианист.
(обратно)148
Прощайся навеки с виски И джину скажи прощай, Прощайся навеки с виски И джину скажи прощай. Нас ждут подводные рифы, любовных историй край (англ.). (обратно)149
Так и есть (англ.).
(обратно)150
Если ты белый — ты всегда прав. Если смуглый — так на так. Но если ты черный, не найти тебе правды Нигде и никак, нигде и никак (англ.). (обратно)151
* Площадь Независимости — площадь в Буэнос-Айресе.
(обратно)152
* Сальто — город в провинции Буэнос-Айрес.
(обратно)153
* …совсем близко у реки… — В Монтевидео и в Буэнос-Айресе залив Рио-де-ла-Плата называют рекой. (Рио-де-ла-Плата — букв.: Серебряная река.)
(обратно)154
«Ученые записки университетов Франции» (фр.).
(обратно)155
Заткнись (фр.).
(обратно)156
* «Hot and Bothered» — блюз, исполнявшийся Эдуардом (Дюком) Эллингтоном (1899–1974).
(обратно)157
* Кокс Ида (Бэби; 1899–1967) — американская джазовая певица.
(обратно)158
* Ходжес Джон (Джонни; 1906–1970) — американский джазовый композитор, саксофонист.
(обратно)159
Свинг, следовательно (лат.).
(обратно)160
На свете существует только свинг, все остальное ничего не значит (англ.).
(обратно)161
«Лови мгновение» (лат.).
* Carpe diem — из Первой оды Горация.
(обратно)162
Ты так прекрасна, но придет и твой час, Ты так прекрасна, но придет и твой час, Хочу одного — любви чуть-чуть, пока не ушла ты во мрак (англ.). (обратно)163
Не хочу умирать, не поняв, зачем же я жил (фр.).
* «Je ne veux pas mourir…» — цитата из романа французского писателя Рене Домаля (1908–1944) «Гора Аналог».
(обратно)164
* Хайнс Эрл (1903–1983) — американский джазовый композитор, пианист и певец.
(обратно)165
Никого у меня нет, и некому позаботиться обо мне (англ.).
(обратно)166
Ты рядом, любовь моя, и мне ничего не надо — только быть в тебе (фр.).
* цитата из книги французского поэта, лауреата Нобелевской премии Сен-Жон Перса (1887–1975) «Ориентиры».
(обратно)167
* Пьеро делла Франческа (1420–1492) — итальянский художник.
(обратно)168
* Гуайава — плод одноименного дерева из семейства миртовых, растущего в Южной Америке.
(обратно)169
* Мортон Фердинанд (прозв. Джелли Ролл; 1885–1941) — американский пианист, певец.
(обратно)170
Пока стояла на углу, насквозь промочила ноги… (англ.)
(обратно)171
Двести девятнадцатый увез от меня мою бэби… (англ.)
(обратно)172
Двести семнадцатый однажды привезет мне ее обратно (англ.).
(обратно)173
Не можешь дать доллар, дай хоть вшивые десять центов (англ.).
(обратно)174
Не можешь дать миллион, дай хоть вшивую тысячу (англ.).
(обратно)175
* Пизанелло (наст. имя — Антонио ди Пуччи ди Черрето; 1395–1455) — итальянский художник, медальер.
(обратно)176
* Шёнберг Арнольд (1874–1951) — австрийский композитор, основоположник атональной музыки.
(обратно)177
* Роллинс Сонни (р. 1929) — американский джазовый музыкант (сакс-тенор).
(обратно)178
* Поллок Джексон (1912–1956) — американский художник-абстракционист.
(обратно)179
* Тоби Марк (1890–1976) — американский художник.
(обратно)180
* «Stack O’Lee Blues» — песня, исполнявшаяся Сидни Беше (см. примеч. 136), а в 1927 г. — Дюком Эллингтоном. Написана в 1924 году Реем Лопесом и Лью Колуэллом и представляет собой один из почти двухсот вариантов знаменитой разбойничьей баллады.
(обратно)181
Черное дно (англ.).
(обратно)182
* Мендоса — город в Аргентине. В этом городе Кортасар в 40-е годы работал школьным учителем.
(обратно)183
* Кеппард Фредди (1889–1933) — американский джазовый трубач.
* Джонсон Уильям Джерри (прозв. Банк; 1879–1949) — американский джазовый музыкант.
* Бикс — см. примеч. 108.
* Монк Телониус (1917–1982) — американский джазовый пианист.
* Силвер Орас (р. 1928) — американский джазовый композитор и пианист.
* Джонс Тадеус (Тэд; 1923–1986) — американский джазовый трубач, композитор.
* Гарнер Эррол (1921–1977) — американский джазовый певец, пианист.
* Тэтум Артур (Арт; 1910–1956) — американский джазовый пианист.
(обратно)184
* «Star Dust» («Звездная пыль») — джазовая композиция, написанная в 1927 году Хоглэндом Кармайклом (1899–1981) на слова Митчелла Пэриса. Исполнялась многими джазовыми музыкантами.
(обратно)185
* Фицджералд Элла (1918–1996) — американская джазовая певица.
(обратно)186
* Кларк Кеннет (Кенни; 1914–1985) — американский джазовый барабанщик, один из столпов бибопа.
(обратно)187
* Перпиньян — город на юго-западе Франции.
(обратно)188
* Питерсон Оскар (р. 1925) — американский джазовый композитор, пианист и певец.
(обратно)189
Куда б ни пришел, я всюду мечтаю о том, что за тысячи миль от меня, Куда б ни пришел, я всюду мечтаю о том, что за тысячи миль от меня. Блюз надрывает мне душу, им я болею, уж и не помню, с какого дня (англ.). (обратно)190
* Джелли Ролл — см. примеч. 169.
(обратно)191
* Эхнатон (Аменхотеп IV) — египетский фараон в 1368–1351 годах до P. X.
(обратно)192
* Картезий — латинизированная фамилия французского философа Рене Декарта (1595–1650).
(обратно)193
* Мандала — символическая модель мира в буддийской мифологии: круг с вписанным в него квадратом, куда вписан еще один, меньший, круг. В качестве универсального первообраза исследовалась Карлом Юнгом и другими мифологами. «Мандала» — так Кортасар хотел назвать сначала свой роман, получивший окончательное название «Игра в классики».
(обратно)194
* «Машкульские волчицы» — роман Александра Дюма-отца.
(обратно)195
* Бриссе Жан-Пьер (1837–1913) — французский писатель, лингвист.
(обратно)196
Проклясть язык (англ.).
(обратно)197
* Человек произошел от лягушки… — эта фраза есть и в романе Ильи Эренбурга «Трест Д. Е.» (1923).
(обратно)198
Слепой, как летучая мышь, пьяный, как мотылек (англ.), пропащий, как король перед вратами, что ведут, быть может… (фр.)
(обратно)199
* Додс Джонни (1892–1940) — американский джазовый музыкант.
Николс Альберт (1900–1973) — американский джазовый музыкант.
(обратно)200
Врата восприятия Олдли Хаксдоса. Возьми щепотку травки, братишка, — поимеешь и кайф, и диарею (англ.).
* Врата восприятия Олдли Хаксдоса. — «Врата восприятия» (1954) — книга Олдоса Хаксли (1894–1963) с описанием его мескалиновых опытов. Олдли Хаксдос — иронически анаграммированные его имя и фамилия.
(обратно)201
* Синглтон Артур Джеймс (прозв. Зутти; 1898–1975) — американский джазовый музыкант.
(обратно)202
Роза есть роза, апрель — самый суровый месяц (англ.).
* A rose is a rose is a rose — фраза, неоднократно встречающаяся в произведениях американской писательницы Гертруды Стайн (1874–1946). Своего рода антисимволистское кредо.
* April is the cruellest month — первая строка поэмы англо-американского поэта, лауреата Нобелевской премии Томаса Стернза Элиота (1888–1965) «Бесплодная земля».
(обратно)203
О, бойся Бармаглота, сын! (англ.)
* цитата из «Алисы в Зазеркалье» Льюиса Кэрролла (пер. Д. Орловской).
(обратно)204
* …одно слово, литература. — Намек на заключительную строку стихотворения Поля Верлена «Искусство поэзии»: «Все прочее — литература» (пер. Б. Пастернака).
(обратно)205
Немецкая фирма грампластинок (нем.).
(обратно)206
* Патер — см. примеч. 54.
(обратно)207
Целебный мате, собранный индейцами (фр.).
(обратно)208
* Франциск I (1494–1547) — французский король с 1515 года.
(обратно)209
* Паре Амбруаз (1509–1590) — французский врач.
(обратно)210
* Вьямонте — улица в Буэнос-Айресе. Названа в честь аргентинского военного и политического деятеля Хуана Хосе Вьямонте (1774–1843).
(обратно)211
* Касерос — западное предместье Буэнос-Айреса, где 3 февраля 1852 года армия генерала Хусто Хосе де Уркисы (1801–1870) одержала победу над войсками аргентинского диктатора Хуана Мануэля Росаса (1793–1877).
(обратно)212
* Хоуп Боб (р. 1903) — американский комический актер.
(обратно)213
* Неизвестная женщина… — это также заглавие новеллы французского писателя Жюля Сюпервьеля (1884–1960) из книги «Дитя прилива». (Сюпервьель родился в Монтевидео.)
(обратно)214
* Дао (Путь) — центральное понятие-символ в философии даосизма: исток и закон всего сущего.
(обратно)215
* Аверроэс (Ибн Рушд; 1126–1198) — арабский философ, последователь Аристотеля; а также — герой новеллы Борхеса «Поиски Аверроэса».
(обратно)216
* Даррелл Лоренс Джордж (1912–1990) — английский писатель.
* Бовуар Симона де (1908–1986) — французская писательница.
* Дюрас Маргерит (1914–1996) — французская писательница.
* Дуассо Жан (наст. имя — Фредерик Де) — французский писатель и художник, получивший известность в середине XX века.
* Кено Реймон (1903–1976) — французский писатель.
* Саррот Натали (наст. фам. — Черняк; 1900–1999) — французская писательница (родом из России).
(обратно)217
* см. примечание 64.
(обратно)218
* Арто Антонен (1896–1948) — французский поэт и драматург, теоретик театра.
* Варез Эдгар (1883–1965) — американский композитор-авангардист (родом из Франции).
(обратно)219
Кто сеет слова, пожнет звезды (фр.).
(обратно)220
Сколько можно сотрясать дерево рыданиями? (фр.)
(обратно)221
* Бардо Мижану — сестра актрисы Брижит Бардо.
(обратно)222
* Бютор Мишель (р. 1926) — французский писатель, один из главных творцов «нового романа».
* Цзао Вуки (р. 1921) — французский художник китайского происхождения.
* Бобе Луисон (1925–1983) — французский велогонщик.
(обратно)223
* Спилимберго Лино Элеас (1896–1964) — аргентинский художник.
Суарес Хусто (1909–1938) — аргентинский боксер. Ему посвящен рассказ Кортасара «Бычок».
Бонини — уголовный преступник. Кортасар писал о нем в одном из очерков книги «Вокруг дня на восьмидесяти мирах».
Легисамо Иринео (1903—?) — аргентинский жокей.
(обратно)224
Кофе со сливками (фр.).
(обратно)225
* Де Каро Хулио (1899–1977) — аргентинский композитор и исполнитель танго. Среди его произведений есть и танго «Игра в классики».
(обратно)226
* …Квинт Гораций Оливейра… старый слабак Оливейра. — Игра слов, подразумевающая смысловое прочтение по-испански имени римского поэта Квинта Горация Флакка: «Новобранец (либо пятый) Орасио слабый».
(обратно)227
Изливает свой ядовитый купорос меж ягодиц предместий (фр.).
(обратно)228
Я живу у Сен-Жермен-де-Пре и каждый вечер встречаю Верлена. / Этот упитанный Пьеро ничуть не изменился и все так же шатается по притонам… (фр.)
* песня французского шансонье Лео Ферре (1916–1993).
(обратно)229
* Беко Жильбер (1924–2001) — французский шансонье.
* Беар Ги (р. 1930) — французский шансонье.
(обратно)230
Ты в любой момент готов карабкаться на шестой этаж к гадалке из предместья, лишь бы она открыла тебе врата будущего (фр.).
(обратно)231
Истории так и липнут к тебе, слова сами цепляются одно за другое (фр.).
(обратно)232
* Перес Гальдос Бенито (1843–1920) — испанский прозаик.
(обратно)233
* Нерваль Жерар де (наст. фам. — Лабрюни; 1808–1855) — французский писатель. Покончил жизнь самоубийством.
(обратно)234
* Китс Джон (1795–1821) — английский поэт-романтик. Умер от туберкулеза. В 40-е Кортасар написал о его жизни и творчестве книгу «Образ Джона Китса» (опубликована после смерти автора).
(обратно)235
* Джон Донн (1572–1631) — английский поэт, богослов.
(обратно)236
Словообразование: otherness — проникнутость другим, в другого (англ.).
(обратно)237
Словообразование: togetherness — совместное существование (англ.).
(обратно)238
Национальная лотерея (фр.).
(обратно)239
Тираж каждую среду (фр.).
(обратно)240
* Сомма — река в восточной части Франции, на берегах которой в 1916-м и в июне 1940 года велись ожесточенные бои.
(обратно)241
Мясо по-бургундски (фр.).
(обратно)242
* Монфаве — французский город в департаменте Во-клюз близ Авиньона.
(обратно)243
* Павана — старинный испанский танец, получивший широкое распространение во Франции.
(обратно)244
* Леклерк Филип Мари (1902–1947) — французский военный деятель. 24 августа 1944 года дивизия Леклерка первой вошла в Париж.
(обратно)245
* Аликс Аликс — ироническое удвоение имени героя романов-комиксов Жака Мартена (стали выходить с 1948 года).
(обратно)246
* …необитаемый остров… — отсылка к роману Даниеля Дефо «Робинзон Крузо». Этот роман, любимый им в детстве, Кортасар, уже будучи в Париже, перевел на испанский. А также — написал ироническую радиопьесу «Прощай, Робинзон!».
(обратно)247
* …веберновскую трактовку пауз… — В произведениях австрийского композитора Антона Веберна (1883–1945) паузы играют не менее важную роль, чем сама музыка.
(обратно)248
* Саламбо — заглавная героиня романа Флобера.
(обратно)249
* Штраус Рихард (1864–1949) — немецкий композитор.
(обратно)250
* Лунная соната — произведение Бетховена.
Танец огня — танец из балета испанского композитора Мануэля де Фальи (1876–1946) «Любовь-волшебница».
(обратно)251
* Рислер Эдуар (1873–1929) — французский пианист и педагог.
(обратно)252
* Дункан Раймонд (?—1967) — американский художник, брат Айседоры Дункан.
(обратно)253
* Селин Луи-Фердинан (наст. фам. — Детуш; 1894–1961) — французский писатель.
(обратно)254
* «Прялка Омфалы» — симфоническая поэма Камиля Сен-Санса (1835–1912).
(обратно)255
* «Девушки Кадиса» — песня Лео Делиба (1836–1911) на слова Альфреда Мюссе (1810–1857).
(обратно)256
* «Раскрылось сердце тебе навстречу» — ария из оперы Сен-Санса «Самсон и Далила».
(обратно)257
* «Лакме» — опера Делиба.
(обратно)258
* «Пляска смерти» — симфоническая поэма Сен-Санса.
* «Коппелия» — балет Делиба.
(обратно)259
* «Гимн Виктору Гюго» — симфоническая поэма Сен-Санса.
* «Жак де Нивель» — опера Делиба.
* «На берегах Нила» — из сочинения Сен-Санса «Африка» (фантазия для фортепиано).
(обратно)260
* «Куда идет индуска молодая?» — ария из оперы «Лакме» Делиба.
(обратно)261
* Булез Пьер (р. 1925) — французский композитор-авангардист.
(обратно)262
* Пюи — город в южной части Франции.
(обратно)263
* …похожей… на короля Убю. — «Убю-король» — сценический фарс Альфреда Жарри.
(обратно)264
* Сати Эрик (1866–1925) — французский композитор.
(обратно)265
* Пампа — южноамериканская степь. В узком значении: природная равнинная область в центральной и северной части Аргентины.
(обратно)266
* Тибо Жак (1880–1953) — французский скрипач, педагог.
(обратно)267
* Пуленк Франсис (1899–1963) — французский композитор.
(обратно)268
* Тибоде Альбер (1874–1936) — французский историк литературы, критик.
(обратно)269
* …золотую ветвь… — Золотая ветвь — знак власти над смертью в эпической поэме Вергилия «Энеида»: ее должно принести в дар богине Прозерпине, чтобы спуститься в мир мертвых и вернуться из него (что Эней и делает). Здесь также отсылка к главному труду Джеймса Джорджа Фрэзера (1854–1941) «Золотая ветвь».
(обратно)270
* По — город в южной части Франции, в предгорьях Пиренеев.
(обратно)271
* Вы верите в Великое Делание? — Имеется в виду книга «Тайна соборов, или Эзотерическое истолкование герметических символов Великого Делания» французского теософа середины XX века, подписывавшего свои произведения по алхимии и оккультизму псевдонимом Фульканелли.
(обратно)272
Двойник (нем.).
(обратно)273
* Альмагро — район (и улица) в южной части Буэнос-Айреса. Назван в честь Диего де Альмагро (1475–1538), испанского конкистадора.
(обратно)274
* Тайефер Жермен (1892–1983) — французская пианистка и композитор.
(обратно)275
* Лонг Маргерит (1874–1966) — французская пианистка.
(обратно)276
* Ланкло Нинон де (1620—1705) — французская куртизанка.
(обратно)277
* …пройти сквозь камень… — Отсылка к фильму «Человек, который проходит сквозь стену», снятому по сценарию французского драматурга Марселя Паньоля (1895–1974).
(обратно)278
* Нейи (Нейи-сюр-Сен) — пригород Парижа.
(обратно)279
* …из хороших чувств рождается плохая литература… — цитата из «Записных книжек» французского писателя, лауреата Нобелевской премии Андре Жида (1869–1951).
(обратно)280
* Покров Майи — в ведийской философии, символ иллюзорности видимого мира.
(обратно)281
* …хромой бес… — «Хромой бес» — так называется роман испанского писателя Луиса Велеса де Гевары (1579–1645), широко известный по французской переделке Алена Рене Лесажа (1668–1747).
(обратно)282
Поскольку земля круглая, Не унывай, моя любовь, Не унывай, моя любовь (фр.). (обратно)283
* …похоже на узника Зенды… — «Узник Зенды» — роман английского писателя Энтони Хоупа (1863–1933).
(обратно)284
«Мой маленький бродяга» (фр.).
* «Mon p’tit voyou» — песня Лео Ферре.
(обратно)285
* Шестов Лев (наст. имя — Лев Исаакович Шварцман; 1866–1938) — русский философ-экзистенциалист.
(обратно)286
* …Паскаль здорово разбирался в проблемах носов… — Имеется в виду рассуждение Блеза Паскаля (1623–1662) о носе египетской царицы Клеопатры, который, стань он чуть короче, изменил бы судьбы мира.
(обратно)287
см. примечание 114.
(обратно)288
* Атлан Жан-Мишель (1913–1960) — французский художник-абстракционист.
(обратно)289
* Эстеве Морис (1904–1989) — французский художник.
(обратно)290
* Манесье Альфред (1911–1993) — французский художник-абстракционист.
(обратно)291
* Манесье Альфред (1911–1993) — французский художник-абстракционист.
* Лам Вильфредо (1902–1982) — кубинский художник, многие годы жил в Париже.
* Пьобер Жан (1900—?) — французский художник.
* Эрнст Макс — см. примечание 9.
(обратно)292
* Дейроль Жан-Жак (р. 1911) — французский художник.
* Бисьер Роже (1886–1964) — французский художник.
(обратно)293
* Фридлендер Джонни (1912–1989) — немецкий график, многие годы работал в Париже.
* Вийон Жак (наст. имя — Гастон Дюшан; 1875–1963) — французский художник-сюрреалист.
(обратно)294
* Сугай Куми (р. 1919) — французский художник.
(обратно)295
* Вуду — афро-американский религиозный культ, распространенный среди негров Гаити.
(обратно)296
* Тэнгли Жан (1925–1991) — швейцарский скульптор-авангардист.
(обратно)297
Искаж. индейцы чероки.
(обратно)298
* Метро Альфред (1902–1963) — французский этнограф-латиноамериканист.
(обратно)299
* Мальте Лауридс Бригге — главный герой романа Рильке «Записки Мальте Лауридса Бригге». В эпизоде, завершающем первую часть романа, герой рассматривает старинные гобелены с изображением девы и единорога.
(обратно)300
* Офир — город (страна), упоминаемый в Библии (см.: Третья книга Царств, гл. 9).
(обратно)301
* Царица Савская — см.: Третья книга Царств, гл. 10.
(обратно)302
* Сен-Клу — западный пригород Парижа, где находится королевский дворец с обширным парком.
(обратно)303
* …ухо Диониса. — В стенах многих древних храмов имелись сквозные отверстия, замаскированные обычно орнаментом в виде ушной раковины. В греческих храмах такое подслушивающее устройство стали называть ухом Диониса.
(обратно)304
* Монако Марио дель (1915–1982) — итальянский певец.
(обратно)305
А дальше — тишина (англ.).
* «The rest is silence» — последние слова Гамлета.
(обратно)306
Вот и соблюдайте тишину (англ.).
(обратно)307
Что это вы здесь вытворяете? (фр.)
(обратно)308
* Давид Герард (1460–1523) — нидерландский художник.
* Вейден Рогир Ван дер (1400–1464) — нидерландский художник.
* Мастер из Флемаля — нидерландский художник Роберт Кам-пен (1378–1444).
(обратно)309
Отец велел, так бей его сильней, он грешник жалкий (англ.).
(обратно)310
Я поднял взоры к небесам, и что увидел я / Там сонмы ангелов, они за мной явились (англ.).
(обратно)311
Это безобразие — мешать людям спать в такой час, это свинство. Я буду жаловаться в полицию, да, буду жаловаться, и потом, что вы вытворяете, сидите тут, притаились под дверью. Я же мог споткнуться и разбить себе лицо, черт бы вас побрал! (фр.)
(обратно)312
Как я могу спать, если ваша подруга устроила здесь бордель? Наглость какая, я вас предупреждаю, это вам так не пройдет, вы обо мне еще услышите (фр.).
(обратно)313
«От брата моего, Поэта, мне будет весть» (фр.).
(обратно)314
* …анекдот про одного типа, который уронил с ноги башмак… — Анекдот заключается в том, что сосед пьяницы, сбросившего с ноги башмак, не может уснуть до тех пор, пока не услышит стук второго упавшего башмака.
(обратно)315
Меня же еще и оскорбляют на этой тарабарщине грязных чужаков. Здесь вам Франция, не что-нибудь. Подонки, вот вы кто. Вас надо выставлять за дверь, стыд и позор. Куда смотрит правительство, я спрашиваю? Кругом арабы, разный сброд, шайка убийц (фр.).
(обратно)316
Бездельники, убийцы все как один (фр.).
(обратно)317
Если можно так выразиться (ит.).
(обратно)318
* Перон Хуан Доминго (1895–1974) — президент (диктатор) Аргентины в 1946–1955 годах (был свергнут в сентябре 1955 года в результате военного путча). В 40-е годы Кортасар принимал участие в антиперонистском движении; это послужило одной из причин его отъезда из Аргентины.
(обратно)319
* Канья — водка из сахарного тростника.
(обратно)320
* Росарио — город в Аргентине.
(обратно)321
Литературное приложение к газете «Фигаро» (фр.).
(обратно)322
* …когда живешь около Холма… — Монтевидео построен в холмистой местности. (Название столицы Уругвая переводится букв.: Вижу гору).
(обратно)323
* «А токай — это птица?» — «В определенном смысле, да». — Возможно, игра строится на том, что в испанском языке словом «токай» называют одну из разновидностей южноамериканских обезьян. А кроме того, в Аргентине обитает птица какуй (какуйо).
(обратно)324
«Однажды вечером душа вина запела» (фр.).
* «Un soir, l’âme du vin…» — первая строка стихотворения Шарля Бодлера «Душа вина».
(обратно)325
* Анакреонт (570–478 до Р.Х.) — древнегреческий поэт, воспевавший любовь, вино, праздную жизнь, веселье.
(обратно)326
Вечер, душа вина (фр.).
(обратно)327
Что и требовалось доказать (лат.).
(обратно)328
* Ксенофобия — презрение, ненависть ко всему иностранному.
(обратно)329
Все в порядке (фр.).
(обратно)330
Деятельность (нем.).
(обратно)331
Никакого понятия о хороших манерах (англ.). Достойно сожаления (фр.).
(обратно)332
* Рип Ван Винкль — герой одноименной новеллы американского писателя Вашингтона Ирвинга (1783–1859), пребывавший несколько лет в летаргическом сне.
(обратно)333
Они ужасны (англ.).
(обратно)334
Траурный марш (нем.).
(обратно)335
* «Todesmusik» на смерть Зигфрида — траурный марш из оперы «Гибель богов» Рихарда Вагнера (1813–1883).
(обратно)336
Вас к телефону (фр.).
(обратно)337
Мне, право, так неловко, мадам, месье, это мой друг, он только что прибыл, понимаете, он не знает здешних порядков (фр.).
(обратно)338
Маленькая случайность (англ.).
(обратно)339
* Блаватская Елена Петровна (1831–1891) — русская писательница, теософ.
(обратно)340
Увы, бедный Йорик (англ.)
* Шекспир. «Гамлет», V, 1.; хватит об этом (фр.).
(обратно)341
Вонючий ублюдок (англ.).
(обратно)342
* Крейслер Фриц (1875–1962) — австрийский композитор и скрипач.
(обратно)343
* «Бардо» («Тибетская книга мертвых») — свод мифологических представлений о загробной жизни в тибетском буддизме. Само слово «бардо» обозначает промежуточное состояние, в котором пребывает после смерти жизненная сила умершего, ожидая нового перерождения. Карл Юнг (1875–1961) написал к «Тибетской книге мертвых» психологический комментарий.
(обратно)344
* Мур Генри (1898–1986) — английский скульптор.
(обратно)345
* Джелли Ролл — Мортон см. примечание 169.
(обратно)346
* Латур Жорж де (1593–1652) — французский художник.
(обратно)347
«И надо все равно пытаться жить» (фр.).
* «Il faut tenter de vivre» — из стихотворения Поля Валери (1871–1945) «Приморское кладбище».
(обратно)348
* Пелота (исп.) — мяч; игра в мяч, напоминающая бейсбол.
(обратно)349
* Гейдельберг — университетский город в Германии.
(обратно)350
* Инь, Ян — в китайской философии: символическое выражение противоположных начал мира — света и тьмы, мужского и женского, небесного и земного и т. д.
(обратно)351
* Витгенштейн Людвиг (1889–1951) — австрийский философ.
(обратно)352
Ну вот (фр.).
(обратно)353
* Ван Эйк: Хуберт (1370–1426) и Ян (1390–1441) — нидерландские художники.
(обратно)354
* «N.R.F.» («Nouvelle revue française») — парижские журнал и издательство.
(обратно)355
Черт побери (фр.).
(обратно)356
* Месье Вальдемар — спиритически воскрешенный герой новеллы Эдгара По (1809–1849) «Правда о том, что случилось с мистером Вальдемаром».
(обратно)357
И не говори (фр.).
(обратно)358
* …все прекрасно в этом лучшем из возможных миров. — Цитата из повести Вольтера «Кандид».
(обратно)359
* Несколько ударов, один за другим… — Имеются в виду начальные такты Пятой симфонии Бетховена, которые обычно называют «стук Судьбы».
(обратно)360
Успокойся (англ.).
(обратно)361
Все бы дерьмо собачье! Банда уголовников, не думайте, я этого так не оставлю! Бездельники, бродят, шайка оборванцев! (фр.)
(обратно)362
Заткнись, папаша (фр.).
(обратно)363
Вы, наконец, дадите людям поспать? Что вы тут вытворяете, молодой человек, слишком много о себе воображаете, здесь вам Париж, а не какая-то Амазония! (фр.)
(обратно)364
Тогда что ж, месье, я уважаю горе матери. Что ж, доброй ночи, месье, мадам (фр.).
(обратно)365
* «На что тебе прелести лета…» — из стихотворения испанского поэта Луиса Сернуды (1902–1963) «Бежать? Тепло и пустынно…»
(обратно)366
Надо же (фр.).
(обратно)367
Любовь к ближнему (лат.).
(обратно)368
Снимаю шляпу, старик (фр.).
(обратно)369
* «Моя печальная ночь» — танго, входившее в репертуар аргентинского композитора и певца Карлоса Гарделя (1890–1935). Гарделя в Аргентине называют «Королем танго».
(обратно)370
* Перуджа, Лукка — города в Италии.
(обратно)371
* «Спаркенброк» — роман английского писателя Чарлза Моргана (1894–1958). В четвертой книге романа действие происходит в Лукке.
(обратно)372
Вызов и отклик (англ.).
* «Challenge and response» — ключевое понятие (мифологема), обозначающее движущую силу культуры в историософском труде английского историка и социолога Арнолда Тойнби (1889–1975) «Постижение истории».
(обратно)373
Ну вот (фр.).
(обратно)374
* «Сефер Йецира» («Книга творения») — мистический трактат, содержащий основы философии каббалы.
(обратно)375
Работы по сооружению Асуанской плотины начались. Не пройдет и пяти лет, как долина Нила, в срединной части реки, превратится в огромное озеро. Замечательные сооружения, которые входят в разряд самых потрясающих на планете… (фр.)
(обратно)376
Сошествие в ад (греч.).
(обратно)377
Вид на жительство (фр.).
(обратно)378
* Клеман Жак (1567–1589) — французский монах-доминиканец, убийца короля Генриха III. Был казнен.
* Кейтель Вильгельм (1882–1946) — генерал-фельдмаршал гитлеровской Германии, был казнен.
* Тропмэн Жан Батист (1849–1870) — французский уголовный преступник.
(обратно)379
Нас в этом мире нет (фр.).
* Nous ne sommes pas au monde — из стихотворения в прозе Артюра Рембо (1854–1891) «В бреду».
(обратно)380
* Реконкиста, Кордова, Эсмеральда, Сармьенто — улицы Буэнос-Айреса. Далее обыгрываются их названия, отсылающие и к языковым значениям, и к историческим либо литературным реалиям.
(обратно)381
Сармьенто — виноградная лоза, розги (исп.).
(обратно)382
* Реконкиста — это что мы преподнесли англичанам. — Имеется в виду изгнание из Буэнос-Айреса англичан в 1807 году, захвативших аргентинскую столицу годом раньше. Самое известное значение слова «реконкиста» — отвоевание испанцами своей территории у мавров в VIII–XV веках.
* Кордова — ученая. — Имеется в виду расцвет наук и искусств в Кордове — столице Арабского халифата (ныне административный центр одноименной провинции в Андалусии).
* Эсмеральда (букв.: изумруд) — героиня романа Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери».
* Сармьенто Доминго Фаустино (1811–1888) — аргентинский государственный деятель, писатель. Президент Аргентины в 1868–1874 годах.
(обратно)383
* Иригойен Иполито (1852–1933) — аргентинский политический и государственный деятель. Президент Аргентины в 1916–1922 и 1928–1930 годах.
(обратно)384
* Ривадавиа Бернардино (1780–1845) — аргентинский военный и государственный деятель. Президент Аргентины в 1826–1827 годах.
(обратно)385
Ничто (лат.).
(обратно)386
* Лавалье Хуан (1797–1841) — аргентинский военный и политический деятель, участник Войны за независимость.
(обратно)387
* Пуэйредон Хуан Мартин де (1776–1850) — аргентинский военный и политический деятель. Президент Аргентины в 1816–1819 годах.
(обратно)388
* Баум Вики (1888–1960) — австрийская писательница.
(обратно)389
* Мартен дю Гар Роже (1881–1958) — французский романист, лауреат Нобелевской премии (1937).
(обратно)390
«Вода мечтает, в дрему погрузившись» (фр.).
* из стихотворения французского поэта Франсуа Тристана Л’Эрмита (1601–1655) «Прогулка двух влюбленных». А также — отсылка к культурологическому труду французского философа Гастона Башлара (1884–1962) «Вода и грезы».
(обратно)391
* Швиттерс Курт (1887–1948) — немецкий писатель и художник.
(обратно)392
* Дос Пассос Джон (1896–1970) — американский писатель.
(обратно)393
Любовники из Гавра (фр.).
(обратно)394
Поскольку земля круглая, не унывай, моя любовь, не унывай… (фр)
(обратно)395
Няня (фр.).
(обратно)396
Ребенок, малыш (фр.).
(обратно)397
Нас в этом мире нет. Итак (фр.), следовательно (лат.), поэтому (ит.).
(обратно)398
* Глава построена на чередовании — через строку — текста романа, который читает Оливейра, и его, Оливейры, рассуждениями.
(обратно)399
* В сентябре 80-го… — цитируется роман испанского писателя Бенито Переса Гальдоса (1843–1920) «Запретный плод».
(обратно)400
Ну и наворотил, ничего себе (фр.).
(обратно)401
* Гонсалес Браво Луис (1811–1871) — испанский политический деятель.
(обратно)402
* Риоха — город в Аргентине.
(обратно)403
* Браво Мурильо Хуан (1803–1873) — испанский политический деятель.
(обратно)404
* Шлецер Борис (1881–1969) — французский философ, писатель, музыковед (по происхождению русский).
(обратно)405
* …называл… Вероникой. — Ассоциативная связь с платком Вероники, на котором нетленно запечатлен лик Христа.
(обратно)406
* Буэно дe Гусман (Гусман Добрый Альфонсо, 1256–1309) — кастильский дворянин, участник Реконкисты.
(обратно)407
Дорогая (англ.).
(обратно)408
Спи спокойно (англ.).
(обратно)409
Прощальный рок, детка (англ.).
(обратно)410
* …разорялась, что твой Хокусай… — Имеется в виду графический цикл японского художника Кацусики Хокусая (1760–1849) «Девушки в ветреный день».
(обратно)411
Смешение наречий ойль, ок и франко-провансальского в долине Луары и Алье, фонетические и морфологические границы (фр.).
(обратно)412
* Эскофье Симона — исследовательница диалектов французского языка. Ее труды появились в середине XX века.
(обратно)413
* Де Сталь Никола (1914–1955) — французский художник-абстракционист.
(обратно)414
Публичного покаяния (фр.).
(обратно)415
Конец действия (фр.).
(обратно)416
Любовь к ближнему (лат.).
(обратно)417
Няня (англ.).
(обратно)418
Изыди, Сатана (лат.).
(обратно)419
А ты, как поступил ты с юностью своей? (фр.)
* из стихотворения Верлена.
(обратно)420
А еще (фр.).
(обратно)421
Поселение (англ.).
(обратно)422
Хватит, мать твою (фр.).
(обратно)423
Дерьмо. Да еще эта холодина, в задницу (фр.).
(обратно)424
* город к северо-западу от Парижа.
(обратно)425
Дерьмо этот Понтуаз (фр.).
(обратно)426
* Кюри Пьер (1859–1906) — французский физик, лауреат Нобелевской премии (1903).
(обратно)427
Requiescat in расе (лат.). — Покойся с миром, мир праху твоему.
(обратно)428
* «Кубла Хан» — незаконченное стихотворение Сэмюэла Колриджа (1772–1834). По признанию поэта, он увидел во сне сооруженный Кубла Ханом дворец и тут же, во сне, сочинил о нем стихотворение. Проснувшись, Колридж стал записывать его, но неожиданно пришедший гость прервал работу. Когда гость ушел, Колридж уже не смог восстановить весь текст стихотворения. Этот эпизод лег в основу эссе Борхеса «Сон Колриджа».
(обратно)429
Кубла-Хан у себя в Ксанаду Дворец удовольствий возвел (англ.). (обратно)430
Несмотря на туризм (фр.).
(обратно)431
Негодяй (фр.).
(обратно)432
И так далее (англ.).
(обратно)433
* Великая Мать — персонаж многих мировых, особенно восточных, религий. Этот архаический первообраз исследовался Карлом Юнгом.
(обратно)434
Истина в вине (лат.).
(обратно)435
* Фихте Иоганн Готлиб (1762–1814) — немецкий философ.
(обратно)436
* Гераклит Эфесский (прозв. Темным; 554–483 до P. X.) — древнегреческий философ.
(обратно)437
* …сверните шею лебедю… — Из стихотворения мексиканского поэта Энрике Гонсалеса Мартинеса (1871–1952), полемически направленного против испано-американских модернистов. (Лебедь был одним из главных символов их поэзии.) Это же стихотворение Гонсалеса Мартинеса Кортасар цитирует в своем романе «Книга Мануэля» (1973).
(обратно)438
Заткнись, приятель (фр.).
(обратно)439
«Смерть волка» (фр.).
* стихотворение французского писателя Альфреда де Виньи (1797–1863).
(обратно)440
* «Мартин Фьерро» — эпическая поэма Хосе Эрнандеса (1834–1886) о вольнолюбивых гаучо, ставшая в Аргентине хрестоматийной.
(обратно)441
Как само собою разумеющееся (англ.).
(обратно)442
Все течет… (греч.)
* выражение, приписываемое Гераклиту.
(обратно)443
* «Квартет» — имеется в виду романная тетралогия английского прозаика Лоренса Даррелла (1912–1990) «Александрийский квартет».
(обратно)444
«Мы же ничего такого не делали» (фр.).
(обратно)445
«Время вишен» (фр.).
* песня французского поэта Жана-Батиста Клемана (1836–1903).
(обратно)446
И вся наша любовь (фр.).
(обратно)447
Доведешь ты меня до ручки (фр.).
(обратно)448
Когда он вернется, время вишен настанет (фр.).
(обратно)449
Никогда мне не забыть это время вишен (фр.).
(обратно)450
Лазурь, лазурь, лазурь, лазурь (фр.).
* ...запустить… прямо в l’azur… — контаминация строк из двух стихотворений Стефана Малларме (1842–1896) — «Окна» и «Лазурь».
(обратно)451
А он ничего себе. Только уж больно неприступный на вид (фр.).
(обратно)452
Посмотрите в глазок, и вы увидите самую прекрасную картинку, какая только может быть (англ.).
(обратно)453
Здесь: пустой звук (лат.).
* Flatus vocis — такова, по мнению французского философа Иоанна Росцеллина (1050–1123), природа общих понятий о существующем: реальны лишь единичные вещи.
(обратно)454
Чтобы полюбить свой дом, надо далеко от него уехать (фр.).
(обратно)455
По методу Барнума (лат.).
* Барнум Финеас Тэйлор (1810–1891) — американский цирковой антрепренер.
(обратно)456
* Качимайо — улица в Буэнос-Айресе.
(обратно)457
Путешественник (искаж. англ.).
(обратно)458
Здесь: лишенные родной земли (нем.).
(обратно)459
* Галеон — большое трехмачтовое судно, снабженное тяжелой артиллерией. Такие суда в XV–XVIII веках служили для перевозки в Испанию из ее американских колоний различных товаров, золота, серебра.
(обратно)460
* Квазимодо — герой романа Гюго «Собор Парижской Богоматери».
(обратно)461
* Ресистенсия — город на северо-востоке Аргентины.
(обратно)462
* Проспект Генерала Паса — улица в Буэнос-Айресе. Названа в честь аргентинского военного деятеля Хуана Мариа Паса (1791–1854).
(обратно)463
* …интерес к теологии и стеклянным шарам… — Возможно, отсылка к новеллам Борхеса «Три версии содеянного Иудой» и «Алеф».
(обратно)464
* Alraune — немецкое название колдовского корня мандрагоры и сделанного из него человечка-духа, известного по сюжетам романтической прозы (Гофман, Арним и др.)
(обратно)465
* Рока Хулио (1843–1914) — аргентинский политический деятель. Президент Аргентины в 1880–1886 и 1898–1904 годах.
(обратно)466
* Парилья (букв.: решетка) — жаренное на решетке мясо; кафе, ресторанчик, где такое мясо является основным блюдом.
(обратно)467
* Перес Паскуаль (Паскуалито; р. 1926) — аргентинский боксер.
(обратно)468
* Фанхио Хуан Мануэль (фамильярн. прозв. Кривоногий; 1911–1995) — аргентинский автогонщик, пятикратный чемпион мира.
(обратно)469
* Гаучо — пастухи и скотоводы в Аргентине. Вольнолюбивые гаучо — герои многих произведений аргентинской литературы XIX — первой половины XX веков.
Бетиноти Хосе (1878–1915) — аргентинский певец (из гаучо).
(обратно)470
* Теста Клориндо (р. 1923) — аргентинский художник-авангардист.
(обратно)471
* Торре Нильсон Леопольде (1924–1978) — аргентинский кинорежиссер.
(обратно)472
* Бьой Касарес — см. примеч. 78.
* Виньяс Давид (р. 1929) — аргентинский прозаик.
* Кастеллани Леонардо (1895–1979) — аргентинский священник и писатель.
* Манаута Хуан Хосе (р. 1920) — аргентинский писатель.
(обратно)473
* …гистрионовских поисков… — Гистрион (букв.) — бродячий актер в Древнем Риме и в Средние века.
(обратно)474
* Сан-Висенте, Бурсако, Саранди, Паломар — пригороды Буэнос-Айреса.
(обратно)475
* Пьер де Мандьярг Андре (1909–1991) — французский писатель.
(обратно)476
* …специалистов по каньенскому фольклору… — «Каньенский» образовано от слова «канья» (см. примеч. 319).
(обратно)477
* Под луной серебристой… — из танго «Мелодия окраины», входившего в репертуар Гарделя.
(обратно)478
* Касарес Хулио (1877–1964) — испанский филолог, лексикограф.
(обратно)479
Лепешка из пресного теста; тошнота, досада; хищная птица, питающаяся рыбой; старинное небольшое судно; подрезка крыльев охотничьим соколам; настенный ковер; заика; военное подразделение марокканцев; мучная пыль (исп.).
(обратно)480
* Меровинги — первая династия франкских королей (V–VIII века).
(обратно)481
* Камбасерес Эухенио (1843–1888) — аргентинский писатель.
(обратно)482
* …передачи Гайнсы Митре Паса… — контаминация из имен аргентинских журналистов Альберто Гайнсы Паса и Хорхе Митре.
(обратно)483
* «Бока Юниорс» — аргентинская футбольная команда.
(обратно)484
* Багуала — музыкальный фольклорный жанр западных (андских) и северных районов Аргентины.
(обратно)485
* Боэдо — район Буэнос-Айреса. «Боэдо» — это также название известной в Аргентине группы прозаиков (Арльт, Юнке, Барлетта и др.).
(обратно)486
* Вийетас — психиатрическая больница на улице того же названия в Буэнос-Айресе.
(обратно)487
* …не называй меня Ману. — Ману (на лунфардо) — дурень, дурачок, простофиля.
(обратно)488
* Хронопы — неологизм Кортасара; герои его книги и иронических миниатюр «Истории хронопов и фамов» (1962).
(обратно)489
Боязнь пустых пространств (лат.).
* в философии Аристотеля: одно из свойств природы.
(обратно)490
* Мыслящий тростник — определение человека в «Мыслях» Блеза Паскаля (1623–1662).
(обратно)491
* Исландский писатель Снорри Стурлуссон (1179–1241) довольно часто упоминается только в произведениях Борхеса.
(обратно)492
* …вихрь норвежской вьюги… — из поэмы испанского поэта Луиса де Гонгоры (1561–1627) «Уединения».
(обратно)493
* …во лбу загорелась звезда. — Возможно, намек на пьесу французского писателя Раймона Русселя (1877–1933) «Звезда на лоб».
(обратно)494
* Тенцинг Норэй (1914–1986) — индийский альпинист, урожденный шерпа (народность в Непале).
(обратно)495
Плохое самочувствие, тошнота (лат.).
(обратно)496
* Энтропия — здесь: нарастание внутренней неупорядоченности при процессах, происходящих в замкнутой системе.
(обратно)497
Mortale — смертельный (ит.).
(обратно)498
* Бремон Анри (1865–1933) — французский священник, литературный критик, историк культуры.
(обратно)499
* см. примеч. 384.
(обратно)500
* Сингерман Паулина (1910–1984) — аргентинская актриса.
Тарантола Токо — аргентинская актриса середины XX века.
(обратно)501
Что и требовалось доказать (лат.).
(обратно)502
* «Легкая кавалерия» — оперетта австрийского композитора Франца фон Зуппе (1819–1895).
(обратно)503
Какою мукой я томим, Когда нет веры В совершенство мира. Унгаретти. Реки (ит.).* Унгаретти Джузеппе (1888–1970) — итальянский поэт.
(обратно)504
* «Книга мертвых» — памятник древнеегипетской культовой письменности (XV в. до P. X.).
(обратно)505
* Липатти Дину (1917–1950) — румынский пианист и композитор.
(обратно)506
* «Чакарита Юниорс» — аргентинский спортивный клуб.
(обратно)507
* Тот — египетский бог мудрости, счета и письма, проводник душ в царство мертвых (позднее отождествлялся греками с Гермесом).
(обратно)508
* …проблему объективного соотношения… — Объективное соотношение — одна из формул эстетической теории Томаса Стернза Элиота, полемически заостренная против установки романтиков на непосредственное и бесконтрольное переживание. В философии немецкого философа Эдмунда Гуссерля (1859–1938) — обозначение предметного мира.
(обратно)509
* Эгерия — италийская нимфа одноименного источника, супруга и советчица царя Нумы Помпилия. Иносказательно: советчица, руководительница.
(обратно)510
* «Клетка» — танго Рафаэля Туэгольса на слова Армандо Тахини.
(обратно)511
Книга покаяний (лат.).
(обратно)512
* Наваха — большой складной нож.
(обратно)513
* Отсылка к новелле Эдгара По «Убийство на улице Морг».
(обратно)514
* ...лебедя Лоэнгрина… — Отсылка к опере Вагнера «Лоэнгрин».
(обратно)515
* …«Темницы» Пиранези. — «Темницы» — графический цикл итальянского художника Джамбаттисты Пиранези (1720–1778).
(обратно)516
* «Попугай-гадалка» — танго Альфредо де Франко на слова Хосе де Грандиса. Входило в репертуар Гарделя.
(обратно)517
* …поднялась за пьесой… — Речь идет об «Антонии и Клеопатре» Шекспира. Далее эта пьеса цитируется и комментируется персонажами кортасаровского романа на протяжении нескольких страниц.
(обратно)518
* Астрана Марин Луис (1889–1960) — испанский историк литературы, переводчик Шекспира.
(обратно)519
* Калипсо — музыкальный фольклор (песни и танцы) Карибского региона.
(обратно)520
* Двуногое беспёрое — определение человека у Псевдо-Платона.
(обратно)521
* Сьелито — жанр песенно-танцевального фольклора Аргентины.
(обратно)522
* …трисмегистов треугольник. — Трисмегист (Триждывеличайший) — полулегендарный египетский мудрец. Трисмегистов треугольник — магический треугольник.
(обратно)523
* «Крутые парни» — танго Хуана де Диоса Филиберто (1885–1964).
(обратно)524
Перемотать назад (англ.).
(обратно)525
Громкость (англ.).
(обратно)526
Пополам (англ.).
(обратно)527
* Валли Алида (р. 1921) — итальянская киноактриса.
(обратно)528
Здесь: неверное толкование (лат.).
* Idola fori — так в трактате «Новый Органон» английский философ Фрэнсис Бэкон (1561–1626) называет человеческие заблуждения, порождаемые приблизительностью обыденного словоупотребления.
(обратно)529
* Речь идет о попытке государственного переворота в сентябре 1962 года.
(обратно)530
* Мана — в меланезийской мифологии: жизненная сила.
(обратно)531
* Битва при Окинаве — сражение во время вступления американских войск на территорию Японии 1 апреля 1945 года.
(обратно)532
* Витти Моника (р. 1933) — итальянская киноактриса.
(обратно)533
Как нельзя более кстати (лат.).
(обратно)534
* Мендес Дельфино Эустакио (1897–1987) — аргентинский юрист.
(обратно)535
* Кюри Мария (Склодовска; 1867–1934) — жена и соратница физика Пьера Кюри; родом из Польши. Дважды лауреат Нобелевской премии (1903, 1911).
* Фойер Ядвига (наст. фам. — Кунати; 1907–1993) — французская актриса литовского происхождения.
(обратно)536
* Лухан — город к северу от Буэнос-Айреса.
(обратно)537
* Рохас Нерио (1890–1971) — аргентинский медик и общественный деятель.
(обратно)538
Здесь: новый курс (англ.).
* New deal — программа, предложенная Франклином Рузвельтом (1882–1945) на восстановление порядка в США после экономического кризиса 1929–1933 годов.
(обратно)539
Я же тебе говорю (ит.).
(обратно)540
По собственному побуждению (лат.).
(обратно)541
* Трелев — селение в южной части Аргентины.
(обратно)542
* Каррингтон Леонора (р. 1917) — английская художница и писательница, близкая к сюрреализму. С 1942 года живет в Мексике.
(обратно)543
* Флегрейские поля — в древнегреческой мифологии: место рождения гигантов и их битвы с богами Олимпа.
(обратно)544
* Элевсин — древнегреческий город, где в сентябре ежегодно проводились празднества в честь Деметры и Персефоны.
(обратно)545
* Радио «Бельграно» — одна из радиостанций Буэнос-Айреса.
(обратно)546
* Найтингейл Флоренс (1820–1910) — английская медсестра. В 1912 году Международным Красным Крестом учреждена медаль ее имени.
(обратно)547
Да, мадам, конечно, мадам (фр.).
(обратно)548
Хватит, ты меня достала, малышка, Селин прав, думаешь, что уступил всего сантиметр, а тебя задвинули уже на целый метр (фр.).
(обратно)549
* Голем — герой еврейских легенд и каббалистических преданий; рукотворный человек. Персонаж многочисленных произведений мировой литературы (Гофман, Арним, Мейринк, Борхес и др.).
(обратно)550
* Иггдрасиль — в скандинавской мифологии мировое древо, к которому пригвоздил себя копьем верховный бог Один, после чего приобщился высшей мудрости.
(обратно)551
* Брайль Луи (1809–1852) — французский педагог, создатель шрифта для слепых.
(обратно)552
* Глава 56. — Комната Оливейры в этой главе напоминает мастерскую французского художника Марселя Дюшана (1887–1968) в Буэнос-Айресе, где он некоторое время жил, и его зал на Международной выставке сюрреалистов в 1942 году в Нью-Йорке. А диалог Оливейры и Травелера навеян (как признавался сам Кортасар) заключительной сценой между князем Мышкиным и Рогожиным в романе Достоевского «Идиот».
(обратно)553
Может быть (англ., фр.).
(обратно)554
* Батат (сладкий картофель) — южноамериканское корнеклубневое растение семейства вьюнковых.
(обратно)555
Даруй нам покой (лат.).
(обратно)556
* Канча-Раяда — равнина в центральной части Чили, где 19 марта 1818 года армия Сан-Мартина потерпела поражение от испанских войск.
(обратно)557
Двойник (нем.).
(обратно)558
Перемена позиций (лат.).
(обратно)559
* Или Цезарь, или никто… — слова, приписываемые итальянскому политическому и церковному деятелю Чезаре (Цезарю) Борджиа (1475–1507).
(обратно)560
* Дестин Эмми (1878–1930) — чешская певица.
* Мельба Нелли (наст. имя — Хелен Портер Армстронг; 1861–1931) — австралийская певица.
* Лоуренс Марджори (1907–1979) — австралийская певица.
* Муцио Клаудиа (1889–1936) — итальянская певица.
* Бори Лукреция (1888–1960) — испанская певица.
* Бара Теда (1890–1955) — американская актриса театра и кино.
* Нальди Нита (1899–1961) — американская киноактриса.
(обратно)561
* Дузе Элеонора (1858–1924) — итальянская актриса.
* Банки Бильма (1898–1969) — американская киноактриса.
(обратно)562
* Карсавина Тамара Платоновна (1885–1978) — русская балерина.
* Баронова Ирина (р. 1919) — французская балерина (русского происхождения).
(обратно)563
Ближний бой (англ.).
(обратно)564
* Мар-де-Плата — курортный город в провинции Буэнос-Айрес.
(обратно)565
* Фалу Эдуардо (р. 1920) — аргентинский композитор и певец.
(обратно)566
* Леви-Стросс Клод (1907–2001) — французский этнолог-структуралист.
(обратно)567
Здесь: выдающиеся личности (англ.).
(обратно)568
* Джелли Ролл Мортон — см. примеч. 169.
* Музиль Робер (1880–1942) — австрийский прозаик.
* Судзуки Дайзетцу Тейтаро (1870–1966) — японский исследователь буддизма.
* Руссель Раймон (1877–1933) — французский писатель-авангардист.
* Швиттерс Курт — см. примеч. 391.
* Акутагава Рюноскэ (1892–1927) — японский писатель.
* Веберн — см. примеч. 247.
* Лесама Лима Хосе (1910–1976) — кубинский писатель. Кортасар был редактором его главного произведения — романа «Рай»; впоследствии написал о романе литературоведческое эссе.
* Бунюэль Луис (1900–1983) — испанский кинорежиссер.
* Мишо Анри (1899–1984) — французский поэт и художник.
* Буццати Дино (1906–1972) — итальянский писатель.
* Певзнер Антуан (1884–1962) — французский художник, скульптор.
* Гильгамеш — герой шумерского эпоса.
* Гарсиласо де ла Вега (1503–1536) — испанский поэт.
* Арчимбольдо Джузеппе (1527–1593) — итальянский художник.
* Клер Рене (1898–1981) — французский кинорежиссер.
* Козимо Пьеро ди (1462–1521) — итальянский художник.
* Стивенс Уоллес (1879–1955) — американский поэт.
* Динесен Айзек (наст. имя — Карен Бликсен; 1885–1962) — датская писательница.
* Берг Альбан (1885–1935) — австрийский композитор-экспрессионист.
(обратно)569
Просветление (яп.).
* в дзен-буддизме: состояние мгновенного озарения.
(обратно)570
Слишком поздно для меня. Подохнуть по-итальянски и выглядеть по-европейски — вот все, что мне остается. Чашечка кофе со сливками по утрам — это так приятно (фр.).
(обратно)571
* Глава 62. — Изложенный здесь принцип создания художественного произведения определил поэтику кортасаровского романа «62. Модель для сборки».
(обратно)572
«Экспресс», Париж, дата не указана.
«Два месяца назад шведский нейробиолог Хольгер Хиден из университета города Гетеборга[887] представил выдающимся специалистам всего мира, собравшимся в Сан-Франциско, свою теорию химической природы умственной деятельности. Согласно Хидену, когда человек думает, вспоминает, чувствует или принимает решение, в его мозгу и в окончаниях нервных волокон, которые соединяют мозг с другими органами, появляются особые молекулы, вырабатываемые нервными клетками под действием внешнего возбуждения. <…> Шведским ученым удалось проделать тонкую работу по разделению на два типа клеток ткани еще живых кроликов, которые были взвешены (с точностью до тысячной доли миллиграмма), и затем определить с помощью анализа, каким образом эти клетки используют свою энергию в различных случаях.
Одной из основных функций нейронов является передача нервных импульсов. Эта передача осуществляется посредством химических реакций, почти мгновенных. Не так легко захватить момент действия нервной клетки, но похоже, что шведам это удалось благодаря различным методам, которые они применяли.
Подтвердилось, что стимул передается путем увеличения в нейронах определенного количества протеина, молекулы которого варьируются в зависимости от природы возбудителя. В то же время количество протеина в сопутствующих клетках уменьшается, как если бы они отдавали свои резервы в пользу нейронов. Информация, которую содержит молекула протеина, превращается, по Хидену, в импульс, который нейрон посылает своим соседям.
Высшая деятельность головного мозга — память и способность мыслить — объясняются, согласно Хидену, особой формой молекул протеина, соответствующей каждому виду возбуждения. Каждый нейрон головного мозга содержит миллионы молекул различных рибонуклеиновых кислот (РНК), различающихся между собой расположением простейших элементов, их составляющих. Каждая отдельная молекула рибонуклеиновой кислоты соответствует совершенно определенной молекуле протеина, так же как к каждой замочной скважине подходит свой ключ. Нуклеиновые кислоты диктуют нейрону, какую молекулу протеина они должны сформировать. Эти-то молекулы и есть, согласно исследованиям шведских ученых, химическое выражение мысли.
Память, таким образом, соответствует определенному порядку молекул нуклеиновых кислот, содержащихся в мозгу, которые выполняют роль перфокарты в современном компьютере.
Например, импульс, соответствующий ноте ми, которую улавливает слух, моментально передается от одного нейрона к другому, достигая тех, которые содержат молекулы РНК, соответствующие именно этому возбудителю. Клетки тут же вырабатывают молекулы протеина, которые управляются именно этой кислотой, и таким образом осуществляется слуховое восприятие указанной ноты.
Богатство и разнообразие мыслей объясняются тем, что мозг средней величины содержит в себе около десяти миллионов нейронов, в каждом из которых заключено несколько миллионов молекул различных нуклеиновых кислот; количество возможных комбинаций представляет собой астрономическое число. Эта теория, кроме всего прочего, имеет следующее преимущество: она объясняет, почему в головном мозгу так и не удалось обнаружить четкого разграничения на зоны, отвечающие за каждую функцию высшей нервной деятельности; поскольку каждый нейрон располагает разнообразными нуклеиновыми кислотами, он может участвовать в различных ментальных процессах и вызывать различного рода мысли и воспоминания».
(обратно)573
* Эдип — здесь: герой драматической трилогии Софокла.
Растиньяк — герой ряда романов Бальзака из цикла «Человеческая комедия».
Федра — здесь: заглавная героиня трагедии Расина.
(обратно)574
Пометка Вонга (карандашом): «Метафора выбрана специально для того, чтобы указать направление мысли».
(обратно)575
* Мак-Ларен Норман (1914–1987) — канадский кинорежиссер-мультипликатор.
(обратно)576
Нет денег, нет собора (англ.).
(обратно)577
* Экс-ан-Прованс — город на юге Франции.
(обратно)578
* Боннар Пьер (1867–1947) — французский художник, искусный колорист (применял технику цветной японской гравюры).
(обратно)579
Любовные ласки (ит.).
(обратно)580
* Уэрта — горный район на западе Аргентины.
(обратно)581
* Сантос-Дюмон Альбер (1873–1932) — французский летчик (родом из Бразилии).
(обратно)582
* Гурджиев Георгий Иванович (1877–1949) — русский оккультный философ.
(обратно)583
* «Бувар и Пекюше» — незаконченный роман Флобера.
(обратно)584
* Ступа в Санчи — буддистский архитектурный памятник III–II вв. до P. X. в индийской деревне Санчи.
(обратно)585
* Часовщик Господень — формула, появившаяся в европейской философии эпохи рационализма (в частности — у Декарта и Вольтера).
(обратно)586
* Ноэма — в философской традиции от Платона до Эдмунда Гуссерля: носитель целостного смысла.
(обратно)587
* Сан-Луис-Потоси — город в Мексике.
(обратно)588
* Майстер Экхарт (Иоганн Экхарт; 1260–1327) — немецкий писатель-мистик, монах-доминиканец.
(обратно)589
Блаженны нищие духом (лат.).
(обратно)590
Назад к Адаму (англ.), к простодушному дикарю (фр.).
(обратно)591
* Потерянный рай… — из стихотворения испанского поэта Рафаэля Альберти (1902–1999) «Потерянный рай».
(обратно)592
* Планк Макс (1858–1947) — немецкий физик, один из основоположников квантовой теории. Лауреат Нобелевской премии (1918).
* Гейзенберг Вернер (1901–1976) — немецкий физик, один из создателей квантовой механики.
(обратно)593
* Уркалья — в мусульманском мистицизме (суфизме): «третий мир», мир, посредничающий между людьми и духами, область воображаемого, где души пребывают как образы в зеркале.
(обратно)594
* Никита — Хрущев.
* Дуайт — Эйзенхауэр.
* Шарль — Де Голль.
* Франсиско — Франко.
(обратно)595
* Королева Маб — персонаж английского фольклора и литературы (Шекспир, Шелли и др.). В данном случае противопоставлена музе трагедии Мельпомене как символ своевольной фантазии и очистительного смеха.
(обратно)596
* см. примеч. 568
(обратно)597
* Иглу — жилище эскимосов, сделанное из снежных плит.
(обратно)598
Блаженные грезы (англ.).
(обратно)599
* см. примеч. 520.
(обратно)600
Нет места лучшего, чем дом (англ.).
(обратно)601
* Альмагро — улица в Буэнос-Айресе.
(обратно)602
Деятельность (нем.).
(обратно)603
С душком (фр.).
(обратно)604
* Ласко — пещера во Франции с настенными изображениями эпохи позднего палеолита.
Матье Жорж (р. 1921) — французский художник-абстракционист.
(обратно)605
* Эон — в древнегреческой философской традиции и позднейших оккультных учениях: обозначение времени, понятого как смысловая целостность, вечность.
(обратно)606
* Ормузд (Ормазд) — верховное божество иранской религиозной системы зороастризма.
Ариман (Ахриман) — злой дух, царь тьмы в зороастризме.
(обратно)607
* см. примеч. 111.
(обратно)608
* Траурный марш Зигфрида — см. примеч. 335.
(обратно)609
Неверное толкование (лат.).
(обратно)610
* В Буэнос-Айресе, этой столице страха… — речь идет о Буэнос-Айресе 1946–1955 годов, когда Аргентиной правил президент-диктатор Хуан Доминго Перон.
(обратно)611
О, вы знаете (фр.).
(обратно)612
От слов к делу (лат.).
(обратно)613
Вот (ит.).
(обратно)614
* Сан-Мартин — улица в Буэнос-Айресе. Названа в честь национального героя Аргентины Хосе де Сан-Мартина (1778–1850).
(обратно)615
* см. примеч. 388.
(обратно)616
* Вначале был цирк… — цитируется стихотворение американского поэта Эдуарда Каммингса (1894–1962) «Когда Господь решил создать…»
(обратно)617
* …по непересекающимся орбитам… вечером в опере… — перечисляются киноленты 20-х годов с участием американских комиков братьев Маркс.
(обратно)618
Комический роман (фр.).
(обратно)619
Никогда не спекулировать тем, что достиг (фр.).
* Ne jamais profiter… — из записных книжек Андре Жида к роману «Фальшивомонетчики».
(обратно)620
* …с чистым разумом… — отсылка к работе Канта «Критика чистого разума».
(обратно)621
Моего ближнего, моего брата (фр.).
* Mon semblable, mon frère — из стихотворения Бодлера «К читателю». Эти слова цитируются Элиотом в поэме «Бесплодная земля».
(обратно)622
* «Улисс» — роман Джеймса Джойса (1882–1941).
(обратно)623
Обманчивыми (фр.).
(обратно)624
Порядочном человеке (фр.).
(обратно)625
* Бе́ри-бе́ри — болезнь обмена веществ, вызываемая отсутствием витамина В; авитаминоз.
(обратно)626
* …изобретать новые рассуждения. — Характеристика софистов в комедии Аристофана «Облака».
(обратно)627
* …к Материнским Истокам… — Образ из «Фауста» Гете.
(обратно)628
«Волны» (англ.).
* «Волны» — роман английской писательницы Вирджинии Вулф (1882–1941).
(обратно)629
* «Другого средства нет, сынок…» — из стихотворения Федерико Гарсиа Лорки (1898–1936) «Панорама толпы, которую рвет».
(обратно)630
* Селия — в английской поэзии XVII–XVIII веков: условное имя идеализированной возлюбленной.
(обратно)631
Ну ты скажи, это же потрясающе! (фр.)
(обратно)632
Пришпиленного листа (фр.).
(обратно)633
* Жуандо Марсель (1888–1979) — французский писатель.
(обратно)634
* Аурангабад — город в Индии.
(обратно)635
Продолжение следует (фр.); сюита (муз.).
(обратно)636
В нашем случае (лат.).
(обратно)637
Я все сказал (ит.).
(обратно)638
Вид на жительство (фр.).
(обратно)639
* Повель Луи (1920–1997) — французский прозаик, журналист.
Бержье Жак (1912–1978) — французский писатель, журналист.
(обратно)640
* Конт Огюст (1798–1857) — французский философ и социолог.
(обратно)641
* Бунзен Роберт Вильгельм (1811–1899) — немецкий химик.
(обратно)642
«Утро магов» (фр.).
(обратно)643
«Детка, когда тебя рядом нет» (англ.).
(обратно)644
* Уланов Барри (р. 1918) — американский искусствовед, пропагандист джаза.
(обратно)645
* Уильямс Кути (наст, имя — Уильямс Чарлз Мелвин; 1911–1985) — американский джазовый трубач, певец.
(обратно)646
К черту блюзы Севера, К черту блюзы Юга, Блюзы звучат везде, К черту блюзы Запада, И Востока тоже, Блюзы звучат везде. Тошно мне слышать блюзы, Детка, когда тебя рядом нет, когда тебя рядом нет, когда тебя рядом нет (англ.). (обратно)647
* …воробышек… Лесбии… — из элегии Катулла на смерть воробья его возлюбленной, воспетой под именем Лесбия.
(обратно)648
* …как Арджуна с Возничим… — см. примеч. 59.
(обратно)649
* «Бхагавадгита» — часть древнеиндийской поэмы «Махабхарата», излагающая постулаты индуизма в форме диалога между богом Кришной и Арджуной.
(обратно)650
Не громом, но стоном (англ.).
* «Not with a bang but a whimper» — заключительная строка поэмы Элиота «Полые люди». В произведениях Кортасара цитируется неоднократно.
(обратно)651
* «Легенда об осквернении причастия» (точнее — «Чудо оскверненного причастия») — алтарная роспись Паоло Учелло (1397–1475) на сюжет из «Хроники» итальянского историка XIV века Джованни Виллани.
(обратно)652
* Де Сталь — см. примеч. 413.
(обратно)653
* Бранкузи Константин (1876–1957) — французский скульптор (родом из Румынии).
(обратно)654
* Жене Жан (1910–1986) — французский писатель.
(обратно)655
* Поляков Серж (1900–1969) — французский художник русского происхождения.
(обратно)656
* Манесье — см. примеч. 291.
(обратно)657
* Фотрье Жан (1898–1964) — французский художник.
(обратно)658
* Давид — здесь: скульптура Микеланджело.
(обратно)659
* Морган Мишель (наст. имя — Симона Руссель; р. 1920) — французская киноактриса.
(обратно)660
«Два города» (англ.).
* «Два города» — англо-франкоязычный литературный журнал, выходивший в Париже в 1959–1964 годах.
(обратно)661
* Рошфор Кристиан (р. 1917) — французский писатель.
Блонден Антуан (1922–1991) — французский писатель-юморист.
(обратно)662
* Райт Франк Ллойд (1869–1959) — американский архитектор и теоретик архитектуры.
(обратно)663
* Ле Корбюзье (наст. имя — Эдуар Жаннере-Гри; 1887–1965) — французский архитектор.
(обратно)664
* Японский цветок — игрушка из бумажных лепестков, в воде превращающихся в изысканные соцветия. Японский цветок упоминается в цикле романов Пруста «В поисках утраченного времени».
(обратно)665
* Нэш Огден (1902–1971) — американский поэт.
(обратно)666
* …бедра, заполненные солнцем… — из стихотворения мексиканского поэта, лауреата Нобелевской премии Октавио Паса (1914–1998) «В твоей ясной тени».
(обратно)667
* Бренвилье Мари Мадлен Д’Обре, маркиза де (1630–1676) — французская аристократка-отравительница. Героиня ряда произведений французской литературы.
(обратно)668
* Проксенитизм — в Древней Греции: система привилегий чужестранцам, оказавшим особые услуги полису.
(обратно)669
* Мед и молоко под языком твоим… — Песнь песней, 4:2.
(обратно)670
* Путтенхэм Джордж (1520–1590) — английский писатель.
(обратно)671
* Рок (Рух) — огромная хищная птица из арабской мифологии и сказок «Тысяча и одна ночь».
(обратно)672
Слово, какая сокрушительная ошибка (фр.).
* «Faute eclatante» — из стихотворения Поля Валери «Набросок змея».
(обратно)673
Человеческое достоинство, честь (фр.).
* «Honneur des hommes» — из стихотворения Валери «Пифия».
(обратно)674
* От любви к филологии… — Упоминаемый здесь, а также выше и ниже «логос» и слово «любовь» как раз и образуют греческое «филология» — любовь к слову (смыслу).
(обратно)675
Это же век пластмассы, парень, пластмассовый век (англ.).
(обратно)676
Я мыслю [следовательно, существую] (лат.).
(обратно)677
* …пневма вместо логоса. — В терминах древнегреческой философии: душа (дух), а не разум.
(обратно)678
* «Шелл Мекс» — фирма по производству горючего.
(обратно)679
* …был теплый ветер… — цитата из стихотворения никарагуанского поэта Рубена Дарио (1867–1916).
(обратно)680
* …вечер и… час… — так называется поэма аргентинского поэта Эстебана Эчеверриа (1805–1851).
(обратно)681
* …было цветущее время года… — первая строка поэмы «Уединения» Луиса де Гонгоры (1561–1627).
(обратно)682
Первобытное бытие (англ.).
(обратно)683
* Атала — заглавная героиня повести Франсуа Рене де Шатобриана (1768–1848).
(обратно)684
Ну и дерьмо (фр.).
(обратно)685
Остановить мимолетность мгновения (фр.).
* Fixer des vertiges — из стихотворения в прозе Артюра Рембо «Алхимия глагола».
(обратно)686
* Германты — аристократическое семейство из романной эпопеи Марселя Пруста «В поисках утраченного времени».
(обратно)687
«Битники» (англ.).
(обратно)688
* Мнемотехника — правила и приемы, облегчающие запоминание нужных сведений при помощи создания искусственных ассоциаций.
(обратно)689
Здесь: шутки ради (лат.).
(обратно)690
* …темная ночь души… — отсылка к трактату Сан-Хуана де ла Круса (1542–1591) «Темная ночь души».
(обратно)691
Вернись победителем (ит.).
* «Ritoma vincitor!» — начальные слова арии из оперы Джузеппе Верди (1813–1901) «Аида».
(обратно)692
На кой они сюда пришли, покоя нет от этих иностранцев, ну вот что, понятное дело, я вас впущу, если вы говорите, что вы друзья этого стари… Мсье Морелли, он мог бы все-таки предупредить, в десять вечера вваливается целая толпа, нет, в самом деле, Гюстав, ты бы поговорил у себя в профсоюзе, это уже слишком, и пр. (фр.).
(обратно)693
Поганый ублюдок, опять его штучки, представляю себе (англ.), да отцепись ты от меня, наконец (фр.).
(обратно)694
Если бы парни всей земли… (фр.)
* «Si tous les gars du monde» — из баллады французского поэта Поля Фора (1872–1960) «Хоровод вокруг земного шара».
(обратно)695
* Турн-унд-Таксис — австрийский аристократический род.
(обратно)696
* Харону — его лепту… — В данном случае, вероятно, отсылка к стихотворению Бодлера «Дон-Жуан в аду».
(обратно)697
Мог бы все-таки по-французски говорить, твой приятель, эта аргентинская задница, здесь не для того завис, чтобы слышать твою хренотень (фр.).
(обратно)698
Ну что там за дела? (англ.) Вот дерьмо, просто вавилонская башня какая-то, ей-богу. Оставь в покое мою задницу, придурок, что я тебе говорю (фр.).
(обратно)699
Здорово, у тебя получается прямо как по радио (англ.).
(обратно)700
Звездное небо в Алабаме (англ.).
* Stars fell on Alabama — так называется книга очерков из жизни бедноты Юга США американского прозаика Карла Кармера (1893–1976).
(обратно)701
Где выключатель? (фр.)
(обратно)702
* Ур — город в Древней Месопотамии. Родина библейского Авраама.
(обратно)703
Живописал (лат.).
(обратно)704
* Паунд Эзра (1885–1972) — американский поэт.
(обратно)705
«Размышления на тему: от болезни к одержимости, и одержимость против болезни» (лат.).
(обратно)706
* Цвингер Теодор (1533–1588) — швейцарский врач, писатель.
(обратно)707
* Астролябия — астрономический угломерный прибор для определения долгот и широт.
(обратно)708
Любимый, ты не принесешь стаканы? (англ.)
(обратно)709
Проклятие. Я сейчас заплачу (англ.).
(обратно)710
* Паладино Эусапиа — итальянская спиритка начала XX века.
(обратно)711
* Тристан — герой европейских средневековых сказаний и рыцарского эпоса. Стал героем ряда позднейших произведений литературы и искусства (опера Вагнера «Тристан и Изольда», эпизод в романе Джойса «Поминки по Финнегану» и др.).
* Джейн Эйр — заглавная героиня романа английской писательницы Шарлотты Бронте (1816–1855).
* Лафкадио — герой романа Андре Жида «Подземелья Ватикана».
* Леопольд Блюм — главный герой романа Джеймса Джойса «Улисс».
(обратно)712
* Ульрих — центральный персонаж романа австрийского прозаика Роберта Музиля (1880–1942) «Человек без свойств».
* Моллой — заглавный герой романа ирландского писателя, лауреата Нобелевской премии Сэмюэла Беккета (1906–1989).
* Дарли — герой тетралогии английского писателя Лоренса Даррелла (1912–1990) «Александрийский квартет».
(обратно)713
* Поэтизировать легко… — измененная цитата из стихотворения испанского поэта Хоакина Бартрины (1850–1880) «Побасенка».
(обратно)714
Честь человека, его Язык Святой… (фр.)
* см. примеч. 673.
(обратно)715
Инструмента (лат.).
(обратно)716
Этика, мораль (греч.).
(обратно)717
* Медон — город к югу от Парижа.
(обратно)718
* Дильтей Вильгельм (1833–1911) — немецкий философ, исследователь культуры.
Гуссерль Эдмунд (1859–1938) — немецкий философ, основоположник феноменологии.
Витгенштейн — см. примеч. 351.
(обратно)719
* Лаури Малькольм (1909–1957) — англо-канадский писатель.
(обратно)720
* Фрай Луис де Леон (1527–1591) — испанский поэт-мистик.
(обратно)721
* Гораций-Куриаций — обыгрываются имена героев римской мифологии: трое юношей из рода Горациев, победив в схватке своих двоюродных братьев Куриациев, положили конец войне между Римом и Альба-Лонгой.
(обратно)722
За, позади (англ.).
(обратно)723
Вдали, по ту сторону (англ.).
(обратно)724
Вон там (англ.).
(обратно)725
* Берд — прозвище Чарлза Паркера (1920–1955), американского джазового музыканта. О жизни и творчестве Паркера Кортасаром была написана повесть «Преследователь» (1959).
(обратно)726
«Роман о Розе» (фр.).
* «Роман о Розе» — французская аллегорическая поэма XIII века.
(обратно)727
Цивилизация, культура (ит.).
(обратно)728
Варварство, жестокость (фр.).
(обратно)729
* Клагес Людвиг (1870–1956) — немецкий психолог и философ, представитель «философии жизни».
(обратно)730
* Клер Рене — см. примеч. 568.
(обратно)731
* Оппенгеймер Роберт (1904–1967) — американский физик, руководил созданием атомной бомбы.
(обратно)732
* Лурд — город на юго-западе Франции, в предгорьях Пиренеев. Место паломничества, связанное с культом Девы Марии: в 1858 году четырнадцатилетней жительнице Лурда Бернадетте Сибуру неподалеку от местного целебного источника было явление Богородицы.
(обратно)733
Здесь и сейчас (лат.).
(обратно)734
Окисляюсь, следовательно, существую (лат.).
(обратно)735
Между прочим (лат.).
(обратно)736
Слова, слова, слова (англ.).
(обратно)737
Сахарного короля (англ.).
* Робинсон Шугар Рэй (1920–1989) — американский боксер.
(обратно)738
Ну и ну (фр.).
(обратно)739
* …философ и бабочка… — Речь идет о притче из трактата «Чжуан-Цзы», где говорится о сне философа, в котором он видел себя бабочкой, которой снилось, что она — философ, и т. д. Притча вошла в широко известную «Антологию фантастической литературы» Борхеса и не раз комментировалась им.
(обратно)740
* Фу-Манчу — доктор-злодей из романов английского писателя Сакса Ромера (1883–1959) и множества экранизаций.
(обратно)741
* Гуанаани (ныне Сан-Сальвадор) — остров в Вест-Индии. Первая земля Нового Света, которую увидел Колумб (12 октября 1492 года).
(обратно)742
* Кечуа — индейский народ, населявший районы современных Перу, Боливии, Эквадора, Чили, Аргентины.
(обратно)743
«Душевные смуты воспитанника Терлесса» (нем.).
(обратно)744
* Гофмансталь Гуго фон (1874–1929) — австрийский писатель.
(обратно)745
И ночью, и днем, детка, помни о том, Что сердце свое ты мне подарила навеки (англ.). (обратно)746
Джаз-Джаз Девушка (англ.).
(обратно)747
Мой дом полон блюза тоской, Тоска и блюз в моем доме с тех пор, как уехал он. Почтовый ящик полон тоски, но писем там нет, В хлебнице хлеб зачерствел от блюза и от тоски. Блюзом пропитано все — мясо в духовке и платья в шкафу, Блюз и тоска в постели моей — ведь я засыпаю одна (англ.). (обратно)748
Cloche — колокольчик, clochar — бродяга (фр.).
(обратно)749
* Филлой Хуан (1894–2000) — аргентинский писатель-экспериментатор; широко публиковаться стал лишь в 70-х годах.
(обратно)750
* Консьержери — часть Дворца Правосудия, бывшая тюрьмой.
(обратно)751
* Картуш Луи Доминик (1693–1721) — французский вор, главарь шайки, был казнен. Герой многочисленных произведений французской литературы.
(обратно)752
* …грозовой перевал… — отсылка к названию романа английской писательницы Эмили Бронте (1818–1848) «Грозовой перевал».
(обратно)753
* «Одиннадцать тысяч ударов» — роман Гийома Аполлинера (1880–1918).
(обратно)754
* Бюффе Бернар (1928–1999) — французский художник.
(обратно)755
Ты смотри, клошарка появилась (фр.).
(обратно)756
* Грок — сценическое имя швейцарского клоуна Адриана Ветташа (1880–1959).
(обратно)757
* Энсор Джейнс (1860–1949) — бельгийский художник.
(обратно)758
* Природа подражает искусству. — Из записных книжек Андре Жида к роману «Фальшивомонетчики». Французским прозаиком данное рассуждение записано со ссылкой на слова Оскара Уайльда, но восходит оно еще к «Метаморфозам» Овидия.
(обратно)759
* Палермо — район Буэнос-Айреса.
(обратно)760
Персиль — лучшее моющее средство (фр.).
(обратно)761
Привет, месье, мадам. Ну что, два раза сухого белого, как обычно, так? (фр.)
(обратно)762
Как обычно, дружище, как обычно. И добавь туда «Персиль» (фр.).
(обратно)763
* Гештальт-школа — направление в психологической науке 20—30-х годов XX века. Свое основное положение о целостности психических образований (гештальтов, нем. образов) сторонники гештальтпсихологии доказывали при помощи специальных картинок-тестов.
(обратно)764
Образ мира (лат.).
* Imago mundi — так трактовалась символика мандалы в трудах американского (родом из Румынии) мифолога Мирчи Элиаде (1907–1986).
(обратно)765
* Нин Анаис (1903–1977) — американская писательница.
(обратно)766
* Поднебесная — Китай.
(обратно)767
* Ранчеро — народные песни, распространенные в сельской местности Аргентины.
(обратно)768
Последний крик моды (фр.).
(обратно)769
* Салакру Арман (1899–1989) — французский драматург.
Ануй Жан (1910–1987) — французский драматург.
(обратно)770
От Рождества Христова.
(обратно)771
«Песни об умерших детях» (нем.).
* «Песни об умерших детях» — цикл песен Густава Малера (см. также примеч. 12).
(обратно)772
Заняться любовью (фр.); ласки (ит.).
(обратно)773
* ...личинки. — Исп. «larvas» значит и «личинки», и «личины» («маски»). Кроме того, здесь отсылка к одноименной книге рассказов аргентинского прозаика Элиаса Кастельнуово, с которым Кортасар был дружен, а также к ларвам (лемурам) римской мифологии — духам умерших невиновными или неотомщенными.
(обратно)774
Аббат С (фр.); игра слов: имеется в виду А, Б, С.
(обратно)775
* Батай Жорж (1897–1962) — французский писатель, философ.
(обратно)776
Он страдал оттого, что действующие лица получались какими-то бесплотными, вели себя бессмысленно и были крайне неубедительны (фр.).
(обратно)777
* Хватит гедонистических романов… — Гедонизм — направление в этике, признающее наслаждение высшим благом, целью жизни; стремление к удовольствиям, наслаждениям.
(обратно)778
Видящий, зрячий (фр.).
* Voyant — имеются в виду взгляды Артюра Рембо на поэзию как ясновидение.
(обратно)779
Подглядывающий (фр.).
(обратно)780
* Вентури Лионелло (1885–1961) — итальянский историк искусства.
(обратно)781
* Арган Джулио Карло (1909–1992) — итальянский историк искусства.
(обратно)782
* …разные эпохи могут быть параллельны друг другу. — Центральный мотив новеллы Борхеса «Сад расходящихся тропок».
(обратно)783
* Маршал Луис (1856–1929) — американский юрист.
(обратно)784
* Блэкстоун Уильям (1723–1780) — американский юрист.
(обратно)785
* Дарроу Кларенс (1857–1938) — американский юрист.
(обратно)786
* Лаури Малькольм (1909–1957) — английский писатель, прославившийся романом «Из-под вулкана» (1947).
(обратно)787
* «Yet I have slept with beauty» — из стихотворения американского поэта Лоуренса Ферлингетти (р. 1919) «Я в жизни не лгал перед красотой».
(обратно)788
А я переспал с красотой, сделав с ней страшную вещь. В постели моей красота распята была, раз или два. Излился стихом я, а то и двумя. Излился стихом я, а то и двумя на мир, похожий на Босха (англ.). (обратно)789
* «Time present and time past…» — первая строка поэмы Элиота «Бернт-Нортон».
(обратно)790
День нынешний и день прошедший, Они лишь в будущем, быть может, Откроют нам свой тайный смысл (англ.). (обратно)791
* Т. С. — Томас Стернз Элиот.
(обратно)792
Вот гад! (фр.)
(обратно)793
* …бабочка или Чан Кай-ши? — Напоминание о притче из трактата «Чжуан-Цзы» (см. примеч. 739), намеренно спутанного с правителем Тайваня Чан Кай-ши (1887–1975).
(обратно)794
* …вывернуть все наизнанку, как перчатку… — реминисценция стихотворных строк испанского философа и писателя Мигеля де Унамуно (1864–1936): «Перчатку стороной нелицевою //ты выверни — и снова путь начни».
(обратно)795
От яйца, с самого начала (лат.).
(обратно)796
* Авенида Сан-Мартин — см. примеч. 614.
(обратно)797
* Он бы не стал себя искать, если бы уже не нашел. — Измененная цитата из «Мыслей» Паскаля.
(обратно)798
* …по кругу, у которого везде центр… — из «Мыслей» Паскаля. Подобная фраза есть в трактате «Правила богословия» Алана Лилльского. Видоизменения данной метафоры вселенной от средневековья до XVII столетия прослежены Борхесом в эссе «Сфера Паскаля».
(обратно)799
Соответствующий моменту, современный (англ.).
(обратно)800
Какою мукой я томим… (ит.).
(обратно)801
* Арним Ахим фон (1781–1831) — немецкий писатель.
(обратно)802
* Труко — карточная игра, популярная в Испании и Латинской Америке.
(обратно)803
С соответствующими изменениями (лат.).
(обратно)804
Мы те, кто в наше время обратился к тому, чтобы создать в себе пространство для жизни, пространство, которого не было и которое, кажется, и не должно занимать место в пространстве. Арто «Нервомер» (фр.).
(обратно)805
В этом предисловии или письме я отвечаю перед или на запрос о разработке идей для ЮНЕСКО, напечатанных в газете «Диарио» в Монтевидео (фр.).
(обратно)806
Западному человеку (лат.).
(обратно)807
Блаженны нищие духом (лат.).
(обратно)808
* Риве Рауль (1876–1958) — французский этнолог.
(обратно)809
Боязнью пустоты (лат.).
(обратно)810
То же самое (лат.).
(обратно)811
* Площадь Коллеони (иначе: Санти-Джованни-и-Паоло) — площадь в Венеции.
(обратно)812
* Скалигеры (делла Скала) — феодальный род правителей Вероны в XIII–XIV веках.
(обратно)813
* Чивилкой — город в провинции Буэнос-Айрес.
(обратно)814
* «We make our meek adjustments…» — из стихотворения американского поэта Харта Крейна (1899–1932) «В духе Чаплина».
(обратно)815
Мы послушно согласны со всем И рады утешенью любому, А в рваном кармане Только вошь на аркане (англ.). (обратно)816
Сказал (лат.).
(обратно)817
Страна не для людей (англ.).
(обратно)818
* …жест ужаса у Адама Мазаччо. — Имеется в виду фреска Мазаччо (1401–1428) «Изгнание Адама и Евы из рая» во флорентийской капелле Бранкаччи. Кортасар посвятил Мазаччо большое стихотворение.
(обратно)819
* Эспронседа Хосе де (1808–1842) — испанский поэт-романтик.
(обратно)820
* Восточная Республика — Уругвай. (После освобождения от колониальной зависимости и принятия конституции 1830 года Уругвай стал официально называться Восточная Республика Уругвай.)
(обратно)821
* Макароническое — произведение, в котором используются разноязычные слова (обычно для создания комического эффекта).
(обратно)822
* Трисмегистическое — см. примеч. 522.
(обратно)823
* Мачетеносцы — иронический неологизм Кортасара. Мачете — большой тяжелый нож для рубки сахарного тростника и т. п.
(обратно)824
* …один убежден в правоте Тукумана, а другой верит в Девятое июля… — Ирония Кортасара заключается в том, что город Тукуман и дата «9 июля» связаны между собой самым тесным образом. 9 июля 1816 года на конгрессе в Тукумане (северо-запад Аргентины) была провозглашена независимость Объединенных провинций Ла-Платы. 9 Июля — национальный праздник Аргентины.
(обратно)825
* Кэйзмент Роджер (1864–1916) — ирландский политический деятель. Получил скандальную известность своим интимным дневником.
(обратно)826
Труд ведет к свободе (нем.).
* Arbeit macht Frei — надпись на воротах немецких концлагерей периода гитлеровской диктатуры.
(обратно)827
Дух времени (нем.).
* Zeitgeist — выражение Иоганна Гердера (1744–1803), введенное им, вероятно, с ориентацией на понятие «гения века» у Шарля Монтескье (1689–1755) и укоренившееся в романтической и позднейшей культурной традиции.
(обратно)828
Игра слов: loca (исп.) — безумная, потерявшая разум.
(обратно)829
* Битва при Акциуме — морское сражение, в котором император Октавиан разбил флот Антония и Клеопатры (31 г. до P. X.).
(обратно)830
* Бунюэльский — неологизм Кортасара, образованный от фамилии Бунюэль (см. примеч. 568.).
(обратно)831
* Упанишады — свод религиозных трактатов Индии.
(обратно)832
* Артишок — огородное растение с мясистой цветочной головкой, идущей в пищу.
(обратно)833
* «Exeunt» Рембо. — Театральной ремаркой «exeunt» («уходят») здесь характеризуется разрыв Рембо с литературой и со всей прежней жизнью в середине 70-х годов XIX века.
(обратно)834
Знания, опыт, мораль (греч.).
(обратно)835
* Перуджино (наст. имя — Пьетро Вануччи; 1452–1523) — итальянский художник.
(обратно)836
* Альберти Леон Баттиста (1404–1472) — итальянский художник, историк искусства.
(обратно)837
* Пико делла Мирандола Джованни (1463–1494) — итальянский философ.
(обратно)838
* Валла Лоренцо (1405–1457) — итальянский философ.
(обратно)839
* Буркхард Якоб (1818–1897) — швейцарский историк культуры и искусства, философ.
(обратно)840
* Беренсон Бернард (1865–1959) — американский историк искусства.
(обратно)841
* Сарто Андреа дель (1486–1530) — итальянский художник.
(обратно)842
* Литтре Эмиль (1801–1881) — французский лексикограф.
(обратно)843
Первозданный мрак (англ.).
(обратно)844
* Армагеддон — в христианстве: место последней битвы (и сама битва) между Богом и силами Сатаны.
(обратно)845
* Гомбрович Витольд (1904–1969) — польский писатель. Многие годы жил в Аргентине и во Франции.
(обратно)846
Новый инструмент (лат.).
* Novum organum (новый инструмент) — здесь: игра на заглавии основополагающего труда Фрэнсиса Бэкона о рациональном методе науки.
(обратно)847
* Басс Габий (I–II вв.) — римский писатель-эрудит.
(обратно)848
Personare (лат.) — громко звучать, оглашать.
(обратно)849
* Геллий Авл (130–180) — римский писатель.
(обратно)850
* Мои шаги по этой улице… — стихотворение Октавио Паса «Здесь».
(обратно)851
* Суфизм — мистико-аскетическое течение в исламе.
(обратно)852
* Тардье Жан (1903–1995) — французский писатель.
(обратно)853
* Камбасерес — см. примеч. 481.
(обратно)854
* Вьерзон — город в центральной части Франции.
(обратно)855
Прекрасно (ит.).
(обратно)856
* Херес-де-ла-Фронтера — город в Испании.
(обратно)857
* Существование предшествует сущности… — ключевая формула философии экзистенциализма, выдвинутая Сартром в книге «Экзистенциализм — это гуманизм» (1952).
(обратно)858
Вспышка молнии (лат.). В переносном значении: свободный полет.
(обратно)859
* Бергамин Хосе (1897–1983) — испанский писатель.
(обратно)860
* Малевич Казимир Северинович (1878–1935) — русский художник, основоположник супрематизма.
(обратно)861
Вот именно (ит.).
(обратно)862
Может быть (нем., англ., ит., фр.).
(обратно)863
В этой больнице Лэннек открыли аускультацию (фр.).
(обратно)864
* Бальзак-Роден или Роден-Бальзак — имеется в виду памятник Бальзаку работы Огюста Родена (1840–1917) в Париже. Памятник первоначально был отвергнут и установлен лишь в 1939 году.
(обратно)865
Цыганские секреты для возвращения утраченной страсти (фр.).
(обратно)866
Снятие порчи (фр.).
(обратно)867
Предложит вам подлинник. Талисман священного индийского Древа (фр.). Бюллетень, н. 1. Госпечать Франции. Б. П. 27, Канн.
(обратно)868
Медиум-Таро, поразительные предсказания, улица Эрмель, 23 (фр.).
(обратно)869
Карты, точные даты (фр.).
(обратно)870
Индейские секреты, испанские карты таро (фр.).
(обратно)871
Гадание на домино, на раковине, на цветах (фр.).
(обратно)872
Только МАРЗАК гарантирует возвращение страсти (фр.).
(обратно)873
Точные предсказания по фотографии, волосам, в письменной форме. Сеанс интегрального магнетизма (фр.).
(обратно)874
* Девериа: Ашиль (1800–1857) и Эжен (1805–1865) — французские художники.
(обратно)875
* Бертран Алоизиус (1807–1841) — французский поэт.
(обратно)876
Элитной предсказательницы Парижа и многих других стран, известной всему миру своими предсказаниями в печати и на радио, возвратившейся из Канна (фр.).
(обратно)877
* Барбе д’Оревильи Жюль (1808–1889) — французский писатель.
(обратно)878
* Неккер Жак (1732–1804) — французский политический деятель, финансист.
(обратно)879
* Аускультация — прослушивание больного с помощью стетоскопа. Стетоскоп был изобретен французским врачом Рене Теофилем Лэннеком (1781–1826).
(обратно)880
По желанию, на выбор (лат.).
(обратно)881
Уснуть и видеть сны (англ.).
* «Perchance to dream» — Шекспир. «Гамлет», III, 1.
(обратно)882
* Омбу — дерево семейства лаконосных. Растет в Аргентине и Уругвае. Иронические слова Оливейры «омбу — это трава» вызваны, видимо, тем, что дерево мате, из листьев которого приготовляют чай, по-испански называется «трава» (yerba-mate).
(обратно)883
* «Милонгита» — танго Энрике Педро Дельфино, известное в исполнении Гарделя (Милонга — жанр аргентинского городского фольклора).
(обратно)884
* «Черные цветы» — танго Хулио Де Каро.
(обратно)885
* Сутин Хаим (1911–1943) — художник Парижской школы (родом из Литвы).
(обратно)886
Сами знаем, как себя вести (англ.).
(обратно)887
* Гётеборг — университетский в город на юго-западе Швеции.
(обратно)

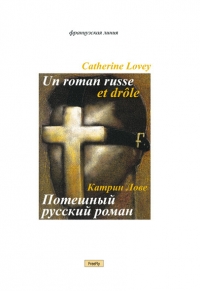



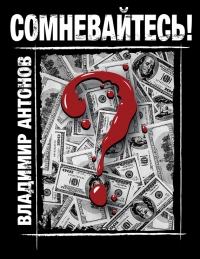


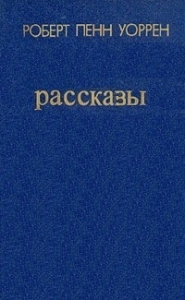
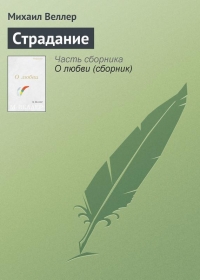

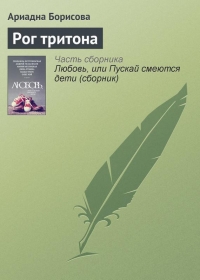
Комментарии к книге «Игра в классики», Хулио Кортасар
Всего 0 комментариев