Катя Райт Отторжение
Иллюстратор Юлия Змеева
Дизайнер обложки Мария Маврина
© Катя Райт, 2018
© Юлия Змеева, иллюстрации, 2018
© Мария Маврина, дизайн обложки, 2018
ISBN 978-5-4493-0128-4
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Рита
Мама с папой уже за столом. Завтрак накрыт. Я подлетаю к кухонному шкафу и быстро, пока мама не успела ничего проворчать, беру горсть мармеладок. Красные, желтые, зеленые, посыпанные сахаром, они приятно липнут к ладони. Солнце пробивается яркими лучами сквозь шторы и бросает блики на стол. Я не могу удержаться, достаю из сумки телефон и фотографирую. Чашка кофе: моя и Питера — чуть влезла в кадр. Тарелка с хлопьями, бутылка молока. Высыпаю рядом сахарные мармеладки. Скатерть с маленькими незабудками, разбросанными по всему столу. И лучи солнца — как две параллельные дорожки на этом поле.
— О боже! — папа закатывает глаза. — Ты никогда не прекратишь это!
Мы смеемся. Хороший сегодня день. Я переключаю камеру на телефоне, вытягиваю руку и делаю селфи чуть сверху, чтобы захватить свое желтое платье в белый горох, такое же легкое и яркое, как сегодняшний сентябрьский день.
Пока публикую свой портрет в Инстаграм, к завтраку спускается Питер.
Питер мой старший брат. Мы двойняшки. Он родился на несколько минут раньше. Питер классный. Добрый, отзывчивый. Он ни разу не отказывал мне. А так как он всегда был объективно сообразительнее во всем, что касалось школьных предметов, обращалась я к нему часто.
— Привет, дорогой! — расплывается в улыбке мама.
— Доброе утро! — папа делает жест рукой.
— Доброе, — отвечает Питер ровным голосом.
Я машу ему и тоже улыбаюсь. Он садится на свое место. За последние два года Питер научился садиться и вообще двигаться так, чтобы мы видели только одну сторону его лица. Вернее, чтобы не видели ту, которая пострадала при несчастном случае. Он всегда немного вполоборота, всегда как будто отворачивается или смотрит куда-то в сторону. Он так наловчился, что мы можем несколько дней к ряду даже не вспоминать, что у Питера вместо правой стороны лица — уродливый ожог. Вернее было бы сказать, у Питера вообще нет половины лица. Несчастный случай. Так мы договорились называть то, что произошло, хотя почти не говорим об этом. Уж точно никогда не говорим об этом с Питером. Он сам настоял на том, чтобы ничего, кроме «несчастный случай», никогда не произносилось. Потому что ведь понятно — люди будут спрашивать. Как бы тщательно Питер ни прятался, все равно кто-то что-то увидит.
Мы переехали в Аннаполис из Бостона в начале июня, и мне было невероятно одиноко до школы. Хотя в новой школе тоже не очень-то легко, но летом было почти невыносимо. Мне хотелось купаться, сидеть на берегу, бегать по пляжу. Мне хотелось бродить по набережным и пирсам. Берег здесь изрезан заливами и крошечными бухтами. Если смотреть на карту, то частные пристани для катеров похожи на зубчики старой расчески, выпирают, то тут, то там. А когда идешь вдоль них, то ничего такого не видно — просто обычные яхты. Еще мне очень хотелось перебраться на другую сторону моста Чесапик Бэй. Вообще, правильное название мост имени Уильяма Престона Лейна-младшего, но так его никто не называет. Просто Чесапик Бэй. Не путать с тем, у которого есть тоннели. Но так и не сложилось — родители занимались переездом и, естественно, втягивали во все домашние дела меня. Сначала часть коробок застряли где-то под Филадельфией, и папа обрывал телефоны компании, занимающейся переездами. Потом вместе с нашими коробками приехали чужие, и нам пришлось искать хозяев и отправлять груз обратно. Потом мама задумала переставить мебель, и началась невероятная движуха. Диван — к окну. Да нет, к другому. Рядом — лампа, картину — на стену. Да нет, не на ту. Да нет, не ту картину. Шкафов в кухне оказалось недостаточно для всей нашей посуды, и спешно пришлось вызывать плотника, чтобы он снял мерки и сделал еще парочку. Цвет новых шкафов не совпал с теми, что висели на кухне, и пришлось подбирать краску и перекрашивать все. В общем, переезд длился прямо до конца августа, а потом на крыльце треснула доска. Папа доктор философии и никогда не держал в руках топора или пилы, так что опять пришел плотник. Теперь одна доска на заднем крыльце так и светится, выбиваясь из общего потертого фона.
Новый дом раза в два больше того, что был у нас в Бостоне. На первый взгляд выглядел он обшарпанным, но на самом деле оказался очень просторным. С терракотовой черепичной крышей и широким крыльцом. Газон после стрижки обнажил проплешины и залысины, но совершенно их не стеснялся и даже гордо поблескивал на солнце, подмигивая каплями из поливального шланга.
Поначалу все выглядело немного заброшено, в основном, из-за кучи веток, сложенных горой на заднем дворе. Папа купил измельчитель, чтобы разобраться с ними. Он даже позвал Питера помочь ему, но куда там — брат ни за что не выйдет даже на крыльцо. Так что, ветки до сих пор лежат бесформенным шалашом на заднем дворе.
От нас до Балтимора около часа езды на машине. В Балтиморе Питеру должны сделать очередную операцию. Хороший доктор, говорят. Хорошая клиника. Да и было просто необходимо сменить обстановку, потому что там, где мы жили раньше, все слишком много знали. Все знали всё, честно говоря, и «несчастный случай» не очень-то прокатывал. Люди смотрели на Питера с жалостью, потому что газеты раструбили о том, что произошло, и брата это страшно бесило. Нас всех бесило, ведь взгляды были такими очевидными — не скрыться. А соседские мальчишки, эти мелкие дрянные засранцы, все норовили заглянуть к нам в окна, чтобы увидеть Питера. Ух, как же они меня раздражали!
Здесь мы поселились в пригороде. По своим университетским связям папа нашел Питеру лучших преподавателей для дистанционного обучения, и, по-моему, брат уже давно оставил позади школьную программу. Он постоянно за книжками. Перелопатил всю отцовскую библиотеку — часть ее из бостонской гостиной переехала прямиком в его здешнюю комнату. И вот, не прошло и трех месяцев, в новой комнате Питера книги уже не умещаются на полках и лежат на полу башенками. А его покетбук просто трещит от файлов. Он столько времени проводит за учебой, что через год станет, наверное, профессором. С другой стороны, что ему еще делать. Я постоянно уговариваю его выползти хоть на крыльцо вечерком — там же все равно никто не увидит. Но Питер только упрямо мотает головой.
Школа Броаднек классная. Мне недолго пришлось быть новенькой. Не прошло и месяца с начала учебного года, у меня уже появилась подруга. Памела Кастлрой, яркая блондинка с огромными голубыми глазами, звезда школы, самая популярная девчонка, подошла на третий день и спросила, есть ли у меня аккаунт в Инстаграме. Я ответила, что конечно, есть, и мы подписались друг на друга. «Ты не теряйся тут, — сказала тогда Памела, — Я тебя со всеми познакомлю». И она сдержала обещание.
Тим Портер. Высокий красавчик с фигурой как у спасателя из сериала, с коротко стрижеными волосами цвета подпаленной скорлупы жареного каштана. Квотербэк и капитан школьной футбольной команды. Авторитет и безоговорочный лидер. Мечта. И он с интересом поглядывает в мою сторону. Как-то на перемене, когда он со свойственной ему небрежностью закидывал учебники в рюкзак, я сфотографировала его. Думала, не заметит, но он поймал мой взгляд в объективе и подмигнул. На уроках он опрятный и примерный, на тренировках — напористый и активный. Можно с ума сойти, наблюдая, как они с парнями носятся по полю под свистки и громкие команды тренера.
Джерри Ланкастер, друг Тима. Тоже футболист, центровой лайнмен. На нем рубашки просто трещат — такой он накаченный. А рубашек у него… Кажется, они ни разу не повторялись. И улыбка, широченная, во все зубы. Страшный модник. Памела говорит, он по полчаса вертится перед зеркалом, прежде чем выйти куда-то.
Еще один друг Тима и товарищ по команде Осборн Квинс. Его кожа — словно растопленный шоколад. Серьга в ухе — как у знаменитых рэперов, серебряный браслет на запястье. Осборн всегда носит кроссовки. Даже с брюками и рубашками. Шутит, что его стопа создана для спорта. Он невероятно позитивный, всегда с улыбкой и каждое утро с новой шуткой.
В школе Броаднек нет единой формы. Все ученики носят строгую одежду: парни — рубашки и брюки, девочки — юбки до колен и блузки. Все придерживаются спокойных тонов, все выглядят как одно целое. Кроме Шона Фитцджеральда. Машины на парковке тоже примерно одного уровня. Чистые, не то чтобы очень дорогие, но и не колымаги. Все аккуратно выстроены на парковочных местах. Все, кроме машины Шона Фитцджеральда. Ярко синяя «Шевроле» последней модели словно выпрыгивает из потока. «Ого!» — когда вижу ее, аж присвистываю. «Чья это?» — спрашиваю Памелу. Но она только фыркает и машет рукой. Мы обходим машину спереди, и у меня мурашки пробегают по спине. Правая сторона просто разодрана — как побывавший в стиральной машине кусок картона. Дверь вмята, стекло покрыто трещинами, краска содрана. Неслабая была авария. Хозяин такой тачки должен был сразу побежать в автосервис, но Фитцджеральду, похоже, наплевать. Он входит в кабинет всегда одним из первых, а выходит последним. Я бы никогда даже не узнала его имени, если бы не спросила у Памелы, потому что к нему никто не обращается. Он — как пятно на картине класса. Вечно в потертых джинсах и толстовках с капюшоном. Черные, серые, с надписями на спине. Даже в сентябре, который выдался довольно жарким, когда все парни модно закатывали рукава у рубашек, этот не вылезал из своих толстовок. Потертый красный рюкзак всегда перекинут через плечо. Шон ни с кем не здоровается, не разговаривает, ходит, опустив голову. Он как будто хочет быть незаметным, но его внешность бросается в глаза. Рыжий, с веснушками по всему лицу, рассыпанными, как звезды по небу. Но не за городом, где звезд слишком много, а, скорее, на окраине мегаполиса. Волосы его коротко стрижены и всегда растрепаны, как будто он расчесывает их разве что собственными пальцами. Я спрашивала несколько раз у Памелы и других девчонок, что с ним не так, но все лишь отмахиваются или пожимают плечами. Однозначно, этот Фитцджеральд не очень-то приятный тип, раз никто ему даже руки не подает.
После школы иногда мне удается увидеть Питера дремлющим на диване в гостиной. Сегодня именно такой день. С одной стороны, я люблю эти моменты, почти единственные, когда брата можно застать врасплох и наблюдать за ним, не защищенным толстыми стенами. Он лежит, безмятежно, обнимая подушку, ровно расслабленно дышит, как будто ничего его не беспокоит, как будто он такой же, каким был два года назад и четырнадцать лет до этого. Но Питер всегда спит только на здоровой стороне лица, и сейчас я вижу другую — изуродованную, которая и на человеческое лицо-то не похожа. Как будто не Питер лежит передо мной, а чудовище, монстр из детских раскрасок с заданиями, которого неуверенной рукой нарисовал пятилетний мальчишка. И мне каждый раз приходится одергивать себя и заново убеждать, что это мой любимый брат. Вот и сейчас — я останавливаюсь у дивана, где уснул Питер, и первое, что мне хочется сделать, отвернуться, поморщиться, а потом — залиться слезами. Но я говорю себе: «Это же Питер, твой любимый Питер, не отворачивайся от него». Я сильно сжимаю губы, чтобы вытравить из себя жалость, и в бликах солнечного света, проникающего между занавесками, как будто ловлю отблеск его прежнего. Озорного, с искрящимися жизнью глазами, такого красивого, что даже старшеклассницы сворачивали головы. Волосы чуть темнее созревшей ржи, синие глаза — как грозовое небо в весенний день. На правой стороне лица был шрам, небольшой, Питер получил его, когда упал с велосипеда. Рассек скулу, и пришлось накладывать швы. Питеру было тогда — сколько? — десять. Помню, он ни слезинки не проронил. Я вообще едва ли смогу вспомнить его плачущим. На месте того аккуратного детского шрама теперь нет ничего. Нет кожи или даже рубцов — только неопределенная, скукоженная, а потом как будто снова натянутая, рваная ткань. Как будто и нет Питера, как будто он начинается только с воротника футболки, под которым ожог скрывается.
И еще нельзя, чтобы Питер застал меня смотрящей на него. Я научилась предвидеть его пробуждения и уходить за полминуты до того, как брат откроет глаза.
— А, ты уже проснулся! — говорю с улыбкой, высовывая голову из столовой.
Питер выглядит растерянным. Он думает, не смотрела ли я на него спящего.
— Чем занимался сегодня? — быстро спрашиваю очень непринужденно. — Хочешь сэндвич?
Он кивает, не издавая ни звука. Он не поднимает на меня глаз, а потом встает так, чтобы я видела только левую сторону его лица.
— Как в школе? — серьезно спрашивает он.
Иногда мне кажется, что мой брат лет на тридцать меня старше. Неужели из-за одного «несчастного случая» человек может за короткий срок повзрослеть на несколько десятков лет и даже состариться. И вообще, что делает человека старше? Глядя каждый день на Питера, я теперь понимаю, что не пергаментная кожа, не морщинки вокруг глаз, и даже не временное расстояние от даты рождения до сегодняшнего дня. Это что-то во взгляде, когда гаснет искра. Она, может, была незаметна раньше, но когда потухла, стало темно. Это что-то в отношении ко всему, когда человек словно отодвигает жизнь в сторону за ненадобностью. Так, иногда поглядывает на нее, но не живет. Если б я только знала, в каком ящике Питер запер свою жизнь, я бы выкрала ключ и заставила его снова помолодеть.
— В школе как в школе, — пожимаю плечами. — Девчонки классные.
— Это круто, — отвечает Питер, но по его голосу вообще не скажешь, что круто.
Мы едим сэндвичи с тунцом и болтаем. Я выкладываю миллион своих впечатлений и мыслей о новой школе и одноклассниках, а он слушает. Британи Фортис сегодня не устояла на своих каблуках, споткнулась и уронила поднос в столовой — все жутко смеялись. Лин Вэн начала встречаться с Рональдом из параллельного класса. Наш физрук мистер Седрик сломал руку. Ничего особенного, но никто не умеет так слушать как Питер. Он ловит каждое слово и каждое запоминает. Складывает их бережно где-то на полках своей памяти. Могу поклясться, у него там идеальный порядок. Наверное, даже круче, чем у него на столе. Поэтому в нужное время он может без труда найти нужное воспоминание или отрывок разговора.
— А у тебя что? — спрашиваю.
— Ничего интересного, — пожимает плечами он. — Прикладная математика, физика, астрономия.
Я хочу спросить, что такое эта прикладная математика, но его улыбка… Это что-то. Настолько сдержанная, будто его могут казнить за нее. Когда-то Питер улыбался широко и смеялся так, что хрусталики на люстрах в ресторанах позвякивали в унисон. Смеха его я не слышала уже два года, а улыбка… Она стала почти незаметной. Может, оттого что одна половина лица не может улыбаться за двоих, а может, за улыбку отвечала как раз правая сторона, которой больше нет.
Питер
Из маминого любимого сервиза разбилась одна тарелка. Выскользнула, когда они с Ритой выставляли их из коробок в шкаф, освобождая от бумаги. Папа порезался, когда открывал канцелярским ножом измельчитель веток. Это была одна из первых покупок, потому что веток на заднем дворе — целая куча. Почти все лето мы непрерывно наводили порядок и раскладывали вещи.
Мои коробки приехали одними из первых. Книги прибыли чуть позже, когда я уже успел расставить и прибить все полки. Целая стена, полностью занята книгами — от пола до потолка. Я заказал легкую лестницу, чтобы удобно было добираться до верха. К августу дом был готов. Началась наша новая жизнь.
Думаю, сложнее всего приходится Рите. Новая школа, новые друзья. Но она умница — люди сами к ней тянутся. Она справится. Весь сентябрь сестра была как на иголках, но к концу первого учебного месяца стало легче. Я чувствовал это в каждом ее движении, в том, как она приходила из школы и, либо тяжело с выдохом опускалась на диван в гостиной, либо взлетала по лестнице в свою комнату.
Сегодня папа подходит ко мне с просьбой. Он знать не знает, что делать с этим измельчителем, но гора веток на заднем дворе такая огромная, что даже доктора философии толкает на садовые работы.
— Поможешь мне, Питер? — он кивает на заднюю дверь.
Я отрицательно мотаю головой. Никогда ни за что я не выйду из дома. Я сто раз говорил. Даже на задний двор.
— Боюсь, один не справлюсь, — вздыхает папа, — Вообще не представляю, как их все переработать…
Я пожимаю плечами.
— Пойду в своей комнате уберусь, — говорю.
Я переставляю книги. Я делаю это каждые две недели. Можно расставить по размеру, чтобы они тянулись ровными рядами. Можно по темам, по алфавиту или по цветам. Медленно вынимаю книги с полок, складываю в стопки, потом начинаю разбирать. Прочитанные поставлю выше. Научные — на полки ближе к столу. Физика, математика, химия. Толстые биографии определю отдельно. Леонардо да Винчи, Архимед, Стив Джобс, Бенджамин Франклин, Альберт Эйнштейн. Нет, лучше по алфавиту. Или по годам жизни? Часть книг не помещаются на полках. Их складываю стопками в углу. Еще несколько больших энциклопедий и подарочных альбомов о лошадях. Рассматриваю их, провожу рукой по обложкам. На одной — фотография гнедого арабского скакуна и золотое тиснение. Ее мне подарили за победу в соревнованиях округа. Там, внутри, на форзаце есть даже памятная надпись. Но я не открываю книгу. Надо бы вообще все их убрать подальше. Может, продать на e-bay? А может, выбросить? Жокейский шлем, седло и прочую экипировку я же продал. Так к чему хранить эти альбомы? Хотя, подписанные, они, наверное, никому не нужны. Убираю их под кровать — с глаз долой. Кубки и победные статуэтки остались под кроватью в нашем старом доме в Бостоне. Расстановка книг успокаивает. Это как медитация, или практики дыхания, которым меня учил мой врач. Тогда, после первой операции, я стал задыхаться. Не из-за нехватки воздуха, а от слез. Я так ревел, когда меня никто не видел, что в прямом смысле захлебывался. Зажимал рот подушкой. Чувствовал прикосновения ткани к своему лицу, отбрасывал подушку. И рыдал еще сильнее. Никто никогда не видел этого. Незачем. Сейчас такого уже не случается. Я не привык, конечно — просто слезы, наверное, кончились. К тому, каким я стал, невозможно привыкнуть. Можно просто приучить себя не смотреть. Я не смотрю на себя целиком.
— Может, съедим на пляж? — спрашивает за ужином Рита. — Может, в выходные, а? — она смотрит на папу, а папа переводит взгляд на меня.
Теперь все смотрят на меня. Я мотаю головой. Какой пляж? Ни за что я не выйду из дома. Чтобы кто-то еще стал на меня пялиться!
— Можете ехать без меня, — отвечаю.
— Ну, Пи-и-итер! — тянет Рита и делает жалобные глаза.
Только она умеет сделать такие глаза, что, спорю, лидер Северной Кореи выпустил бы всех заключенных из лагерей, увидь он этот взгляд. На меня это безоговорочно действовало раньше. Теперь — нет. Что толку так смотреть!
— Рита! — обрываю.
Ну, все же знают, что я не выхожу. Все всё знают и периодически пытаются что-то предложить. Как будто я забуду что ли? Ах, да, конечно, поехали на реку, а потом сходим в кино, прогуляемся, накупим всякой всячины, посидим в «KFC». Ой, простите, я же совсем забыл, что я урод, и все вокруг будут таращиться на меня, дети будут показывать пальцем, родители одергивать их и шипеть, что так нельзя. А потом будут жалеть, охать и стыдливо отводить глаза. Нет, ничего я не забыл. И поэтому никуда я не пойду.
Шон
Возвращаюсь домой из школы. Открываю дверь. Рюкзак сползает с плеча. Волоку его за собой на второй этаж. В комнате стягиваю кеды, бросаю толстовку на кровать. Осень в этом году жаркая. Вообще, с погодой творится черт знает что. Иногда думаю, лучше бы согласился на переезд, когда папа предлагал. Умотали бы куда-нибудь на север, в Массачусетс, или в Мэн, или вообще на Аляску. Папа бы, конечно, не согласился так далеко, но Аляска было бы самое то. Но, фиг знает, почему, остались, а теперь уж папа и слушать меня не станет.
— Шон, милый, — мама быстро поднимается по лестнице и подходит к моей комнате. — Как дела в школе?
— Как всегда, — отвечаю, не глядя на нее.
— Что-нибудь будет в честь Хэллоуина?
— Ага, — бурчу, — наряжусь в самого себя и пойду на кладбище…
— Шон, — мама качает головой.
— Что?
— Сейчас папа вернется. Будешь ужинать?
— Нет.
Она окидывает взглядом мою комнату.
— Может, уберешься, а то как-то у тебя неопрятно…
У меня комната — полный бардак. Книги, учебники свалены у стола в стопки, которые напоминают съезд пизанских башен. Часть одежды — на стуле возле шкафа, стол и подоконник завалены обрезками бумаги, чертежами, тюбиками клея, готовыми и не получившимися деталями бумажных макетов зданий. Тут же — карандаши, линейки, кисточки, вымазанные белой гуашью и баночки с краской. Спортинвентарь и смятые старые плакаты мама не видит — они под кроватью. В углу, один на другой громоздятся готовые архитектурные макеты. Дом в викторианском стиле давит на крышу американской закусочной, полукруг стадиона выглядывает из-под Эмпайр-Стейт-Билдинг.
— Да ладно, мам, нормально, — говорю и кидаю рюкзак прямо на макеты. Они глухо хрустят.
— Зачем ты так, Шон! — мама поджимает губы и качает головой. — Такие красивые! Мне они очень нравятся…
— Да, фигня.
После ужина, уже поздно вечером, когда родители смотрят телик внизу, спускаюсь съесть сэндвич.
— Поешь нормально, Шон, — говорит мама, — там, в холодильнике, курица и салат.
— Угу, — киваю.
Когда отламываю крылья у запеченной курицы, в кухне появляется папа. Я стою спиной и не вижу его, но узнаю по шагам. И еще по тому, что за секунду до него в помещении всегда появляется разочарование.
— Как в школе, сынок? — спрашивает он, и разочарование злобно ухмыляется, рассевшись на стуле.
— Как всегда, — отвечаю.
Он молчит сначала. Потом говорит, что мама сегодня приготовила обалденно вкусную курицу. Глупо так — мама всегда готовит обалденно. Потом папа замечает с деланной непринужденной усмешкой, что они оставили мне мои любимые крылья. Тоже глупо — с детства ем у курицы только крылья. И опять повисает пауза. В общем, отца можно понять — не о чем ему особенно говорить со мной, а у него же, вроде как, родительские обязанности и все такое. Он приличный воспитанный человек и не может просто так взять и выставить меня из дома с глаз долой. Да и если бы это было законно, может, так и сделал бы.
— Я тут подумал, Шон, — он кладет руку мне на плечо, и меня передергивает, — может, как в старые времена, повозимся с машиной, а?
— Не надо делать вид, что тебе приятно со мной, — отрезаю.
— Ну что ты, сынок…
— Не надо, пап! — повышаю голос. — Ничего не надо, ладно?
Вытаскиваю тарелку с крылышками из микроволновки, накладываю салат и быстро иду к себе.
— Мы все еще можем отдать твою Шевроле в ремонт! — кричит папа мне вслед.
Звучит как будто «мы все еще можем отдать в ремонт тебя». Да уж, если бы были мастерские по ремонту сыновей, папа бы годовую зарплату не пожалел. А теперь ему просто приходится делать вид, что он меня по-прежнему любит. А машина? Мне ее подарили на шестнадцатилетие, а в конце прошлого учебного года я попал в аварию. Папа за эту тачку нормальную сумму выложил. Но тогда он еще меня любил. Тогда никто еще не знал, каким окажется его единственный сын. А потом его сын гонял по полю и врезался в дерево. Проскреб всю бочину, и папа на меня так посмотрел, будто это было специально, чтобы его позлить. На самом деле, нет, конечно. Ему не объяснить. Он думает, что все мои мысли только о том, как бы разочаровать его. Но, во-первых, больше чем есть, разочаровать уже невозможно. Просто у разочарования, как и у всего есть предел, и в нашей семье он достигнут. Тогда мне было плохо и, чтобы ничего с собой не сделать, поехал в поле, стал гонять там, и врезался в дерево. Потом меня опять потащили к психологу. Ну, ведь на огромном поле дерево было одно, и только идиот вроде меня мог врезаться в него.
Рита
Тридцать первого октября у Питера день рождения. Тридцать первого октября у нас с Питером день рождения, поэтому я пропускаю Хэллоуин и после уроков спешу домой. Как бы мне хотелось куда-нибудь выбраться, как раньше. В ресторан или в кино всей семьей, или хоть просто в занюханный Макдоналдс на шоссе Блу Стар Мемориал. Каждый Хэллоуин для нас всегда был двойным праздником. Днем мы бегали с друзьями, нарядившись в костюмы, и запугивали соседей, вымогая сладости, а вечером смывали краску с лиц и отправлялись с родителями в ресторан или оставались дома и принимали гостей. Наш день рождения всегда был пропитан ароматами корицы, тыквенного пирога и карамельных яблок в шоколадной глазури с разноцветной посыпкой. Теперь мама по-прежнему пытается поддерживать эту атмосферу, но сказочные ароматы не радуют Питера. Из карнавальных костюмов мы выросли, а после несчастного случая даже радость дня рождения испарилась. Но особенно сейчас мне очень хочется, чтобы все стало как прежде. Я надела бы свое любимое платье, строгое, серое, которое мы купили вместе с мамой, туфли на каблуках. Я бы надушилась любимыми духами Питера, и мы пошли бы праздновать. Мы бы считали оранжевые тыквы по дороге, угадывали наперегонки костюмы ряженых детей, дополняя нашу личную энциклопедию монстров. Мы бы сидели в центре зала лучшего ресторана и смеялись бы, и травили анекдоты, и выслушивали мои постоянные капризы, и Питер бы морщился нарочито недовольно, и папа бы его очень по-мужски поддерживал, а мама задавала бы мне вопросы. А потом бы мы начали говорить о Питере, о том, какой он умница, и какие делает успехи в учебе, и как ему все пророчат федеральную стипендию и блестящую карьеру. И наверняка у него была бы девушка, и мы стали бы говорить, какая она красавица, а Питер бы только усмехался и отмахивался. Но ничего этого не будет. Питер ни за что не выйдет из дома и уж тем более не пойдет в общественное место. Он вообще теперь не любит праздники и застолья. Но от семейного ужина ему не отвертеться.
Сразу после уроков я спешу домой.
— Куда ты убегаешь? — спрашивает Памела, когда мы стоим у шкафчиков. — У тебя же день рождения!
— Да, — говорю, — и у брата.
А эти шкафчики, яркие, желтые, на них так легко зависнуть. Они идеальные и образуют идеальную перспективу, протягиваясь с двух сторон вдоль стен коридора. Если не заглядывать внутрь, то может показаться, что и ученики старшей школы Броаднек такие же одинаковые, как их ящики.
— Да, но ты так и не сказала, — продолжает Памела, как будто хочет подловить меня на чем-то, — почему твой брат не выходит из дома.
— По здоровью, — отвечаю, — говорила. После несчастного случая он не выходит.
— Что с ним?
— Да так.
— Он симпатичный?
— Перестань!
— Что перестань? — Памела надувает губы. — Ты-то красотка. А он не может ходить, да?
— Вроде того.
Как же мне хочется переменить тему. Или залезть в один из шкафчиков и отсидеться там, пока приступ любопытства у Памелы не сойдет на нет. Не хочу говорить ни с кем о Питере. Это вообще не их дело. Не выходит и не выходит. Почему всегда у всех несчастный случай вызывает столько вопросов! Разве мы переехали сюда не для того, чтобы избежать их! Достаю телефон, чтобы отвлечься.
— Ты что, собралась фоткать шкафчики? — Памела в недоумении.
— А что, интересно, — отвечаю, — сделать такой проект, фотографировать шкафчики снаружи и внутри. Представляешь, как у всех внутри все по-разному! Это же целый мир, отражающий хозяина. Вот у тебя, например, что?
— Да оставь ты эти шкафчики в покое! Может, познакомишь нас как-нибудь? — Памела просто вгрызается в меня своими голубыми глазами.
— С кем?
— С твоим братом! — она недовольно выдыхает, как будто я полная дурочка и ничего не понимаю. — Мы же подруги.
— Да, как-нибудь, — отмахиваюсь, — спрошу у Питера. Если он захочет.
С трудом мне все же удается отлепиться от Памелы. Вернее, отлепить ее от меня. Прицепилась, как репей, и теперь не отстанет. Да еще не дай бог разболтает всем про Питера. Я ненавижу врать. Я вообще предпочла бы не говорить о нем и не отвечать на идиотские вопросы.
Тим Портер намекал, что не прочь был бы куда-нибудь меня пригласить в мой день рождения. Но теперь это только семейный праздник. Во многом из-за Питера. Хотя он отнекивается и морщит рот, говоря, что вообще не хочет праздновать и чтобы его оставили в покое. Но и я, и родители знаем, каждому хочется, чтобы его день рождения отмечался на всю катушку. Особенно, если это семнадцатый день рождения. Чтобы были подарки и накрытый стол, чтобы торт со свечками и желание, чтобы вечеринка, толпа друзей и танцы до утра.
Мама приготовила гребешки, дикий рис, салат с рукколой, а на десерт, как всегда, тыквенный пирог. Она накрыла на стол и все украсила, — идеальный кадр! Я быстро фотографирую, пока никто не видит. Мы надели красивые платья: я — бежевое в маках, а мама — строгое синее. Папа в брюках и белой рубашке с закатанными рукавами. Мне уже не терпится открыть подарки. Это традиция с самого детства — мы всегда открываем подарки одновременно с Питером. Поэтому я жду, поглядывая на обернутые блестящей разноцветной фольгой коробки. Коробки для Питера — в грубой шершавой крафтовой бумаге, перевязанные бечевкой. Свой подарок брату я завернула в матовую серую. Это коллекционное издание Стивена Хокинга. И хотя Питер всего его перечитал в электронном виде, я знаю, он оценит.
Наконец спускается Питер. Нет, мы не долго его ждали — он никогда бы не позволил кому-то его ждать — просто время, запутавшееся в моем нетерпении, тянется, как расплавленный зефир. Питер спускается по лестнице, и если не знать, то совершенно ничего не выдает в нем катастрофы. Он в профиль, шаги его уверенные, быстрые. Он одет в потертые джинсы и серую футболку. Он вообще не носит ничего, кроме джинсов и футболок. У него их миллион, и все одинаковые, и ему не надо ничего больше.
— С днем рождения! — он протягивает мне аккуратно запакованную коробочку с маленьким красным бантом.
Я обнимаю его и тянусь, чтобы поцеловать, но он отстраняется, отворачивается, так что я вижу только его профиль, и делает шаг назад.
— Извини, — бормочу.
Повисает пауза, такая же дурацкая, как привычка извиняться за то, что хочешь поцеловать брата. Прикасаться к Питеру, конечно, можно, но пытаться поцеловать его, да еще в щеку — этого делать я не должна была. Надо теперь быстро сменить тему, быстро собраться, снова забыть о правой стороне лица брата.
— А мой подарок тебе там! — я указываю на коробки на кухонном столе. — Посмотришь?
Питер кивает, делает три глубоких вдоха, выдавливает из себя улыбку. Когда он проходит мимо, мама еле заметно касается его плеча. Все ее жесты за эти два года стали едва уловимыми, быстрыми, но переполненными и чувственными. Мне иногда кажется, что отказаться от объятий для нее было труднее всего, и теперь всю свою любовь она научилась выражать в таких вот мимолетных касаниях.
— Спорю, ты не угадаешь, что там! — говорю, кивая на увесистый сверток, похожий, скорее, на ящик.
— Хокинг? — сдержано предполагает Питер.
— Издеваешься! — я развожу руками. — Как ты догадался вообще?
— Не знаю, — он пожимает плечами. — А что, правда?
Он разрывает упаковку, и лицо его озаряется светом. Мне хочется подбежать, наброситься на него и обнять крепко-крепко. Но я сдерживаюсь.
— Тебе нравится? — спрашиваю только.
— Конечно, Рита! Это круто! Спасибо! А ты откроешь мой? — он кивает на коробочку, которую я все еще держу в руках.
Бант настолько ровный, что, кажется, сделан из пластика. Я дергаю за край ленты — внутри новенький айфон. И мне снова хочется обнять брата, расцеловать. И снова я сдерживаю себя, потому что он этого не позволяет.
Питер
Огромное поле простирается до самого горизонта. Поле, не засеянное ничем, заросшее дикими травами. Никому не нужное, никому не интересное. Кажется, по нему можно идти бесконечно, и никуда не придешь. Но на самом деле, там, за полем, есть дорога с бесконечной оранжевой полосой посередине. Если проехать километров десять на Восток, будет заправка и маленький магазин с кафетерием, а еще дальше — одиноко стоящие дома, разбросанные, как планеты в Солнечной системе. На это поле никто не сворачивает. Оно никому не принадлежит, но оно — надежный рубеж перед маленьким ранчо, обнесенным невысоким забором. За оградой гуляет пара лошадей. Американские верховые. Одна — вороная в закате, так выгоревшая под ярким солнцем, что выглядит уже почти бурой. Ну, ничего, придет зима, и черный цвет вернется. Вторая — гнедая, огненно-рыжая, как верхушки пылающего костра. Оба жеребца свободно резвятся на зеленом пастбище. Одноэтажный дом стоит в тени деревьев, рядом — конюшня и большой гараж. От дома до автострады вьется грунтовая дорога, засыпанная щебнем. На полпути стоит заграждение и знак с надписью «Частная собственность», поэтому вряд ли посторонним придет в голову доехать до одинокого ранчо и увидеть двух лошадей. Это место идеально уединенно и практически неприступно. О нем знают только три человека, кроме меня. Пока оно существует только в моих мечтах, но я надеюсь, что смогу скопить денег, купить землю и создать это ранчо. Когда-нибудь я поселюсь там, и мне не надо больше будет ни от кого прятаться. А пока на часах 11:30, и у меня назначен сеанс терапии с психологом.
— Может, освободишь сегодня камеру? — первым делом спрашивает мой психолог мисс Руднер.
Я вижу ее на экране компьютера. Каждый раз она пытается уговорить меня оторвать пластырь от камеры моего компьютера. Но оторвать его от загноившейся раны на теле было бы куда проще.
— Нет, — отвечаю.
Когда-нибудь я окончу школу, потом университет заочно, заработаю денег и буду жить на своем ранчо. И мне не нужно будет отвечать на вопросы о заклеенной камере. Пока же я как обычно говорю, что чувствую себя хорошо, дела идут, на новом месте обживаюсь. Хотя для меня-то не особенно видна разница. Что круто с мисс Руднер, она всегда умеет настроить меня на весь день, поэтому связь с учителями, уроки, лекции, обсуждения у меня уже после нее. С преподавателями по школьным предметам проще — они, конечно, знают обо мне и о моем лице, но не задают вопросов про выключенную камеру. Чтобы заниматься геометрией или астрономией, или даже литературой, совсем не обаятельно видеть человека. Чтобы оценить знания, достаточно просто получать файлы с решенными задачками и слышать правильные ответы.
После учебы я обычно работаю, делаю сайты. Несколько фирм подкидывают мне заказы. Сейчас отличное время — можно имитировать жизнь, не выходя из своей комнаты. Все, что нужно, заказываешь через интернет. Все, что нельзя заказать через интернет, тебе, по большому счету, не очень-то нужно.
— Питер, — кричит мама снизу, — тебе тут посылка!
— Да, сейчас спущусь!
— Что там? — спрашивает мама, — опять книги?
— Да так, кое-что по физике и естественным наукам.
Мама улыбается. Раньше бы она обязательно обняла меня, потрепала по волосам, а теперь я всегда успеваю отстраниться прежде, чем у нее проснется порыв. Даже представить не могу, как ей трудно сдерживаться. Вся ее нежность теперь находит отражение только в улыбке, и поэтому улыбка у мамы очень открытая и широкая. Но ей не хватает прежних объятий. Я чувствую это, но ничего не могу изменить. После несчастного случая я довольно быстро выработал привычку двигаться так, чтобы родители и сестра не видели уродливую часть меня. Ну, это если не считать того периода, когда я просто не хотел жить. Но я всегда знал, что не очень-то имею право на такие мысли. Я не один, чтобы так безответственно распоряжаться своей жизнью и своими желаниями. Как бы там ни сложилось, мои близкие слишком много для меня значат, чтобы причинять им еще большую боль. Нам всем пришлось переехать из-за меня, из-за этой больницы, операции, в которую я не верю, из-за моей потребности сбежать. И моя семья как будто бежит за мной, задыхаясь и не успевая даже перевести дух. Иногда думаю, зачем нам всем этот марафон, давно бы уже плюнули на меня, оставили бы всё как есть.
В Бостоне у меня было много друзей. У меня была жизнь. Но я не мог там оставаться. Друзьям слишком тяжело стало скрывать жалость. А ведь невозможно смотреть на меня без этого чувства. Да и что им всем со мной было делать? Гулять не позовешь, на концерт не сходишь, — не сидеть же привязанным к моему домашнему режиму.
После первой неудачной операции единственной отдушиной для меня оставалась Дороти, чистокровная арабская лошадь, которая хоть и не принадлежала мне юридически, была моей. И с ней я проводил тогда больше времени, чем с семьей. Я приезжал в конный клуб под вечер или ранним утром, когда там почти никого не было, пробирался в конюшню к Дороти, чистил ее, мыл, расчесывал гриву, просто сидел рядом или похлопывал ее по морде. И Дороти выдыхала теплый пар мне в лицо, и казалось, будто у меня все еще было лицо. Но так не могло продолжаться. Я не мог больше позволить себе скакать верхом — для этого нужно было преодолеть слишком много глаз. А Дороти не могла оставаться в стойле. Ей нашли другого наездника, и она продолжила свою карьеру. К тому времени как мы собрались переезжать, я уже достаточно долго не отвечал на звонки друзей, удалил все аккаунты в социальных сетях и выключил себя из реальной жизни. Да и из виртуальной тоже. Ведь, как ни крути, а чтобы полноценно жить виртуально, ты периодически должен постить какие-то свои фотографии, писать о себе, а для меня это закрытая территория.
Рита
— Что ты так прячешь его от всех? — снова прицепилась Памела с расспросами о Питере.
— Да не прячу я его! — отвечаю. — Просто он не особенно любит общаться.
— Познакомь меня с ним!
— Зачем?
— Ты же моя подруга! Что тебе трудно!
Да, мы с Памелой, вроде как, лучшие подруги. Она популярная, состоит в школьном клубе лидеров, организует акцию помощи приютам для бездомных животных и даже участвует в демонстрации против одежды из натурального меха. Памела не похожа ни на кого из тех моих подруг, что остались в Бостоне. Я уже готова сказать ей: «Ладно, как-нибудь познакомлю», — но меня спасает Тим. Подходит к нам — мы сидим на широком подоконнике в холле — облокачивается о выступ. Он после тренировки, и футболка так обтягивает его бицепс, что я просто оторваться не могу, все смотрю и смотрю на него.
— Хватит болтать о всякой ерунде, — прерывает Тим наш разговор, хотя понятия не имеет, о чем мы говорили.
— Почему о ерунде! — возражает Памела. — Я, между прочим…
— Между прочим, — беспардонно перебивает Портер, — завтра у меня день рождения, девочки! И вы приглашены на вечеринку. Ты же придешь, Рита?
Я киваю, смущенно расплываясь в улыбке.
Тим достает из кармана телефон.
— Нет, ну вы такие красотки! — он втискивается между нами и вытягивает руку перед собой. — Давайте для моего Инстаграма селфи!
Он быстро делает фото и утыкается в телефон.
— Дай посмотрю, как я получилась! — прошу, и он показывает мне экран.
Я морщусь — не самое лучшее мое фото. Зато Памела, как всегда, словно на обложку журнала.
— Ты красотка! — смеется Тим, нажимает «поделиться», машет нам и убегает в сторону спортзала.
— Он на тебя запал, — говорит Памела, когда Портер уходит.
— Думаешь?
— А ты не видишь! — она улыбается.
Мне приятно это слышать. Можно ли желать большего, особенно, если ты новенькая.
На вечеринке у Тима собирается половина школы. Самые красивые девчонки и самые крутые парни. Конечно, изгоев, вроде Шона Фитцджеральда, не приглашают. Он учится в нашем классе, но его как будто нет. Его не травят, не подкалывают, ему не суют в сумку пауков, — о нем просто вообще не говорят. Фитцджеральд — как призрак. Недавно Осборн Квинс пришел на уроки в джинсах и футболке, так мисс Ким, наш учитель географии, его так пристыдила, что он бы покраснел, если бы у чернокожих выступал румянец на лице. «Почему Фитцджеральду никто никогда не делает замечаний?» — спросила я тогда у Памелы, но она так многозначительно помотала головой в ответ, что вопросы отпали. И я поймала себя на мысли, что даже не слышала никогда, как Шон отвечает в классе. Да что там — я никогда не слышала, чтобы кто-то вообще произносил его имя. И ведь не сказать, что он забитый. Нет, даже симпатичный.
Пару дней назад я выходила из класса, замешкалась, складывая страницы своего проекта. А потом споткнулась, чуть не упала, и вся моя работа разлетелась по полу. Рядом был только Фитцджеральд, и он неожиданно стал помогать мне. Присел на корточки, собрал несколько листов и посмотрел на меня. Пару секунд, а потом отвел взгляд. Зеленые глаза, заметила я. Он стал дальше молча собирать страницы моего проекта, и тут в классе появилась Памела.
— Ну что ты так долго? — проворчала она, а когда увидела, что Фитцджеральд передает мне листы, одернула меня так резко, что я чуть не вскрикнула.
— Ты что! — испуганно протянула она, как будто я могла подцепить от Фитцджеральда какую-то заразу, чуму, ни больше, ни меньше.
Шон схватил рюкзак и быстро вышел, не поднимая головы и не глядя на нас.
— Что с ним не так?
— Даже не спрашивай! — с каким-то презрительным ужасом в голосе ответила Памела. — Не приближайся к нему. Его вообще здесь не должно быть.
Я вспоминаю о Фитцджеральде, когда случайно вижу его на заднем плане одной из фотографий в ленте Инстаграма. Праздник в самом разгаре, все смеются, пьют пиво. Памела ускакала куда-то поболтать по мобильнику со своим парнем, а я растерялась и уткнулась в телефон. Это вообще лучшее спасение — телефон. Если тебе грустно, неловко или скучно, ты всегда можешь скрыться в ленте маленьких картинок, затеряться там, чтобы тебя не нашли. После «несчастного случая» с Питером, я себе места не находила, не хотела ни с кем разговаривать, никуда выходить, и у меня началась депрессия. Психолог посоветовала завести блог. «Замечай красивые вещи, — сказала она тогда, — фотографируй и выкладывай. Старайся больше обращать внимания на позитивное». А это ведь затягивает. Была у психолога и еще одна цель — она полагала, что если я стану фотографировать еду, то и питаться снова начну нормально. Думаю, именно поэтому доктор Каннингем так много говорила о фудфотографии. Я, правда, после того, что случилось с братом, стала очень плохо есть. Мама боялась, что у меня разовьется анорексия или что-то подобное. В общем, тут Инстаграм, думаю, в самом деле, меня спас. У меня хорошо получалось ловить солнечные лучи, бьющие через окно или рисующие дорожки света на зданиях.
Меня отвлекает Тим. Берет за руку и уводит на заднее крыльцо. Там мы пьем шампанское, болтаем, Тим целует меня в шею.
Шон
Еще один день, когда надо заставить себя проснуться. Заставить себя открыть глаза, встать с кровати, дойти до ванной, включить воду. Надо заставить себя идти в школу. Принимаю душ, взъерошиваю волосы. Не расчесываюсь — наплевать. Смотреть на свое отражение — это слишком, хотя никуда от этого не деться. Как-то даже раскроил себе руку, ударив по зеркалу в ванной кулаком. Здоровый осколок врезался тогда между костяшками пальцев, кровища хлестала, как из банки взболтанной колы. Мама перепугалась, прибежала, расплакалась и, конечно, подумала, что это было специально. Позвонила папе, в скорую. Отец сообщил психологу. И опять началось. Можно заменить зеркало в ванной. Можно заменить сколько хочешь зеркал, но себя не заменишь — только и делай потом, что объясняй, что не хотел причинить себе вред. Смотрю на свое отражение и морщусь. Влезаю в джинсы, натягиваю футболку, толстовку — и в школу.
Потоки учеников в коридорах двигаются в обоих направлениях, но обтекают меня — как огонь не трогает яму заполненную водой. Иду к классу мимо радостного смеха одноклассников, мимо сплетен, шуток и косых взглядов. Нет, они направлены не на меня. Меня даже плечом случайно никто не заденет. Иногда хочется остановиться и посмотреть, пройдет ли поток насквозь. А иногда, кажется, физически ощущаю их ненависть и презрение. И глупо прятаться — это висит в воздухе, образует вокруг отталкивающий кокон. Не дает ни на минуту забыть, кто здесь чужой.
Одноклассники мои сегодня как вареные. Даже передовые личности не стремятся бодриться. И тут вспоминаю — вчера был день рождения Тима Портера. Когда-то Портер страшно ненавидел меня за то, что мне доставалось все внимание. Сейчас у него все козыри и любители вечеринок. Сейчас у него все девушки выпускных классов школы Броаднек. И даже новенькая Рита Грейсон. У нее волосы такого необычного цвета — как перезревшая пшеница, выжженная солнцем. Портер, походу, на нее круто запал. Стоит, перешептывается со своими подхалимами, глаза косит на Грейсон, улыбается.
На уроках делаю вид, что пишу, уткнувшись в тетрадь, но на самом деле, продумываю лестницу у макета здания суда. Там еще изогнутые перила и площадка, выложенная большими плитами. И еще фонтан, такой классический, круглый, трехъярусный. И еще надо разгрести кучу веток в ящике стола. Если их отшкурить и покрасить белой краской, получатся отличные деревья для сквера. Кроны можно сделать из мягкого поролона. А можно сделать зиму, и тогда не париться с листвой. Или набросать под деревья мелкие обрезки — тогда получится осень, бесцветная, монохромная. Все думают, что времена года — это цвет. Лето — десятки оттенков зеленого и клумбы, красные, голубые, бордовые. Весна — молодая зелень, бутоны и розовые лепестки. Осенью все заполняется желтым, багровым, оранжевым. На самом деле, любое время года можно изобразить белым. Можно обойтись совсем без цвета — и все равно будет понятно. Рисую схему лестницы и даже не замечаю, как заканчивается урок. Сейчас ученики вскочат, схватят тетради, сумки и потекут потоком по коридорам. Мимо меня, сквозь меня. Удивительно, как может измениться жизнь, когда поймешь в один момент, кто ты такой на самом деле. Это как кривое зеркало. Искажает нормальные красивые лица, но никто же не думает, как в нем отразится кривое до безобразия лицо. Как знать, может, уроды в таких зеркалах как раз выглядят красавчиками. Как знать — уроды ведь не ходят по паркам развлечений и не платят за билет, чтобы поглазеть на свои искривленные лица. А если еще хуже — если дело вообще не в лице.
После уроков, выезжая с парковки, вздрагиваю от резкого звука. Белый Форд сигналит мне. Мне? Да даже если бы въехал в Корвет директора, тот только вышел бы и в недоумении покачал головой на вмятину, а потом решил бы, что камнем задело. Этот сигнал вырывает меня из уже ставшего привычным состояния абсолютного одиночества. Как в фильме «Я легенда», если бы вдруг из-за угла выкатилась толпа людей, герой бы от удивления в штаны наложил. Нажимаю на тормоз так резко, что едва не влетаю головой в руль, хотя скорость-то на выезде с парковки детская. Мурашки под футболкой подпрыгивают. Выпучив глаза, смотрю на белый Форд. Это Рита Грейсон. Ее губы складывается в слово «придурок». Не сразу соображаю показать ей жестом, чтобы проезжала вперед, поэтому получается запоздало и нелепо. Когда тебя не замечают, ты отвыкаешь реагировать на стандартные ситуации. Строго говоря, стандартные ситуации кажутся тебе чем-то совершенно не стандартным.
Питер
Я спускаюсь сделать себе сэндвич. Люблю, когда дом пустой, когда никого нет, когда даже мое ровное дыхание как будто отлетает от стен неслышным эхом. Наверное, только в такие моменты я и могу чувствовать себя по-настоящему свободным. Моя свобода — в одиночестве, за стенами дома. Моя свобода быть невидимым. Моя свобода — не выходить, не общаться с людьми. Моя свобода — прятать себя, потому что то, что некрасиво, должно быть спрятано. Разве не может быть такой свободы? Разве свобода — это не выбор, который ты делаешь исходя из обстоятельств? Разве свобода — это не то состояние, в котором тебе удобно и комфортно? И разве состояние это не может меняться? Я выбрал такую жизнь. Жизнь внутри. Жизнь, закрытую от общества. И я благодарен своей семье за то, что они поддержали меня и не стали настаивать. Они приняли мое решение, приняли мой новый комфорт.
Два квадратика хлеба на разделочном столе — как абсолютно одинаковые картины в галерее современного искусства. От них приятно пахнет дрожжами. Я мажу один горчицей, отрезаю ломтик помидора, когда слышу шум в гостиной и голос Риты. Она кричит, что вернулась из школы не одна. Я замираю в панике. Могла бы предупредить! Черт, о таком у нас обязательно принято предупреждать! Да у нас и не было ничего такого уже два года. Надо быстро бежать к себе наверх, но поздно — они уже входят в кухню.
— Привет! — слышу я радостный незнакомый девичий голос. — Питер, так ведь?
Я сжимаю рукоятку ножа так сильно, что она вот-вот прожжет ладонь. Мне хочется воткнуть острие прямо в толстую разделочную доску. Хочется вонзить его со всей силы в кусок говядины или себе в руку. Неужели сестре настолько наплевать на меня? Неужели маленький клочок мой свободы для Риты ничего не значит? Не так уж много у меня осталось. И это после ее настырных попыток вытянуть меня из дома! Последние несколько месяцев мы часто обсуждали это. Да я только это и слышал! И теперь вот такое? Она привела подружку? Это выглядит как злая издевка.
— Привет, — стараюсь выглядеть вежливым, поворачиваюсь левой стороной лица.
Рука, сжимающая нож, так напряжена, что срывается, и лезвие полосует по пальцу. Я порезал себя. На секунду в голове все заволакивает туманом. Я по-прежнему сжимаю нож. Ломтики помидоров, куски хлеба, упаковка соуса, кухонные шкафы и дрожащие пальцы начинают вращаться, как в калейдоскопе. Никогда не понимал, как люди могут причинять себе вред. Много раз я думал о том, как можно решиться на самоубийство. Что движет теми, кто идет на это, смелость или слабость? Вот так взять и порезать себя намерено, нужна ли для этого храбрость, или достаточно крайней степени отчаяния? Не сказал бы, что с моей стороны это отважный поступок. Скорее, неконтролируемый. Это как когда необъезженный жеребец сбрасывает наездника, срывается с привязи и мчится галопом прочь. Кто-то посторонний вторгается в мое пространство. Кто-то проникает в мой мир и грозит разбить его. Вирус, нарушивший иммунные барьеры, теперь опасен.
— Простите, — говорю, — я порезался, — наспех заматываю руку полотенцем и быстро ухожу.
Не прощу этого Рите. Даже не передать, как я злюсь на нее. Пытаюсь отвлечься Эйнштейном или Ганди, но буквы разбегаются по страницам и еще больше бесят. Швыряю книги в угол одну за другой. Начинаю листать ленту Инстаграма — там одноклассница Риты уже запостила их солнечное селфи у нас на кухне. Значит, с Памелой она сегодня приходила. Ну что же тогда не сняли меня! Вот было бы веселье.
Рита
После дня рождения Портера все кружится в суете, уроках, конференциях, проектах, заданиях. Мы начинаем встречаться с Тимом, и он таскает меня на футбольные матчи и вечеринки. Я редко бываю дома по вечерам и даже почти не думаю о Питере. Вернее, отвлекаюсь от мыслей о том, во что его травма превратила нашу жизнь. Ведь как бы там ни было, все теперь сосредоточено вокруг него. Мне тяжело об этом думать, как тяжело бывает смотреть в глаза брату и прятать свою жалость. Все, что у него осталось — книги и компьютер. Все, с кем он общается — учителя и психолог, которая вообще живет в Северной Дакоте. Но даже они его не видят. Веб-камера на компьютере Питера заклеена пластырем, как рана или ссадина, которая никак не заживает. Я не удивлюсь, если он бережно меняет пластырь каждый раз, когда тот начинает немного отходить от пластика. А еще у Питера есть аккаунт в Инстаграме. По-моему, в его подписках только одна я. И у него там ни одной фотографии, профиль совершенно голый. Я иногда захожу на его страницу и могу зависнуть там, таращась на пустую аватарку. Как сейчас, например. Мне стыдно и меня переполняет чувство вины. За то, что у меня есть друзья, школа, романы, у меня есть яркие фотографии и жизнь, а у Питера нет. Поэтому я не люблю говорить с друзьями о своем брате — меня сразу начинает грызть вина. Прямо в горло вцепляется и не отпускает. Поэтому я так отчаянно хочу вытащить Питера на улицу. Хоть куда-нибудь, хоть на задний двор поздно ночью. Ведь вовсе не обязательно все будут отворачиваться от него. Мне бы больше всего на свете хотелось познакомить его со своими друзьями. Познакомить с Тимом, с Памелой, звать его на вечеринки, сидеть рядом с ним на футболе и болеть за нашу школьную команду. Мне хотелось бы, чтобы у него была жизнь. Не такая, какую он сам себе создает каждый день. Я очень хочу помочь ему выбраться из кокона, поэтому, когда Памела в очередной раз пристает с расспросами, я приглашаю ее в гости.
«Знаешь, — предупреждаю, — ты только не жди, что Питер будет с тобой общаться. Он, скорее всего, даже не спустится». Памела кивает. Она заинтригована и раззадорена собственными фантазиями, а меня не покидают сомнения. Но, в конце концов, я же имею право позвать в гости друзей. В конце концов, я же не затворница. И очень хочу, чтобы Питер таким не был. С другой стороны, в тайне я надеюсь, что Питер будет наверху в своей комнате, услышит, что я пришла не одна, и не спустится. И тогда все будет идеально: напористое любопытство Памелы удовлетворено, моя попытка его удовлетворить засчитана, и уединение Питера осталось неприкосновенным.
Когда мы входим в дом, я стараюсь наделать как можно больше шума и даже кричу, что вернулась не одна, а сама прислушиваюсь — что там наверху. Наверняка Питер сидит за книжками в своей комнате. Мысли проносятся так быстро, что я не замечаю, как мы с Памелой почти на автомате проходим в кухню.
— Привет! — радостно почти вскрикивает Памела, когда видит там Питера.
Он стоит у разделочного стола спиной к нам. Только Памела открывает рот, Питер напрягается. Я не вижу, но чувствую в воздухе, через пространство кухни, как каждая жилка в его теле, каждый мускул собираются в тугой пучок электричества.
— Питер, так ведь? — по-прежнему очень радостно и очень непринужденно говорит Памела.
Я почти слышу хруст костяшек пальцев — так сильно Питер сжимает рукоятку ножа.
— Привет, — он поворачивается в профиль, в свой безупречный профиль, замирает на несколько секунд, потом так же сдержано продолжает. — Простите, я порезался.
Закрывает ладонь полотенцем и уходит.
— А он красавчик! — выпаливает Памела, едва Питер исчезает за углом.
Вот дура! Дура. Дура! Он же просто скрылся от тебя! От нас. Он не поднялся по лестнице и не пошел в ванную. Он стоит за стеной и глубоко дышит, пытаясь прийти в себя. И он, уж конечно, все слышит.
— Правда, он крутой! — снова произносит Памела.
— Все, ладно, — пытаюсь сменить тему, — Давай пойдем погуляем. Или по магазинам…
Я не знаю, что сказать и как поскорее вытряхнуть ее отсюда. Слышу тихие шаги — Питер поднимается по лестнице.
Вечером, когда возвращаюсь домой, мама и папа что-то обсуждают на кухне и приветствуют меня радостными голосами. Но не успеваю я даже сумку кинуть на диван, прямо у лестницы меня перехватывает Питер. Возникает, как приведение из тумана, и крепко сжимает мою руку.
— Что это было такое? — цедит он сквозь зубы.
Он разъярен. Он редко бывает таким. За последние два года, может быть, я видела его настолько злым всего пару раз. И никогда ярость не была направлена на кого-то из семьи.
— Отпусти! Больно! — прошу.
Он разжимает пальцы.
— Какого черта!
— А что, мне нельзя привести подругу в гости? — я пытаюсь нападать, но знаю, что не права, и поэтому все мои доводы разбиваются, еще не достигнув цели.
— Хотела ее со мной познакомить? — шипит брат.
— Нет, — вру, и это так очевидно, что я тут же поправляюсь. — Ну, а что такого? Питер, почему бы тебе не познакомиться с моими друзьями…
— Потому что они не захотят на меня смотреть!
— Ты несправедлив…
— Как будто ты не знаешь!
— Я же могу на тебя смотреть, и мама, и папа! Мы же знаем, какой ты на самом деле…
Он резко поворачивает голову и теперь смотрит на меня в упор.
— Можешь на меня смотреть, да? — рычит Питер. — Так смотри!
Его лицо как будто специально ровно разделено надвое — как будто это два разных человека. И тот, что справа, уродлив. Справа — кусок мяса, перетянутый жгутами и канцелярскими резинками. Ресниц нет, от уха осталось только отверстие. Это чудо, что глаза не пострадали. Он как живой мертвец из фильма ужасов. Только не отворачиваться. Не отворачиваться. Надо смотреть. И прятать поглубже жалость.
— А я не могу! — наконец бросает он, освобождая меня от своего взгляда.
И снова я вижу только его профиль. Питер говорит, что я поступила подло и эгоистично. Как будто я сама не знаю. Как будто не чувствую себя последней гадиной. Мог бы и промолчать.
На ужин он не спускается. И конечно, начинаются расспросы.
— Что с ним? — беспокоится мама.
Папа настораживается и пристально смотрит на меня. Ох, вынести этот папин взгляд просто невозможно — хуже, чем буровая установка.
Папа многим пожертвовал, многое изменил в своей жизни ради Питера. Раньше он работал заместителем управляющего образовательного фонда, занимался грантами для университетов и школ, но потом нам пришлось переехать, и он оставил фонд. Нашел работу в Университете в Балтиморе и все силы бросил на поиски врачей, клиник и возможностей для операции Питера. Папа любил свою работу в фонде, но по нему никогда не скажешь, что переезд или смена деятельности как-то задели его или расстроили. Я и Питер для родителей — всё, так что у них даже вопросов никогда не стояло, а надо ли.
— Мы поругались, — говорю.
— С Питером? — мама чуть только не подскакивает на месте, так она удивлена.
Я киваю.
— Что стряслось, Рита? — по папиному голосу сразу ясно, что с Питером поругаться не так-то просто. Значит, я должна была сотворить что-то просто прямиком из ада.
— Я привела домой подружку, а Питер был на кухне. Но Памела его даже не видела! То есть, не видела его лица…
— Рита… — тянет мама и склоняет голову на бок, как будто хочет сказать, ну какая же я дурочка недоразвитая, что такое сделала.
— Я что, не могу прийти домой с подружкой! — взрываюсь тут же. — У меня же может быть своя жизнь…
— Надо было предупредить, — мама встает из-за стола и отходит к окну. Она смотрит на задний двор, и в прозрачном отражении я вижу, как она прикрывает ладонью рот и качает головой.
— Ты осуждаешь меня? — спрашиваю.
— Нет, Рита, — очень тихо произносит мама. — Просто нужно быть внимательнее. Ты знаешь, как для Питера важно, чтобы его никто…
Она не договаривает, потому что горло у нее заполняется слезами, которые льются не из глаз, а как будто прямо из сердца.
— Все в порядке, милая, — папа подходит и кладет руки маме на плечи. — Я поговорю с ним.
— Простите меня! — всхлипываю. — Я не хотела так. Я, правда, хочу, чтобы он начал выходить, чтобы перестал быть затворником… Я ведь его очень люблю. Вы же знаете! Вы простите меня?
— Конечно, дорогая, — и теперь уже мама обнимает меня.
Мы долго сидим с ней на диване до самой ночи и болтаем. О школе, о Тиме Портере, о том, как у меня все хорошо и гладко, как мне повезло с новыми друзьями. Я поджала под себя ноги и натянула на них длинное вязаное платье цвета переспелой вишни. Родители — как щит для нас с Питером. И порой им приходится защищать нас от нас самих, от наших мыслей и необдуманных поступков.
Уснуть не получается, поэтому я остаюсь внизу и, когда уже переваливает за полночь, слышу, как папа с Питером идут на кухню, не замечая меня, сидящую в полной темноте. Я долго не решаюсь, но потом все же подкрадываюсь ближе, и до меня долетают обрывки разговора, как самые яркие искры, оторвавшиеся от костра, которые осмелились взлететь выше остальных. И как настоящие искры, они больно обжигают.
— Немного осталось, Питер, подожди, — папа говорит спокойно и сдержано. — Сделаем операцию. Здесь отличный врач и самые передовые технологии…
— Не хочу, — жестко обрывает Питер, и у меня тут же обрывается что-то внутри от его тона. — Уже было две операции! Неужели непонятно, ничего не выйдет!
— Питер… — папа пытается переубедить его.
— Что? Опять отторжение? Я не хочу! Мое тело не принимает новую кожу. Это больно. Невыносимо! И к чертовой матери эту надежду! Ничего не выйдет.
— Но мы же все равно попробуем?
— Опять проходить через это, чтобы на меня все пялились… Не хочу. Пусть всё остается как есть. Простите, что вам приходится на это смотреть каждый день…
Тут папа срывается на возражения, а я срываюсь с места и на настоящую истерику. Тихую, никому не заметную, которая держится внутри меня ровно до тех пор, пока я, быстро поднявшись по лестнице, не закрываю дверь своей комнаты. Я даже подумать не могла, что Питер настолько разочарован в медицине. Зачем он такое говорит? Ведь каждый шанс ценен, и за каждый надо цепляться. Да, у него было за эти два года две операции по пересадке кожи. И хотя врачи говорят, что лицо все равно не восстановится полностью, его черты не будут такими же ровными и безупречными как раньше, все же, по крайней мере, то, что сейчас торчит, как внутренности от разодранной детской игрушки, исчезнет. Если бы все удалось, Питер, безусловно, мог бы появляться на людях. Его жизнь изменилась бы. Две операции закончились неудачно. Потом папа нашел нового врача здесь, в Балтиморе, уговорил Питера. И мы переехали. Бросили все, оставили свою жизнь, друзей, школу, работу. Питер все время вообще молчал. Что бы ни говорили родители — кивал, соглашаясь. А теперь такое. Неужели ему не нужна больше надежда! Нет, надежда нужна всем, каждому, ведь без надежды, как можно просыпаться по утрам.
Я реву в подушку. Я не хочу, чтобы Питер отказывался от операции и от жизни. И я знаю, что эта новость убьет маму, потому что чувствую, как она убивает меня.
Шон
Часто приезжаю сюда, на старую лодочную станцию у Моста Чесапик Бэй. Надо свернуть с дороги прямо перед въездом на мост. Там тупик. Оставляю машину на обочине и дальше иду пешком. У воды — пара старых ржавых сараев, пара колымаг и раздолбанный пирс. Здесь пахнет сыростью, машинным маслом и железом. Здесь никогда никого не бывает. Стою обычно на пирсе или, как сейчас, у самой кромки воды, и просто смотрю на мост. Огромный, он ведет как будто в другой мир, конца его не видно. Сегодня почему-то думаю о Рое Виспоинте. И что он пришел мне в голову, как призрак, который является к своему убийце! Рой учился в нашем классе. Еще два года назад учился. Он был обычным мальчишкой. Мы с пацанами считали его слабаком. Вспоминаю, почему-то, как он подошел однажды к своему шкафчику, открыл, а мне приспичило подбежать и со всей дури заехать по дверце ногой. Она захлопнулась с металлическим грохотом. Чудом Виспоинт одернул руку. Если честно, не думал, что он успеет. А еще в столовой. Как-то мы поспорили, кто первый опрокинет поднос с обедом на Роя. Ну, и в тот же день поднос стоял на самом краю. Один удар — и все высыпалось на Виспоинта. Пытаюсь вспомнить, кто был зачинщиком всего этого. Воспоминания даются нелегко. Просто это был тот же, кто стоит сейчас и втыкает в мост, прячась за мыслями о бесконечности. И почему так получается, что кто-то становится жертвой, а кто-то агрессором. Кто решает? И ведь не сказать, что у кого-то были преимущества. Мы все были новичками в старшей школе. Меня сразу взяли в футбольную команду. Но это не причина. Рой ничем особенно не выделялся — был обычным. Но это тоже не причина. Мы так доставали его, что он ушел из нашей школы. Как будто не из-за нас, конечно, но перед тем, как перевестись, он пытался покончить с собой. Наглотался таблеток, а это оказался аспирин или что-то такое. Тогда не хотелось об этом думать. Теперь хочу думать, что это было не из-за меня, но не выходит. Почему кто-то вообще позволяет себя травить? Почему кому-то приходит в голову травить других? Мне ли задавать такие вопросы…
Прихожу домой, быстро делаю себе пару больших сэндвичей с беконом, говядиной, листьями салата, майонезом и кленовым сиропом. Быстро съедаю все, запиваю соком и закрываюсь в своей комнате. Сегодня не моя смена на работе, и можно подольше позаниматься макетами. Мы почти никогда не ужинаем с родителями. Да и не завтракаем. Мама не настаивает, чтобы я спускался к ним, а отец не очень-то рад моей компании. Денег у родителей не беру, да мне и не много надо — только на бумагу, клей и новые канцелярские ножи. Когда-то — кажется, в прошлой жизни — у меня был футбол. Квотербэк, капитан школьной команды. Моя блистательная карьера по этому профилю рухнула вместе с моим положением в обществе. Мне нравился футбол, нравилось бегать, планировать схему игры. Все пророчили мне спортивные успехи, да и звезда школы — предел мечтаний, чего уж там. Отец от гордости чуть только не лопался. Но мне всегда нравилось и клеить макеты зданий из бумаги. Сидеть над трехэтажным домом ночами, выгибать подоконники и ступеньки парадных. Никогда на это не было времени, а теперь даже дверные ручки делаю. Психолог сказала, это такой уход от действительности. Сказала, хорошо, что занимаюсь чем-то мелким и кропотливым — это помогает не думать. Но на самом деле — фигня — это только провоцирует мысли. Окно за окном, каждый день одни и те же действия. Каждый вечер передо мной белый лист, с которого никогда не начать свою жизнь. Когда сделал здание Пентагона — не самое сложное с точки зрения архитектуры, но с деталями, аллеями во внутреннем дворе и окнами — мама так восхищалась. А папа только пожал плечами и больше не взглянул на него. Ему это даже как терапия кажется несерьезным. А у меня макеты по всей комнате, и в гостиной несколько. Еще несколько мама увезла в наш коттедж за городом. Сейчас делаю пражский танцующий дом. Его окна занимают меня уже четвертый вечер. Вчерашний шрам на руке ноет и то и дело задевает об острые края бумаги. Шрам — это на самом деле ожог. Такие случаются, когда работаешь на кухне в кафе, жаришь котлеты для бургеров. У меня — специально, просто, чтобы не забывать, из чего состоит моя жизнь. Такие ожоги — нормальная практика для кухонных работников. Особенно для неуклюжих кухонных работников. Но совершенно не нормальная для меня. Однажды психолог спросила, как мне удается делать такие точные макеты из бумаги и в то же время так неосторожно вести себя на работе. Пожал плечами и больше мы с ней не встречались. А еще стеклянные балконы танцующего дома — это серьезная проблема, ведь бумагу прозрачной не сделаешь. Надо будет придумать систему перемычек, а потом обтянуть все тонким гибким пластиком. Никогда не был в Праге, и поэтому потратил кучу времени, рассматривая дом на фотографиях. Сделал кучу чертежей, чтобы понять, как его сконструировать. Моя комната вообще вся завешана набросками разных архитектурных элементов.
Рита
Тим приглашает меня на вечеринку. Какую-то пафосную. Один его приятель, жутко богатый тип, устраивает праздник в доме своих родителей. Это за городом, и мне стоит немалых усилий уговорить родителей отпустить меня. Я надеваю любимое платье, нежно розовое, до колен, с вырезом от плеча до плеча. Волосы заплетаю коралловой лентой. Стою в ванной, крашусь, любуюсь на себя в зеркало и замечаю, как за мной наблюдает Питер. Вижу его отражение. Господи, он даже из-за двери выглядывает так, чтобы я в зеркале ловила только левую часть его лица!
— Потрясно выглядишь, — говорит Питер.
— Правда? — я оборачиваюсь. — Ты так думаешь?
— А то ты сама не знаешь!
— Спасибо, — я улыбаюсь и беру с полки телефон. — Сфоткаешь меня?
— Без проблем.
Фотография получается обалденная. Питеру так удается поймать свет, что блики играют на моем лице, создавая совершенно нереальный эффект.
На этой вечеринке, правда, всё вылизано до блеска. Парни все пьют виски. Никто не пьет пива, как на сборищах наших одноклассников. Девушки потягивают шампанское. Так красиво выстроены пирамиды из бокалов. Девчонки фотографирую их. Фотографируют закуски, занавески на окнах и, конечно, себя. Десятки селфи летят в сеть. С подписями и хэштегами, с геометками и самолюбованием. Тим подходит, обнимает меня сзади. Спрашивает, нравится ли мне здесь. У меня голова кружится от алкоголя, музыки и поцелуев Тима. Пальцы на руках почти немеют с приятным покалыванием каждый раз, когда он обнимает меня. Ближе к середине вечера Тим уверенно уводит меня за собой на второй этаж в одну из спален. Я смеюсь и отвечаю на его поцелуи, которые становятся откровеннее и смелее, хотя и так не были никогда скромными.
Мы поднимаемся в большущую спальню с кроватью, на которой гнездятся пять пар подушек, сложенных в одинаковые пирамиды. Тим закрывает за нами дверь, толкнув ее ногой, крепко обнимает меня за плечи и сажает на кровать. Сажает и тут же укладывает. И снова целует, напористо, упрямо. Его рука уже у меня под платьем, уже у меня в трусиках. О боже! Я моментально трезвею, пытаюсь отодвинуться. Его пальцы делают то, к чему я не готова.
— Тим, погоди! — я на секунду вырываюсь из хватки его поцелуев.
— Да ладно, не парься, Рита, — говорит он, впиваясь языком мне в шею и двигаясь ниже. — У меня есть презервативы. Все нормально.
Я чувствую себя полной дурой. Как можно было не подумать об этом, соглашаясь на вечеринку! Как можно было не подумать об этом, соглашаясь вообще быть девушкой Тима! Просто я еще девственница, и свой первый раз представляла иначе. Конечно, я уже давно представляю его с Тимом, но не так. Не в чужом доме. Не его пальцами.
— Тим, — говорю сдавленным голосом, высвобождаясь из его рук и поцелуев, которые вдруг в один момент начинают отдавать сигаретами и алкоголем. — Погоди! Что ты делаешь?
— Хочу заняться с тобой сексом, — усмехается он и быстро двумя руками стягивает с меня трусики.
— Я не хочу, — произношу. — То есть, хочу, но давай не здесь.
— А что плохого здесь?
Он задирает мне платье.
— Тим, я не готова…
— В смысле? — он поднимает на меня глаза. — Я еще и не начал.
Меня вдруг начинает подташнивать. Я совершенно не думала о таком исходе, что было глупо с моей стороны. Теперь придется все объяснять.
— У меня просто раньше никогда не было…
Он резко разочарованно выдыхает, потом смотрит на меня подозрительно.
— Ты что, девственница?
— Ну… да…
— Блин! Вот черт!
— Извини, Тим…
— Ладно уж, — снова выдыхает он. — Но тебе не кажется, что сегодня отличный день, чтобы лишиться девственности, а?
— Я не готова…
— Черт! — Тим матерится. — Ну ладно, давай, одевайся.
И весь вечер он ходит с испорченным настроением. Я, с одной стороны, как будто понимаю его, но с другой, чувствую брезгливость и какое-то отчуждение. От него, от всей этой вечеринки, от пирамид бокалов, от быстрого секса в чужих спальнях. Я хотела, чтобы Тим привел меня к себе, чтобы мы долго целовались, потом просто лежали рядом, а уже потом… А он смотрит с каким-то пренебрежением, как будто у меня нет ноги или руки, и он обнаружил протез во время попытки заняться со мной сексом. Я хожу рядом с ним, как навязчивая тень, потом прощаюсь, вызываю такси и еду домой. Тим не возражает и на прощанье целует меня в щеку.
Дома застаю в гостиной Питера.
— Чего не спишь? — спрашиваю.
— Не спится, — отвечает он, — решил тут почитать. — Что с тобой? Вечеринка не удалась?
— Угу, — киваю и присаживаюсь рядом на диван.
— Что случилось, Рита? — он с такой заботой и таким волнением спрашивает, как может спрашивать только самый лучший старший брат, и я знаю, будь с ним все в порядке, он, наверное, сразу же захотел бы набить морду Тиму, но он даже не поворачивается ко мне, так и сидит в профиль.
— С Тимом поругались, — объясняю.
— Сильно? Из-за чего?
— Из-за того, что я дурочка, — закрываю лицо руками и плачу.
Реву прямо. Вот уж точно идиотка. Но алкоголь подстегивает глупость и инфантильность, берет их за руки и выводит на авансцену твоего характера. Всегда так.
— Я сказала ему, что еще девственница.
— И что он?
— Что он! Ничего! Думает теперь, наверное, что я полная неудачница.
— Почему? — Питер как будто не понимает.
— Потому!
— Да ладно тебе, Рита! — он обнимает меня. — Если этот Тим нормальный парень, то поймет…
— Да уж, конечно, тебе-то откуда знать, — говорю и тут же осекаюсь. Я не то имела в виду. Вернее, я имела в виду, что Питер парень, а они думают по-другому, но он воспринял все не так. — Прости! — тут же поправляюсь, но он уже встает и отходит к стене. — Прости…
Они же сегодня ездили в больницу! Папе удалось уговорить брата согласиться на третью операцию… А тут я со своими дурацкими проблемами и соплями!
— Что сказал врач? — я тихонько подхожу и кладу руку на плечо Питеру.
— Сказал, что надо подождать еще и сдать дополнительные анализы. Они что-то изучают там.
— Все будет хорошо, вот увидишь…
— Не будет, — обрывает он. — Я знаю, что не будет.
— Прости меня, Питер…
— Не за что. Ты ни в чем не виновата.
Если следовать терминологии брата, Тим все же оказывается «нормальным парнем». Пару дней в школе держится со мной холодно, но потом оттаивает. Мы снова вместе, снова целуемся на переменах, обнимаемся и планируем провести выходные вдвоем. И на этот раз я не сглуплю.
Его родители в командировке до понедельника. Мы договариваемся, что он заедет за мной вечером.
Я часа два провожу в ванной. Попроще, в джинсах и белой футболке, или посексуальнее, в платье и туфлях? Если в платье, то покороче или до колен? Яркое или сдержанное? Макияж праздничный или повседневный? Я переодеваюсь и кручусь перед зеркалом. Потом снова переодеваюсь и долго смотрю на свое отражение. Эти выходные должны стать самыми важными.
Когда выбегаю из ванной на первом этаже, Тим ждет меня в дверях. Он какой-то растерянный. Видит меня и даже головой едва заметно трясет, как будто чтобы прийти в чувства. Смотрит на меня и расплывается в улыбке. Точно, он очарован, а значит, все пройдет отлично. Значит, правильно я выбрала это платье.
Мы заказываем китайскую еду, а пока ждем, Тим открывает бутылку вина.
«Ты такая красивая» — говорит он, и его рука скользит под бретельку платья. У меня голова кружится — я выпила бокала три. Мне становится жарко. Выдыхаю, чтобы охладить лицо, касаюсь своих щек — они буквально горят.
— Тебе жарко, — шепотом произносит Тим, — Сними платье, не стесняйся.
И он спускает одновременно обе бретельки с моих плеч, потом расстегивает молнию и стягивает платье. Хорошо, что я пьяная, иначе бы чувствовала себя неловко. А тут еще Тим начинает зачем-то развивать тему.
— Так странно, что ты еще девственница, — говорит он с улыбкой. — То есть, удивительно. Только не пойми неправильно, но просто ты такая красивая.
Я киваю смущенно и думаю, только бы не испортить все, только бы не вести себя с ним как ничего не понимающая девочка. Главное — не волноваться и расслабиться, а то точно ничего не получится. Я думаю, что готова. Думаю, мне очень повезло, что моим первым мужчиной будет Тим Портер, самый популярный парень в классе и во всей школе. Думаю, хорошо, что все произойдет у него дома, а не на какой-нибудь прокуренной вечеринке, где в родительскую спальню твоей школьной подруги в любую минуту может заглянуть кто угодно.
Очень скоро я обнаруживаю себя на диване в большой гостиной: платье собрано в гармошку где-то на бедрах, бретелька лифчика спущена, грудь обнажена как-то нелепо, пошло, лишь наполовину. Я быстро поправляюсь, пытаюсь привести себя в более приемлемый вид, но тут из кухни возвращается Тим.
— Может, пойдем наверх? — спрашивает он. — В мою комнату?
Привезенная еда стоит в бумажном пакете на маленьком стеклянном столике. Я чувствую голод. Я так волновалась перед этим свиданием, что с самого утра ничего не ела, только выпила две чашки кофе. Тим берет меня за руку и поднимает с дивана. Я бы сейчас съела три порции рисовой лапши с говядиной и овощами. Я такая голодная, что чувствую запах, заточенный в картонные коробки. Но понимаю, что сейчас начать есть или даже заговорить об этом было бы крайней глупостью, и покорно иду за Тимом вверх по лестнице. Ступеньки выложены матовой плиткой с восточным орнаментом, синие, зеленые пастельные тона. На стене висят картины, написанные маслом. Я останавливаюсь, чтобы лучше рассмотреть, и Тим говорит, что его мама когда-то занималась в школе живописи. Все картины оформлены в одинаковые рамки — очень красиво. У нас раньше вдоль лестницы висели семейные фото, разные, в разных рамках, но после несчастного случая пришлось все их снять, так как практически на всех Питер был со своим старым, красивым лицом, и понятное дело он не мог на это смотреть. Да и мы не могли.
У Тима в комнате такой же идеальный порядок, как во всем доме. На полках — его награды и медали, на стене — грамоты и постеры с игроками футбольных команд разных лет, и самый большой — его собственная фотография в спортивной форме — он держит шлем подмышкой и смотрит прямо в камеру. На краю стола — открытая пачка презервативов. Значит, точно все случится. Странная мысль — неужели я думала, что будет иначе. Но я ведь хочу этого? Почему-то фраза в моей голове звучит как вопрос.
— Ну что, готова? — голос Тима доносится будто издалека, будто с усмешкой.
Я киваю. Тим улыбается и быстро раздевает меня. Я как кукла старого образца, у которой даже руки в локтях не сгибаются. Это ужасно, глупо, но я не могу пошевелиться. Тим укладывает меня на кровать, целует в губы, а потом сразу тянется к столу и переходит к делу. Я не понимаю, почему, но у меня не получается быть расслабленной. Мне так стыдно, потому что я, наверное, все испортила. И что теперь Тим будет думать про меня? Когда он спросит, понравилось ли мне, надо будет ответить «да», улыбнуться и поцеловать его. Но он не спрашивает.
— Пойдем теперь поедим, — говорит он, надевая джинсы.
И потом, наблюдая, как я медленно одеваюсь:
— Ты как, нормально вообще?
Я киваю и улыбаюсь. Нормально, наверное. Только подташнивает из-за вина.
Шон
Все началось внезапно. Завертелось, как ураган. Только вместо Дороти из страны Оз за последнюю парту упала Рита Грейсон. Слева от меня. Рита Грейсон, красотка, пришла к нам в этом году. Она сразу стала популярной, закрутила с Портером, влилась в коллектив. И тут вдруг садится на последний ряд. Проходит между партами с опущенной головой и того гляди поймает чью-то нашпигованную говном фразу.
— Неожиданно, — присвистываю, окинув ее взглядом.
— Посмотрите, да ты оказывается говорить умеешь! — огрызается она.
— Вот сейчас прямо офигенно сострила! — морщусь.
Зря она так. Судя по всему, теперь крайне мало осталось тех, кто не будет складывать в школьный рюкзак каждое утро пару камней, чтобы бросить ей в спину. Этот незамысловатый вывод можно сделать уже только по стремительной смене дислокации Риты, но для меня все понятно до самых костей и туго намотанных на них жил общественного мнения.
Быть изгоем иногда очень полезно. И это мой случай. Не тот слабоватый закос под мальчика для битья, которого все травят и на которого сливают Пепси в школьной столовой. Я настоящий изгой. Такой, которого им даже травить омерзительно. Не то что слово сказать в мой адрес — даже обратить внимание стремно. Но быть тенью не так уж паршиво. В этом есть свои плюсы. Когда тебя не замечают, при тебе говорят друг другу самые сокровенные тайны, к тебе липнут сплетни и слухи, которыми старшеклассники перекидываются, как мячиком для игры в сокс. Даже не тень — пятно на стене, которое не стирается, ну и черт с ним, которое сначала круто всем мозолило глаза, а потом на него забили. И вот тогда мне открылись неочевидные плюсы моего положения. Им, всем моим одноклассникам, да и другим ученикам школы, до меня так нарочито нет дела, что они, честное слово, могли бы, наверное, раздеваться при мне и вполне свободно чесать яйца. Они треплются обо всем на свете. Поэтому мне известно, с чего вдруг Рита Грейсон съехала с передовых позиций на последний ряд.
Началось все с того, что она не дала Портеру. Да не просто не дала, а оказалась девственницей. Наша звезда футбола, ведущий квотербэк и редкостный мудак, такой подставы не ждал. А гулять с девчонкой и не трахать ее, какие бы не были оправдания, участь не для Тима. Он так параноидально боится даже намеков на подколы в свой адрес, что тут же, после этой их тупой вечеринки высмеял невинность Риты. А на следующий день поспорил с десятком парней, что трахнет ее и бросит. Такой джентльмен — просто не описать. Рита, конечно, ничего не поняла. Но не потому, что Портер сильно зашибательский актер, а просто сама она очень уж наивная. Ну и после этих их совместных выходных, когда родоки квотербэка свалили, оставив сыночку большой дом с четырьмя спальнями и забитым баром, Грейсон впархивает в класс, как бабочка, которая не догоняет, что вместо цветка на ее пути паяльная лампа. Но все на самом деле оборачивается как-то странно, потому что смолой начинают расползаться слухи о ее брате. Тим высказывается первым, и уже не остановить. Сначала Рита как будто не замечает — дня два — а потом ее цепляет очередной бомбежкой. Мало что понятно, но все презрительно перешептываются и поглядывают на Грейсон как-то неопределенно. В общем, ничего конкретного — ее брат оказывается, то ли умственно отсталым, то ли каким-то неполноценным. Я только и слышу «урод», «отвратительный», «страшный», — в общем, самые неконкретные слова, которые могут обозначать что угодно, в том числе, и не обозначать совершенно ничего. Понятно только, что с братом Риты что-то откровенно не так, и его прячут в доме.
— Как ты мог, Тим! — Рита пытается взывать к совести Портера, но напрасно.
Она не в курсе, конечно, что там, где у большинства людей располагается совесть, у этого — выскобленная жестянка. Но не стану утверждать, что это сильно его вина. Все школьные квотербэки в некоторой степени говнюки. Это как будто работа такая, профессиональный навык.
— Что с твоим братом? — игнорирует он вопрос и издевательски высокомерно посмеивается Рите в лицо. — Почему он такой, а?
— Неужели нельзя быть чуть меньшей сволочью…
Это Рита говорит уже в пол, как будто самой себе. А Портер просто увидел Питера Грейсона, когда заехал за Ритой, прямо перед той ночью, как стать ее первым мужчиной. Как-то это получилось случайно, и никто, естественно, такого поворота не планировал, но Тим тот еще жестокий сукин сын. Он не упустит возможности унизить любого, для кого найдет повод. А если унижать можно за глаза, то это просто его любимое занятие. Слабак.
Каким бы ущербным не был ее брат, Рита тут ни при чем, конечно, но травля — это всегда такая штука, что ты получаешь по полной, если оказываешься в зоне обстрела. Это самая настоящая война. В моем случае все проще — меня просто вычеркнули из общества, отторгли как чужеродный элемент. Рита же слишком в это общество влилась, да еще отдалась Портеру, который поспорил на нее. Да еще она такая легкая, наивная, красивая. Да еще новенькая, добрая, безобидная и совершенно не готова к роли объекта насмешек. Одним словом, она идеальная мишень для не очень изощренных мудаков.
Рита
Урод. Чудовище. Ужас. Вот ведь не повезло быть таким монстром. Гадость. Только и слышу я со всех сторон. Оскорбления, адресованные моему брату, летят в меня короткими частыми очередями и попадают в самое сердце. Как будто это все говорится про меня. Хотя, может, если бы все это относилось ко мне, было бы проще. Когда оскорбляют тебя, ты можешь в крайнем случае отвернуться, сделать вид, что не слышишь, научиться не обращать внимания. А когда это касается самого дорого человека, почти твоего близнеца (а именно так мы с Питером всегда себя называли — почти-близнецы), не замечать не выходит и отвернуться не так-то просто. Урод, франкенштейн, чудовище. Всё это произносится не громко — скорее, доверительным шепотом, как будто, чтобы я не услышала. Но как же так выходит, что я слышу каждое мерзкое слово!
— Эй, Рита, он таким уродом родился?
— Вы поэтому переехали?
— Поэтому его прячете в доме?
— А гулять его выводите по ночам, чтобы не распугать людей?
— А вы же близнецы с ним?
Да заткнитесь! — хочется крикнуть мне, но вместо этого я трусливо утыкаюсь в свой мобильник, надеясь укрыться в ленте Инстаграма. Но там наш школьный блогер Зак Циммер уже написал мерзопакостный опус на тему непреодолимости тягот внешнего уродства и наделал унизительных мемов. И мои одноклассники с удовольствием комментируют это. Да там под постом уже целая дискуссия!
Мне не хочется сидеть прямо за Памелой, потому что она постоянно торчит в телефоне, и мне из-за ее плеча видны эти дурацкие мемы. Изо дня в день одно и то же. На меня даже начинают смотреть с какой-то жалостью — вроде как, бедняжка, жизнь с чудовищем, должно быть, совершенно невыносима. А у Тима лицо искажается таким презрением, когда я прохожу мимо, что хочется сквозь землю провалиться. И это бубонной чумой передается его друзьям и всей футбольной команде.
Я не хочу быть в зоне их прямой видимости все время и поэтому решаю пересесть на последний ряд. Да еще чтобы подальше от этих «не-обращай-ты-на-них-внимания» Памелы.
— Неожиданно, — аж присвистывает Шон Фитцджеральд, когда я сажусь за последнюю парту, слева от него.
Вот же и он теперь может поучаствовать, может плюнуть мне в спину. И ухмыляется, будто жутко рад всему этому идиотизму.
— Посмотрите, да ты оказывается говорить умеешь! — бросаю ему.
— Вот сейчас прямо офигенно сострила! — Фитцджеральд строит недовольную физиономию.
Все рушится, как хиленький домик во время сильного землетрясения, и обломками его заваливает меня все больше. Скоро уже нечем будет дышать.
Шон
В субботу работаю в первую смену, и когда выхожу из кафе, меня ослепляет солнце. Щурюсь, как будто из норы вылез. Сегодня обошлось без ожогов. Вообще, место, где я работаю, это не какой-нибудь вшивый «Макдоналдс» или что-то такое. Самое настоящее кафе. Называется «У Мишель» по имени старой владелицы. Здесь обжечься — проще простого. Но мы все ловко управляемся с кухонным оборудованием. Сегодня у меня на удивление хорошее настроение. Сегодня ожогов нет. Выхожу через заднюю дверь — моя машина припаркована на другой стороне улицы. Только подхожу к дороге, передо мной со свистом тормозит Форд. Это Спенсер Мейсон. Черт. Застываю на месте, как будто меня в асфальт закатали. Спенсер выходит с банкой пива в руке. Знаю, как он меня ненавидит, но каждый раз, когда мы так сталкиваемся, даже пошевелиться не могу.
— Живой еще, ублюдок, — выплевывает мне в лицо Мейсон. — Жду — не дождусь, когда же ты сдохнешь, Фитцджеральд.
Он выплескивает мне в лицо пиво из банки, а остатки выливает на голову. Не могу возразить ему. Не то что говорить, даже пошевелиться не выходит. Буравлю глазами бордюр под ногами. Трещины на асфальте расходятся тонкими струйками, как разлив реки на географических картах. Могло бы сойти за Миссисипи. В одном месте образовался довольно глубокий скол, и его забила окаменелая зеленая жвачка. Откуда-то порывом ветра швыряет мне под ноги обертку от Сникерса. На кеды попало немного пива, и белые шнурки меняют цвет на противный желтоватый. Спенсер Мейсон скалится, шипит, мнет жестяную банку и швыряет мне в лицо, со всей силы швыряет, круто замахнувшись. Зажмуриваюсь. Жестянка ударяется о переносицу, и это похоже на ожог, но, конечно, следа не останется — только пивом от меня теперь несет. Бросив еще горсть оскорблений, Мейсон загружается в Форд и шумно отваливает.
Домой еду с открытыми окнами, чтобы пивной запах не концентрировался в салоне. Сжимаю руль так, что кожа скрипит под пальцами, зубы стискиваю еще сильнее.
Дома быстро проскальзываю мимо мамы к себе на второй этаж и иду в душ. После каждой стычки со Спенсером хочется кожу с себя мочалкой соскрести. Вот бы еще вместо мочалки была эта металлическая губка для сковородок.
Слышу мамин голос — спрашивает, как у меня дела. Втискиваюсь в олимпийку и джинсы, сажусь за макет. Канцелярским ножом разрезаю размеченные листы. Ровно, надавливая посильнее, чтобы лезвие проходило пластиковую подложку почти насквозь. Потом на каждой маленькой детали надо наметить желобки сгибов — надрезы, совсем не глубокие, как будто царапины, даже не до крови. Потом надо сделать из бумаги карнизы и лестницы и приклеить к макету. Уже вырисовывается архитектурный стиль.
— Шон, милый, ужин готов! — слышу мамин голос.
Время пролетело незаметно, даже не знаю, сколько так просидел в полной тишине. Теперь надо спуститься, хотя есть не хочется. Но нужно хотя бы повозить еду по тарелке, иначе папа опять начнет придумывать какие-нибудь глупости и читать мне морали. А еще хуже — просто будет смотреть на меня, как на последнее дерьмо, лишенное уважения и вообще всего человеческого.
— Как дела на работе? — спрашивает он, пытаясь выглядеть непринужденно, пытаясь выглядеть так, как будто его сын вполне обычный подросток.
— Нормально, — отвечаю, не поднимая глаз, рисуя насаженным на вилку куском курицы и соусом букву «зет» на тарелке.
— А в школе как? — папа пытается улыбаться. Неважно у него выходит.
— Нормально.
— Нормально это как? Шон, ты, может, поговоришь с нами? Мы волнуемся. Что у тебя происходит в жизни вообще?
— Нормально все у меня.
Теперь папа переглядывается с мамой, качает головой.
— Ну, простите, — не выдерживаю, бросаю вилку на тарелку и встаю, — что у вас нет еще одного сына, нормального, которым вы могли бы гордиться, и с которым можно было бы говорить о его успехах!
— Шон, успокойся… — папа пытается что-то сказать, наверняка упрекнуть меня в чем-то.
— Да спокоен! И правда, жаль. Надо было вам еще кого-то родить, на случай если со мной что-то пойдет не так!
Как же они достали со своей неловкой жалостью, со своими взглядами как будто из-за штор. А папе, даже представить не могу, как тяжело. Он так гордился, когда его сын был ведущим квотербеком, когда был самым популярным мальчиком в школе, когда меня звали на вечеринки и разрывали между школьными мероприятиями. А теперь ему ничего не осталось, как только топтаться босыми ногами по осколкам своей былой гордости. Отец ненавидит меня, знаю, просто из-за мамы сдерживается. Если бы не она, давно бы выгнал.
Не сплю уже которую ночь. Толком не сплю. В школу таскаюсь, как лунатик — все равно там всем наплевать. Сижу за макетом ночами. За последние дня три съел один сэндвич. Отцу по фигу, а мама уже поглядывает косо, всматривается в мое бледнеющее лицо. Танцующий дом занимает все мои мысли, вытесняя даже то, что ненавижу в себе больше всего и поэтому особенно тщательно оберегаю. Мне не до уроков — у меня балконы и парапеты. А тут еще в среду, как на зло, чуть в обморок не падаю. Спускаюсь на ужин, и вдруг ноги подкашиваются — успеваю только за косяк схватиться, чтобы не рухнуть. Перед глазами — темнота, и в ней размытые и растворяющиеся белые пятна: бумажные стены, перекрытия, окна, ступеньки, тонкие дорожки клея, куски изрезанных листов. Мог бы вечно сидеть за макетами. Мог бы точно еще пару дней — только перекусить бы и поспать, но меня запихивают в машину и везут в больницу. Стресс, переутомление, напряжение, стресс, стресс, стресс. Родители думают, что моя жизнь вообще сплошной стресс. Ну да, потому что в школе — изгой, потому что друзей нет. Было бы так с детства, никого бы особенно не волновало. Если ты изгой с детства, то все, вроде как, привыкают, и никого этим в шестнадцать лет не удивишь. А если ты был капитаном футбольной команды, если девочки вешались на тебя гроздьями, если ты был общительным и открытым, другом и раздолбаем, и вдруг в один момент — бац — ничего этого не стало, тогда это всех жутко беспокоит. И остается сплошной стресс. Да к черту его! По дороге съедаю кусок оленины с хлебом и луком, запиваю кофе.
— Мам, — говорю, — все нормально уже. Может, не поедем в больницу?
— Шон! — мама только руками разводит. — Ты чуть не упал в обморок! Обязательно к врачу!
— Да устал просто…
— Пусть врач посмотрит тебя…
Блин! Ненавижу больницы! Особенно этих докторов, которые диагностируют переутомление и стресс. Ну что за квалификация — просто чудо! Однако в больнице сегодня как-то особенно оживленно. Я сразу замечаю Ланкастера. Дружок Портера, тоже футболист, а значит, и мой бывший товарищ, редкостный злобный мудак, выряженный в отглаженные модные рубашки. Он меня, конечно, не замечает. Не просто не здоровается, а даже смотрит как будто сквозь. На стуле у стены сидит его прихвостень Даррел, держит свой телефон, как Клинт Иствуд — кольт. И что это они здесь делают? Все резко заболели? Уж не эпидемия ли слабоумия косит ряды примерных школьников? В лифте сталкиваюсь до кучи с третьим из компании — Квинсом. Ну, уж вообще чудеса! Этот бросает на меня презрительный взгляд, такой, что был бы повыше ростом, смахнул бы меня, как муху с плеча. Концентрация одноклассников, да еще в таком составе, в больнице, настораживает. Если бы со мной не были давно расставлены все точки, мог бы подумать, что они приперлись устроить мне травлю, но я тут ни при чем. Думаю об этом все время, пока жду приема, и потом в кабинете доктора.
— Что, простите? — переспрашиваю. — Что вы сказали?
— Я спросил, сколько ты спал за последние несколько суток.
— А, ну, не много… Я макет доделывал…
Врач что-то бурчит и записывает. Потом опять спрашивает о всякой ерунде, выписывает какие-то таблетки. Потом мама еще остается обсудить мое удрученное состояние. Спускаюсь, чтобы выйти на воздух, и, когда прохожу по холлу первого этажа, замечаю фигуру в капюшоне, двигающуюся довольно быстро. Обычная темная фигура, даже не знаю, почему этот парень привлек мое внимание. А может, начинаю наблюдать за ним, когда понимаю, что он и есть мишень моих одноклассников. Ланкастер подскакивает к нему, резким, как будто отрепетированным движением сдергивает капюшон, и тут же Даррел снимает на телефон. А у этого парня вместо лица — просто ядерная катастрофа. Как будто консервным ножом пропахали. Он теряется сначала, прямо из реальности выпадает, старается закрыться руками, потом надевает капюшон и выбегает. «Охренеть, — тянет Ланкастер, всматриваясь в экран телефона Даррела, — и правда, урод!» До меня доносятся еще обрывки их несвязного разговора, и по отдельным словам становится понятно, что этот парень в капюшоне — брат Риты Грейсон. Теперь у них есть его фотки. Теперь у Риты Грейсон начнется настоящий кошмар. Ух и ни фига себе! Смотрю в сторону двери, за которой он скрылся. Когда слышал все эти сморщенные оскорбления в его адрес, представлял себе парня без ноги, или скрюченного ДЦП, или умственно отсталого с капающей изо рта слюной, или… В общем, что-то такое. А тут… Даррел уже строчит кому-то сообщение, уже рассылает сенсацию. Интересно, Питер расскажет своей сестре об этом случае, предупредит? Но его лицо… Оно прямо не отпускает меня, как края консервной банки, впившиеся в кожу. Еду домой, а перед глазами так и стоит его лицо. Въелось несмываемым маркером. Страшное, отталкивающее, но никак не могу выбросить его из головы.
Прихожу домой — сразу в интернет. А потом — в Инстаграм. У меня нет живого аккаунта. Свой старый, набитый тупыми селфи и футбольным позерством, убил после известных событий. Но сейчас такое время, чтобы не умереть от информационного удушья, ты должен держать хотя бы фейк без подписок. Чтобы быть в курсе. И вот именно сегодня тот случай. Я же знаю все ники своих одноклассников — они нечасто меняют их. Ну, точно, некоторые уже выложили у себя фотографию Питера Грейсона с подписями еще более отвратительными, чем рожи Ланкастера и Даррела. И ведь в чем мерзость: меня объективно было, и за что травить, и ногами пинать, и грязью закидать, но от меня просто отвернулись, просто сделали негласный закон, что мне даже руку пожимать нельзя. А тут, парень ведь вряд ли сам себя таким сделал, а его обзывают и оскорбляют. Ему ведь и так паршиво, раз он даже из дома не выходит. Механизмы травли всегда нелогичны. Вернее, эти механизмы действуют сами по себе, хаотично запуская свои шестеренки. Это как игра в бутылочку — на кого покажет горлышко, тому и терпеть.
У Риты теперь просто кошмар наяву. Самый отвратительный кошмар, которого, она, спорю, не могла и вообразить. Но она молчит. Ходит, опустив глаза, и молчит. Может, оттого, что девчонка. Хотя могла бы огрызнуться и выцарапать парочке идиотов глаза. Но она с каждым уроком, после каждой перемены только глубже зарывается. Конечно, Инстаграм-то свой уже закрыла — теперь одна дорога — дальше от себя.
— Эй, — шепотом окликаю ее, когда мы нечаянно сталкиваемся взглядами перед уроком английского — Что с твоим братом?
— Да пошел ты! — огрызается она.
Собственно на этом все разговоры с Ритой можно считать законченными. Она остается на другой стороне, даже не смотря на то, что ее с берега толкают все ближе к краю. Но ожидать от новенькой, что она вдруг поплывет в мою сторону, было бы глупо. Да и незачем. Вычеркнутый элемент, вроде меня, ведь не спасет, не подаст руки, не бросит надувного котика.
Не могу выкинуть из головы Питера. Он как будто притягивает меня. Эти уродливые шрамы заполняют все мысли. Ожог на его лице каким-то образом перекочевал внутрь меня, зацепился крючками за мои жабры. Как подумаю о нем — все сжимается, а думаю почти постоянно. Открываю ленту Инстаграма и нахожу посты своих одноклассников. Нахожу фотографии и видео Питера Грейсона. Те самые, из больницы. И подолгу всматриваюсь в них. Через Риту нахожу его профиль. По крайней мере, думаю, что это фейк Питера. Он называется непонятным набором букв, и там пустота. Ни одного фото, ни одной подписки — как будто мертвец в виртуальном гробу. Решаюсь написать ему сообщение. Не могу преодолеть эту тягу. Да и не хочу, наверное. Понимаю вдруг, что мне просто жизненно необходимо познакомиться с Питером Грейсоном. Ловлю себя на мысли, что хочу снова увидеть его. Теперь уже по-настоящему. Мне, конечно, все ясно про причины, а другим… Другим же на меня наплевать. Шона Фитцджеральда с позором выставили вон.
Пишу в личку: «Привет. Пообщаемся?». Пишу ему: «Меня зовут Шон. А тебя?» Пишу: «Я хочу просто поболтать — ничего особенного». Но когда пишу, что, на самом деле, учусь в одном классе с его сестрой, в течение трех минут получаю такой конкретный ответ, что почти вещи начинаю собирать, чтобы отправиться туда, куда он меня посылает.
«Да нет, не подумай ничего…»
Палец соскальзывает, и сообщение отправляется. Не успеваю закончить, как получаю ответ.
«Иди на хрен».
«Ну, правда…»
Не успеваю закончить.
«Пошел на хрен».
И связь обрывается. То есть, Питер закрывает свой пустой профиль, добавляет меня в черный список — и все. Но не дождешься — не сдамся так просто. Питер Грейсон, даже не думай! Ты мне нужен. Черт, меня аж передергивает — вдруг представляю его совсем рядом, как будто вижу обгоревшее лицо, тянусь и дотрагиваюсь. Даже руку одернуть хочется. Просто с ума схожу. Мне нужен Питер Грейсон.
Питер
Мои лошади разбегаются от меня. Скачут галопом в разные стороны, как черный и рыжий огоньки, на которых теплилась жизнь. Они бегут по бескрайнему полю скошенной пшеницы, оставляя за собой следы, как светлячки в темноте. А я стою, кричу им вслед, но не слышу собственного голоса. И только пустое поле остается мне ответом. Ужасный сон. Я просыпаюсь резко и первые несколько секунд даже не могу сообразить, где нахожусь. Моя комната кажется чужой, незнакомой. Так было первое время, когда мы переехали сюда, потом я привык. Как привык держаться за свою мечту, за свой тайный мир, за своих американских верховых, свое ранчо. Только мое. Это моя мечта. Разве может она сбежать от меня, ускакать в поле? Такого не должно быть. Никто не имеет права отнимать у кого-то мечту. Этот сон снится мне с тех пор, как парень сестры, этот Тим Портер, увидел меня, когда ждал Риту у нас. Я спускался по лестнице. Зачитался и не заметил, что кто-то пришел. Я вышел из комнаты, будучи уверенным, что дома никого. Не прятал лицо, не стремился скрыться. Ведь скрываться было не от кого. Наш дом был моей крепостью. Даже после того, как Рита привела подругу, это все равно был непреступный форт. Обнесенный рвом с крокодилами, с железными воротами и замками. Но моя безопасность взорвалась. Разлетелась осколками, которые впились мне в ноги. Кто-то стоял у входной двери. Стоял и смотрел на меня. С ужасом, ошарашено. Красивый парень, мой ровесник. Я так растерялся, что даже не сообразил отвернуться. А он пялился. Ступеньки подо мной трещали. Я сорвался и побежал вверх, чтобы, как паук, завернуться в свою паутину и, может быть, впасть в кому.
С этого все и началось. Моя неосторожность поставила под удар Риту. С того дня на нее хлынул поток оскорблений. С того дня я больше не видел солнечных радостных глаз сестры, которые всегда давали мне сил держаться, убеждали, что всё не зря.
Шон
— Эй, я не из этих уродов, что рассылают друг другу твои фотки и травят Риту! — кричу входной двери погромче, чтобы она точно услышала.
Уже полчаса стою на крыльце дома Грейсонов и тарабаню в дверь. Сначала признаков жизни дом не подавал, но потом кто-то подошел с той стороны. Не подошел даже — подкрался и ждет, притаившись, как заяц за кустом, пока потенциальная угроза в моем лице свалит. Но нет никакой угрозы.
— Правда, Питер! — продолжаю. — Я пришел предложить дружбу! И да, у меня совсем нет друзей, как и у тебя, так что мы точно составим хорошую компанию. Я книжки принес. По физике и всей этой ерунде, которую ты любишь. И еще бургеры. Но они, на фиг, остыли уже, пока ты прячешься!
— Откуда ты знаешь, что я люблю физику? — вдруг раздается приятный голос и из-за плотной шторы на двери появляется красивый профиль.
Ох ты черт! У меня чуть дар речи не пропадает. Думал, у него все лицо — сплошная воронка от взрыва, а одна сторона такая, что девчонки на моем месте простонали бы, пожалуй, что-то томное и вожделенное. Голубые глаза, вернее, глаз. Кожа чистая, без всяких намеков на прыщи. Он так странно смотрит, прямо на меня, но, почти не поворачиваясь другой половиной лица, которая и натерла уже всем мозоль, мелькая в школьных группах, чатах и лентах Инстаграма.
— Может, впустишь меня? — стараюсь улыбаться очень доброжелательно.
— Нет.
— Почему?
— Потому!
— Да ладно, Питер! Говорю же, что пришел с миром. Ну, хочешь, вместе подумаем, как заткнуть этих дебилов…
— Мне не нужны друзья! — обрывает он.
— А мне кажется, нужны. Впусти, ну! Хуже-то не будет уже ведь!
Никогда в жизни никого так не упрашивал что-то для меня сделать. Было время, когда все делали всё сами, с удовольствием стараясь угодить мне. Теперь разве что на коленях не стою перед Питером Грейсоном. Он раздумывает. Сумел подкинуть ему дров сомнений. Осталось раздуть пламя.
— Ну, Питер! Ну, что такого! Я все про тебя знаю… То есть, уж прости, про лицо твое знаю. Вся школа жужжит. Они мудаки, не обращайте вы с Ритой внимания! Отстанут скоро. Я, правда, с добрыми намерениями…
Замок щелкает. Между дверью и косяком появляется щель, но Питер не торопится впускать меня.
— Что тебе нужно? — спрашивает он и вот-вот передумает.
— Просто хочу общаться с тобой…
— С чего ты взял, что я интересный человек?
— Ну, вот и посмотрим, — стараюсь улыбнуться. — Пока не попробуешь же, не узнаешь…
И он впускает меня. Быстро ставлю на пол рюкзак, достаю оттуда книги по физике, чтобы не выдать свою растерянность.
— Вот, — говорю, — Думаю, тебе должно понравиться, — кладу на стол, — и вот еще, а эта, вроде как, вообще отпад…
Когда поднимаю глаза, Питер увлеченно переворачивает страницы. И… врезаюсь в его лицо, как кошки альпиниста — в ледяную гору, крепко и цепко. Смотрю на него и не могу оторваться. Правая сторона будто существует отдельно от левой, красивой, почти картинно привлекательной. Стою, как завороженный, рассматривая стянутые, словно склеенные наспех, куски живой ткани. Питер отвлекается. Это длится миг, отрезок времени, который почти невозможно измерить.
— Интересно? — злобно скрипит Питер.
— Извини, — мотаю головой.
Мы сидим на диване и молчим. Нам совершенно не о чем говорить, а меня просто маниакально тянет посмотреть на Питера. Мне хочется рассматривать его лицо, хотя приятного в этом мало. Мне хочется касаться его шрамов. Это как-то отвратительно — самого аж передергивает, но ничего не могу поделать. В этот раз мы говорим только о какой-то ерунде, пьем колу, и вообще все очень напряженно и неловко. Час длится как неделя в школе.
Конечно, никто не рассчитывал, что мы станем друзьями за один раз. Честно говоря, не думал даже, что Питер мне вообще откроет.
Рита
Мне пришлось закрыть свой профиль в Интсаграм, потому что это началось мгновенно. Вернее, сначала Тим перестал со мной общаться. Прямо на следующий день после тех выходных, которые мы провели вместе. Я все время возвращаюсь туда мыслями, снова и снова, в дом к Тиму Портеру, в свою первую ночь, проведенную с ним. Что я сделала не так? Но понимаю, что дело не во мне. Понимаю, что Портер оказался просто мерзавцем. И вся эта подлая задумка с больницей и фотографиями, которые потом разлетелись по сети, как бактерии вируса, скорее всего, дело рук Тима. Сколько прошло времени с тех пор, как это началось? Неделя? Две? Кажется, это длится бесконечно. Я уже не помню, когда мы переехали. Мне кажется, вся эта травля шлейфом тянулась за мной из самого Бостона. Я не могу нащупать начало всего этого, хотя оно очевидно. Как не могу я и оторваться от новостных лент социальных сетей, где в этот шлейф вплетаются ядовитые комментарии и обидные слова. Закрыть свой аккаунт, перестать постить селфи, кружки кофе и яркие солнечные мармеладки — даже не полдела. Из виртуального болота так просто не выберешься. Если оно тебя засосало, ты так и будешь в нем барахтаться, даже если закроешь, даже если удалишь все свои аккаунты. Снова и снова я возвращаюсь в ленту, скольжу по фотографиям и постам, по комментариям и лайкам. И снова натыкаюсь, словно на острые камни, на издевательские мемы с Питером. Я откладываю телефон и возвращаюсь к контрольной, что совсем не просто — мерзкие картинки так и скачут перед глазами, расталкивая буквы заданий. Фитцджеральд сидит за партой справа от меня и пялится. Прямо чувствую на себе его взгляд.
— Что уставился? — бросаю ему вполголоса.
Он не отвечает и опускает глаза. Делает вид, что пишет. Интересно, кого он надеется провести.
В середине урока у меня ломается ручка. Я трясу ее, резко чиркаю по тетрадному листу и замечаю, что Фитцджеральд протягивает свою. Так настойчиво, так искренне, как будто он мне друг. Ведь лишь друг может вот так выручить, когда ты даже не просишь об этом. Только Фитцджеральд никакой не друг. Я смотрю на него широко открытыми от удивления глазами, и тут со своего места поворачивается Памела. Заметив великодушный жест самого ненавистного ученика нашего класса, она просто буравит меня своими голубыми глазами. Из ее взгляда я понимаю, что если возьму ручку у Шона, то тут же подхвачу какую-то страшную неизлечимую болезнь, покроюсь язвами, у меня выпадут волосы, — в общем, вот такой это взгляд.
— Что с ним не так, с этим Фитцджеральдом? — спрашиваю Памелу уже позже, когда рассматриваю в холле фотографии на стене славы.
— Господи, он урод, — Памела закатывает глаза. Хоть и стою к ней спиной, по голосу это чувствую.
Удивительное определение! Точно так же говорят и про моего брата, но в ситуации с Шоном подруга явно имеет в виду не внешность.
— Я про фото, — указываю на стенд.
Там большая фотография школьной футбольной команды под стеклом. Фотография, видимо, прошлогодняя. На ней Фитцджеральд стоит в центре, гордо держит свой шлем, улыбается во весь рот, как будто его кто-то очень рассмешил, или как будто уровень счастья и самореализации достиг предела подросткового сознания. Вот только лицо его, вернее, стекло в том месте, где под ним на фото лицо, все исцарапано, исчиркано, затерто. Если смотреть мельком, то не заметно, но теперь я стою близко, разглядываю фото-доказательства спортивных успехов школы Броаднек, и исцарапанное оргстекло поверх Фитцджеральда выглядит пугающе.
— Его что, пытались закрасить или испортить? — киваю на фото.
— Да что ты к нему привязалась! — вспыхивает Памела. — Не вздумай еще проникнуться к этому… — она не находит слов, чтобы обозвать Шона. — Поверь, если с ним поведешься, вся это ерунда с твоим братом покажется детским садом.
— Что ты имеешь в виду?
Ее слова не на шутку пугают. Во-первых, потому что то, что происходит вокруг моего брата, вовсе не ерунда. Во-вторых, сам тон Памелы — она как будто угрожает мне. Или предупреждает? Но еще больше меня пугает теперь Шон Фитцджеральд.
— Он вообще не достоин того, чтобы висеть здесь, — фыркает Памела и потом как ни в чем ни бывало обращается ко мне. — Кстати, ты пойдешь на новогоднюю вечеринку?
— Нет.
Иногда мне кажется, Памела ничего не понимает ни в происходящем вокруг, ни в людях вообще.
— Ну и правильно, — как будто поправляется она, сожалея, что задала неправильный вопрос, — наверняка там будет скука смертная. Я сама не пойду. Мы с моим парнем уезжаем за город.
Два следующих вечера я сижу в интернете. Я пытаюсь найти хоть что-то про Фитцджеральда, но запросы в Гугле затухают на прошлогодних датах. Вот он был квотербэком, вот команда выигрывала, вот он улыбается с фотографии на стене славы, и вдруг — все обрывается. Шон Фитцджеральд перестает существовать даже для местной прессы, даже для Интернета. Разве такое бывает, чтобы у подростка, к тому же довольно симпатичного, не было ни одного профиля хотя бы в Фейсбуке? Разве возможно, чтобы вдруг никому стал не интересен перспективный футболист? Мне начинает казаться, что у Фитцджеральда в шкафчике нашли расчлененное тело, или он проводил страшные эксперименты над младшими школьниками, или убил кого-то, или изнасиловал. Но тогда почему он не в тюрьме?
Шон
Вечером, после футбольного матча, когда освещение погасили, а зрители разошлись, прокрадываюсь на поле. Тайком, как вор, как призрак, способный передвигаться только в темноте. Хотя иногда мне кажется, что, если выйду на поле в разгар матча, все продолжится без поправок, остановок и изменений, — меня никто не заметит.
Вечерний ветер приносит прохладу. Иду в кроссовках по утоптанной после игры траве, по вывернутым кускам земли. Поле еще гудит под ногами, и гул этот передается мне. Проходит от ступней, по икрам, выше, останавливается, чтобы пощипать и сдавить в районе живота, потом в области солнечного сплетения и мурашками разбегается по рукам. Ложусь посередине поля, чтобы почувствовать холодную землю, собрать впитавшийся в траву пот. Лежу, раскинув руки, глядя в темное небо, закрываю глаза. Чувствую напряжение земли, которое еще не успело сойти на нет. Слышу крики защитников, вопящий, срывающийся на хрип, голос тренера. По спине пробирается холод. Представляю, как бегу по полю, чувствую шершавую поверхность мяча с частичками земли и пота. Ловишь его — будто ловишь маленькую планету и несешься с ней к краю галактики. Ветер усиливается, на лицо мне падают две крупные капли. Зажмуриваюсь, морщусь. Начинается дождь. Лежу под ним, как будто мертвец в могиле, трава приятно щекочет пальцы и шею. Гул земли утихает, поле остывает. Снова слышу в своей голове крики тренера. Теперь он доволен, радуется, но у него все равно выходит сурово и грозно. А потом его похлопывание по плечу и соприкосновение ладонями с другими парнями из команды, и возвращение в раздевалку, и снова холод пропитанной потом травы. Не моим потом. Черт, мне нравилось играть. И у меня отлично выходило. Меня ставили в пример, на меня равнялись. Хорошо, что идет дождь, и можно убедить себя, что это не слезы текут по щекам. Капли бьют по лицу. Встаю, обхожу поле вокруг три раза, медленно. Когда-то оно было и моим тоже.
Домой возвращаюсь, потряхиваемый мелкой дрожью. Смахиваю капли с волос и хочу сразу прошмыгнуть в ванную, но меня, как бейсбольный мяч в перчатку, ловит папа.
— Ты где был? — он вырастает передо мной и говорит холодно, так что моя влажная одежда почти покрывается корочкой льда.
Просто в его голосе, как обычно, столько разочарования, столько горечи, как будто он осколки своих разбитых надежд пережевывает, когда говорит со мной.
— Да так, — пожимаю плечами, стараясь не встречаться взглядами с отцом, — гулял.
Он только головой мотает, как бы не зная, что со мной делать, как исправить то, что во мне сломано, и сделать из меня нормального человека.
— Господи, Шон! — Из кухни появляется мама. — Да ты весь вымок! Простудишься! Давай скорее в ванную, а потом ужинать!
Киваю и угукаю себе под нос. Знаю, они уже поужинали без меня. И даже не потому, что их сын задержался на стадионе допоздна — просто без меня приятнее.
На следующий день чувствую себя разбитым и простуженным. Отличный повод отмазаться от школы и снова пойти к Грейсонам. Сегодня четвертый раз. Четвертый мой визит к Питеру. Прогуливать уроки, чтобы приходить к нему, не слишком умный ход, но черт с ним. Но работу прогуливать нельзя. Хоть там тоже со мной особенно никто не общается, это деньги. Отец, как раньше, дает мне на карманные расходы. Вернее, теперь не дает, а просто кладет деньги на комод. Забираю, но никогда не трачу. Ни цента не потратил за год из родительских денег. Они все копятся у меня в шкафу, в коробке от кроссовок. Беру их, чтобы не вызывать подозрений, чтобы не расстраивать маму, и чтобы у них не появилось желание снова таскать меня к психологу, где мне придется говорить и что-то постоянно объяснять.
— Привет, — говорю хрипло, когда Питер открывает мне.
Он впускает меня, мы пьем колу, болтаем. В основном, он спрашивает, как дела у Риты. Отвечаю, что вообще-то дела у нее паршиво, что ее достали. На самом деле, по школе уже несколько дней гуляет отвратная картинка, на которой лицо Риты обезображено так же, как у ее брата. Когда увидел, захотелось вмазать остроумному придумщику. Даже всерьез подумал, интересно, если наброшусь сейчас на кого-нибудь, меня начнут бить, или так же продолжат делать вид, что ничего не происходит. Но понятное дело, где же взять зачинщика. Никто не признается — все только хихикают мерзко, как обдолбанные гиены, и кидают фотку с телефона на телефон. Вижу ее на экране мобильника Курта Краузе, он сидит передо мной, его плечи нервно дергаются от смеха. Рита знает, над чем смеется Краузе. Как только что-то такое появляется в информационном пространстве школы, ей сразу же докладывает Памела, единственная теперь ее подруга. Но такая ли уж необходимая в ситуации Риты? Зачем, не понимаю, рассказывать о новых злорадствах тому, кому явно лучше было бы о них не знать? А уж сколько уродливых карикатур мы все тут увидели на Питера — не сосчитать.
— Эй, — окликаю раздавленную Риту, которая из красавицы быстро превратилась в неприметную серую бабочку, только и мечтающую слиться со стеной. — Не обращай внимания.
Она поворачивается, смотрит так, что понимаю — она меня увидела. Потом фыркает что-то себе под нос и отворачивается.
— Да серьезно, — продолжаю вполголоса. — Забей! Они быстрее забудут, если ты не будешь реагировать так остро…
— Ты-то все об этом знаешь, да! — огрызается она.
Кое-что знаю, думаю, но вслух ничего не говорю.
Рассказываю Питеру про все это, и он расстраивается. Старается не показывать, но понятно же. Еще он старается все время сидеть и вообще держаться так, чтобы видно было только левую часть его лица. Как ему это удается — просто отпад! Как ни стараюсь, не могу заглянуть на другую сторону.
— Слушай, скажи честно, — снова заводит он свою пластинку, — зачем ты ко мне приходишь?
— Сто раз говорил.
— Не сто.
— Надо сто сказать? Хочу с тобой дружить…
— Это чушь, Шон, — он качает головой. — И ты сам понимаешь. К тому же, если хочешь дружить, так скажи правду.
— Какую правду?
— Ты гей, да?
— Что?? — аж подпрыгиваю и даже не знаю, смеяться от такого предположения или обидеться.
Ведь откровенно, не сказать, что Питер прямо такой, на которого западают парни, ну, учитывая его ожог. — С чего ты взял?
— Ну а что? Если так, то скажи прямо. Ты же понимаешь, я не тот, кто будет тебя упрекать…
— Да ты с ума съехал что ли! Что за фигня вообще!
— Ладно, — Питер соглашается.
Вот ведь придумал, тоже мне! Блин, совсем уже мир тронулся с орбиты, если даже дружбу нельзя предложить своему ровеснику.
— И все-таки, — настаивает он.
— И все-таки, — передергиваю, — мне просто нравится с тобой общаться. И вот да, увидел тебя в больнице и сразу понял это. Мы с тобой похожи…
— Это вряд ли, — перебивает Питер.
Он задумался и смотрит в окно сквозь тюль с мелким цветочным узором. Он выглядит совершенно отрешенным и даже не реагирует, когда говорю, что пойду возьму пару яблок. Когда возвращаюсь, застаю его в той же позе на том же месте. Неслышно обхожу справа. Подкрадываюсь совсем близко и вижу теперь его лицо. Вижу то, что большинство бы не назвали лицом. Внутри все сжимается в тугой комок, глотать становится тяжело, в груди повисает на струне свинцовый шарик. Чувствую, как струна лопается, словно в замедленной съемке, а шарик медленно падает вниз живота.
— Черт! — Питер замечает меня, вздрагивает и разворачивается.
Теперь вижу его анфас. У меня даже губа дергается, но надеюсь, это не заметно. Впялился в него и не могу оторваться — смотрю, как кобра на заклинателя змей.
— Черт! — повторяет он. — Зачем ты так подкрадываешься и смотришь на меня!
— Яблоко взял, — отвечаю, не сводя с его лица взгляда, но Питер уже поворачивается ко мне левой стороной.
— Не надо смотреть на меня!
— Извини, — мешкаю пару секунд, но, так и не придя полностью в себя, оставаясь во власти какого-то неведомого колдовства, добавляю, — Можно я дотронусь?
— Что? — Питер рычит, как собака.
— Можно потрогать твой шрам?
— Ты точно педик! — обрывает он. — Что за фигня…
— Не педик, блин! — кричу. — Что ты привязался!
— Извращенец!
— Да почему?
— Потому что! Как будто ты не понимаешь! Уходи!
— Извини, — бормочу быстро и протягиваю яблоко.
— Вали отсюда!
Мы препираемся еще минут пять, а потом Питер выпроваживает меня. Сдаюсь и сваливаю, конечно. Но возвращаюсь на следующий день.
— Что? — Грейсон таращит на меня глаза сквозь занавеску на двери. — Ты издеваешься? Чего приперся?
— Ты на мечах драться умеешь? — спрашиваю.
— Что? — еще больше недоумевает он.
Ну, он удивлен — сил нет. Смотрит на меня, как на психа.
— На мечах, — говорю, — дрался когда-нибудь?
Он отрицательно мотает головой. Показываю ему две торчащие из моего рюкзака деревянные рукоятки. На самом деле, сам сто лет не тренировался. Когда мне было девять, прочитал «Властелина колец» и записался в секцию боев на мечах. Мне тогда это жутко нравилось, потом как-то забылось, вытиснилось школой, футболом, отношениями, а сейчас почему-то снова захотелось.
Питер медленно открывает дверь, как будто не хочет впустить ветер в дом.
— Ты что, хочешь…
— Ты умеешь? — достаю мечи, не дождавшись продолжения вопроса.
— Нет, конечно, — он усмехается.
Ловлю его мимолетную улыбку, грустную, натянутую, едва заметную. На той стороне лица ее, наверное, вообще не различить, ведь там даже губ нет — только дырка рта, туго обтянутая по краям изрезанными швами.
— Я научу! — выдыхаю нетерпеливо. — Пойдем!
— Куда? — Питер снова настораживается, как мангуст, учуявший кобру.
— На задний двор хотя бы. Не дома же нам драться…
— Я не умею драться на мечах, — он теперь очень серьезен и сдержан, говорит, будто с умственно отсталым.
— Да научу сейчас тебя! — как-то непроизвольно беру его за запястье и тяну в сторону задней двери.
Секунды две он смотрит на наши руки, потом поднимает глаза на меня, как будто снова хочет спросить, не гей ли я. Ага, ведь нельзя же просто так взять друга за руку. Что за фигня вообще! Он одергивает руку.
— Да что ты в самом деле! Это круто! — уговариваю. — Неопасно, мечи деревянные, просто помашем… Правда, это прикольно, Питер…
— Я не выхожу на улицу! — грубо перебивает он.
И это неожиданно.
— Даже на задний двор?
— Даже!
— Почему?
— Потому!
Смотрю ему в глаза, вернее, в один глаз, и соглашаюсь. Знаю, как для него это важно. Здесь, в своем доме, он защищен, он в безопасности. А там, за порогом начинается жестокий мир. И мы просто болтаем весь день.
Питер
Шон так забавно высовывает язык, когда клеит свои макеты. Он принес один и оставил. Я спрятал его в своей комнате под столом — чтобы не было вопросов. Когда Фитцджеральд приходит, он часто занимается им, а я наблюдаю. У него глаза горят. Но язык — это смешно — как ребенок, пытающийся не выйти за края в детской раскраске.
Он приходит два раза в неделю. Мы болтаем, или молчим, бывает, занимаемся каждый своим делом, а недавно он вытащил меня из дома с этими деревянными мечами. Я не выходил почти два года, а тут… Но Шону невозможно противостоять. Он такой напористый, и жизнерадостный, и рыжий. Я не люблю, когда он смотрит на меня, когда видит мое лицо, но он так и жаждет подловить. Подкрадывается, заглядывает через плечо и потом не отводит глаза. Если бы не это, с ним было бы отлично. Но я не могу отделаться от мысли, что с ним что-то не так. И все же с ним легко. Я два года ни с кем не общался, кроме семьи, учителей и психолога, но последних я вижу только в мониторе компьютера, так что это не в счет. А Фитцджеральд — это что-то с чем-то. Он как ветер. Разве от ветра можно отделаться? Разве с ветром можно спорить? Сегодня опять он вытаскивает меня на задний двор. На улице похолодало. Зима здесь, конечно, не то что в Массачусетсе, но ветер холодный. В другое время я бы просидел в такую погоду перед окном в своей комнате. Так и ждешь, когда с неба вот-вот что-то вырвется и обрушится душем на город. Но сегодня заваливается этот парень в красной спортивной куртке, ежится, мотает головой, ругается на погоду, а потом опять тащит драться на деревянных мечах.
— Пойдем же! — тянет меня.
— Холодно!
— Да не гони, Питер! Надевай куртку и вперед! Тебе не удастся увильнуть от тренировки!
На нем высокие ботинки, похожие на спортивные кроссовки, и джинсы, вечно созборенные внизу. Шон не заправляет их, и они собираются в гармошки выше ботинок.
— Давай, давай! Напяливай шапку, а то простудишься! Еще не хватало!
Он надевает мне шапку прямо на глаза, задевая ладонью шрам. Не знаю, случайно у него выходит, или это он нарочно. У меня дыхание перехватывает на секунду, но отпускает, когда я больше не чувствую прикосновение Шона.
Мы деремся. Как обычно он разыгрывает из себя рыцаря и беспощадно мне поддается. Даже удары пропускает, падает и начинает корчиться от воображаемой раны — так по-киношному — перекатывается на спину, зажимает руками живот, стонет. Молит о пощаде почти шекспировскими стихами.
— Вставай! — протягиваю руку. — Простудишься!
Шон тянется ко мне. Он лежит так, что видит правую половину моего лица. И специально тянется медленно, не сводя с меня глаз. Я отворачиваюсь, и тогда он быстро поднимается на ноги, отряхивается.
— Круто! — заключает он.
— Ты все время поддаешься мне.
Он ничего не говорит в ответ. Задирает голову и ловит первые крупные капли начинающегося дождя. Они разбиваются о его веснушчатое лицо, одна, вторая, третья, и вдруг с неба обрушивает поток воды. Я забегаю под крышу на крыльцо, а Шон так и остается мокнуть. Он закрывает глаза, расставляет руки в стороны. Моментально становится весь мокрый. А потом открывает рот, чуть высовывает язык и ловит им капли.
— Иди сюда! — перекрикиваю гул ливня.
— Неужели ты не любишь дождь? — поворачиваясь ко мне, говорит Фитцджеральд. Он так и стоит под потоками воды. — Это же круто! Дождь смывает с тебя всё, смывает даже то, что не отскоблить канцелярским ножом.
От его сравнения меня передергивает.
Когда входим в дом, застаем там Риту. Она растерянно уставилась на нас, ее взгляд скачет с меня на мокрого Шона.
— Фитцджеральд? — по слогам выговаривает она.
И это невероятно, как в ту же секунду меняется Шон. Он съеживается, засовывает руки в карманы, опускает голову. Как будто ему стыдно перед Ритой, как будто он вообще права не имеет на нее смотреть. Как будто, черт возьми, это он устроил травлю в школе. Из веселого беззаботного рыцаря он вдруг превращается в слугу, которому и взглянуть нельзя на нас. Никогда раньше мне не приходилось видеть такой резкой перемены в людях.
— Ладно, пойду уже, — быстро выпаливает он, хватает рюкзак, засовывает в него мечи и вылетает из дома, как шарик в пейнтбольном автомате.
— Это что был Шон Фитцджеральд? — Рита открывает от удивления рот и выпучивает на меня глаза.
— Да, — киваю.
— Что он тут вообще делал? И какого черта вы с ним… А вы с ним что…?
— Да ничего. Он просто приходит, и мы… Вроде как, он учит меня драться на мечах.
— Что? Шон Фитцджеральд?
— Ну да. Он же с тобой в одном классе…
— Какого черта, Питер! Как вы с ним вообще познакомились? Ты же не выходишь никуда… — и она просто чуть дар речи не теряет. Врезается в стену только что осознанного события, и ремень безопасности дергает ее назад. — Ты был на заднем дворе! Боже! Ты промок…
Она касается моей куртки, трогает мокрую ткань и не верит своим ощущениям. Как будто дождь — это вообще какое-то фантастическое явление.
Я рассказываю ей про Шона, но она только головой качает.
— Ты вообще в курсе, что он изгой?
— Вообще нет.
— Так вот будь, пожалуйста! Этого только не хватало! И так все достали, еще и связаться с этим! Если его увидят тут, мне устроят ад! Как будто сейчас у меня не ад, — добавляет она.
Я стучу в комнату сестры уже минут пять и умоляю открыть. Я не понимаю, чем так насолил ей Шон, он ведь хороший парень. Но я вообще уже мало что понимаю.
— Ты даже не представляешь, что у меня творится в школе! — бросает Рита, дернув дверь. — Тебе не понять! Каждый день это кошмар, самый настоящий, честное слово!
— Так расскажи! — говорю.
Я сто раз спрашивал, хотел поддержать ее, но она только еще больше замыкается.
— Что рассказать? Как они обзывают тебя? Как называют уродом и распространяют эти дурацкие фотографии? А тут еще оказывается, ты подружился с Фитцджеральдом, которому даже руки никто не подает! Ты не представляешь, каково мне…
— Прости, — я присаживаюсь рядом с ней на кровать. — А что не так с Шоном? — спрашиваю осторожно. — Почему ему никто не подает руки?
— Так он же твой друг, что же не сказал тебе!
— Рита, ну правда! Что он такого сделал?
— Не знаю, — отвечает она. — Но про него даже не говорят. Памела сказала, что он просто дрянь. И так, знаешь, с презрением. Он очень плохой, Питер, иначе вся школа не относилась бы к нему так.
— Как? — перехватываю. — Ко мне ведь они тоже плохо относятся…
— Они тебя не знают! — перебивает сестра. — А с ним учатся много лет! По-моему, у него не все дома. Он псих, или маньяк какой-то… Пожалуйста, не связывайся с ним! Меня это пугает.
— Мне не кажется, что Шон плохой…
— Господи, Питер! — взрывается Рита. — Ты прямо так хорошо разбираешься в людях что ли! Да ты два года из дома не выходил! А этот Фитцджеральд, он просто опасен!
Как обычно после наших с сестрой ссор мы не разговариваем до прихода родителей, а потом они пытаются нас помирить. А потом, после провала, мама идет говорить с Ритой, а папа остается со мной.
Я стою у двери Ритиной комнаты, прислонившись к стене, и слышу обрывки ее плача. Они — как горящие обломки метеорита, проходящего стратосферу.
— Это невыносимо, мам! — всхлипывает она. — Каждый день… Лучше бы у меня вообще не было брата…
— Не говори так, милая…
Я стискиваю зубы и сжимаю кулаки в карманах. Мне хочется разнести стену. Чтобы успокоиться, я думаю о лошадях. Вспоминаю Дороти, вспоминаю, как скакал на ней, как мыл ее, как она громко выдыхала благодарности мне в плечо. И ей было все равно, какое у меня лицо. Она бы никогда не взбрыкнула, потому что «ой, Питер же теперь настоящий урод». Я даже думал, лошади ведь умнее людей, но они никак не реагируют на страшные внешние изменения. Может быть, потому что они видят гораздо глубже. Когда-нибудь у меня будет свое маленькое ранчо, и там не будет никого, кроме двух жеребцов. И они будут смотреть мне в душу, и я буду гладить их гривы. И Риту не пущу туда. Я чувствую, как на плечо мне ложится папина рука. Поднимаю глаза. Он смотрит, но не на мое лицо, смотрит куда-то чуть мимо. За два года папа с мамой так и не научились смотреть на меня целиком. Не то что Шон. Черт, да что не так с этим Фитцджеральдом!
— Мне жаль, что ты это слышал, сынок. Она на самом деле так не думает, ты же знаешь.
У папы сильные руки с сухой кожей и выступающими венами на тыльных сторонах ладоней. А еще у папы уставшие глаза и много седых волос. И их заметно прибавилось из-за меня. Вся жизнь нашей семьи пошла наперекосяк. Я вырываюсь, сбегаю вниз по лестнице. Мне хочется умереть. В такие моменты обычно, но сейчас как никогда раньше. Без долгих объяснений, жалоб, соплей и страданий. Без прелюдий и поэтики — просто умереть. Лучше бы у Риты, правда, не было брата. По крайней мере, такого как я.
— Она так не думает, Питер! — папа садится рядом со мной на диван в гостиной.
— Она так сказала! — передергиваю.
— Ей непросто. И тебе непросто. Нам всем, — папа обнимает меня. — Ты же знаешь свою сестру, она любит тебя больше всех.
Я часто думаю, что если бы умер тогда, всем было бы проще. Да, возможно, больнее, но потом проще. Единовременная боль бы утихла, а так я причиняю своей семье боль каждый день. И вот, умудрился испортить жизнь сестре.
— Может, она и права…
Папа вздыхает, обнимает меня крепче.
— Скажи, Питер, — произносит он, — если бы все вернуть, если бы ты знал, как все получится, разве поступил бы иначе?
Я мотаю головой. Мне не нужно ни секунды на раздумья. Конечно, нет. Я все сделал бы точно так же. Я даже представить не могу, что сделал бы другой выбор, хотя, думаю, выбора у меня особенно не было.
Потом папа рассказывает, что встречался с врачом, и что скоро назначат день операции, и все потом будет хорошо. А я так боюсь этого. Так боюсь, что не думаю, что хочу проходить через это снова.
Первую операцию мне сделали вскоре после несчастного случая. Пересадили на лицо мою кожу с других мест. Она приживается в девяноста девяти процентах случаев. Один процент дают чисто символически, на исключительные ситуации. И надо же было мне оказаться таким исключительным! Я был Фредди Крюгером и успел возненавидеть себя, а когда сняли бинты в тот, первый раз, смог даже снова посмотреть на себя в зеркало. Было не идеально, конечно, но у меня тогда снова появилось лицо, я почувствовал, что снова смогу жить. И пару недель все было так хорошо, как бывает в сказках и не может быть в жизни. Я принимал лекарства. Все было позади. Несчастный случай, огонь, ожог, тошнота от одного взгляда на себя, боль. Я даже подумал, что скоро начну об этом забывать. Пока как-то ночью ни проснулся от жуткого жара. Я потрогал лицо — оно было мягким, как гнилая картошка. Температура подскочила настолько, что я недолго был в ужасе — перешел к бреду. Скорая, больница, палата, снова бинты, повязки, слезы мамы и Риты. И слова врача. Вернее, одно слово: «Отторжение». Ткани не прижились. Я снова был уродом. Доктора только руками развели. Один чертов процент!
Мы стали искать новые клиники и возможности, а к моим кошмарам добавилась новая боль. Я физически ощущал во сне, как отваливается шматками кожа, чувствовал эту гнойную жижу под шрамами. А лицо стало только хуже, стало похожим на фарш.
Второй раз мне пересадили искусственную кожу. На этот раз все сошло через два дня после того, как сняли бинты. Сошло очень болезненно, как будто по лицу водили наждаком.
— Я не хочу больше никаких операций, пап, — шепчу. — Правда, не надо.
— Я верю, Питер, на этот раз все получится. Они делают новые анализы, у них тут суперсовременные технологии…
— Ничего не получится.
Мы молчим и смотрим каждый перед собой, а потом мама приносит чай и спрашивает:
— Кто такой этот Шон Фитцджеральд?
— Мой друг, — отвечаю, и на лицах родителей всплывают такие выражения, что, кажется, ни один ответ не удовлетворит всех написанных там вопросов. — Можно не говорить об этом? Давайте просто закроем тему, ладно? Как там Рита?
— Все будет хорошо, — говорит мама и гладит меня по волосам.
Шон
— Спасибо, мистер Крипсон, — говорю.
— Да ладно, — он машет рукой. — Знаю же, как ты, небось, соскучился по мячу. Посидишь немного тут, пока все не разойдутся?
Мистер Крипсон школьный сторож и уборщик. Днем он тенью прохаживается по коридорам с тележкой, набитой чистящими средствами, а по ночам сидит в своей коморке на чердаке. Он же отвечает за ключи от всех школьных помещений, за вход на стадион и за освещение. Из маленького окна в его комнатушке стадион просматривается отлично. Поэтому и прихожу к нему, чтобы посмотреть игры. Он пускает меня с удовольствием. Он, кажется, единственный в нашей школе, кто нормально и подолгу говорит со мной. Иногда у него бывают сигареты и даже пиво. Он знает, что мне можно доверять такие секреты. Он вообще всё обо всех знает, этот тихушник Крипсон. Мы издевались над ним, бывало, оскорбляли. Называли не иначе, как Крипс. Мы не знали его, а теперь они его не знают. А теперь он единственный, кто со мной общается. Ученики — такие заносчивые идиоты, считают себя выше простого уборщика. Конечно, кто он такой, ходит со шваброй и метлой, поднимает наш мусор. А мы порой специально что-нибудь кидали — обертку от шоколадки или банку от сока, или яблочный огрызок, чтобы посмотреть, как Крипсон будет это убирать. Он никогда ничего не говорил, никогда не делал нам замечаний, хотя, откровенно, по большей части мы вели себя как оторванные засранцы. Никто ничего не знал о Крипсоне. Да и сейчас не знает. По школе ходят всякие слухи, что он воевал в Афганистане, или в Ираке, или еще где-то, или сидел в тюрьме. Некоторые говорят, что даже за какие-то преступные действия против детей. Но это чушь — его бы тогда к школе на пушечный выстрел не подпустили. Никто никогда не думает, что за люди такие, как мистер Крипсон. Дети уж точно не думают. Но и учителя не особенно к нему проявляли уважение. Мы видели, как с ним не здоровались. Видели, как трудовик презрительно морщился, если Крипсон проходил достаточно близко от него, как мисс Суонк брезгливо просила его выйти из кабинета. Директор мог отчитать Крипсона при учениках за не выключенный свет или переполненные мусорные баки. Не то чтобы такое часто случалось, но несколько раз точно было. К уборщикам ведь нет жалости. И когда приходишь в школу, как-то сразу включаешься в общие правила, вступаешь в игру и работаешь в команде. Команда бросает оскорбления, и ты бросаешь. Это как в футболе: вы просто разыгрываете нужную схему. Не для того, чтобы выиграть, а в качестве тренировки. Но именно Крипсон оказался единственным, кто встал на мою сторону, после того как меня исключили из команды. Исключили, вообще-то говоря, из всей жизни, но из команды — официально. Это сейчас меня просто не замечают, а сначала все было сурово. Положенная доля травли мне досталась. Вполне заслужено, но не это главное. Не появляться на футболе, где меня бы забросали банками из-под колы, на самом деле, было не смертельно. Банки не убивают. Просто невозможно было смотреть в глаза, ни учителям, ни бывшим товарищам по команде, ни родителям. Помню, прятался за углом. Выглядывал оттуда, опасаясь, как бы кто не заметил меня. Игру оттуда было, конечно, не видно, да и вообще — только край стадиона. В один из вечеров кто-то положил мне руку на плечо. Клянусь, несколько секунд боялся обернуться — думал, что это кто-то пришел меня наказать, что меня изобьют сейчас до смерти. Что было бы не таким плохим вариантом, если уж по-честному. Но когда все же обернулся, увидел Крипсона, и да, тогда мне и в голову не приходило называть его мистер.
— Хочешь посмотреть игру, Шон? — сказал он, и меня передернуло — он знал мое имя. — Пойдем со мной! — он кивнул куда-то вверх. — Не ложа, конечно, но хоть издалека посмотришь.
И мы пошли в его каморку. Там, в комнатке под крышей, было свалено столько всякого школьного хлама — просто не описать — а из окна виден весь стадион. И маленькие фигурки игроков, бегающие по полю.
С тех пор частенько смотрю матчи из каморки сторожа. Здесь, в куче ерунды на выброс, мне удалось откопать старый футбольный мяч и шлем одного из игроков, какого-то парня из шестидесятых.
Сегодня мистер Крипсон рассказывает, как включить свет на поле, хотя и так ясно. Он говорит, что не будет запирать щиток и дает мне ключи от ворот.
— Как ты один-то собираешься играть? — посмеивается он и протягивает мне открытую пачку сигарет.
— Да есть там план, — говорю и беру сигарету.
— Ну ладно.
Он прикуривает сначала мне, а потом и сам затягивается.
— Почему вы работаете сторожем, мистер Крипсон? — спрашиваю осторожно.
Он морщится.
— О вас много чего говорят, — продолжаю. — Ну, знаете, всякие слухи нехорошие.
— Да ладно? — он так искренне вскидывает седые брови, как будто и в самом деле ничего не знает. — И что же за слухи?
— Ну, разные, не очень приятные.
— Так какие? Не увиливай!
— Нет, вы сначала ответьте!
— Я просрал свою жизнь, сынок, — грустно начинает он. — Школу не закончил даже. Со всякими ненадежными ребятами знался. В тюрьме бывал, да, правда, но не за то, за что говорят. Знаю я, придумывают. Так, стащил кое-что, но жизнь мне это испортило. Не сбивайся с пути, сынок, — он смотрит на меня пристально. — Всяких ошибок можно понаделать, даже самых страшных, даже непоправимых, но главное, с пути не сбиваться, не убегать от мира, не прятаться от этих ошибок, понимаешь? Потому что как только начинаешь прятаться, бежать, сломя голову, так обязательно встрянешь в какие-нибудь неприятности, из которых не выберешься. А уж если завязнешь…
— Не всегда так получается, — перебиваю тихо.
— Что? Не бежать?
— Угу.
— Да брось, парень! — он хлопает меня по плечу. — Ты свое уже получил. Оттрубил срок. Может, и хватит…
Мне не хочется продолжать тему. И не только потому, что считаю, что мой срок никогда не закончится, просто неприятно говорить об этом. Воспоминания хватают за грудки раньше, чем успеваю даже подумать о том, чтобы быстро смыться. Вцепляются мертвой хваткой и потряхивают.
— Да брось! — Крипсон словно протягивает руку, чтобы освободить меня. — Не держи в себе! Расскажи!
И вдруг, неожиданно, рассказываю. Про самое начало. Тогда, почти сразу после того, как вернулся из клиники, где меня продержали месяц, пришел в школу. Помню — подхожу к своему шкафчику, открываю, а там все обклеено фотографиями Мэри-Энн Мэйсон и поверх — самые гнусные надписи, адресованные, конечно, мне. Это было жестко. Лучше бы меня избили всей футбольной командой, честное слово. Мне и без того было невмоготу. Невмоготу смотреть на себя в зеркало, а теперь на меня смотрели голубые глаза Мэри-Энн. У меня руки задрожали, губы дернулась. А все смотрели и шепотом говорили что-то. В тот же день ребята из команды окружили меня в раздевалке и сказали, что я исключен. Навсегда. И что Тим Портер теперь квотербек. Мою форму вытряхнули из шкафчика и бросили мне под ноги. А на следующий день меня не стало. И это было самое подходящее для меня чувство. Но не самое подходящее наказание.
— Я был говнюком, — говорю, — настоящим гондоном.
— Да ну, сынок, не наговаривай на себя! — утешает мистер Крипсон. — Тебе ведь тоже досталось…
— Я был настоящей сволочью. Всегда. Уже в средней школе, а уж как только перешел в старшую, тем более. Я много чего творил. Много чего такого, недостойного. В больнице и потом у меня было время обо всем подумать. И знаете, когда на тебя никто не смотрит, ты начинаешь сам на себя смотреть. Это отличный повод взглянуть на себя со стороны. И я был тем еще гадом. Я всегда был тем, кто травит. Всегда на стороне сильного большинства против слабых. Но что еще противнее — всегда был трусом. Всегда присматривал соперника послабее и начинал драку, только если заранее знал, что выйду победителем.
Сглатываю следующее откровение, которое уже подступает к горлу, и пулей вылетаю из каморки сторожа. Еду домой, а там долго не решаюсь войти, сижу на ступеньках крыльца и реву, как девчонка. Знаю, что для отца такой сын — самое большое разочарование. Ни один отец не хочет, чтобы его сын вырос трусом. Иногда мне кажется, что если бы можно было обменять детей по гарантии из-за брака, мой отец сделал бы это. Потому что такая низкая трусость, граничащая с малодушием, это редкий брак. Если бы были пункты приема негодных человеческих душ, может, сам бы туда сдался. С того момента, когда моя трусость схватила меня за яйца, уже год прошел, а все еще тлеет внутри это чувство невыносимого отторжения. Только с Питером мне хорошо. Он настоящий герой. Он — все, чем никогда не стать мне.
Питер
Я сказал Шону, чтобы не появлялся больше. Прошла уже неделя одиночества. И вот сегодня ночью, когда все уже спят, в мое окно стукается камешек. Я пугаюсь, подскакиваю и думаю, что кто-то из класса Риты добрался до нашего дома. Я думаю, вот сейчас они будут барабанить в окна, выманивая меня наружу, а когда я выйду, пытаясь прогнать их, снова сделают мерзкие фотографии и будут пересылать их в соцсетях. Я накрываюсь одеялом, чтобы скрыться от ночных призраков, но через минуту снова слышу звук ударяющегося о стекло камешка. А если они не перестанут и разобьют окно? Что если следующий камень будет больше? Может, надо позвать родителей? Но я прибит к кровати своими страхами. А что если один из этих камней когда-нибудь попадет мне в голову? Или в Риту? Если они решились подойти так близко к дому, то совсем спятили. Следующий камешек ударяется в стену — промазали. И потом наступает затишье. Я высовываю голову из-под одеяла, надеясь, что этот кошмар закончился, но тут слышу стук и вижу в свете луны тень прямо на подоконнике. Кто-то влез на крышу. Тень стучит в стекло. Настырно, но вежливо. Страх, что кто-то посторонний увидит меня, стягивает все мышцы. Страх становится невыносимым, потому что уж точно тот, кто влез ночью на крышу и бросался камнями в мое окно, имел не добрые намерения. Что делать, сидеть в кровати, сливаясь с простыней, и ждать, пока эта тень ввалится в окно, или вскочить, быстро выбежать и позвать родителей? Унизительно. Семнадцатилетний парень бежит в ночи к маме и папе, едва не обоссавшись. От такого меня самого стошнит. За окном опять стучат. Настойчивее. И потом — голос.
— Блин, Питер, открывай уже! Я сейчас упаду, на фиг!
Это Шон? Я не верю своим ушам.
— Шон? Это ты? — спрашиваю больше у темноты, чем у тени за окном — от нее меня все еще потряхивает.
— Да блин, а кто еще! Черт, открывай же! Впусти меня!
Темнота как будто начинает светлеть. Чернильные пятна страха расходятся, растворяясь в ней. Я медленно вылезаю из-под одеяла, крадусь к окну. Может, лучше было бы позвать родителей? Может, это вовсе не Шон, а кто-то…
— Питер! — я слышу, как Фитцджеральд буквально рычит за окном. — Да ты что, твою мать! Открывай!
Это точно он. Нет сомнений. Я же всегда могу захлопнуть окно, если почую неладное. Я открываю, и Шон буквально вваливается в комнату. Я отхожу в сторону, поглядываю на окно — нет ли там еще кого-нибудь, но потом ловлю себя на мысли, что доверие к этому рыжему парню больше, чем страх. Потому что боюсь я всех, почти без разбора, а Шон, вот он, очень осязаемый и конкретный. Надо же, как перед одним человеком отступают все призраки. Может, это потому что у Фитцджеральда есть имя, а у всех тех, кого я боюсь, нет. Ведь в этой массе и одноклассники Риты, и ребята из моей бывшей школы (которые вообще остались в Бостоне), и продавщицы в супермаркетах, и водители такси, и просто прохожие. А Шон Фитцджеральд, он один.
— Черт! — он встает на ноги и отряхивается. — Чуть не упал там, Питер! Что так долго! Только не говори, что ты дрых!
— Я не дрых…
Он застал меня врасплох, совершенно выбил из колеи. Я хочу ему задать десятка два вопросов: что он тут делает, зачем залез через окно, что ему вообще нужно. И еще: не обижается ли он на меня за то, что я просил его не приходить, не привел ли кого-то, не передумал ли быть моим другом. И самое главное: почему к нему так относятся в школе, кто он такой, что натворил. Но Шон меня опережает.
— Собирайся! — говорит он. — Поехали!
— Куда? — я таращусь на него в темноте комнаты.
Он не видит моего лица, я уверен.
— Поехали на стадион! Поиграем в мяч!
— Что? — я отступаю на два шага.
И дальше Шон говорит очень быстро, не давая мне вставить ни слова.
— Футбол. Питер, поехали, сыграем в футбол. Со мной. Не бойся, я все продумал. Ни одна живая душа тебя не увидит. Команда на выезде, в районе стадиона пусто. Я все устроил. У меня есть ключи и доступ к щитку, чтобы включить свет. Сторожа нет сегодня, так что полная безопасность. Просто часик покидаем мяч, а? Только не говори, что ты не поедешь! Я столько это все готовил.
— Что готовил? — не понимаю.
— Ну, все это, возможность поиграть с тобой! Пожалуйста! — он складывает руки, как в молитве, и продолжает. — Клянусь, никто тебя не увидит.
Он сует мне мешок с одеждой и говорит, что я могу надеть это, чтобы не вздумал отмазываться. Мне сначала кажется, Шон спятил. А потом я думаю, он же изгой, вдруг ему дали какое-нибудь задание, одно из тех, что иногда дают лидеры школы тем, кого ни во что не ставят. Задание, после которого тебя могу принять обратно в общество или перестать травить, или еще что-нибудь. Я никогда не сталкивался с таким, но читал. Такое творится всюду, а я — легкая мишень. К тому же, зачем еще было Шону лезть ночью через окно в мою комнату.
— Я не играю в футбол, — говорю очень сдержано, и голос звучит почти как компьютерный.
Шон выдыхает и закатывает глаза.
— Конечно! Я играю, Питер! Это для меня, понимаешь! Прости, что не предупредил, но тогда бы ты вообще не вылез! А я уже год не играл. Понимаешь? Год. И вот выпала возможность, по-настоящему, на поле, на моем поле, — он хватается за мешок с одеждой, который я держу в руках. — Пожалуйста! Не обламывай меня! Мы ведь друзья! Просто побегаем…
— Я не выхожу из дома! — пытаюсь уже огрызаться, потому что меня просто бесит напор Шона. — И ты знаешь это!
— Знаю, но также знаю, что тебя никто не увидит. И никто не узнает, что мы там были! Питер! Ну пожалуйста! — и дальше очень быстро. — Давай, одевайся скорее! Это мои вещи, по погоде очень походящие. Ты примерно со мной одного роста, так что подойдут. Нет-нет, даже не мотай головой! Я тебе клянусь! Клянусь-клянусь-клянусь, что если что-то пойдет не так, если кто-то хоть появится, хоть вдалеке, ты больше никогда меня не увидишь, и я выполню любое твое желание! Любое! Клянусь!
— Нет…
— Блин! Питер! Я вообще-то несколько законов нарушил, когда залез сюда. И еще несколько, когда все это устраивал, а ты… Меня не аттестовали по двум предметам из-за прогулов, потому что я у тебя тусовался! Ну не делай так, чтобы все это было зря!
Я стою перед ним в растерянности и, между прочим, в одних боксерах, и только сейчас осознаю свой нелепый вид. Шон вдруг очень крепко берет меня за плечи, так смело, как будто он мой отец, или брат, или кто угодно, только не парень из класса моей сестры. Он сжимает пальцы и легонько встряхивает меня.
— Ну, прошу, Питер! Я тебя так часто о чем-то просил что ли?
Вообще-то, часто, думаю. Вообще-то, всегда. Он просил впустить его, когда пришел в первый раз, и я не хотел никого видеть. Просил позволить ему посмотреть на мой шрам, просил позволить ему коснуться моего шрама, просил разрешить притащить свой макет, просил выйти с ним на задний двор и подраться на мечах. И я всегда соглашался. Я даже понять не могу, почему. Просто как будто не успеваешь все обдумать, когда Шон просит. Он как порыв ветра, сносит аккуратно расставленные на столе мои страхи, и тогда я на секунду осознаю, насколько они легкие — как бумажные фигурки. И когда они не стоят в идеальном порядке, а валяются разбросанные по полу, я не могу за них ухватиться. И соглашаюсь. И всегда все спокойно. Никогда Шон не обманывал меня и не подводил. И еще, думаю, я боюсь, что если начну при нем снова расставлять свои бумажные страхи на столе, он хлопнет по ним кулаком и вообще разнесет. Может быть, поэтому я осторожно спрашиваю:
— Правда там никого не будет? Обещаешь?
И он тут же принимает это как безоговорочное согласие.
— Да, клянусь, Питер! Давай-давай! Одевайся скорее! У меня машина припаркована за углом.
И — о боже! — я одеваюсь. Открываю пакет, который притащил Шон, натягиваю теплые спортивные штаны, футболку, куртку. Он даже носки и кроссовки принес! Я не знаю, как ему удается так мной манипулировать, но я даже потом в окно вслед за ним вылезаю. Правда, оставляю записку на случай, если родители заглянут в комнату и не обнаружат меня посреди ночи. А еще я надеюсь, конечно, что ночь скроет мое лицо, ведь побегать так хочется.
Я не подумал, что такое освещенный в ночи стадион. О том, как Шон вообще все это устроил, даже думать не хочу. Прожектора включаются один за другим: щелк, щелк, громкими глухими вспышками. Ощущение такое, что вот-вот сюда вывалятся две команды, а трибуны заполнятся зрителями. Так светло, что я даже щурюсь и рукой закрываю глаза. Я стою один на краю поля, и как будто целый мир лежит передо мной. Так волнительно, что ноги подкашиваются. Я на стадионе. Я вне дома. Я на улице. Я в общественном месте. Я где-то, где не был уже столько времени. И я совершенно один. Холодный ветер дует в лицо, не давая забыть, что оно у меня есть только наполовину. Я закрываю его ладонями. Одной рукой чувствую свою кожу, прохладную, ровную, а под другой — рыхлая скользкая масса, которая тоже пытается напрягаться, потому что я плачу.
— Эй, Питер! — Шон появляется, берет мои руки и отводит от лица. — Ты что? Хватит ныть! Давай играть!
Он смотрит на меня секунды три, прямо на мое лицо, при таком ярком свете прожекторов, потом достает мяч и говорит, чтобы я кидал. Объясняет, куда он отбежит, и как бросать. Я только киваю. У меня, конечно же, не получается. Я никогда не играл в футбол, но теперь даже мяч бросить не могу. Руки трясутся. Я как компьютер, который постоянно виснет. Мяч летит не туда, летит слабо.
— Нет, ну так не пойдет! — разводит руками Шон, приближаясь ко мне. — Давай нормально бросай!
Он снова встряхивает меня за плечи, вкладывает в руки мяч. Потом кладет ладонь мне на лицо, как делают, чтобы похлопать по щеке, и я вздрагиваю непроизвольно. Шон кладет руку мне на правую половину лица и тоже наверняка чувствует эту рыхлую застывшую слизь. Но он даже бровью не ведет, как будто у меня самое обычное лицо. Он пару раз хлопает меня по щеке, как бы приводя в чувства.
— Соберись, Питер! — говорит он и смотрит мне в глаза, — Ну же! Давай поиграем!
— Давай, — выдавливаю я, с трудом сглатывая, и беру мяч.
— Когда буду у той линии, — Шон показывает вперед, — давай мне на ход. Окей?
Я киваю. Когда Шон у отметки, бросаю мяч. Я очень стараюсь, и у меня получается. Летит здорово. Правда, немного не так… Шон ускоряется, ведя мяч взглядом, топит изо всех сил, потом прыгает, ловит и падает лицом прямо в траву. Он так приземляется, что я вздрагиваю. Я думаю, он же может себе переломать что-нибудь или повредить. И что тогда…
— Ты как? — я с ужасом подбегаю к нему. — Все нормально?
Я перепугался до спазмов в животе, и едва держусь, чтобы не загнуться. Но Шон резко переворачивается на спину и хохочет.
— Да! Круто, Питер! Это был крутейший бросок!
Он откидывает голову, смеется и протягивает мне руку, чтобы я помог ему подняться.
— Давай еще!
— Погоди, — прошу. — Я отойду немного…
— От чего?
— От всего. Шон, это непривычно для меня…
— Давай-давай! — он вкладывает мяч мне в руки. — На позицию, Питер!
Потом он объясняет, где я должен встать, в каком направлении и с какой силой бросить. Потом говорит, чтобы я ловил, но это полный провал, поэтому мы снова переходим к первой схеме. Шон носится по полю, буквально загоняя себя. Останавливается, наклоняется, упирается руками в колени и дышит, не тяжело, больше как-то радостно, свободно. Потом просто бегает с мячом, пересекает линию и орет что есть сил: «Тачдаун!», и бросает мяч мне, и снова орет изо всех сил, как будто ему нужно перекричать вопящую толпу зрителей.
Примерно через час Шон, весь грязный, взмокший от пота, подбегает ко мне, набрасывается и сваливает с ног. И вот мы лежим на холодной траве и смотрим в ночное небо. Одной рукой Шон прижимает к груди мяч, другой хлопает меня по плечу.
— Круто побегали! — говорит он, и я вижу вырывающийся у него изо рта пар. — Спасибо!
И мы продолжаем лежать так, только теперь в тишине. Я думаю, не простудиться бы — лучше встать — но вместо этого просто смотрю на Шона. Он кажется по-настоящему счастливым. И он, кажется, неслабо играет в футбол.
— Почему ты сказал, что не играл уже год? — спрашиваю.
— Потому что не играл, — отвечает он.
— Ну, ты понял, — поправляюсь, — что я имел в виду. Ты же играешь. Ты был в школьной команде?
— Был, — сглатывает Шон.
— На какой позиции?
— Квотербек.
Я аж подскакиваю.
— Квотербэк? — переспрашиваю. — Да ладно, не заливай! Как квотербэк мог стать изгоем в школе?
Я думаю, либо он зачем-то соврал, либо что-то здесь не так.
— А как изгоем мог стать лучший ученик и чемпион округа по верховой езде? — перехватывает инициативу Шон.
Меня захлестывают воспоминания. Не какие-то конкретные, а просто волной накрывает, и в голове — только мелкие камушки с песком со дна.
— Откуда ты знаешь? — только и могу спросить, захлебываясь.
— Погуглил, — Шон не поворачивается и продолжает дырявить взглядом своих зеленых глаз небосвод.
— Чемпион по верховой езде получил ожог в пол-лица, поэтому и стал изгоем, — говорю почти шепотом.
— А квотербек не получил ожог, и поэтому стал изгоем, — отвечает он.
Я не понимаю, что Шон имеет в виду, и, честно говоря, думаю, он просто подкалывает меня, поэтому решаю закрыть тему.
Шон отвозит меня домой, благодарит и говорит, что одежду заберет как-нибудь потом. Конечно, я снимаю свой запрет на его визиты. Когда мы прощаемся, мне вдруг хочется обнять его. Я вдруг понимаю, что на время нашей игры и поездки на стадион — а это часа два с половиной в общей сложности — я почти не думал о своем лице. Кроме того момента в начале и когда Шон прикоснулся к ожогу. Просто обычно эта мысль постоянно на первом плане. Обычно она вытесняет все другие мысли. Питер, хочешь перекусить? У меня же половины лица нет, конечно, хочу. Может, телик посмотрим? Я просто урод из-за этого ожога, нет, что-то не хочется. Смотри, я купила тебе новую книжку! Только не трогай мое лицо, да, спасибо большое. А сегодня… Я думал, как бы бросить мяч, чтобы Шон поймал, как бы не опозориться, как бы подышать, как бы не простудиться, неужели он действительно был квотербеком. И уже где-то в хвосте: эх, если бы у меня только все было нормально с лицом…
Шон
Учитель физики мистер Додкинс грозится не аттестовать меня, если завалю очередную контрольную или еще хоть раз прогуляю его предмет. Этот Додкинс дрянь. Маленького роста, с лысиной, похожей на след обезьяны, он постоянно осматривает меня поверх очков, как будто пытаясь разглядеть на моем теле болячки. Он не первый раз грозится не аттестовать меня, но всегда обламывается. И в этот раз знаю, что напишу контрольную на отлично, потому что в последнее время Питер взялся подтягивать меня по физике. Не то чтобы прям серьезно, но он часто говорит со мной на всякие научные темы, объясняет законы из школьных учебников. Сегодня физика, и, думаю, лучше проведу это время со своим единственным другом.
Питер выглядит грустным. Он снова закрылся в себе, застегнулся на все молнии и подсматривает из-за защитной маски одной стороной лица. Он рассказывает, что начал всерьез готовиться к операции, но из-за двух других неудачных не верит в успех. Мы, конечно, забиваем на физику и вообще на все дела. Я пытаюсь развеселить его, уверяю, что сейчас и правда все получится, а он только хмыкает.
— Тебе понравилось на стадионе? — перевожу тему.
— Больше ты меня не вытащишь! — отрезает он.
— Почему? Так сильно не понравилось?
На стадионе было круто, вообще-то. Уже одно то, что мне удалось вытащить Питера, круто. До сих пор не понимаю, как это получилось. Тут главное было — эффект неожиданности. Поэтому окно, поэтому не предупредил заранее и не давал ему вставить ни слова. Нужно всегда делать то, чего он не ожидает, чего даже вообразить не может, тогда защитные механизмы ослабляются. Даже у Питера, хотя у него эти механизмы отлажены — не горюй. Больше внезапных нешаблонных действий, и все их надо заранее продумывать, потому что импровизировать на таком уровне по ходу игры непросто.
Например, в самом начале, когда мы только пришли на стадион и врубился свет, Питер совершенно выпал из обоймы, закрыл лицо руками, расклеился. И тут у меня был заготовлен маневр, к которому очень долго пришлось готовиться психологически. Потому что не так просто подойти к кому-то, даже если ты его очень ценишь, и коснуться его изуродованного лица. Это ни разу не просто, и с бухты-барахты такого не провернешь. С самого начала знал, что это сделать придется, и вот представился удобный случай.
— Эй, Питер! Ты что? Хватит ныть! Давай играть! — сказал ему, глядя в глаза.
И потом, после его первого неудачного броска:
— Так не пойдет!
Слегка потряс за плечи и коснулся его щеки — правой стороны лица. От прикосновения по руке у меня словно ток пропустили. Непроизвольно хотелось одернуть, потому что то, что почувствовал, никак нельзя было соотнести с человеческим лицом. Но не дрогнул — даже не моргнул. Ох, это было сложно! И слегка похлопал его по щеке, так, ободряюще, как делают в кино, чтобы вселить уверенность.
Когда бежал потом, пару секунд в себя прийти не мог. Ужас все-таки, как же он живет с таким лицом! Даже головой потрясти пришлось, чтобы отогнать мысли. Надеюсь, Питер не заметил этой моей оцепенелости.
Потом мы лежали на холодной земле, на траве, и Питер начал спрашивать меня про футбол. Пришлось перевести тему — не за чем ему знать обо мне.
— Понравилось, — отвечает Питер, — но я не хочу выходить из дома.
— Это ты зря! — подхожу, присаживаюсь рядом. — Правда, зря. Ты сам загнал себя в заключение, но, поверь, если бы все узнали, кто ты такой, ты стал бы героем!
— Не надо жалеть меня и утешать! — снова перебивает он.
— Да не жалею я! Ты герой. Для меня герой, и для них будешь.
Черт, если бы мог, забрал бы себе его шрам. Взял бы на себя все, через что он проходит. И пусть бы у меня было обезображенное лицо, оно вполне подошло бы под мою душонку. Даже не осознаю, что произношу это вслух.
— Ты спятил? — Питер таращится на меня левым глазом, правая сторона лица, как обратная сторона Луны, скрыта. — Думаешь, это круто? — он сжимает зубы так, что почти слышен их скрежет.
— Нет-нет, — быстро перебиваю. — Прости, но серьезно. Питер, ты ведь клевый! Ты заслуживаешь самого лучшего. Ты… Ты мой герой. Не хочу даже думать, что ты никуда больше не выйдешь!
— Пошел ты, Шон! — огрызается он. — Ты ненормальный.
— Может, и так, но для тебя на все готов, правда!
— Вот и помолчи тогда!
И мы молчим. Сажусь за свой недоделанный макет и пыхчу над ним часа два. Питер читает книгу. Наклеиваю последнюю деталь, когда уже стемнело, и за окном повалил снег. Подхожу к окну и зову Питера.
— Смотри, как здорово! — говорю. — Пойдем на улицу!
— Нет! — обрывает он.
— Да ладно тебе, не дуйся! Просто ты классный, — и тут же, быстро добавляю, видя его готовность опять загнуть тему в определенное русло. — И нет, я не педик! Хватит уже подозревать меня!
Он кивает.
— Так пойдем на воздух! Снег же!
Хватаю его и знаю, никому другому, даже своей семье, он этого не позволил бы. И снова вижу его скрытую сторону, и он не отворачивается. Наоборот, нехотя, плетется за мной.
Мы выходим на задний двор Грейсонов и подставляем лица пушистому снегу. Он касается кожи, замирает на миг и тает. Открываю рот и хватаю большие холодные хлопья. Боковым зрением замечаю, что Питер наблюдает за мной. Внимательно. И улыбается. Когда возвращаемся в дом, стряхивая с волос капли, натыкаемся на родителей Питера и Риту. Все втроем они стоят, раскрыв рты, и сверлят нас глазами.
— Ну ладно, — бурчу, опустив голову, — я уже пойду…
— Постой! — мама Питера берет меня за руку. — Шон, верно ведь? Останься поужинать с нами…
Теряюсь и не знаю, что сказать, чтобы отмазаться, но Питер отвечает за меня.
— Конечно, — говорит, — ты ведь не торопишься?
Вот он специально, чтобы вогнать меня в зону абсолютного дискомфорта! Это такая месть за наши вылазки? Он ведь прекрасно знает, что нет у меня желания общаться. Он ведь наверняка знает от Риты, что у меня не особенно складывается коммуникация. Хотя откуда Рите знать, что до ее брата единственным человеком, с которым мы общались больше и чаще остальных, был даже не мистер Крипсон из школы. Это был психотерапевт.
Кстати, Рите, смотрю, идея моего присутствия на ужине тоже не сильно нравится. Пока Питер делает вид, что чем-то занят, его мама берет меня в оборот. Когда режу овощи для салата, смотрю на нож и всерьез думаю порезать себе палец. Помидоры с такой упругой кожицей — она чуть прогибается под лезвием, а потом поддается и лопается, и на доску проливается сок. Лук порей падает из-под ножа ровными белыми кольцами. Только хруст раздается от порезов, и острие проходит совсем близко к пальцам. Это еще одна штука, в которой чертовски трудно признаться. Желание причинить себе боль. Когда только познакомился с Питером, оно исчезло. Раньше резал себя, не сильно, выше запястья, на внутренней стороне предплечья. Сейчас и шрамы почти зажили, но после той нашей ночной игры на стадионе опять это сделал, трусовато, слабо, но все же. Мне было так хорошо бегать за мячом, падать на траву и представлять, что снова в команде, снова играю за школу. А когда вернулся домой, накатила пустота, прихлопнула меня бетонной плитой. Никакой команды для меня нет, вернее, меня нет ни для команды, ни для кого. И плита эта настолько тяжелая, что только каким-то чудом не придавливает насмерть. Но потом прилетает бабочка с опаленными крыльями в уродливых узорах, и имя этой бабочке — вина. Она опускается на плиту — и это последний грамм, который можно сдержать. Тогда беру канцелярский нож, которым режу бумагу для макетов. Это просто… Не могу объяснить или понять. Даже психотерапевт не может сказать ничего нового, кроме как «тебе надо простить себя». Но дело ведь не только в этом.
— Спасибо, Шон, — мама Питера кладет руку мне на плечо, и это отвлекает от мыслей о ноже.
Тут в кухне появляется мистер Грейсон. Он говорит:
— Ты крепкий парень, Шон! Я бы, скорее, подумал, что ты занимаешься каким-нибудь серьезным спортом, вроде футбола, а не архитектурой.
Он подходит и хлопает меня по плечу. Как раньше меня бывало хлопал отец, ободряюще, с гордостью. Давно не ощущал этого, поэтому напрягаюсь и даже вздрагиваю внутри. Мне хочется сказать, что не занимаюсь архитектурой, а просто клею макеты, и еще, что на самом деле играю в футбол. Но нет, не играю.
Когда мы уже за столом, вдруг становится неловко. Вроде, все нормально, но семья Питера как-то странно переглядывается, как будто что-то не так. Озираюсь по сторонам, натыкаюсь на лицо Питера (на его правую сторону) и только теперь, кажется, понимаю. Все рассажены так, чтобы не видеть эту часть.
— Мы очень рады, что у Питера появился друг, — нарушает молчание его мама, наконец-то! — Чем ты занимаешься, Шон? В смысле, хобби у тебя есть?
— Ээээ… Делаю макеты из бумаги…
— Ну да, мы видели, — миссис Грейсон улыбается. — Питер показывал.
— А спорт? — перехватывает мистер Грейсон. — Играешь во что-нибудь?
— Не особо, — пожимаю плечами и утыкаюсь в тарелку.
Все это время, после каждой фразы, Рита недовольно закатывает глаза и, в конце концов, не выдерживает.
— Да он школу прогуливает, когда торчит у нас! Его не аттестовали за семестр по трем предметам! Что же хорошего!
Питер стискивает зубы и бросает злобный взгляд на сестру. Их отец качает головой и смотрит на меня.
— Да, это нехорошо. Шон, не стоит пренебрегать учебой. Ты можешь приходить к нам и после уроков…
Киваю, глядя исподлобья на Риту. Она недовольно кривит рот, резко встает.
— И вообще он изгой! Его никто в школе ни во что не ставит! Тоже мне друг нашелся!
Она убегает наверх. Мне только и остается, что быстро встать, накинуть куртку и уйти, чтобы больше ни с кем не разговаривать.
Мотаюсь бесцельно на машине по городу, доезжаю до моста Чесапик Бэй, но в последний момент сворачиваю. Почему-то боюсь, что, въехав на мост, могу потом не вынырнуть. Вдруг мост поглощает людей, которые избежали наказания за преступления. Мне становится по-настоящему жутко. Две дороги моста кажутся зловещими.
Возвращаюсь домой поздно. Прямо в дверях меня встречает обеспокоенная мама и недовольный отец.
— Где ты был? — строго спрашивает он.
— Да так, у друга, ужинал…
Хочу проскочить по лестнице в свою комнату, но папа хватает меня за руку.
— Что за друг? Позвонить ты не мог?
— Не подумал…
— А ты никогда не думаешь ни о чем…
— Кларк… — пытается вступить мама, но отец затыкает ее одним жестом.
— Где ты был? — повышает он голос, но даже это не сможет заглушить разочарования.
— У друга, говорю же.
— У какого?
— Да там, парень один…
И тут он достает откуда-то и кидает на стол два конверта.
— Это из школы! — поясняет папа, хотя и так все понятно. — Скажи еще, что торчал все эти уроки, которые прогулял, у своего друга!
— Угу.
— Ты провалил три предмета! Завалил, Шон! Ты не хочешь учиться?
— Сынок… — снова мама.
— Так, — папа строг. — Покажи мне свои руки.
— Ну, пап!
Блин, только не это. Только не сейчас…
— Быстро, Шон!
Задираю рукава, и все, конечно, сразу ясно.
— Ты опять за старое! Завтра же возвращается к доктору Перкинс. Хватит врать нам! Быстро за уроки! И чтобы больше никаких прогулов! Не заставляй возить тебя в школу и забирать оттуда! Еще такого тебе не хватало!
Эти порезы ничего не значат. То есть, физически от них никакого вреда. Это же не попытка покончить с собой. Нет. На такое смелости не хватит. Мне же даже жить страшно. Психотерапевт доктор Перкинс называла это «тебе-надо-перестать-наказывать-себя-Шон». А мне кажется, что не надо. Заслужил наказание и посуровее. Уверен, что мой отец с этим согласен.
Питер
Шон не появляется неделю, и я по нему скучаю. Нравится мне это или нет, но так и есть. Скучаю. Хотя он кажется странным и даже пугает, но все равно он как будто стал струей свежего воздуха в моем душном убежище. Не подумал бы, что мне будет так не хватать этого парня. Как не подумал бы, что и воздуха вдруг будет так не хватать. В доме ведь сижу, а не в космической изоляции. Но даже в собственном доме, оказывается, бывает трудно дышать, когда дом становится твоей зоной отчуждения.
— Ты к нему несправедлива, Рита, — пытаюсь в который раз говорить с сестрой, но она только нос воротит и фыркает при упоминании Шона. — Он мой единственный друг, он меня поддерживает…
— Да брось, Питер! — Рита разводит руками, как будто я не замечаю очевидного. — Какой друг! То же мне! Нашел друга! Да он ни слова не говорит в школе, просто молча смотрит, как все ржут и издеваются над твоими фотографиями! Он ни-че-го не говорит. Так поступают друзья?
Я не знаю, что ответить. Не то чтобы мне обидно. Не от того, что Шон не защищает меня, уж точно. Мы с ним не в том положении, чтобы подставляться друг за друга. Может, он меня вообще от всех скрывает. Я бы, наверное, скрывал себя. Но я понимаю, как все это отражается на Рите. Нет, не понимаю, на самом деле — только представлять могу. Она теперь выглядит одинокой и грустной. Она перестала выкладывать солнечные фотографии в Инстаграм. На днях за завтраком спросил ее, не хочет ли она сфоткать мамины блинчики — они были так красиво политы кленовым сиропом — и кофе в ее любимой кружке с синими полосками. Но Рита только посмотрела на меня как на больного. «Извини», — сказал я. Она даже не позавтракала.
А теперь я смотрю на нее и понимаю. Понимаю, как им всем, должно быть, обидно. Они два года терпели меня такого — не просто урода, а унылого, замкнутого на себе и своем одиночестве — а тут появляется какой-то парень и вытаскивает меня из дома. Хорошо, что они еще про наш с Шоном ночной футбол не знают. А было здорово. Но когда Шон вдруг сел рядом со мной за ужином… Это их подкосило. Понятное дело, он не знал, не подумал. Да и я раньше никому не позволял вот так на себя смотреть. Строго говоря, на меня никто так не смотрел, как Шон. С того самого дня, как произошел несчастный случай, я не ловил на себе таких смелых взглядов. Он так смотрит, как будто я совершенно нормальный, как будто никакого ожога нет. Ничего мне не понятно с Шоном. Про него ничего не найти в интернете. Почему его игнорируют в школе? Что он такого мог натворить, чтобы стать изгоем и вылететь из футбола? Я всю неделю думаю об этом. Скучаю, но сам не решаюсь позвонить. Боюсь чего-то. Наверное, предательства. Наверное, я до сих пор боюсь, что он готовит мне какую-то подлянку, и слова сестры только укрепляют эти страхи.
Мой мобильник звонит посреди ночи, но я не сплю. Это Шон.
— Привет, — говорю. — Ты что так поздно?
— Не разбудил? — отвечает он тихо, как будто у него сил совсем нет.
— Нет, я не спал. Что с тобой? Куда ты пропал?
— Да так, — он молчит пару секунд. — Ты на меня не дуешься?
— Нет. С чего бы мне дуться?
— Ну, что не приходил к тебе и вообще пропал.
— Ну, ты пропал, да. Почему?
— Да с этим доктором, школой и вообще…
Шон как будто не хочет говорить на эти темы, но я, серьезно, не знаю, какие другие темы предложить. И еще он каким-то образом догадывается о том, что думает Рита. Так и говорит:
— Твоя сестра меня ненавидит, да? За то, что я трус и не могу за тебя вступиться?
Я не отвечаю.
— Так вот, — продолжает Шон, — скажи ей, что от этого будет только хуже. На меня всем насрать, отмахнутся, пнут и пойдут дальше, а к ней прилипнет еще ярлык, что она в отношениях с Фитцджеральдом. Ей это не надо, поверь. Ей и так нелегко. Ее каждый день эти уроды достают. И еще, знаешь, скажи ей, что это не из-за тебя ее бросил Портер. Он просто поспорил с парнями. Ну, потому что она девственница и все такое. Ты уже потом нарисовался.
Мне страшно становится от того, как Шон говорит. Все выкладывает, будто предсмертную записку пишет. И раньше я никогда не слышал у него такого грустного голоса.
— Ты в порядке, Шон? — перебиваю. — Что за доктор?
— Да, психотерапевт. Отец заставил опять пойти. Выписала мне таблетки, но я не буду их пить, потому что они разрушают мозг и тормозят вообще. Фигня это, неважно. Просто в школе там надо догонять, пересдавать… Слушай, у меня тут… Такое дело… В общем, Питер, у меня завтра день рождения, и есть к тебе просьба.
Невозможно! Он меняет темы так, что не успеваешь переключаться. И всегда застает врасплох, даже по телефону. В этом весь Шон, похоже. Даже с таким убийственно грустным голосом он умудряется сбить меня с толку.
— Боюсь, не смогу выполнить твою просьбу, — говорю.
— Ну, откуда ты знаешь, о чем я попрошу.
— Что?
— Ко мне все равно никто не придет, да и родителям я на фиг сдался. Давай сходим в молл, Питер? Сгоняем, кино посмотрим, посидим в «KFC»…
— Ты издеваешься?
— Нет.
— Шон! Я не выхожу из дома, блин!
— Выходишь, я знаю. К тому же, это для меня… — он замолкает. — Ладно, до завтра. Заеду утром. Там народу в это время не много.
И он кладет трубку. И я не сплю всю ночь, потому что придумываю, что бы такое сделать, чтобы отмазаться. Потому что боюсь, он свяжет меня и потащит на аркане праздновать его день рождения. В такие моменты я начинаю ненавидеть Шона и думаю даже, лучше бы мы с ним не дружили и вообще не были знакомы.
Шон приходит, когда все мои уже разъехались, и сразу с порога протягивает мне сверток.
— Что это? — спрашиваю.
— Подарок тебе.
Мне становится неудобно, потому что я не знал, что у него день рождения и ничего не приготовил. Даже не подумал об этом, потому что всю ночь мои мысли были заняты только тем, как бы отделаться от Шона и от его идеи прогуляться в молл.
— Да, бери! — он вкладывает сверток в коричневой грубой бумаге мне прямо в руки.
— Неудобно, — говорю. — Прости, у меня подарка нет…
— Мы же идем гулять! Это лучший подарок, Питер!
Я хочу резко и твердо возразить, но Шон подгоняет, чтобы я скорее разворачивал. Я достаю черную толстовку с надписью на спине. Такие часто носит сам Шон, и я говорил ему пару раз, что мне они очень нравятся. И что же там написано? Герой. В полспины.
— Чего-нибудь менее пафосного нельзя было придумать? — морщусь и тут же думаю, вдруг это обидит Шона.
— Не гунди, Питер! Ты герой, это не обсуждается. Не знаю, почему ты сам в этом сомневаешься. Напяливай кофту и поехали!
— Спасибо, Шон, — отвечаю, не глядя ему в глаза, — но я никуда не поеду.
Он сжимает зубы, зажмуривается, выстреливает в воздух горячими клубами гнева. Руки его в карманах джинсов сжимаются в кулаки, он запрокидывает голову, выдыхает, матерится. Я даже думаю, что вот сейчас он разозлится, обидится на меня и уйдет. Но это был бы не Шон Фитцджеральд — слишком просто и предсказуемо для него.
— Блин, Питер! Тут капюшон отличный! Да и вообще, какое кому дело. То есть, почему тебя волнует, что подумают все эти идиоты на улице и вообще! Они же не знают тебя! — Он снова ругается, потом посылает меня, разворачивается и даже делает шаг к двери. Но я не успеваю с облегчением выдохнуть. — Ну уж нет! — Он теперь тащит меня за руку. — Хватит прятаться и отсиживаться! Черт, хватит уже жалеть себя, Питер! Ты не был в кино и в кафе два года! Не отмажешься!
Я не успеваю ничего сообразить, как оказываюсь в машине на пассажирском сиденье, и Шон уже заводит мотор.
— Я никуда не поеду! — кричу, и меня начинает колотить самая настоящая истерика. — Выпусти меня, придурок!
Рву ручку двери, толкаю локтем. Мне кажется, я бы начал непроизвольно биться головой о стекло — такая у меня паника — но Шон берет мое лицо в руки. Так основательно и крепко, что вдруг я чувствую то, чего давно не ощущал — безопасность. Откуда? Не знаю. Шон смотрит мне в глаза, держит мое лицо и касается шрама всей поверхностью ладони. Я успокаиваюсь, глядя на него.
— Все. Будет. Хорошо. Питер. — Чеканит он. — Я тебя не брошу. Я тебя смогу защитить, если что. Отставить панику! Поехали!
Рычаг в положение «Драйв». Мы резко дергаемся и отъезжаем. Мы подъезжаем к моллу. Я влезаю в новую толстовку, которая мне как раз по размеру, натягиваю капюшон, но понимаю, что он, конечно, не скрывает шрама. Я хочу просто остаться в машине. Вцепиться в сиденье двумя руками намертво. В самом деле, не потащит же Шон меня наружу насильно.
— Ну, вылезай, Питер! — Он распахивает дверь.
Потащит.
— Не заставляй тебя вытаскивать! Ты же не трус!
Господи, это безумие какое-то! Перед глазами все плывет, настолько я не могу поверить в происходящее. Два года пряток коту под хвост. Мы сначала идем в кино. Шон покупает билеты на новую часть «Людей Икс», поп-корн и две большие колы. Люди у кассы пялятся и отводят глаза по очереди. Сначала половина впивается в меня цепкими зрачками, потом резко отворачиваются, и эстафету перенимают другие. И никуда не спрятаться. Мне некомфортно из-за того, что я не могу выбрать правильную позицию, чтобы ко всем стоять левым боком. В итоге, я почти вплотную прижимаюсь к Шону. Какой-то мальчик лет пяти дергает маму за пальто и говорит громко, показывая на меня пальцем: «Смотри, монстр». Мама шикает на него, тянет за руку. Еще две женщины оборачиваются, тоже шикают и что-то говорят мальчику. Наконец билеты у Шона, он хватает меня и тащит в зал. Но даже здесь, в темноте, кажется, что все таращатся на меня. Фильм я, естественно, не смотрю толком и не реагирую на комментарии Шона. Он, похоже, в восторге и постоянно что-то шипит мне в ухо. Но его слова сливаются в белый шум поиска радиоволны на неисправном приемнике. Я ведь даже не фанат Марвел. Да это просто дурдом! Я поворачиваю голову в темноте, как будто, чтобы еще раз убедиться, что Шон сидит рядом. Как будто чтобы проорать себе в ухо, что этот парень вытащил меня в кино. Вытащил из моего уютного безопасного окопа прямо на передовую, на открытое поле перед толпой врагов… и сейчас, вот сейчас, бросит меня здесь одного, безоружного, жалкого.
Потом в «KFC» становится совершенно невыносимо. Мы пошли в «KFC»!! Я прошу Шона отвезти меня домой. Он соглашается, только просит по дороге заскочить еще в один магазин. Видимо, голос у меня недостаточно жалостливый и перепуганный. Видимо, не вполне убедительно.
— Обещаю, Питер, мы быстро. Пять секунд.
Но едва мы выходим в галерею, Фитцджеральд вдруг замирает, как контуженный. И так как навстречу нам идут всего две женщины, я понимаю, что дело в них. Не знаю, успевают ли они заметить Шона, потому что он быстро дергает меня за руку и тащит за угол. Там он прислоняется к стене и тяжело дышит, закрыв глаза ладонями. Я вижу, как руки его дрожат. Он буквально врастает в стену.
— Что случилось? — спрашиваю.
— Ничего… нет… — тараторит он, — сейчас, погоди.
Он высовывается и тут же всасывается обратно за угол, ругаясь и постоянно повторяя, что «она его, наверное, засекла».
— Да кто?
— Никто! — обрывает Шон. — Пошли скорее отсюда! Через другую дверь выйдем.
Мы не успеваем. Во второй раз, когда Шон хочет выглянуть, одна из женщин, та, что повыше в полосатом пальто, возникает прямо перед его носом. И вид у нее такой злобный, что даже меня с ног до головы холодом обдает. Она смотрит на Фитцджеральда. Не смотрит даже — пристреливает из гарпуна. Стискивает зубы и шипит ему прямо в лицо, то ли, что он будет гореть в аду, то ли, что уже горит, — в общем, смысл сводится к тому, что там ему самое место. Она бы карающий меч правосудия достала из сумочки, если бы ее не оттащила вторая женщина.
А Шон — я никогда не видел его таким испуганным, дезориентированным — засунул руки в карманы джинсов, вжался весь в толстовку и стоит, не шевелясь. Оказавшись на улице, он забывает, где оставил машину, и мечется по парковке.
— Эй ты! — слышу я чей-то голос, оборачиваюсь и вижу, как к нам быстро двигается здоровый парень, явно старше.
Шон тоже замечает его и снова застывает. Я отхожу на пару шагов и прячу правую сторону лица, надвинув капюшон. Но я достаточно близко, чтобы слышать и видеть все, что происходит.
Парень обращается к Шону. Подходит вплотную. По двигающимся скулам видно, как он ненавидит Фитцджеральда. У него в руках упаковка сока, он выплескивает содержимое прямо в лицо Шону, потом мнет пачку и швыряет в него. Фитцджеральд вздрагивает и не поднимает глаз. Только спустя несколько оскорбительных слов, я замечаю, что глаза у Шона не опущены — они закрыты. Я замечаю, что его трясет. В машине он вжимается в кресло, сползает по нему и закуривает. У него на лбу выступают капельки пота, хотя на улице конец января, руки трясутся.
— Кто это? — спрашиваю.
Он только головой мотает. И тут я взрываюсь. Мне вдруг становится даже не обидно, меня просто от злости распирает. Сколько всего Шон знает обо мне, и сколько я знаю о нем! Я не знаю ничего. В пору спросить себя: а этот парень вообще настоящий? Не воображаемый ли друг, плод моей фантазии?
— Слушай, — продолжаю серьезно, — Это нечестно. Ты знаешь обо мне все, а я о тебе ни фига не знаю. Кто ты? Почему тебя считают изгоем? Почему ты ушел из футбола? Что это была за женщина, что за парень, и почему они тебя так люто ненавидят? Шон, что ты такого натворил?
— Ну, Питер, погугли! — он хочет казаться отстраненным, но теперь уж я его не отпущу. Не соскочит.
Он вытащил меня в молл, и я имею право требовать компенсации за полученный стресс. Но его ответ просто бесит.
— Погуглил! — передергиваю. — Про тебя ничего нет! Вернее, ничего нет с прошлого года.
— Я знаю, — Шон вдруг размякает и плывет, как тесто. — Прости, Питер, мы можем не говорить об этом? Просто оставить?
— Нет, не можем! Рассказывай!
Он заводит мотор, и мы едем. Едем за город в полном молчании. Едем к мосту Чесапик Бэй, к заброшенному старому пирсу и лодочной станции. Когда дорога заканчивается, упираясь в знак и ограждение, Шон выходит из машины и быстро идет в сторону воды. Я выбегаю за ним. Ветер срывает капюшон.
— Да что такое? — кричу, но слова сносит порывами и они не долетают до Шона. — Стой же! Почему не хочешь поговорить?
— Потому что если ты узнаешь, не захочешь говорить вообще! — кричит Шон, как будто хочет переорать кого-то, но вокруг ни души, — Потому что я сделал очень плохую вещь! Потому что я последний трус!
Он не оборачивается, просто продолжает быстро идти к пирсу. Место какое-то заброшенное, жутковатое даже, хотя всего в нескольких метрах от оживленного въезда на мост. Слева — вереницы машин, а тут — словно другой мир. Промозгло, пустынно. Шон бежит, как будто хочет оторваться от меня, и останавливается у самой воды.
— Да брось! — я догоняю его, развожу руки в стороны. — Не перестану я с тобой общаться! Ты же мой друг…
Его слова сбивают с толку.
— Поклянись, что не отвернешься от меня! — Шон смотрит теперь глазами, полными слез. — Поклянись, что даже если станешь считать меня последним слабаком и дрянью, все равно не отвернешься!
— Клянусь, — говорю.
— Да блин! — он снова взрывается. — Как ты можешь клясться, если даже не знаешь, что я сделал!
— Перестань…
Он молчит долго, смотри в сторону воды, туда, где теряется мост, а потом поворачивается и абсолютно серьезно и холодно говорит:
— Я убил кое-кого, Питер.
Я ругаюсь громко. Это такое неожиданное заявление. И такое, черт возьми, очевидное вранье!
— Не делай из меня дурака!
— Это правда. Что, не веришь?
— Представь себе, нет!
— Ну и зря. Это правда, Питер. И давай не будем больше об этом, ладно?
— Шон! — меня аж трясет, так я взбешен его враньем. — Скажи мне правду! Что ты такого натворил?
— Я сказал правду. Ты не веришь.
От его голоса у меня мурашки по спине. Я ошарашен ответом. И ответ этот выдан так, что я не знаю, верить ему или нет. Шон серьезен как никогда. Так серьезно можно говорить только правду. Но не может же быть, чтобы он и правда убил кого-то. То есть, тогда бы он был в тюрьме или в колонии, или еще где-то. Ну уж точно не учился бы в обычной школе и не разъезжал бы свободно по улицам.
— А кто эта женщина в торговом центре? — спрашиваю, надеясь поймать Фитцджеральда на лжи.
— Мама той девушки, — Шон вытирает глаза, — а парень — брат. Они ненавидят меня. И правильно делают. Я это заслужил.
— Девушки? — у меня ком в горле величиной с апельсин. — Ты хочешь сказать, что убил девушку?
— Поехали домой!
Он резко разворачивается и быстро идет к машине. Я засыпаю его вопросами, но всю дорогу Шон больше ни слова не произносит.
Продрогший от ветра и дрожащий от стресса, я вхожу в дом и застаю там испуганную Риту. Она смотрит на меня, как будто увидела инопланетянина.
— Ты где был? — не сразу, словно отойдя от удара, спрашивает она.
— Да так, мы с Шоном прогулялись…
— Что? — она открывает рот и не может вдохнуть, стоит так с минуту, а потом, едва не плача, продолжает. — Я прихожу домой, а тебя нет. Я знаешь, как испугалась! А ты… С этим Фитцджеральдом… Что значит, вообще, прогулялись?
Я вижу, чувствую, как ей обидно. Я понимаю, что она ревнует, и ей неприятно это слышать. Не потому что сестра не рада моей вылазке (чему, впрочем, радоваться вообще занятие сомнительное — все прошло ужасно), просто они с мамой и папой два года безуспешно пытались меня куда-то вытащить, и уговорами, и заверениями, и надеждами, — и у них ничего не выходило. А тут появляется Шон, и вдруг все ему удается. Мне даже стыдно перед сестрой.
— Что он к тебе прицепился? — продолжает Рита.
— У него день рождения, и он решил…
— Мой день рождения для тебя был не настолько важным, чтобы выйти из дома!
Она бежит наверх. Я ловлю ее и пытаюсь обнять.
— Наш день рождения, — говорю. — Рита, ну послушай меня! Не сердись! Что плохого, что мы подружились с Шоном? К тебе же он не имеет отношения…
— Зато ты имеешь ко мне отношение! И я переживаю за тебя!
Она плачет, я хочу успокоить и все прошу посмотреть на меня. Прошу без задней мысли и разворачиваю. Она шмыгает, вытирает нос рукой, а потом поднимает глаза. Но она не может на меня смотреть. Я знаю, как это определить: взгляд фокусируется и скользит только по левой стороне лица или вовсе направлен сквозь меня. Если не знать этот взгляд так хорошо, то можно поверить, будто сестра смотрит на меня. Но я не виню ее. Я и сам не могу смотреть на себя. Только Шон может. Не отрываясь. Не знаю, почему, я беру ладонь Риты и подношу к своему лицу.
— Я тебя очень люблю, правда, — говорю, — прости меня, если…
Она одергивает руку, едва та касается шрама.
— Что ты делаешь?
— Ничего, прости.
Она вырывается и убегает. Я поднимаюсь следом.
— Ты даже не представляешь, что мне приходится выносить! — бросает сестра. — Каждый день! Они перекидывают твои фотографии, издеваются, называют тебя всякими словами… Думаешь, это легко? От меня все отвернулись! И Тим даже… После того, как…
Она не договаривает, а я вспоминаю слова Шона.
— Прости меня, — говорю тихо и присаживаюсь рядом на колени. — Шон просил передать тебе, что Тим поспорил на тебя, что я тут ни при чем. Но, Рита, это все из-за меня. Когда вы тогда собирались к нему на выходные, и он ждал тебя в дверях, я случайно спустился. Я не знал, что там кто-то есть, и он увидел меня. Прости, тогда все и началось… Я видел его лицо, не стал об этом думать, а теперь понимаю, что во всем виноват…
Рита еще больше заливается слезами и просит меня уйти. Больше мы не разговариваем.
Я не спускаюсь к ужину и весь вечер думаю обо всем, что произошло. Это был слишком длинный день. Насыщенный настолько, что я просто не способен выдержать. Я выжат и вымотан, перед глазами мелькают, как в плохо смонтированном кино, лица и силуэты людей из торгового центра. Шон часто говорит о своей трусости, но разве я намного смелее? Я не могу прийти и надрать задницу тем, из-за кого страдает каждый день моя сестра. Никакой разницы. Все мы трусы. Все. Потому что разве не от трусости эти школьники бросают мое фото с телефона на телефон, разбрызгивая злость, ядовитые капли которой попадают на мою сестру? Не знаю, кто из нас всех больший трус. Я прячусь в стенах своего дома, они прячутся за экранами мобильников и фейковыми аккаунтами в соцсетях, а Шон… он не прячется. Он каждый день ходит в школу, назло всем. Может, это требует большей смелости, чем мы думаем.
Шон
Сбегаю с уроков и забиваюсь в угол в школьном подвале. В самый дальний угол, чтобы затеряться среди хлама. Сижу, обхватив колени, теряя ощущение реальности. Время выскальзывает из рук, как только что пойманная рыба. Меня выбила встреча с мамой и братом Мэри-Энн. Снова ловлю себя на мысли, что даже про себя не могу назвать их имена. Замерзнуть бы тут, окоченеть, развалиться и рассыпаться, и чтобы никто никогда не вспомнил обо мне. Уверен — забыли бы быстро.
— Эй, парень, — слышу я знакомый голос мистера Крипсона, но он доносится как будто из тоннеля, — совсем тебе худо.
Мистер Крипсон касается моего плеча. Не думал, что он рядом.
— Чаю бы тебе, — говорит он, присаживаясь напротив.
Мы идем в его коморку, и там он наливает мне сладкого чаю и дает огромный кусок холодной пиццы.
— Поешь, тебе сейчас надо, — и потом, когда дожевываю, протягивает мне открытую пачку сигарет.
Киваю с набитым ртом. Выкуриваю сигарету и отключаюсь. То есть, не помню ничего — просто просыпаюсь на старом продавленном диване, укрытый пледом.
— Сколько времени сейчас? — спрашиваю, даже не зная, есть ли кто-то в комнате.
— Полчаса назад уроки закончились, — отвечает мистер Крипсон, — все уже разошлись. Не хотел тебя будить.
Вскакиваю и сажусь. Обалдеть, проспал полдня! Чувствую себя побитым и помятым. Большая кружка сладкого чая и банка колы немного бодрят.
— Та девочка, — неожиданно заводит тему Крипсон, — сегодня плакала, когда уходила.
— Какая?
— Симпатичная такая, к которой все цепляются с ее братом. Тебе ведь она нравится?
— Нет, — выпаливаю быстро. — С чего вы взяли?
— Да я не первый год на свете живу.
— И что?
— Нравится, значит. Чего ж ты ее не подбодришь?
— Что?
— Ну, не вступишься за нее, — поясняет Крипсон, как будто мне значение его слов не понятно.
— Потому что я трус.
— Удобная отговорка.
— Да что вы вообще знаете! — выхожу из себя и тут же взрываюсь.
Мистер Крипсон нормальный мужик, но мало что понимает в школьных заморочках.
— Ей еще только меня не хватало, ага! Да если я хоть взглядом, не то что словом, намекну, что за нее заступаюсь, на нее такое свалится! Сейчас только по касательной, ничего, эти дебилы порезвятся и забудут, а если я вступлю, то… Мне самому-то по фигу, но Риту вообще сгнобят за дружбу со мной. Со мной нельзя дружить! Со мной даже общаться нельзя! Это вся школа знает. Так что не надо меня стыдить!
Питер
С утра меня бьет озноб, поднимается температура. Мама сидит возле кровати. Шон звонит и спрашивает, может ли прийти. Я говорю, что проведу пару дней с мамой.
— Что это? — она поднимает со стула толстовку, подарок Шона, я не успел кинуть ее в грязное белье, и теперь мама рассматривает надпись. — Откуда это у тебя?
— Шон подарил. Он сам такие носит, заказывает где-то принты.
Мама проводит несколько раз ладонью по буквам, потом прикрывает рот, словно чтобы оттуда не вырвалась птица, и качает головой.
— Хороший он парень, этот Шон…
Я понимаю, что Рита не рассказала о нашей с ним вылазке, и сам говорю маме. Она отвечает, что рада, и быстро вытирает слезы.
— Я очень горжусь тобой, сынок, — наконец произносит она. — Ты у меня очень храбрый.
— А если бы тогда все вышло иначе, — спрашиваю. — В том несчастном случае, ты бы все равно гордилась?
— Что значит иначе? — как будто не понимает мама, но на самом деле, все, конечно, ясно.
— Смогла бы меня любить, если бы я не полез тогда в огонь, если бы остался невредимым?
— Что ты такое говоришь, Питер!
Мне становится стыдно. Было эгоистично заводить этот разговор, хотя я понимаю — нет, не гордилась бы, не смогла бы любить. Жизнь кажется мне жутко безысходной.
Шон
— Эй, Шон, не поможешь мне расправиться с кучей веток на заднем дворе? — слышу голос мистера Грейсона, когда мы с Питером сидим у них в гостиной и занимаемся физикой.
— Хотел поработать измельчителем, но нужен помощник. Я подумал, раз уж ты тут…
У нас есть небольшой сад на заднем дворе — пару грушевых деревьев и яблони. Папа любит возиться с ними. Раньше мы многое делали вместе. Хочу сначала сказать мистеру Грейсону, что мы обычно уничтожаем ветки весной, но замечаю едва уловимую хитрую искру в его глазах. Не могу сказать на сто процентов, но, мне кажется, он как будто указывает взглядом на Питера.
— Я, знаешь ли, ничего в этом садоводстве не понимаю, — продолжает он, — но тут осталась целая гора веток, которые уже начинают мозолить глаза. Ты что-нибудь в садовой технике смыслишь? Я купил измельчитель, когда мы только переехали, но все руки не доходили…
— Да там ничего смыслить не надо, — улыбаюсь, — помогу, конечно.
— А то одному как-то несподручно, — мистер Грейсон точно задумал поддеть Питера, и ему это удается.
— Я тоже могу помочь, пап! — недовольно бурчит Питер.
— Отлично! — Мистер Грейсон доволен, — втроем скорее управимся, — и так смотрит на меня, торжествующе, с благодарностью, разве что не подмигивает от радости, что его план вытащить сына во двор удался.
— Мне еще посоветовали купить наушники, — он достает ярко оранжевые наушники и хвастается. — Эта штука же ужасно шумит.
— Да нет, — машу рукой, — вполне терпимо.
Смешной этот мистер Грейсон, правда. И, в самом деле, ничего не смыслит. Приходится показывать ему, как обращаться с измельчителем, как подготавливать ветки, какой толщины в него пройдут. Говорю, что могу засовывать в машину, а он может обрубать длинные сучки. Но при виде топора отец Питера делает такое лицо, что понятно — он его никогда в руках не держал.
— Ну, давайте я буду обрубать, — говорю.
— А это безопасно? — мистер Грейсон прищуривается насторожено.
— Думаю, да, — отвечаю.
— Отлично, — заключает он, — тогда Питер может отправлять их в измельчитель!
Круто он все придумал. Здорово, потому что Питер включается в работу. Эта штуковина шумит так, что Питер и его отец с непривычки морщатся. Сначала Питер одергивает руки, потому что сучья бьют по пальцам, но скоро привыкает. А мне очень нравится ощущение, когда сучки норовят вырваться
— Это груша, — кричу, протягивая плотный пучок толстых веток, — легче всего идет!
— Что?! — переспрашивает Питер.
— Груша, говорю! Ровная! Как по маслу пойдет!
— Ааа!
— А яблони тут у вас кривые все какие-то!
Жужжание измельчителя заглушает наши разговоры, а потом и мысли. К ужину мы расправляемся с огромной горой веток.
— Ты здорово помог нам, Шон! — мистер Грейсон хлопает меня по плечу. — Наверное, с отцом часто садовничаете? Помогаешь ему?
— Ну, так…
Мне нравится любая физическая работа: разгребать ветки, чинить машину или ставить палатку в походе, играть в футбол или драться на мечах, бегать по утрам или отжиматься. Раньше мы с папой часто находили и придумывали какие-то занятия. Теперь его предложения — это сплошной формализм. Просто, вроде как, надо позвать сына. Но видно же, как ему неприятно.
Рита
В ночь перед отправкой Питера в больницу Фитцджеральд, конечно же, тусуется у нас. Он даже ночевать остается — чтобы поддержать друга. Вот ведь привязался! А вчера приходили его родители — разузнать, с кем это подружился их сын-изгой. Представляю, какая для них это неожиданность. Мама с папой усадили их за стол, налили чаю, а те давай расспрашивать, кто такой Питер, да как они с Шоном сошлись. И миссис Фитцджеральд такая: «Нет-нет, вы не подумайте ничего, просто нам хочется быть в курсе, Шон не очень-то разговорчив». А может, в этом все и дело, что Шон ни с кем не может наладить контакт? Может, он сам виноват в том, что стал изгоем? Ну и мама с папой давай рассказывать про Питера, про несчастный случай, про шрам, про то, что брат два года не выходил даже ночью на крыльцо, а с Шоном отправился аж в торговый центр и в кино, что Шон очень поддерживает его, вселяет уверенность. И про эту дурацкую толстовку рассказали. То же мне, не мог придумать чего попроще написать! Подлиза и подхалим! И про то, как они ветки у нас на заднем дворе уничтожали, рассказали. Фитцджеральды молчали, а потом как-то очень тяжело тоже заговорили.
— Мы очень рады, — сказала миссис Фитцджеральд, — что у Шона появился друг. Он же ни с кем почти не общается, в школе у него трудности… Мы не знаем, как к нему подступиться. У него непростой период сейчас, и он не принимает никакой поддержки от нас.
— Да, — подхватил мистер Фитцджеральд, и я сквозь стену между столовой и гостиной почувствовала, какого размера ком стоит у него в горле, просто с футбольный мяч. — Про ветки, вот, вы говорите. Знаете, я за последние месяцы несколько раз предлагал ему разгрести мусор в саду, избавиться от веток или починить газонокосилку. Раньше мы постоянно с ним занимались всякими такими хозяйственными делами, а теперь он всегда отказывается. Он закрылся, к нему не пробиться. На каждую мою просьбу палит из всех орудий. Мы очень волнуемся, так что уж извините за визит.
Миссис Фитцджеральд прямо чуть не расплакалась, а когда уходила, пожелала, чтобы операция у Питера прошла успешно. Теперь, видимо, Фитцджеральд будет тусоваться у нас вечно, совершенно легально и с благословения своих родителей. Да еще в школе нет-нет, да и скажет мне что-нибудь. Вроде, «красивое у тебя платье, Рита» или «как там Питер?» или «не обращай внимания на этих уродов». Еще не хватало, чтобы его репутация ко мне прицепилась — и без того хватает.
И вот, он остается у нас на ночь. Ужинает с нами, а потом они с Питером сидят в комнате брата. Убить готова этого Фитцджеральда! Честное слово, потому что я и сама хотела бы побыть с братом. Завтра в школу. Мне нельзя пропускать контрольную. Шон забил на все — уверена, он и не появится на уроках, а я не могу. Уже ночью заглядываю осторожно к Питеру, приоткрываю дверь — он спит на своей кровати, а Фитцджеральд сидит на полу и смотрит на него. Меня аж озноб пробивает. Питер спит же всегда на здоровой стороне лица, и значит, в свете луны Шону виден только ожог. Я ничего не говорю, но после того, как Фитцджеральд ловит мой взгляд, больше не смотрит, ни на меня, ни на Питера.
В школе все откуда-то знают, что моему брату предстоит операция, и это тоже становится объектом насмешек. Я сначала думаю, что это же сволочь Фитцджеральд наверняка всем растрепал, и мне хочется сейчас же распустить слух о том, что он педик, хотя, может, его поэтому и игнорят. С другой стороны, Шона бы и слушать никто не стал. И это меня просто убивает. Потому что, кроме нас с Фитцджеральдом, в школе еще только один человек знал об операции.
— Зачем ты так? — едва сдерживая слезы, говорю Памеле. — Как ты могла?
— Да я только Кайлу по секрету, — оправдывается она.
— Кайл трепло! Ты же знаешь!
— Кайл мой друг! Да забей ты на них.
Ей все равно. Хоть она моя подруга, ей не понять, что это такое на самом деле. Она злобно фыркает и рычит на всех, кто что-то произносит про Питера. «Это не ваше дело», — ругается. Но ей легко, она наблюдает со стороны. А когда ты в стороне, то можешь говорить все, что угодно, можешь быть резкой и смелой, можешь отстаивать чью-то боль или правоту, можешь даже круто поругаться с кем-нибудь, — все равно тебя не заденет. Шаг вправо или влево, и все пролетит мимо, потому что ты не внутри. Но никто не поймет, глядя снаружи. Они могут только рассматривать тебя, как жука в стеклянной банке, как бабочку — кто-то с интересом, кто-то с жалостью, кто-то с презрением. А ты бьешься о стекло в какой-то агонии, ослепленная надеждой на то, что никакого стекла нет. На самом деле, глупо было убеждать себя, что я смогу влиться в нормальный коллектив. Мой мир обнесен стеклом травмы брата, и с этим ничего не поделаешь. Но самое противное в этой ситуации, что я даже обидеться на Памелу не могу. Потому что она моя единственная подруга, единственная, кто хоть как-то останавливает этот поток мерзких шуток. У Памелы есть статус, есть влияние, и если бы не она, кто знает, может, меня бы уже с головой зарыли.
Контрольную я, конечно, заваливаю. Придется пересдавать. Теперь уже все равно, поэтому вместо последних двух уроков я еду в больницу — Питер должен быть уже там.
Фитцджеральд сидит напротив палаты. Шон здесь с самого утра, и именно от него я узнаю о том, как чувствует себя брат, где родители разговаривают с докторами, и когда начнется операция. Он не похож на того парня с победной фотографии в школьном холле славы. Сейчас он выглядит уставшим, измотанным, затравленным, как будто напуганным. И он почти всегда так выглядит. Его ногти обкусаны под корень.
— Не переживай из-за этих идиотов, — вдруг обращается он ко мне.
Поворачивается, и в его зеленых глазах яркими бликами отражаются больничные лампы. На лицо с веснушками падает полоса света — Шон щурится, и от этого появляется подобие улыбки.
— Я и не переживаю, — отвечаю.
— Да ладно, не заливай! — Хмыкает он, — Любой бы переживал. Им только этого и надо. Они мудаки. Ума не хватает даже погуглить. Была бы хоть одна извилина в голове…
Он отворачивается и начинает кусать ноготь большого пальца. А я вдруг понимаю, что Фитцджеральд знает про брата куда больше, чем я думала, знает про тот несчастный случай и еще много чего.
— Питер тебе рассказал? — спрашиваю.
— Питер об этом не будет говорить, ты же знаешь.
На следующий день Фитцджеральда в школу привозит отец. Судя по всему, родители все же взялись за него. Сегодня контрольная по истории. На истории Фитцджеральд не появлялся уже очень давно, но я привыкла, что даже учителя стараются не обращать на него внимания, как бы играя по общим правилам, как бы обходя стороной какой-то деликатный и очень тонкий для школы вопрос. Я пытаюсь снова разузнать у Памелы, но при одном упоминании имени Шона она морщится так, будто он творит периодически какие-то совершенно непотребные вещи.
Мистер Вудроу, наш историк, перед контрольной пребывает в прекрасном расположении духа и не может упустить шанс высказаться.
— Ну что за радость снизошла на нас сегодня, — нарочито поэтично тянет он, — Фитцджеральд! — Он разводит руками. — Какими судьбами тебя занесло в наш класс? Неужели ты, в самом деле, решил, что написание одной контрольной решит вопрос с твоими патологическими прогулами?
По кабинету морозным ветерком разносится едва слышные смешки. Шон сидит, напряженный, плотно сжав губы, и буравит глазами свою тетрадь. По мере того как историк продолжает, скулы Шона все заметнее двигаются.
— Позволь спросить, наш редкий гость, выбрал ли ты уже университет, в котором хочешь учиться дальше?
Шон молчит.
— Класс, — обращается мистер Вудроу ко всем, — Поднимите руки, кто уже определился с высшим учебным заведением?
В воздух тут же взмывают руки всех, кроме Фитцджеральда. Он закрывает глаза, на секунду зажмуриваясь, словно прогоняя дурной сон. И мне вдруг становится его жаль.
— Значит, дальше учебу вы продолжать не намерены? — не унимается Вудроу.
Могу поклясться, Фитцджеральд готов вот-вот заплакать. У него глаза становятся влажными. Мне кажется, он даже не дышит. И вдруг резко встает, берет тетрадь, ручку, рюкзак и выходит из класса. Не быстро, не медленно, обычным шагом, как будто ничего не произошло, ничего его не тронуло, только глаза от всех прячет.
После истории у нас еще английский, а потом мне надо скорее ехать в больницу к Питеру. Я должна быть рядом. Я хотела бы держать его за руку во время операции, но этого, конечно, не позволят, поэтому буду держать его за руку сразу после.
На парковке, прислонившись к столбу, стоит Фитцджеральд и курит. Он окликает меня негромко.
— Подбросишь до больницы? — спрашивает. — Ты же туда сейчас?
Эта просьба застает меня врасплох. Я вообще не ожидала тут увидеть Шона и уж тем более не ждала, что он заговорит со мной у всех на виду. Я растеряно оглядываюсь по сторонам, не видит ли кто-нибудь нас вдвоем. Потом смотрю на Фитцджеральда и бормочу.
— А ты без машины? — и снова оглядываюсь. — Знаешь…
— Все понятно, — отрезает он, выбрасывает сигарету резким щелчком пальцев и быстро шагает прочь.
Мне вдруг становится стыдно. Но с другой стороны, я ничего не должна Фитцджеральду. Вообще ничего, даже если он действительно лучший друг моего брата. Единственный друг, который от него вообще не отходит. И я вдруг ловлю себя на отвратительной мысли, что во мне сейчас больше ревности к однокласснику, чем нелюбви. Когда я увидела, как он смотрит на Питера, не отводя глаз… Господи-боже, я так не могу! Каждый раз, когда хотя бы мельком вижу правую часть лица брата, меня обдает жаром так, будто я сама горю в том пожаре. Я почти физически ощущаю, как стягивает у меня кожу. Поэтому и не могу смотреть. И еще не могу скрыть жалость. Она бесит меня, разрывает, но ее не вырвешь, как занозу, не выкинешь, не засунешь под кровать, чтобы попытаться забыть.
*** *** *** ***
Лицо Питера в бинтах. Врачи очень оптимистичны, но брат выглядит как мумия. Каждый раз, когда вижу его после операций, надеюсь, что теперь-то все закончится. Мама и папа подбадривают Питера, а у него глаза совсем потухшие. В палате светло. Белые стены отражают яркое солнце, разрезающее помещение полосками жалюзи. Питер сидит на кровати, застеленной белыми простынями, руки его сложены в смиренном жесте на коленях. Он смотрит на картину: желтое поле подсолнухов, ограниченное голубым небом и рассеянными, размазанными по нему как по тарелке, облаками.
— Ты думаешь, все будет хорошо на этот раз? — Тихо спрашивает он.
— Конечно, — я присаживаюсь рядом и обнимаю его. — Врачи говорят, операция прошла отлично…
— И в прошлые разы так говорили.
Он не верит, но как же мне хочется, чтобы поверил. Скоро снимут бинты, начнется процесс заживления, и Питер привыкнет к новому лицу. Он снова будет выходить из дома, поступит в университет, вернется к жизни. Но сейчас он просто смотрит на это поле с подсолнухами, а я вспоминаю, что такое же поле было недалеко от того места, куда мы ездили на фермерский рынок, когда жили в Бостоне. И мы, бывало, останавливались около него на пути домой. Мы с братом ныряли в этот лес. Нам было тогда лет по семь, и для нас подсолнухи были великанами. Мы пробирались сквозь них, прятались, бегали друг за другом. И сейчас мы сидим, держась за руки напротив картины, и как будто убегаем в нее все дальше. И я представляю, как мы идем между стволами гигантских цветов, как я оглядываюсь и вижу Питера, улыбающегося, без шрама на лице, и Питер смеется и бежит за мной.
В коридоре, у самого выхода, я замечаю Фитцджеральда. За ним приехали его родители. Мать стоит чуть в стороне, а отец что-то серьезно объясняет ему. Понятно, что — Шон опять уходит с уроков. Даже когда его не пускают к Питеру, он просто сидит у двери. Вчера уснул прямо на маленьком диване.
Шон стоит перед своим отцом, опустив голову, засунув руки в карманы так глубоко, что, кажется, была бы возможность, он бы весь спрятался в этих карманах. Он ничего не отвечает, а когда его отец отходит и направляется к моим родителям, облокачивается о стену и снова начинает кусать ногти. Мистер Фитцджеральд человек, как мне кажется, холодный и сдержанный, говорит, что очень рад за Питера и надеется, что после операции у нас у всех все будет хорошо. Он говорит, что не имеет ничего против дружбы своего сына с Питером.
— Но поймите меня правильно, — голос его ровный, серьезный, — Шон прогуливает учебу. У него проблемы по многим предметам, потому что время, которое он должен проводить в школе, он проводит с вашим сыном. Я не хочу контролировать его настолько, чтобы забирать с занятий. Поймите, у Шона тоже непростой период сейчас, и мы рады, что он находит поддержку, но это выпускной класс…
— Ну что вы! — Перебивает мама. — Никаких проблем! Мы понимаем. Конечно, учеба прежде всего. Рита может подвозить его из школы, а потом отвозить домой, если вы не против.
Мистер Фитцджеральд смотрит на меня и соглашается. А мне ну вот только этого не хватало же! Ездить с Шоном в одной машине? Что?!
— Ты же не против, милая? — Спрашивает у меня мама.
— Ну, вообще-то… — я пытаюсь найти хоть что-то, что стало бы весомым аргументом. — Шон и правда часто уходит из школы раньше меня…
— Не волнуйся, — его отец строго оглядывается. — Больше он не будет уходить с уроков.
Как будто я прям за него сильно разволновалась! Я думаю, может, договоримся, и я буду подбирать Фитцджеральда на выезде, за углом? Туда он вполне может дойти пешком.
*** *** *** ***
Лучший результат за контрольную по физике у Фитцджеральда. То есть, что? У Фитцджеральда? Правда? Это просто невероятно, ведь он почти не появлялся на физике! Но его даже в списывании не уличишь — вообще ни к чему не придерешься.
— Как тебе удалось? — Спрашиваю, не скрывая удивления, когда Шон сидит на пассажирском кресле моей машины и смотрит в окно.
Я уже который день подбираю его на выезде из школы. Он не сопротивлялся и не возмущался моему плану — только кивнул. С тех пор, как отец Шона поговорил с ним и с моими родителями в больнице, Фитцджеральд ни разу не прогулял ни одного урока, хотя по нему видно, что школа для него — просто мука. Всегда была, но, как мне теперь кажется, дружба с Питером стала для него отдушиной, в ней он спасался от одиночества, как Питер спасается от людей в стенах дома.
— Удалось что? — откликается Шон тихо, поворачиваясь ко мне.
И я впервые замечаю, какие у него красивые глаза — зеленые, цвета молодой весенней травы, с темными прожилками, и блики от солнца в них — как капельки росы. Просто я впервые так близко и так прямо смотрю ему в глаза. Я машинально реагирую на голос и гляжу на него, отвлекаясь от дороги. Недолго — пару секунд, но меня успевает заворожить этот взгляд. Несмотря на внешний блеск, он у Фитцджеральда уставший и затравленный, как у обвиняемого на скамье подсудимых, которому вот-вот вынесут неутешительный приговор. Меня передергивает, волной накрывает, и надо поскорее плыть к берегу.
— Контрольную по физике, — говорю. — Ты написал лучше всех. Лучше даже Стюарда. И это при том, что ты почти не появлялся на уроках! Даже дополнительное задание выполнил…
— Ну, может, я силен в физике, — совершенно сухо говорит Шон, снова глядя в окно, но потом как будто не выдерживает и усмехается, повернувшись в мою сторону. — На самом деле, Питер занимался со мной.
— Серьезно? — я не верю своим ушам.
— Да.
— Почему бы не заниматься тем же на уроках?
Фитцджеральд не отвечает, пожимает плечами, и больше мы не разговариваем.
*** *** *** ***
Фитцджеральд шепотом произносит мое имя и касается моей руки едва заметно, как будто ветка дерева на ветру. Мы стоим одни у входа в спортивный зал.
— Рита, — говорит он, — сегодня Питеру снимают повязку. Может, ты скажешь, что плохо себя чувствуешь, и мы пораньше поедем в больницу?
Я киваю и говорю, чтобы ждал на парковке. Все равно во время урока вряд ли кто-то увидит нас вместе, а скоро Питера выпишут, и мне больше не придется возить Фитцджеральда и быть его нянькой. И уж конечно, я не собираюсь врать учителю.
Когда выхожу из зала, мне приходит сообщение с незнакомого номера. Открываю — а там коряво нарисованная голова мумии. Это не первое послание. Некоторым ужасно забавно рисовать в тетрадях карикатуры на моего брата. И тут же следом еще одна, из тех, что они выучились рисовать очень хорошо. Я начинаю плакать. Я знаю, что весь класс обсуждает моего брата в отдельном чате, открытом, куда заходят и ученики других классов, и других школ. У них даже целая группа есть, где они соревнуются в уродливости рисунков Питера. И я зачем-то открываю на телефоне эту группу и опять начинаю читать все мерзости и обидные слова. Его называют уродом, чудовищем, за него сватают самых отстойных девочек или героинь кино. Мемы с той первой фоткой гуляют в комментариях с самыми разными пошлыми и гадкими подписями.
Когда подхожу к машине, реву и никак не могу отлипнуть от этой группы, от этих издевательских картинок. Как будто специально режу себя лезвием снова и снова.
— Что ты тут стоишь? — бросаю Фитцджеральду. — Не мог как всегда ждать у выезда?
Сажусь на водительское кресло, а этот даже с места не двигается.
— Ну что? Долго тебя ждать?
Он обходит машину и оказывается с моей стороны.
— Что случилось, Рита?
— Ничего! Поехали!
У меня слезы градом, руки трясутся, — настоящая истерика. И меньше всего мне хочется, чтобы Шон в нее вмешивался или видел ее.
— Может, лучше я поведу? — осторожно спрашивает он. — Ты, по-моему, не в состоянии…
Я киваю и пересаживаюсь.
Фитцджеральд еще два раза спрашивает, что случилось, а мне надо успокоиться, а не объяснять ему. Потом он говорит, чтобы я не обращала внимания, если это опять кто-то что-то сказал.
— Да откуда тебе знать! — срываюсь.
— Что? — спрашивает он.
— Ничего! Вообще, все! Ты прям такой умный, говоришь, не обращать внимания… — я вытираю слезы. — А тебя за что все ненавидят? За что к тебе такое отношение?
— Я заслужил, — отрезает он.
— Офигенный ответ! А я не заслужила! Так что не надо мне говорить, на что обращать внимание!
Шон
Врач разматывает бинт. Белая лента становится все длиннее. Вьется змейкой, которую умело подхватывает медсестра. Держу Питера за руку. Знаю, он не очень-то верит в то, что все будет хорошо. Но он заслужил, чтобы все было не просто хорошо, а великолепно. Как никто заслужил вернуть себе прежнее лицо и жизнь. У Питера немного поднялась температура, но доктор говорит, такое бывает, волноваться не о чем. Еще один оборот. Бинтов становится все меньше. Еще немного и через них начнет просвечивать кожа. «Все будет хорошо, Питер», — повторяю про себя. Еще один оборот. И еще. Питер зажмуривается на секунду. Врач легонько тянет за бинт, чтобы тот поддался, и… О черт! Питер вскрикивает. Медсестра дергается за инструментами. Вместе с бинтом от лица у Питера отслаивается целый шматок кожи. Кожи, которая должна была прижиться и прирасти. Твою мать, это как будто просто кусок мяса отрезали от человека! Машинально закрываю глаза, опускаю голову, сжимаю зубы. Но понимаю, что мне надо очень быстро посмотреть на Питера. Если не смогу этого сделать, будет катастрофа. На него и так мало кто смотрит… но этот шматок, прилипший к бинту… Слава богу, доктор быстро возвращает его обратно и придерживает, пока медсестра передает какие-то металлические штуки, которые выглядят точь-в-точь как орудия средневековых пыток, только все начищенные, хромированные. Собираю волю и поднимаю глаза на Питера — он плачет и дергается, пытаясь вырваться.
— Я говорил, что ничего не выйдет! — Выпаливает он. — Не надо было даже пытаться!
— Спокойно! — удерживает его доктор. — Сядь! Не делай резких движений! Теперь нужно все аккуратно убрать, чтобы понять, что не так…
— Все не так! — Рычит Питер.
Доктор обращается ко мне и просит выйти. Киваю. Потом, уже почти у двери (мне кажется, прошло часа два) окликает и говорит, чтобы помалкивал пока и ничего не рассказывал семье Питера. Говорит, сам обо всем сообщит.
Меня выталкивает из палаты сильным потоком воздуха, выбрасывает как космический мусор с орбитальной станции, и сразу приклеивает к стене. Поверить не могу, что так все вышло. Родители Питера и Рита смотрят на меня испуганно, спрашивают что-то, но мне слышен только гул и видны, их медленно двигающиеся рты. Меня начинает тошнить. Когда Рита подходит и заглядывает мне в глаза, срываюсь и несусь в туалет, где меня рвет.
Следующее, что помню — сижу на кровати в своей комнате, даже не переодетый — как был, в джинсах, кроссовках и толстовке. Моргаю и снова как будто выпадаю из реальности. Потом стою в ванной, в одной футболке, в руке у меня канцелярский нож. Так глупо. Это не поможет Питеру. Это не поможет даже мне самому. Никогда не помогало. Опять слабость. Ненавижу себя за это. Вдруг дверь открывается резким рывком — почти слетает с петель. Разве не закрыл ее? Вздрагиваю, даже подпрыгиваю от испуга и роняю резак. В ванной появляется отец. Сказать, что он разочарован — не сказать вообще ничего. Он раздавлен. У него такой вид, что он никогда, никогда больше не скажет мне ни слова. Он только качает головой, потом выдыхает.
— Ты опять, Шон? — говорит он, как будто пережевывает горькую смолу.
— Нет, пап, — возражаю почти беззвучно и совершенно беспомощно.
Это выглядит жалко, учитывая валяющийся на полу нож и свежий порез на внутренней стороне предплечья, такой тонкий, маленький.
— Господи-боже, Шон! Ты снова за свое… Ты снова пропустил два сеанса у доктора Перкинс. Так нельзя больше, сын…
— Пап, это же несерьезно все… — пытаюсь оправдываться. — Это же просто…
— Ты видел свои руки? — Он начинает заводиться.
Автоматически прячу шрамы. Но бесполезно же говорить, что не хотел ничего плохого, потому что ничего хорошего ведь тоже не хотел. Он говорит, что теперь будет сам возить меня в школу и забирать оттуда, потом везти меня на встречи с доктором и обратно домой.
— Только такой маршрут! — Отрезает папа, как гвоздь в гроб вколачивает.
— Но Питер! У него была неудачная операция. Ему нужна поддержка, я не могу его бросить сейчас, в такой…
— Мне наплевать на Питера! — Перебивает отец. — Ты мой сын, и меня волнует, чтобы…
— А мне не наплевать! — Пытаюсь повысить голос, но выходит какой-то хрип. — Питер мой друг…
— Я все сказал!
Разношу свои макеты. Бумага ломается, гнется. Белые подоконники, карнизы и двери разлетаются по комнате. Построенный мною город лежит в руинах.
Питер
Если бы можно было отмотать жизнь назад, на каком месте я бы остановился? Если бы можно было смотать ее, как медицинский бинт. Я не уехал бы из Бостона? Не согласился бы на операцию? На какую? Вторую? Первую? Никогда не открыл бы дверь Шону? Не позволил бы надежде поселиться в моей голове? Но жизнь, она как этот использованный медицинский бинт — только разматывается и разматывается. Господи, я как будто забываю напрочь, откуда все это вообще началось. Откуда начался этот кошмар. Или моя прежняя жизнь была сном? Я как будто забываю, что вначале был несчастный случай. Отматывать надо туда. Но никак не получается. Бинт — как старая магнитофонная лента — раскручивается только в одном направлении. По часовой стрелке. Ничего не вернуть. Время развивается по спирали. Наша жизнь, вся вселенная, развивается по спирали. Еще один виток. Еще один виток приближает меня к неизбежному исходу. Единственному, к которому я готовился. История циклична. Все повторяется. По тому, как Шон сжимает мою руку, я понимаю — он ничего не знает о цикличности. Еще один виток марлевой ленты обнажает всё. Ай! Больно! Вместе с лентой отходит кусок кожи. Я говорил! Я же знал, что ничего не получится. Ничего не выйдет из этой глупой затеи снова сделать меня человеком! Даже Шон не может теперь смотреть на меня. В больнице небезопасно. Палата больше не мое убежище. Она моя камера пыток. Спираль времени проходит сквозь меня и разрезает внутренности.
Когда оборачиваюсь, Шона уже нет рядом. Он сбежал. Неужели? Смелый и отважный Шон Фитцджеральд, даже он сбежал, не в силах больше притворяться, что может смотреть на меня без жалости и отвращения. Мне хочется кричать, но в рот попадает кусок бинта, и я чуть не давлюсь им. Хоть бы задохнуться! Если бы все вернуть в тот день, я поступил бы так же, но, честное слово, лучше бы я умер в том пожаре.
Все вернулось на начальную точку. Окружность — это замкнутая плоская кривая. Если отторжение случилось один раз, оно будет повторяться постоянно. И ничто не имеет смысла.
Шон оказался паршивым другом. Лучше бы мне начать его ненавидеть. Он сбежал. Струсил? Когда он так нужен. Когда ему не надо носиться по полю с мячом, не надо идти в кино или в торговый центр. Когда ему не хочется постоять под снегом, подставив холодным хлопьям лицо. Его нет. Он думал, я стану нормальным, и тогда-то уж мы с ним побегаем. Он, наверное, только и надеялся на эту операцию. А я знал, что в ней никакого толку. Но я хотел верить, что Шон — настоящий друг. Когда он касался моего лица, я на миг сам как будто забывал, что у меня его нет. А теперь нет и самого Шона. Как просто выйти из больницы и больше никогда не вспоминать о своем друге уроде.
Четвертый день я дома. До этого был в больнице. Сколько? Не помню. Кажется, вечность. А от Шона ни слуху, ни духу. Может, его и не было. Может, я его выдумал. Может, это все было очередным кошмарным сном.
Еще несколько дней, и я думаю, что сил больше нет. Нет сил прятаться. Я думаю, надо ли объяснять. Писать записки, надиктовывать записи. Или просто сделать все тихо…
Шон
— Ты снова причиняешь себе вред, Шон? — очень доверительно и спокойно спрашивает доктор Перкинс.
Она приятная женщина, с каштановыми волосами, всегда аккуратно забранными в улитку на затылке, всегда одетая в строгий костюм с юбкой до колен. Обычно спокойных тонов с яркой деталью, на которой я концентрируюсь, потому что мне непросто смотреть доктору Перкинс в глаза, особенно, когда она задает вопросы. А с психоаналитиками же это всегда так: либо ответы на вопросы и сплошные диалоги, либо молчание. Молчать, казалось бы, проще, но доктор Перкинс хороший специалист, и она не любит, когда ты молчишь. И еще она знает восемьсот тридцать способов, как сделать, чтобы ты заговорил, не прибегая к насилию. Но все эти ее способы так изматывают, что лучше, конечно, сразу говорить.
— Нет, — отвечаю, глядя на ее яркий шарф, бордовый с темно-синим восточным орнаментом.
— Шон, — она взывает к моему вниманию, к моей честности и совести. Нехорошо же так откровенно врать взрослым, — твой отец мне рассказал. Пойми, родители очень за тебя переживают.
— Ну, вы же знаете, что это не потому, что я хочу умереть или что-то такое. Это просто… так…
— Так ты себя наказываешь, да, Шон?
Ох, как не хочется с ней разговаривать. Как не хочется отвечать на вопросы. Даже отмалчиваться не хочется. Особенно по поводу моих шрамов. Доктор Перкинс знает о порезах все. Больше, чем кто бы то ни было, потому что она ведет им счет с самого начала. А начало у нас было не такое безобидное. Отдираю взгляд от ее шарфа и смотрю теперь в окно. Там — облако, похожее на раздавленного жука. Она же знает, так зачем спрашивает. Опять те же вопросы. У нее их, признаться, не так много, но вариаций и комбинаций не сосчитать.
— Покажешь, Шон? — она наклоняется в моем направлении.
Вижу это боковым зрением и, не отрываясь от окна, и отрицательно мотаю головой.
— Покажи! — настаивает мисс Перкинс.
Стягиваю толстовку. Очень неохотно. Зачем ей — там всего-то пара новеньких, да и те слабаки, едва заметные. Выворачиваю руки, чтобы доктор видела отметки на внутренней стороне предплечья. Не так чтобы много.
— Шон, ты понимаешь, что просто изуродуешь себя? Сейчас все заживет, но если ты будешь продолжать, то может быть намного хуже. Совсем свежие. Это все еще из-за Мэри-Энн? Ты не можешь простить себя…
— Из-за Питера, — перебиваю.
— Кто такой Питер?
— Мой друг, — говорю, и тут меня начинает нести, просто прорывает. — Ему сделали неудачную операцию, и ему очень плохо сейчас, понимаете? Ему нужна поддержка…
Выпаливаю ей все-все, в подробностях. Просто говорю без остановки — аж воздуха не хватает.
— Похоже, вы очень близки с этим Питером, — кивает доктор Перкинс.
— Да, он… — пытаюсь подобрать нужное слово, и у меня выскакивает только, — я его очень люблю, — тут же осекаюсь. — То есть, ценю. Ну, то есть, не так люблю, как вы можете подумать.
— А как я могу подумать? — от любопытства ее глаза начинают играть искрами.
— Ну, если ты близко общаешься с парнем, обнимаешь его, когда ему плохо, и вообще, если вы как-то касаетесь друг друга, все начинают думать всякую фигню, типа, что ты гей и все такое.
— Я так не думаю, — смеется она.
— Просто Питер… — продолжаю. — Он мне очень дорог, и я никак не могу ему помочь, а теперь еще отец запретил мне выходить из дома.
Доктор Перкинс кивает. У меня изначально не было никакого плана. У меня не было даже плана все рассказывать ей, но сейчас просьба сама вырывается.
— Может быть, вы скажете отцу, чтобы он отпустил меня к Питеру, чтобы разрешил проводить у него время? Мне кажется, он что-то плохое может с собой сделать, что-то непоправимое, понимаете? А он не такой трус как я, он если что-то задумает, то не царапать себя уж точно. Поговорите с папой, пожалуйста!
— Я могу поговорить с твоим отцом, Шон, конечно, — она прищуривается, — если ты мне кое-что пообещаешь? Я знаю, если ты пообещаешь, то не нарушишь слова.
— Что?
— Пообещай мне, что больше никогда не поранишь себя намерено. И тогда я уговорю твоего отца, чтобы вместо наших встреч он разрешил тебе бывать у Питера.
— Обещаю, — говорю.
С трудом сдерживаю слезы, приходится говорить сквозь зубы. Это и из-за того, что мисс Перкинс меня понимает, и убедит, конечно, отца, но еще и потому что сдержать обещание будет нелегко. Намного проще взять канцелярский нож и полосонуть по руке, чем уговорить себя, что этого делать не надо.
*** *** *** ***
Торможу со свистом и сломя голову бегу через двор к дому Грейсонов. Стучу в дверь — мне открывает Рита. На ней лица нет. Она не появлялась в школе несколько дней, и сейчас, видя ее, даже замираю. Боюсь, случилось что-то нехорошее.
— Ты в порядке? — спрашиваю.
— Угу, — она кивает и впускает меня.
— Как Питер? Он дома?
— Дома. Ни с кем не хочет разговаривать, заперся в своей комнате и не выходит, — она бросает на меня полный ревности взгляд. — Тебя же он слушает, а ты пропал! Ты ему был нужен… То же мне, друг!
— Прости, я не мог… Как только вырвался, сразу приехал.
Из кухни выходят мистер и миссис Грейсон, тоже очень уставшие и грустные. Сухо, но с улыбками, в которых еще теплится надежда, приветствуют меня.
— Можно увидеть Питера? — обращаюсь ко всем троим.
— Попробуй, — отвечает Рита и кивает наверх. — Нас он не подпускает.
Рита
Фитцджеральд поднимается на второй этаж и идет к комнате Питера. Стучит, осторожно входит. Я следую за ним на цыпочках. Если он не вылетит оттуда через минуту, я всерьез разозлюсь. Я начинаю люто ненавидеть Фитцджеральда за то, что он каким-то образом втерся в доверие к моему брату. Я хотела всегда быть для Питера крепостью, уютным домом, где он мог найти понимание и поддержку. После несчастного случая я хотела быть таким местом для него еще больше. Но он не принимал меня в этом качестве. Он продолжал расспрашивать о школе, утешать. Мне не удавалось уговорить его даже во двор выйти, а этот Фитцджеральд… И сейчас Питер не выгоняет его. Шон входит, дверь за ним закрывается — и тишина. Я крадусь, как воровка в собственном доме. Мне хочется ворваться туда и наорать на обоих! На Питера, потому что он не ценит нас, не видит, как мы из кожи вон лезем, как переживают родители. На Фитцджеральда, потому что он просто странный засранец, и потому что я ревную. Я жду у двери, слышу, как что-то звонко падает на пол, потом злобный голос Шона что-то шипит, как будто ругает Питера. Вот еще не хватало, чтобы этот выскочка врывался и наезжал на моего брата! Я без стука открываю дверь и вхожу. То, что я вижу, повергает меня в шок. Шон держит Питера сзади, обхватив руками — как будто лассо накинул. Они двигаются странно, покачиваясь, и я даже думаю сначала, что они дерутся. Шон так крепко схватил брата, что ему не вырваться, а Питер дергается, словно в конвульсиях, рычит. Толстовка Фитцджеральда валяется на полу, и я впервые, наверное, замечаю, как крепко он сложен. Он сильнее Питера. Но они не дерутся. От страха я вжимаюсь в стену.
— Отпусти! — рычит брат.
— Ты успокоился? — шипит ему в ухо Фитцджеральд.
Шон прижимается к правой стороне лица брата. Вообще-то, там должна была быть повязка, но Питер настоял, чтобы ее сняли. Уговорил врача. У него просто истерика случилась. Никогда не видела брата таким нетерпеливым. Доктор сказал, что при должном уходе можно обойтись и без повязки. Но нельзя допускать, чтобы грязь или микробы попадали на ожог, а этот Фитцджеральд влепился в него своей щекой!
— Отпусти! — Питер дергается, но хватка бывшего школьного квотербека крепка. — У меня кровь, дурак, отпусти!
Я вижу кровь на руке брата и от страха, наверное, бледнею. Мне хочется отвлечься, но в панике я натыкаюсь глазами только на ожог Питера.
— Ты успокоился? — все еще сквозь зубы спрашивает Фитцджеральд.
— Что тут у вас происходит? — говорю громко, как могу, но все равно получается испуганно, и голос срывается на высокие ноты.
Мои слова действуют, как приказ — оба моментально расходятся на шаг, оглядываются. Питер быстро садится на кровать.
— Я позову родителей, Фитцджеральд, черт тебя подери, что ты себе вообще позволяешь!
— Не надо никого звать, — тихо произносит брат.
— Что?
— Не надо никого звать! — повышает голос Шон. — Бинт принеси!
— Что? — я все еще не могу отлипнуть от стены и плохо понимаю происходящее.
Трясу головой, замечаю на полу толстовку Фитцджеральда, канцелярский резак, потом перевожу взгляд на Питера. Кровь. У него на руке в районе запястья.
— Бинт принеси, что! — уже кричит Шон.
— Там, в ванной, есть, — тихо, виновато добавляет Питер, — не надо только никого звать.
— У тебя кровь…
— Царапина! — обрывает Фитцджеральд.
Я знаю, что у Питера в шкафчике в ванной чего только нет. Быстро иду, беру пластыри, бинт и уже в комнате протягиваю Шону. Мне очень страшно, и я могу только слушать, только водить глазами с одного на другого и стараться не заплакать.
— Тоже мне, — ворчит сквозь зубы Фитцджеральд, заклеивая пластырем порез, — Не умеешь ни хрена, так не брался бы!
Он действует очень умело. Быстро отрывает зубами защитную пленку, аккуратно клеит, потом обматывает бинтом, круг за кругом, очень бережно.
— Может, в больницу? — робко спрашиваю я.
— Не надо, — отвечает Шон. — Ничего серьезного, просто глупо, — и он дырявит взглядом Питера, выстреливает в него зелеными пулями своих глаз.
— Что ты устроил вообще? — Фитцджеральд откровенно наезжает на Питера. — Детский сад! Совсем охренел!
Его тон, агрессивный, бескомпромиссный, никак не вяжется с той заботой, с какой он бинтует брату руку. А Питер только бурчит что-то, едва шевеля губами. Наверное, даже Фитцджеральд его не слышит. Я не хочу думать о том, что пытался сделать Питер. Я пытаюсь отвлечься, не смотреть на него. Но куда смотреть? На Шона? Я замечаю на его руках царапины. Он же всегда ходит с длинными рукавами, достающими почти до костяшек пальцев, а сейчас я вижу. Шрамы, тонкие, затянувшиеся. Такие бывают, когда сам себя режешь лезвием, например. Я видела в Бостоне у пары девчонок. Они хотели привлечь к себе внимание, вроде как, разыгрывали несчастных. Запястья Фитцджеральда обмотаны шнурками, но сейчас веревки скатились ниже, обнажая другие шрамы. И у меня мороз по спине, когда замечаю их. Серьезные, уродливые. Такими не шутят.
— Как ты мог… — выдавливает Шон.
— Хватит! Я не просил тебя приператься вообще! — отвечает Питер.
— Заткнись!
— Сам заткнись! Много ты понимаешь!
— Кое-что понимаю, — Фитцджеральд смотрит в глаза брату.
— Почему бы не оставить меня в покое просто, а?
— Так хочется вмазать тебе, — сквозь зубы цедит Шон и сжимает руку в кулак.
— Ну так вмажь!
— Бесишь! Реально ты меня бесишь как никогда никто не бесил!
И Шон бьет кулаком по кровати со всей силы.
— Хватит, Питер! — кричит он и встает. — Хватит! Ты не имеешь права даже думать о таком! Ты герой, мать твою, а ведешь себя как последний трус!
— Хватит называть меня героем!
— Как хочу, так и буду называть!
— Ты не знаешь, каково это, жить с таким лицом!
— Да что ты! Так вот, я бы сейчас же поменялся с тобой! Не задумываясь, черт тебя дери!
Наступает тишина, и она просто бьет в колокол. А потом Питер говорит, уже немного успокоившись.
— Ты видел тогда, как люди в молле на меня смотрели, — он как будто умоляет отстать от него, и я бы, честно говоря, отстала. Но не Шон. Он слушает. — Они никогда не примут меня. Они морщились, отворачивались… Я урод, понимаешь… И никогда…
— Да заткнись ты! — срывается Фитцджеральд. — Заткнись, слышишь! Что ты зацепился за этих людей! Они тебе кто? Ты их знаешь вообще? Они тебя не знают! Ничего о тебе не знают! Да пошли они! И эти дебилы в школе! Им мозгов не хватает в интернете поискать и прочитать! Да если бы они знали, они бы в очередь выстраивались, чтобы заслужить твою дружбу! Но ты зарылся, как краб в песок, забил себе голову какими-то бабами из торгового центра! Да хоть кто-нибудь из твоих друзей там, в Бостоне, отвернулся от тебя? Хоть один скривил рот, изменил свое отношение?
Питер молчит.
— Ну, отвечай! — требует Шон. — Хоть один стал тебя презирать?
— Нет, — как-то виновато произносит брат и опускает голову.
— А меня да! От меня отвернулись все! Меня выперли из команды! Все до одного друзья послали меня! Зато незнакомые люди в торговых центрах смотрят с улыбкой. Да какое мне до них дело! И у меня нет шрамов, Питер! Если бы можно было, я бы… Не знаю… Но если ты так хочешь избавиться от своего ожога, то подумай о его цене! Его цена не слишком велика, чтобы ты так стыдился?
Шону с трудом удается подбирать слова. Он взволнован. Он как будто говорит о чем-то так ему близком. Как будто то, что Питер пытался покончить с собой, его лично как-то очень задело.
— И знаешь что, — Шон стоит теперь почти вплотную к моему брату, который поднялся с кровати, — Я бы, не раздумывая ни секунды, поменялся с тобой местами, стал бы тобой. А ты подумай, было ли тогда, в том пожаре, тебе так же важно, что подумают другие? Шрамы могут исказить лицо, но к ним можно привыкнуть, если остальным наплевать. А уродливую душу никуда не спрячешь. Ладно, — он останавливается так внезапно, как будто вырубили электричество, опускает руки, поднимает с пола свою толстовку, — я пошел. Ну а ты просто не забывай, какой ты крутой.
Питер
Мы сидим с Ритой почти до утра. Она все время плачет, я молчу. Мне так невыносимо стыдно. За этот срыв, за все два года, которые я прятался. Сколько боли я причинил близким, и какую бы отвратительную точку поставил, если бы довел до конца то, на что замахнулся. Хотя, не думаю, что я пошел бы до конца. Это был минутный порыв, но тем хуже он бы закончился. Тем больше стыда он залил бы в меня. Шон прав во всем.
— Ты видел его шрамы? — вдруг спрашивает Рита.
Мы сидим рядом, уставившись перед собой, и она нарушает молчание.
Шрамы Шона ужасны. Я заметил их, когда он бинтовал мой трусливый порез. Я даже вену не задел. А у Шона шрамы внушительные, жуткие, и я думаю, наверное, впервые за последнее время, что есть вещи гораздо страшнее моего лица.
Все заканчивается тем, что мы с Ритой плачем вместе. Я прошу прощения. Она обещает, что ничего не скажет родителям. Я говорю, что постараюсь измениться. Это не так просто, как кажется, я пустил корни в доме — не важно, в каком именно, просто внутри. Я пророс замкнутым пространством, пропитался им. Да, Шон прав. Почему только он, спустя два года после несчастного случая, смог заставить меня поверить, что я герой? Почему вообще людям обязательно нужно, чтобы их в этом убеждали? Потому что мы чаще берем на веру слова тех, кто нас не знает, но не своих близких. Эти слова застревают в нас, как картофельные очистки в стоке кухонной раковины, и мешают проходить воде. Но надо просто включить диспоузер. И Шон стал моим диспойзером — просто пошинковал весь мусор. С ним я ясно увидел, как был неправ в отношении себя.
Когда Рита уходит, на часах четыре утра, но я все же набираю Шона. А перед этим сдираю пластырь с веб-камеры своего компьютера — он отходит так же болезненно, как кусок отторгнутой кожи от моего лица.
— Привет, я подумал, вдруг ты еще не спишь, — говорю.
— Не сплю, — отвечает Шон.
Он лежит на кровати на боку, поэтому его лицо я вижу под углом девяносто градусов.
— Как ты? — спрашивает Фитцджеральд.
— Ничего, пойдет. Я подумал о том, что ты говорил, и знаешь, да, знаешь, ты прав… И я не представляю, как тебе удается видеть меня насквозь… И ты… очень хороший…
После секундной паузы разговор обрывается, и я некоторое время не могу дозвониться до Шона. Потом он сам выходит на связь с телефона.
— Прости, — говорит с ходу, — я раздолбал комп.
— Почему?
— Потому что, на самом деле, Питер, ничего не сделает меня хорошим. Даже дружба с тобой. Разве что ненадолго притупляет это чувство. Но давай не будем обо мне. Со мной все ясно. Ты как? Что решил?
И я говорю ему, что решил собраться, решил больше не делать глупостей и не думать всякие депрессивные мысли. Решил начать понемногу выходить из дома — сначала хотя бы во двор. Решил стараться привыкать к своему лицу и не стыдиться его. Решил не называть то, что было, несчастным случаем.
— Молодец, — подбадривает Шон, — а в универ поступать решил?
— Нет.
— Надо решать.
— Не так быстро.
Я спрашиваю о нем. Он ловко переводит все вопросы в шутки. Но не в этот раз.
— Я не отстану, — говорю. — Я хочу услышать твою историю, Шон.
— Не хочешь, — перебивает он.
— Хочу!
Он вздыхает.
— Думаешь, твой шрам делает тебя уродливым? Фигня все это, Питер! Такая фигня! Подумаешь, лицо. А у кого-то, бывает вот такой же шрам, как у тебя… Только его никто не видит, а ты сам смотреть не можешь на себя в зеркало, потому что внутри все так отвратно, блевать тянет.
— Ты просто расскажи мне. Я пойму. Давай поговорим…
И он рассказывает мне свою историю, предельно честно. Думаю, такой ее не слышал даже его психоаналитик.
Чуть больше года назад в школе Броаднек случился пожар. Был праздник в честь победы футбольной команды, собрались все учителя и ученики. Огонь вспыхнул мгновенно — замкнуло проводку. Все успели выбежать из спортивного зала, а Шон со своей девушкой Мэри-Энн застрял в раздевалке. Что они там делали, вполне понятно. Она была первой красавицей школы, гордостью театральной студии и олимпиад по английскому. Он — квотербеком и капитаном футбольной команды. Хрестоматийная пара. В тот день они наслаждались уединением, когда почувствовали запах гари. Но было уже поздно. Внутри все полыхало, а о них двоих попросту забыли в панике. Никому не пришло в голову проверить раздевалки. Они выбежали, заметались, оказались в разных концах помещения, разделенные полосой огня и едкого дыма. Шон увидел прореху в языках пламени и рванул туда. Он выбрался, а Мэри-Энн осталась в полыхающем зале. Он трясся и рыдал, кутаясь в одеяло скорой помощи. Пожарные заливали пеной спортивный зал. Та девчонка так и не спаслась. Здание школы быстро восстановили, Шона — уже нет. Дело как-то быстро замяли. Не последнюю роль в этом сыграл отец Шона. Заплатил кому-то, чтобы всю информацию удалили из сети и дело замяли.
— Я даже не помню ни фига, Питер, — всхлипывает Шон, — когда меня перехватили пожарные… я не помню… Я просто отключился, вместо того чтобы рвануть назад и вытащить Мэри-Энн. Я ведь мог ее вытащить… Мог ведь наверняка… Но…
Он испугался, выбежал, сломя голову, забыл про все. Он спасал свою жизнь, и потом не переставал себя за это наказывать. Разными способами. Он резал себя, или позволял оскорблять, терпел унижения или ненависть. Я не знаю, что из этого было тяжелее. Я не могу осуждать его, хотя история, конечно, вызывает дрожь.
— Только не говори Рите, — просит Шон.
Я киваю.
— Не хочу, чтобы она меня ненавидела еще больше. Обещаешь, что не скажешь ей?
Я уверяю, что не нарушу обещания. И по тому, как он выдыхает, вдруг понимаю, что Шон, скорее всего, неравнодушен к моей сестре. И как я раньше не замечал этого! Впрочем, я не заглядывал даже под рукава толстовки, чтобы увидеть его шрамы на запястьях, куда уж до того, чтобы разглядеть его сердце. Я говорю, что если он хочет общаться с Ритой, то лучше, наверное, ей не знать о Мэри-Энн.
Я всегда представлял рыжих очень веселыми. Сколько видел рыжих, они такими и были, в основном. И даже Шон. Он всегда подбадривал меня, шутил так громко, что я не слышал за его смехом собственных страхов. И я не замечал, как тяжело ему нести свою вину. Он постоянно называет себя трусом, а я теперь думаю, нужно быть смелым, чтобы в его положении каждый день ходить в школу. Вставать, смотреть на себя в зеркало и идти на уроки, туда, где ты для всех враг, где тебя вычеркнули из жизни, туда, где друзья отвернулись, где всем проще не замечать тебя, чем посмотреть в глаза. Для этого нужно определенно больше смелости, чем для того, чтобы сидеть дома, прячась от людей, которым на тебя наплевать, и отвергать друзей из-за собственных страхов. А потом я думаю, многие ли на его месте поступили бы иначе? Многие бы бросились спасать девушку из огня? Я спрашиваю Шона, если бы все вернуть, поступил бы он по-другому. И он отвечает, что хотел бы, но не знает, хватило бы у него смелости. Он говорит это и ненавидит себя. Но, по крайней мере, он честен.
Рита
Возвращаюсь домой после школы и уже в дверях слышу незнакомые голоса. Я замираю, прислушиваюсь. Впрочем, не такие уж незнакомые. Это родители Фитцджеральда. Они сидят у нас на кухне и говорят с моими. Голос отца Шона вздрагивает, словно листок на порывистом осеннем ветру, и срывается. У меня кожа на руках становится пупырчатая, как огурец, от таких интонаций, потому что мистер Фитцджеральд мне всегда казался человеком холодным и строгим. Так говорил о нем Питер со слов Шона. Так я его себе представляла, когда видела в больнице, разговаривающим с сыном. А теперь он как будто замерзает от собственной беспомощности. Я неслышно сажусь на диван, подмяв ладони под себя, и слушаю. Между большой гостиной и кухней — арка, так что разговор свободно вылетает через нее прямо ко мне.
— Я ничего плохого не хочу сказать, — как будто извиняется мистер Фитцджеральд, — Я вижу, вы хорошие люди, и ваш сын, Питер, отличный парень. Но просто мы переживаем за Шона. Понимаете, у нас с ним очень сложный период. Он закрылся, как будто заперся от нас на все замки. Мы не можем к нему пробиться. Я уже не знаю, что говорить, как реагировать…
— Он никого не подпускает, — вступает мама Шона, воспользовавшись паузой в речи мужа, — и особенно нас. Любое наше предложение встречает в штыки. Как будто мы перед ним в чем-то провинились, как будто мы чужие ему. Конечно, я понимаю, ему непросто после всего, что случилось, но мы нисколько не виним его…
— А он считает иначе, — заключает мистер Фитцджеральд. — Я знаю, он думает, что страшно разочаровал меня, но это не так. И нет для отца большей тяжести, чем видеть, как любимый сын думает, будто ты его презираешь. А я очень ценю его…
— И его смелость, — снова вставляет миссис Фитцджеральд, — да, мы думаем, он очень смелый. Для него ведь тоже все это непросто. Мы понимаем. И хотим помочь…
— Но Шон не принимает помощи. Он бы скорее отстрелил мне руку, чем схватился за нее, если бы тонул. А порой мне кажется, что его засасывает в трясину все глубже, и он не выберется сам.
— Шон замечательный парень, — говорит мама, — такой скромный, улыбчивый, вежливый. Никогда бы не подумала… Но после того, что вы рассказали, я многое понимаю.
Я слушаю все это и осознаю, что сама-то ничегошеньки не понимаю. Все, что говорят сейчас на кухне про Шона Фитцджеральда, вообще не стыкуется с тем, что я наблюдаю в школе. Но я понимаю, что пропустила какую-то часть разговора, в которой его родители все объяснили, самую интересную и важную часть, развязку. Как хорошо в кино или книгах, где развязка всегда следует в конце, и тебе просто нужно набраться терпения, чтобы все узнать. В кухонных разговорах бывает наоборот, и если уж пропустила начало с объяснениями, то к концу останешься ни с чем.
Теперь я уже не думаю про Шона так, как думала прежде. Вернее, старые мысли растворились, но новые еще не собрались, образуя хоть что-то напоминающее картинку, поэтому я теперь совершенно не знаю, что думать. И расцарапанное стекло школьной фотографии у его лица теперь представляется чем-то зловещим, пугающим. Мне вдруг кажется, что я очень-очень ошибаюсь на счет Шона. Мне вдруг кажется, что все ошибаются.
*** *** *** ***
В школе на уроке все учителя собираются в актовом зале на какое-то важное совещание, а нас оставляют читать материалы из учебника. Но когда дети в классе предоставлены сами себе, понятное дело, кто будет читать параграфы. Памела поворачивается ко мне и показывает в Инстаграме своего нового парня. Он студент колледжа, член какого-то общества. На фотографиях они обнимаются и откровенно целуются, играя на камеру. Я видела эти снимки у нее в аккаунте, но раз мой собственный закрыт, Памела считает, что я и другие не смотрю, и каждый раз показывает мне новые посты.
— А вот, смотри, это мы с его компанией, — она листает ленту, — Сейчас найду его профиль, покажу еще. Вот, это мы у него в общаге. Ух, там так круто. Погоди…
Она листает, прыгает из одного аккаунта в другой, открывает фотки и комментирует их. Мне не очень интересно, но я слушаю. Пока не вижу в ровных квадратах новостей фото Питера. То самое, старое, еще из больницы, но переделанное в мем с отвратительной надписью. Памела делает вид, что не замечает этой фотки, и потом еще одной, и еще одной мерзкой карикатуры, и листает дальше так непринужденно, что сразу понятно — все она заметила. А потом я слышу разговор Тима с Найджелом Бойлом. Разговор один из тех, чьи грязные обглоданные обрывки долетают до меня постоянно, прилипают, и я не могу избавиться от них. Они царапаются и саднят где-то в районе грудной клетки. Как жвачка, которую жевали не меньше недели — никак не отскоблить. И привыкнуть нельзя к этим обидным разговорам, которые никогда не ведутся при мне, а всегда как будто отстраненно, даже когда я — вот — сижу на соседнем ряду за партой. Сейчас они говорят про операцию. Они говорят: «Представь, если у него опять выйдет облом, и он навсегда останется уродом». Они говорят: «Значит, судьба такая, чтобы он был монстром и пугал девчонок на Хэллоуин». Они говорят: «Зато костюмчик шить не надо, может, позовем его на выпускной, будет призраком школы». Они не знают, что операция уже прошла, что ничего не получилось. Они даже не представляют, что все их отвратительные слова уже сбылись. Как будто это они и создают реальность своими мерзкими издевательствами. Тим показывает что-то на телефоне. Они говорят: «Смотри, какой же страшный», — и тычут пальцами в экран.
Вдруг воздух режет звук громко отодвигающегося стула. Фитцджеральд шумно встает со своего места, подходит к Тиму.
— Хватит! — кричит он, вырывает у Портера из рук телефон и швыряет со всей силой об стену. — Хватит уже, дебилы!
Следующие секунды тянутся густой смолой, а от тишины, кажется, даже воздух подрагивает. Все уставились на Шона и Тима. Никто не ожидал, что Фитцджеральд подаст голос. Никто уже и не помнил, что у него есть голос.
— Ты что сделал, придурок? — Ошарашено произносит Портер. — Как ты меня назвал?
— Я сказал, хватит! — Стискивая зубы, рычит Фитцджеральд.
— А то что? — У Тима только искры из ноздрей не вылетают, так он разъярен. — Ударишь меня?
Шон не сомневается ни секунды — толкает Портера обеими руками в грудь, тот пятится назад, едва удерживаясь на ногах. По классу проносится громкий выдох. Фитцджеральд восстал, словно Феникс. С огненно-рыжими волосами, веснушками, он похож на одинокий язык пламени, оторвавшийся от костра, пролетевший довольно много и упавший на сухую листву. Я смотрю на разбитый телефон, потом на Шона — он стоит смело, сжав кулаки, и не собирается отступать. Но я представляю, как это задело Портера. Он же лидер, основной квотербек, он гордость школы и самый крутой парень с кучей шестерок.
— Чего стоите! — Бросает он команду своим верным псам.
Осборн Квинс, Джерри Ланкастер и Кевин Даррел срываются со своих мест и хватают Фитцджеральда за руки. Шон пытается стряхнуть их, и выскальзывает из толстовки, но парни тут же снова хватают его и тащат в коридор. Памела смотрит на меня, широко раскрыв глаза от ужаса, но, прочитав ее беззвучный вопрос по губам, я понимаю, что ее шокирует только лишь то, как Шон вообще посмел раскрыть рот. Когда Тим Портер выходит из класса, а следом за ним вываливается толпа остальных учеников, Шон стоит, удерживаемый тремя парнями, так, что его может ударить даже пятиклассник. Он дергается в попытках вырваться, но это бесполезно.
— Будешь так меня бить? — Бросает он в лицо Тиму и искривляет губы в злой усмешке. — Трус!
Портер бьет. Сильно, яростно, по лицу. Потом сразу кулаком в живот, потом пинает ногой. Шон сгибается пополам и повисает на руках Джерри и Осборна. Спустя несколько секунд он поднимает голову и усмехается, и снова получает сильный удар. У него кровь на губе. Еще удар. Через минуту Фитцджеральд лежит на полу, инстинктивно пытаясь закрыться, а Тим и теперь еще остальные бьют. Ногами. А кто не бьет, просто стоит в каком-то благоговейном ужасе, раскрыв рот. Я хочу закричать, чтобы они прекратили, но горло как будто залили клеем — ничего не выходит — только рот открываю и мотаю головой. Шон лежит, корчась от боли, скрючившись, в самом углу, его продолжают пинать.
— А ну, пошли прочь! — громом раздается голос школьного уборщика.
Он появился, словно ниоткуда со своей тележкой, набитой моющими средствами и щетками.
— Быстро разошлись! — голос у него совсем не такой, как я представляла (не думаю, что когда-то слышала, как говорит этот человек) командный, какой-то даже военный, с привкусом ржавчины. — Сюда идет директор, и если он вас застанет, сосунки…
Все как будто просыпаются от кошмара, некоторые даже головой встряхивают, чтобы прийти в себя, и возвращаются в класс. Двигаются мутным вязким потоком, затекают в дверной проем. Памела дергает меня за руку, но я только головой мотаю от ужаса, только глубже врастаю в стену. Мне так страшно и так омерзительно, что я хочу никогда больше не иметь ничего общего с моими одноклассниками. Я не хочу даже принадлежать к тому же виду, что они. Я — как тот шматок кожи, отслаивающийся от лица Питера, не желаю приживаться здесь. Когда все они скрываются в классе, я подхожу к Шону. Опускаюсь на колени и начинаю плакать. Горло все еще склеено, и у меня выходят только хлюпающие звуки. Мистер Крипсон трогает лицо Фитцджеральда, проверяет пульс. Шон не двигается. Но когда уборщик похлопывает его по щеке, тот как будто шевелится и дергает губами. Или мне кажется.
— Не волнуйся, — обращается Крипсон, видимо, ко мне. — Убить человека не так просто. Он крепкий парень, переживет.
Шон
Кровь везде: во рту, в носу, мне кажется, даже в глазах. Дышу кровью, кашляю кровью, она даже кости мои заполняет. Ее металлический вкус всюду. Не помню, что произошло, и безрезультатно отматываю назад свое выступление против Портера. Разбил его телефон. Взорвался из-за Питера. Нет, из-за себя. Видимо, и у трусости есть предел, и когда сосуд заполняется, она выплескивается вот так. Видимо, когда трусость достигает крайней степени, она трансформируется в совершенную глупость. Потому что выступить так откровенно и отчаянно против — не Портера даже — всего класса — это глупость, какую сложно себе представить. Особенно в моем положении, когда все только и мечтали, чтобы дал им повод наконец размазать меня по школьному полу. Не понимаю, где нахожусь и что происходит. Последнее, что помню — удары одноклассников. А теперь кто-то меня куда-то тащит. Ноги волокутся по полу. Потом бьет яркий свет. Потом — провал. Когда снова открываю глаза, сквозь залитую кровью ширму вижу расплывающиеся детали машины скорой помощи и незнакомые лица. Меня везут на каталке. Перед глазами мелькает бесконечность больничного потолка. Как будто моргаю очень медленно и все время хочу что-то сказать, но не могу, да и не знаю толком, что именно. Мысли тоже заполнились вязкой красной массой.
Первый настоящий вдох получается резким и болезненным. Все тело ломит, лицо болит и буквально разваливается на части. В носу — трубки. Пахнет лекарствами и бинтами. Хочу поднять руку и потрогать лицо, потому что мне кажется, что-то прилипло к губе, но не могу. Опять моргаю, а когда открываю глаза, надо мной склоняется врач. У него на золотом бэйдже написано имя, но не могу разобрать.
— А, Шон, — тянет доктор, — очень хорошо.
Что хорошего, не понимаю.
— Как ты себя чувствуешь? — спрашивает он так, будто могу ему ответить, и светит маленьким фонариком прямо в глаз. — Моргни два раза, если понимаешь меня.
Моргаю.
В следующий раз, когда прихожу в себя, у кровати сидят родители. Мама плачет, вцепившись в локоть отца и уткнувшись ему в плечо. Папа только тяжело вздыхает и качает головой, как будто не хочет верить, что это его сын лежит перед ним. Потом в палате появляется Рита, тоже вся заплаканная.
Видимо, здорово меня отделали, если лица у всех такие похоронные. Думаю даже, может, в коме, и все это мне мерещится в предсмертной галлюцинации. Сколько же их было? Сначала трое держали, Тим бил, потом подключился еще кто-то. Глупости, какая разница, сколько. Все было как обычно. В школьных разборках всегда так. Это никогда не имеет отношения к тому, кто сильнее. Это всегда о том, кто слабый. Главное — найти слабого, и на его фоне уже можно рисоваться как угодно. Знаю, сам был таким. Сильным, как Портер сейчас. Он занял мое место в команде, занял его и в обществе. И целый год он искал слабака, чтобы утвердиться в своей силе. На самом деле, все это трусость. Все мы трусы, и Портер трус, и его дружки, они же мои бывшие дружки. А храбрость, это же такая штука, если ее нет, то протез не приладишь, не вживишь ее как микрочип. Ногу или руку можно заменить на искусственную, даже кожу в большинстве случаев можно, даже лицо можно сделать новое, а вот храбрость никак не пришьешь.
Первые дни все обрывками, какими-то лоскутами. Начинаю медленно приходить в себя, двигаться и даже немного говорить.
— Что же такое, Шон… — причитает мама. На нее смотреть больнее, чем ощущать собственные синяки. — Как же так…
— Кто это сделал, сынок? — подключается папа. — Господи, поправляйся скорее. Мы этого так не оставим.
Он что же, не знает ничего? Рита что, им не сказала? И где вообще была Рита, когда все это происходило, наверняка же, рядом? Ничего не понимаю, почему она не сказала моим предкам. Впрочем, это к лучшему — не хочу, чтобы кто-то знал.
Рита приходит через несколько дней. Сидит у кровати, прикрыв рот ладонью, и качает головой. Прямо так по-взрослому, как старушка какая-нибудь, даже смешно немного. Пытаюсь улыбнуться. Больно.
— Почему ты ничего не сказала моим? — спрашиваю.
Рита как будто не понимает и смотрит на меня удивленно.
— Шон, ты же сам просил…
— Да? Правда?
— Ты… — она растеряна и перепугана до заикания. — Когда тебя только привезли на скорой… Ты очнулся и взял меня за руку… и попросил ничего не говорить твоим родителям… никому не говорить… Господи, Шон, ты несколько раз меня об этом просил… Какая же я дурочка! Сейчас же все им расскажу…
— Нет, — хватаю ее за руку, хотя хватаю — громко сказано — беру, пытаясь сжать пальцы. — Не надо, Рита. Спасибо, что не сказала…
— Но почему, Шон? В школе все перепуганы, все на ушах стоят, никто ничего не понимает, и эти козлы, конечно, не сознаются, и весь класс…
— Знаю… Не надо… просто…
— Но их надо наказать, Шон! — Рита повышает голос, и у меня в голове начинает пульсировать. — Нельзя этого так оставлять… Они же тебя могли убить…
— Не надо, Рита. Я заслужил.
Рита
Я сижу под лестницей и плачу, закрыв лицо ладонями. Я не могу находиться среди своих одноклассников, а они ведут себя так, будто ничего не произошло. Как будто Фитцджеральда вообще никогда не существовало. Учителя, конечно, перепугались, но никто ничего не знает. Рита, а ты? — все спрашивали они меня. А что я? Пока Шона везли в больницу, он очнулся два раза, и едва открывал глаза, просил меня, чтобы я никому не говорила. И я ему обещала. И я молчу. Ненавижу себя за это, но молчу. И все молчат. Все, кто смотрел, как его избивали. А значит, и я, и они тоже участники всего этого. Я по просьбе самого Шона, но оправдывает ли это меня? Когда-то я так же пообещала брату, что буду молчать и не распространяться о том несчастном случае, и я держу слово. Но так ли это необходимо в некоторых случаях? Не простая ли это трусость, которой легко прикрыть свое малодушие?
— Вот ты где! — возвращает меня под лестницу голос Памелы. Она смотрит с таким презрением, как будто намеревается в чем-то обвинить. — Как ты могла вообще?
— Что?
— Как ты могла позволять им так говорить о твоем брате?
Вот значит, что! Теперь я еще и в этом виновата! Но Памела-то чего возмущается!
— Почему ты никому не рассказала? — она прямо как заправский прокурор на допросе, и я не могу от нее убежать. — Черт тебя подери, Рита! Ты такая сучка…
— Что? — я ушам своим не верю. Она обвиняет меня?
— Твой брат спас тебе жизнь! — она-таки залезла в интернет и нашла все, что писали про тот несчастный случай, про тот пожар, в котором я должна была погибнуть… — Он спас тебя, а ты молчала, когда все говорили про него гадости? Да если б ты рассказала..! Ну ты даешь! Не ожидала от тебя… И вообще, он там сидит затворником, а ты весь год хвостом крутишь, веселишься тут, гуляешь. Как так можно? Он же из-за тебя таким стал…
Она все говорит и говорит, повторяет одно и то же, а у меня просто голова кружится. Если кому-то что-то объяснять, то уж точно не ей, скорой на выводы и не желающей слушать. Хотя я и себе толком объяснить ничего не могу. Разве что… Невыносимо постоянно думать о брате. Невыносимо смотреть, как он страдает из-за меня. Мне хочется убежать, отвернуться, заниматься чем угодно, только бы не вспоминать, как я виновата перед ним. Когда все это только начиналось два года назад, когда мы только шагнули в эту новую жизнь, полную вины, сожалений и сомнений, я все время плакала, и меня отправили к психологу. Мы тогда долго говорили, часами я рыдала и не могла себя простить. И потом психолог посоветовала отвлечься. Это должно было помочь. Заведи Инстаграм, сказала она, старайся замечать необычные вещи вокруг и выкладывать фотографии. Я так и сделала, а это затягивает. Виртуальная реальность, в которой нет никаких пожаров, шрамов и несчастных случаев, в которой можно стереть вину так же, как не получившийся пост, очень быстро всасывает тебя. И вот, ты уже не человек, не сестра и не дочь, а часть своего собственного Инстаграма. Кто-то переживает об этом, но в моем случае это оказалось очень даже эффективным. Каждый раз, когда мне становилось невыносимо тяжело, когда после разговоров с Питером накатывало чувство вины, я ныряла в красивые квадратные картинки, в залитые солнцем занавески, в чашки с кофе и пышные круассаны на полосатой скатерти, в полки книг отцовской библиотеки, в лужайку у нашего дома. И все растворялось. Реальность маленьких фотографий оказывалась сильнее реальности настоящей. А сейчас, порвав ее в клочья, я осталась не защищенная, уязвимая, наедине со своими слабыми чувствами, ведь от виртуальности настоящие чувства слабеют, и потом очень сложно распознать их, расставить по полочкам. И вот, я сижу теперь перед Памелой, которая в той, виртуальной реальности, все еще остается моей подругой — об этом убедительно говорят взаимные подписки — а здесь, под школьной лестницей, презирает и упрекает меня. Но легко со стороны судить и обвинять, как легко и вступаться за кого-то, о жизни кого ты ничего не знаешь. Всегда легко защищать того, кто на другой стороне, и чем дальше от тебя, тем безопаснее. На самом деле, тебя ведь это не касается. Ты ведь не просыпаешься по ночам от кошмаров, ты не делаешь над собой усилия, чтобы посмотреть в зеркало.
В тот день два года назад мы с Питером гуляли далеко от дома, на поле, где стоял заброшенный дом. Не просто дом, а трехэтажный особняк с подвалом и чердаком. Там было красиво, особенно по вечерам, когда закатное солнце пробивалось розовым светом сквозь прорехи в рассохшихся досках. Питер даже починил старую проводку, так что мы могли зажигать лампу и подолгу сидеть там, болтать о самых разных вещах. В тот день мы позвали друзей, всего набралось человек десять. Мы наделали сэндвичей, лимонада и засели в доме. Мы были так увлечены друг другом, что не заметили, как проводка коротнула в подвале. Мы не заметили даже запаха гари, а уже через пару минут дом вспыхнул. Сухая древесина занялась мгновенно. Все бросились, кто куда, в панике. Кто-то позвонил пожарным. Мы с Питером разбежались в разные стороны. Я помню, как металась по большой кухне, от кладовки к черному выходу, дверь которого полыхала. Потом рванула вверх по лестнице, но огонь преследовал меня. Я забилась в угол в пустой комнате и кричала, пока не наглоталась дыма. Следующее, что помню — звук сирен, и потом — как сижу, кашляя и дрожа, в машине скорой помощи. Мне рассказали, что все выбрались из дома. Пожарная часть была рядом, поэтому расчет приехал быстро. Все отбежали на безопасное расстояние и стали оглядываться. «Где Рита?» — взволнованно спрашивал Питер, не находя меня. Когда он понял, что я осталась внутри, не раздумывая, бросился назад. Я знаю, ребята пытались остановить его, убеждали дождаться пожарных — звуки сирены были уже слышны. Но если бы Питер послушал их, я бы не выжила. Огонь подобрался совсем близко. Я чувствовала жар через закрытую дверь. Брат рванул в горящий дом. Нашел меня и вынес наружу. Он нес меня, когда его лицо уже съедало пламя, когда полыхала его одежда. Едва оказавшись снаружи, он упал, уронив меня на траву. Окончательно пришла в себя я уже в больнице. Я надышалась дыма, у меня была слегка обожжена рука, но не страшно — сейчас шрама почти не заметно. После того, как узнала, что случилось с Питером, я плакала несколько дней. Я не хотела жить и винила во всем себя. Я и сейчас думаю, лучше бы мне было тогда умереть. По крайней мере, один из нас смог бы вернуться к нормальной жизни.
Нельзя так думать, и мне стыдно за эти мысли, но я никак не могу от них избавиться. Смотреть на себя в зеркало и понимать, что у брата никогда не будет нормальной жизни, — это не так просто вынести. Я перестала есть, плохо спала. Мне пришлось ходить к психологу. Я обещала родителям и себе, что буду жить. Я обещала Питеру, потому что он вынудил меня. И я старалась, как могла, притворяться, что выполняю обещания. Я покупала платья, училась, ходила на вечеринки, выкладывала в Инстаграм улыбающиеся селфи. Но все, что я видела в глазах моих друзей, — только жалость. Они не могли смотреть на меня прямо, без закопченного стекла трагедии. Да я и сама до сих пор вижу себя только через это стекло. Переезд на новое место внушил мне немного надежды и уверенности, к тому же, операция Питера обещала быть удачной. Все рухнуло сначала с этой травлей, а потом и с очередным отторжением.
И да, Памела права, я ничего не говорила и не делала, чтобы пресечь оскорбления. Потому что я до смерти боялась. Потому что это значило бы разбить стекло, которым я огородила себя. Я не могла вернуться туда. Поэтому просто еще крепче застегнула молнию, спасающую от мира.
Мне хочется грубо сказать Памеле, чтобы она отстала от меня, но неожиданно она произносит:
— И как после этого ты вообще еще с Фитцджеральдом можешь общаться!
— Мы не общаемся, — отвечаю, пытаясь вырваться из ее разговоров.
— Ты к нему в больницу ходишь!
— И что? Это запрещено?
Памела обзывает меня дурочкой и рассказывает эту жуткую историю про пожар в спортивном зале и Мэри-Энн. Рассказывает, как Шон «выбежал и даже не вспомнил про нее». У меня руки покрываются гусиной кожей, и становится так жарко, как будто я чувствую тот огонь. Памела говорит про Шона очень плохо, называет последним трусом, недостойным, позором школы. Она поливает его грязью, а я вспоминаю вдруг шрамы на его руках и думаю, что ему не так уж легко все это далось. Я думаю, зачем он вообще после всего ходит в школу. Почему не учится дома, как Питер. Может, родители настояли, но это жестоко. И внезапно, в один миг, я понимаю, что все это время происходило с Фитцджеральдом и вокруг него. Весь это игнор был самой страшной травлей, которую я только могу представить. Мы всегда думаем об оскорблениях и насмешках. Нам кажется, лучше бы нас просто не замечали, оставили в покое, не трогали, но это не всегда самый легкий путь. Я слышу по голосу Памелы, как она презирает Шона — почти так же, как остальные презирали в своих насмешках моего брата.
Питер
Глубоко дышать. Не волноваться. Не думать ни о чем. Не думать, что скажут люди. Не обращать внимания на косые взгляды. Я пытаюсь без ярости, жалости и отвращения смотреть на свое лицо в отражении. Пытаюсь смотреть на него так, как смотрел Шон. Мне надо привыкать жить с ним. Но это позже — сейчас нужно одеться и поехать в больницу.
— Дорогой, ты уверен, что хочешь ехать? — мама осторожно заглядывает в комнату, но не видит меня, стоящего в ванной перед зеркалом.
Рука, бок и часть груди покрыты рытвинами ожогов, но все это легко скрыть под одеждой. Даже лицо можно частично скрыть под капюшоном, не спрячешь только мой страх.
— Да, мам, — отвечаю. — Подождите минутку.
Когда появляюсь внизу, в надвинутом на глаза капюшоне, папа обнимает меня, подбадривает.
В машине еще нормально, хотя весеннее солнце светит через стекло так, будто хочет меня спалить. Но чем ближе мы подъезжаем к больнице, тем сильнее дрожь в руках и ногах, которую я не могу унять. На парковке ноги становятся ватными, и мне кажется, я не смогу самостоятельно вылезти. Папа открывает дверь — видимо, я здорово затянул. Три глубоких вдоха, поправляю капюшон, выхожу.
В больнице много народа. Кто-то уставился в телик, висящий под потолком, и эти люди нравятся мне больше всего — им нет дела, ни до меня, ни вообще до остальных. Они ждут, когда их вызовут в нужный кабинет, потом выйдут и поедут домой, так и не оглянувшись. А вот тучную афро-американку за стойкой регистратуры и стройную девушку позади нее я сразу начинаю ненавидеть. Они буквально прилипают ко мне взглядами. Вроде как, и смотреть-то не особенно приятно, и понимают, что неприлично, но как будто оторваться не могут.
Рита ждет у палаты Шона. Говорит, он спит, и нас пустят, как только проснется. Тут же его родители, мистер и миссис Фитцджеральд, как-то странно смотрят на меня, не то с жалостью, не то с обвинениями. Я не знаю, что они знают обо мне и известно ли им, что Шон сейчас в больнице фактически из-за меня. Мне даже хочется подойти и извиниться, но я не очень понимаю, как это сделать и что сказать. К тому же, Рита садится рядом и останавливает мой порыв вопросом.
— Ты знал про ту девочку, Мэри-Энн, и про пожар? — робко произносит она шепотом.
— Да, — отвечаю, глядя в пол.
— Почему не рассказал мне?
Это звучит как обвинение в предательстве. И это обвинение вполне оправдано, ведь мы всегда всем делились с сестрой.
— Шон попросил не говорить.
В палату нам разрешают войти после того, как оттуда выходят родители Фитцджеральда. Мама его очень уставшая и встревоженная, отец вымотан, как будто марафон пробежал. Только что пот градом не льется — это его и выдает.
Когда вхожу, теряюсь. Я не знаю, с какой стороны удобнее подойти к кровати, чтобы Шон видел только левую часть моего лица, и чтобы еще Рита не видела правую. Где-то очень глубоко в сознании я понимаю, что и ему, и ей нет никакого дела до моего шрама, но не могу избавиться от этой привычки. В итоге, после долгих колебаний, подхожу слева и встаю, чуть развернувшись к окну.
— Ты все-таки выполз из своей норы, — вместо приветствия произносит Шон, — Рад тебя видеть, Питер. Спасибо, что пришел. Я, видишь, не очень-то…
— Да нормально ты, — вру, потому что, конечно, выглядит Шон страшно.
С лица еще не спала опухоль, под обоими глазами фиолетово-лиловые синяки, скулы разбиты, бровь и губа зашиты, голова перевязана, из носа вьются эти дурацкие трубки. А еще рука в гипсе от кисти до локтя.
— Нормально, ага, — ворчит он и усмехается, — как апельсин после соковыжималки.
— Мне жаль, — говорю, — что из-за меня тебе так досталось…
— Это не из-за тебя, — очень серьезно перебивает он. — Ты тут вообще ни при чем.
— Не говори так! Никто такого не заслуживает, даже ты… — я осекаюсь мгновенно от этого идиотского «даже». Как я мог вообще такое сказать, я ведь так не думаю! Не мыслю этим «даже».
Шон, конечно, сразу за него цепляется.
— Даже, — пытается улыбнуться он.
— Я не то хотел сказать! Черт! Ты же понимаешь…
— Да не парься ты, Питер. Понимаю. Я же тебя знаю. Но откуда тебе-то знать, чего я заслуживаю…
— Ты много чего заслуживаешь…
— Да брось, — и после долгой паузы, вглядываясь в меня, как в мерцающий на горизонте свет, — Не переживай ты так. Можешь не отворачиваться. Правда, расслабься уже. Вон, на меня посмотри. Еще и болит все, ты не представляешь…
— Все равно, — настаиваю, — Спасибо. Я перед тобой, своего рода, в долгу теперь.
— Ой, ладно тебе! Так рад вас видеть!
Он переводит взгляд на Риту. Они просто молчат, но каким-то образом я понимаю, что Шон знает — Рите про него рассказали. Господи, надеюсь только, он не подумает на меня. Я понимаю это по его выражению лица, по глазам, которые моментально гаснут, как будто пробки выбило от напряжения. И я, наконец, понимаю, насколько же сильно Фитцджеральд влюблен в мою сестру. Это для меня настолько невероятное открытие, что я чуть вслух не ругаюсь. И тут же думаю, интересно, он начал со мной водить дружбу, чтобы быть поближе к Рите. Но нет, вряд ли.
Молчание бы накачивалось, как воздушный шар, и вытеснило бы нас из палаты, если бы не зашел врач и не сказал, что нам уже нужно оставить пациента в покое, дать ему отдохнуть. Я замечаю, как этот доктор, крепкий мужчина лет сорока пяти, с усами, аккуратной бородой и густыми бровями, останавливает на мне взгляд и тут же со скрежетом отрывает его — как будто скотч отрывает от кожи, резко и неуклюже, даже след остается.
Шон
В школе обстановочка — как будто ничего не было. Как будто есть некая степень не-смотрения на человека. Казалось бы, если не смотришь — ну и всё. Но нет, эти на меня не смотрят прямо так обжигающе, что воздух становится тяжелым. У меня болит нога, немного хромаю, кисть ноет в гипсе, на лице еще не зажили шрамы. Хоть синяков больше нет, и на том спасибо. Это мало волнует, когда никто не смотрит на тебя. Но боже, они же при этом просто как на иголках! Учителя вообще в недоумении. Похоже, и мистер Крипсон молчит. Ну, тогда все хорошо. Не собираюсь ничего рассказывать, ни на кого жаловаться, подавать какие-то заявления или кого-то обвинять. Получил, что заслужил. Уже давно надо было это сделать. Да и пусть идут на фиг — не хочу связываться.
Мы входим в класс вместе с Ритой, и сразу воцаряется тишина.
— Фитцджеральд, Грейсон, — объявляется в начале урока мистер Шин, — пройдите к директору прямо сейчас, пожалуйста, он вас ждет.
Воздух колет иглами спрятанных взглядов. Они не то чтобы боятся меня, просто, думаю, не знают, как можно бы еще больше ненавидеть. Но не собираюсь ничего рассказывать. Выдохните, засранцы.
— Я не понимаю тебя, Шон, — негодует и разводит руками директор, — Ты говоришь, что не знаешь, кто это сделал? Зачем? Все же вполне очевидно, но мы не можем никому ничего предъявить без твоих слов, без твоего обвинения!
Рита смотрит на меня почти умоляюще. У нее даже губа нижняя чуть подрагивает.
— Я никого обвинять не буду, — говорю тихо, не глядя на директора.
— Это неправильно, Шон! — возражает он.
— Я много чего неправильного сделал, этим вряд ли усугублю.
— Рита? — Директор требовательно обращается к ней тоном заправского мастера пыток.
Но Грейсон только головой мотает и закрывает лицо ладонями.
— Шон, ты должен сказать! — голос его становится звонче и тверже. — Этого нельзя так оставлять, понимаешь ты…
— Да ладно! Вам наплевать было весь год. Всем. Наплевать, как они ко мне относились, когда взламывали мой шкафчик. Вам, и учителям тоже, было выгоднее не замечать меня, чем признаться. Ой, и сейчас не замечайте, а!
Уже бы закончить, но в дверях кабинета вдруг возникает мистер Крипсон. Его только тут не хватало! Он что, пришел меня сдать?
— Да-да, Конни, — гостеприимно машет ему директор, — проходи! Мы как раз разговариваем с ребятами.
Впервые кто-то обращается к нашему уборщику по имени. И это плохой, очень плохой, знак. Черт, Крипсон, нет! Смотрю на него в упор, как будто хочу остановить взглядом, а он таранит пространство, прорываясь. Идет медленно, берет стул, садится рядом со мной. Ну нет же, черт!
— Что скажешь, Крипсон? — очень официально обращается к нему директор. — Шон молчит, мы ничего так и не знаем. Ты ведь вызвал скорую?
Он кивает и смотрит на меня.
— Это ненужный героизм, парень…
— А это никакой не героизм вообще! — обрываю.
— Такое нельзя спускать. Никому. И дело тут не только в тебе и твоих принципах.
Решаю лучше помолчать.
— Вы вообще понимаете, — строго, как будто отчитывает, говорит Крипсон теперь директору, — что тут у вас произошло? Толпа избила парня до полусмерти средь бела дня. Одни били, а другие подбадривали. Вашу мать, такое даже в тюрьмах и на войне не происходит. Я бывал и там, и там, вам известно, но такого не видел. Чтобы все разом… Накинулись на одного парня, остервенело, с такой ненавистью… — он грубо ругается, и директор бросает на него укоризненный взгляд. — Они бы точно его убили, черт подери, если бы я не появился.
— Но если Шон не назовет их, мы ничего не сможем сделать, Конни! — директор как будто пытается нападать, но с Крипсом такие штуки не проходят.
Он вытаскивает туза из рукава. Да какого там туза — джокера.
— Я не успел сказать вам, что починил камеру там, в холле, как раз двумя днями раньше.
И он кладет на стол диск, на котором очевидно запись всего, что произошло. И понятно, что эта камера установлена так, что с нее все очень хорошо видно. Вскакиваю со стула, хватаю рюкзак и выбегаю из кабинета. Бегу до лестницы, и там ногу простреливает сильной болью в районе синяка. Матерюсь, останавливаюсь и утыкаюсь лбом в стену.
Не знаю, сколько времени проходит, прежде чем около меня появляются Рита и мистер Крипсон.
— Теперь все будет правильно, — говорит он.
— Я думал, мы друзья! — выдавливаю сквозь зубы.
— То, что они сделали, должно быть известно. Они должны быть за это наказаны, Шон. Это все даже не имеет отношения к тебе…
— А я должен быть наказан, за то, что не сделал?
— Ты уже достаточно наказан, думаю. Это затянулось. Потому что никто никогда не накажет тебя больше, чем ты сам. Ты проявил однажды человеческое чувство, страх, это нормально. Они вели себя как звери, как свора бешеных собак. Таких надо отстреливать, если хочешь мое мнение, парень, — он вздыхает. — Ладно, остынь пока. Сам все поймешь когда-нибудь.
Мне хочется оскорбить его, сказать что-нибудь очень обидное вслед. Но что, в самом деле, может обидеть мистера Конни Крипсона.
— Шон, пожалуйста, успокойся, — Рита касается моей руки, кончиков пальцев, потому что все остальное скрыто под гипсом.
— Отстань!
— Перестань себя корить, — голос у нее мягкий, тихий.
Она теперь касается моего плеча.
— Так нельзя, — продолжает она. — Во-первых, ты не знаешь, как бы все сложилось, если бы ты тогда кинулся в горящий спортзал…
— Что? — открываю рот и выпучиваю на нее глаза.
В самом деле, не понимаю, куда она клонит. В смысле, как бы сложилось?
— Вы могли оба сгореть.
Открываю рот, чтобы сказать, какую она сейчас несет чушь, но Рита не позволяет перебить себя.
— Могло быть две смерти. Две несчастные семьи, вдвое больше горя, Шон. Я знаю, может, это звучит кощунственно, но две смерти всегда больнее, чем одна, и то, что ты остался жив…
— Перестань! — наконец возражаю. — Это чушь! Я мог спасти ее!
— А мог и не спасти, — она смотрит мне в глаза и закусывает губу. — А мог… Даже если бы спас… А если бы покалечился? Думаешь, легко было бы ей каждый день смотреть на тебя? Я знаю, о чем говорю, поверь. Я провела слишком много дней, думая, что лучше бы Питер не бросался тогда меня спасать. Он бы остался здоровым, красивым… Ты не представляешь, как я жалела, и жалею до сих пор, что он полез в огонь! Ты говоришь, он герой. Да. Но жить рядом с таким геройством ничуть не легче, чем жить с твоим чувством вины. И если уж честно, то, я думаю, что большинство, да почти все, поступили бы так же, как ты. Я сто раз думала, а смогла бы, а бросилась бы я в огонь, если бы тогда там оказался Питер. И знаешь, скорее всего, нет. Струсила бы. Потому что люди боятся. Потому что это естественно. И никто не заслуживает того, на что ты сам себя обрек, Шон.
— Но я все равно виноват…
— Я знаю. И я виновата в том, что случилось с Питером. Я струсила тогда, забилась в самый дальний угол дома, хотя могла в самом начале пожара рвануть и выбежать. Могла, знаю. Но струсила. И корю себя за это каждый день.
Мы долго потом стоим молча с Ритой в пустом школьном коридоре. Мне нечего ей возразить. Мы касаемся друг друга кончиками пальцев.
— Почему ты здесь? — спрашиваю, а в горле — как будто лезвие поперек застряло.
— В смысле? — не понимает она.
— Почему ты вообще со мной разговариваешь?
— Ты знаешь, где похоронена эта девушка, Мэри-Эн? — игнорирует или в правду не слышит мой вопрос Рита.
Киваю.
— Ты хоть раз был на ее могиле?
— Нет.
— Надо сходить.
— Сейчас?
Она берет меня за руку и тащит к выходу.
Мы идем вдоль дороги по узкому асфальтированному тротуару, держась за руки. Солнце высоко и светит ярко. Мы идем мимо «Бургер Кинга», мимо уютных домов с постриженными лужайками. Машины едут по своим делам, как будто существуя в параллельной реальности. Сзади слышится едва уловимое пошаркивание и потом вдруг — велосипедный звонок. Вздрагиваю, отшатываюсь в сторону, чуть не сваливая Риту. Велосипедист проезжает, даже не оглянувшись. Когда подходим к кладбищу, ноги у меня становятся словно чугуном залитые. Мы останавливаемся у дороги, прямо на бордюре. Для меня шаг с него — как шаг вниз с крыши небоскреба. Дыхание сбивается. Приходится сильно сжимать зубы. Оказаться у могилы Мэри-Энн — это даже хуже, чем посмотреть на себя в зеркало. В сто раз хуже. Это все равно как посмотреть ей в глаза, мертвой. Рита тянет меня. Волочусь следом, как сломанная игрушка.
Мы находим могилу. Серый камень, с которым Рита тактично оставляет меня наедине. Меня прошибает слезами. Как будто кто-то сзади ударяет по ногам, они подкашиваются. Падаю на траву на колени. Читаю буквы имени и реву, реву, шмыгаю, не в силах остановиться. Даже сказать ничего не могу. Потом облокачиваюсь руками о камень и снова плачу. Долго, наверное, потому что сил совсем не остается. У меня даже мыслей никаких нет — все их передумал за прошедшее со дня пожара время. Сейчас мне бы даже нечего было сказать Мэри-Энн, явись она ко мне с того света. Кроме, конечно, бесконечного прости. Но от этого мало толку. И вдруг — как прорывает. Начинаю резко, глубоко, отрывисто дышать. Как будто кислорода не могу нахвататься. Как будто не дышал все это время. Нет, не то, что стоял у могилы — как будто не дышал все эти месяцы, больше года, со дня пожара. Как будто был в коме и вдруг очнулся. И так больно в груди. В легкие словно кислоты накачали. Но потом отпускает. Чувствую, как Рита берет меня за руку. Мы возвращаемся к школе и едем домой.
Питер
Мы лежим на газоне на заднем дворе нашего дома, я, Рита и Шон, соприкасаясь головами, и смотрим на проплывающие облака. Это Шон, конечно, нас вытащил. После того, как я пришел к нему в больницу, он думает, что мне стало очень просто уговорить себя выйти, но это не так. Почти ничего не изменилось, но, по крайней мере, мне захотелось уговаривать себя.
— Когда так касаешься головами, — говорит он, — можно угадать мысли другого человека.
Это, собственно, и была причина, зачем нам всем непременно нужно было вылезти из дома. На свежем воздухе лучше думается, сказал Шон.
— Какая-то фигня, тебе не кажется, — смеется Рита.
— Точно, — подхватываю.
Сестра держит меня за руку, и в том, как она слегка сжимает мне пальцы, я чувствую ее радость. В последнее время у них в школе просто жуть что творилось из-за того случая с Фитцджеральдом, поэтому видеть Риту действительно радостной, чувствовать это через ее руку — для меня много значит.
— Да точно! — настаивает Шон, он щурится, закрывается рукой от солнца, — Ну давай, Рита, попробуй угадать мои мысли. — Ты, вот, наверняка думаешь, какое платье надеть на выпускной, — Шон поворачивается, приподнимается на локтях и смотрит на Риту.
— Ну конечно, — она толкает его легонько, чтобы он вернулся в положение лежа, — только об этом я и могу по-твоему думать!
Она достает телефон, поднимает его на вытянутую руку и фотографирует нас. Я успеваю повернуться левой стороной лица, чтобы не испортить кадр.
— Не надо, Рита! — говорю.
Сестра долго всматривается в фотографию на экране.
— Брось, Питер, — отвечает, — здорово получилось! Правда!
— Хватит! — обрываю. — Надеюсь, ты нигде не собираешься выкладывать это.
— Не волнуйся, не буду. Но смотри, как здорово!
Я только морщусь, мельком взглянув на экран. Да, моей уродливой половины не видно, но это не значит, что ее нет. Раньше Рита не снимала меня. Да никому это даже в голову не приходило.
— Ну-ка, дай-ка посмотреть! — Шон неожиданно вскакивает и наваливается на нас. — Круто! Скинь мне фотку, — просит он сестру.
— Вот только ты не выкладывай в Инстаграм! — шиплю, раздражаясь и поднимаясь, отталкиваю Шона. Я знаю, он может что угодно сделать.
— Да у меня и нет Инстаграма!
Он налетает на меня, обнимает за шею и показывает фотографию. Он говорит, что фотка, правда крутая, и улыбается. А я смотрю, как его веснушки светятся на солнце, делая Шона еще более рыжим, чем он есть на самом деле, как искрится его улыбка. Я мог бы позавидовать ему, если бы не знал, что прячется за ней.
— Я поставлю ее на твой звонок, — сообщает Шон.
Эта фотография — один миг, такой короткий, ускользающий, когда мы все трое кажемся беззаботными и счастливыми. Солнечный луч широкой полосой лежит на лице Риты, ее голубые глаза кажутся из-за этого очень светлыми. Веснушчатое лицо Шона и его ярко рыжие волосы прямо горят. От такого количества света даже весенняя трава кажется по-осеннему желтой. Если бы мы могли застыть в этом миге и остаться такими навсегда. Если бы, как на фотографии, никогда никому не была бы видна правая сторона моего лица. Если бы не были заметны порезы и шрамы на руках Шона. Если бы не вечные прятки и усталость Риты, потому что в школе черти что творится. В общем, если бы не тысяча уродливых обстоятельств, мы могли бы быть такими счастливыми всегда.
*** *** ***
— У нас будет выпускной, — сообщает Шон. — несмотря на всю эту заваруху. В итоге же никакой полиции…
— И я этого не понимаю, — говорю как могу холодно.
— Да ладно! — он машет рукой и потом резко меняет тему, как только он один умеет. — Рита сказала, что хочет пойти со мной.
— Круто.
— Но я думаю, тебе надо пойти…
— Нет! — сразу обрываю.
— Но Питер!
— Даже не думай!
— Тебе вообще-то нужно пойти…
— Хватит! — я разрыдаться готов прямо перед ним. Ненавижу, когда он начинает давить. В итоге я всегда ломаюсь и уступаю, хотя и не хочу. — Нет! То, что я пришел навестить тебя в больнице, ничего не меняет! Я не выхожу из дома…
— Да сто раз уже выходил! Даже в торговый центр…
— Ты не сравнивай! — огрызаюсь. — Это долбанная школа!
— И что?
— То!
— Да брось! Они уже всё погуглили и знают про тебя. И им всем знаешь как стыдно!
— И что?
— То! Они глаза на Риту поднять боятся. Ты в курсе вообще, они ей даже письмо написали, коллективное, ага, с извинениями!
— А перед тобой…
— Я другая история, — он машет рукой как всегда.
— Не другая!
— Брось, Питер! Не увиливай! Пойдем с нами на выпускной! Рите будет приятно…
— Заткнись, Шон! Я сказал нет!
— Ты сказал в больнице, что в долгу передо мной и что угодно для меня сделаешь, — продолжает он, — ну, или что-то в этом роде. Так вот…
— Так вот, ты охренел! — срываюсь и сильно повышаю голос. — Я ни-ку-да не пой-ду. Всё. Точка. Конец дискуссии.
Это просто выводит из себя. Честное слово. Зачем он так, эгоист долбанный! Зачем ему вообще вытаскивать меня постоянно. Я в ужасе до сих пор от того похода в молл. А тут, школа. Школа, где последние полгода надо мной издевались, где гадких мемов со мной появилось больше, чем во всем интернете с Леди Гагой. А теперь мне что, самому к ним явиться? Шон спятил. Извинились они, ну и что! Не понимаю, зачем он так, зачем все время пытается растормошить. Неужели ему никак не смириться, что его друг затворник и урод. Тогда зачем было вообще заводить дружбу? Я опять останавливаюсь на мыслях о Рите. И Шон делается вдруг очень серьезным, садится на кровать, запускает руки в свои короткие рыжие волосы, как будто хочет их вырвать.
— Я влюблен в Риту, — говорит он, и это для меня не неожиданность.
— Ну и отлично, — отвечаю, — Что мешает пойти с ней на выпускной?
— Она заслуживает лучшего.
— Ой, только не начинай опять! Не надо разыгрывать из себя жертву!
— Я не разыгрываю! Блин, при чем тут жертва! Ты прекрасно знаешь, кто я! И кто твоя сестра! Ничего хорошего нет в том, чтобы явиться на выпускной с таким, как я. Как бы ты ко мне ни относился, у меня есть определенная репутация, которая как грязь, уже впиталась в кожу, и не отмыть. В общем, радости мало со мной прийти на главный праздник школьной жизни. А вот если бы ты там был…
— Стоп! Хватит!
— Да послушай! Если бы ты там был, они бы свои языки сожрали вместе со всем говном, которое на нее вылили. Прости, Питер, что я не заступился за тебя раньше… Надо было…
— Да перестань, говорю же!
Он не отстает с выпускным. Все давит и давит, прет, как танк. Кажется, его остановить можно только ядерным авиаударом.
— Ты эгоист! — неожиданно заявляет Шон. — Думаешь только о своих страхах! Да при чем тут я, вообще! Да насрать на меня! Рита заслуживает быть гордостью школы на своем выпускном. Особенно уж после того, что на нее свалилось. А явится со мной, так будет в уголке стоять. Ради нее, Питер!
— Она об этом не просила.
— И не попросит! Ну что ты как маленький! Ты же понимаешь, что твоя травма и для нее тоже травма.
Утром за завтраком, перед тем, как Рита уезжает в школу, я спрашиваю, хотела бы она, чтобы я был на ее выпускном. Ну, если бы у меня было все нормально с лицом, конечно. Она обнимает меня и отвечает, что, безусловно, хотела бы. Я не даю ей договорить, убегаю к себе. Я знаю, что расстроил ее, сорвавшись так на полуслове.
Я думаю об этом весь день, говорю с психологом, и она, естественно, поддерживает Шона. Смотрю на себя в зеркало и решаю, что ни за что не пойду. Я даю себе обещание, что никогда больше ни по какой причине не выйду из дома. Это мое решение, и никому его не понять, никому его не изменить. Потому что никто не был на моем месте.
Рита
Шон приходит немного раньше запланированного. На нем смокинг. Очень непривычно видеть его в таком виде. Даже не представляла себе Фицджеральда без джинсов и вечных толстовок, которых у него точно штук сто. А теперь он открывается для меня каким-то совершенно другим. И хотя веснушки и рыжие волосы оставляют этот дерзкий хулиганский образ, все же торжественный вид придает Шону странный непривычный шарм. Он, кажется, чувствует себя в этой одежде некомфортно. Надо же, я и подумать не могла, что этого парня можно засунуть в смокинг. Шрамы на губе и на брови еще заметны. Волосы как обычно растрепаны. Не знаю, специально он сделал это или решил хоть что-то оставить от себя настоящего. Я улыбаюсь, разглядывая его. Мама осыпает Фитцджеральда комплиментами. Шон теряется и опускает глаза. В начале года могла ли я подумать, что пойду на выпускной с этим парнем, которого никто не замечает, к которому все относятся с нескрываемым презрением. Могла ли я подумать, что все так изменится и мне будет наплевать.
Шон быстро спрашивает, готова ли я, и, сломя голову несется наверх. Говорит, что заглянет только на секунду к Питеру. Брат, конечно, не идет с нами. Он заперся у себя и даже выходить отказывается. Для Шона это не помеха — он уже стучит в дверь комнаты Питера. А через десять минут они спускаются. Оба. И на Питере тоже смокинг, и никто из нас не может поверить, что он идет на мой выпускной. Брат скован и так напряжен, что, кажется, вот-вот взорвется. Губы плотно сжаты, дыхание медленное, как через аппарат искусственного обеспечения. Он как бетонная статуя, которую чтобы сдвинуть с места, придется вызывать подъемный кран. Мы, конечно, тоже выглядим не лучшим образом, ошарашенные, то и дело переводящие взгляд с Питера на Шона, как будто спрашивая Фитцджеральда, как ему вообще удалось. А он только обнимает Питера, подбадривает и улыбается. Мама закрывает рот рукой и не может сдержать слез.
— Какой ты красивый, сынок, — говорит она сдавленным голосом.
— Мы так рады, что ты решил пойти, — поддерживает папа.
Я обнимаю Питера крепко-крепко. Говорю ему спасибо на ухо. Я рада, хотя не представляю, как брат будет чувствовать себя, ведь там такая толпа — не спрячешься. Там куда ни повернись — всюду люди, и кто-то обязательно будет видеть его лицо. Я беру Шона за руку, мы выходим последними, немного отстав от остальных.
— Как тебе удалось? — спрашиваю тихо.
Он только плечами пожимает. И тут я вдруг думаю, для Питера же это сущая пытка. Не надо с ним так. Пусть лучше остается дома, без стрессов. Меня вдруг накрывает волной ненависти к Фитцджеральду. Внезапно. Зачем? Что бы он ни придумал, какие бы доводы ни приводил, для Питера это даже не стресс. Это катастрофа. Он два года не высовывался и сгорал от страха при любом упоминании выхода из дома. А теперь…
— Может, не надо? — я подбегаю к брату, когда он уже садится в машину. — Питер, если не хочешь, не надо идти! Если тебе трудно…
Он поворачивается и смотрит мимо меня на Шона, то ли с ненавистью, то ли с мольбой, то ли с благодарностью. Такой взгляд — никак не описать, убийственный, невыносимо пронзительный. Потом улыбается мне едва заметно, кивает и садится в машину.
Мы втроем едем на заднем сидении, и всю дорогу Шон шутит, смеется и пытается нас развлекать. И сначала мне хочется врезать ему, но потом я вдруг замечаю, как ему непросто быть таким, как будто веселым. И даже не из-за того, что он тоже, несомненно, переживает за Питера, а просто потому что для него этот поход на выпускной не меньший вызов. Я вдруг понимаю, что если бы не позвала его, Шон бы вообще не пошел.
Что происходит на вручении аттестатов, когда появляемся мы, просто не описать. Ученики, особенно мои одноклассники, особенно все, кто так задорно и яростно придумывали мерзкие шутки про Питера, становятся похожи на лего-человечков. Полный школьный двор лего-человечков, у которых ноги и руки не гнутся в коленях и локтях. Они уставились на Питера и расступаются, едва он появляется рядом. И никто даже не перешептывается. Это просто идеальный выпускной с идеальной дисциплиной.
После торжественной части все разбредаются перекинуться парой слов с друзьями и учителями, директор вылавливает из толпы родителей, многие обнимаются. Памела подходит к нам, поздравляет, потом смотрит на Питера, протягивает ему руку, говорит, что он настоящий герой. Шон в это время строит такое выражение лица, что заметив его, Памела тут же ретируется. Остальные по-прежнему не замечают Шона, не здороваются, не подходят. А он… Я не сразу понимаю, потому что такое даже мне в голову не приходит, но Фитцджеральд держится так, чтобы всегда немного прикрывать Питера справа. Когда до меня доходит, я даже сама себе поверить не могу и медленно опускаюсь на белый раскладной стул, какие здесь расставлены повсюду. Я начинаю наблюдать внимательнее и с каждым поворотом Шона убеждаюсь в своей догадке. Это словно гром в ясную погоду. Фитцджеральд всегда ведет себя с Питером так естественно, будто вообще никакого шрама нет — даже мы в семье так не можем. Мы как будто постоянно спотыкаемся, а Шон бежит свободно и быстро, преодолевая препятствия. Но никому из нас не пришло бы в голову так ограждать Питера. Шон двигается, словно его тень, в то же время периодически радостно обнимая и разворачивая в противоположную сторону. Выглядит сумасбродно и даже нелепо, как будто Фитцджеральд эдакий весельчак, вечно куда-то спешащий, вечно нарасхват. Но мне-то все ясно. Когда я на секунду ловлю взгляд Питера, он улыбается уголками губ, и даже я не успеваю заметить правую половину его лица.
В забитый выпускниками спортивный зал они входят вместе, в обнимку. Свет приглушен, на стенах мерцают гирлянды, отражаясь в глянцевых белых флажках. Кто-то наливает себе газировку, кто-то уже танцует. Девчонки жужжат сплетнями и обсуждениями, кто куда уезжает. Парни потише, но тоже говорят без умолку, разбившись на маленькие группки. Я стою у стены одна. Ко мне подошел Тим Портер, сказал, что у меня классный брат. Потом подошла Памела, снова извинилась за то, что плохо обо мне думала. Потом еще пара девчонок и парней. Кто-то спросил из вежливости, куда я все же поступила, кто-то поздравил одним коротким предложением. Никто не хотел показать, что мы снова друзья, но каждый хотел остаться чистым, как будто не причастным ко всему, что творилось последние полгода. Все поставили себе галочки, что уделили мне внимание, и теперь я стою у стены одна и больше всего на свете хочу сбежать отсюда. Такого отторжения я не чувствовала даже, когда они травили Питера. Тогда они, по крайней мере, были честными. А лучше уж иметь дело с честными засранцами, чем с лицемерными двуличными умниками. Если вы так не думаете, значит, никогда не встречали настолько лживых умников, какими обычно кишат школы. Потому что от подонка, по крайней мере, знаешь, чего ждать — он плюнет в лицо, оскорбит, даст пощечину, а к этим не вздумай поворачиваться спиной. Я чувствую себя китом, выброшенным на пустынный берег в яркий солнечный день. Даже полутьма зала не скрывает меня. Это отторжение почти физическое, от которого ломит руки и пульсирует в висках. Мне хочется закрыться на все замки, залезть в скорлупу, в панцирь, куда угодно, чтобы только не быть среди всех этих людей. Я уже готова убежать, но тут в зал входят они. Шон обнимает Питера. Питер тянется к нему ухом, вслушиваясь сквозь музыку и рокот голосов, в то, что говорит Фитцджеральд. Оба в смокингах, белых рубашках. У Шона воротничок расстегнут, а галстук мотается, как скакалка, на шее. Они выглядят вполне беззаботными и счастливыми. Они выглядят вполне свободными и… О боже! Да они пьяны! Не сильно, но могу поклясться, оба выпили. Шон утащил Питера куда-то и сказал, чтобы я ждала их здесь. У меня рот непроизвольно открывается, и челюсть вот-вот упадет на пол. Я видела, как Питер пил однажды, нам было по двенадцать, мы стащили у отца из бара бутылку скотча, сделали по глотку и так долго плевались, что брат поклялся больше не брать в рот алкоголь. Когда они подходят, и я уже хочу возмутиться, Шон обнимает меня.
— Я так рад, что мы вместе тут, все втроем, правда, — говорит он.
— Вы что, пили? — спрашиваю, пытаясь выглядеть строгой, но на самом деле выходит как-то смешно.
Оба отрицательно мотают головами, что определенно значит да.
Мы остаемся на празднике какое-то время, но задолго до того, как объявят короля и королеву вечера, Шон говорит, что его родители разрешили нам всем вместе поехать в их дом за городом.
— Нет уж, — отказывается Питер, — с меня хватит. Отвезите меня домой.
— А ты как, Рита? — Шон смотрит на меня сквозь полутьму, в его глазах играют блики школьной светомузыки.
— Поехали, — отвечаю.
Мы завозим брата домой. Шон выпрыгивает из машины, и они крепко обнимаются на улице. Что-то говорят друг другу, жмут руки.
Дом Фитцджеральдов одноэтажный, всего с двумя спальнями и небольшой гостиной, зато с широким крыльцом. Ночь здесь темная, небо усыпано звездами, которые так напоминают веснушки Шона. Сверчки стрекочут.
— Как надоел-то этот смокинг долбанный, — ворчит Фитцджеральд, едва мы входим в дом, и снимает пиджак.
Он бросает его на диван, расстегивает рукава рубашки.
— Ты не против, я переоденусь быстренько? — спрашивает он, — а то эти брюки меня угробят.
Он скрывается в комнате, не дожидаясь моего ответа, а я разглядываю дом. Здесь пахнет кедром — все отделано им, стены, потолок. Мебель и полки для книг тоже деревянные. На стенах — семейные фотографии, фотографии Шона в футбольной форме со шлемом под мышкой. Фотографии, где он совсем маленький, играет на пляже. Снимки его родителей, счастливых, обнимающихся. На полках — старые книги, свечи, статуэтки. Маленький журнальный столик, тоже деревянный, накрыт ажурной вязаной салфеткой. На одной из полок выставлены три бумажных макета маяков, аккуратно раскрашенных, наверняка, сделанных Шоном. Сам он появляется из комнаты в потертых разодранных джинсах и серой футболке с эмблемой Нью-йоркского университета. Очень быстро Фитцджеральд достает откуда-то бутылку вина и два бокала, быстро извлекает пробку, наливает, один бокал протягивает мне. Мы поднимает их без тоста, не говоря ни слова. Да и потом еще долго молчим. Я делаю вид, что все еще что-то разглядываю. Шон стоит, опершись о стену, засунув руки в карманы.
— Спасибо, что вытащил Питера, — нарушаю я молчание, — что растормошил его и… напоил, — последнее слово произношу строго.
— Да мы по чуть-чуть, — улыбается он натянуто и утыкается взглядом в пол.
— По-моему, не очень плохо все вышло, а? Как он вообще?
— Лучше, чем я думал. Алкоголь пошел на пользу, — Шон улыбается.
И снова мы пьем вино в тишине. И снова я задаю вопрос.
— Почему ты так стараешься для Питера? То есть, с чего вдруг ты так с ним сошелся? Ты ведь буквально прилип к нему. Не подумай ничего, он о тебе очень хорошо отзывается, и ему круто с тобой, но с чего вдруг?
— Ты не поймешь.
— Я постараюсь.
— Не поверишь и вообще подумаешь, что это все чушь.
— Почему?
— Потому что я сам ни фига не могу объяснить нормально.
Он наливает нам еще вина и садится на диван. Шон начинает медленно и неуверенно, как будто сам в процессе пытается понять себя.
— Когда все это в школе началось с твоим братом, я сразу прочел про него. Не понимаю, почему ни у кого из этих мудаков не хватило ума забить в инете. В общем, когда я про него узнал, меня потянуло к нему. Прямо вот так, знаешь. Ну, не то чтобы как-то не так, а в нормальном смысле. То есть, Питер — это тот, кем я никогда не стану, но кем всегда буду хотеть быть. Он — как мое отражение где-то в параллельной вселенной. Ну вот, ты уже думаешь, что я псих. Но это правда! Говорят же, что есть вторые половинки у людей. Может, что-то подобное есть и в дружбе. Просто понимаешь, что не сможешь жить, если не станешь с человеком другом, и все тут. Я ради него на что угодно готов. И когда узнал, что он сидит дома и не выходит, прямо взбесился. Понимаешь, потому что такому, как Питер и вдруг бояться мнений каких-то обычных людей! Это глупо же, неправильно как-то. Он же лучше их всех в сто раз! И еще огонь, понимаешь, мы оба… — Шон запинается, как будто пытается подобрать слова, которые никак не идут. — Ну, у нас истории похожи. Нас связывает огонь. Блин, ненавижу, так по-идиотски звучит, как будто в книжке вычитал! Но это так и есть, как тут по-другому скажешь. Не знаю, короче. Я просто, правда, очень люблю Питера. Он мой лучший и единственный друг.
— Как тебе удалось растормошить его? Мы два года бились головами о его стены, уговаривали, а ты появился, и как волшебной палочкой махнул…
— Я просто всегда говорил ему, что это не для него, понимаешь? Для меня, ради тебя. Да для кого угодно, только не для него самого. Ты же знаешь, Питер ничего не делает для себя, а ради близких на подвиги готов. Вот и на выпускной я его только ради тебя вытянул, потому что со мной там торчать радости мало.
— Почему ты так говоришь о себе?
— Потому что. Ты знаешь.
Я, наверное, слишком затягиваю с паузой, потому что Шон неожиданно продолжает. Скользит по своим словам, словно по льду, и не может остановиться.
— Я боялся все время, что ты подумаешь… Боялся, чтобы ты обо мне ничего не узнала…
— Почему?
Шон пожимает плечами, наливает еще вина себе — у меня бокал полный. Он выпивает залпом, потом смотрит на меня так пронзительно, что у меня мурашки по спине бегут табунами.
— Ты мне очень нравишься, Рита, — говорит Шон тихо, — с самого первого дня, — и целует меня.
Губы у него жесткие, но никогда меня не прошибало током от поцелуя. Я думала, это все метафоры, яркие сравнения, а это действительно так, словно пропускают небольшой разряд через все тело, и он застревает где-то между грудью и животом, и от него все сжимается.
Потом мы оказываемся в комнате Шона на кровати, и он целует меня снова. Могу поспорить, у него тоже разряды проходят по всему телу.
— Если ты не хочешь, — говорит он, — скажи.
Но я, конечно, хочу. Я только думаю, как жаль, что первый раз был с этим придурком Портером. Как бы хотелось мне теперь, чтобы сегодня был мой первый раз, чтобы никто не знал меня, кроме Шона, чтобы никто не видел меня ближе, чем он.
Шон
Рита засыпает рядом со мной. Когда касаюсь ее кожи, чувствую свои шрамы на предплечье. Значит, и Рита их чувствует. И хотя они небольшие и, безусловно, в отличие от тех, что на запястьях, скоро затянутся совсем, мне становится стыдно за них. Первый раз в жизни по-настоящему стыдно. Выворачиваю руку, чтобы не касаться порезами Риты. Впервые сейчас предпочел бы, чтобы их не было. Хочется выскользнуть, уйти, сбежать. Можно ли было мечтать о таком завершении учебного года. Не думал, что Рита даже посмотрит на меня. Черт, думаю, что очень сильно люблю ее. Но почему-то мне хочется сбежать, спрятаться и спрятать свои шрамы. Аккуратно вытаскиваю руку, на которой лежит Рита, встаю, одеваюсь и выхожу на крыльцо.
Долго сижу, смотрю в небо и думаю обо всем на свете. Мыслей, в самом деле, как звезд, и ни одну не поймать, все скопом рассыпались и мерцают, перемигиваются. Про Питера, это было честно. Сам не знаю, что меня так к нему приклеило. Просто огонь, который обжог его лицо, обжог мне душу. И поэтому, наверное, мне хочется, чтобы он жил полноценной жизнью. Ему надо учиться жить. Заново. И мне тоже. Прошлого не исправить. Не переписать того, что сделано. Следы останутся навсегда. Кто-то говорит, надо забыть, перевернуть страницу, закрыть главу. Но так не получится. Остается только выучить ее наизусть и повторять, делая очередной шаг вперед. Мне не хотелось двигаться дальше. Думаю, просто не мог. То, что случилось с Мэри-Энн, забетонировало меня в том дне. А потом появился Питер, который сам строил стену, чтобы забаррикадироваться изнутри. Нет, никогда не забуду, что сделал. Вернее, чего не сделал. Чувство вины нельзя локализовать и вырезать как опухоль — оно течет в крови. Но думаю теперь, может, смогу двигаться дальше. Думаю, если Питер правда купит себе маленькое ранчо, буду приезжать к нему, и он научит меня ездить верхом…
— Я испугалась, когда не увидела тебя рядом, — прерывает мои мысли появившаяся на крыльце Рита. Она в платье с накинутым поверх пледом.
— Не мог уснуть, — говорю.
Она садится рядом и тоже смотрит на звезды.
— Как твоя рука, Шон? — спрашивает она.
— Нормально, — отвечаю. — Врач сказал, правда, будет слабой. В общем, в футбол, наверное, играть не смогу.
— А макеты делать?
— Почему ты спросила про макеты?
— У тебя здорово выходит.
Пожимаю плечами. Не люблю, когда меня хвалят. Отвык, наверное. Раньше отец часто хвалил за успехи в школе и в футболе особенно.
— Шон, — Рита поворачивается и заглядывает мне в глаза. — Пообещай мне, что поступишь в Бостон в следующем году. Ты ведь можешь?
— Не знаю.
— Можешь! Хоть на архитектору. У тебя получится…
— Не знаю…
— Надо двигаться, Шон. Ты не можешь поставить крест на своей жизни! Я буду ждать тебя там. И еще, Шон, поговори со своим отцом. Он очень переживает. И на самом деле, он не разочарован в тебе. Он просто не знает, как к тебе подступиться…
— Ты правда готова ждать меня целый год? — спрашиваю.
— Ну, я же буду там учиться. Конечно. Поговори со своим отцом, пожалуйста. Пообещай мне!
И я обещаю.



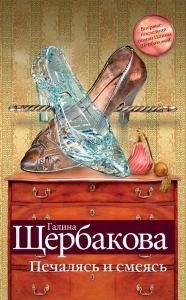




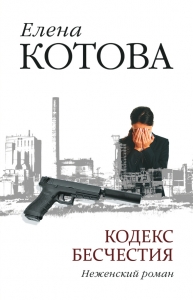

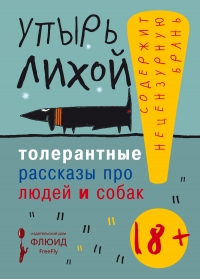
Комментарии к книге «Отторжение», Катя Райт
Всего 0 комментариев