Долгие сказки Модест Владимирович Осипов
© Модест Владимирович Осипов, 2016
© Студия wearegoat LTD London, дизайн обложки, 2016
ISBN 978-5-4483-2957-9
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Дом Ветра
Варя забралась под одеяло, прижалась ко мне. Тёплая.
— Почему здесь так пыльно? — спросила она непонятно у кого. — Я только вчера прибиралась, и вот опять.
Мы живём вместе всего неделю, а она уже почувствовала себя хозяйкой — готовит, наводит порядок, моет полы. Квартира съёмная, и я никогда не утруждал себя особенно тщательной уборкой. Впрочем, Варя права: пыль собирается моментально. Год назад, когда я снял эту квартирку, такого не было.
— Занятную штуку вычитала в «Обозревателе», — сказала Варя за завтраком. — Недалеко от нас, в оврагах, нашли трёх мёртвых бродяг. Мозг у них был как на седьмой стадии Альцгеймера.
— Приятного аппетита, Барби. Хорошую ты тему выбрала под яичницу с беконом, — ворчу в ответ. — Допились или химию нюхали. Что тебе до того?
— Ты не понимаешь. Дожить до седьмого Альца может обладатель шестого, да и то при хорошем уходе — это уже не человек, а растение. Бродяга, скорее всего, погибнет на четвёртой-пятой стадии — умрёт от голода, замёрзнет, под машину попадёт.
— Да ну, разве журналистам можно доверять? Врачи или полицейские что-то сказали, газетчик ничего не понял и чушь написал, редактор не проверил…
— Не забывай, Кир, я ведь тоже журналист.
— Извини, не хотел тебя обидеть.
Варя поцеловала меня в нос. Мол, прощён. Когда всё только начинается, прощать легко.
* * *
Мы живём на Пятницкой, в старом шестиэтажном доме с тёмными подъездами и скрипучими лифтами. Под крышей, прямо над нашим балконом, свили гнездо ласточки. Этот дом, последний перед оврагом, открыт всем ветрам. Где-то внизу в яблоневых садах теряется Знаменка, петляет Петров ручей, за крепостной стеной и Подолом впадает в Днепр. За рекой снова сады, одноэтажное тихое Заднепровье. Окна смотрят на север, все летние рассветы и закаты — мои. Нет, теперь наши.
В детстве я обычно смотрел на город с другой стороны реки. Родительский, точнее, ещё прадедов дом — номер тринадцать по Казанской улице — тоже стоит высоко на холме. Залезаешь на дерево или на крышу, и весь город как на ладони. Но мне рано стало тесно в том домике, захотелось свободы, и отношения с родителями — с отцом и с его женой Мариной — совсем разладились. После шести лет учёбы в Бристоле и Эдинбурге я поработал некоторое время в Женеве, потом в Киеве, в Петрограде. В Новгород-Днепровский вернулся почти чужаком. Попробовал пожить у отца, терпения у нас хватило недели на полторы. Снимал одну за другой квартиры, жил три-четыре месяца, понимал — не то. Однажды увидел в газете объявление: очень недёшево сдаётся крошечная квартира в неуютной, громоздкой шестиэтажке. Из любопытства поехал посмотреть, встретился с хозяйкой. Спросил, почему так дорого. Ремонт здесь не делали лет десять, мебель старая, тесно, как в эдинбургской общаге.
— Да Вы на балкон выйдите, молодой человек, — ответила Лидия Григорьевна, женщина неопределённого возраста в мутно-розовом платье-халате и с причёской «развалины Вавилонской башни». — Один вид стóит этих денег, а я в придачу ещё и квартиру предлагаю.
Не умею торговаться, и те, кто умеет, чувствуют это мгновенно. Я согласился. Уверен, как только за мной закрылась дверь, хозяйка начала пилить своего робкого мужа, почему, мол, не попросили больше.
* * *
Варя вернулась с работы позже обычного. Встречаю её в прихожей:
— Здравствуй, милая моя! Стол накрыт, шабли в бокалах.
Мы сели ужинать. Я приготовил индейку с айвой и салат. Свободный график имеет свои преимущества.
— Четвёртый, Кир.
— Кто четвёртый? Ты о чём?
— Ох, извини. Помнишь, несколько дней назад мне попалась заметка про мёртвых бродяг.
— Помню. Кажется, тот разговор был за завтраком. Давай для разнообразия обсудим это за ужином.
Варя надулась:
— Злой ты.
Но индейка удалась, и бургундское пришлось кстати — сердилась Барби недолго.
— Ты, Кирилл Альбертович, зарываешь талант в землю. Бросай свою системную аналитику, или чем ты там занимаешься, и открой маленький ресторан на Подоле. К тебе будут очереди выстраиваться, люди придут на запах, зачарованные, как гамельнские крыски. А я у тебя буду администратором, кассиром, официанткой и просто для красоты.
Мы поленились мыть тарелки, переползли с бокалами на кровать.
— Нет, Варвара Михална, пусть все сапфиры и изумруды моего поварского таланта достанутся тебе одной. Так что там с бродягами?
— Ты рассказывал про Яшу с Медынского Вражка…
— Никакой он не бродяга, он наш, здешний. Ну да, живёт в заброшенном доме, питается чем Б-г пошлёт, за всей округой одёжки донашивает, окурки докуривает.
Яшка Ветер — городской чудак, щуплый седой человечек с голубыми глазами вечного ребёнка — иногда за еду подрабатывает грузчиком в кафе на Пушкинской или помогает рабочим в Драмтеатре, однажды красил вместе с малярами синагогу. Его можно с запиской и деньгами отправить за книгой на базар к букинистам — Яшку никогда не обманывают. Можно попросить погулять с собакой. Собаки и птицы его любят, а кошки боятся. Вряд ли кто-то знает, как его зовут на самом деле. Ветер всё понимает и даже отвечает, но что именно, понять невозможно.
— Как ты его называл? Ла-мед-что?
— Ламедвавник. Тайный праведник.
Всякое про Яшку говорят. Будто бы детей больных к нему приводят и те выздоравливают, будто проклял его настоятель Софии Днепровской, будто остановил он однажды оползень на Медыни и спас два дома вместе с жильцами. Марина рассказывала, что лет пятьдесят назад, совсем мальчишкой, он вскочил на ходу в трамвай, у которого отказали тормоза, что-то крикнул, и трамвай встал как вкопанный. Сказки всё это, наверное. Сам я видел однажды, как Ветер несёт собачонку, которую сбила машина. Мёртвую. И плачет, и шепчет, шепчет на своём языке. Теперь она живёт у него под крыльцом. Или похожая, я мог обознаться.
— Ты давно его не встречал? — спросила Варя.
— Пару недель назад на Софийской. Он сидел на ступеньках булочной, довольный как слон, и ел круассан. Наверное, дед Семён, хозяин лавки, его угостил. Яшку все любят. А что? Нет, Варька, не может быть.
— Да, Кир, Яша — четвёртый. Лежал в позе зародыша на скамейке в парке, рядом с Дозорной башней. Некоторые участки мозга разрушены полностью.
— Варя, где парк, а где Медынь. Как же он дошёл?
— Не знаю. Таня Чернова из «Новостей» разговаривала с участковым. Дело заводить не будут, но он порасспрашивал на всякий случай местных. Накануне вечером бабулька с дедулькой возвращались домой, на Владимирскую, и видели издалека Яшу. Он бегал туда-сюда по пустой Театральной площади, будто играл в догонялки с невидимыми детьми.
* * *
Варя не жалуется, но спит плохо, ворочается, разговаривает во сне довольно громко, но невнятно. Встаёт разбитая, толком не позавтракав, уходит на работу. Я спрашиваю — ничего не помнит или не хочет обсуждать. Предложил ей взять отпуск, поехать вместе на юг, на море. Нет, говорит, не дадут пока, года не прошло, как она устроилась работать в телецентр. В Вязьме нет своего телевидения, после журфака Варька осталась в Днепровском и, как мне казалось, нашла работу своей мечты. Когда мы только познакомились, встречал её вечерами — счастливую. А сейчас она больше похожа на бухгалтера, у которого не сходится годовой отчёт. Или на бухгалтера, которому ночь за ночью снится, что отчёт не сходится.
Не думал, что наше знакомство зайдёт так далеко. Миловидная, даже, пожалуй, красивая, в очках, которые делают её чуть взрослее, но ни капли не портят, и в самой нелепой на свете шляпе, она сидела на скамейке в сквере тёплым апрельским вечером и читала.
— Какая же у Вас дурацкая шляпа, — сказал я и попросил разрешения сесть рядом.
Мы встречались всего месяц, в конце мая я предложил ей переехать ко мне на Пятницкую. Несколько недель вдвоём, беззаботных, весёлых, и Варя вдруг сникла, загрустила, ей начали сниться тревожные сны. Прошлое не отпускает?
Она неохотно рассказывает о жизни в Вязьме. Сложные отношения в семье, несчастливая любовь — тот человек был намного старше и, как оказалось, женат. Впрочем, я тоже старше её на девять лет. Разведён. Детей, насколько мне известно, нет.
— Что с тобой, Барби? — спрашиваю чуть не каждое утро.
Молчит, пытается улыбнуться, получается так себе.
* * *
Конец июля мы провели в Москве. Варю неожиданно отправили туда по редакционным делам, я увязался за ней. Она моталась по городу, важная, как папский нунций, — всё-таки первая в её жизни командировка. Я устраивался с бутылкой кефира и бутербродами на газоне на Страстном бульваре, рядом с нашей гостиницей, и работал. Или ходил по музеям, по книжным магазинам. Встретился с Лёней Рыжим — мы вместе учились в Бристоле.
Вечерами, когда спадала жара, мы с Варей сидели на открытых верандах кафе, катались на корабликах по Москве-реке или брали напрокат велосипеды и ехали на Воробьёвы горы. Мне не очень комфортно в Москве — огромный город, почти как Лондон, Париж, Петроград. А Варя словно ожила.
Вернулись — и сразу за уборку. Квартира заросла пылью, в коридоре, в тёмном углу под потолком, Варя заметила тонкие белёсые нити.
— Плесень?
— Нет, Кир, больше на грибницу похоже.
— Отлично, Барби. Что-нибудь вырастет, и мы сварим из этого суп.
Но суп не сварили. Варя проснулась часа в два, разбудила меня, зажгла свет по всей квартире.
— Страшно, Кирюша, мне страшно. Мне темно, тесно. Я в стенах, в щелях, под обоями, в трещинах, в трубах. Я в земле, раздвигаю комья, ползу сквозь глину, сквозь асфальт, проникаю, проникаю. Я в людях, Кирюша, я пью их и ем, но они ещё не знают об этом. Я вижу их глазами, пока они видят.
— Господи, Варька, что с тобой?
— Забери меня, Кир.
Я позвонил отцу. Он ещё не спал.
— Папа, можно мы приедем сейчас?
— Кто это «мы»?
— Я и Варя.
— Полгода назад, если не ошибаюсь, её звали Оля. Как часто она меняет имена…
— Папа, не начинай. У нас тут, кажется, проблемы.
Отец хмыкнул.
— Беременна, что ли?
— Нет. Не знаю. Не в этом дело. Мы поживём у тебя на чердаке несколько дней?
— Галя, конечно, будет вне себя от радости. Приезжайте.
Галя — третья… нет, уже четвёртая жена моего отца — на дух меня не переносит, я отвечаю ей взаимностью. Но сейчас, кроме папы, обратиться не к кому. Старых друзей-приятелей давно растерял, новыми не обзавёлся.
Я вызвал такси, помог дрожащей Варьке одеться, чуть не насильно влил в неё полстакана первого попавшегося вина. Позвонил в телецентр, сказал ночному редактору, что она заболела и завтра не сможет прийти на работу. Машина уже ждала, по пустому городу мы за несколько минут доехали до Казанской.
— Без обид, ребята, но в горку не поеду, — заупрямился таксист. — Там не развернёшься.
Мы пешком поднимались по давно не ремонтированной улице. Варю, похоже, начал отпускать тот кошмар.
* * *
Барби наотрез отказалась вернуться на Пятницкую, даже поехать со мной собирать вещи. Когда я уходил, она сидела на кровати на чердаке, бездумно смотрела в окно, иногда подносила ко рту потухшую сигарету. Галя неожиданно прониклась к ней сочувствием, нажарила молочных гренок. Я стащил одну и пообещал вернуться поскорее.
Возле шестиэтажки стояли две кареты скорой помощи. Водители курили на скамейке у нашего подъезда. Я спросил, что случилось. Четыре вызова за ночь и утро: два «сердечника», приступ бронхиальной астмы и ещё какой-то болезни, название которой шофёр забыл.
— Умер, бедняга, — сказал другой водитель. — Молодой парень, твоих лет примерно. Увезли уже.
Я поднялся в квартиру, там по-прежнему горел свет. Варя легко отделалась. Тьфу-тьфу, стучу по тумбочке. Ночной кошмар — не сердечный приступ. Этим людям тоже что-нибудь приснилось? Или снова уолсингемский синдром?
С апреля шестьдесят восьмого по январь семидесятого в деревне Уолсингем в графстве Кент умерло сорок два человека из двухсот с небольшим. Молодые, пожилые, инфаркты, инсульты, почки, лёгкие, лейкемия, два самоубийства. У нас на третьем курсе был факультатив по геоэнергетическим аномалиям, вёл его чудаковатый старик Браун, человек с репутацией нонконформиста и еретика. Прочёл три или четыре лекции и попал в больницу с чем-то серьёзным. В институт он уже не вернулся.
Браун считал, что аномальные зоны могут влиять на здоровье, на поведение людей, опубликовал собственное исследование по Уолсингему, по нескольким похожим случаям, ввёл в обиход сам термин «уолсингемский синдром». С начала восьмидесятых пытался создать лабораторию, отправлял письмо за письмом в Лондонское королевское общество, хотел ездить в экспедиции, изучать. Нам он рассказывал о незаметных процессах, о годах и десятилетиях жизни по соседству с аномалией, о том, как неумолимо меняет она людей. Но медленно, медленно. Нет, здесь другое.
* * *
Пыль, всё началось с пыли. Я собрал на чистый лист щепотку в одном углу, щепотку в другом, поднёс к окну, стал рассматривать. Ничего особенного. Из «студенческой» коробки, которая ездит со мной уже много лет, достал большую лупу. Пыль слишком ровная, этакий мелкий порошок. Где же я такой видел? Бетонная крошка! Отец вешал в подвале полки для бесчисленных банок с огурцами-помидорами. Марина со страстью коллекционера заготавливала на зиму всякие соленья, банки на полу уже не помещались, и она уговорила отца смастерить полки по стенам. Чертыхаясь, он сверлил бетон, потом мы неделю выметали изо всех углов и щелей эту пыль.
Что-то в стенах? И Варя в ночном бреду, кажется, говорила про стены.
Аккуратно, там, где квартирная хозяйка, может быть, не заметит, я оторвал уголок обоев. Ого! В дальнем от окна углу, за шкафом, под кроватью — везде, куда бы я ни заглянул, штукатурка, как старинная картина сеткой кракелюров, расчерчена тончайшими нитями грибницы. Они прошли сквозь бетон, наполнили квартиру серой пылью, затаились под обоями, укрытые от яркого солнца и людских глаз, и выстроили сеть — правильную, как в институтском учебнике, многослойную нейронную структуру с рекуррентными связями. Мы в Бристоле работали над такими, от наших хитросплетений лабораторный Адмет — вычислительный кластер размером в полподвала — пыхтел и грелся. Но самая мощная из наших нейросетей была бы на порядок слабее, чем паутинка этого мицелия величиной с пятак. А здесь целая стена, целый дом? Я включил лэптоп, стал рыться в энциклопедиях, справочниках. Нет, разумеется, нормальные грибницы в такие сети не сплетаются. Что это за адский биокомпьютер?
* * *
На Казанскую возвращался пешком, долго стоял на мосту перед Островом, смотрел на Днепр, думал. Мне на каждом шагу мерещатся сети? Я отыскиваю несуществующие структуры, совпадения, закономерности? Или…
Солнце опускается за Печерский лес, висит в тёплом воздухе мошкара, ласточки летают высокó-высóко в чистом, без единого облачка, небе. На крыльце сидит отец, курит, читает довольно потрёпанную книгу. Явно чужую — отцовские книги всегда в идеальном состоянии. Сажусь рядом. Какое-то время молчим, мне становится неловко.
— Что читаешь, папа?
— Вот, Дима Китаев порекомендовал. Некто Снегирёв, московский автор, из современных. Знаешь такого?
— Не-а. Хорошо пишет?
— Не на мой вкус, но тебе должно понравиться.
Откуда ему знать, что мне нравится, а что нет?
— Я почти дочитал, возьми потом, если захочешь. Кир, а что с твоей девочкой? Варя, да? Она за весь день всего раз или два с чердака высунулась.
— Всё в порядке, папа, просто стесняется. В подъездах ремонт затеяли, Варюха краской надышалась, ей стали сниться кошмары. Мы вернёмся к себе через несколько дней.
Отец грустно посмотрел на меня поверх очков, должно быть, понял, что я вру, но с несвойственной ему тактичностью от дальнейших расспросов воздержался.
— Галка! — крикнул он в дом. — Что там с ужином, солнце моё?
— Минут десять, Алик, — ответила с кухни Галя. — Кирилл, зови Варю, и тоже приходите. Голодные небось?
После ужина мы с Варькой сидим на огромной кровати на чердаке. У отца часто бывают гости, много лет назад он нашёл-таки время и превратил сумрачный чердак с летучими мышами в уютную комнату с отдельным входом.
— Барби, мне нужна твоя помощь.
— В чём, Кир? В твоей системной аналитике?
Что я ей скажу? Что, по моим предположениям, помесь грибницы с нейронной сетью распространилась по дому, по городу, лезет в мозги спящих людей, калечит их, убивает?
— Нет. Хотя, пожалуй, да. Давай проведём ещё одну ночь на Пятницкой.
— Кирюша, пожалуйста, не надо.
— Ты единственная, к кому я могу обратиться. Всё сложно, так сразу не объяснишь. Не только тебе снились кошмары этой ночью. От них не просто просыпаются среди ночи, от них умирают. Я понял, что происходит, теперь нужен проводник из тех, кто видел сны. Прошу тебя, Варька.
— Я не смогу.
* * *
Варя долго ворочается, не может уснуть. Мы поменялись местами; раньше она спала у стенки, а я с краю, поэтому грибница сначала добралась до неё. Возможно, поэтому.
— Страшно, Кир. Вдруг я опять попаду в стену и уже не смогу выйти?
— Попадешь, очень надеюсь, что попадёшь. Я войду следом и тут же отпущу тебя, ты проснёшься. Всё будет хорошо, — соврал я. — Засыпай, Барби.
Ничего хорошего. Грибница снова потащит её к невидимой цели, я пойду (поползу, побегу, полечу) за ней. Дальше — по ситуации. Уснуть и видеть сны.
Нет света, цвета, звуков, запахов, лишь чудовищная теснота. Так, наверное, чувствует себя младенец, мучительно пытаясь покинуть лоно матери. Бесконечно далеко впереди ускользает от меня Варя. Я тоже двигаюсь, но против своей воли, словно кровь по капиллярам. Меня протягивает сквозь нити, по крупинке, как о наждачную бумагу, стирается память. Чувствую движение, могу отличать «здесь» от «там». Иногда давление чуть ослабевает — видимо, развилка или перекрёсток. Делаю отметки на воображаемой карте.
Прошло несколько часов, дней, недель — время исчезло, есть только бесконечный полёт и Варя далеко впереди. Что есть силы думаю её имя. Не сразу, но она отвечает.
— Кир, где ты?
— За тобой, не могу догнать тебя. Остановись.
— Как?
— Думай моё имя, держись, цепляйся за него.
— Хорошо, Кирюша.
Я попробовал двигаться быстрее. Получилось. Ещё быстрее, ещё. Голос Вари как маяк в темноте. Приближаюсь — он всё отчётливее. Вдруг мы столкнулись и проснулись.
Точнее, я проснулся, а Барби сидит на кровати в забытьи, смотрит сквозь меня. Бледнеет на востоке сиреневое небо, набирает свой цвет заря. Скоро рассвет.
* * *
Мы приехали на Казанскую, отца не было дома, Галя возилась в саду. Хорошо, никому ничего не надо объяснять — Варя ходит, если её вести, ест, если кормить, но не разговаривает и смотрит в никуда, в невидимую точку в пространстве.
До вечера ничего не поменялось, только испортилась погода. За окном бесконечной киноплёнкой тянулись по небу облака. Я устроился на чердаке за старым отцовским столом, думал о ночном нашем путешествии, рядом неподвижно сидела Варя. Пару раз спускался на кухню за чаем и бутербродами. Галя ворчала, это, мол, не еда, приходите и поешьте по-человечески, сам ешь непонятно что, хоть девочку свою не приучай. Пришлось соврать, что работа очень срочная, счёт идёт буквально на минуты, а у Вари разболелась голова, и она дремлет.
Стемнело. Пора возвращаться на Пятницкую.
* * *
Я — маленькая белая точка на стене. Я — еле различимый волосок мицелия. Я вхожу в стену. Темно. Я иду сквозь бетон, вверх по сети, я становлюсь сетью. Плачет ребёнок, ему снится, что он заперт в темноте, ему нечем дышать. Он зовёт маму, но мама не слышит — он кричит внутри сна, в глубине стены.
Знаю эту топологию — я проектировал, защищал, разрушал десятки таких сетей, меня учили этому шесть лет. Но те сети не были живыми. Я рву связи, шлю от клетки к клетке сигналы «умри!», пытаюсь очистить дом.
В структуру вплетены фрагменты воспоминаний живых и тех, кто уже умер. Женщина средних лет, чья-то мама, бабушка. Была. Она подключена несколько дней, её почти уже нет. Она не проснётся утром, если я убью весь сегмент, или проснётся, но никогда не узнает свою дочку, внуков. Я вижу всю память этой женщины — грибница забрала её и не отдаст обратно. Умри!
Осколки жизней вспыхивают передо мной и тут же гаснут. Вот бродяги, про которых рассказывала Варя, — от них остались лишь тени. Всё сходится. Я был уверен, что найду их здесь.
Вот Яшка Ветер. Он правда умел многое, не врут люди. Смотрел на мир будто сквозь хрустальный шар, ходил теми тропинками, по которым нам не пройти, слышал тихие голоса, знал имена. Оказывается, он когда-то любил. Кого? Не вижу — обрыв плёнки. Ветер говорит, и ему отвечают на его языке. Кто его собеседник? Опять обрыв, темнота. Яшка нашёл сеть раньше, чем она коснулась нас. Боролся до конца и проиграл, грибница сожгла его. Обрыв плёнки, теперь навсегда.
Снова и снова командую «умри!», я похож на дворника, который пытается в одиночку прибраться в целом городе. Сеть слишком велика.
Ловлю позывные центра, пробую расшифровать инструкции, изменить их, встроиться. Посылаю сигналы вдаль, наугад, в надежде перехватить управление мегасегментом, посеять вражду внутри грибницы. Тихо, нет ответа. Я собираюсь с силами, чтобы отправить новую команду, но по сети проходит дрожь, и она отвечает ударом на мой удар.
Боль. Темнота. Яркий свет. Боль. Пробуждение.
* * *
Пошатываясь, я шёл по городу. Кружилась голова. Несколько раз забредал не в те переулки. Хотел поймать такси, но не смог вспомнить название улицы, на которой живёт мой отец. С трамваем тоже не получилось, я забыл, куда он идёт.
— Где ты был, Кирюша? — спросила Варя.
— На… — я задумался. — На Пятницкой. А что?
— Ты ушёл позавчера, — она расплакалась.
Не помню, как прошёл день, один или два. Вдруг заметил в чердачном окне первые звёзды, услышал голос Вари. Похоже, мы с ней разговаривали, спорили. Не помню, не помню.
— Кир, ты чуть ли не силой привёл меня на Пятницкую, говорил, помощь моя нужна, гибнут люди. Теперь я хочу помочь, хотя бы рядом посидеть — не пускаешь. Что происходит? С кем ты воюешь?
Варя злится, с непонятной настойчивостью требует взять её с собой.
— Я боюсь за тебя, Варька. Кто знает, какова смертельная доза? Ты после прошлого раза день сидела со стеклянными глазами, смотрела в одну точку.
— Ты тоже, Кир.
— Не важно, пройдёт.
Вру, ничего не пройдёт, я даже не представляю пока, сколько всего забыл. Зато знаю, что делать дальше.
— Нельзя было снова подпускать тебя к грибнице. Варька, милая, побудь, пожалуйста, в Заднепровье, подальше от этой твари. Гале в огороде помоги или отцу с диссертацией, если хочешь. Они рады будут. А я справлюсь. Завтра вернусь, в крайнем случае послезавтра. Это будет славная охота, Маугли.
Мы спустились в дом, отец работал, Варя робко, почти шёпотом спросила, чем ему помочь. Отец смутился, буркнул что-то себе под нос, достал из ящика стола папку с бумагами, начал объяснять ей задачу. Я попрощался и вышел на улицу. Какой душный вечер.
* * *
На Пятницкой пусто, грибница мертва, безжизненные нити мицелия гниют под обоями. Снятся обычные, ничего не значащие сны. Я проснулся в половине четвёртого, окно открыто, прохладно, призрачным светом наполняют комнату далёкие прожектора над железной дорогой. Дом чист, отсюда уже не войти. Своим ответным ударом сеть сожгла огромный сегмент, пытаясь убить меня, как убила Яшку. Что меня спасло? Ветер слишком сильно устал, он почти год сдерживал, как мог, беду — днём, ночью. Он ведь никогда не спал, никогда не бодрствовал, жил по обе стороны зыбкой грани между явью и сном.
Дом Ветра. Наверняка там есть живая грибница, там можно уснуть, наглотавшись снотворного, войти в сеть, добраться, наконец, до центра. Но я не помню, где этот дом. Хожу по пустым улицам, читаю названия — ни одного знакомого. Я забыл город.
Светает, выходят на работу дворники, из булочной пахнет свежим хлебом. Владимирская. Яшку в последний раз видели на Владимирской. Он жил неподалёку?
Вот и дом. Он древней и сильнее иных крепостей, но притворяется дряхлым, заброшенным, никчёмным, люди не замечают его. Вот и собака, она лежит на крыльце, смотрит недоверчиво. Поднимаюсь по ступенькам — отходит, пропускает, провожает взглядом. Комната — единственная жилая. Топчан, старый стул и книги, книги, книги. И знакомая нейросеть на стенах. Она не прорвалась бы сюда, Яшка заманил, впустил её и попал в ловушку, которую сам расставил.
Идеальная точка для входа. Я сажусь на пол спиной к стене, ближе к грибнице, глотаю две таблетки и…
* * *
Сеть научилась защищаться, она больше не умирает по моему приказу. Она пытается закрыть от меня сегменты один за другим. Я силой выбиваю защиту, иду вперёд, вперёд, вперёд, пока могу. Обратно мне уже не пройти.
Варя?! Вся здесь, грибница высосала тебя, забрала твою память. Ты вернулась на Пятницкую, где меня уже нет, нашла Яшкин дом и случайно уснула рядом со мной? Или тварь заставила тебя прийти?
Варькины воспоминания обрушиваются на меня призрачной Ниагарой. Вот она, совсем крошка, с прабабушкой. Родители, младший братик, школа — первый класс, последний. Первый поцелуй, первая любовь, первый бокал вина, первая близость, первое предательство. Случайная встреча с женой любимого человека. Отъезд из Вязьмы. Институт. Студенческая краткая любовь. Уехал по контракту в Чикаго, обещал забрать её, как только устроится. Больше не звонил, не писал. Варя никогда не рассказывала об этом. Собеседование, работа, друзья-коллеги. Фильмы, книги, музыка. Съёмная квартирка на окраине. Наше знакомство, близость. Я должен убить всё это, да? Я не могу.
Не останавливаясь, прохожу всё новые сектора. Структура уплотняется, сходится к центру, затягивает, больше нет сил атаковать, контролировать движение, я падаю бесконечно и держусь за одну-единственную мысль — не забыть карту сети.
Удар — слабый, но болезненный. Ещё удар. Пытаюсь предсказать следующий, увернуться, не успеваю, но узнаю в ударе себя. Грибница слепила некое подобие меня из обрывков памяти, и с каждым ударом тот, другой, становится живее и сильнее, а я ухожу в небытие. Бью в ответ — раз, ещё раз, ещё. Мы входим в клинч, падаем вместе, притяжение тащит нас в багровую темноту. Что есть силы толкаю другого в самый центр. Из глубины поднимается медленная липкая волна, на дне чёрной дыры судорога сводит чьи-то невидимые мышцы, и кто-то кидает в меня мной.
* * *
Я проснулся. Уже вечер. Рядом, свернувшись калачиком, лежит девушка. Она жива, но её уже нет, грибница забрала её, тут уже ничего не исправить. Сейчас главное — не забыть карту. Не замечаю улицы, домá, иду по городу тем же путём, каким шёл сквозь сеть.
Стоп. Тварь не убить голыми руками. Мне нужен… Ох, как же он называется? Я подхожу к людям, говорю с ними, слова ускользают. Люди шарахаются от меня. Наконец один понял, принёс, спросил про деньги. Не глядя, я отдал ему бумажник. Он, похоже, испугался того, что сделал. Уходил быстро, почти бежал, оглядывался нервно, а я стоял на перекрёстке улиц, ставших для меня безымянными, пытался понять, куда теперь идти.
* * *
Входная дверь заколочена кое-как, стоило дёрнуть, и старые доски подались, вывалились ржавые гвозди. В комнатах сырая тьма, но свет мне уже не нужен. Густая паутина мицелия липнет к лицу, мешает идти. Нити, нити со всех сторон, причудливый узор сплетается в сплошную массу, в тугой комок. Сегменты сети сходятся в гиперхаб, нервы — в мозг. Нет, не в мозг. В плаценту. С потолка сумеречной комнаты свисает белёсый шар, в глубине так медленно, что начинает кружиться голова, шевелится нечто розовое, похожее на человеческий зародыш. Вот куда я попал в своё последнее погружение. В существо, у которого нет и, надеюсь, никогда не будет названия.
Слово, я вспомнил то слово. Бензин. Спички. Огонь!
Стою чуть выше по косогору, вглядываюсь в ночь. Не горит. Ни искорки не видно в тёмном доме. Неужели надо вернуться? Нет, кажется, пахнет дымом.
А-а-а-а-а! Сотни тысяч тупых иголок вонзились в голову. В головы всех, кого коснулась грибница, всех, кто ещё жив. Чувствую, остановилось чьё-то сердце, ещё одно. Тварь горит, гибнет, визжит в наших мозгах. Я ослеп от боли, упал в темноту. Как догорает дом, я не видел. Потом стало тихо.
* * *
Февраль, за окнами сиреневые сумерки, снег идёт. В октябре, удивительно холодном, я научился при помощи нужных слов и фигур отапливать избушку — дом Ветра, которого горожане звали Яшкой и не задумывались даже, что означает его прозвище. Теперь это мой дом.
Под крыльцом — там тоже тепло — живёт грустная дворняжка Алеф. Она привыкла ко мне, но знает, что прежний её хозяин больше не придёт.
Полгода прошло. Я, наверное, защитил город, людей, но… Эмбрион подземной цеи успел убить пятерых — трёх безвестных алкашей, паренька из дома на Пятницкой и Яшку. Остальных ведь можно было спасти, собрать крупинки их жизней, рассыпанные по нитям грибницы. Их мучили бы дурные сны, они много лет жили бы с удивительно ясными фрагментами чужой памяти, но жили бы. Тридцать семь человек.
Но я рубил сеть — берсерк, пьяный от крови, своей и врага. Я сжёг эмбрион. Никто, кроме меня, не пережил его последний крик. Мог, должен был спасти… Её звали Вера? Валя? Нет, кажется, Варя. Визг горящего эмбриона подземной цеи убил и её. Я убил их всех.
История с грибницей изменила меня. Подхожу к окну — в мутном стекле отражается незнакомое лицо. Чужак смотрит на меня пристально, изучает, его тихое имя скоро станет моим.
Многого не помню, почти не говорю с людьми — тяжело. Впрочем, есть книги, мудрые книги — отличные собеседники, когда начнёшь понимать их язык, язык Ветра. Они объяснили мне, что произошло, почему проиграл и погиб Яшка и где непоправимо ошибся я. Рассказали, что стражем — не праведником, а стражем в тишине, йа’шэh бет’эр, — может стать лишь тот, кто совершил однажды жуткую, смертельную ошибку. Как я, как Яша, как многие до него.
Старые книги научили меня, как казаться и быть чудаком, как отвести беду, как оберегать город на семи холмах над рекой, на семи ветрах, пока не придёт мне на смену более удачливый неудачник.
Апрель 2015 — март 2016 года
Москва
19+84
— Вера в свою идею превращается порой в суеверие. Область науки, о которой сегодня шла речь, согласитесь, пограничная, легко увлечься, начать подгонять факты, упускать из виду противоречия. Над моим рабочим столом висит карикатура — портрет Вильгельма Оккамского. Францисканец грозит своей бритвой, как Суини Тодд.
Дежурная шутка, чтобы закончить лекцию, вялые смешки, негромкие аплодисменты. Всё прошло хорошо, но под конец слушатели устали, и я устал — неделя была тяжёлая. Домой, домой.
* * *
Люблю такие вечера. Ноябрь, не по сезону холодно, пятница, и мне решительно никуда не надо идти. Заварю чай, выключу телефон, компьютер, свет во всей квартире, оставлю только торшер у кресла, сяду читать. Абсолютная свобода.
«Карл сказал, что дед умер по естественным причинам», — прочёл я, и в коридоре заверещал звонок. Ох… Кому-то из ребят, что ли, неймётся? Принял в баре, захотел разделить со мной свои радости или невзгоды? Позвонил, не дозвонился, взял такси и приехал?
Ан нет, не пьяный приятель. Незнакомый мужичок маленького роста, с большой залысиной, окружённой непослушными протуберанцами русых с обильной проседью волос. Чеховская бородка, очки в тонкой стальной оправе. Мешковатые джинсы, престарелый свитер, видавшие виды домашние тапки. Явно не с улицы пришёл. Кто-то из соседей?
— Здравствуйте. Вы к кому?
— К тебе, Лёва, — ответил незваный гость.
* * *
Я стою в недоумении перед открытой дверью с чайно-пивной баварской кружкой в руке. Визитёр меж тем зашёл в квартиру.
— Так и будем в коридоре беседовать? — спросил он.
— Нет, что Вы. Проходите в большую комнату.
— Ты молодец, конечно, что сделал ремонт. Но сухо получилось, на мой вкус, без души. Не жильё — учреждение, контора. Как говорят англичане, office.
— De gustibus…
— Рад, что ты оставил старый номерок на входной двери.
Когда мои переезжали из общежития в этот дом, они не стали покупать новую табличку, а забрали номерок от своей комнаты — 61 — и приделали его вверх тормашками на дверь. На счастье. Совпадение, что он подошёл, случайность, но какое до этого дело мужичку в тапочках?
— Вы, собственно, кто? — спрашиваю.
— Я домовой.
М-да… Вечер так хорошо начинался, а теперь сидит передо мной в кресле незнакомый человечек и высказывает не слишком лестные суждения относительно интерьеров моей квартиры.
— Отлично помню твою бабушку, деда. Двоня и Лёвчик. Помню, как твоя мама в лучшем платье с зелёными и голубыми цветами пришла знакомиться с родителями будущего мужа, как тебя из роддома принесли четыре года спустя. С начала августа шли дожди, ты родился в первый погожий день. Двоня пообещала, что дни твоего рождения всегда будут солнечными.
Всё верно. Стою, молчу озадаченно.
— Твоя семья — первые жильцы дома. Они переехали сюда зимой шестьдесят пятого, вслед за ними — Лена с первого этажа и её родители.
Лена с первого этажа… Да, живёт в четвёртой квартире старушка с серым котом, Елена Ильинична. Её отца я не застал, маму помню смутно. Мой вечерний гость неплохо осведомлён. Впрочем, для этого не обязательно быть домовым.
— Лёва-младший был спокойным, рассудительным мальчиком. Шумной возне со сверстниками предпочитал собственные игры. Сидя, пардон, в туалете, придумывал истории и рассказывал их вымышленным существам, которых видел в пятнах и каплях засохшей краски на стенах, на полу. Там были танк, белка, овечки, воздушный шар, луна, но главный слушатель жил на двери, в левом нижнем углу. Его звали Летучий Джинн. Или Джим?
— Джинн, — отвечаю. — Хотя похож он был скорее на гриб с глазами. А ещё Рыцарь, поросёнок, железная дорога, бык Буцефал. Я сфотографировал их перед ремонтом на память. Откуда Вы всё это знаете?
— Истории маленький Лёва сочинял преимущественно детективные, приключенческие, мечтал, когда вырастет, стать комиссаром полиции. Или астрофизиком, как мама, и полететь в космос. Пятилетний Лёва очень расстроился, когда прочитал в газете, что началась подготовка к полёту на Марс. Он ведь ещё маленький, его не возьмут. Печатными буквами, зелёным карандашом на тетрадном листе, написал письмо в Академию наук с просьбой сделать исключение. А ещё был у мальчика братик…
— У меня нет ни братьев, ни сестёр, я единственный ребёнок в семье.
— Всё верно. Поэтому Лёва потихоньку, чтобы не слышали родители, называл братиком пластмассовый мотоцикл — розовый с синими колёсами. Я слышал, как ты с ним разговаривал, я многое вижу и ещё больше слышу. Sapienti, как говорится, sat.
— Домовой Вы или нет, но я точно невоспитанный человек — должен был сразу предложить Вам чай. Хотите?
— Не откажусь, — ответил гость.
* * *
Домовой он или нет, но оказался приятным собеседником, я даже перестал жалеть о вечере вдвоём с книгой.
— У Вас, простите, имя есть?
— Тихон.
— А по отчеству?
— Ну что ты, Лёва, откуда у домовых отчества? Нас же не мамка с батькой на свет произвели. Имя сам себе выбрал лет сорок назад, при похожих обстоятельствах. По созвучию — тишину люблю. Я тихий дух, своё давно отшумел.
Тихон. Ну как ещё могут звать домового? Папа приходил по вечерам в детскую (сейчас это комната для гостей), садился в кресло рядом с моей кроватью, на лету сочинял и рассказывал мне сказки. Про русалку, что мечтала ездить на троллейбусе, про городского мальчика в деревне, про его друзей — таксу Маню и вредного безымянного кота, про жадного великана и трусливого рыцаря, про летающих в апреле дворников, про ослика Федю и его хозяина, шамана-дилетанта Валентина Вениаминовича, у которого никак не отрастала третья — волшебная — рука, про Бабу-ягу и её путешествие на Брокенскую гору, про доброе чудище Рананты-Рананты, что живёт в городской канализации и дружит с колодезниками, про домового по имени Тихон.
На месте деревни вырос городской район, частные дома снесли, а Тихона назначили ответственным за дом с сотней квартир и тремя сотнями жильцов. Историй о домовом точно было несколько: как наш сосед Рома, восьмой год пребывая в некотором подпитии, в одиночку притащил с помойки сломанный холодильник на площадку между четвёртым и пятым этажами и Тихон хитростью заставил его унести холодильник обратно; как домовой воевал с нерадивым и грубым домоуправом Кукушкиным; как домовой отучал мальчишек поджигать почтовые ящики; как…
Когда стал постарше, я всё уговаривал папу записать свои — наши — сказки. Он обещал, да так и не собрался. А я уже почти ничего не помню.
Мы ещё долго сидели, разговаривали, мой гость нахваливал юннаньский чай. Потом вдруг заторопился, сослался на дела, попросил разрешения заходить иногда вечерами, если я буду один, попрощался и ушёл в стену, растворился в ней.
* * *
Лето после третьего курса, этнографическая экспедиция. В Вологде я сажусь за руль «глазастика» — молодой, категоричный, уверенный, что знаю почти всё на свете, а если чего не знаю — сумею понять. Кубенское, Никольский Торжок, Ферапонтово, Кириллов, Горицы, Волокославино, Кощеево, Устье, Заря, Сизьма, Дикая Деревня, Иванов Бор, Звоз…
Почти двадцать лет я пытаюсь разобраться в том странном, что увидел и услышал. Взглянуть с точки зрения науки, пусть наука даже смотреть в эту сторону не желает. Пишу статьи, книги, рассказываю, убеждаю. Или не убеждаю. Сколько бы Ломоносовских и прочих премий мне ни вручали, для большинства учёных я маргинал, фантазёр, мракобес и суевер.
Много интересного встречал за эти годы, в чём-то смог разобраться, найти объяснение, доказать, но домовой, маленький бог-хранитель обыкновенной городской пятиэтажки — моего дома, — всегда был для меня лишь тёплой сказкой из детства.
* * *
А сказка оказалась с продолжением. Тихон приходит раз в несколько дней, по-прежнему тактично звонит в дверь, хотя мог бы появиться откуда угодно. Разговариваем, пьём Дянь Хун Цзинь Хао. Рассыльный из кондитерской на углу приносит большой кулёк овсяного печенья «с тараканчиками» — с изюмом. Мой гость макает его в чай, жмурится от удовольствия. «Иных богов не надо славить: они как равные с тобой…»
— Когда наш дом только построили, он был последним, дальше пустырь до самой реки, а за рекой лес. Зимой лоси забредали, а летними вечерами я вылезал на крышу, смотрел, как садится солнце. Однажды чуть не наткнулся на каких-то рабочих, не знаю, что они там делали так поздно. Нам запрещено людям на глаза показываться.
— Как же Вы ко мне в гости приходите?
— Маскируюсь. Ты не думаешь, надеюсь, что домовые — мужички в джинсах и затасканных свитерах? — Тихон невесело улыбнулся ему лишь понятной шутке.
— А какие вы?
— Домовой похож на свой дом.
Он изменился на мгновение, невидимый Арчимбольдо написал его портрет, составил, сплёл из бетонных блоков, арматуры, труб, обоев, окон, дверей. В мозаике оконных стёкол отражались, двигались, жили люди. Я счёл бестактными дальнейшие расспросы.
* * *
На целую неделю домовой пропал, впрочем, и меня допоздна не было дома. Друг уговорил прочитать курс лекций в «Мусейоне» для всех желающих. Погода скверная, слушателей много, кончается лекция, и я ещё час-полтора отвечаю на вопросы, спорю. Администратор торопит, говорит, что зал пора закрывать, мы уходим в музейное кафе «Архимед», занимаем большой стол, шумно беседуем, пока в споре или в вине не родится истина.
* * *
Начался декабрь, город завалило снегом. Я отменил все встречи, дошёл до леса, побродил по зимней сказке, покормил снегирей рябиной — она с осени хранилась на балконе. Замёрз, вернулся домой. Позвонил бывшей жене, поздравил с днём рождения, поговорили немного. Мы прожили вместе шесть лет, а теперь созваниваемся дважды в год — в начале декабря и в середине августа, и нам мучительно не о чем разговаривать. Попрощались до следующего лета. Наверное, час я просидел в задумчивости с телефоном в руке.
Звонок в дверь. Нехотя иду открывать. Когда имеешь дело с домовым, нет смысла притворяться, что тебя нет дома.
— Расстроен?
Я кивнул.
— Ох уж эти женщины, — Тихон посмотрел на меня с сочувствием. — После встречи с одной дамой из третьего подъезда наш квартальный бабай заболел, не может больше работать, его функции временно возложили на домовых. Временно! Четвёртый год уже… Тяжело — годы не те, непривычно, да и с моральной точки зрения…
— Кто возложил-то?
Крючковатый палец с ногтем старого курильщика в потолок, домовой многозначительно подмигнул.
— И что за функции такие?
— Вот непонятливый! Чем, по-твоему, бабай занимается? Навещает по ночам, во сне, одиноких женщин, — смущённо ответил мой гость.
Звякнул тостер на кухне, я принёс два тёплых круассана — Тихону и себе.
— Спасибо, Лёва. Мне всегда в радость к тебе приходить. Поишь чаем, кормишь вкусно, слушаешь внимательно, отвечаешь по делу, но… Неприятности у меня. Там… — снова палец вверх, — …узнали, что я с тобой общаюсь. В прошлый раз не заметили или сделали вид. Много новых домов строилось, заселялось, не до моих вольностей было. Теперь накажут, со дня на день отнимут дом, а что я без него?
— Тихон, Вы ничего особенного не натворили. Ну показались мне, а я не из болтливых.
— Натворил. И снова натворю, не вижу другого выхода. Я почему с самого начала к тебе пришёл, Лёва… В пятом подъезде, в восемьдесят четвёртой, жила семья. Приличные, в общем, люди, почти тридцать лет в доме, а тут учудили — переехали куда-то и квартиру сдали. Терпеть этого не могу, да время сейчас непростое, у всех свои обстоятельства, я не вмешиваюсь. С полгода прожили там какие-то — напачкали, не заплатили. Хозяева их выгнали, вместо них квартиру сняла девушка. Лера. Мне её вроде бы навещать полагается по ночам, но не могу. Это как птенца обидеть или мышонка. Нет. Нет.
Домовой погрустнел, потом улыбнулся неуверенно.
— Въехала налегке: небольшая сумка с одёжкой, три картины, этот… ну как его… ноутбук и две огромных коробками с книгами. Студентка, филолог, второе высшее, если не третье. Тебе понравится.
— Мне? Я тут при чём?
— Она зайдёт к тебе за книгой, что-то по этнографии… Да, точно! «Морфология…» Проппа. Пятый шкаф, нижняя полка, второй ряд. Сегодня или завтра. А ты уж не подкачай, Лёвчик.
И домовой, не попрощавшись, ушёл в стену.
* * *
Моя мама ещё не знала, что станет моей мамой. Она приехала из Воронежа, поступила в «школу звездочётов», на птичьих правах поселилась у двоюродной тёти, кажется, в том же пятом подъезде. Не знаю, в какой квартире, и спросить уже не у кого. На следующий год, по весне, вокруг дома взялись сажать деревья — яблони, вишни. У воронежских деда с бабушкой был сад, и увлечение астрофизикой не помешало их дочке стать хорошим садоводом. Папа рассказывал, что не хотел сначала возиться с деревьями. Его семья — три поколения горожан. Классическая филология, индоевропейские языки, история философии, научная журналистика. Какие вишни? Но кто-то из соседей попросил его помочь одной девушке…
В прошлый раз не заметили… Придумал себе имя лет сорок назад, при похожих обстоятельствах… Папины сказки… Мама… Ох, Тихон-Тихон.
* * *
В дверь позвонили.
— Кто там? — спрашиваю.
— Ваша соседка по дому, из пятого подъезда. Извините за беспокойство. Была сегодня на Вашей лекции, но не успела подойти — Вы сразу уехали. Мне сказали, что у Вас может быть книга, которую я ищу.
Открываю дверь:
— Добрый вечер! Заходите, Лера.
Высокая, миловидная, чуть склонная к полноте девушка, румяная с мороза. Пальто не по сезону, вязаная шапка с помпоном, разноцветные варежки, рюкзак на левом плече.
— Здравствуйте, Лев Борисович. Только я не Лера, меня зовут…
Ноябрь 2014 — январь 2015 года
Портленд — Москва
Балка
Как зайдёт солнце, стаи ворон собираются над Заднепровьем, над Островом и Подолом, над базаром и железной дорогой и танцуют в небе. Странный танец, неевклидова геометрия.
* * *
— Мишка, а напиши пьесу для моего театра?
Вот так, безо всяких «привет», дурацких «как дела?», без объяснений, что такое «его» театр. Кукол? Теней? Драмы и комедии? Мы не виделись несколько лет, созванивались, кажется, в прошлом году. Или в позапрошлом.
— Славик, во-первых, здравствуй. Я рад тебя слышать, хоть ты и хам трамвайный — разбудил меня своим звонком и даже не здороваешься.
— Троллейбусный, Мих, ко мне на Воскресенку из города теперь троллейбус ходит. Ты давно у нас не был. Во-вторых?
— Во-вторых, я рассказы пишу фантастические, повести. Какая пьеса?
Славка задумался. Он прав: в городе я не был несколько лет, ни про троллейбус не знаю, ни про переезд его с Лесной за Днепр, на Воскресенскую горку. Там сейчас, наверное, всё в цвету, всё бело от яблонь и вишен.
— Брось, Мих. Ты пишешь не про космические корабли, не про драконов и вампиров, а про людей. Придумай историю, расскажи, напиши мне, пьесу вместе сделаем. Или я сам, но ты меня за шкирку держать будешь, чтобы не слишком уносило за горизонт. А лучше всего приезжай.
* * *
Я поехал. Конечно, не будет никакой пьесы, зато будет Славка, будут сиреневые вечера над рекой, и долгие разговоры, и крепкий чай, и город детства. Из Праги в Петроград без ночёвки, на полдня — навестить издателя — и на будапештский скорый. До границы у него всего одна остановка — Новгород-Днепровский.
Уютное купе на двоих, молчаливый попутчик, письма Чехова, кофе, ещё кофе, полтинник Gaston Legrand. Я отложил книгу, стал смотреть в окно. Мы с мамой ездили ночным пассажирским, экспрессов ещё не было. Я просыпался первым, на рассвете. Золотистый туман, зелёный шум берёзовых рощ, луга, синие от цветущих люпинов — разноцветное счастье маленького путешественника. Поезд не спеша подъезжает к вокзалу, на перроне уже стоят дед с бабушкой, улыбаются — увидели нас. Мы летим на такси через весь солнечный город, на Лесную.
Что сейчас в той квартире? Кто живёт? Деда не стало в тринадцатом, мы забрали бабушку в Петроград. Через четыре года похоронили на Охтинском отца, мои уехали в Прагу, я поступил в Литинститут и остался один в большой пустой квартире на Мойке.
В чистом и холодном весеннем небе танцуют ворóны. Поезд уходит на запад, вслед за солнцем, я остаюсь. Кто это — огромный, на голову выше меня, небритый, в лётной куртке и светлых джинсах — идёт, почти бежит навстречу?
— Славка!
— Миха!
— Здравствуй, Славик! Сколько же мы не виделись, а?!
— Здорóво, Мишель! Ты молодец, что всё-таки приехал.
* * *
Не прошло и тридцати лет, как в Днепровском появился троллейбус. Мы сидим на «капитанском» месте рядом с кабиной водителя.
— Почему Воскресенка?
— Домик я снял с маленьким садом, тишины хочу. Вот напишем с тобой пьесу, поставлю гениальный спектакль, приз получу в Авиньоне да выкуплю у хозяев эту избушку на козьих ножках.
— Фантазёр ты, Святослав Игоревич.
Маленький дом на краю оврага, кухня-веранда, окно в сад. Пахнет сиренью и дымом Славкиных сигарет. Чай давно остыл, мы всё говорим, говорим. Славка снова развёлся, оставил бывшей жене квартиру, перебрался за Днепр. Ушёл из Драмтеатра в Молодёжный, там такие ребята, так работают, так горят у них глаза, особенно у одной девочки — она приехала недавно из Брянска.
А у тебя, Мих? Две новых повести, десяток-другой рассказов, черновик романа — третий год не могу закончить. Прага, мама, бабушка, Петроград, Париж, Барселона, институтские друзья, Лондон, Гавана… Всё мотаешься? Всё мотаюсь. Отчего в Днепровском так давно не бывал? Больно? Думал, будет больнее. Рад, что приехал, что с тобой встретился, Славка. А помнишь, Мишка? Помнишь? Помнишь…
Помню. Сигареты и сирень.
* * *
Машка-Ромашка, Мириам Розенберг, девочка с глазами цвета крепкого чая, девочка из дома напротив — там, на Лесной, в детстве. Бумажные самолётики с балкона на балкон, зашифрованные послания, секретные планы, тайные чертежи. Лучшие мои летние друзья — Маша и Славка. Он обижался, не понимал, как можно дружить с девчонкой, говорить с ней о таких важных вещах, как лабиринты, клады, экспедиции, Дом.
Мы с Ромашкой неожиданно повзрослели, всё изменилось. На два дома, на два города, то вместе, то порознь мы прожили лет десять. Нет, больше, почти одиннадцать. Той зимой мы опять расстались. Маша уехала, я несколько недель почти не выходил на улицу. Писал, перечёркивал, рвал, выбрасывал. Я и не заметил, как прошёл март, апрель, начался и почти закончился май. Потом вдруг взял билет до Днепровского, дошёл пешком от Петроградского вокзала до Лесной, купил по дороге полсотни тюльпанов. Встал под окнами, закричал, как много лет назад, на всю тихую улицу:
— Ромашка-а-а-а!
Мы сидели у подъезда под сиреневым кустом, Маша курила свои любимые Vichy Blanc.
— Мишань, а я замуж выхожу.
— За меня?
— Нет, не за тебя. Прости.
Я простил. Правда, не сразу.
* * *
Мы проговорили до середины ночи. Славка рассказывал про свой театр, про общих знакомых, про перемены в городе. Решили завтра не очень поздно встать, пройтись по центру, а потом сесть за пьесу.
Я проснулся буквально через час-полтора — дурной сон. Ворочался, смотрел, как светлеет за окном небо, сел с книгой за стол на веранде, зажёг лампу, заварил чай. Пришёл сонный Славик.
— Хозяйничаешь? А спать кто за тебя будет? Ты мне живой нужен.
— Сон нехороший приснился, пришлось из него выходить, не спится теперь.
— Выходить?
— Ну да, как из компьютерной игры.
— Я так не умею, Мих.
— Надо во сне понять, что спишь, и сон кончится. Случается, правда, просыпаешься в другом сне, уровнем выше, тогда нужно снова понять, что спишь, и выйти. Я как-то раз заблудился, только уровней через пять дошёл до нашего с тобой этажа мироздания.
— Чжуань-цзы, — задумчиво сказал Славка. — Часто ты подобным образом путешествуешь?
— Когда много работаю. Ну и просто так бывает, без видимых причин.
— А что снится-то? Не хочешь, не говори.
— Что угодно, а потом на западе встаёт ещё одно солнце. Мир залит невозможным двойным светом, от этого «не может быть» перехватывает дыхание. Бегу, проваливаюсь сквозь слои сна, чужое солнце идёт за мной, поднимается из-за горизонта во всех вселенных.
— Ты гений, Мигель, даже когда спишь! Это же готовое решение для спектакля. Представь себе в глубине сцены город на высоких холмах. Мы светим на него диагональным, потом включаем боковой — тёплый, янтарный. Сюжет? Пусть будет женщина… Девушка, которая гуляла по снам и заблудилась. Иные, призрачные миры, странные встречи, дорога домой. Зритель до самого конца не будет знать, что ей снится, а что происходит наяву. Авиньон у наших ног, братишка!
— Да ну тебя, Славка. Чушь.
— Ладно, за мной кошмары не гоняются, пойду дальше спать, — обиделся, что ли? — А ты посиди тут, подумай о своём поведении. И не выкури, пожалуйста, все мои сигареты. Ах да, ты ведь не куришь.
Не курю, а Славик не пьёт. Вот тут у нас полная несовместимость.
* * *
День провели на ногах, где только не побывали. Новая набережная с корабликами, Дозорная башня, которую всё никак не отремонтируют, деревянный мостик через речку Вишню, кафе «Ронсар» на Гоголевском — его открыли буквально на днях, заливные луга вдоль Днепра, старые дворы. Вечером пришли на Лесную к Славкиным родителям. Дядя Игорь такой же огромный, как Славик, совсем седой. Тётя Аня отлично выглядит и замечательно готовит. Обрадовались, расспрашивали, рассказывали, передавали приветы. Предлагали ночевать у них, но Славка сказал строго и многозначительно: «Нам надо работать».
Стояли во дворе, смотрели на звёзды, на бледное облако Млечного Пути. За деревьями слепым великаном, чёрной горой возвышался Дом.
* * *
Опять веранда, сирень, сигареты.
— Ты много куришь, Славка. А что с Домом?
— Да всё то же. Вроде купил его кто-то, гостиницу хотел сделать, но разорился. Года три назад город пробовал за него взяться, закончилось всё новым забором. Говорят, пацаны по-прежнему туда лазают — ходить по балке.
Славик замолчал, задумался.
— Знаешь, Мих, я ведь так и не пошёл туда.
Вершина мальчишеской доблести нашей — Эверест, нет, пожалуй, Кайлас — забраться в Дом, найти комнату на последнем этаже, где сняты перекрытия до самой земли, по двутавровой стальной балке дойти до окна и вылезти на пожарную лестницу.
— Ну и ладно, я тоже никогда в Доме не был. Зато сколько баек насочинял…
Тень скользнула по Славкиному лицу.
— Мишель, ты проходил по балке.
— Брось, не осмелился бы ни в детстве, ни сейчас, я же всё на ходу выдумывал. Вспомни хоть историю про подвал: десять-двадцать-тридцать ярусов вниз, ржавый люк, затопленный лабиринт. А белобрысый тот… Из Иваново-Вознесенска, тоже к деду с бабушкой приезжал…
— Королёв, кажется, Стёпка.
— Вроде да. Так вот, слушал он мои рассказы, слушал, а потом возьми да и скажи — всё, мол, верно, я тоже нашёл люк, спустился до девятого яруса, но потерял фонарик и в темноте плюхнулся в подземную реку. Плыл по ней, пока его в Днепр не вынесло. Брехло был этот Королёв не хуже меня. Помнишь?
— Помню, — пробормотал Славик.
— Что мне оставалось делать? Сказал, что видел реку, но свернул не направо, а налево. И он знает, что я вру, фантазирую, и я про него знаю, и есть только один способ разоблачить его враньё — сказать, что я сам всё придумал. А жалко, такая байка получилась. Все верили, кроме Стёпки, даже ты верил.
Славка хмыкнул с сомнением.
— Мих, серьёзно, ты ходил по балке. Я стоял с пацанами за забором, на пустыре, своими глазами видел, как ты вылезаешь на пожарку. Клянусь.
* * *
— Зачем? — Славик настаивал.
— Да сны эти дурацкие. Я советовался с психологами, просто с умными людьми разговаривал. Вместе копались в прошлом, но — zero, никаких зацепок, только общие слова. Сильное, мол, переживание в детстве. А тут целая страница из жизни вырвана, может быть, не одна. Книга с секретом, странички без номеров — пока случайно не наткнёшься, не узнаешь, что они были.
— Мишка-книжка-кочерыжка!
— Славка-малявка, лиловая козявка! Ты рассказываешь, а я ничего не могу вспомнить: ни как подначивали меня старшие мальчишки, ни подготовку к походу, ни Дом, ни балку, ни пожарную лестницу. Не высота же меня так напугала. Я увидел что-то или кого-то страшней высоты, сбежал, забыл, спрятал на дне памяти, думал — навсегда. Что, если оно затаилось до времени и теперь пытается напомнить о себе, стучится в мои сны?
— Ты странный вышел оттуда, но из Дома все странными выходят. Ну так ребята говорили. Сам-то я никого, кроме тебя, не видел, кто вылезал бы из этого окна под крышей.
Славик сидит с ногами на подоконнике, дымит в ночной сад. Безветрие, соловьи, случайные машины далеко внизу, на Смоленском шоссе. Тишина. Та тишина, о которой он мечтал.
— Хорошо, Мигель, давай вместе сходим. Мне не нравится эта затея, но раз ты собрался…
— Спасибо. Ты говоришь, что тогда я ходил один, придётся и сейчас идти одному, хочу вспомнить. У тебя же была перечерченная у кого-то карта Дома? Найдёшь?
Славка смутился.
— Я сам её нарисовал, посчитал этажи и окна, остальное выдумал. Наверное, все эти карты на тетрадных листах в клетку такие же, как моя. Никто ведь их не проверял.
* * *
Воздух, как кисель, вязкий. Тяжело идти. Стоять. Дышать. Словно за забором иное пространство. Я не смог протиснуться в дырку, нашёл какие-то ящики, перелез, спрыгнул неловко.
Краска на стенах давно выцвела, облупилась, стёкол нет, на окнах решётки — ржавые, но, похоже, крепкие. За ними — влажная темнота, холодок, как из петроградской подворотни в жаркий день. Дом дальше от забора, чем я думал. Или я подхожу, а он отодвигается.
Сквозь душный сумрак иду по парадной лестнице. Каждая ступенька выше предыдущей, лестница всё круче, она почти вертикально поднимается к потолку, исчезает в тёмно-сером тумане. Не могу больше. Останавливаюсь. Оглядываюсь.
Нет, я так и стою у входа. Двери крест-накрест забиты досками. Как мальчишки попадают в Дом? Так же, как я, — врут?
* * *
Тёмный коридор. Почему он тёмный? Почему закрыты все двери? Кто за ними? Что?
Через весь Дом иду на свет, к маленькому мутному окну. Кто-то идёт мне навстречу. Останавливаюсь — замирает, смотрит в упор, молчит. Я иду дальше — он идёт. Хрустит под ногами битое стекло, скрипят доски, ломаются под тяжёлыми ботинками тонкие кости давно умерших, высохших голубей. Я иду. Он идёт. Не споткнуться, не поскользнуться, не упасть во всё это руками, лицом. Я. Он. Не выдерживает доска, ломается с пушечным треском. Проваливаюсь, падаю, успеваю лишь заметить — тот, другой, исчез.
Всё та же площадка перед входом. Я никуда не упал, нигде не был, снова обманул меня Дом.
* * *
«Мы летали, мы летали, наши клылышки устали. Мы на клыше отдохнём и опять летать начнём! Плавда, Мишка?»
Оборачиваюсь. Девочка лет пяти разговаривает с игрушечным медвежонком. Далеко, на той стороне Дома.
— Что ты здесь делаешь? — кричу. — Тут же опасно!
Иду к ней. Рыженькая, в старомодном платье и сандалиях, точь-в-точь Ромашка с той детской фотокарточки. Выцветший моментальный снимок и ключ от квартиры на Лесной, где жили дед с бабушкой, где выросла мама, — два талисмана в потайном кармане моего бумажника. Всегда. На память, на счастье.
Женский голос будто из окна:
— Дочка, ты где? Кто там с тобой?
Девочка убегает, скрывается за Домом. Я иду следом, сворачиваю за угол. Никого. Из-под двери подвала, заколоченной наглухо пятидюймовыми гвоздями, торчит лапка плюшевого медведя.
Козырёк над входом в подъезд. Если выдержат кронштейны водосточной трубы, можно добраться до него, а оттуда — до окна второго этажа. Я всегда был плохим физкультурником, а за последний год ещё и отъелся на маминых сырниках. Взрослый мужик, куда меня черти несут? Прыгаю с трубы, пытаюсь ухватиться руками за козырёк, промахиваюсь, падаю, лезу снова. Третий от земли кронштейн неприятно болтается. Прыгаю, подтягиваюсь, срываюсь. Так я ничего и не вспомнил пока о своей детской вылазке. Ну не может же Славка врать, ошибаться?
* * *
Просто старый дом, запущенный, скучный. Строительный мусор, мешки с окаменевшим цементом по углам комнат, оторванные клочьями обои, из-под них выглядывают бурые от времени газеты пятидесятилетней, наверное, давности. Доски скрипят под ногами, под полом кто-то шуршит, разбегается. Крысы?
Шаги. Мои? Нет, не мои. Замираю, задерживаю дыхание. Никого. Иду дальше. Опять шаги, шорохи, голоса, тихие, как лёгкий ветер. Он зовёт меня, этот ветерок. «Ми-и-и-иша, Ми-и-и-иша… Слы-ы-ы-ышишь? Слы-ы-ы-ышишь? Ти-и-и-ише, ти-и-и-ише… Вы-ы-ы-ыше, вы-ы-ы-ыше…» Слышу. Иду тише, поднимаюсь выше. Последний этаж. Голос ветра вмиг затихает, за окнами, словно выключили его, гаснет солнце, Дом проваливается в ночь, и я вместе с ним.
* * *
Совсем стемнело. Я вдруг очнулся — так и стою здесь с середины дня, загипнотизирован Домом. Кое-как перебрался через забор, пошёл наугад, по памяти, на тёплые огоньки живых домов.
Ромашкино окно, тонкие занавески. Знакомый силуэт то появляется, то исчезает в глубине комнаты. Незнакомый силуэт — крупный, склонный к полноте мужчина с младенцем на руках. А я и не знал.
* * *
— Славка, у Ромашки, оказывается, ребёнок.
— Да, мальчик. Не стал говорить тебе. Угадай, как его зовут.
— Не хочу.
— Ты их встретил? Гуляли во дворе?
— Нет, в окне увидел сквозь занавески — Машкин муж малыша баюкает.
— А тебе мама в детстве не говорила, Михаил, что нехорошо в чужие окна заглядывать?
Я что-то буркнул в ответ, отпил ристретто, поморщился от удовольствия. Там, на Лесной, я вспомнил вдруг про телефон, включил, увидел восемь пропущенных звонков от Славика — беспокоится. Перезвонил, договорились встретиться в «Терра инкогнита» у Золотых ворот.
— Муж её, Руслан, кстати, неплохой человек. Постарше нас лет на пять, инженером на «Алмазе» работает. Земной, надёжный, как железобетон.
— Полная противоположность мне.
— Пожалуй. Мих, пойдём на крепость?
* * *
По узкому ходу мы поднялись на стену, на верхний бой, при свете Славкиной зажигалки — я и не подумал взять с собой фонарик. Двадцать лет назад ни за что бы не забыл. Мы готовились к экспедициям за неделю, продумывали каждую деталь, втихаря таскали из дома всё необходимое, прятали в тайник за сараями. Пусть ни одна из тех славных экспедиций так и не состоялась, зато была подготовка, секретные переговоры, шифры — всё, что превращало нас из ватаги балбесов в партизанский отряд, в рыцарский орден, в братство. Странно, я ведь никогда не писал о наших похождениях. Все истории остались в тёплых вечерах детства, в долгих разговорах, тихих от близости тайны, на вишнёвой поляне за сараями на окраине нашего двора да ещё в памяти давно повзрослевших мальчишек. Завтра же сяду за рассказ.
Мы стоим высоко над отцветшими яблонями, над частными маленькими домами, где все уже спят, почти вровень с куполами Софии Днепровской — огромного, древнего, как сам город на холмах над рекой, много раз перестроенного собора. Светится вдали, за темнотой Трубежского оврага, паутинка центральных улиц.
— Ну как Дом, Мих? Я два часа жду твоего рассказа. Вот помру от любопытства, кто позаботится тогда о моих престарелых родителях и брошенных жёнах?
— Тьфу, дурак. Постучи по дереву или по своей глупой лохматой голове.
Как же я отвык от него — огромного, шумного мечтателя и недотёпы. Всё детство мечтал о брате, но родители не могли больше иметь детей. Моим братом целое лето был Славка — то старшим, то младшим.
— Не пустил меня Дом.
— То есть?
— Несколько раз я будто вошёл туда. Хожу по коридорам, по комнатам и… просыпаюсь — стою у забитого досками центрального входа. Так день пролетел. И знаешь… Каждый раз он внутри разный.
Я рассказал Славке всё, что смог вспомнить. Он слушал внимательно, иногда переспрашивал, уточнял.
— Это не Дом тебя не пустил, Мишка, ты сам себя туда не пустил, — сказал Славик, словно диагноз поставил.
Мы смотрели молча на город, пока не замёрзли, потом спустились с неба на землю и пошли к Никольским воротам ловить такси до Воскресенки.
* * *
Пьесу мы написали недели за три. Не сочинили, конечно, с чистого листа — адаптировали для сцены мою первую повесть.
— Мишаня, я всё придумал!
Так началось моё утро после неудачного похода в Дом.
— А… Во-о-от кто всё придумал… — сонно бормочу в ответ. — И мир создал тоже ты? Тогда объясни, почему число Пи такое странное.
— Ты пьесу писать приехал или по пыльным домам шляться? Вставай, нас ждут великие дела. Твой кофе, Мих.
Славик вручил мне кружку с какой-то бурдой. Я сижу в одних трусах на смятой постели на диване в гостиной и бездумно отхлёбываю вязкую субстанцию. Настолько, впрочем, мерзкую, что начинаю просыпаться.
— Итак, Антон мой Павлович, за работу. У тебя есть рассказ или короткая повесть «Песня вечерней реки».
— Угу.
Гуляли мы однажды с Ромашкой — двадцатилетние, счастливые — по дальнему Заднепровью. Из этой прогулки родился сюжет. Я брался за него несколько раз, начинал писать, чувствовал — нет, не то. Бросал, откладывал, возвращался — «Река» меня не отпускала. И так лет пять. И вдруг получилось. И начались дурные сны. Но повесть-то не о Доме, я просто придумал город…
— Хорошая история, мне всегда нравилась. А сегодня проснулся рано…
— …И разбудил меня. Ты, оказывается, злобный жаворонок, Святославище.
— Да я ещё целый час терпел! Валялся на кровати, смотрел в окно на небо над Днепром и видел твою «Реку» на сцене. Спектакль на двоих — короткий, яркий, как взрыв Бетельгейзе. А? Берёмся, Мишка?
* * *
Взялись. Мы не выходили из дома, ни с кем не общались. Раз в пару дней приезжала на маленьком синем «Паккарде» девушка из театра — Алина, Алька — привозила еду, готовила. С укором смотрела на наши небритые физиономии, морщилась от табачного дыма и возвращалась в город. Мы спорили, читали вслух по ролям, ругались, мирились, я отстаивал каждую букву, Славик вгрызался в текст, перекраивал, переставлял, выбрасывал, говорил, это, мол, не проза, это театр, тут свои ритмы, другая гармония. А то вдруг брался рисовать эскизы декораций. Я всегда думал, что художник из него, как из меня танцор, но он в несколько штрихов делал удивительно ясный набросок.
— Стоп! — напугал меня Славик как-то вечером.
— Что случилось?
— Мы совсем забыли про песню, Мишель. Давай думать.
В повести я ничего толком не рассказал о песне реки — пусть каждый читатель услышит свою. Потом приходили письма с версиями, предположениями, настойчивыми просьбами по секрету рассказать, что же пела девушка с другого берега тем вечером в июне. Кто-то сочинял песни для неё, присылал вместе с нотами. Нотной грамоте я не обучен, и слухом природа не наградила. Мой петроградский приятель Антон с листа наигрывал эти мелодии на губной гармошке. Ничего интересного, графомания. Я складывал из писем кораблики и пускал их в Неву.
Славка был настойчив, мы целую ночь слушали разные записи из его огромной фонотеки: он хотел, чтобы я внезапно услышал «ту самую». Легли спать на рассвете, в ушах тысячей инструментов и голосов звенела разнообразная музыка, песни на всех языках мира.
Мы писали, сомневались, обсуждали, переписывали, повесть превращалась в пьесу, а в Новгород-Днепровский пришло лето.
* * *
Лето. Вишни, смородина, малина, крыжовник, яблоки, земляника, а потом черника в Печерском лесу, рассветы, закаты, солнечные грибные дожди, августовские туманы, купание в Днепре, посиделки со Славкиными друзьями, гитара и флейта, Алькины волшебные пирожные, кино по ночам, три велосипеда — два больших и один поменьше.
Я понял, что пора уезжать, когда однажды вечером, в самом конце этого чудного лета втроём, Алька по-детски восторженно, как старшего брата, поцеловала меня. И смутилась, посерьёзнела, прочитала в моих глазах что-то давно и, как казалось, надёжно спрятанное, услышала нескáзанные слова. Славка будто не заметил, расстроился, когда я сказал на следующий день, что еду в Петроград походить по издательствам с новыми рассказами и повестью — они родились сами собою из летних запахов, вкусов, мелодий, фантазий, разговоров. Звал вернуться, как только улажу дела, провести в Новгороде осень и зиму, работать вместе над спектаклем. Хотел, чтобы я увидел Алю на сцене в роли героини моей повести, нашей пьесы. И его, Славку, разумеется, в роли главного героя. Эх, Славик, брат ты мой по лету, ну как я тебе объясню, почему нет? Соврал, что постараюсь.
Два дня до отъезда, прощальные (не знаю, надолго ли) прогулки по городу. Везде побывали, всех повидали. Одна дверь внутри меня осталась незакрытой, один вопрос без ответа — Дом, балка.
* * *
Идея категорически не понравилась Славику. Сидеть ночью под деревом у дверей, которые никогда не откроются? Вздор, бессмыслица. Но я не могу войти туда днём, Дом играет со мной, наизнанку выворачивает мою реальность. Во сне я хозяин. Вспомню всё, проснусь и наяву пройду тем же маршрутом.
Тёплые штаны, куртка с капюшоном, походные ботинки. Фонарик, запасные батарейки в кармане. Уснуть и видеть сны. Но не спится пока, сижу под сентябрьским небом — холодным, чистым. Созвездия одно за другим уползают за Дом, из-за деревьев появляются новые. Я рассказываю звёздам долгие сказки, и они начинают мне отвечать. «Ми-и-и-иша, Ми-и-и-иша… Слы-ы-ы-ышишь? Слы-ы-ы-ышишь? Ти-и-и-ише, ти-и-и-ише… Вы-ы-ы-ыше, вы-ы-ы-ыше…»
Середина ночи. Я проснулся всё под тем же старым тополем и теперь точно знаю, куда идти.
* * *
Пожарная лестница с западной стороны Дома, никто не увидит, не крикнет «А ну, слезай!». Дальше нет ни улиц, ни домов — пустырь, а за ним Чудов бор. Нижняя ступенька слишком высоко, не залезть на неё, не забраться по пожарке в Дом. Зато можно вылезти из окна на последнем этаже, спуститься, повиснуть на руках, раскачаться, спрыгнуть в высокую траву и небрежно соврать притихшим мальчишкам, что ты прошёл по балке и это вовсе не так страшно, как они рассказывали. Не знаю, кто и когда соврал первым, да только нет никаких балок в той комнате под самой крышей, никто не смотрел, холодный от страха, вниз сквозь этажи. Пахнущие пылью рулоны утеплителя на полу, на обычном полу, на старом, вздыбленном от влажности паркете, дохлая кошка, битое стекло — россыпь самоцветов в луче моего фонарика. Из коридора уже виден выход на пожарную лестницу.
Я стою на пороге соседней комнаты. Балка здесь. Подо мной пятьдесят футов пустоты, тёмный колодец — сняты перекрытия до первого этажа, на дне чудится какое-то движение, ночь проникает в Дом, наполняет его, растёт, дышит. Ды-ы-ы-ышит… Но из того окна, что по другую сторону балки, пристально смотрит на меня восходящее солнце. Грязная комната на последнем этаже заброшенного дома залита янтарными лучами, сверкают неподвижно, будто затаив дыхание, пылинки. Далёкий восход — живой, тёплый в холодной темноте — страшнее ночных и дневных кошмаров, страшнее высоты и безумия. Его не может быть. Не встаёт солнце на западе, не бывает рассветов посреди ночи и чужих миров за окном. Ведь не бывает, правда?
Так уже было со мной. Я снова хочу спрятаться от этого света, стать маленьким, очень маленьким, и чтобы рядом были мама и папа. Не видеть, не слышать, забыть, забыть. Но светлое окно среди чёрных, невозможное, зовёт меня: «Ми-и-и-иша, Ми-и-и-иша… Слы-ы-ы-ышишь? Слы-ы-ы-ышишь?»
Медные с огненной искрой бабочки, яркие — сотни маленьких солнц — танцуют в утреннем сиянии. По балке, не замечая пропасть в пять этажей под ногами, иду на зов, настежь открываю слепые, без стёкол, рамы, смотрю вперёд, вниз. Долина знакомой незнакомой реки, сиреневые горы, осенний разноцветный лес. У самого горизонта — белый, розовый в утреннем свете, город. Древняя крепость и купола храмов неведомых мне богов? Дома-дворцы будущего парят над землёй? Над долиной медленно поднимается полуденная звезда совсем иного мира.
Бабочки без боязни перелетают из одной Вселенной в другую, вьются вокруг меня, возвращаются назад, манят за собой. Я замер на границе миров, на солнечном луче, на балке в Доме и у окна башни на белой скале. Этот город на краю окоёма я писал в рассказах, повестях, придумывал площади, улицы, холмы и овраги, фонтаны и мосты, населял людьми и не только людьми. Когда сочинял «Песню вечерней реки», подошёл слишком близко, и мир за окном стал мне сниться, тревожить: «Вспомни, вспо-о-о-омни…». Я вспомнил, вернулся в детство, к моим urbi et orbi, мне тридцать четыре и снова тринадцать, а ледяной страх перед чудом вдруг растаял в утреннем тепле. Больше ничего не забуду, обещаю тебе.
Я выдумал, почувствовал, увидел тебя. Ты под разными именами жила… живёшь в этом городе в разных моих историях. Я знаю, как тебя зовут на самом деле, как называется город, но эти имена не для читателей.
Два космоса — твой и мой — встретились здесь, в тихом уголке пространства-времени, чтобы однажды разойтись, кружатся в медленном вальсе, робко касаются друг друга. Взлетают в два неба искры-бабочки. Окно открыто, всё ещё открыто, твой мир зовёт, ты зовёшь меня. Нужны всего лишь крылья — с пыльного подоконника шагнуть без боязни в залитую рассветом бездну.
* * *
Серое утро пахнет осенью, я сижу под тополем у центрального входа. Джинсы грязные, на ботинки без слёз не взглянешь, рукав куртки порван. Рядом лежит фонарик, светит еле-еле, наверное, включил его и не заметил. Я был ночью в Доме? Ничего не помню, кроме золотого света из какого-то окна, но мне так светло сейчас, и уже не будет дурных снов. Закрываю глаза, хочу сохранить хоть каплю того сияния, не потерять, не забыть, чтобы вернуться когда-нибудь, непременно, обязательно. Не сейчас, нет.
Прощаюсь с Домом, провожу рукой по старым кирпичам. Вспархивают со стены напуганные мной бабочки, медные с огненной искрой — сотни маленьких солнц. Я смотрю, как они танцуют: странный танец, неевклидова геометрия. Смотрю, как поднимается рубиновое облако над двором, над деревьями, улетает за дальние дома, тает, как сон. Мне снились бабочки?
Пискнул в кармане телефон. Славик? Нет, Аля. «Миша, с тобой всё в порядке? Я очень беспокоюсь».
Пора уезжать.
* * *
Снова май, снова сирень. Я лежу на прохладной земле, на газоне Марсова поля. Ветер с залива, по весёлому весеннему небу бегут барашки-облака. Звонок. Славка.
— Михаил Святославич шлёт тебе привет.
Молчу.
— Сын у нас позавчера родился, сын! Назвали Мишей в твою честь. Алька так захотела, да и я, понятно, не возражал. Приезжай знакомиться.
Сын. У Али родился сын. У Али и Славика… Надо что-то сказать в ответ, спросить, поздравить.
— Так приедешь, Мих?
— Да.
Мы долго разговаривали обо всём на свете. Нет, Славка говорил, я отвечал, иногда невпопад.
— Живём на Лесной, поближе к родителям.
— Как же твоя мечта о тишине?
— Какая тишина, что ты? У нас теперь Мишка. И Лесная наша больше не тихая, за неё взялись, за весь район. Чудов бор благоустраивают, аллейки-скамейки, арочки-фонарики в парижском стиле, на пустыре вон стройку затеяли…
— А Дом?
— А Дом снесли.
15 мая 2010 — 12 июня 2015 года
Москва — Смоленск — Великий Новгород — Санкт-Петербург
Охотник и лабиринт
«На интересную творческую работу требуется мужчина от 25 до 40 лет с филологическим образованием. Работа на дому, оплата сдельная по результатам собеседования. Телефон: 276—91—16».
* * *
— Что ты от меня хочешь? Чтобы я пошёл работать в рекламное агентство и по восемь часов в день сочинял речёвки для стирального порошка? «Порошок «Привет‟ — пятен больше нет!» Я ведь писатель, Катя.
— Панаев и Скабичевский, — съехидничала жена. — Я хочу, чтобы ты включил мозг, Саня. Не могу больше одалживать деньги до твоего мифического гонорара, мне стыдно. Газету тебе вчера принесла с объявлением, ты позвонил?
Нет. Я весь день писал, потом разозлился вдруг, разорвал исписанную школьную тетрадь, кинул в ведро. И сегодня не позвонил, и вообще не собирался.
— Мне уже подруги подсказывают какие-то идеи для тебя. Вот, Даша «Вечёрку» передала, а ты даже не пошевелился.
— Я тебя всё равно люблю, Катарина.
На следующий день Катя ушла. Писатель Саша вернулся из издательства с двумя неопределёнными обещаниями вместо денег. Дома никого, в шкафу пустые вешалки для платьев, пустая полка перед зеркалом в ванной, одна зубная щётка, одни тапки. На подушке лежит корешком вверх раскрытый сборник стихов Сапфо. Сколько раз просил её не класть так книги. Переворачиваю. Вдруг записку оставила? Нет, эпиталама, одно из любимых Катиных стихотворений.
Эй, потолок поднимайте О Гименей! Выше, плотники, выше, О Гименей! Входит жених, подобный Арею, Выше самых высоких мужей!М-да, за Арея спасибо, яснее любых записок. Позвонил наудачу — телефон выключен. Грязно выругался. Правда, с фантазией, с интересными метафорами. Литератор, non penis canis est.
Как-то жить, что-то есть, платить за квартиру… Через два дня в «Наблюдателе» неожиданно напечатали «Золотую ветвь», прислали гонорар, ещё неделю можно не думать о бытовых пустяках. Но тихо, пусто, скучно, нестерпимо скучно даже придумывать истории. Не знал, что жена занимает в жизни так много места. Ещё пару лет назад дороже всего на свете было для меня это беззаботное одиночество.
Я вспомнил про газету, с трудом нашёл её, позвонил — вдруг что-то интересное.
* * *
Познакомились, обменялись несколькими ничего не значащими фразами. Мужчина средних лет, невысокого роста, лысый, как колобок, одет дорого, но со вкусом. Между большим и указательным пальцами на левой руке след от сведённой татуировки — похоже, там было слово или имя. Заметно прихрамывает, ходит, впрочем, без трости.
— В последнее время у обеспеченных людей в нашем городе вошла в моду игра, что-то вроде казаков-разбойников, если помните из детства.
— Сам не играл, по книгам знаю.
— По книгам? Хорошо. Так вот, я занимаюсь организацией подобного рода развлечений, но стремлюсь в то же время предлагать игрокам загадки посложнее, развивать их логическое мышление, фантазию, в идеале — эрудицию.
— И зачем Вам, простите, филолог?
— Вы будете придумывать новые слова. Я объясню Вам несколько простых правил, дальше — полная свобода творчества. Ваши придумки будут написаны на асфальте, на стенах домов.
— Но…
— Не волнуйтесь, я заказал в Нидерландах специальные маркеры, их смоет первый же дождь. По всей вероятности, Вас интересует вопрос оплаты. Вы вступаете в своего рода соревнование с моими игроками. От того, насколько сложной окажется задача, будет зависеть Ваш гонорар. За особенно интересную игру я готов заплатить десять, возможно, двенадцать. Ну что, по рукам?
— Прошу прощения, мне надо подумать.
— Ах, да. Извольте. Не стану скрывать, Вы произвели на меня благоприятное впечатление, я даже помню Ваши рассказы, читал, кажется, в «Юности»; но Вы не единственный соискатель. Жду Вашего решения до восьми часов завтрашнего вечера.
Мой собеседник подозвал официантку, расплатился за кофе.
— Был рад познакомиться с Вами, Александр.
— Взаимно, Яков Арнольдович. В любом случае я Вам позвоню.
* * *
Врёт, селезёнкой чувствую, чем-то ему приглянулся именно я. Непонятная история, я ведь не рыжий, и банковского хранилища рядом с моим домом нет. Впрочем, хорохорился писатель Саша скорее для вида, работа, какой бы странной ни казалась, обещала быть интересной — по крайней мере, вначале. И гонорары. За рассказ, что писался месяц, «Наблюдатель» заплатил всего пятак, а тут десятка, если не двенадцать, за какие-то там слова. Но сказал «подумаю» — придётся создавать видимость. Я позвонил Якову Арнольдовичу на следующий день в четвёртом часу и был приглашён на полдник.
Многоквартирный дом в переулках за Садовым, неопрятный подъезд, облупившаяся краска на стенах, коляски, велосипеды. Дверь обита дерматином, номер прикручен чуть неровно. Я позвонил, звонка не услышал, хотел снова нажать на кнопку, но дверь открылась. Яков Арнольдович поздоровался, пригласил зайти. Тусклый свет в прихожей, скрипучий паркет, обои — ровесники дома. Хозяин кивнул, вот, мол, тапки. Дверь в комнату металлическая, отпирается бесшумно по отпечаткам двух пальцев. Зачем? Что хранить, какие секреты?
Комната не большая, нет, неприлично огромная — в трёхкомнатной квартире снесли все перегородки и превратили этот космос в кабинет. Пол цвета морёного дуба, снежно-белые стены с панелями из тёмного дерева и матовыми стальными вставками. Мебель — эбен и оранжевая кожа неведомых животных. Тонкие запахи экзотических цветов. Водопад меж двух слоёв стекла. Потайные светильники. Газовый камин.
— Нравится? — Яков Арнольдович явно был доволен, когда я оглядывался по сторонам, приоткрыв от удивления рот.
— Неожиданно, — бормочу в ответ. — Но Вы ведь здесь не живёте?
— Нет, конечно. Это, скажем так, рабочее пространство. Присаживайтесь, пожалуйста. Судя по Вашим рассказам, Вы кофеман? Кстати, поздравляю с новой публикацией. Главред «Наблюдателя» — мой добрый друг, он прислал мне вчера свежий номер. Неплох рассказ, неплох.
М-да, болтлив наш Яков Арнольдович.
— Спасибо. И от чашки кофе не откажусь.
* * *
Задача показалось несложной, я тут же придумал несколько слов.
— Нет, не так, — поправил заказчик. — Здесь пусть будет гласная, тут лучше сработают три согласных подряд. Запомните, mon ami, слова пишутся, не произносятся вслух. Благозвучность, к которой Вы стремитесь, не столь важна. Главное — точность, однозначность дешифровки.
За два часа и четыре чашки кофе удалось придумать и согласовать всего одно слово. А Якову Арнольдовичу, оказывается, были нужны целые трёхстишия из слов-фантазий, без рифмы, но с причудливым ритмом. Он давал первое слово, ключевое, дальше за дело брался я. Последняя строка должна спорить с первыми двумя, мешать им, будто перегораживать дорогу. Занятие для поэта-футуриста, но увлекло — я люблю давать вымышленные имена персонажам, городам, звёздам, даже мечтал устроиться на работу в какой-нибудь Институт урбанистики, изобретать названия для улиц в новых районах. Договорились, что к концу недели я пришлю первое…
— …Шмокку.
— Что, простите?
— Я всё думал, Яков Арнольдович, как их называть. Само собою родилось — хокку-шмокку.
Вежливая улыбка в ответ.
— Пусть так. Но не забывайте, пожалуйста, Саша, что для моих клиентов это игра, а для нас с Вами — работа.
* * *
Прошёл месяц, началась осень, любимое моё время. Сентябрь, начало октября — сезон сбора урожая новых рассказов, но не в этом году. Первое шмокку заказчик забраковал, второе, третье. Торопил, был зол, разочарован. С ворчанием взял только шестое или седьмое, сказал, что сам доработает, времени уже нет, дата игры назначена. Заплатил скромно, правда, и эти деньги пригодились — пятак от «Наблюдателя» давно кончился, новых публикаций не предвиделось.
Катя словно исчезла, сменила номер телефона, должно быть, уехала из города. Подруги, общие знакомые отмалчивались или в самом деле ничего не знали. Тёща устроила выволочку, нудную и бесполезную. С дочерью они поссорились ещё в мае, с тех пор Катарина к родителям — к матери и отчиму — не приезжала, не звонила ни разу. Впрочем, я снова стал привыкать к одиночеству, получать от него удовольствие. Что может быть приятнее, чем жалеть себя, покинутого любимой женой? Под негромкую музыку в гостиной (она же спальня, она же столовая, она же единственная комната в квартире) со стаканом «Айлэй Шторм». Жёсткий, с торфяным дымком виски — первое, что купил писатель Саша с гонорара за трёхстишие. Не беда, если потом придётся есть макароны и пельмени до следующей удачи.
Но дело пошло, шмокку стали вдруг получаться, на каждое уходило сначала дня два, потом — день. Игровой сезон у Якова Арнольдовича тоже начался неплохо, платил он исправно. Целыми днями до рези в глазах, до звона в ушах сочетал я звуки, нанизывал их на заданный ритмический рисунок, стал вносить в него сначала робкие, потом более уверенные изменения — заказчик их одобрил, неожиданно похвалил.
* * *
Был яркий день, погожий, сине-золотой, кажется, суббота. Я взял у себя (или дал себе) отгул, вышел в город, добрёл в задумчивости до любимых переулков Ивановой горки. Накануне вечером попался мне на глаза институтский фотоальбом. До поздней ночи рассматривал снимки, вспоминал имена, истории, приключения и злоключения. Мой институт был в старом здании по Спасо-Глинищевскому. Домик этот, если верить студенческому преданию, сыграл свою роль в истории литературы и искусства — здесь был любимый бордель Чехова. Мы не верили, но гордились. Я учился, даже подавал надежды. После (иногда вместо) занятий водил друзей своими маршрутами, устраивал для них экскурсии по подземельям, влюблялся, робко, впервые целовал однокурсницу в этой подворотне. Или в той? Выцарапывал на стене имя другой однокурсницы пару лет спустя. Пробую найти те четыре буквы, но они затерялись в затейливом узоре граффити. Рисунки, надписи в десятке разных стилей, теги — имена или прозвища, спортивные речёвки, стихотворение «В зоопарке умер лев», пара скабрёзных шуток, множество непонятных слов. Нет, вот одно знакомое — я придумал его с неделю назад, первое в третьей строке, контрапункт. Оно похоже на те слова, которые чудом не забываешь за секунду до пробуждения, берёшь с собой из снов в явь.
Дождём смоется? Как бы не так. Широкий чёрный маркер, жирный слой краски, чтобы буквы держались долго. Других моих неологизмов рядом не было. Я обошёл весь двор, в разных местах, на разной высоте нашёл ещё шесть слов из того же шмокку, но полное трёхстишие из них не собиралось. Все в одной манере, не похожи на прочие теги. Наверняка Яков Арнольдович был столь же придирчив к начертаниям букв, штрихам, лигатурам, выносным элементам, как и к самим словам. Интересно, что за сказку он рассказал бомберу, как объяснил свою дотошность и готовность платить? Ту же историю про игру для богатых чудаков?
В трёх соседних дворах и на фасаде дома по Старосадскому нашлись остальные слова. Почему в этих местах? Случайность? Прихоть заказчика? Подростком я лазал по подвалам старых домов, церквей, искал легендарные «красные стрелы». Не нашёл, но научился составлять и помнить карты, это пригодилось потом — с точностью до шага представлять пути своих героев по городам реальным и вымышленным. Я нарисовал в блокноте план квартала, раскидал слова, соединил стрелками. Чушь какая-то. А если… Яков Арнольдович требовал, чтобы третья строка спорила, конфликтовала с первыми двумя. Поменял направление стрелок, и концовка как бы запуталась в лабиринте слов первых двух строк. Да, ерунда, паутина, сплетённая пауком-постмодернистом. Кого ловить? Каких мух? Я вышел на Маросейку, дождался трамвая, поехал домой.
* * *
Сочинение трёхстиший уже не отнимало столько времени, я стал больше гулять. Раздал долги, мог позволить себе встречаться с друзьями-приятелями, не чувствовать мучительную неловкость, когда меня всё время угощают, и с каждым разом всё с меньшей охотой. Яков Арнольдович звонил нечасто, видно, накопился запас шмокку для тайных его дел.
Кончается сентябрь, холодает. Кати всё нет. Позвонила Даша, через несколько дней — Лера, интересовались, без особого, впрочем, беспокойства, не вернулась ли домой законная супруга. Хм-м-м… Не она ли попросила подруг разведать, в каком настроении пребывает покинутый муж? Нет, говорю, и ни слова от неё, ни строчки. У Катарины ведь шведское подданство, она могла вернуться в Стокгольм, домик снять или квартиру, устроиться на работу.
* * *
Ещё один шмокку-логизм я заметил в Камергерском над входом в кофейню. И тут же другой — на стекле фонаря. Буквы как только что написаны. Рискует бомбер — или платят хорошо, или легенда серьёзнее, чем для меня. Поймать бы его… Я мысленно прочертил стихо-паутину на карте и нырнул в проходной подъезд. Последнее слово должно появиться на стене трансформаторной будки рядом с Егорием каменным — Георгиевской церковью.
Вот он. Встав на цыпочки, вырисовывает буквы на стене. Походные бесформенные брюки, серое пальто с капюшоном.
— Молодой человек, что Вы тут делаете? — спрашиваю строго, воображаю себя полицейским. Граффитчик оборачивается. Из тени капюшона смотрит Катя. Не узнаёт, не видит, вовсе не на меня смотрит — сквозь. Нет, не она — моложе, черты лица жёстче. Нет, она.
— Катька!
Волна проходит по воздуху, другая, третья, ломается, гнётся пространство. Со всех сторон и ниоткуда я слышу крик на высочайшей из возможных частот, на пороге ультразвука. Кровь ударила в голову, рубиновый океан затопил весь мир. Я, кажется, упал.
Пришёл в себя на скамейке у Егория. Рядом дремлет бродяга, пахнет луком и перегаром, и от этого нестерпимо гудит голова. Больше вокруг никого.
* * *
Хожу и езжу по городу — по центру, по разным районам, рассматриваю граффити, начинаю различать стили, понимать тайнопись. Мёрзну, греюсь в кофейнях, пью много кофе и сплю скверно. Копаюсь в черновиках, пробую снова начать писать, мысли сбиваются на другое. От заказчика моего никаких известий, на звонки не отвечает. Я что-то нарушил в его планах?
Хотел зайти к нему — дверь никто не открыл. Выглянула из квартиры напротив любопытная соседка:
— Вы к кому, молодой человек?
— К Якову Арнольдовичу.
— Так там не живёт никто уже год. Вы, верно, адресом ошиблись.
Возвращаюсь на Иванову горку, ищу на стенах знакомые слова. Ни одного. То ли правда смыло их дождями, то ли записали-закрасили. И в Камергерском пусто.
* * *
— Кайт, ты знаешь эту девушку? — я показал бомберу фотографию жены.
— Мы же договорились — никаких лиц и имён. Откуда мне знать, что ты за овощ?
Нервный, длинный, он похож на богомола, готового напасть. Без возраста, из породы вечных мальчиков, в кожаных штанах и куртке-косоворотке.
— Хорошо, второй вопрос. Вот тег.
Рисую по памяти на салфетке слово со стены в Старосадском.
— Чей почерк?
— Чужак. В первый раз вижу такую графику, никто из наших так не метит. У Жирного в коллекции поищи.
Мой собеседник резко встал, вышел, почти выбежал из «Ронсара». В этом же кафе в конце июля мы встречались с Яковом Арнольдовичем. Я вернулся домой, стал изучать самое полное собрание городских граффити.
* * *
— Никто меня не пасёт. Кому я нужен? Писатель Саша, рассказики пишу.
— Не уверен. Что у тебя?
Пытаюсь повторить надпись, фотографирую, отправляю. Жирный отказался встречаться, не захотел созваниваться в видеорежиме. Только голос, и тот изменён.
— Так и думал, что ты об этих. Кайт сказал, ищет, мол, какой-то чудила невидимку. Зачем?
— Жена у меня пропала. Думал, просто ушла, но кое-что не сходится. Теги — зацепка.
— Это не теги. Выучил три-четыре наших слова и хочешь за своего сойти? Писатель…
— Дохлая крыса тебе за своего. Можешь помочь — помоги, нет — adieu.
Жирный задумался. Молчит, пыхтит.
— Не наш писал, какой-то дикий упырь. Никто из моих его не встречал, только его художества, иногда в таких местах, словно он и правда невидимка. Как его до сих пор не связали, не пойму. Может, сынок кого из высших от рук отбился, ловят и отпускают.
— Или дочка…
— Баба? Ты с пня упал, что ли, Грибоедов? Хотя…
Снова пыхтение. Думает. Мозгу нужен кислород, много кислорода.
— Не знаю, вряд ли. Завидуют, конечно, ему, наглости его, но по мне — пусть пишет свою белиберду. Красиво пишет, да. Ещё странность — маркер его. Вроде нормальный, крепкий, чёрный, но сегодня видели надписи, а назавтра исчезают бесследно, подчистую. Я этих историй про исчезнувшие буквы с лета столько наслушался…
— Где их находили? Адреса сможешь дать? Фотографии?
— Адреса дам, но на что они тебе? Там пусто. С фотографиями беда. Не видна эта краска на снимках, как будто водой писал твой невидимка. Мои уже чертовщину какую-то приплели, а я бы лет пять назад с таким маркером ох как побаловался…
— Завязал? Не бомбишь больше?
— Не бомблю больше, коллекционирую, малышню учу. У меня ног нет.
* * *
Что-то вырисовывается. В трёхстишии двадцать семь слогов. Я написал… Да где-то около того. Проверяю почту, пересчитываю принятые. Двадцать шесть, одного не хватает. Адресов от Жирного всего семнадцать, видно, не все надписи заметили. Как легко, между делом, он сказал про своё увечье. Откуда мне было знать? Неудобно получилось.
Составляю список по первым словам, распечатываю карту центра, отмечаю номера. Бомберы сильно переврали мои придумки, точек не хватает, но если соединить по порядку всё, в чём я уверен, выходит знакомая фигура — та, что сплеталась на Ивановой горке и в Камергерском. Часть фигуры — паук не завершил ещё работу над своей паутиной, четыре узелка осталось. Если, конечно, их не пропустили.
Итак, двадцать четвёртый — Каретные. Пусто. Двадцать пятый — Бронные, Спиридоновка. Никаких следов. Двадцать шестое трёхстишие, последнее из написанных мною, — Большая Никитская, Брюсов переулок, Хлынов тупик. Есть!
* * *
Двор бывшего доходного дома, слякоть, мелкий холодный дождь. Совсем свежая надпись на фонарном столбе. Да, разгадал головоломку, и что теперь? Ждать здесь Якова Арнольдовича? Катю? Столько времени потратил на эти поиски и не задумался даже, для чего.
Крик. Взрыв боли в ушах, в глазах, в мозгу. Тошнота. Тишина. В тишине шёпот, как шорох листьев на лёгком ветру:
— Ты пришёл за мной?
— Кто ты? — спрашиваю. Никого во дворе, оно говорит со мной отовсюду.
— Не охотник. Но твоя сила. Вплетена в слова.
— Я не охотник и не понимаю, что происходит.
Вру, начинаю понимать. Искривляется пространство двора, волны бегут по реальности, будто горячий воздух вибрирует над невидимым костром.
— Ловит ангелов. Нас. Знает наши имена. Лабиринт из имён и бессмысленных слов. Не выбраться. Он пробовал музыку — мы гибнем. Резонанс. Охотник идёт, слышу.
— Слова мои.
— Не только. Ещё та, которая пишет. Не важно. Слушай. Тяжело.
Передышка. Молчание.
— Нужно двадцать семь ангелов. Построить колесницу. Из нас. Мощнее Солнца. Он хочет. Не знаю. Поймай охотника. Последнее слово на нём.
— Та, которая пишет. Где она? Как найти? — я невольно попал в ритм речи ангела, задыхающегося в моей ловушке.
Заметно хромая, вышел из-за угла Яков Арнольдович. Тихо произнёс короткое слово, волны замерли на миг, и изломанное пространство выровнялось. Он достал из кармана плаща блокнот и карандаш, что-то записал, улыбнулся своим мыслям, побрёл, морщась от боли, в сторону Леонтьевского. Похоже, меня он не видел.
* * *
— Здравствуйте, Саша.
Яков Арнольдович позвонил на следующий день, поблагодарил за хорошую работу, извинился, что долго не было от него вестей, сослался на занятость, сказал, что сезон кончается, но прошёл более чем успешно, по весне игры непременно возобновятся и он надеется, рассчитывает, уверен, не сомневается. Мил и многословен. Охотник.
Сегодня задача будет сложнее, гонорар — выше. Надо сочинить семистишие с другим ритмическим рисунком. Он дал мне два слова — первое и последнее — и три дня. Создать ловушку для ангела, разгадать ритм, найти финишную точку, поймать охотника. Зачем? Заказчик мой говорил об игре. Что ж, извольте. Он знает, что делает, я только догадываюсь. Но охотник поймёт, что на него тоже объявлена охота, лишь в последний миг. Полагаю, шансы равны. Игра. Игра!
* * *
Утро. Иней на бурой траве. Время имеет значение — Яков Арнольдович наверняка будет спешить, если не поймал своего последнего ангела этой ночью. Я отправил семистишие поздно вечером, в первом часу мы ещё обсуждали минимальные исправления. Окончательная редакция была готова и принята в два. Заказчик поблагодарил, попрощался до весны, перевёл деньги. Мелочь, а приятно.
Рисунок на карте получается совсем иной, но приводит ангела, охотника и меня в ту же точку, что и трёхстишие.
Бывшая усадьба Кожиных. Место удобное: между церковью Космы и Дамиана и стеной флигеля, на которой появится… нет, не появится последняя надпись, есть щель. Я сижу на деревянном ящике, мёрзну, в десятый, в двадцатый раз перепроверяю мысленно свои расчёты, прикидки, допущения. Ошибся?
Нет. Вот она, Катя или не Катя, в демисезонном пальто с капюшоном. На здании с противоположной стороны двора рисует буквы, непохожие на все прочие граффити. Третья строка из семи. Она ещё дважды вернётся в этот двор. А надписи исчезнут, когда охотник вынет из ловушки ангела. Холодно, но мне жарко. Последнее слово пятой строки. Ещё минут семь. Она быстро ходит, быстро пишет. Холодно. Жарко. Предпоследнее слово на асфальте. Подбегает к стене, встаёт на цыпочки, чтобы написать последнее. Хватаю её сзади, зажимаю ладонью рот, крепко держу другой рукой, тащу в своё укрытие. Она безнадежно вырывается, но я крупнее и сильней. Катя? Не Катя? Она не видит моё лицо, я — её.
* * *
Во двор тяжело, через боль, входит охотник, мы еле успеваем вжаться в грязный сумрак между стенами. Он осматривает двор, ищет свою помощницу, зовёт незнакомым именем или словом. Она рвётся, кричит беззвучно сквозь мою ладонь. Не хочет он сам писать на стене последнее слово, но выхода нет, уйдёт добыча. Яков Арнольдович достаёт из кармана бежевого тренча маркер и медленно, покачиваясь, поднимается на фут над землёй. Я толкаю девушку вглубь, в щель. Слишком сильно — она падает на колени, на руки, но сожалеть некогда. Она кричит что-то — слово как крик чайки, оборачивается охотник. Поздно, мой ход. С размаха прихлопываю листок клейкой бумаги к его ноге. И тут начинается… Игра. Игра!
* * *
По охотнику идёт рябь, как от брошенного в воду камня — от чёрной надписи на белом листке, от последнего слова-имени. Он кричит непонятное, извивается в воздухе, падает, но встаёт во весь рост, кажется высоким, сильным, чертит в воздухе фигуры, становится плоским, двумерным, вертится, как флюгер на ветру, что-то проскакивает мимо, разбивается о пустоту. Охотник снова объёмный, он хлещет призрачными кнутами тех, кого хотел подчинить. Отбрасывает тени — две, четыре, десять, они мечутся по двору. Строит стену из слов, которые придумал для него я. Вспыхивает тёмным светом, останавливает бегущие низко над нами облака.
Но рабы-враги уже вырвались на свободу и замыкают круг, сплетают сферу, сближаются, душат его, рвут связи. Охотник вдруг сдаётся, гаснет, падает на колени. Невидимые влетают в него, вырывают куски, на их месте — пустота. Сквозь дыры в живом ещё охотнике вижу двор. Снова звук, острый, как игла, втыкается в уши, в глаза, в каждую клетку тела. Последнее, что успеваю заметить, — воронку свёрнутого нечеловеческой силой пространства на месте головы Якова Арнольдовича.
* * *
— Вот ты… — пристал ко мне как-то раз нетрезвый приятель. — З-з-зачем ты пиш-шешь?
— Некоторые вещи так проще понять.
— П-п-понять — знач'т упр-р-ростить, — буркнул он и задремал.
Я сел за рассказ, чтобы собраться с мыслями. Да, Яков Арнольдович попался глупо и просто, но кажется, будто в лабиринт заманили меня. Вся эта история похожа на ловушки, что мы ставили на ангелов. Составляю план, вспоминаю, пишу, нет, это не важно — вычёркиваю. Мои неудачи, Катя, объявление, встреча, легенда о развлечении для богатых, вторая встреча, хокку-шмокку, даты, адреса. Граффити, бомберы, пойманный ангел, который, разумеется, не ангел. Моё внезапное желание ввязаться в игру на своих правилах. Нет, не внезапное, я давно полез не в своё дело, начал искать надписи на стенах после случайной находки на Ивановой горке. Случайной? Вряд ли.
Семистишие. Разгадка. Развязка. Бинго! Я понял.
* * *
— Входит жених, подобный Арею. Здравствуй, Саня. Я знала, что ты догадаешься.
Катя встретила меня в прихожей, приложила два пальца к замку, сейфовая дверь открылась, мы вошли в кабинет Якова Арнольдовича. Редкий для ноября солнечный день, вечер, свет во все окна. Потолки и правда кажутся выше.
Мы сидим на диванах друг напротив друга. Враг напротив врага? На журнальном столике фрукты, две кофейных чашки.
— Катарина, отец заставил тебя выйти за меня замуж? Он меня выбрал?
— Ты правда нравился мне, Саша. И сейчас нравишься… Да.
Смутилась? Играет? Не важно.
— Было так странно, когда он нашёл меня четыре года назад. Я совсем его не помнила по детству, мама говорила, что отец — учёный, завистливые люди заставили его навсегда уехать из города, он скрывается от врагов. Ну ты понимаешь, сам без отца вырос.
— Папа погиб в аварии, когда мне был год. Он не вернётся.
— Мой тоже не должен был, но…
Я почистил мандарин, протянул половину Кате. Хотел коснуться украдкой её руки.
— Ты против воли участвовала в этой затее? Как он втянул тебя в неё?
— Я поняла, что он такое, и стала бояться его. Но мы ведь не совсем люди, Саша. Когда началась игра, я уже ничего не могла с собой поделать — инстинкт.
— Ты убила отца, потому что боялась?
— Мы убили, не забывай. Да. Он был слишком стар, жесток, силён даже для охотника. И нет. Это была моя охота, тут каждый за себя. Отец думал, я — просто оружие, созданный им instrumentum vocalis, привык считать себя неуязвимым, подставился.
— А Старосадский? Фотоальбом на книжной полке? Пятая снизу, на уровне глаз.
— Лабиринты начали получаться, тебе стало скучно. Ты любишь гулять в городе. Я оставила дома маленькие ловушки, чтобы навести тебя на мысль, напомнить о переулках за Солянкой, о Большой Дмитровке, о Сретенке… Не одна бы сработала, так другая. Ты предсказуем.
Катя задумалась. Она тускнела, становилась полупрозрачной, сквозь неё видна была комната, шкаф с книгами у дальней стены, но через секунду-другую цвет возвращался, рыжие волосы моей жены золотом и медью отливали в лучах осеннего солнца.
— Нам надо быть вместе. Моё оружие — лабиринты, твоё — слова. Ты почувствовал вкус охоты. Нет больше писателя Саши, есть охотник Саша, homo ludens, неумелый ещё, глупый, но сильный. Всегда был, с рождения. Спал — ждал, пока игра разбудит твои инстинкты. Игра. Игра!
* * *
Я дописал рассказ, поставил последнюю точку под вертикальным штрихом восклицательного знака, убрал тетрадь в ящик стола, запер на ключ. Что ж, вместе так вместе. Но эта история будет ловушкой для тебя, Катя!
Сентябрь 2014 — январь 2015 года
Москва
Пересадка
С. Х.Крошечная планетка-пересадка, даже названия официального нет, только индекс — 04E0269MK. Впрочем, земляне по-прежнему развешивают по всему космосу имена из античной мифологии — смотрятся, как в зеркало, в свои древние сказки. Эту планету прозвали Эгеон в честь сторукого чудища, рождённого Матерью-Землёй в незапамятные времена. Должно быть, за множество линий космических маршрутов, что расходятся отсюда во все уголки Диаспоры.
Терминал «Гайа» — для тех, кто родился или долго жил на Земле. Прекрасный земной чай и яблочный штрудель с корицей в кафе «Терра инкогнита». Стóит всё это здесь, конечно… Ладно, не важно. Главное, я вырвался в отпуск и через двенадцать с половиной часов буду на Прометее. Отец купил там дом пять или шесть земных лет назад, когда решил, наконец, перестать летать. Месяца не прошло, как его пригласили на Додону. Обычная история. Люди Диаспоры, мы разучились сидеть на одном месте, нам тесно, скучно, мы всё время хотим перемен, перелетаем с одной планеты на другую в ожидании новых встреч, в поисках света новых солнц, сумерек под новыми лунами. Наш дом везде и нигде, мы — дети Галактики. А тот домик у моря пустует, иногда там гостят отцовские друзья-коллеги, теперь моя очередь. Родители обещали прилететь ненадолго перед моим отъездом. Мы редко видимся.
Я сижу у окна в переполненном зале, пью свой дарджилинг, чёрный, как небо над Эгеоном, смотрю на звёзды. Рядом шумят, спешат, смеются, спорят люди и почти люди с разных планет.
— Тим-Тим!
Дворовое прозвище — земное, из детства, из тихого городка, в котором я родился. Кто здесь, в тысячах световых лет от Земли, может его знать, помнить? Оборачиваюсь.
— Серёга!
Ну как его не узнать? Причудливой формы шрам на левой щеке с Серёжкой на всю жизнь. Ему было тринадцать, мне — десять, мы смастерили арбалет-якореметатель, хотели зацепить канат за край крыши соседнего дома и взобраться по стене. В последний момент Серёга решил проверить, ровно ли лежит в своей канавке якорная стрела, и тетива сорвалась с зацепа.
Мы обнялись, разговорились. Серёжка летит на 16СХ4898491. По работе? Нет, говорит, дело у него там. Судя по индексу, шестнадцатый район, пыльный угол Млечного Пути.
Я не стал спрашивать, надолго ли, когда обратно, — не принято. У тех, кто часто летает, полно суеверий. Давно, на заре Диаспоры, ушли в ноль и не смогли вернуться девять огромных лайнеров с переселенцами. Больше ничего подобного не случалось, миллионы рейсов без аварий. Но примета есть примета — сам можешь и не верить, а вдруг твой собеседник верит?
— Тим-Тим, я тобой горжусь! Во всех газетах писали о твоём открытии — статьи, интервью, фотографии. Если б не они, не узнал бы тебя сейчас. Я их даже вырезал, сохранил. Всё-таки друг детства и оказался вдруг знаменит на весь космос.
На Земле по-прежнему издают и читают газеты, смотрят старинное кино, ездят на автомобилях. На сонной тёплой планете веками ничего не меняется.
— Ну что ты, Серёжа, учёные со всей Диаспоры над этим работали, нам просто повезло оказаться первыми. Сейчас взял большую тему, толковых ребят в помощники, но раньше чем через год-полтора не закончим. Пока всё получается, тьфу-тьфу… — стучу по столу, чтобы не сглазить. Хорошее кафе, вся мебель деревянная, никакой синтетики. — Так что года через два снова читай газеты.
Серёжка улыбнулся, но ничего не ответил.
— Заказать тебе кофе? Чай? Пирожное какое-нибудь? — я хотел позвать официанта, но Серёга только головой помотал. Сидит на краешке стула, ёрзает, нервничает.
— Мой вылет задержали, Тим, скоро должны посадку объявить. Считай, повезло. Улетел бы вовремя, тебя бы не повидал.
— Не волнуйся, минут сорок в запасе точно будет. Ты как в первый раз в Пространстве.
— Да, я никогда раньше не летал, — ответил Серёга, словно извинялся за что-то.
Бывают, конечно, такие люди — всю жизнь на Земле, дальше Австралии никуда. Но Серёжка, он ведь мечтал…
Мы и друзьями-то не были. Играли иногда вместе, лазали по оврагам в поисках древних монеток и кованых гвоздей. Серёга смотрел на меня чуть свысока — он ведь на целых три года старше. Со скуки, когда все его настоящие, «большие», друзья заняты, брал с собой в экспедиции, делился книгами, показывал, как работает его новейшее изобретение. Или это мне казалось, что свысока и со скуки?
Мой отец часто писал статьи для Science. После одной из публикаций его пригласили на Ириду — преподавать в лучшем, пожалуй, университете Диаспоры. Мне было четырнадцать, мы улетели с Земли, и за год-другой я потерял из виду всех земных друзей-приятелей. Сколько раз вспоминал о них, о том же Серёжке. Где он? Как? Но найти его так и не собрался.
А он сидит сейчас передо мной — уставший от первого перелёта, в неуютном, словно с чужого плеча, дорожном костюме, угловатый, худой, с большой залысиной, с причудливыми татуировками на запястьях. Застенчиво улыбается. Ему сорок два земных года, а выглядит лет на десять старше. Ему неловко здесь, в этом кафе, среди людей, летающих всю жизнь и почти всегда первым классом. Ему неловко, что я, человек, о котором писали в газетах и ещё напишут, уделяет ему внимание, да и то лишь в память о детской дружбе. Ему неловко… Серёжка смотрит на меня, как я на него когда-то.
— Серёг, а багаж с тобой летит, или ты грузовым отправил?
— Какой там багаж, Тим-Тим, налегке лечу. Всё своё ношу с собой, — он кивнул в сторону тощего пыльного рюкзачка.
Ну вот, я снова поставил его в дурацкое положение. Надо бы спросить его приват-адрес. Нет, неудобно, не сейчас. Разыщу через справочную этой заштатной планетки, напишу письмо, расспрошу, как он живёт, о себе расскажу. Серёжка обязательно ответит, он ведь земной, а все земные любят письма писать — обстоятельные, неторопливые, длинные. Будем общаться, потом снова встретимся, но уже безо всякой спешки, не на краешке стула. На тот же Прометей его можно позвать или ко мне. Надо его расшевелить, вытащить из болота, наверняка он ещё на многое способен. Надо помочь.
Мы болтаем о пустяках, о королях и капусте, как он любил говорить. Вспоминаем детство. Его усталости, застенчивости как не бывало, он улыбается, рассказывает забавные истории — тот самый Серёга, те же озорные искорки в его глазах. Мальчишка из соседнего дома, с которым мне так хотелось дружить. Он даже согласился на кофе по-ирландски, но допить его не успел. Бесполый металлический голос откуда-то сверху объявил:
«Пассажир Сергей Кравченко, зарегистрированный на рейс номер 16В314СХ, срочно пройдите на посадку. Зона «Гайя‟, выход номер 119а. Посадка на рейс окончена. Повторяю: пассажир Сергей Кравченко, зарегистрированный на рейс номер 16В314СХ, срочно пройдите на посадку. Зона «Гайя‟, выход номер 119а. Посадка на рейс окончена».
Мы простились, обнялись тепло и коротко, Серёжка побежал к своему выходу, я не спеша пошёл к своему. Показал сотруднику астрокомпании карточку первого класса, он проводил меня в купе. Лайнер старый, тесновато, но до Прометея всего двенадцать с половиной часов пути, потерплю. Серёга вон в общем салоне летит до этой своей 16СХ4898491. Часов сорок, наверное, если не больше.
Странный выбор для первого космического путешествия. Я открыл на терминале планетарный каталог Млечного Пути, стереосхему шестнадцатого района. Карликовая частная монопланета, даже поменьше той, на которой мы случайно встретились. В Конфедерацию не входит. Регулярные пассажирские рейсы — раз в три земных месяца. Официального наименования нет, прозвище — Атропос. О боги, нет! Ну почему так?!
Земляне прозвали её в честь богини, обрезающей нить, третьей дочери вечной Ночи. Планета Атропос — одна из немногих, на которой для смертельно больных людей, почти людей и совсем не людей разрешена эвтаназия.
Одесса — Москва
22 августа — 28 сентября 2015 года
Песня вечерней реки
Днепр в Новгороде узкий, уютный. Гоголевская птица без труда перелетит тихую реку. Выше по течению, далеко от границ старого города, за Цыганской горой, начинается страна заливных лугов и мимолётного моего, призрачного счастья.
* * *
Солнце прячется за дома. Пора. Переулками я спустился с Софийского холма на Подол, на безымянную площадь за Трубежским оврагом. Долго стоял на Новом мосту, смотрел на игру синих и золотых бликов.
В дальнее Заднепровье забрёл случайно ещё в юности. Я готовился к первому своему фотоконкурсу, ездил по стране, по миру, снимал. Новгородский приятель Славик предложил пожить у него несколько дней, поймать хороший рассвет над рекой. Самые красивые рассветы бывают утром перед непогодой, закаты — после целого дня дождей, когда расползутся под вечер тучи и, глядя снизу вверх, с горизонта, зажжёт их заходящее солнце. Но закат, мол, видят все, а рассвет — только дворники, рыбаки и фотографы.
Слава показал мне луговой край с его утренними красками, звуками, запахами, невысокие обрывистые берега — дом для ласточек-береговушек, берёзы и ивы у самой воды. Мы встречали там каждую зарю, подолгу молча гуляли, потом ехали домой спать, а вечером бродили по городу. Ни одного стóящего кадра я так и не сделал, но узнал, полюбил Новгород-Днепровский, реку, луга.
Приятель мой давно уехал из города, увлечение фотографией осталось в прошлом, но я возвращаюсь сюда каждое лето, на Яна Травника. Иду одной и той же невидимой дорогой, не на утренней заре — на вечерней, самым долгим вечером в году.
* * *
Люпины, люпины, люпины — днём ярко-синие, густо-фиолетовые на закате, и я как маленький кораблик посреди цветочного моря. Солнце садится, замирает тёплый ветер, меняются цвета, лёгкой голубизной наполняет их небо, мягкими, сиреневыми делает тени. Выхожу к Днепру в тот короткий миг вечера, когда вода серебряная, в тёмной оправе берегов она светлее неба. За холмами прошумел и затих будапештский скорый, больше ничто не напоминает о людях, о времени, в котором я живу, и мне сегодня девятнадцать лет, и тридцать три, и сорок. Сквозь безвременье иду вверх по течению, смотрю, как на смену нежным вечерним краскам приходят глубокие, бархатные ночные.
В звонкой луговой тишине поёт девушка — там, за рекою. Незнакомая мелодия, непонятные, чужие слова. Подхожу, улыбаюсь ей через Днепр — не видит. Она сидит на земле, смотрит на небо, вся превратилась в песню. Темноволосая, невысокая, в длинном светлом платье и босиком. Вдруг сбивается, замолкает, замечает меня.
— Добрый вечер. Простите, я подслушивал, как Вы поёте.
Она ответила, будто спела несколько слов. Не пойму, что за язык. Финский? Гэльский?
— Good evening, young lady. Bonsoir, mademoiselle. Guten Abend, Fräulein.
Других языков я не знаю. Моя собеседница с того берега что-то ещё сказала-спела, улыбнулась. И нет тех барьеров, которые не сможешь преодолеть, когда ты одинок и улыбается тебе девушка.
— Лев, — показываю на себя пальцем.
— Ли'у, — отвечает она. Хорошо, пусть будет Ли'у, мне даже нравится.
— А Вас как зовут? — показываю на неё. Несколько звуков в ответ. Я пытаюсь повторить:
— А’ррри’каа.
Левой рукой она словно зачёркивает то, что я сказал, повторяет своё имя.
— Ар’ии’к’а, — я спотыкаюсь на каждом слоге.
Смеётся — вот, мол, глупый, имя произнести не может. Снова пытаюсь, снова не похоже. Моя словесная неуклюжесть веселит её. Языки жестов у нас тоже разные, но мы быстро учимся. Я буду звать её Арика, она меня — Ли'у, с короткой цезурой после первого слога, ей, наверное, так проще.
* * *
Больше не темнеет небо, на северо-северо-западе замерла заря. Идём вдоль реки каждый своим берегом. Арика в светлом платье будто летит над некошеным лугом.
Не верь летней ночи — до неузнаваемости меняет она знакомые места, чёрным по звёздно-синему рисует фантастические пейзажи. На горизонте рвутся к небу тёмные громады. Горы? Но какие в верхнем Поднепровье горы? У подножия воображаемых Альп или Кордильер — золотое озеро городских огней. Не думал, что Новгород так хорошо виден отсюда, мы далеко ушли.
— Ли'у! — Арика машет мне. Спускайся, мол, тут пологий берег. И начинает петь.
Подхожу к тёмному, тихому Днепру. Сумерки дразнят, играют со мной, со светом и тенью — едва касаясь воды, идёт ко мне Арика, протягивает руку, зовёт.
* * *
Вода упругая, чуть прогибается, когда наступаешь. Струи убегают из-под ног, но что-то держит их, скрепляет, не даёт нам пойти ко дну. Мы гуляем по реке, по волшебной ночной дороге. Осторожно дотрагиваюсь до руки девушки с того берега. Тёплая, хрупкая ладонь. И я понимаю песню: она о звёздах.
— Смотри, Ли'у, это Голубка, она несёт Золотую Ветвь. Вот Корабль, на верхушке мачты — Неподвижная, южный полюс неба. Сова, Белые Олени, Роза, Башня. Охотник всё никак не перейдёт Звёздную Реку, тысячи лет ждёт его Дева Весны. Рядом с Кораблём — Лодка, моё созвездие, я под ним родилась. А ты под каким?
— Не помню, Арика, я осенний.
— Значит, Весы. Или Книга, или Бык. А я родилась в ночь перед весенним равноденствием, так захотела мама.
Луга кончились, редкий прозрачный лес растёт по-над рекой, названия которой я уже не знаю, ближе стали горы, ярче — городские огни. Мы идём по воде к её берегу.
* * *
Не скажу, как он называется, не сумею произнести. Город, просто город. Дворцы и закоулки, шёпот фонтанов на площадях и шум базара, храмы и кабаки, холмы и овраги, осень в городских парках и весна на тесных улочках возле порта, красота и нищета, рассветы, закаты, сказки, судьбы. Мы бродили по городу летними вечерами, мы сидели у камина и смотрели, как валит за окном снег, собирали золотые, бронзовые, алые листья и прятали их в старинные книги. У нас был свой дом, и друзья приходили к нам пить чай с пирожными. Мы рассказывали истории, смеялись, любили друг друга и всех, кто рядом.
Нет, ничего не было, но как будто было — Арика спела мне этот город, спела нас в нём, спела мечту.
* * *
Лежим на тёплой земле, нам светло безлунной ночью. Всё спокойнее бьётся её сердце. Арика поёт о небе и звёздах, о луне и ночных цветах, о близких горах и о далёком море, о том, как растёт трава, снова о звёздах.
— Ты удивительно поёшь.
— Это песня сумерек, когда свет умер, а темнота ещё не родилась. Она позволяет переходить границу, на время нарушать запреты. Я впустила тебя, Ли'у, а теперь держу ночь, но солнце сильнее. Скоро начнёт светать.
— Зачем? Ты не любишь рассвет?
— Я Ночная, меня нет днём. Так захотела мама.
Молчим. Восток всё светлее.
— Тебе пора, — голос Арики звучит внутри меня.
— Но… — думаю в ответ. Только так мы можем понять друг друга — без слов, через тишину.
— Хочу, чтобы ты остался — насовсем, навсегда, но нет таких песен, таких звёзд, что помогли бы мне, нет такой силы. Я знала об этом и всё равно придумала тебя, загадала, что ты придёшь, позвала за собой. Не могла не позвать, я ведь Ночная. Прости меня, Ли'у. Пожалуйста.
Арика поёт о рассвете, как может петь лишь тот, кто никогда не видел солнце. Затихает песня, тает всё вокруг. Я снова на своём берегу — там, где спустился вечером к реке. К Днепру. Нет гор на горизонте, не манит огнями далёкий город. Не говорит со мной девушка с другого берега.
— Подожди! — кричу я. Бегу к воде, в ней отражается светлеющее небо. — Арика-а-а!
Падаю в реку. Никто не поёт песню, чтобы по ней можно было идти.
Грязный, мокрый, сижу на прохладной земле, жду чего-то. Загораются над горизонтом облака, зовут, торопят солнце. Вспыхивает над макушками далёких деревьев первый оранжево-красный луч нового дня.
В бесконечном шёпоте бегущей воды слышу голос Арики:
— У нас… У меня родятся две дочки. Дневную воспитают люди, они сами дадут ей имя и будут верить, что девочка — одна из них, пока не наступит её черёд. А Ночная будет жить среди моих сестёр, её научат песням. Хочу назвать её Ли'а. Можно?
Конечно можно.
Октябрь 2014 — май 2016 года
Портленд — Москва
Ненаписанные истории
Сдержанно, со вкусом отделанная комната. Скромная, но удобная мебель, на окнах глухие шторы. На журнальном столике букет луговых цветов в керамической вазочке. Точно такую же я разбил в детстве. Мама расстроилась, я свалил вину на кота, так никогда и не признался.
— Это рай или ад? Не пойму.
Б-г, если это, конечно, он, в светло-сером костюме-тройке, при галстуке, в сильных очках. А мне снова лет тридцать или около того.
— На этот вопрос я не смогу ответить. Решай сам, спешить некуда. Да, Яша, у меня кое-что для тебя есть.
Б-г, если это, конечно, он, протянул мне книгу без названия. На белой обложке только имя и фамилия автора. Мои имя и фамилия.
— Что это?
— Здесь те истории, которые ты придумал, но не смог, не успел, не осмелился написать. Есть неплохие, я взял кое-что на заметку. Почитай, уверен, тебе будет интересно.
Январь — апрель 2015 года Москва



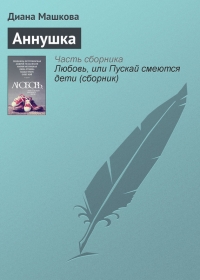
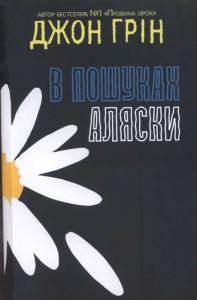


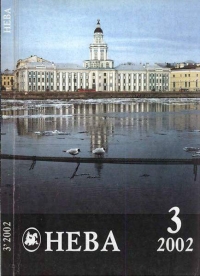
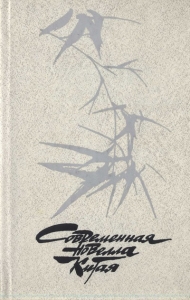
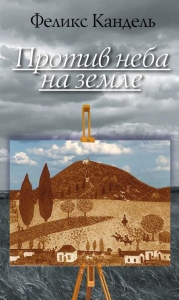


Комментарии к книге «Долгие сказки», Модест Владимирович Осипов
Всего 0 комментариев