Редкие девушки Крыма Роман Александр Юрьевич Семёнов
Дизайнер обложки Ксения Пташечная
© Александр Юрьевич Семёнов, 2018
© Ксения Пташечная, дизайн обложки, 2018
ISBN 978-5-4483-9943-5
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
ПРОЛОГ
1Это далеко не первое воспоминание моего детства, но самое яркое и, наверное, главное среди всех. Начинается оно обыкновенно: зелёный парк в Черноморском,1 след реактивного самолёта в небе, синие тени кипарисов на желтоватом песке аллей. Зыбкие облачка разогретого воздуха над асфальтовой площадкой, сквозь них виден ларёк с мороженым. Запах цветущего шиповника, пёстрые зигзаги крапивниц и адмиралов над стрижеными кустами. Светлые платья, почти все в горошек, короткие рукава, лёгкие зонтики, панамы, кепки, музыка, звучащая повсюду, и на площади в центре парка – большая карусель с рассохшимся дощатым полом. Я был уверен, что за день, если только захочет, на ней может прокатиться весь город.
Она кружилась выше человеческого роста так же легко, как глобус, и так же подставляла один бок солнцу. Наверх надо было забираться по гулкому, пружинящему трапу, снятому с ракетного катера. Внизу же, вровень с моей головой, за серыми бортами была спрятана ось и непрестанно гудел, то тихо, как пчелиный рой, то нарастая – так, что в этих звуках даже слышался разговор на непонятном языке, с таинственными вопросами и ответами, – гудел, ни на миг не умолкая, электрический мотор.
Под выгоревшим до белизны тканевым навесом над площадью летели броско раскрашенные звери разных пород и мастей.
Мне было почти девять лет, я твёрдо держался на спине деревянного коня и считал день без карусели потерянным днём. Здорово, когда люди, коляски, скамейки, пятна белых и красных роз – всё летит назад, появляется перед глазами и снова улетает, ветер обдувает лицо, скрипит разболтанное крепление, кто-то визжит за спиной – не понять, от страха или восторга… И так – два, три, а то и четыре раза подряд.
Взрослые приводили в парк детей, иногда катались вместе с ними. Я время от времени спрашивал себя: не стал ли ещё взрослым? Нет, пока не стал: ведь мне интересно кататься на карусели, а взрослым – скучно, как бы они не притворялись. Хорошо помню женщину в крупный лиловый горошек, которую видел не раз. Она слишком громко и весело смеялась, чтобы ей можно было верить. Но почему? я не понимал. И зачем кататься, если не хочешь?..
Наверное, взрослые – люди из другого мира. Как хорошо, что я ещё не скоро туда попаду.
Вот, стуча ботинками, взбежали по трапу матросы. Чёрные брюки, белые форменки, синие, полосатые по краю гюйсы – заняли почти всех зверей, покатили с гиканьем и ржанием. Сами будто кони, и я когда-нибудь стану таким же. И пойду служить на десантный корабль.
Снизу бросили большой, мне не обхватить руками, но лёгкий изумрудный мяч. Матросы стали на ходу перекидывать его друг другу, один уронил на пол бескозырку с длинными лентами, наклонился и подобрал. Мяч подлетел ко мне, я тоже стукнул по нему кулаком, отпустив пластмассовое ухо. Моряки заржали ещё громче: во пацан даёт, молодец! – и что-то ещё похожее; но всё равно их веселье казалось мне наигранным, ненастоящим.
Я сошёл на землю и попросил у мамы ещё десять копеек. «Последний раз, хорошо?» – сказала она. Я кивнул и встал в очередь к кассе. Может, и не последний, может, ещё раз уговорю…
Передо мной в очереди оказались высокий седой мужчина и мальчишка на вид старше меня, в шортах и майке; в нашей школе я его встречал? Кажется, нет… А сбоку от них стояла темноволосая девушка в голубом платье. Она оборачивалась то к карусели, то к мужчинам, и что-то говорила, протягивая к зверям руку. Мальчишка отвечал тонким голосом, односложно и сердито.
Очередь двигалась. Девушка сделала шаг, ойкнула, чуть припала на ногу и, схватившись одной рукой за плечо младшего спутника, стала вытряхивать камень из босоножки. Что-то и меня в этот миг укололо, смешанное чувство: удивление, возмущение… Я никогда такого не видел: взрослая девушка не может устоять на ногах без помощи мальчишки! «Да ну, – сказал я себе, – какая она взрослая! Девчонка», – и это слово звучало презрительно. Она только притворяется большой, а на самом деле – девчонка. Наверное, и плавать не умеет без надувного круга.
Но был в этом чувстве какой-то иной, незнакомый оттенок – он не дал мне отвернуться. И, когда она выпрямилась, я заметил, как совпадает изгиб её спины с линиями парка, переходящими одна в другую: блестящая струя фонтана, за ним тёмная туя… эх, сдвинулась, всё пропало!
В вышине зазвучала песня, и с первой ноты вступления я уже знал, какой сейчас будет голос и какие слова. «Мой белый город, ты цветок из камня, омытый добрым солнечным дождём…» Слышал её каждый день, сотни раз или, может быть, тысячи, она не могла надоесть и до сих пор не надоела, но лишь в то мгновение я отчётливо увидел сказочный город: по его улицам ходят темноволосые девушки, их длинные платья просвечивают на солнце, как занавески…
Подошла очередь, я купил билет, взобрался наверх и сел так, чтобы не упускать девушку из вида. Мальчишка подсадил её на спину двухместного льва, сам устроился позади. Интересно, – подумал я, – если раскрыть у неё перед глазами ладонь с нарисованным скелетом – испугается, будет пищать, как девчонка?..
Карусель между тем разогналась, ветер подхватил голубое платье; оно взлетело, открыв загорелые ноги… Сколько угодно девичьих ног я видел на пляже и не замечал за ними никаких чудесных свойств – подумаешь, ноги, что здесь такого, – но вдруг почувствовал, что в них скрыта некая тайна и они совершенно по-особому притягивают взгляд.
Девушка схватила подол, оторвав руки от оранжевой гривы, вскрикнула и качнулась. Мальчишка поддержал её за плечи, сам прицепил её ладони к кудрявой шее, успокоил платье. Целый круг они летели неподвижно, и хоть я не видел глаз девушки, был уверен, что она зажмурилась. А о чём думал парень за её спиной? Ведь он знал, что она большая трусливая девчонка, – конечно, знал, – и не об этом ли говорил ей в очереди? Не послушалась, сама виновата.
Снизу бросили новый мяч, теперь жёлтый. Он ударился в морду льва и отлетел, задев плечо девушки. Она взвизгнула громче мотора, взмахнула руками, нога соскочила с подставки, и девушка едва не съехала на бок. Мальчишка удержал её, потянул наверх…
Карусель чуть накренилась, выровнялась и замедлила ход.
Девушка, смеясь, отбивалась руками от летящих мимо неё деревьев, теней, от собственного платья. Мальчишка прижимал её к себе и теперь уж точно был не рад, что отважился на это катание.
– Да тихо ты сиди! – крикнул он тонким голосом. – Сейчас уже приедем!..
А я вдруг понял, что хочу поменяться с ним местами. Так хочу, что отдал бы за это все оставшиеся детские годы. Поменялся на сегодня, а завтра, прямо с утра, надел матросскую форменку, гюйс, громыхающие по стальному трапу ботинки.
А лучше всего – оказался бы в море, на парусном корабле. Вместе с этой девушкой.
Конечно, если подумать всерьёз, приключения с девчонками – это кошмар. Ужас! Вы только представьте: волны захлёстывают палубу, с треском ломаются мачты, пули свистят над головой, а это капризное создание пищит: хочу к маме!.. Вот и думай: то ли успокаивать, то ли шлёпнуть по мягкому месту как следует. Тем временем подскочит какой-нибудь янычар, взмахнёт кривой саблей – и всё, идём кормить акул!
Девчонки не созданы для героических дел, здесь не поспоришь. А эта большая девушка ведёт себя, как самая вредная и глупая из них. Почему же так хочется, чтобы она оказалась рядом в самый разгар абордажа, когда всё вокруг полно опасности и жизнь висит на волоске? Почему так хочется, чтобы она боялась? Обязательно боялась, от страха не могла пошевелиться, чтобы свирепый одноглазый пират схватил её за руку и потащил в мрачный трюм. Этот мальчишка позади неё – чем не пират?
Время появиться герою! Сразить пирата одним ударом и не проводить взглядом летящую за борт голову. Поднять девушку и, закрыв её собой, проложить дорогу сквозь толпу врагов. Они будут налетать и падать вокруг, пока волна не смоет с палубы неподвижные тела. Мы останемся одни, шторм утихнет, выйдет солнце, и ничто не будет напоминать о сражении. Почему я так хочу этого? Потому что она большая? Наверное, да.
И, конечно, её надо будет поцеловать…
Позже, гораздо позже я спрашивал себя: неужели сочинил пиратскую историю прямо там, кружась на деревянном коне? Были в этом огромные сомнения. Да если честно, я почти уверен, что выдумал её спустя время и не за один раз. Вероятно, и не за один год. Выдумал, чтобы хоть как-то объяснить удивительное желание: быть рядом, не выпускать её из рук и сделать что-то ещё, совсем непонятное, даже страшное… Но можно ли найти этому объяснение? И надо ли искать? Не знаю, а тогда тем более не понял. Слишком быстро остановилась карусель.
Под ногами скрежетало и вздрагивало, но женщина в синем кителе и фуражке уже готовилась разомкнуть цепь, закрывающую выход. Наконец замерли. Я особенно чётко увидел голубое платье и тёмные волосы на фоне белоснежного здания кассы. Пират, тогда ещё не бывший пиратом, помог девушке сойти на истёртый деревянный пол, довёл до трапа. Высокий мужчина принял её внизу, усадил на скамейку, парень спрыгнул на землю и, шлёпая вьетнамками, побежал через площадь к автомату с газированной водой.
С верблюдов и драконов слезали бодрые наездницы, качали головами, проверяя, не кружатся ли, сходили по трапу кто лицом, кто спиной вперёд, держась за поручни. Темноволосая девушка сидела, склонив голову к плечу и далеко вытянув ноги. Мальчишка подносил к её губам стакан с водой, взрослый спутник обмахивал газетным веером.
Вот открыла глаза, пошевелилась. Встала, держась за плечи мужчин…
– Саша, идём домой, – позвала мама. Отвлекаться на спор не хотелось: я чувствовал, что растрачу в нём что-то очень важное, произошедшее впервые, известное только мне. Стараясь не терять девушку из вида, я пошёл по аллее задом наперёд, затем побежал – всё быстрее, быстрее… споткнулся о каменный поребрик и с разгона влетел в жёсткий, полный шипов розовый куст!
Собралась толпа, меня вынули наружу со смехом и причитаниями, мама стала вытаскивать иголки из плеч и спины. Перед глазами всё рябило, царапины горели, рубашка липла к коже – но я терпел, не плакал. С того дня я никогда больше не плакал: оставим это занятие девчонкам.
Я знал, что надо подождать ещё немного. Я вырасту, непременно разыщу эту девушку, женюсь на ней и возьму с собой в кругосветное путешествие. Ну, а если парусных кораблей к тому времени не останется?.. Что же – тогда буду каждый день катать её на карусели.
2В то июльское утро я дольше обычного задержался на пляже, задумавшись о поездке в Ленинград, до которой оставалось два или три дня. Билеты на поезд лежали у родителей в «стенке», чемодан и дорожная сумка были почти упакованы. Скоро, скоро я нырну в холодную невскую воду, захочу открыть глаза, как легко делаю в Чёрном море, – и не смогу. Ни разу это мне не удавалось, щиплет веки. Спросите любого встречного: в пресной воде или морской легче нырять без маски? Почти наверняка он скажет: в пресной. А на самом деле – наоборот. Почему так?..
Размышлять было ленивее с каждой минутой. Я наплавался до приятной боли в мышцах, наглотался горькой воды и теперь, накрыв кепкой голову, лежал на тонкой подстилке. Спину припекало солнце, грудь и живот – слой разогретого песка; корочка соли, подсыхая, стягивала кожу. Ещё немного, и я мог бы задремать… Но два звонких голоса раздались невдалеке, и тот из них, что был чуть ниже, показался мне знакомым.
Я открыл глаза и не увидел тени от козырька. Полдень – и немногие люди, что ещё оставались на пляже, перебрались в его дальний угол, под защиту тентов и фанерных грибов. Только две стройные, лёгкие девушки, держась за руки, с хохотом кружились по твёрдому песку возле самой воды, от меня, наверное, метрах в пятнадцати.
Я узнал одну из них, в сплошном красном купальнике, подчёркивавшем угловатость и худобу тонкой фигурки. Эта девочка училась в нашей школе, годом старше меня. В компании ровесниц она держалась скромно, но в то пляжное мгновение выглядела совсем не тихоней. Её воинственный клич вонзался в шорох прибоя, искрящиеся на солнце волосы развевались беззаконным пиратским вымпелом. Она была лидером в паре, заставляя другую летать вокруг себя, спотыкаться и умолять: «Пусти, я не могу больше!..» Когда, окончательно потеряв равновесие, та упала на колени, я разглядел её и понял главную причину, которая делала это зрелище столь непохожим на всё, что я видел прежде.
Незнакомая мне вторая девушка была совсем взрослой! Лет двадцати, может, и немного старше, – женщины этого возраста виделись мне особенно недоступными, всемогущими и фантастическими, как марсианки. Подружиться с одной из них, узнать все её тайны – вот первое, о чём я попросил бы джинна. С этой пляжной красавицей… Она была восхитительна! Почти на голову выше дерзкой школьницы, с вьющимися пепельными волосами до плеч, длинноногая – что особенно бросалось в глаза с моей позиции, – гибкая, с тонкой талией и таким мягким, розовато-сливочным оттенком кожи, который сразу наводит на мысль о чистоте, тёплой ванне, запахе яичного шампуня… Небольшая, но очень заметная под белым лифом грудь вздымалась порывисто и трепетно, в глазах светилось изумление, даже лёгкий испуг, будто красавица сама не могла поверить, что способна на такое ребячество. Отдышавшись, она вскочила, и кружение возобновилось.
Я притворился надувным матрасом, рискуя, в отличие от него, жестоко обгореть.
А школьница вновь утвердилась в центре и вновь стала дёргать взрослую красотку во все стороны разом.
– Не надо, хватит… Ай!.. – красавица слетела с орбиты, рухнула на бок и, перекатившись, на мгновение замерла. Не может быть! Неужели эта сухая и колючая девчонка настолько сильнее взрослой женщины? Или она поддаётся? Давай же, вставай скорее, научи эту вредину вежливости!..
Однако молодая женщина поднималась не спеша. Стоя на коленях, она чуть оттянула лиф, провела под ним пальцами и неторопливо расправила. Старшеклассница помогла ей встать и, отряхивая, между делом крепко шлёпнула ниже спины. Красотка, возмущённо ахнув, отскочила, попыталась ответить тем же, и на миг показалось, что сейчас между ними будет настоящая война. Но школьница удивительно легко, одним только взглядом подавила бунт и обратила красотку в бегство.
Босые ноги женщины мелькнули будто перед самыми глазами. Девчонка, срезая путь, промчалась дальше от меня, едва не поймала красавицу: та, вскрикнув, кинулась назад, и очень скоро за левым плечом прозвучал новый визг, более громкий и протяжный, следом – короткий смех… И всё утихло. Я осторожно повернул голову. Школьница настигла молодую женщину в углу между уходящим вверх каменистым обрывом и непролазными зарослями шиповника и, придерживая за руки, вела к пляжному покрывалу, общему для обеих. Красавица шла безропотно, то ли смирившись, то ли замышляя какую-то уловку, и лишь в конце пути встрепенулась, дёрнулась прочь. Школьница удержала её, потянула к себе, выставив острое бедро. Красавица навалилась на него, охнула и, зацепившись ногой за ногу девчонки, на мгновение застыла. Видно было, как затвердело её лицо, как резко обозначились мышцы живота под едва загорелой, раскрасневшейся кожей… Шумный, со стоном, выдох – и молодая женщина откинулась назад. Падая, она увлекла за собой школьницу, и возня продолжалась на широком, жёлто-оранжевом клетчатом покрывале, присыпанном по углам холмиками песка.
Я так переживал за старшую! Как же надо беречь её среди жизненных бурь, если в руках девчонки она беспомощна, словно рыбка на берегу! Даже хитрость не помогает. А что будет, если она встретит настоящего хулигана? Ведь даже такие неземные создания ходят по улице. И на работу ходят – а вдруг там директор окажется не в духе, повысит голос?.. Но стоп! Хватит сочинять. Это явно более поздние мысли, рождённые долгими осенними ночами. В тот миг на пляже я, конечно, не думал о работе и другой ерунде. Может быть, именно тогда я знал, что беззащитность красавицы волшебна сама по себе, без всяких причин. И очень неправильно волшебна: ведь молодая женщина была далеко не слабенькой на вид, один пресс и подтянутые, крепкие ноги чего стоили. Если здраво рассудить, она должна была одним взмахом руки отправить вредину кувырком на другой берег залива. Но в жизни… это было недостижимо. И я хотел недостижимого! Не надо другого берега, ты просто не сдавайся, что бы ни случилось! Помоги мне удержать в привычных границах стремительно меняющийся мир… Что с ним происходило, я и не пытался объяснить, лишь видел, что ничем не замечательная школьница, моя знакомая, творит на раскалённом песке то, чего быть не должно. Я порывался остановить её – и не мог тронуться с места, чувствуя, что отныне невозможное становится возможным и кто угодно теперь способен дышать под водой, смотреть кино без телевизора и спать на потолке. Ощущение было сродни тому, какое испытываешь, с разгона пролетая на машине крутой холм, оно пугало и завораживало. Не сдавайся, пожалуйста! Даже если вы не всерьёз…
Лёжа на спине, молодая женщина махнула ногой весьма угрожающе: видно, была задета по-настоящему и даже готова ударить девчонку, если бы та хоть на миг отвлеклась. Цепкие, смуглые пальцы мгновенно стиснули узкую ступню. Я мигнул, стряхивая с ресниц горячую каплю. Как тут жарко! Красавица изогнулась, касаясь покрывала запрокинутой головой и бёдрами в белых трусиках. Не можешь освободиться, нет!.. Стукнула кулаком по клетчатой ткани. До меня долетал частый звук её дыхания, смешанный с плеском волн. В её движениях на самом деле чувствовалась взрослая, какая-то очень естественная мощь, вот только растрачивалась она впустую. Быстрые руки девчонки опутывали невидимой сетью, прижимали к покрывалу, красавица пыталась оторваться от него подобием мостика, но ноги скользили, не находя опоры, вместе и по одной… Хотя бы оттолкни её! Наконец веером взметнула песок, перевернулась отчаянным усилием, приподнялась на локтях… Школьница, обхватив её за плечи, вновь опрокинула, ненадолго села верхом, просунула под неё ладонь и уж не знаю к чему там прикоснулась, но зной, разлитый над пляжем, вмиг загустел до нестерпимости. Девчонка, будто не заметив этого, встала, приложила к себе, поверх красного купальника, белый лиф, ещё хранивший округлую форму и чуть влажный, судя по налипшему песку. Отряхнула, бросила на пакет с уличными платьями, нашла под ногами камень, скачущим блинчиком запустила по невысоким волнам… Вся недавняя суета не отняла и малой доли кипевшей в ней энергии – а молодая женщина лежала на смятых жёлто-оранжевых клетках, откинув в сторону руку и уронив голову на другую. Она могла бы показаться спящей, если бы не так бурно вздымалась облепленная песком, не стянутая никакими лишними тесёмками спина.
Девчонка вновь подсела к ней и стала водить по телу ракушкой, смеясь и изображая голосом звук мотора. Это было восхитительное путешествие! Двигаясь от плеч и ниже, машина преодолевала изгиб за изгибом, совершала немыслимые виражи, а когда путь разделился надвое, школьница уверенной рукой загнала её в гараж – то есть под белые трусики, – таинственно щёлкнув резинкой.
– Ну Та-а-аня, – простонала красавица, – ну хватит уже, вообще!..
Она завела руку за спину, чтобы вытряхнуть ракушку, но школьница подхватила её кисть, переплела пальцы красотки со своими и лёгким – показалось, уже не раз испробованным движением, подтянула к лопаткам.
– Ах! – пискнула молодая женщина. Её тонкие голени взлетели над покрывалом, всё тело напряглось, выгнулось вслед за поворотом руки. Девчонка чуть ослабила нажим и вновь…
– Пусти!..
Глядеть на это было выше моих сил, пришло время окунуться, остыть немного. Но как подняться на ноги?.. Не ползти же в воду! А встать я не мог, и даже не буду объяснять, что мне мешало.
Школьница ловко балансировала на границе игры, – и в этом тоже виделся некий опыт. Красавица уже не вырывалась, голос её звучал тише, разметавшиеся волосы скрыли лицо: ещё немного, и она бы, наверное, заплакала, как ребёнок. Но, не дожидаясь настоящих обид и слёз, девчонка отпустила её, что-то шепнула, склонившись над ухом, сама завязала бантик на спине и мирно улеглась рядом.
Полежав ещё немного, я наконец поднялся и пошёл к воде. Плывя к дальнему буйку, я кромсал прозрачные волны и твердил себе: остынь, остынь! Забудь… Но куда там! Я уже знал, что впечатления этого дня останутся в памяти надолго, может быть, навсегда. Красавица в белоснежном купальнике будет падать не на песок, а в мои руки – каждую ночь, стоит лишь погасить в комнате свет. И нахальная морская девчонка станет у нас третьей, куда же от неё деться… Но я тогда и подумать не мог, что она способна выйти из нежной тени молодой женщины.
Глава первая. СЛУЧАЙНОСТЬ
1Эта история началась, чтобы двинуться в прошлое, летними вечерами две тысячи четвёртого года. Почти весь год я вёл книжную жизнь – громыхая доспехами космического десантника, рубил цепным мечом еретиков и мутантов, не щадил и демонов с колдунами, как бы униженно они ни просили. Для них было оружие, бьющее наверняка: огнемёты со священным газом, болтерные пушки, молитвы Императору, хоть порой и доводилось по старинке седлать коня или брать в руки дубину. Я и сам едва не погиб на середине одного романа, поймав грудью лазерный заряд, – выручила только бабушка, вовремя позвавшая обедать. В космос я налетался на восемь жизней вперёд, и везде, куда ни обернись, была война, бесконечная война всех со всеми. Смешались в кучу боги, люди, орки, гигантские межзвёздные жуки, красивые эльдарочки… Вот она, современная фантастика!
Ещё недавно меня увлекал этот чокнутый мир, даже снился время от времени, но вот в середине июня я отправил издателю последний перед отпуском сборник рассказов, съездил вдогонку и подписал договор – и на обратном пути понял: всё, хватит! Скоро задохнусь без живых впечатлений. Голые животы девчонок, загорелые лица, жужжание косилки на газоне, запах свежей травы, да и управлялось-то с косилкой длинноволосое создание в джинсовых шортах… Оказывается, нашу земную расу ещё не время списывать в утиль. А каштаны, цветущие по всему нашему спальному району, а солнце, перелетающее из окна в окно! Всё это я видел и раньше, но лишь теперь, откинув часть забот, почувствовал – и понял, что лето застало меня врасплох. Прочь из города, хотя бы на пару недель! Гулять пешком, знакомиться с новыми людьми, рассказывать и слушать разные истории, никуда не торопиться. Выпасть в параллельное пространство, как написал бы любой приличный фантаст, да и затеряться там, чтобы следов никто не углядел. Заодно сбросить лишних, книжных килограмма четыре. Девяносто – для меня перебор…
С такими мыслями я лёг спать, а назавтра, словно угадав моё настроение, позвонил давний приятель. Он с весны готовился в экстремально длинный, почти двухнедельный поход по Карельскому перешейку, но сломал косточку в стопе и ещё не остыл от досады. «На ровном месте, блин, мусор вынес, называется!..» А выходить надо было через два дня – и, конечно, я согласился его заменить. Собралась группа из пятнадцати человек, мы встретились ранним, прохладным и туманным утром на Финляндском вокзале, перезнакомились возле расписания, кто ещё не был знаком, купили билеты, сели в первый вагон электрички и шумно, с анекдотами и картёжной игрой, укатили в Лосево.
Глаза разбегались от такого количества новых лиц, но я по привычке уже отмечал интересные черты, мысленно раскладывал по записным книжкам. Вот, например, Женя… или нет, начну, как положено по старшинству, с Игоря, нашего инструктора. Между собой мы называли его «боссом». «Батей» тоже было бы неплохо, но, пожалуй, рановато: лет через пять до бати дорастёт. Когда я говорил с ним по телефону, уточняя список продуктов, ясно представлял невысокого, загорелого, лысеющего и расторопного парня лет под сорок, настолько ясно, что в этом чудился подвох, и я ожидал, что Игорь окажется совершенно иным – хотя бы назло мне, чтобы не воображал себя слишком проницательным. И что же? На вокзале в который раз убедился, что надо доверять воображению.
По телефону Игорь предупредил, что главное его условие – ни капли алкоголя, даже пива. Абсолютно трезвый поход: будет немного спирта у доктора, но только для наружного применения. «Выдержите?» – здесь голос инструктора прозвучал скептически, будто бы даже с усмешкой. Я заверил, что легко выдержу и двенадцать дней без выпивки, и столько же лет, потому что вовсе не склонен искусственно расширять сознание. «И правильно, я сам с прошлого века в завязке», – ответил Игорь, и мы попрощались до послезавтра.
В первый день мы одолели тридцать пять километров, и я бы не сказал, что это было тяжело. Лесной воздух был свеж даже в безветренный и довольно жаркий день, лёгкий земляничный аромат окружал невидимым облаком. Каждый час мы ненадолго останавливались, ставили наземь рюкзаки, вынимали фотоаппараты, которые были почти у всех, а у меня самый большой, и азартно щёлкали друг друга, сосны, валуны в сверкающих брызгах слюды, разноцветных стрекоз, а в полдень на берегу Рощинского озера, обходя его с севера, сделали долгий привал, пообедали сухарями и чаем, искупались и повалялись на ковриках.
Я внимательнее приглядывался к попутчикам, различал уже характеры, а не только лица. Даниил, единственный, кто взял с собой гитару, был этаким добродушным громобоем в рыжей бороде и брезентовой жилетке времён, наверное, Первой мировой. Соня, шедшая рядом с ним, – из тех коротко стриженных девушек, которые сами протянут руку на скользкой тропе и с ободряющей хрипотцой скажут: «не ссы, прорвёмся». Но с первой минуты всех, даже босса, затмевала Женя – тонкая, светловолосая, в просторном камуфляже и ярких, оранжевых с синим кроссовках, очень фирменных и дорогих. Я прямо-таки физически ощущал, глядя на неё, как удобно в них идти, как пружинит толстая подошва, легко проглатывает дорожные колдобины и выбоины. И вся Женя была очень ладная – видно, что опытная походница, – только рюкзак выглядел грузноватым, и я держался поблизости, ожидая: вдруг устанет, предложу помощь, возьму что-нибудь тяжёлое… Но она шла себе и шла рядом с Игорем, разговаривая с ним или тихо насвистывая в ритме шагов. Я уловил что-то неаполитанское, затем попурри на тему старых добрых рок-н-роллов: «Jenny, Jenny» и всё в том же духе, а дальше – одну из любимых песен моего детства, не попсовую и в наши дни почти забытую. Здесь уж я не утерпел и, пережив изумление, свистнул вторым голосом. Женя поглядела на меня и улыбнулась, но глаза остались серьёзными. Серые, очень умные глаза; я задумался, в какой же книге они названы правдивыми, и довольно быстро вспомнил.
Она так и не устала и, когда на привале мы переоделись для купания, обнажила такое гибкое, точёное, изящно мускулистое тело, что я вновь присвистнул: на что надеялся? Да когда мы все тут ляжем, она достанет из кармана платочек вытереть лоб. Довольно много моих знакомых девушек – пожалуй, больше, чем мужчин, – ходят в тренажёрный зал, ворочают разнообразные тяжести и могут похвастаться рельефом, – но вот сразу понятно, когда он искусственный, для красоты, и мышцы напоминают подушечки, от сильных движений готовые лопнуть, а когда – такой же настоящий, как сказочная рубашка, в которой кому-то довелось родиться.
– Если б я снимал кино, позвал бы тебя непременно, – сказал я.
– На роль Сары Коннор? – спросила Женя, улыбнувшись совсем не по-терминаторски.
Я отрицательно качнул головой.
– На роль Кити в «Анне Карениной».
– Спасибо, – ответила она, – чудесная девушка… но, боюсь, тридцать лет многовато для неё.
– Больше двадцати бы не дал, – вмешался рыжебородый Даниил, и я кивнул, хотя на самом деле дал бы ей двадцать четыре.
– Пока ещё нет, – уточнила Женя, – юбилей через полгода.
Она сидела на пенке, вытянув длинные ноги; розовые подошвы с налипшими иголками, песчинками, со свежими вмятинками от камней притягивали взгляд, как солнечные зайчики.
– Не устал? Хочешь, погуляю по твоей спине? – предложила она. – Не бойся, не сломаю, в нормальной жизни я травматолог-ортопед.
– В нормальной… – передразнил босс Игорь. – А здесь тебе ненормальная?
– Здесь космическая, не придирайся.
– Не боюсь, – сказал я, – и не устал, но всё равно погуляй, спасибо. Давно уж по мне никто не гулял.
– Тогда ложись сюда, как раз подержусь за ветку…
Я растянулся на животе, Женя отряхнула ноги, встала на меня и оказалась тяжелее, чем ожидал. Думал, и не почувствую, но тем приятнее вышел сюрприз.
– А ты режиссёр? – спросила Женя сверху. – Или вообще имеешь отношение к кино?
– Нет, я редактор, – ответил я, разглядывая муравьёв, наглухо сцепившихся жвалами.
– Журнала какого-нибудь?
– В издательстве, редактор переводов.
Я мысленно поставил десять тугриков на муравья поменьше. Спорщики повалились на бок, перекувырнулись, затем большой потащил было маленького, но тот уцепился задними и средними ногами за шишку…
– И твою фамилию пишут на обложке? – спросила Соня.
– На последнем листе мелкими буквами.
– Здорово! – сказала Женя. – Значит, книги выпускаешь. Буду знать, к кому обращаться за новинками.
Я думаю, что работа врача куда интереснее и уж несравненно важнее для людей, чем моя, редакторская, их даже рядом поставить нельзя. Но если Женя и в моём деле увидела что-то особенное, достойное восхищения, спорить не буду. И не подумаю даже. Со стороны виднее, мне ли не знать…
Я расцепил муравьёв сосновой иголкой и сдул: одного влево, другого вправо.
– Нет такого редактора, кто не мечтал бы стать Дюма-отцом! – весело сказала Женя. – Я права?
– А?.. Да, несомненно, – отозвался я. – Но ты ведь знаешь, кем был Чехов.
– По-моему, терапевтом?
– Ну, для меня это уже тонкости. Мне главное, что доктор.
– Вот все вы так…
Женя, стоя на моих лопатках, перекатывала вес вперёд-назад и каждый раз, двигаясь к носкам, нажимала большими пальцами на точки у основания шеи, отчего по телу разбегалась электрическая рябь, то тёплая, то прохладная. Ощущение было балдёжное – знаю, что неприличное слово, но другое в голову не идёт.
– Кто ещё хочет, записывайтесь в очередь! – объявила Женя и развернулась поперёк спины. – Не только мужчины, девочек тоже касается!
Рискнуло, кажется, двое.
2К вечеру мы добрались до Отрадного озера. Узкий мыс, где мы разбили палатки, был похож на высунутый кончик языка, и в центре его нас ожидала приманка: очаг, обведённый кольцом седых калёных валунов, и четыре бревна, сверху отполированных до тусклого блеска. Я присел на самое толстое, провёл ладонью по окаменевшему боку и нащупал россыпь отверстий, очень похожих на пулевые. Да уж, какие-то секреты хранит это место. Не раз и не два, наверное, этот язык втягивался в лес, забирая с собой доверчивых туристов…
Но если так и случалось, то разве что давно. А теперь здесь был маленький песчаный пляж, над ним росли сосенки, едва заметные среди лилового кипрея, мохнатый вереск в сиреневом цвету, голубичник ростом мне по пояс и ни одного большого дерева. Игорь сказал, что недалеко от нашей стоянки – заброшенный пионерский лагерь, когда-то знаменитый на всю Ленинградскую область. Вода в озере оказалась чистой, в лесу неподалёку от берега мы отыскали полуразваленный забор, и доски пригодились на дрова.
Пока Женя с помощницами готовили ужин, все остальные молчали, окружив котёл. В фантастической книге он непременно зарядился бы энергией от наших взглядов и улетел на другую планету или, в крайнем случае, сварил бы не пшеничную кашу с ломтями вяленого мяса, а что-то невиданное, колдовское. Возможно, так произошло и наяву. Порция оказалась меньше тех, к которым я привык дома, но добавки не хотелось, и как же было здорово после целого дня ходьбы не натрескаться, не впасть в сонное отупение, а остаться лёгким и открытым для жизни.
После ужина мы искупались, а спать было рано, совсем ещё светло. Мы сели у костра, пустили по кругу гитару: она забралась на колени одному, другому, но всё ей что-то не нравилось. Я знал, кого она в конце концов выберет. Любят меня гитары, да я и в каждой из них, даже в самой простой, с грифом на винте и треснувшей декой, вижу красавицу. Играю, что уж тут, примитивно, по-дворовому, но чисто и с хорошим чувством ритма. И неизменно волнуюсь, беря в руки инструмент, – так, что даже песни в первое мгновение вылетают из памяти. Только что знал тысячу… и где вы все? Отзовитесь!..
В тот вечер я заранее решил, с какой песни начну, и удерживал её в голове изо всех сил, чем бы ни занимался. Здесь её точно не слышали, пусть удивятся. Взял гитару, коснулся струн, почувствовал ответный посыл, о многом говорящую вибрацию… да, конечно, мы поймём друг друга. Слегка подкрутил колки: слух мой далеко не абсолютный, но звуки открытых струн впечатаны в него намертво, а когда идеально состроишь открытые струны, всякий раз вылезают мелкие капризы при нажатиях, и у каждой гитары почему-то свои, с каждой надо договариваться отдельно. Но вот, кажется, договорился, сыграл короткое вступление и запел:
Хоть на миг, но останься В этот призрачный вечер… В электрическом вальсе Гибнут бледные свечи. В тихом шуме иллюзий Растворяются тени, И скользят, как медузы, Блики чьих-то видений…– Здорово, – дослушав до конца, сказала Марина, на вид самая домашняя из всех и единственная, кто шёл в поход с мужем. Она даже утёрла слёзы, но не от избытка чувств, как мне в первый миг показалось, просто дым летел в глаза.
– Спасибо, это девочка из моей школы сочинила, – ответил я. – Вика. Виктория Лазарева.
– Ай, не обманывай, – сказала коротко стриженная Соня, повязавшая голову чёрной косынкой с черепом и перекрещенными косточками. – Сам, наверное?
– Нет, нет, честно. Если бы так умел, то и не скрывал бы, наоборот – гордился. Мы в школе организовали ансамбль, она сочинила две песни. Я только аккорды подобрал. Да и то вышло не оригинально, заметил уже потом. Похоже вот на это:
Как же всё это было недавно-давно…2– Не так и похоже, поверь мне, мой друг!.. – успокоила Женя, подхватив мелодию, и, когда затихли последние смешки, продолжала: – Ты слишком самокритичный. И ведь без кокетства, всерьёз, вот что интересно. Видела я вас, творческих, ты первый такой.
Это было приятно слышать: вряд ли хоть один редактор или космонавт захочет выглядеть кокеткой, тем более в Жениных, красивых и искренних, глазах. Я, по крайней мере, такого не могу представить. Точнее, представить-то смогу, если надо, но понять – нет. Вот только не считал я себя каким-то особенно творческим. Так, разве что… совсем немного.
– А ты учился на юге, верно? – спросил наш босс.
– Да, кстати, мне тоже так показалось, – добавила Женя.
– В Крыму, – ответил я, – но живу здесь уже тринадцать лет. А почему вы так решили? Неужели до сих пор черноморский акцент?
– Нет, просто есть в тебе что-то такое… – Женя пошевелила тонкими пальцами, глядя вниз, на пурпурно-чёрные угли.
– …как будто кавказское, но не совсем, – договорила за неё Марина.
Я кивнул:
– Тормозят в городе, проверяют документы. Хоть раз в месяц, но бывает. На самом деле балканское, у меня один из дедушек серб. А родиться вместо Крыма я бы вполне мог на Дальнем Востоке или, скажем, в Североморске. Отец – морской офицер. Куда направляли, там и служил.
С милицией, если уж зашла речь, трудностей не испытываю: проверили, отпустили, ребята в последнее время почти все младше меня, толковые, доброжелательные, порой даже зовут к себе в славные ряды. Кто мог доставить неприятность ещё несколько лет назад, так это скинхеды. Было дело, я носил в кармане связку гаек и шайб на гитарной струне, и лишь после того как пустил её в ход и крепко рассёк одну непонятливую голову, эта публика исчезла с дороги. Вероятно, облик приобрёл необходимую завершённость, в глазах отчётливо проступила готовность идти до конца. Но об этом я у костра не распространялся, и беседу мы продолжали самую мирную.
– Значит, вам повезло, – сказал Даниил, имея в виду крымское детство. – Есть что вспомнить, наверное, не одна бесконечная тундра.
Я кивнул: найдётся, конечно. Хотя и тундра, куда меня однажды ранней осенью занесло, тоже понравилась, не хочу её обижать.
– …Корабли, мечты о кругосветном плавании, паруса, карты звёздного неба, – подхватила Женя.
– Было, конечно. Такой крапивинский мир…
– И гриновский, – добавила Женя.
– Но его под конец стала перебивать политика, – продолжал я. – Перестройка, гласность, съезды народных депутатов, долой КПСС, «Доктора Живаго» напечатали… Какие уж тут карты звёздного неба, когда в «Огоньке» дедушку Ленина разоблачили и он, оказывается, не такой добрый и мудрый дед, как нам всегда говорили, а вообще не пойми кто.
– Гриб, – припомнила Марина.
– Неужели в таком волшебном краю занимались этой ерундой?! – удивилась Женя. – Я ведь каждое лето ездила в Крым. Помню, какое это было чудо, сказка! И тут какие-то съезды депутатов…
– Для тех, кто приезжает летом, конечно, чудо, – сказал я, – а у меня наоборот. Жил там постоянно, к чудесам привык и не очень-то замечал, а сказкой был Питер.
– Интересно, какие противоположности сходятся! – заметила Марина.
Я взглянул на неё, Женя тоже, и в следующий миг все трое отвели глаза и уставились кто на костёр, кто на зубчатые вершины сосен, постепенно темнеющие на фоне зеленоватого неба.
– Спой знаешь что, – попросила Соня, – «Свобода вышла боком». Знаешь?
– Конечно, – ответил я, – среди ночи разбуди, спою.
И запел мгновенно, потому что песня эта волей изумительного автора начинается без прелюдий, сразу по существу:
Мы думали, что надо идти всегда вперёд, Как будто бы награда за поворотом ждёт. Мы думали, что надо бежать что было сил, Хоть нас никто об этом не просил…3И по тому, как вдохновенно и слаженно все подхватили, понял, что это – своего рода здешний гимн. Голос Жени так же выделялся среди всех голосов, как и лицо среди лиц. Неожиданно глубокий, альтового тембра, и какой-то очень вольный: представьте реку, не загороженную ни одной плотиной, вот примерно такое впечатление.
Но вот свобода вышла боком, стала в горле комом, Теперь катись по водостокам навстречу всем обломам, Катись по водостокам, стань спичечным коробком, Катись по водостокам с ветерком!..Я сыграл несколько песен, и гитару попросил хозяин, затем она совершила ещё пару кругов, останавливаясь у тех, кого не признала раньше, и теперь была покладистее, словно я победил изначальное недоверие. Марина с мужем Виталием пели дуэты собственного сочинения, эзотерические и, наверное, очень смешные для посвящённых. Я то слушал, то отвлекался, думая: трезвость – норма жизни, да? А почему такое кружение в голове и снаружи? И дым рисует какие-то символы: кажется, надо чуть напрячься, добавить усилие – и поймёшь. И сосны очень затейливо приплясывают вокруг, и луна… Нет, я мог поклясться, что пил только чай, заваренный на моих глазах из воды, которую сам черпал в озере. Откуда же всё? Вряд ли от песен о том, как Брахма драхму принёс Петухову, а заказана дхарма была. И курили в компании максимум двое, судя по запаху – американские сигареты с честным табаком, так что и с этой стороны никаких инсину… Тьфу! Я с трудом удержался от дурацкого смешка и заметил, что уже стемнело, подозрительно темно для белых ночей, в городе так не бывает. И у костра осталось несколько человек – среди них, кстати, Женя. Самое время начаться какой-нибудь чертовщине, но нет: Игорь поднялся с бревна, потянулся, разведя руки, как самолёт на тёмно-синем фоне, и посоветовал всем разойтись по палаткам. Завтра будет тяжелее, – сказал он. Оставалось только верить.
3После разговоров о юге мне приснились Немирович и Данченко. Вообще-то, в действительности никаких Немировича и Данченко не было. В нашем крымском посёлке работал яхт-клуб, через который прошли, наверное, все ребята старше третьего класса. У начальника яхт-клуба, Константина Михайловича, было своеобразное чувство юмора. Экипажи он подбирал так: Нехорошев – Плохих, Глухов – Слепов, Волкова – Зайченко. Я однажды брякнул, что, если бы у нас были Немирович и Данченко, непременно оказались бы в одной лодке. Почему именно они, а не Мамин и Сибиряк, не знаю, но шутка прижилась и гуляла ещё пару лет. «Все готовы, кого ждём?» «Немировича с Данченкой!» «Ты не обгонял Немировича и Данченко?» «Кто же их обгонит, летят быстрее ветра!»
Странно, что я никогда не пытался вообразить их как реальных людей. Потом забыл на много лет, и вот пожалуйста – явились. Управляют четырестадвадцаткой,4 Данченко – рулевой, Немирович – матрос. Хотя бы по этому поводу не грызутся, каждый считает своё место главным. А вообще они терпеть друг друга не могут, противоположны во всём. Немирович – широкоплечий, с виду медлительный и невозмутимый, из тех флегматиков, которых лучше не злить, вроде Пьера Безухова. Данченко – тощий, весь на пружинах и шарнирах, выпаливает двести слов в минуту. Слушают разную музыку, читают разные книги: Данченко – больше военные, Немирович – об одиночных кругосветках. Так и живут, переругиваются иногда, скрипят зубами; но просить Михалыча, чтобы рассадил, у нас не принято, а напрашиваться действиями – скажем, подраться на борту, – тем паче.
Утром получено штормовое предупреждение, выход на воду отменён. Пластиковые швертботы стоят на площадке, притянутые ремнями; виндсерферы убраны в ангар; «Дракон» и оба яла, четырёх- и шестивёсельный, качаются на растяжках между пирсами. Немирович и Данченко – дежурные по территории. Задача проста: следить, чтобы ничего не сорвало с креплений. Каждые десять минут по очереди осматривают площадку, причалы, остальное время сидят без дела, поглядывая друг на друга так, будто это напарник подстроил гнущий деревья ветер и полутораметровую, с белым гребнем, волну. Как обычно, не разговаривают – да будь они хоть братьями, всё равно на таком грохоте не поговоришь.
И оба, такие разные, жаждут одного: выйти в море сейчас, испытать себя в этих жутких условиях. Я проснулся и наяву задумался о том, как им почувствовать воду. Просто взять и, вопреки запрету… Нет, за это мигом вылетишь из клуба, и все будут крутить пальцем у виска, да ещё родителям доставишь неприятности. Нужна весомая причина. Если кого-то спасти?.. Допустим, девушка решила искупаться, не рассчитала сил, её вынесло на фарватер, и вот они видят в сотне метров от берега беспомощные взмахи рук… Несутся к причалу, прыгают в четырёхвёсельный ял, вставляют вёсла в уключины, режут швартовы, потому что отвязывать некогда, и, то и дело оглядываясь, вдвоём ведут громоздкую посудину туда, где мелькает на волнах голова…
Какая-то мелодрама, ещё не хватало им влюбиться в эту девушку и предложить ей выбрать достойнейшего, а ей давно нравится другой… Значит, так и просидят на берегу до конца дежурства, целее будут. В нереализованных желаниях тоже что-то есть. И всё-таки интересно, на кого она могла бы быть похожа? Конечно, не на Таню. И не на Леру, Марину, Оксану, Настю… Может быть, на Лену? или Машу?.. Как же, полезут они купаться в шторм!
Тут я вспомнил, что нахожусь в палатке посреди леса, и открыл глаза. Взглянул на часы – до подъёма десять минут. Женя с Игорем уже на ногах и тихо переговариваются, растапливая костёр. И на Женю она не была бы похожа… Однако пора и мне вылезти, размяться. Ноги побаливают после вчерашнего, а сегодня будет тяжелее.
4Идём пятый день. Начались холмы, каждый новый круче и выше прежнего, сосновые корни, будто окаменевшие кобры, вьются поперёк пути. Солнце не прячется ни на миг, о нежных, прохладных, добрых тучках остаётся только мечтать. Как и о том, чтобы заткнулись, наконец, комары. Разговоров мало, по вечерам не до песен, меньше глядим по сторонам, и фотоаппараты молчат. Лишних килограммов у меня как не бывало. Курящие не прикасаются к своей отраве. Даниил, хозяин гитары, вздумал оставить её на поляне после ночёвки, как бы случайно, чтобы потом хлопнуть себя по лбу и сказать: «Вот дырявый котелок!» Нет, это не дело, это всё равно что друга бросить. Я вернулся, благо прошли всего метров двести, и сразу же заметил прислонённый к берёзовому стволу чёрный футляр. Теперь я несу гитару, а Даниил держится от нас подальше: наверное, чувствует себя виноватым. Ничего, это пройдёт. Надеюсь… Да и сам я, утром поднимая рюкзак, жалею, что взял зеркальную камеру, довольно было бы и мыльницы. Немного пошагав, думаю: нет, зеркалка ещё куда ни шло, но вот два запасных аккумулятора ни к чему. Чуть экономнее пользоваться, и хватило бы единственного.
У нас в группе начинаются мозоли, больные колени, поясницы. Женя, свежая, как и в первый день, на привалах мажет, перевязывает, массирует, даже колет анальгин. Марина стёрла ноги сильнее всех: когда идёт, о боли забывает, но стоит минуту посидеть, и любое движение становится мучительным, льются слёзы. Вечером Женя забирается к ней в палатку, через некоторое время вылезает и рукой сигналит Виталию: всё в порядке, можно заходить. И вот даже по этим жестам и по выражению лица, хитрому и заговорщицкому, сразу понятно, какой она хороший доктор.
Кстати, спирт из её бутыли, как и обещал босс, расходуется только наружно.
Мы идём, стараясь держать темп. Иногда дорога истончается до узкой тропы, пробираться по ней можно только цепочкой, отводя и придерживая нависающие ветви, чтобы не хлестнуть по лицу следующего. Кажется, вот-вот и эта тропа растворится, как сахарная; непонятно, куда ведёт, кто и зачем мог её здесь проложить, но я уже знаю, что возвращаться не будем, рано или поздно шагнём на солидную просеку с двумя колеями, кое-где хранящими отпечатки протекторов. Или вдруг подумается, что мы заблудились: поворот, ещё один, солнце внезапно ударит в глаза, и вроде эту сломанную берёзу не так давно обходили с другого бока… Но Игорь знает дело, и каждый вечер мы выходим на берег озера, к готовому костровищу. Кое-кто засыпает, едва установив палатку, не в силах поужинать, вымыться. Так было до вчерашнего вечера, когда мы наконец добрались до Ладоги. Я сразу почувствовал иной масштаб, словно все наши прежние озёра были ступеньками на пути к чему-то огромному и загадочному, и вот оно раскинулось перед нами – синее, блестящее, бесконечное. «Вон там Валаам, – сказал Игорь, прищурившись и вытянув руку на северо-восток, – километров сорок от нас, можно дойти на байдарке в тихую погоду».
В бухте, где мы остановились, дымится ленивый костёр, рядом стоит чумазый брезентовый дом, растянутый за углы верёвками. В нём с конца марта живёт друг нашего босса, по виду хиппи на пенсии. Утром, не сворачивая лагерь, мы оставили под надзором деда рюкзаки, прошагали огромную петлю, наброшенную на крепость Корела, завернули в крепость и облазали каждый угол. Игорь всё о ней знает: когда была основана, какие войны пережила, кто из декабристов томился там в заключении: Кюхельбекер, Барятинский… Оказывается, босс увлечён крепостями, история и фортификация – его главная страсть. Наверное, ему и девушки ни к чему, – отмечает вредная сторона моего ума, – ни к чему, когда под боком есть бастионы, выщербленные вековые стены и краеведческий музей с чугунной, да хоть бы и деревянной, сделанной школьниками на уроке труда, пушкой у входа.
Возвращаемся в бухту, нас дожидается горячий ужин, спасибо хозяину и Марине. Её не будили поутру, и теперь она бодрее вчерашнего, да и мы повеселели – оттого ли, что привыкли к дорогам или просто шли налегке. После ужина мы с Женей отправляемся к воде мыть котёл. Женька громко разговаривает, азартно жестикулирует, спотыкается и метров семь пробегает по песку, отчаянно размахивая руками, и, удержав-таки равновесие, на весь берег хохочет. Глядя на неё, вспоминаю собственное настроение в первый вечер. Трезвый же поход, клянусь яйцами Хоруса и Космическим Десантом! Женя за работой и на обратном пути уговаривает меня написать книгу о крымском бытии. Будто бы до сих пор вспоминает разговор на Отрадном озере и чувствует за словами что-то необыкновенно интересное и значительное. «Напиши, а я куплю! С автографом». «Да я тебе так подарю». «Нет, – важно отвечает она, – художник должен получать награду за труд», – и вновь смеётся, и строит гримасу своему отражению в котле.
На завтра обещан день отдыха, никто не спешит в палатки. Как и в первый вечер, сидим вокруг костра, и я удивляю всех ещё одной песней гениальной Виктории из моей крымской школы:
Останься навсегда такой: Мелодией, почти неслышной, Не всеми понятой строкой, В саду весны цветущей вишней…Романс о Венди и Питере. Когда я подбирал к нему аккорды, труднее всего было уйти от привязчивой мелодии «Король оранжевое лето», – вроде, удалось. И здесь в первой строке – «останься». Это, наверное, уже творческий почерк. Что-то сейчас делает Вика? Может, печатается в журнале «Юность», если он ещё жив, или под иностранным псевдонимом сочиняет песни для Джорджа Майкла, а я и не знаю…
Как долго я тебя ждала, Но ты не прилетал, ты медлил. Ложилась тень на зеркала Вуалью серебристо-медной…До сих пор у меня мурашки по спине от этих слов. И у Жени… кажется, тоже. Она притихла и то и дело встречается со мной взглядом.
5Поздно, поздно, когда улеглись больные и здоровые, мы сидим у погасшего костра. Я на бревне, Женя у меня на коленях. Она уже в ночном костюме: брючки, кофта нежной шерсти. На плечи наброшена куртка; я обнимаю Женю под курткой, осторожно, чтобы не показаться слишком наглым.
Женя, вытянув шею, разглядывает что-то за моей спиной.
– Смотри, какая луна. Запуталась, бедняга, в соснах.
Скосив глаза, вижу мочку уха с маленьким отверстием. Достать губами отчего-то не решаюсь.
– Ай! – шёпотом вскрикивает Женя и тянется к ноге. Отпускаю. Наклоняется, шлёпает себя по щиколотке.
– Комар?
– Ага. Злодей.
– Здесь? – приподнимаю брючину, провожу по гладкой коже подушечками, твёрдыми от гитарных струн.
– Спасибо, – говорит Женя, – всё, верни как было.
Медленно, по пути несколько раз заблудившись, возвращаю руку ей на талию. Женя прижимается щекой к моему лбу, к тому месту, где волосы поредели и уголок чуть обгорел на солнце.
– А я вроде как замуж собиралась, – неожиданно говорит она.
Хочу спросить: «За кого?» – но этот парень явно не из наших, я бы тогда заметил, а он тем более. Значит, ответ ничего не даст.
Она снова шепчет:
– Три года ухаживал, добивался. И вот на тебе, пожалуйста…
Одного я всё-таки не понимаю. И спрашиваю:
– Как же он тебя отпустил?
– Меня попробуй не отпусти, если захотела.
Смеёмся, встречаемся губами, и пропадает берег, озеро, луна… Не знаю, сколько это длится, но потом Женя выныривает.
– А ещё у меня сыну одиннадцать лет, – говорит она.
– Большой уже.
Она кивает:
– Высокий для своего возраста и крепкий. Но в армрестлинге я его ещё года четыре буду побеждать.
Серые глаза блестят в притворных карельских сумерках, но я, грешный человек, смотрю ниже. В прошлые дни, когда купались, мельком видел её совсем обнажённой и никогда бы не подумал. И сейчас то, что выступает под кофтой…
– Повезло, – говорит она, перехватив мой взгляд. – Осталась как у девчонки.
– Ты и есть девчонка, – отвечаю и, не слыша возражений, прикасаюсь через тонкую ткань. Женя вздрагивает, закрывает глаза.
– Нет, слушай, – шепчет, отодвигаясь. – Вдруг кто выйдет? – и кивает на палатки. Но там тихо, никто даже не храпит, и Женя обхватывает руками мою шею. Крепко, и чувствую: есть ещё запас. Немалый.
– Не страшно? – она и впрямь добавляет усилий.
– Нет.
– И правильно, – говорит Женя, ослабляя нажим. – Я ведь добрая.
– А где он сейчас? – спрашиваю. – В смысле, сын.
– В лагере. Спортсмен у меня, лыжник. Кстати, не мешало бы его подтянуть по русскому, литературе.
– Попробую.
– Напросилась, да?..
С минуту молчим, затем Женя, тронув пальцем мою щёку, задумчиво произносит:
– Надо же, как оброс за несколько дней… Никогда такого не видела.
– Хочешь, побреюсь? Взял станок на всякий случай.
– Не надо, так интереснее. Дома побреешься.
– А как зовут сына?
– Как тебя.
И снова молчим. Слышно шевеление в палатках, будто сейчас кто-то выйдет, – молчим, не двигаемся. С Ладоги налетает ветер, свистит в вершинах сосен, хлопает тентами – молчим. Над ухом звенит комар – и не поймать, руки заняты. Обернувшись, резко сдуваю. И как будто подаю сигнал: Женя вся подбирается и встаёт, задевая плечом мою скулу.
– Извини. Я пошла, спокойной ночи.
Кладёт мою куртку на бревно, поправляет рукав, упавший наземь. Разворачивается к своей палатке: там спит бездомная Инна. Спала, когда Женя заглядывала в последний раз, так будет точнее. Редакторская привычка к маниакальной точности в текстах перешла и на жизнь. А в моей палатке, тоже двухместной, – пусто.
– Подожди, – вскакиваю следом, обнимаю, стягиваю косынку. Губами касаюсь волос, горячей шеи. – Женя, куда спешить, завтра же отдыхаем.
– Так нечестно, – отвечает она, не пытаясь освободиться. – Я всё о себе рассказываю, а ты нет. Вообще как партизан. Откуда я знаю, кто ты такой?
А в самом деле, почему не рассказываю? Но задуматься некогда.
– Женя, – говорю как можно убедительнее. – Не хочу сейчас уходить в прошлое, слишком хорошо здесь. С тобой. Мало ли, что там было. Я постепенно всё расскажу, в городе.
– А если в городе у тебя семья и трое детей?
– От трёх разных жён, – и мысленно бью себя по лбу.
– Не смешно.
– Нет троих детей. Есть дочка Настя, пять лет. А с её мамой я два года как разведён. Вот моя история.
Женя молчит. Я чувствую, какая нежная у неё кожа там, где шея переходит в плечо. Пахнет немного дымом, хвоей, апельсиновым мылом. Голова кружится. Я осторожно вытягиваю краешек Жениной кофты из брюк, продеваю внутрь ладонь. Другой рукой поворачиваю её голову к себе, целую в уголок рта. Женя вздрагивает и, чуть помедлив, шепчет:
– Пусти. Я должна подумать.
Вспоминаю: «Меня попробуй не отпусти». Не буду держать. Ослабляю руки: можешь сама отодвинуть, если захочешь.
Женя глубоко вздыхает, успокаиваясь. Потом отодвигает руки, отходит на шаг, оборачивается.
– Спокойной ночи, – говорит она. Лицо у неё невесёлое. А у меня?.. Кажется, догадываюсь. Потому что Женя порывисто шагает вперёд и вновь обнимает меня за шею.
6В палатке тихо. Любой шорох, который мы издадим, сомнёт ночной берег, как бумагу, – так мне кажется. А за стенами разгулялся ветер, и это хорошо: вряд ли мы совсем не шумели ещё несколько минут назад.
Здесь даже светлее, чем снаружи, будто мы, с двух сторон залезая в палатку, напустили слишком много света и заперли его. Но он какой-то нереальный, призрачно мерцающий, или просто я до сих пор не могу понять, как и почему всё получилось. А когда пойму…
– Мне удобно, – шепчет Женя, устраиваясь головой на моей руке. – А у тебя есть подушка?
– Нет, я куртку кладу.
– А где куртка?
– Блин… На бревне оставил.
– Сходи забери.
– Да ну, лень. Ничего с ней до утра не случится.
– А если дождь?
– Думаешь, будет?
Она пожимает плечом:
– Ты видел, Гриша накрывал фигвам?
Гриша – это хиппи-отшельник из нашей бухты. Ему пятьдесят два года, и, если приглядеться – он далеко не дед: немного сутулый, сухопарый, прочный, с тёмными узловатыми ручищами. Но снаружи весь потёртый, и когда седеющие волосы не перехвачены лентой, то и глаз его не видать. Женя права: вечером они с Игорем укрощали на ветру, стелили на брезентовую палатку громадный синий чехол от упаковки гипрока, привязывали его к тем же вбитым в землю кольям, что держат верёвочные оттяжки.
– У него к дождю бессонница, – говорит Женя, – скоро вылезет курить.
– Ты его знаешь?
– Третий год. Потом расскажу, забери сейчас, ага? Только не попадайся ему, а то знаешь какой говорун! Где он только не был: в Китае, на Северном полюсе…
В другой раз я бы охотно послушал бывалого человека, но, понятное дело, не теперь. Расстёгиваю клапан, беру полотенце и босиком выскальзываю наружу. Для начала надо заглянуть в лес, спрятаться за сосну потолще… Хе, трудно что-то из себя выдавить после пяти дней непрестанной ходьбы. Возвращаюсь к костровищу. Забрать куртку с бревна – секундное дело, но затем я сбегаю по крутому откосу к Ладоге, присаживаюсь на камне у воды и умываю лицо. Может быть, успокоюсь. Пройдёт желание вскочить и крикнуть так, чтобы волной окатило рыбачий посёлок, чьи огни горят на дальнем мысе.
Что-то ведь со мной произошло в последний год-полтора, я не замечаю этого в зеркале, когда бреюсь, но часто так думаю. Произошло. Знакомлюсь с девушкой – и первое время всё хорошо, то есть первые минуты, максимум полчаса, но вот они проходят, и я вижу перед собой очередную честную, добрую, порой даже весёлую и всё равно наводящую уныние дружбу до горизонта или, может быть, дальше. Сколько их уже набралось! Не меньше десятка. По этой причине и к Женьке не подкатывал, любовался со стороны, чтобы потом не расстраиваться. Но всё вышло как-то случайно. Или это судьба?
Поднимаюсь. Ладога качается перед глазами и вдруг кажется воронкой, из которой вот-вот уйдёт вода. Мигом скидываю одежду, забегаю в озеро по грудь, окунаюсь, затем на берегу бешено растираю себя полотенцем, одеваюсь в том же темпе и мчусь наверх. Гриша, наверное, вылез из брезентовой берлоги. На всякий случай облетаю стоянку по широкой дуге и захожу к палатке с тыла. Тоже мне партизан.
Жени внутри нет. Провожу рукой по коврику – точно нет, одна камуфляжная бандана лежит на спальном мешке. Нарочно отправила меня за курткой, чтобы улизнуть… Но через минуту снаружи раздаются мягкие шаги, кто-то приспускает молнию на входе, и я слышу знакомый шёпот:
– Сань… Это ты здесь?
– Конечно, а кто же ещё?.. Забирайся.
Женя полностью раскрывает клапан, садится ко мне спиной и, оставив ноги в тамбуре, разувается. Провожу рукой по её боку. Ещё мгновение – и она рядом, я касаюсь губами прохладного лица.
– Так, для верности спросила. Я, конечно, умею ориентироваться, но лучше подстраховаться. И палатки почти все одинаковые. Хороша бы я была, вломившись в чужой дом!
Женя без звука хохочет, я тоже; мы легко попадаем в резонанс, и на мгновение кажется, что весь наш дом потихоньку едет к озеру.
– Ой, не могу!.. – Женя поднимает голову и глубоко вздыхает. – Только я утром перебегу к себе, ладно? Пока все не проснулись.
– Попробуй. Если сама проснёшься.
– Тоже верно. – Она несколько секунд молчит и добавляет: – Слушай, я всё-таки не могу поверить, что в городе будет продолжение. Слишком ты скрытный, сколько там ещё разных одёжек…
– Будет, конечно, – отвечаю. И несколько минут молчим.
– О чём задумался, – спрашивает, наконец, Женя. – Чувствую, не спишь.
– И даже не хочу. – Отбрасываю спальник, сажусь по-турецки. – Женька, ты добрая волшебница. Лечишь нас, согреваешь в жару, мажешь зелёнкой…
– Короче, – шепчет она, хмурясь.
– А кто подумает о тебе? Ноги устали, наверное?
– Спасибо, – говорит она с тихим вздохом. – Знаешь, третий год хожу в леса… ты первый догадался.
– Да и то не сразу.
– Когда человеку хорошо, он думает, что и всем хорошо. Когда трудно – уверен, что ему одному… Молодец, как нашёл место. Нажми сильнее, не сломаешь. Вчера ночью что-то болело, а сейчас хорошо. Теперь до обеда точно не проснусь…
– Да, Женя, – говорю, не выпуская её щиколотку, – я сказал, что Насте пять лет. Пять с половиной на самом деле, так быстро растёт. Родилась пятнадцатого декабря.
– Почти как я. Я семнадцатого. Часто её видишь?
– Каждую неделю обязательно, по нескольку раз. Накануне похода видел, просила привезти из леса живую лягушку.
– Как будешь выкручиваться?
– Найду – сфотографирую. И скажу: прийти не смогла, потому что у неё маленькие лягушата, но передаёт привет.
– И поверит? – смеётся Женя.
– Нет, конечно, но за выдумку простит. А может, и задумается, и поймёт, что лягушка не домашний зверь.
– Вы с ней оба фантазёры. Тебе это, наверное, полезно в работе. А кстати, как ты работаешь?
– Получаю по почте файл с текстом, читаю. Если это перевод, сверяю с оригиналом. Исправляю ошибки, стилистические, всякие разные. Самые трудные места распечатываю, на бумаге всё виднее. Последний роман был ужасный, одна сплошная ошибка. Переписал целиком за полтора месяца. За это больше платят.
– А потом что делаешь?
– Если перевод, от меня идёт к ответственному редактору, от него – к корректорам. Затем в печать. Если русская книга, все правки смотрит автор, утверждает или нет. Я сам перевёл два рассказа для антологии. Намучился, но вроде удалось.
– Ты этому учился?
– Давно, а потом занимался другими делами. Перевозка мебели, стройматериалов. Надо было зарабатывать. Посмотрю, как будет по деньгам. Если мало, вернусь к прежней работе. Но и эту не брошу, буду потихоньку что-то писать.
– А какие ещё языки знаешь?
– Немного итальянский, сербский.
– Скажи что-нибудь?
– Волим те, – запросто произношу и целую её в затылок.
– А ты там был? – спрашивает Женя.
– Давно и мимоходом. Когда в следующий раз поеду – первым делом на Средиземное море. Непременно поездом или автобусом. Вместе сгоняем?
– Хотела бы, и в Крым тоже. А книги у тебя в каких жанрах?
– Фантастика в основном. Увлекаешься?
– Я не очень, а вот Саня любит.
– Так, наверное, и должно быть.
– Да, пожалуй… Всё, Сашка, спасибо тебе огромное. Иди сюда, ложись. Ой, горячий какой, прямо живая печка…
7Ночью и правда сеет мелкий, сам себе что-то тихо шепчущий дождь. Я просыпаюсь едва ли не каждый час и поправляю затёкшую руку, удобнее поворачиваюсь. Женя во сне норовит лечь по диагонали, забросить на меня ногу или две. Это я виноват. Если моё умение выбирать место для палатки ещё не вошло в легенду, то лишь потому, что мало кто со мной эти палатки делит. Может быть, теперь войдёт: угол в яме, весь бок на горе, хорошо хоть не вниз головами. Один раз мы вместе открываем глаза и долго разговариваем, – утром я припоминаю: кажется, вновь о Крыме, военном флоте, античных и средневековых следах.
Вылезаем раньше остальных, купаемся и вместе с Игорем готовим завтрак. В лесу сильнее прежнего пахнет можжевельником и земляникой. Пока без грибной ноты: маслятам и волнушкам будет срок через месяц-полтора. Ветра нет, над озером лёгкий туман, клубы отрываются и тают, не долетая до берега. Дым поднимается к вершинам сосен и тоже тает. Женя, что-то напевая, чистит картошку, бросает тонкие ленты кожуры в огонь. Босс поглядывает на неё, на меня: видно, что всё понимает и всё это ему до лампочки.
После завтрака Женя занимается больными, я стираю накопившиеся вещи. Старательно полощу, выжимаю так, что ни капли больше не хотят отдать, и цепляю на верёвку. Если выйдет солнце, досохнут за пару часов. Потом Женя начинает стирку, что-то нам не совпасть… В другой раз я бы стал понемногу злиться на обстоятельства, но сегодня только посмеиваюсь и сажусь у костра потрепаться с Гришей. Да у него почти нет морщин на лице! Если подстрижётся, побреется, наденет что-нибудь новое, будет выглядеть моложе своих пятидесяти двух.
Гриша разговаривает по-английски, надо же – с каким-то странным акцентом и так бойко! Он шпарит длинную, как наш поход, фразу, мне нужен перевод, не разбираю больше половины. И неудивительно: мой английский – книжный, отчасти песенный, живым общением не закалённый, а Гриша однажды сбежал с торгового корабля – он там и в команде не был, ехал чуть ли не в сундуке, – так вот, вместе с матросом, который его прятал, они нырнули в океан на рейде новозеландского порта, кое-как добрались до берега с двумя сотнями долларов, зашитыми в плавки. Всё остальное пришлось бросить, иначе бы не доплыли, и так повезло, что не угодили в холодное течение. Друг обжился на острове, доказал, что в России нарушали его права человека. Гриша околачивался там без малого четыре года, работал мойщиком посуды, садовником, научился водить автопогрузчик, едва не женился, но всё-таки его выдворили. А если бы оставили – думаю, сам бы улетел в тот же день. Теперь он решил набраться сил в удалении от мира, кое-что переосмыслить, перезагрузиться, а там, глядишь, ещё куда-нибудь рванёт. Есть, есть у него огонь в глазах.
Гриша варит на обед туземный суп с кучей приправ, ворчит, что в целой стране не найти годной баранины, а заменять её тушёнкой не кошерно. Но и так получается отменно, я бы один, дай волю, навернул половину котла.
8После обеда выглядывает солнце, и мы решительно отрезаем себя от компании, идём вдоль берега к северу, в сторону рыбачьего посёлка. Он дальше, чем казалось вчера, километрах в пяти. Женька в джинсовых шортах, пятнистой майке, с убранными в хвост волосами, выглядит школьницей. Расчехляю фотоаппарат, Женя делает из ладони козырёк, вглядывается вдаль – вот и первый кадр. «Глянь сюда, – зову, – нравится?» Она загораживает экран от света… «Неплохо». Потом убегает вперёд, оглядывается через плечо, слегка запрокинув голову. «Опусти плечо, – командую, – шею покажи. Теперь замри», – и готовлюсь умышленно долго – так, что Женя не выдерживает и смеётся в голос. Этого я и добивался.
Я довольно много лет фотографировал «Зенитом», то увлекался, то надолго бросал, были у меня цифровые мыльницы, но занялся этим всерьёз и купил современную зеркалку чуть больше года назад. Думал, что умение мгновенно выхватить композицию в хаосе деталей, острее различить цвета в их причудливых мимолётных сочетаниях – всё это поможет в литературном деле. Получалось неважно, старший брат не хотел даже глядеть на младшего, где уж перенимать опыт. И он был прав: у меня выходило то, что в просторечии называется фотками, – то есть добротные, до зевоты реалистичные картинки из серии «здесь был я». Хотелось поделиться неожиданным взглядом на знакомый предмет, передать его тайну, которая есть у любой табуретки, – я ведь чувствовал её, мог приблизительно, кое-как, но всё же выразить словом… но только не снимком. Коряга, торчащая из реки, в кадре была лишь корягой, а не головой водяного с обвислыми усами и в кепке козырьком назад. Я различал её простым взглядом, без видоискателя, снимал несколько раз, по-новому обрабатывал, и коряга делалась объёмной, контрастной – но, увы, оставалась собой, ни один её излом не становился хоть немного загадочнее. С людьми было то же самое. Осенью Настя пошла в бассейн, сама захотела плавать, и несколько моих фотографий с открытого урока очень понравились тренеру: все технические плюсы и минусы, сказал, видны лучше, чем на ладони. Но того ли я хотел? Где же Русалочка, где Фрези Грант?..
Я уже почти смирился с тем, что не выйдет из меня ни Льюиса Кэрролла, ни Михаила Пришвина, равно владевших пером и объективом, но что-то сдвинулось в мае, месяц назад. В тот день я связал нитками ветви сирени, пышно разросшейся под окнами, так что из гроздьев получилась река: водопадом она низвергалась откуда-то сверху – прямо из облака, может быть, – и бежала ко мне, делая стремительный изгиб и расширяясь. Были там буруны у подводных камней, брызги, и густые лиственные берега, и даже длинный, тёмный остров. Я ходил вокруг этой картины, что-то поправлял, пока не опомнился от крика старушки: «Ишь повадились ломать цветы! Ты эти кусты сажал?» «Во-первых, сажал мой дедушка, – ответил я, что было правдой, – а во-вторых, видите? Ни одного листа не сорвал. Лучше посмотрите сюда», – и показал изображение на экране. Это было признание, я даже напечатал по просьбе бабули несколько самых удачных кадров.
С того дня мне стало везти. Голубь, севший на подоконник, столь изумлённо приоткрывал клюв, что так и хотелось нахлобучить на сизую голову корону какого-нибудь незадачливого сказочного царя. Белый шар одуванчика попадал в фокус именно в то мгновение, когда отпускал на волю десяток парашютистов: одни только выбираются из толпы, другие готовы оторваться, а третьи выходят размытыми: они уже свободны, летят за край снимка… куда?..
И я стал разборчивее, что попало уже не снимаю. Перешагиваем мелкий ручей с берегами, заросшими тысячелистником, – мимо толстого шмеля, долетевшего сюда прямиком из Калифорнии, пройти не могу. А если чуть наклонить стебель и целиться снизу, резко очерченное соцветие наложится на тёмный, испещрённый сквозными просветами лиственный свод, будто в нём отразилось сорок тысяч белых соцветий, или же это звёздное небо…
– Иди сюда скорее! – шёпотом зовёт Женя. Сидя на корточках перед камнем, она гипнотизирует взглядом огромную лягушку – не лягушку, форменного бегемота из басни. Помнит моё обещание… Когда подхожу, модель решает, что это уже слишком, подпрыгивает и глухо шмякается на землю.
– Сидеть! – шёпотом рявкает Женя. Лягушка, потрясённо моргая, позволяет перенести себя обратно на камень и стоически терпит все фотомучения: и макросъёмку, и долгую выдержку. Как будто даже улыбается… Наконец, она свободна.
– Как тебе это удалось? – спрашиваю Женю.
– Не знаю… В первый раз такое. – Она вдруг приваливается ко мне спиной, запрокидывает голову и начинает трястись. – Ой, не могу!.. Держи меня!..
Эхо звенит и гудит в лесу, и до цели мы добираемся порядком изнемогшие. А цель нашей прогулки – огромная, розовато-серая в крупных блёстках, гранитная глыба; снизу она кажется не меньше трёхэтажного дома. Обращённый к Ладоге крутой скат напоминает профиль знакомого, но я не могу вспомнить имя: мешает нарисованный каким-то умельцем полуиндейский, полуегипетский глаз. Без лестницы к нему и не доберёшься.
– Всё, надо успокоиться, – говорит Женя, – а то не сможем залезть.
Стараясь не ломать черничные кусты с новорождёнными ягодами, обходим скалу: с другой стороны она столь же крута, но снабжена выступами, по которым можно карабкаться. Я мысленно прикидываю маршрут. Можно, в Крыму по таким лазал, только не забыл ли, как это делать?..
– Давай за мной, – говорит Женя, ступает на нижний порожек, примеряется, тянется – и вдруг, ловко работая локтями, переливаясь гибкой спиной, с необычайным проворством летит вверх тем путём, что я и наметил. Вот она уже там и машет рукой. Я ползу следом, придерживая зубами сумку с фотоаппаратом.
– Ну ты даёшь! – говорю, оказавшись наверху. – Никогда такого не видел.
– Так я же в прошлом как бы звезда, – отвечает Женя, стягивая майку. – Разве не говорила? Чемпионка всего по скалолазанию. Обо мне в газетах писали, по телевизору тоже…
– Когда ты всё успела?
– Старалась. – Женя пожимает плечами и, наклоняясь, расшнуровывает кроссовки. – Главные успехи были в старших классах.
– А сейчас?
– Лазаю для себя. С большим спортом завязала, когда в третий раз выбила один и тот же палец. Для работы нужны здоровые руки. А эта скала – моё любимое место.
– Как ты её нашла?
– Гриша рассказал два года назад, пошла по берегу и увидела. Хорошо тут, давай загорать.
9– Женя, ты училась в Первом Медицинском? – спрашиваю, сидя на шершавом граните.
– Нет. Почему так думаешь?
– Просто единственный медицинский вуз, который знаю.
– Я училась в академии имени Мечникова, вот тебе второй. Повышала квалификацию в Военно-Медицинской академии, вот третий.
– О ней знаю, но почему-то забыл. А как в первый раз пошла с Игорем? Я случайно, вместо приятеля, сломавшего ногу.
– Я тоже в какой-то мере случайно. Увидела весной объявление в газете, в туристскую группу нужен врач. Прикинула: буду в отпуске, Саня в лагере, загранпаспорт просрочен. Почему бы не развеяться? Заодно, может, подзаработаю, денежка смешная, но всё же. Позвонила, с тех пор хожу. Прошлым летом даже два раза была, второй раз вместе с Саней. Ему понравилось. Жил как большой, в собственной палатке. Сейчас не получится. Заберу из лагеря, слетаем в Тунис на восемь дней… И в больничку, работа зовёт.
– Больничку… Тюремную, что ли?
– Нет, обыкновенную! Это мы ласково называем. Вот что значит испорченные нравы.
Поднимаюсь на колени, вновь достаю фотоаппарат. Женя изображает застенчивость, делает испуганное лицо. Потом, смеясь, разглядываем кадры на экране.
– Мы навернёмся отсюда когда-нибудь! – возмущается она и продолжает спокойнее: – Вот эту мне перепиши, ладно? Эту тоже. А эту можешь удалить, я здесь какая-то глупая…
На мой взгляд, вовсе нет.
– …и в интернет не выкладывай.
– Не буду.
Листаю назад, назад, дохожу до лягушки.
– Лопух! – вспоминаю. – Как не догадался посадить её на левую руку?
– Зачем?
– Доказательство, что я снимал и моя рука. Особая примета, шрам на большом пальце.
– Настя и так поверит. А я давно обратила внимание. Можно посмотреть? Я любопытная девица…
Протягиваю руку, Женя берёт её в ладони, прикасается к пальцу. На нём след от трёхгранного разреза, ногтевая фаланга толще, чем у собрата на правой руке, и снизу на ней вмятина. Страшновато для того, кто впервые видит, я-то привык, не замечаю. Главное, что палец абсолютно рабочий.
– Не бойся, – говорю, – не болит.
– Да я вижу, не должно болеть, – отвечает Женя. – Щучья пасть… Очень классно сделано, мастерски. А как это получилось?
– Не помню, честно. В армии было дело. Может, укололся обо что-то или оцарапал. Не обращаю внимания на такую ерунду и тогда не обратил. Вдруг палец стал побаливать, я уже не мог взяться за голенище сапога, чтобы натянуть на ногу. Брался вот так, – я показываю крокодильчик из указательного и среднего пальцев и продолжаю: – Ладно, думал, пройдёт. А он не проходит, месяц, полтора, а потом за несколько дней раздулся толщиной как запястье. Когда пришёл в госпиталь, уже были все показания… ну, понятно к чему.
Женя кивает: понятно.
– Но хирург подумал: это я всегда успею, попробую для начала почистить.
– Молодец. Я бы его поцеловала.
– Повезло, что к нам в гарнизон перевели госпиталь из Дрездена. Как раз выводили войска из Германии. Были врачи и лекарства.
– А гарнизон где?
– Каменка.
– Озеро Красавица? Знакомые места… Мы там недалеко катались на лыжах.
– С Саней?
– Ага, с ним.
Женя в задумчивости не отпускает мою руку, разминает, нажимает на чувствительные точки между пальцев. Снова, как и вчера, усиливается ветер, вершины сосен над нами качаются, и шум ладожских волн с каждой минутой нарастает.
– Между двух больших, неведомых озёр тянется во тьме дорога. Не гаси огонь, закончим разговор. Времени в обрез, а дел так много, – медленно произносит Женя.
– Что это, откуда? – спрашиваю я.
Она пожимает плечами.
– Не знаю. Приснилось прошлым летом. Никому не говорила, ты первый. Тогда был поход короче нашего, пять дней, более северный маршрут. Как раз Саня с нами шёл. Мы остановились на ночь в каком-то месте, очень странном. Я потом еле нашла на карте. Рядом два озера, и они так непохожи друг на друга, будто вообще из разных миров. Я такого не видела никогда. Каких-то пятьдесят метров – и всё другое. Одно озеро как с открытки, настоящий курорт. Вода прозрачная, тёплая, песок золотой. Лес вокруг ровный, как из парикмахерской. И форма – просто блюдечко. Мы на его берегу разбили лагерь. А второе озеро – тёмная вода. Даже в ясный вечер. Как будто что-то скрывает. Берег обрывистый, и камни, камни. Не знаешь, как подойти…
– А зачем подходить?
– В том-то и дело. Я стояла между озёрами и чувствовала, что мне интереснее второе, понимаешь? Хочу в нём искупаться, переплыть. Странно, да? Не знаю почему, но я бы хотела остановиться там. Но так и не подошла. Легла спать, а сама думала, думала… А потом уже, когда забыла, в городе услышала во сне эти слова. Бред?
– Мне нравится. А продолжение?
– Пока не снилось. А наяву мой сухой ботанический ум не может выдумать продолжение.
Женя молчит, прислонившись к моему плечу. Я представляю лесную дорогу, шумящие под косым ветром сосны, два непохожих друг на друга озера и одинокую фигурку между ними, на вечном перешейке. С какого берега протянется рука, и что за высота тебя поманит? Плывут издалека года и облака, болотные огни горят в тумане…
– Слушай, Жень, – вспоминаю, – помнишь, ты вчера говорила, чтобы я написал книгу?
Женя кивает.
– Я уже начал весной, написал два рассказа. Но не знал, буду ли продолжать. Теперь придётся.
– Здорово. А о чём рассказы?
– Пока секрет.
– Ну скажи… Фантастика, наверное?
– Нет, мне по работе хватает этого добра.
– Значит, про девушек, – уверенно заключает Женя. – Угадала?
– Почему так решила?
– А что же ещё? Мы ведь, когда пишем, выражаем свою тайную мечту, правда? А какая у тебя мечта? Сидеть на берегу моря, и чтоб вокруг были девушки, да побольше всяких. Чтобы они, значит, тебя развлекали, готовили обед, приносили коктейли, купали в ванночке… – тут Женя икает, стукается головой мне в грудь, и мы вновь едва не падаем со скалы.
– Ну что такое! – произносит она, утирая слёзы. – Даже на работе так не угорала с коллегами!.. года два уже.
– А я гораздо дольше.
– Но знаешь, – продолжает Женя, – нет ощущения, что это не к добру.
– У меня тоже нет.
– Я тебя больше не буду мучить расспросами, подожду. Ладно? Хотя бы до весны. Если не забудешь.
– Не забуду, – говорю, обнимая её за плечи, – как можно забыть?
А Ладога шумит всё сильнее, мне на голову падает, отскакивает и катится вниз сосновая шишка, и солнце то прячется, то выглядывает из-за облаков, летящих нам навстречу.
Глава вторая. ОДНОКЛАССНИЦЫ
1Сербскую фамилию Огненов без оборванного хвостика «ич», тёмный цвет волос, непоседливый характер – всё это я получил в наследство от деда Георгия, никогда мною не виденного. Я и слышал о нём немного, и это легко объяснить: он умер в 1958 году, когда мой отец только пошёл в школу. Бабушка Нина прожила намного дольше, я хорошо её помню, но она была неразговорчивой, а я слишком мелким, чтобы расспрашивать. А потом мы вдруг оказались в разных государствах. Знаю, что в годы Великой Отечественной дед Георгий участвовал в Сопротивлении, весной сорок пятого, тяжело раненный, попал в советский госпиталь, затем – в санитарный эшелон, идущий на восток. Чудом выздоровел и остался в Союзе, работал каменщиком в старинном прибалтийском городе. Многие дома в нём помнят крепкие мозолистые руки Георгия Воиславовича. Я, разумеется, их не видел, но, когда гляжу на свои квадратные, жилистые, поросшие густым чёрным волосом лапы, чувствую, что они тоже достались мне в наследство.
Сыновья деда Георгия поступили в военные училища: один, мой отец, стал морским связистом, другой – ракетчиком. Они прослужили на двоих почти шестьдесят лет и за это время вычерпали весь армейский колодец в нашем дворе. По их дороге шагнул мой двоюродный брат, но вскоре уволился. Двоюродная сестра вышла замуж за лейтенанта, но и он, немного посидев на уснувшей у пирса подводной лодке, ушёл в деятельную гражданскую жизнь. Что до меня, то я сразу выбрал другой путь, ограничившись полутора годами срочной. Кстати, до сих пор горжусь, что не бегал и не косил, хотя это занятие в первой половине девяностых уже расцвело буйно и безнаказанно.
Моя жизнь делится на две половины, сегодня они примерно равны. Первая, от рождения до школьного выпускного вечера, прошла в странствиях по военным городкам. Большая часть этих путей пролегала в границах Крымского полуострова: от берега к берегу, от бухты к бухте. Окончив школу, я уехал в Ленинград, где живут другие мои бабушка с дедушкой, родители мамы. Вскоре сюда, уже в Санкт-Петербург, переселились и мои родители.
Но и путешествия мои неоднородны, в раннем детстве их было куда больше. Отца переводили служить из гарнизона в гарнизон, мы с мамой ехали вместе с ним. Это происходило так часто, что лет до одиннадцати у меня не было друзей: просто нигде не задерживался настолько, чтобы о ком-то потом вспоминать, кому-то писать письма. Но я не страдал от этого, ведь друзей можно придумать. Я рано научился читать и сам по названиям выбирал в магазине книги, просил купить. Некоторые из них и сейчас стоят у меня на полке – вот, например, «Дети подземелья»: обложку с двумя нарисованными мальчиками, моими ровесниками, и совсем маленькой девочкой когда-то заметил с улицы сквозь витрину. А уж с моим воображением… Это меня держал за ногу над каменным полом не такой страшный, как потом оказалось, Тыбурций Драб, и я пытался хоть немного развеселить несчастную Марусю. А потом освобождал итальянские города с матросами адмирала Ушакова, плыл по Миссисипи с Геком и Джимом и, недовольный открытым концом «Золотого телёнка», выдумывал героям новые приключения, не отнимающие богатство.
Мне вскоре надоело бездеятельно следовать за героями, примеряя на себя их настроения и поступки, захотелось проникнуть глубже и, подняв крышку авторского замысла, перебрать его тайные узлы. В сущности – обычное детское желание сломать игрушку, чтобы разобраться, как она устроена. Но книга лучше игрушки тем, что не ломается. Одно открытие, сделанное в те годы, неожиданно меня потрясло. Все помнят ужасную в своей нелепости сцену, когда разбогатевший на пятьдесят тысяч Шура Балаганов украл у гражданки кошелёк с одним рублём и, будучи пойманным, говорил в оправдание только: «Я же машинально». Но ни один, абсолютно ни один читатель не обращает внимания на то, что произошло чуть позже – когда Остап вернулся в Черноморск и встретил там Адама Козлевича, собравшего из обломков «Антилопу». Она имела жалкий вид, Адам, стоя рядом, деланно бодрился, и вот Остап, красиво облокотясь о борт, преподнёс товарищу… нет, не пятьдесят тысяч. А подержанный маслопроводный шланг. Сказав при этом, что ничем больше помочь не в состоянии, государство не считает его покупателем. Как же так? – недоумевал я. – Почему не деньги? Не можешь купить машину, так и не надо. Адам не Шура, он найдёт, как с толком употребить пятьдесят тысяч. Нет же, вот тебе в зубы дурацкий шланг – и до свидания! Тогда я, вероятно, и понял, что бессмысленно злиться на книжных героев как на живых людей, равно как и восхищаться ими. Они придуманы, все вопросы к творцу. Я чувствовал, что авторы заставили героя совершить поступок, абсолютно ему не свойственный. Ведь не жмот же Остап! И ничего такого с ним не произошло, отчего он стал бы жадным. Нет, он так и остался авантюристом, широкой душой, и, конечно, должен был щедро наградить Адама. А наградил – подержанным шлангом, встав при этом в драматическую позу и кося испытующим глазом на публику. Взрослые не обращали на это внимания. Я спрашивал, в чём дело, – никто не мог объяснить. Я на время бросил поиски ответа и вернулся к ним уже в старших классах. Тогда, кажется, и понял. Что именно понял?.. Придёт время – расскажу.
Чувствую, что увлёкся жизнеописанием и анализом выдуманных приятелей. Были у меня и настоящие: к примеру, два больших кожаных чемодана. Рыжий, конечно, звался Шурой, тёмно-коричневый Остапом. Они стояли на шкафу, в любой день готовые спрыгнуть на пол и, щёлкнув замками, раскрыть голодные животы. Я укладывал в чемодан свои вещи, и, кроме того, был у меня рюкзачок для самых личных предметов: белья, зубной щётки. Собрал – и в дорогу, а сожаление от того, что вряд ли когда-нибудь вернёшься на это место, пройдёт за пару недель.
2Дороги я помню мало, они если не одинаковы, то очень похожи одна на другую. Зато помню и до сих пор часто вижу во сне самолёты, поезда, вокзалы, автобусные станции. Сколько интересного я там встречал! Вот под белым, пересохшим, как будто пыльным солнцем иду по раскалённому тротуару, чувствую жар сквозь подошвы сандалий. Дохожу до поребрика из бетонных камней, дальше нельзя. Но можно, балансируя руками, пройтись по нему, пока никто не одёрнул. Камни выкрашены через один в чёрный и белый цвета, к чёрным липнут подошвы. Справа, в тени густых акаций, – деревянные скамейки, на которых читают газеты, разговаривают или дремлют, дожидаясь своих рейсов, пассажиры. Слева – круглая площадь, на другом её берегу продаётся мороженое и газированная вода. А передо мной тесными рядами выстроились автобусы – древние, загадочные существа. Округлые, белые с синими полосами – ЛАЗы; красные, прямоугольных очертаний – Икарусы. Упоительный бензиновый запах – запах дальнего пути, свободы, неизвестности. То один, то другой великан просыпается, заводит мотор, дрожит, издаёт приглушённое рычание. Голоса тоже разные: этот напоминает Льва Лещенко, тот – Высоцкого, пирата с пластинки «Алиса в стране чудес»:
Родился я в тыща каком-то году В банано-лиановой чаще. Мой папа был папа-пугай какаду, Тогда еще не говорящий. Но вскоре покинул я девственный лес…«Девственный» – не очень понятное слово. Наверное, я плохо расслышал, там на самом деле «детственный» – то есть лес, где проводят детство.
Взял в плен меня страшный Фернандо Кортес…Кто такой Кортес, я знаю, читал. И о Дрейке читал, и об одноногом Сильвере… Автобус тем временем трогается, отъезжает, но он не наш, я видел табличку с маршрутом за боковым стеклом. Но, если честно, куда больше маршрутов меня занимают номера – спереди и сзади между фарами. Две пары цифр, разделённые дефисом: проверяю, одинаковы ли будут суммы. А в конце каждого номера стоят три буквы: КРА, КРЗ, КРЛ, даже КРЫ, – я знаю, что первые две обозначают Крым, а вот третья у каждого своя. Я был уверен, что эта буква досталась автобусу не просто так, она выражает его характер. КРИ – это что-то визгливое, девчоночье; может быть, такой автобус и поедет зигзагами, шарахаясь от каждой выскочившей на дорогу собаки. КРО – намного лучше: покатится очень легко, но вдруг однажды не успеет затормозить? КРХ – неинтересно, слишком глухо и тускло… КРЖ – вот то что надо, самая крепкая и уверенная в себе буква!
Нашему автобусу не раз доставался номер с буквой Ж, я считал это хорошей приметой, но быстро забывал о ней, потому что и так всё было замечательно. Везде, куда мы приезжали, была чистая вода, песчаный или галечный пляж, сливы, персики, черешня, невероятно вкусная варёная кукуруза. Везде были матросы в чёрно-синей форме, при гюйсах и бескозырках, и я порой торопил время, чтобы самому быстрее примерить эту красоту. Окно моей комнаты всегда глядело на море, и я с первого взгляда узнавал едва различимые на горизонте силуэты: большой десантный корабль, эсминец, противолодочный, а один мог без ошибки назвать по имени – плавучий госпиталь «Енисей», белоснежный теплоход с острым, на самом деле каким-то хирургическим носом. Вы можете спросить: а что было зимой? Не одно же бесконечное лето в Крыму? Это верно, но что такое крымская зима? Короткий сон, и все видения в нём исключительно летние.
Города, в которых мы жили, назывались ни капли не воинственно: Мирный, Дружный, Черноморское – уже покинув его, я одно время думал, что это и есть тот самый Черноморск из «Золотого телёнка», и огорчился, узнав, что его прообразом была Одесса. И, конечно, Солнечное. Здесь мы задержались надолго, по меркам моего детства. Я приехал в Солнечное летом накануне пятого класса, здесь пошёл и в десятый, предпоследний. За эти годы я вырос, заговорил баритоном, подрался и заключил мир почти со всеми ровесниками. И понял наконец, до чего красивы девочки – мои одноклассницы и не только.
С них-то, пожалуй, и начну рассказ. Итак, первое сентября…
3…десятый, предпоследний класс. Впервые, открывая учебный год, я не жалел о том, что лето позади, что надо по обязанности, а не по доброй воле рано вставать, что больше не удастся плавать в заливе и грести на шлюпке от темна до темна. Утром, идя в школу с букетом хризантем для Нины Вячеславовны, я только и думал: скорее, скорее топай! – не забывая глядеть по сторонам в поисках знакомых лиц. А знакомы были почти все: городок небольшой, школа единственная, и путь до неё я мог нарисовать левой рукой, с закрытыми глазами, с точностью до одного шага. Пройти двор, формой похожий на перевёрнутую букву П – наш дом был в ней перекладиной, – взобраться по ступенькам, пересечь улицу, наискосок миновать ещё один двор, куда прежде заходить было небезопасно, а в последние года два всё утихло и устоялось. Выйти из арки, соединяющей дома, – и через дорогу видна переплетённая ветвями цепь узколистного лоха, раскидистых серебристых деревьев со сладкими сухими ягодами, которые мы почему-то всегда называли маслинами. За деревьями прячется сетчатый школьный забор; в другой день можно было бы перелезть, но сегодня надо сделать крюк и солидно пройти в ворота. Как-никак, день знаний, и в руке дипломат, а не жалкий портфель.
– Здравствуйте. – Я догнал соседку, которую в мыслях называл Светой. Высокая, рыжая, сероглазая, с нежным лицом, в белом платье с жёлтыми и красными розами – такой цветущей я никогда её не видел. Рядом шла сияющая дочка с огромным бантом и с букетом куда пышнее моего. Я хорошо их знал: у них не было телефона, а муж Светланы, старший лейтенант, часто уходил в плавания. Какая тут связь? Самая прямая: звонил он с корабля по спутниковой связи нам, а я поднимался на два этажа и звал Свету к телефону. И Маша приходила с ней, сначала держась за руку, потом обгоняя и дожидаясь нас у двери, и разговаривала с папой, пока я в своей комнате воображал, как спасу Светлану в кораблекрушении, вынесу на необитаемый остров. А теперь вот, на моих глазах, доросла до школы. Время летит…
Они поздоровались, но я видел, что обеим не до разговора, волнуются. И, пожелав удачи, прибавил ход. Вся дорога занимала от силы восемь минут, но, когда идти не хотелось, в какую ничтожную точку они могли съёжиться! И каким длиннющим удавом растягивались, когда я спешил.
Да, спешил. Не терпелось увидеть девчонок, за лето соскучился. Раньше такого не было. Первые годы жизни в Солнечном я казался себе мелким рядом с нашими девочками. Они росли быстрее. Они красили губы на переменах, пока мы, потные и лохматые, играли на заднем дворе в слона. Они даже не смотрели на нас, куда интереснее было строить глазки старшеклассникам. Меня это не очень задевало, и остальных ребят, думаю, тоже, но мы всё равно изобретали разные способы мести. Например, подкрасться сзади, провести рукой по спине и открыть всем тайну: у Ткаченко лифчик! Услышать: «Дурак!» – получить затрещину и остаться жутко довольным.
Так было несколько лет, а прошлой весной мы как-то незаметно сравнялись.
Одну из наших девочек, Иришку Татрову, я встретил, не доходя до школьных ворот.
– Привет! – одновременно крикнули мы, взмахнули цветами и, подойдя, поцеловались в щёку.
– Слушай, как я рада, что всех увижу! – сказала Ира. – В первый раз так соскучилась.
– И я тоже, – ответил я.
– Что делал летом?
– В августе летал в Питер к бабушке с дедушкой, а так всё время здесь.
– А я в Орджоникидзе и в Краснодаре была. Вот как школу покрасили, сразу уехала и только на прошлой неделе вернулась.
«На кого похожа?» – думал я, глядя на Иру. И, сделав несколько шагов по двору, понял: на первоклассницу Машу, увеличенную раза в два. Тот же лучистый взгляд, такой же бант, и белоснежный отглаженный фартук, и походка вприпрыжку от нетерпения. Завтра этого не будет и в помине, но сейчас… не хватало только мамы, тоже увеличенной.
А ведь мы с Ирой никогда друг на дружку не заглядывались, даже не разговаривали наедине, и вдруг такая радость. Что же будет дальше? Дальше меня хлопали по плечам, пачкали щёки помадой, вытирали, но ненадолго, в руке оказались чьи-то гладиолусы, а мой букет ушёл неизвестно к кому. Вот рукопожатий было гораздо меньше. За четыре года, что я учился в этом классе,5 мы с парнями уладили почти все разногласия, успели друг другу надоесть и пришли к такой форме отношений, которая попросту зовётся «каждый сам за себя». Сложились небольшие компании, но ни одной из них не был интересен кто-то за её пределами, случались драки, но, как правило, один на один и до первого разбитого носа. У меня в классе было двое друзей, один из них весной уехал в Поти, и остался только Серёга Изурин по прозвищу Мексиканец, великий художник и авантюрист. Мы долго сидели с ним за одной партой и лишь в прошлом году разбежались по разным девочкам.
По правде говоря, такое положение меня не огорчало, а почему – об этом расскажу чуть позже.
4Девочки нашего класса дружнее нас, но тоже неоднородны. Одну девичью команду, не подозревая о скрытом значении слова, я для себя называю «верхней». Если искать в ней, как было модно говорить, неформального лидера, мы неизбежно подойдём к парте Ирочки Татровой, но увидим её не сразу, заслонённую спинами «верхних» девчонок, слетевшихся в начале большой перемены. Щебет и смех звучат несмолкаемо, на этом фоне то и дело можно различить чьё-то имя или прозвище – иной раз и своё собственное, – сопровождаемое более громким взрывом смеха. Ещё минута – и они идут в столовую, озаряя путь сиянием глаз, и мы наконец видим Иру, старосту класса и, несомненно, будущую медалистку. Среднего роста или немного выше, темноволосая, чуть полненькая, но от этого лишь более обаятельная, со звонким голосом и тонкими, изящными пальцами – вот такая наша Ира, и подруги ей под стать: настоящие солнышки, умные, аккуратные, выпускают стенгазету, танцуют лезгинку и крыжачок на вечерах самодеятельности. А какое чудо наша Оля Виеру! Она и в то время, когда мы, парни, дышали девчонкам в пупок, была не выше нас, а сейчас так просто кукла с большущими карими глазами и ямочками на щеках. Увидел её – и как-то вмиг забыл, что впереди четыре урока и завтра две контрольные. Даже Ира Татрова блаженно улыбается, когда Оля, желая обратить на себя внимание, трогает её за ухо и стучит кулачком по плечу; а когда Ира сама хочет поговорить с ней, то запросто, очень мило и невинно, сажает к себе на колени. Но не так безобидна Оля: если рассердить – догонит и защекочет до потери голоса почти любую из подруг. Впрочем, им это, кажется, только в радость.
Есть и «нижняя» компания – несколько диковатых, мрачноватых, малообщительных, по сравнению с верхами, девчонок, но тоже со своими секретами, с разговорами на последних партах, с походами друг к дружке в гости. Учатся они в основном на тройки. Верховодят там две Лены, Чернова и Моторина. Чернова – довольно высокая, жилистая, скуластая, с угловатыми плечами, очень прямыми каштановыми волосами, никогда не красившая ни ресниц, ни ногтей, всё-таки выглядит истинной девушкой. Её женственная сущность, о которой Лена не заботится и, наверное, не подозревает, сама бросается в глаза. Может быть, и не только в глаза, чёрт его знает. Известный роман Зюскинда уже несколько лет как написан, но выйти на русском языке не успел, никто из нас о нём не слышал, и об иных путях очарования, кроме зрительных, я пока не догадываюсь. «Верхние» девочки смотрят на Чернову недобро, но связываться не хотят и грубить в открытую опасаются. А её соседку по парте, Лену Моторину по прозвищу «Блина» – с ударением на первый слог, именно так она произносит это полуругательное, полупаразитное словечко, – Лену Моторину они откровенно презирают. Она уж больно смахивает на парня: короткая стрижка, низкий, чуть сипящий голос, походка вразвалочку, и при случайном взгляде на неё ничто в моей душе не подпрыгивает и не падает. В их паре главная Чернова, но других своих подружек Ленки шпыняют совершенно одинаково, и не только они. Эти девочки – две сестры, одна из которых старше на год, и третья, так похожая на них, что её тоже можно принять за сестру, – блеклые, тихие, далеко не с первого взгляда запоминающиеся, настоящие сиротки Мэри. Но Мэри стройные и, как бы сказать, приятные на ощупь, это я знаю на своём опыте. Попалась под руку зимой, где-нибудь в гардеробе, между непроницаемыми рядами вешалок, – как тут удержаться? Возражений не будет, жалоб, слёз – ничего не будет. И я не один такой, вот Пашка Метц, фотомодельный красавчик по кличке, разумеется, Самец, показался в дверях, так что наберись терпения, дорогая, отдаю в хорошие руки… Можно ли сказать, что эти три девочки – отверженные, парии, самые низкие по рангу в нашем классе? Не думаю. Я не слишком верю в этот ранг, а сироток ценю и даже по-своему уважаю. Они играют значительную роль. Сидишь порой на химии, наполняешься воспоминаниями, как пробирка щёлочью и кислотой: как улыбается хрупкая девушка с фотографии в журнале «Наука и жизнь», есть там раздел «вязание», и свитер у неё надет на голое тело, оно просвечивает сквозь широкие петли… Вчера к нам приходила Света говорить по телефону, пол в коридоре был ещё влажный после мытья, и я протянул ей руку, чтобы легче было перебраться на цыпочках. Кисть у неё совсем тонкая, закрыть глаза – и не поймёшь, что это взрослая женщина, а не пятиклассница. А если она босиком и в этом свитере… Воспоминания сменяются фантазиями, после урока тянет как-нибудь выпустить пар. Ира Татрова с подругами здесь не поможет, а сиротка Мэри – поможет запросто. Но и заигрываться не надо, Чернова способна на ревность, в прошлом году она ударом кулака разбила нос одному такому лакомке. Не мне, конечно, это легко доказать. Я бы перенёс эту беду стоически и виду не подал, а тот парень, уж не знаю, от неожиданности или боли, заплакал.
5И всё-таки мне больше нравились независимые девочки. Такие, как Оксана Ткаченко. Она многим нравилась, особенно когда бежала стометровку на физкультуре, и после финиша была хороша, раскрасневшаяся и весёлая. И на математике, отвечая у доски, была прелестна, а если встретишь её где-нибудь в магазине, с хлебом и молоком в авоське, так просто неотразима. Было в ней что-то одновременно нежное – и победное, римское, устремлённое вдаль. Соперничала с нею красотой, по общему мнению, в школе только Марина из одиннадцатого класса – и, пожалуй, была в этой гонке чуть впереди; или просто так казалось, оттого что чужое заманчивее?.. Как бы там ни было, Марина уйдёт весной, а Оксана останется. Видели ребята в ней что-то ещё, помимо красоты? Не знаю, не берусь судить за других. Но, кажется, никто не замечал в ней гордости, сильного характера, а меня именно это привлекало больше всего. Легко притворяться независимым, когда хотел бы войти в какую-нибудь компанию, да не берут. Оксану с удовольствием взяли бы – или, точнее, она бы взяла всех кого захотела, и сама Ира Татрова потеснилась бы, уступая лидерство. Но Оксана, ни с кем не ссорясь, была дерзко, даже чуть напоказ, сама по себе.
С прошлой весны я сидел с Оксаной за одной партой, третьей в ряду возле окна. Многие хотели там оказаться, но больше других – я и белобрысый, вспыльчивый Ромка Сидельников. Мы даже немного подрались, если нашу возню можно было так назвать. Естественно, повод для столкновения был какой-то левый, не имеющий отношения к делу, но я-то понимал, в чём истинная причина, и Сидельников, думаю, тоже. Длилось всё недолго. Я никогда не выделялся ростом, но был коренастым, плотным и, как многие здоровяки, не злобным парнем. До некоторых пор я даже не представлял, как это можно – ударить кого-то в лицо, я же там всё переломаю! Поэтому в драке у меня был один любимый приём: взять шею соперника в захват и слегка придавить. Как ни странно, многим этого хватало раз и навсегда, но Седло был психом, так что мне пришлось задержать его в капкане подольше и даже тюкнуть пару раз макушкой о шкаф. Сидельников притих и не стал грозить, что позовёт друзей, которые со мной уж как-нибудь разберутся, да и кто бы в нашем классе стал? Все знали, с кем дружу я, хоть никогда этой дружбой не пользуюсь.
Оксана не видела нашей стычки. А через пару минут, проходя между рядами, я остановился у третьей парты и спросил с неожиданным волнением:
– Можно, я буду сидеть с тобой?
– Ну попробуй, – чуть помедлив, ответила Оксана и сдвинулась к подоконнику.
И я так и не понял, рада она была или нет. Я и сегодня этого не знал и то и дело поворачивал голову, глядя как бы в окно, на пустое, затопленное солнцем футбольное поле.
– Да успокойся уже, – сказала наконец Оксана, и я услышал или очень захотел услышать в её шёпоте улыбку.
За давностью лет не могу сказать определённо, какой у нас был урок. Судя по тому, что вела его Нина Вячеславовна, выбор небольшой: русский язык, литература или классный час. Последнее – вероятнее всего. Но, если честно, разницы почти нет, одинаковая скука. Нина Вячеславовна существовала как бы в двух лицах. Вне класса, вне учебной рамки я видел, что она молода, всего-то чуть за тридцать, миловидна, улыбчива, а как играет в волейбол! Даже не верится, что это учитель. Но с первым звонком на урок – не просто учитель, памятник учителю. Лет на пятнадцать старше, гранитное выражение лица, стальной голос и громыхающие, каждое как вагон бронепоезда, слова для записи под диктовку: «Сравнительная. Характеристика. Дамы. Приятной. И дамы. Приятной. Во всех. Отношениях». Здесь не только я – наверное, и Сидельников, который не отличал бетон от бидона, когда они написаны на бумаге, – чувствовал неловкость и думал: «пойдёмте лучше на улицу, покидаем мяч. Ударь меня в лоб, но будь человеком». Я даже мимолётно позавидовал ему: в школе с утра не появлялся, гуляет, прохлаждается…
Я тоже где-то гулял мыслями, пропуская речи Нины мимо ушей. Может быть, думал о том, что Некрасов – большой поэт, новатор, великий редактор прогрессивного журнала и всё такое, но вот открыл его сборник, увидел рифму: «пришлося – началося» – и кажется, будто завтрак пошёл не впрок. Эти «ся», нарочно поставленные там, где должно быть «сь», – ужасно, ужасно… Слова превращаются в тряпки, которыми вытирали с пола протухший кисель. А человек, так пишущий, способен вообще на любую гнусность… Или я думал о том, что тургеневские девушки – создания абсолютно умозрительные, искусственные и лабораторные, однако слова Елены: «Так возьми ж меня», – обращённые к Инсарову, – очень правильные, мудрые слова. Или, может быть…
Но тут постучали в дверь – тихо, даже как-то робко. Нина Вячеславовна, мигом сбросив пятнадцать лет, пошла открывать. Коротко переговорив с кем-то, она велела нам не шуметь, вышла в коридор и через несколько секунд вернулась девочкой нашего возраста. Ребята зашептались, мы переглянулись с Оксаной, она едва заметно пожала плечами…
6Нет, конечно, Нина так и оставалась за дверью, а девочка вошла сама – незнакомая, но очень похожая… Я вспомнил, что, возвращаясь с праздничной линейки, видел стоящую возле учительской Надежду, Надю – горничную из поселковой гостиницы. У неё был хулиганистый сын двумя годами младше нас, и я ещё удивился: неужели он в первый день что-то натворил?
Эта вошедшая к нам девочка была копией Нади. Может быть, дочка?.. Но прежде я никогда её не видел – и, вероятно, никто не видел; шёпот на рядах не утихал.
Новенькая остановилась возле учительского стола. Она нерешительно глядела то в окно, то под ноги, теребя край белого фартука. Школьное платье у неё было не коричневое, как у наших девочек, а тёмно-синее и короткое, чуть выше колен. Высокая лёгкая фигурка, собранные в хвостик волосы цвета сухой дыни; но больше всего притягивали внимание её ноги – по тогдашней моде, в босоножках и коротких светлых носочках. Редко увидишь такие ноги: длинные, с плавными линиями, и если сводить их вплотную, то первыми соприкоснутся округлые икры, мягко вдавятся одна в другую, и лишь затем сойдутся узкие колени.
«Сейчас войдёт Нина, – подумал я, – вызовет к доске, как будешь вставать? Ног не видел? На пляже их целый лес».
Я видел новенькую краем глаза, притворяясь, что разглядываю цветную заколку в тёмных кудрях Иры Татровой, сидящей впереди. Не все были так деликатны, многие нарочно пялились на светловолосую девочку, и от этих взглядов она краснела и всё больше отворачивалась к окну. У неё было тонкое лицо с высоким, чуть выпуклым лбом и заострённым подбородком. Глаза вблизи окна казались светлыми, возможно, зеленоватого оттенка, ресницы и брови слегка темнее волос. И ещё одна особенность: в профиль заметно, что нижняя часть лица немного выдаётся вперёд. Самое наглядное представление о подобном типе даёт на юношеских фотографиях Борис Пастернак.
Заметил я и несколько воспалённых, красных прыщиков на лбу и щеках девочки. Сам намучился с ними пару лет назад, пока не выгнал, даже ходил в поликлинику переливать кровь из вены в место, на котором сижу. Теперь и следов не осталось.
Нина Вячеславовна закончила разговор и вернулась в класс.
– Ну что, вы уже познакомились? – спросила она живым, не учительским голосом.
Все замотали головами.
– Это Лена Гончаренко, будет с нами учиться, – сказала Нина. По рядам разбежались смешки: «Ого, ещё одна Лена, куда нам столько!..» И, наверное, имя новенькой располагало к тому, чтобы отправить её на камчатку, поближе к Черновой и Моториной, но Нина Вячеславовна указала на вторую парту в среднем ряду:
– Не стесняйся, Лена, садись вот сюда.
Это было место Ромки Сидельникова, который вечно рвался назад, но учителя столь же неутомимо возвращали его в своё поле зрения. Он словно бежал спиной вперёд, бежал вниз по эскалатору, неуклонно идущему наверх. Правда, напиши на бумаге эскалатор и экскаватор, ни за что не отличит, – вредно подумал я.
– А чего со мной! – возмутился его сосед, конопатый Дима Рыбин. На последнем слове он пустил петуха, все расхохотались, но тут же притихли под взглядом Нины.
– Садись, Лена, – повторила она уже по-учительски, и Рыбин демонстративно отполз на самый краешек парты, повис над обрывом, как живое Ласточкино гнездо. Классный час двинулся дальше, и на футбольном поле за окном появились какие-то игроки, стали бить по воротам… Правда, все мелюзга, неинтересно смотреть.
На перемене в класс влетел Сидельников и на миг замер, увидев новенькую. Затем он подошёл к ней, стал, уперев кулаки в бёдра, выкатил глаза и, наконец, произнёс:
– Ну?
Лена медленно поднялась.
– Вон туда, – кивнул он на последнюю парту.
Лена взяла портфель. Седло пнул матросским ботинком ножку её стула:
– Забрала с собой.
Лена послушалась. Я почему-то захотел коснуться её и выставил правый локоть, как бы случайно и с таким расчётом, что не задеть его, проходя мимо, было невозможно. Но Лена, проходя мимо, задела его стулом, а не собой. Меня овеяло ветерком, было в нём что-то свежее, коричное…
– Стой! – крикнул Седло, подбежал к последней парте, выхватил стул и, подняв его над головой, вернулся за свою, вторую. Стал обдувать её, смахивать тетрадью какие-то невидимые крошки, потом уселся, но часть крошек, вероятно, попала ему на штаны, и он уже себя начал отряхивать: сумасшедший, что возьмёшь. При этом они с Рыбиным быстро-быстро шептались, я не вслушивался, но разобрал слово «сифа», сопровождаемое глупыми смешками.
Оксана, нетерпеливо кашлянув, стукнула ногтями по крышке парты. Она не могла выбраться со своего места, пока я сижу. Я поднялся и вышел, преодолев сильное желание оглянуться.
Следующая перемена была большой, все высыпали во двор, и «верхние» девчонки, не забывшие детские развлечения, принялись играть в резиночку. Оксана присоединилась к ним и запутывалась в резинке, растянутой двумя подругами, заплетала вокруг ног всё более сложные петли, подпрыгивала, разом скидывая их, и приземлялась на резинку подошвами. Не помню, чтобы она хоть когда-то промахнулась. «Нижние» девочки гуляли своей компанией, а Лена Гончаренко во двор так и не вышла.
Серёга Изурин, мой никуда не уехавший друг, показал мне, чем занимался в классе. Он с прошлого года, прочитав статью в журнале «Юность», считал себя митьком, называл девушек Оленьками, разговаривал цитатами из «Места встречи». И, конечно, рисовал в надлежащем стиле и за лето невероятно отточил талант. Новая картина, синей и чёрной пастой на тетрадном развороте, изображала, как парни в тельняшках, похожие на самого Серёгу, на меня и на Пушкина, ведут по реке пароход. Я зачем-то держу в руках весло, Серёга с выражением крайнего изумления глазеет в подзорную трубу, не замечая, что объектив упирается в нависающий обрывистый берег, Александр Сергеевич, растопырив полы крылатки, ловит попутный ветер. А клубы густого дыма, вылетающие из трубы, складываются в бородатую рожу… нет, показалось.
– Дай-ка мне, – сказал я, зная привычку Мексиканца делать из картин самолётики и запускать в окно.
– Да на здоровье, – ответил он, – я ещё нарисую.
Я всю перемену оглядывался на ворота, дожидаясь ребят, увидеть которых сегодня почти не надеялся. Они предупреждали, что начало дня пропустят, будут – как победители военно-спортивной игры – встречать в Севастополе делегацию болгарских школьников. А, пропустив начало, стоит ли приходить на последние два урока? Я бы, наверное, прогулял.
Но они всё-таки появились.
– Идём, – сказал я, и мы с Серёгой поспешили навстречу. – Здорово, Миха! Привет, Вадим! Володя, как дела? Девчонки! Алёна, Таня! Маринка…
– Сегодня отмечаем день знаний, – сказал Миша. – В пять на ранчо.
– Придём, – ответили мы.
– Инструмент не забудь, – напомнил Олег.
– Будет сделано!..
7Назавтра, по школьному распорядку, у нас был субботник. Я больше любил весенние субботники, когда мы носилками растаскивали по будущим газонам привезённую землю и сажали деревья. У школы были свои аллеи в парке: кипарисовая, можжевеловая, из серебристых туй, – и самые старые деревья на них давно вымахали в два человеческих роста. И, присыпая землёй корни нового саженца, я всякий раз настраивался на философский лад: вот окончу школу, уеду, а этот розовый куст останется и, может быть, глядя на него… Нет, персонально меня вряд ли кто вспомнит,6 но хотя бы наш класс, год нашего выпуска?..
Осенью – другое дело. Никакого творчества и созидания, уборка мусора, грабли, вёдра, совковые лопаты, – и, тем не менее, на осенние субботники я тоже ходил с удовольствием. С мусором на своём участке парка мы разбирались легко, а затем… Но первым делом всё-таки наводили глянец. С утра в наш зелёный, полный хвойных ароматов, постоянно растущий парк с причудливо расположенными аллеями, которые при взгляде сверху складывались в буквы КЧФ,7 и множеством тайных тропинок, пришли все одноклассники, даже те трое, кто вчера не был в школе. Нет, не все: Моторина не пришла, но это небольшая потеря. Появилась и Лена Гончаренко в синих трикотажных брючках с проступающими контурами трусиков и сиреневой футболке навыпуск. Я и забыл о ней, сперва отмечая день знаний, потом думая о том, как отметили, но, увидев со спины, мигом вспомнил и узнал по ногам. Сегодня, во всю длину обтянутые тонкой тканью, они казались ещё стройнее и крепче. На них были кеды, обыкновенные, наверное старые и предназначенные для чёрной работы, но, увидев их, я представил не работу, а бег, невесомый бег по блестящей траве, по волнам залива, по крышам, по белоснежным облакам… Потом вспомнил, с каким потерянным видом она стояла вчера у доски, как молча выполняла дурацкий каприз Сидельникова, забирая стул, – и бегущая девушка медленно спустилась на землю, подобрала разорванную пачку «Беломора», кинула в жестяное ведро, потянулась за граблями.
Под звуки бодрых песен из репродуктора мы взялись за дело. «Нам нужны такие корабли на море, чтобы мы могли с любой волной поспорить!..» – чеканил в вышине залихватский тенор, и я собирал первое ведро. «Для бывалых ребят океан, будто брат, нам грустить о дорогах не нужно…» – ураганом налетал колоссальный баритон, и я опрокидывал эмалированное ведро над контейнером, для верности ударял кулаком по днищу. «Есть на свете капитан Джеймс Кеннеди!» – выговаривал комически-старательный бас, и мы двумя цепочками двигались друг другу навстречу, оставляя за собой чистоту и красоту.
Не так много было мусора, за час контейнер наполнился едва ли на треть. Закончив, составили пирамидой инвентарь, переглянулись… Ну что, на поляну? «Кто последний, тот карась!» – крикнул Мексиканец, но мы и без этого летели со всех ног.
Наша поляна, за пределами кипарисовой буквы Ф, на склоне пологого холма, была ещё дикой, с цветущими по весне маками и без торчащих из земли поливальных фонтанов. За кучу-малу на этой поляне я и любил осенние субботники. Четыре года назад, впервые ступив на неё, я в тот же миг схлопотал подножку от одноклассника и покатился под гору, но, ещё не поднявшись, понял, что это шутка и злиться не надо. Что же, я хотел быть моряком, но в глубине души допускал мысль, что, может быть, стану и космонавтом. И, конечно, знал о таком аттракционе, как центрифуга. Я взлетел на ноги, догнал парня – того самого, кто позже стал моим другом и в конце восьмого класса уехал в Поти, – вскинул на плечи и закружился, быстрее, быстрее, потом отпустил, и Андрон, сделав несколько пьяных шагов, уцепился за ближайшую девчонку, вместе с ней рухнул в маковые заросли. Девчонкой была Оксана Ткаченко. Удивительно, но уже в тот день я носился за ней по поляне, усаживал наземь и даже щекотал, чувствуя пальцами тонкие рёбра, дыхание, смех. Ей было не противно, точно говорю, как и другим, попадавшимся в когти. Но, возможно, теперь, когда Оксана могла мимолётным взглядом пронзить насквозь, я бы держался смелее, если бы тогда не заходил так далеко. Сейчас я был уверен, что она глядит на меня, скрывая усмешку, – и поневоле всем видом начинал возражать, оправдываться, и придумывал за неё новые колкости, и мысленно отвечал на них, и в итоге слишком суетился.
Но всё это время не праздничная линейка, не первый урок, а именно куча-мала переключала моё настроение на учебный год.
Мы и теперь бегали за девочками, но, поймав «верхнюю», из компании Иры Татровой, отпускали быстрее, чем золотую рыбку, даже не прося ничего взамен. Сиротки Мэри – другое дело, законная добыча. Паша Самец уже держал за локти старшую из двух сестёр и не давал пошевелиться, не то что вырваться.
Ромка Сидельников истошным голосом картаво орал:
Улыбнитесь, каскадёры! Ведь опасность это всё-таки!..Не докрикивая последнее в строке слово «пустяк», но эта песня, вероятно, так и отложилась у него в сознании – без пустяков. А продолжение было вовсе ни на что не похоже:
Каскадёры, каскадёры! Каскадёры ведь не плачут, Даже если упадут!С этими словами он раскрутил вокруг себя за руку, как модель самолёта на корде, щуплого Гурбанова и выпустил, целясь в Иришку Татрову. Она, впрочем, стояла не в двух шагах и успела даже театрально взвизгнуть, прежде чем наклонилась и хлопнула подкатившегося к её ногам Гурбанова по голове. Для него это было вроде ордена.
Я переглянулся с Оксаной. Мы в тот день отчего-то мало участвовали в общем безобразии, больше наблюдали, вот я и запомнил всё так подробно. Но уже через минуту, с Изуриным на закорках, я мчался в конный бой. Сколько ни было в моей жизни таких сражений, всегда, всегда я был конём, никто не мог протащить меня верхом больше нескольких шагов. Я не верил, думал: притворяются; но делать нечего, хочешь биться – подставляй хребет. Кони, согласно правилам, не могли толкать друг друга и ставить подножки. Можно было маневрировать, стараясь обмануть противника и оказаться за спиной, можно резко отрываться, когда твой всадник схватил другого за руку или за шиворот. Мексиканец был в этом великий мастер, и мы понимали друг друга без слов.
Мы сильно начали и в этот раз, но в самый разгар битвы я умудрился заметить Лену Гончаренко: стоит, бедняга, растерянно оглядываясь. Побежала с нами, думая, что будет новая работа, а попала в сумасшедший дом. А впрочем, здесь лучшее место, чтобы познакомиться… Уйдя в непрошеные мысли, я прозевал запрещённый толчок, лишь чудом удержался на ногах, но всё-таки мы победили.
Лучшее место, чтобы познакомиться! Здесь всё бывает не так. Где это видано, чтобы сиротки Мэри гоняли по поляне Чернову? Всегда было наоборот, но теперь она прыгала и вертелась невдалеке от меня, а Мэри-младшая-сестра, и Мэри-не-сестра с небывалой решимостью брали её в клещи.
Кругом не смолкал разноголосый визг, за спиной ревел охрипший Сидельников:
Каскадёры ведь не плачут, Даже если… утонут!Ради ямба или амфибрахия пожертвовал ударением. Нет, пожалуй, ради хорея; амфи… этот самый того бы не стоил. Младшая Мэри поймала-таки Чернову за талию. Та, размашисто присев и вскочив, освободилась и вновь замаячила у сироток перед носом. Рядом со мной несколько ребят и девочек, встав тесным кругом, толкали друг другу сильного, но лёгкого Гурбанова: морская качка, живой волейбол. Чернова теми же энергичными движениями вырвалась из рук Мэри, которая не сестра, и попалась в плен к обеим. Мимо меня, спасаясь от конопатого Димки Рыбина, промчалась малышка Оля Виеру. Я ждал, что она укроется за моей спиной, но ближе стояла Лена Гончаренко, и Оля, обхватив её поверх опущенных рук, заслонилась Леной от Рыбина. Тот, по инерции сделав ещё один шаг, с воплем отскочил, будто ему сунули под нос голый скелет или что похуже, развернулся и побежал обратно. Оля, не выпуская Лену, потянула её к волейболистам. Лена сперва не противилась, потом нерешительно упёрлась, и тогда Оля, едва доходившая ей до плеча, стала приподнимать её на каждом шаге. Она толкнула Лену в круг, Лена еле устояла, но кто-то подхватил её и вновь отправил в круг. И ещё раз… Чернова не без труда, но выпуталась из рук обеих сироток Мэри. А Лена Гончаренко, метавшаяся в кругу, упала.
Я уже тогда почувствовал, что веселье рано или поздно станет недобрым. И, скорее, рано. Мелькнула мысль поднять и увести отсюда Лену, и наплевать, что об этом подумают. Не поднял и не увёл. Я и не подозревал, что границы игры будут сметены мгновенно. Спина у Лены была чистая, нежная, без тесёмок лифчика – это я увидел, когда Метц натянул ей на голову подол сиреневой футболки. Грудь была крошечная, с бледно-розовыми сосками – это я заметил, когда Лена вскочила мгновением раньше, чем прикрылась, а Самец и не думал отпускать футболку, тянул к себе, отобрал в конце концов и не глядя кинул за спину. Футболка летала по поляне, оказалась у меня, и я отдал её ближнему; оказалась у кого-то ещё, и он махнул ею, как флагом; оказалась у Черновой, и та бросила её одной из Мэри. Лена Гончаренко с мольбой в глазах бегала от одного к другому, её цепляли за резинку брюк, вынуждая опустить руки, хватали за руки и несколько раз опрокидывали. Потом она развернулась, будто хотела уйти прямо так, и, сделав несколько шагов, села на траву. Глаза у неё были на мокром месте… Да здесь бы кто угодно не выдержал.
8Один вопрос не давал мне покоя, являясь и днём, в виде привычных слов, и во сне – то дырявой шлюпкой, в которой не дойти до причала, то ветром, раскачивающим дома. Почему я не помог ей? Ведь хотел? Не скажу, что так уж прямо рвался, но мысль вмешаться была. И осталась мыслью. Почему бездействовал там, на поляне? Неужели я трус, испугался общего мнения? Никогда его не боялся, я и в комсомол не вступил, потому что невыносимо скучно было учить материалы разных пленумов и съездов. Почти все вступали, одни по традиции, ради мифических будущих льгот и карьерных благ, другие – полные энтузиазма строить социализм с человеческим лицом, а я положил на это болт, как и на все возможные мнения. И каких-то маловероятных кулачных столкновений тем более не боялся, об этом и думать смешно. И всё-таки?..
Может быть, не вмешался из-за Оксаны? Увидит меня с Леной, подумает: ну и гуляйте, и сидите вместе за партой, и… Нет. Во-первых, не подумает. Наоборот, я бы скорее вырос в её глазах, она такая. А во-вторых, не надо прикрываться Оксаной, причина только во мне. И только одна, – понял я наконец. – Гораздо больше, чем вмешаться, хотелось посмотреть, что произойдёт. Интересно было, вот и не помог.
Ладно, посмотрел. Но почему и дальше оставался в стороне, когда начались школьные будни? Когда в понедельник перед уроками Метц, уложив Лену грудью на парту, запустил пятерню под тёмно-синюю юбочку, а потом сделал несколько характерных движений тазом и кивнул Рыбину: давай, мол, тоже, – а тот всем видом показывал отвращение, хватал себя за горло, высовывал язык и ногами отбрыкивался от Седла, который ржал и пихал его в спину, – почему тогда я отвернулся? Потому что сам не без греха? Вряд ли. Мои приставания к сироткам Мэри были безвредны как вечерний бриз и не терпели посторонних взглядов. И, к тому же, я чувствовал, что в глубине души Мэри не против. Между нами, как я сейчас понял, существовал негласный уговор: я не сделаю ничего обидного для вас, а вы уж подыграйте, изобразите хоть маленькую стыдливость… Не будь его, я бы пальцем их не коснулся. Да, кстати, и не касался теперь, увидев, куда может завести и какие формы принять это развлечение. А сиротки оказались хороши. «Эй ты, иди сюда!» – не крикнула, а как-то прошипела младшая сестра, выглянув из девчоночьей физкультурной раздевалки. Лена Гончаренко, стоявшая в коридоре, направилась к ней, но недостаточно быстро, по мнению Мэри, – и та, дёрнув за руку, втащила Лену внутрь и захлопнула дверь. Может быть, не вмешивался, потому что статус, который Лена получила в классе, не предполагал другого обращения, кроме «эй ты, иди сюда»? Да в гробу я видел все статусы.
Если честно, это был новый для меня опыт. Никто в классе прежде не вызывал к себе такого чувства. Может быть, дело было в нашей лени и разобщённости, может быть – в том, что есть куда более интересные занятия, чем толпой или поодиночке мучить того, кто не способен дать отпор. Или просто раньше мы умели быть людьми. Три года назад Нина Вячеславовна предупредила, что в классе будет учиться девочка с больным сердцем. Она не такая, как мы, её нельзя волновать: какой-нибудь неожиданный хлопок в ладоши за спиной для тебя, Изурин, пустяк, а у неё может вызвать приступ. Яна и вправду выглядела болезненно: с багровым, словно от постоянной жары, лицом, синеватыми ногтями, с тихим голосом и движениями как в замедленной киносъёмке, – но, когда я привык, оказалась умной, смешливой девчонкой, очень способной к английскому языку. Мы запросто с ней общались, соблюдая несложные правила, о которых рассказала Нина, а Оля Виеру подружилась и до сих пор переписывалась. Теперь Яна жила в Севастополе, чувствовала себя после операции гораздо лучше и занималась парусным спортом. Весной она прислала фотографию, где стоит на борту «Дракона», в спасательном жилете и поясе, пристёгнутая к мачте тросом, очень выросшая, загорелая, довольная.
Чуть позже приезда Яны один парень из нашего класса заболел лейкемией, – мы знали, что это за болезнь, благодаря истории о японской девочке, не успевшей сделать тысячу бумажных журавликов. Витёк на целый год исчез, потом вернулся распухший, с лицом в мелких гнойничках, но мне казалось, что он никуда не уезжал и ничуть не изменился. Через полгода он и в самом деле стал прежним. И во всём классе не нашлось придурка, который дал бы Яне и Витьку понять, что они отличаются от других. А если бы такой появился – уверен, печальна была бы его судьба. Здесь уж мы забыли бы всю свою неколлективность, так огорчавшую классного руководителя.
Мы не были едины в отношении к Лене. Ира Татрова с подругами не замечали её, проходили, как мимо давно решённой задачи на доске. Спасибо и на том. Серёга Изурин ни разу не задел её и не нарисовал – во всяком случае, мне не показывал. Я даже не знал, что думала о ней Оксана Ткаченко. Но и оставшихся было довольно. И брат её Димка, малолетний, наглый и рано созревший кабан, встречая Лену на переменах, мог вывернуть ей руку или толкнуть. Он что-то наговорил одноклассникам, и вскоре самые мерзкие из них тянули к ней хваталки, а следом и младшие, как зверята, почуяли безнаказанность. Однажды я встретил взгляд Лены, прижатой к стене заморышем по кличке Смех, взгляд разом отрешённый и жалобный, словно она была где-то не здесь, но и там, где была, с ней не происходило ничего хорошего, – а нахал деловито лапал её под предлогом обшаривания карманов, заведомо пустых, с таким-то братцем, настойчиво искал задний, которого быть не могло, и не отступился, даже когда Лена, спрятав лицо в ладони, села на чей-то портфель. Тут же возникла хозяйка портфеля, по-детски мешковатая и безликая, выдернула его с гневным воплем и размахнулась, целя Смеху в голову, но он отскочил, и понятно кто в конце концов остался крайним. Почему я тогда не подошёл? Ну уж связываться с мелюзгой было ниже достоинства. С ними как-нибудь сама разберись, в крайнем случае убеги, попробуй убежать, покажи, что такое положение тебя не устраивает. Хотя бы выпрями спину…
Но и это похоже на отговорку. Доля истины в ней есть, но очень малая. Может быть, Лена многим нравится и такое обращение – сродни дёрганью за косу в младших классах? – думал я. Мы выросли, методы и средства изменились, а суть осталась прежней? Вновь сомнительно. Нравятся Оксана, Ира, Оля, кому-то наверняка и Чернова, которая может нанести травму, но уж точно не будет жаловаться, – но как далеки от них эти методы! И, выходит, девочкам Лена тоже нравится, тем же осмелевшим сироткам или приземистой, широкой и плоской восьмикласснице Кондратюк, вообще не знавшей стыда? Или они завидуют? Поставь их рядом с Леной – увидишь только Лену и её ноги, а на Мэри каких-нибудь и смотреть не захочешь. Ревность?.. Теория на глазах становилась умозрительной, как тургеневская барышня, и чересчур сложной. Я уже тогда чувствовал, что бесполезно пытаться рационально объяснить всё на свете и глупо думать за других, понять бы о самом себе хоть что-нибудь… Возможно, причина заключалась в том, что помочь Лене в реальности будет хорошо и приятно, но максимум дважды: в классе и как следует пугнуть брательника? Чутьё подсказывало, что после этого её оставят в покое. А помогать в воображении можно было хоть до бесконечности. Эта догадка, больше всех остальных похожая на правду, ничуть меня не обрадовала и уважения к самому себе не добавила. Так что я твёрдо настроился вмешаться при первом же случае – но, когда он настал, ближе оказалась Оксана Ткаченко. Она просто заслонила Лену собой и не крикнула, не замахнулась: чтобы отправить куда подальше очередного мучителя, ей хватило одного лишь взгляда. Весь остаток перемены Лена просидела за своей партой, опустив голову на руки, а Оксана, примостившись на краешке её стула, гладила Лену по затылку и что-то тихо рассказывала. Я обрадовался в первый миг, а в следующий миг подумал: не пришлось бы теперь искать нового соседа…
9– Саша, можно с тобой поговорить?
Я кивнул с большим удивлением: наверное, впервые за четыре года и неполный месяц Оксана Ткаченко обратилась ко мне по имени. Детские «Сашка дурак», понятно, не в счёт.
– Это касается Ленки, – добавила Оксана.
Я напрасно боялся, что она прогонит меня из-за своей парты. Лена Гончаренко так и сидела позади, одна, но все перемены Оксана проводила с ней, они вместе ходили в столовую, вместе шли домой, благо жили в соседних дворах. В классе Лена по-прежнему была чужой, но теперь её хотя бы не трогали. Я даже несколько раз видел её улыбку и не знал, как можно описать её и с чем сравнить. Теперь знаю, после того как прошлым летом оказался в Камбодже и неделю бродил по улицам, встречая юных кхмеров. Улыбались они смелее, но чувства: вера в то, что теперь всё правильно и этот странный незнакомец желает им только добра, и смущение, и едва проглядывающее сквозь него кокетство, тайное осознание своей красоты и внутренней силы, – чувства, при всём портретном отличии смуглых и черноглазых аборигенов, были в их улыбках примерно те же.
А в тот день, куда я теперь возвращаюсь, мы с Оксаной остались после уроков дежурить по классу. Точнее, остался я, а Оксана ушла, сказав, что вернётся минут через двадцать и чтобы я непременно её дождался. Пока её не было, я перевернул на парты стулья, пустовавшие на уроках, принёс из туалета два ведра воды, протёр доску, вымел из-под парт бумажки, и всё это время думал: что же она хочет сказать? Может быть… вечером погулять в парке?
Оказалось, будем говорить о Лене.
– Мне было так стыдно, что я в стороне, – сказала Оксана, сев на краешек учительского стола, – что боюсь вмешаться. Был один случай, когда я поняла, как надо поступать, но самой так… Ты, наверное, тоже хотел?
– Собирался, – ответил я. Что мог ещё сказать?
– Я даже репетировала дома несколько дней и заставляла себя. Но ладно, это уже проехали. А потом с Ленкой много разговаривала. Ничего, что тебе расскажу?
Я кивнул.
– Только между нами, хорошо? Лена жила у бабушки в Весёловке, под Евпаторией. – Оксана мотнула головой в направлении северо-запада, по диагонали «последняя парта у стены – первая у окна». – Даже у прабабушки. Отца не помнит, мама вышла замуж за мичмана и уехала к нам, в Солнечное. Димку взяла с собой, а Лену сказала, что заберёт, но у них однокомнатная квартира, всем не поместиться. Так что она осталась у бабушки, мама к ней приезжала иногда на выходные. А два года назад этот мичман утонул по пьяни…
Я вновь кивнул: утонуло тогда трое, история была громкая, отголоски взрослых разговоров о ней звучали время от времени до сих пор. Оксана продолжала:
– Лена сюда приехала, пообщалась с братцем и сказала: хочу назад. Но в этом августе бабушка умерла, так что Ленка всё равно приехала. Так и живут в одной комнате, они с мамой, а за занавеской брат. Он её возненавидел сразу, ещё в первый приезд, она его боится. А сейчас он вырос, так и матушка боится. Он может наорать, ударить, чуть что – в истерику. Над Ленкой издевается, она терпит, вся в синяках… Надю свою простить не может, что бросила и что Димку больше любит. Я вообще не знаю, откуда у неё силы, чтобы жить. Я бы на её месте убила понятно кого. Или сбежала.
– Но, кажется, она благодаря тебе воспряла духом, – сказал я. – Ты молодец.
– Правда? – улыбнулась Оксана. – Спасибо. Но, понимаешь, до Лены ещё какие-то уроды докапываются. Я думаю, это её брата друзья, но и не только. Будто бы даже не из школы. Недавно завели в Пиратский сад, она вернулась, ревёт. Говорю: дура, зачем ходила? Давай я папе скажу, он разберётся. Говорит: не надо. Ну я тогда сказала: хрен куда тебя больше отпущу. Вот сейчас уходила, думаешь: зачем? Провожала к себе домой. В смысле, ко мне. Она теперь у меня бывает больше, чем у себя, и ночует почти всегда.
– Так, может, я поговорю с отцом? Он скоро вернётся из моря.
– Подумай, может, и стоит. Я ничего не могу решать, потому что завтра улетаю до Нового Года.
Оксана произнесла это совершенно будничным тоном, таким же, как «вернусь минут через двадцать» – после уроков.
– Куда улетаешь? – в недоумении спросил я.
– В Москву. Появилась возможность там поучиться, узнать город. В школе английский, как у нас. В одиннадцатом классе, может, и больше там проучусь.
– А где будешь жить?
– В семье у папиного друга, однокурсника по училищу. У него дочка на год младше меня.
– И никому не говорила…
– Тебе говорю. Учителя знают, а ребятам скажу, кому захочу. Я сама три дня назад узнала. Так вот в чём дело, Саш. Я договорилась с мамой и папой, что Лена поживёт у нас, пока меня не будет. Мы тихо перетащили к нам её учебники, тетради, одежду почти всю, документы… В общем, не пропадёт.
– А если её мама будет против?
– Лишим родительских прав, – жёстко сказала Оксана, – потому что так жить нельзя. А тебя хочу попросить, чтобы ты здесь за ней присмотрел, в школе, хорошо? Ты никогда её не обижал и вообще порядочный.
– Конечно, присмотрю, – сказал я.
– Завтра её не будет, поедет с мамой и папой провожать меня в аэропорт, в Симферополь. А вот со следующего дня начни, ладно? Ничего особенного, на переменах смотри и как пойдёт домой. Можешь проводить, а если кто-то будет смеяться или что скажет…
– Да мне плевать на это, – честно ответил я.
– Вот и правильно. А если вдруг Ленка будет дёргаться, скажи: я попросила. Должны отстать, если увидят, что никак не подобраться.
– Сделаю. А если вдруг не смогу прийти, например заболею, тогда попрошу мексиканского гостя?
– Ладно. Я скажу маме твой телефон? Если что, будете на связи.
– Скажи.
– Ну а ты мой знаешь, – сказала Оксана. – И напиши адрес: дом, квартира, а то я знаю как пройти, а номер не помню.
– И не страшно тебе лететь? – спросил я, передав ей тетрадный лист с адресом. – Новая школа, новые люди.
– Ни разу не страшно, пусть они боятся! – рассмеялась Оксана, сложила лист пополам и спрятала в изящную чёрную сумочку, которую принесла взамен громоздкой школьной. – Я напишу, как у меня дела. А ты ответь, расскажешь, как у вас.
– Обязательно.
– Держи, это тебе.
Оксана вынула из сумочки картонную коробку, раскрыла её и достала белоснежную, размером больше моей ладони, необыкновенно тщательно и подробно сделанную пластмассовую модель катера с застеклённой рубкой, Андреевским флагом на мачте, с винтом, рулём и с циферблатом в виде спасательного круга на стене надстройки.
– Смотри, – показала Оксана, – вот сюда вставляешь батарейку, сюда нажимаешь – раз!
Рубка осветилась изнутри, стал виден маленький штурвал, компас, карта Чёрного моря на стене, и за штурвалом – бородатый морской волк в белом кителе, фуражке и с трубкой во рту.
– Здорово, да?
– Оксана, спасибо. Но это, наверное, слишком.
– Ничего не слишком. У тебя ведь скоро день рождения? Это мой подарок. Только он не для плавания, вот подставка. А это часы, от батарейки работают.
– Спасибо тебе, – ещё раз сказал я, поставив катер на стол. – А я что подарю? Если бы заранее знал…
– А я вернусь до дня рождения, тогда что-нибудь и подаришь.
Я посмотрел на неё: Оксана выглядела смущённой, даже порозовела. Но быстро овладела собой, вскинула дерзкий, как прежде, взгляд и, поманив меня движением пальцев, поцеловала в щёку. Я почувствовал, что и мне можно, и ответил поцелуем. Оксана закрыла глаза, положила руки мне на плечи и потянулась к моим губам.
– Всё, хватит, – прошептала она не знаю через сколько мгновений, – а то я не захочу никуда лететь… Шутка.
10Мама Оксаны, Полина Сергеевна, позвонила мне на следующий день в четвёртом часу.
– Долетело наше чудо, – сказала она, – встретили там, привезли домой, поговорили. Привет тебе, Саша, передаёт.
– Спасибо, ей тоже привет. Как там Лена?
– Вот я и звоню по её поводу. Оксана говорила, можно с тобой советоваться. Нет её дома. Как приехали, куда-то ушла, сказала, будет через полчаса. Уже два часа жду, всё нет. Волнуюсь, и в магазин надо идти. Пойду, а вдруг вернётся, дома никого? Будет стоять под дверью?
– Может, она к себе домой пошла? – предположил я. – Что-нибудь взять.
– Наверное, да. Но почему так долго, если сказала полчаса?
– Я могу зайти, – предложил я. – Давайте сейчас сбегаю поинтересуюсь.
– Если не трудно, Саша, пожалуйста. Знаешь, где Лена живёт?
– Да, конечно. Я мигом туда и обратно.
Повесил трубку и пошёл к себе в комнату одеваться. В словах Полины Сергеевны звучало беспокойство, но ни капли раздражения, она говорила о Лене скорее с материнскими нотками. Интересно, как удалось Оксане так быстро их подружить?.. Надевал я, стоит заметить, спортивный костюм, а не брюки с рубашкой, потому что помнил слова Оксаны о каких-то уродах в Пиратском саду. Вот туда и загляну для начала, а если не найду – тогда уже к ней домой.
От мысли, что встреча в саду может выйти не дружеской и, не исключено, Лену придётся уводить с боем, я почувствовал холодок в солнечном сплетении – такой, будто видишь двор не со своего привычного третьего этажа, а с пятого или даже с крыши. Был ли это страх? Нет и ещё раз нет. Всё, что может со мной произойти, будет уроком за недеяние, и неизбежность этого урока – знак великой справедливости мироустройства. И лучше поскорее. Притормозив возле шкафчика для верхней одежды, я для бодрости скорчил рожу в его зеркальной стене и, не задерживаясь больше ни секунды, выскочил на лестницу.
11«Пиратским садом» мы называли поляну на берегу залива, отрезанную от парка и пляжа дикими зарослями колючей акации, терновника и боярышника. Попасть туда можно было либо с воды, либо пройти узкой тропинкой, которую не всякий знал. Я знал и не раз бывал на этой поляне по делу и просто так. Дело выпадало на последнее воскресенье июля – День Военно-Морского Флота, после Дня Победы наш главный праздник. В городке он отмечался с размахом, которому мог позавидовать сам Севастополь. С утра в заливе проходил парад военных кораблей, показательные учения со стрельбой, торпедными атаками, взрывами подводных мин и дымовой завесой; потом из воды, в окружении русалок, появлялся морской царь Нептун в короне и с трезубцем; ближе к вечеру на эстраде, сооружённой в центре парковой площади, выступали знаменитые артисты – однажды я стоял в нескольких шагах от Юрия Богатикова и удивлялся, как невысок и скромен на вид этот богатырь, сотрясающий голосом дома и горы, – и уже при свете фонарей и цветомузыки начинались танцы. А в разгар праздника, перед явлением Нептуна, были спортивные состязания. Моряки, под аплодисменты всех жителей городка, поднимали гири, перетягивали канат, бежали милю8 по аллеям парка и три мили гребли на шлюпках по заливу и Яхтенной бухте.
Вот здесь-то, перед шлюпочными гонками, и выходили на свет пираты, до той минуты прятавшиеся на поляне, отчего она и получила название. Два последних года я сам был пиратом – в драной тельняшке, с чёрной повязкой на глазу, в треугольной шляпе и с нарисованными пышными усами. Горланя разбойничью песню, мы по виляющей дуге выводили свой ял наперерез шлюпкам, готовым принять старт. Весёлый Роджер развевался на мачте. Константин Михайлович, начальник яхт-клуба, сидевший на руле, палил холостыми из «макарова». Зрители с набережной кричали ура.
– Да никак пираты хотят участвовать в гонках? – старательно удивлялся в микрофон ведущий праздника.
– Да, хотим! – орали мы вразнобой.
– Ну, что, разрешим пиратам участвовать в гонках? – спрашивал ведущий.
– Разрешим! – отвечали зрители с набережной.
Мы пристраивались рядом с другими ялами и чуть раньше стартового выстрела срывались вперёд. На виду зрителей держались почти вровень со старшими гребцами-матросами, отставали совсем немного, а потом входили в Яхтенную бухту, и высокое здание штаба скрывало нас от публики. Матросы шли дальше, к буйку, обозначавшему середину дистанции, а мы быстренько разворачивались, поднимали чёрный фок и кливер на рейке и, намного опережая всех, врывались обратно в залив.
– Смотрите-ка, пираты лидируют в нашей регате! – комментировал ведущий. – Они применили хитрость! Они поставили парус!
Зрители с восторгом приветствовали нашу хитрость. Мы гребли довольно лениво, и честные гонщики настигали нас, но видно было, что не успеют обойти.
– Придётся отдать главный приз пиратам, – с очень натуральным сожалением говорил ведущий.
Но, услышав о призе, пираты начинали заранее делить его. За какую-то сотню метров до финиша мы бросали вёсла, принимались драться, кто-то вываливался за борт и ему кидали спасательный круг. Чёрные паруса бестолково хлопали на ветру… Приходили мы в итоге последними, но утешительный приз – огромный торт, удержать который в одиночку было затруднительно, – всё-таки получали.
А всё остальное, не праздничное время Пиратский сад был любимым местом для неформальных встреч. Собралась компания попить вина, пошли в сад, а чтобы другие видели, что поляна занята, – повернули дорожный знак «Проезд запрещён», воткнутый в землю у начала тропинки. Изнанкой наружу – свободно, кирпичом наружу – извольте подождать.
12Сегодня, добежав до тропинки, я увидел кирпич, но не остановился. Подкрадусь, посмотрю, нет Лены – незаметно исчезну.
Лену я заметил почти сразу, но ни братца, ни тем более каких-то уродов не из школы в Пиратском саду не увидел. Обстановка была привычной: в центре поляны стоял вкопанный в землю стол – побитая, изрезанная ножами дощатая столешница на каркасе из гнутых труб, вдоль него – две такие же скамейки, возле дальнего торца – мятое ведро, заменявшее пепельницу. За столом сидела знакомая мне компания, называвшая сама себя школьной мафией. Странные типы, для которых Фокс и Промокашка были притягательнее Глеба с Володей, а Эспиноза – комиссара Каттани, водились у нас в немалом количестве и даже были организованы в довольно жёсткую структуру, и вот самую-то её верхушку я сейчас и застал. Заправлял шайкой девятиклассник Генка Земляков, сынок начальника гарнизонной губы.9 Худой, смуглый и, я бы сказал, опасный на вид – такое впечатление создавал контраст между неспешными движениями и острым, почти немигающим взглядом, между тихим голосом и неожиданно властными интонациями. Я был уверен, что он нахватался этих манер от кого-то старшего, по-настоящему способного всадить нож в спину, только вот где нашёл в нашем городке таких учителей? Рядом сидела его подружка Юля Оселедцева по прозвищу, ясный пень, Селёдка – почти черноглазая, с круглым личиком, тоненькими удивлёнными бровями; она была бы хорошенькой на мой вкус, не будь так неприятно мелка. Где граница, отделяющая эту мелкотравчатость от изысканной миниатюрности, заранее не скажешь, но вот увидел Олю Виеру – и умиляешься, увидел Оселедцеву – и чувствуешь то, что, наверное, слон чувствует при виде мыши.
Напротив этой пары, почти спиной ко мне, сидело трое. В центре – Паша Самец, хват, ухарь, весельчак, главный баловень девчонок в нашем классе и выдающийся футболист, прозревавший игру каким-то марадоньим инстинктом. При всех достоинствах он, однако, невысоко стоял в моих глазах, потому что в дружбе с Земляковым был явно на подхвате. Куда посмотрит Земляков – туда и Метц; Зёма едва заметно усмехнётся – и Метц расплывается до ушей… Я ничего не имел против дружбы с младшим, но уж, будь любезен, не давай ему заправлять, иначе какое к тебе уважение?
Слева от него расположился Лёха Лысенко, наш былой одноклассник, дважды второгодник, в своём нынешнем восьмом «Б» выглядевший как папа некоторых учеников. Прежде он был выше меня на полголовы, теперь мы почти сравнялись, но за минувший год Лысый изрядно раздался в ширину. Впрочем, массу он наел грузную и рыхлую, даже брюхо перевалилось за ремень, и я надеялся, что в драке, случись она, как-нибудь его одолею.
А по правую руку от Метца сидела, поставив локти на стол и подпирая лицо ладонями, Лена Гончаренко, и она единственная не шевельнулась, когда я подошёл.
– Всем привет, кого не видел, – сказал я и, тронув её за плечо, продолжал: – Лена, за тебя волнуются, а ты тут сидишь. Идём скорее.
Молчание. Лена была в той же сиреневой футболке и синих трикотажных брюках, что и на субботнике. За её спиной лежала на утоптанной земле тёмно-зелёная болоньевая ветровка.
– Лена, – сказал я чуть громче и слегка встряхнул её. Она зашевелилась, стала оборачиваться и, потеряв равновесие, чуть не ударилась подбородком о стол. Она была крепко пьяна, вот в чём дело. Единственная из всех. А трезвая четвёрка, по-прежнему не роняя ни звука, глядела так, что хотелось поёжиться и сказать «бррррр».
– Лена! – сказал я вместо этого и, не давая уснуть, стал осторожно покачивать её, как расшатывают вбитый в землю столбик, прежде чем вытащить. В конце концов, она вылезла сама – неловко, задним ходом через скамейку, споткнулась, и я поддержал её, наступив на тёмно-зелёную курточку, о которой совершенно забыл. Лена отошла в сторону и стояла, ухватившись за ветку серебряной ивы, в одном кеде, другой остался под столом. Блин, дайте мне его! Хотя бы ногой выпните!.. Никто не услышал моих сигналов или, скорее, не захотел услышать. Я присел у торца и, так подавшись вперёд, что голова и плечи целиком ушли под стол, вытянул руку. Не дай бог кто-нибудь заденет ногой – точно будет драка. Кроме, наверное, Оселедцевой, её как бы не замечу. Она сидела, положив ножку на ножку, ноготочки на игрушечных пальчиках были покрыты рубиновым лаком. Сверху прошелестел неразборчивый шёпот, и по столешнице, как раз над моей головой, довольно увесисто хлопнули. Ладно, это стерплю. Вдруг случайно…
Я даже не знал, сможет ли Лена самостоятельно обуться, но помочь ей под прицелом враждебных, всё подмечающих глаз не рискнул. Поднял и отряхнул её ветровку, Лена тем временем кое-как справилась со шнурком, но сил разогнуться и встать не имела. Приподняв под мышки, я довёл её до залива, зачерпнул пригоршню солёной воды и щедро умыл, ещё раз и ещё. Она встрепенулась и, наконец, посмотрела на меня осмысленно.
– Ты?
– Нет, французский посол. Что ты тут делаешь?
Она судорожно глотнула воздух и сморщилась, готовясь плакать.
– Ладно, идём скорее.
И под руку потянул её к тропинке, больше не думая, смотрят на нас или нет.
13Лена шла по аллее более или менее твёрдо, я только слегка поддерживал её под локоть, двигаясь в сторону дома, где жила Полина Сергеевна. Мы молчали. Но ближе к выходу из парка ноги Лены заплелись, потом её долго рвало в кустах, и выбралась оттуда она с таким измученным видом, что я решил изменить маршрут. Мог бы, в общем, и сразу догадаться. В выходные убирал, пылесосил – ненавистное для меня занятие, но собрался, перетерпел и теперь не должен стыдиться. Мы свернули на тропинку, кратчайшим путём ведущую к другой аллее; Лена не возражала и, может быть, даже не заметила. У себя дома я помог ей стянуть кеды, отправил в ванную, включил холодную воду и затем позвонил маме Оксаны.
– Полина Сергеевна, всё в порядке, – сказал я. – Лена у меня, я тут ей помогаю с геометрией. Когда будет удобнее к вам проводить?
– Спасибо, Саша, я теперь спокойна, – ответила Полина Сергеевна. – Тогда я выйду по делам, через три часа вернусь и буду дома. Как пойдёте, позвони на всякий случай, хорошо?
– Конечно.
Я вспомнил, что скоро и моя мама вернётся с работы и винный запах в квартире совсем ни к чему. Был он или нет, я не чувствовал, но, может быть, оттого что привык или вдруг нос заложило на нервной почве. Лена, выйдя из ванной, спала на моём диване и не пахла ничем, разве что слабенько – земляничным мылом. Улавливаю мыло – значит, нос в порядке. Но всё же я пошёл на кухню и заварил чай, добавив к нему щепотку чабреца, собранного летом в предгорьях. Его могучий аромат легко забьёт все посторонние оттенки. И откашлялся на кухне, стараясь не рычать слишком громко и ужасно. С носом порядок, а вот горло чуть перехватило, всё-таки напряжение в Пиратском саду было немалое. Почему всё обошлось даже без словесной перепалки? Я такой свирепый на вид, или эти хмыри боятся кого-то из взрослых, кто может стоять за моей спиной? А впрочем, идут они в собственный зад, ещё не хватало о ком думать! Я отнёс в комнату полулитровую кружку чаю, вынул из тетради двойной лист, открыл учебник, таблицы Брадиса и, отхлёбывая после каждой написанной фразы, принялся решать задачи по геометрии, чтобы потом отдать Лене. Мы ведь как бы занимаемся.
Мой письменный стол, согласно научным рекомендациям, располагался возле окна – так, чтобы дневной свет падал на книги и тетради слева. Диван стоял за моей спиной, и вскоре я поймал себя на том, что сижу к столу почти боком. Лена лежала на животе, отвернув голову к стене, я видел её светлые волосы, не перехваченные резинкой, ухо без серёжки и, кажется, без дырочки для неё, спину с чуть выступающими лопатками, полоску голой кожи между футболкой и брюками, обтянутые трикотажем ноги, носок с протёршейся пяткой… Не трону, пользуясь случаем, даже под благовидным предлогом: узнать, не замёрзла ли. Это было для меня невозможно, и довольно скоро я понял, что и смотреть – как-то не очень. И она ведь правда может замёрзнуть. Подумав так, я достал из шкафа лёгкое одеяло с вытканными по всему полю африканскими зверями, которым укрывался поверх основного в те ночи, когда осень бросала на город тевтонскую свинью дождей и штормов, а в батареях издевательски журчала холодная вода, – развернул, накинул на Лену и вновь сел за стол. Решив самую трудную задачу – имею в виду геометрию, – услышал за спиной движение, обернулся: Лена спала на боку, лицом ко мне, львы и жирафы съехали с ног почти на пол. Чувствуя, что вот-вот она откроет глаза и сядет, я разделался с последней задачей и ушёл на кухню заварить новый чай и собрать что-нибудь поесть. Будет голодная. Я никогда не был в таком состоянии, даже во время самых весёлых посиделок на ранчо выпивал не больше кружки самодельного сухого вина, хорошо закусывая, но сейчас не то чтобы понял, а просто ощутил всем существом, словно перенесясь на миг в её тело, какой зверски голодной она проснётся.
14Я вновь откашлялся, так мучительно, будто вытянул из гортани длинный шершавый шнурок. Утёр выступившие слёзы, машинально включил «Маяк» и задержался на кухне, слушая песню. Вот же история: помню до сих пор, какая была песня, прежде слышал её не раз и даже подобрал на гитаре в один из ближайших дней. Очень нравилась она Свете Шульц. А теперь исчезла, не звучит в эфире, ни единого следа в интернете, и временами кажется, будто приснилась мне тогда. Не знаю ни авторов, ни певца: роскошный баритон с лёгким восточным отзвуком, но не Муслим Магомаев и не Ренат Ибрагимов. И не Заур Тутов, и не Радик Гареев, и не Мовсар Минцаев. Остаётся, под настроение, петь самому:
Прежняя любовь в себя Вселенную вмещала, Прежняя любовь стать неизменной обещала И не лгала, когда желала счастья, а не зла, Да, не зла… Прежняя любовь, не меркнет первой встречи дата, Прежняя любовь была ни в чём не виновата, Просто она себя однажды выпила до дна…10По пути в комнату взял нагруженный поднос в одну руку, другой постучал и приоткрыл дверь. Лена сидела на диване, в недоумении оглядываясь.
– С добрым утром, – сказал я.
– Утром? – спросила она хрипловато и кашлянула. – Я у тебя дома, да?
– Угощайся. – Я придвинул табурет и поставил на него всё принесённое. – Чай горячий, бутерброд с маслом, просто хлеб, яблоко, слива, кизиловое варенье без косточек. Налетай, на берег выйдем не скоро.
– Какой берег? – спросила она, встряхнула головой, поморщилась, но тут же взялась за бутерброд. – А как же?..
– Полина Сергеевна? С ней всё схвачено.
– Нет, серьёзно?
Я вкратце рассказал, как всё обстояло серьёзно. Долго рассказывать было и не о чем, но за эти несколько минут Лена выпила половину чашки, съела бутерброд и ещё кусок хлеба, намазав вареньем, затем сгрызла яблоко и спохватилась:
– Ой, а как же ты?
– Не волнуйся, я уже, пока ты спала.
– Спасибо. Вообще, это…
– Да ладно, не за что.
До этого мгновения я не думал о благодарностях – но, едва Лена попробовала высказать, почувствовал всю их неуместность. Ничего особенного не сделал и даже то, что всё-таки сделал, мог бы сделать раньше. Я в третий раз откашлялся, уже легко и почти неслышно. Лена, привстав, вынула из заднего кармашка брюк резинку и убрала волосы в хвост.
– Это твоя? Ты играешь? – тихо спросила она, кивнув на гитару, стоявшую у стены в открытом чехле.
– Немного.
– А я совсем немного. Одна девочка научила… там, где я раньше жила.
– Это здорово, попробуй. – Обрадованный, что нашлась тема для разговора, я взял гитару. – Или ещё хочешь? – кивнул на поднос.
– Не, спасибо.
– Тогда держи.
– Ну я не знаю… – отнекивалась Лена, но я вручил ей инструмент и, сев напротив, приготовился слушать. – Всё забыла уже, – прошептала она, осторожно задев струны, но прошептала музыкально, неосознанно подстроившись под нужный тон. Взяла аккорд, сделала несколько переборов, глубже вдохнула и наконец не запела, скорее заговорила под собственный аккомпанемент, очень тихо, приятным голосом и верно держа мелодию:
Под небом голубым есть город золотой С прозрачными воротами и яркою звездой…Я кивнул, одобряя взглядом, когда Лена дошла до припева:
Одно как жёлтый огнегривый лев, Другое – вол…– Нет, слушай, – сказала она, прервавшись, – не могу баррэ, никогда не получалось… Наверное, силы не хватает в пальцах.
– Этот аккорд можно брать по-другому, – с готовностью объяснил я, сел рядом и, винтообразным движением продев руку между Леной и грифом, дотянулся до струн. – Смотри: мизинцем прижимаешь первую струну на третьем ладу, средним пальцем – шестую на третьем, указательным – пятую на втором. Безымянный так смешно висит в воздухе. Получается то же самое, вот послушай, – и несколько раз подряд взял аккорд одним и другим способом, – правда?
Лена кивнула.
– Попробуй. – Я сам расставил на грифе её прохладные пальцы. – Запомнила?
– Да.
– Тогда спой с таким аккордом.
Но спеть не удалось: пока новая расстановка не выходила автоматически, Лена думала о ней, забывая слова, теряя темп. Вздохнув, опустила руки.
– В другой раз получится, – сказал я, – а в баррэ ничего трудного нет. Я, конечно, самоучка, могу что-нибудь не то посоветовать, но смотри, как решил это для себя. Вот наш аккорд, G. Ты уже прижала тремя пальцами третью, четвёртую и пятую струны, да? Значитца, нет смысла давить на них ещё и указательным позади. Зажми им первую и вторую, и кончиком – шестую. Вот попробуй…
Вновь прикоснулся к её пальцам, но тут в замочной скважине заскрежетал ключ: вернулась с работы мама. Я вышел встретить её в прихожую.
– У меня одноклассница в гостях, – сказал я, – делаем уроки, я немного помогаю.
– А кто, если не секрет? – спросила мама.
– Новенькая, пришла в этом году, ты ещё не знаешь. Если хочешь, познакомлю.
– Доделывайте, а там посмотрим. Приходите на кухню.
– Ладно, договорились.
Я вернулся в комнату: Лена сидела, держа гитару так, будто не решалась поставить её на чужой пол или отложить на чужой диван.
– Хочешь, покажу тебе удар? – предложил я, убрав гитару в чехол. – Вот представь, какой-нибудь придурок что-то скажет, а ты его раз! И одного раза хватит, гарантирую, прикусит язык навсегда.
– Не знаю…
Поманив её вверх, отступил на два шага и выставил ладони:
– Ударь, как умеешь, не стесняйся.
Лена стеснялась. Я подвигал руками, покивал пальцами, как Петрушка колпаком, – Лена улыбнулась на долю мгновения, широко и не размыкая губ, и едва тронула костяшками мою ладонь. Если бы дунула – наверное, сильнее бы почувствовал.
– Давай крепче, двумя руками по очереди. Вот молодец. Только локоть висит, корпус не вкладываешь, так можно вывихнуть руку. Ты правша?
Лена кивнула.
– Значит, встань ко мне вполоборота левым боком, колени смягчи. Кулаки – вот так, к подбородку, правый локоть закрывает печень. Удар левой и тут же правой. Идёт от ног. Поворот бедра, движение переходит в плечо, потом в локоть. Как бы вкручиваешь кулак, поняла? А после удара сразу возвращаешь назад, к подбородку. Давай медленно, очень медленно, левой – правой, за одной рукой сразу летит другая, в ту же точку. Это называется «двоечка».
– Потому что два удара подряд?
– Ты догадливая, – сказал я очень серьёзно. Лена вновь на миг улыбнулась и принялась медленно, старательно бомбардировать мои ладони.
– Красиво получается, почти танец, – похвалил я. – Тебе надо перевести эти движения на автомат, чтобы уже не думать о корпусе, повороте… Видишь цель, бабах! – и всё, противник в ауте. А для этого сделай сто ударов медленно, потом быстрее, ещё быстрее, и каждый день понемногу. Давай чуть быстрее, поехали.
– Всё, не могу больше… – сказала Лена минут через пять и села на диван, тяжело дыша.
– Отдохни, повторим ещё раз и пойдём на кухню. Договорились?
– Хорошо, – кивнула Лена, поднимаясь.
Глава третья. ВИНОГРАДНАЯ
1На следующий день Лена заболела и осталась у Полины Сергеевны. Я как ни в чём не бывало пришёл в школу и о вылазке в Пиратский Сад вспомнил только благодаря Метцу, отозвавшему в сторону на перемене.
– Ты это… никому не говори, что было вчера, понял? – сказал он, глядя мимо меня в угол, откуда слышался девчоночий визг и грохот передвигаемых стульев.
– Да мне больше делать нечего, как рассказывать всем подряд обо всём.
– Ещё никому не говорил? – спросил он и получил резонный ответ:
– А ты не много хочешь знать? Может, тебе сказать, что я ел на завтрак? Или сколько раз дрочил? Дефектив нашёлся.
– Ясно, – хмуро сказал он, отходя. Я почувствовал что-то похожее на укол совести: обидел человека. И добавил вслед:
– Я и забыл о вас через минуту.
Настроение до конца перемены было подпорчено. Дурацкий характер. Другой, взять того же Метца, пошлёт по известному адресу и не угрызётся ни на миг. А я чего-то переживаю. Тот, кто одолел предыдущую главу, наверняка остался в недоумении: куда я подевал «Золотого телёнка»? Столько упоминаний в начале – и ради чего? Во что они разрешились: в сон, рассветный туман? Стоило, наверное, ожидать, что я, воображая себя немного Остапом, пойду по жизни весело, без лишнего самокопания пользуясь оказавшимися на пути вдовушками и девицами. Возможно, я хотел бы стать таким и где-то в глубине завидовал счастливцам, которым достался более лёгкий нрав. Но, с другой стороны, куда бы он мог привести меня? К дружбе с недоделанными земляковыми и метцами? Спасибо, как-нибудь обойдусь.
Разумеется, я ни секунды не боялся «мафии», чью верхушку застал в Пиратском саду. Она была довольно обширной и разветвлённой, но включала в себя главным образом семи, восьми, девятиклассников и лишь некоторых кадров из нашего, десятого. Я же всегда тянулся к ребятам годом старше.
2Гитара и только гитара открыла мне путь в высшее общество. Не будь её, так бы и сидел я в нашем болоте. Но гитара была – ленинградской фабрики музыкальных инструментов, благородного палисандрового цвета, с металлическими струнами в блестящей серебристой обмотке и звуком одновременно глубоким и звонким. Подарок дяди Александра на день рождения.
Уже несколько лет она висела на гвозде, я вытирал с неё пыль и не поддавался нелепой моде оклеивать деку переводными картинками. Но чтобы научиться играть – нет, где уж мне, это для избранных… Так я думал до весны седьмого класса, пока не стал вечерами заглядывать в соседний двор, где прежде могли и побить. Там жил Игорь Маринченко, парень на три года старше меня, – и, когда он с гитарой выходил к подъезду, во дворе мигом прекращались футбол и прятки. Кто-то из ребят слушал, другие тихо подпевали, а Игорь, глядя перед собой не затуманенным поэтическим взором, а цепко, даже как-то зло прищурившись, выдавал песню за песней – вперемешку, без особого разбора; были там афганские баллады: «Письма редко отсюда приходят домой, не одна мать-старушка зальётся слезой», был безысходно трагичный Цой, и «Утиная охота», и «Пока горит свеча», «Разбойничья» и ещё одна песня, которую я тогда считал народной:
Вези меня, извозчик, по гулкой мостовой, А если я усну, шмонать меня не надо, —но позже узнал, что автор за своё творчество сидит на зоне… И вдруг, специально для девочек, на приличном английском Игорь пел Love Me Tender или Yesterday. Девочки подходили ближе, а я прислушивался, приглядывался, воображал себя на его месте. Мелодии, оставаясь дома один, я воспроизводил, кажется, верно. Голос почти, почти завершил возрастную мутацию, был ещё не очень послушен, но всё чаще удивлял громовыми баритональными нотами. Будет даже лучше, чем у Игоря, – надеялся я. А гитара уже тогда была лучше. У Игоря – тоже неплохая, довольно звучная, но струны то и дело дребезжали, задевая порожки, и картинки с парусниками были приклеены к деке не для красоты, а чтобы скрыть трещины.
Однажды я набрался смелости и принёс ему на вечер свою гитару. Игорь поиграл, а потом научил настраивать её и нарисовал на тетрадном листе первые шесть аккордов. Одноклассник Андрей добавил ещё четыре, и дома я засел за упражнения.
Не всё было гладко, особенно вначале. Горели надавленные струнами пальцы. Сбивало с толку то, что мои учителя изображали аккорды по-разному: Игорь нормально, а Андрон почему-то вниз головой, первая струна у него была сверху. Я не сразу это понял, а когда разобрался, увидел, что рисовали они одно и то же. В тот день я решил, что зубрить отдельно каждый аккорд – глупая затея, надо мыслить связками и понимать законы, по которым они строятся. И, подбирая несколько песен враз, мысленно сравнивая, пытался открыть эти законы.
Иногда казалось, что ещё немного – и пальцы поймут что-то важное, сами забегают по ладам. В другой день это чувство терялось, всё, что я успел разучить, вылетало из головы и я порывался бросить самомучение, но всё-таки не бросал. Завелась у меня пухлая тетрадка с песнями, записанными множеством рук. Как же хотелось выпороть безвестных сочинителей, чьи шедевры были слишком задушевны и образны! Фразы наподобие «звёзды улыбались» или «туман поссорился с дождём» казались мне пошлыми невыносимо, но девушкам нравились. Немало полезного брал я от музыки, звучавшей по радио: никогда не разделял модное в те годы презрение к советской эстраде, любил очень многих официальных артистов, от «Песняров» до Иосифа Кобзона, – разумеется, с лирической его стороны. Мне всегда казалось и кажется до сих пор, что «Неба утреннего стяг» поёт один человек, а «Зимнюю любовь» или «День весны» – кто-то другой, даже не его дальний знакомый. А вот уж чего я действительно терпеть не мог, как и все друзья, так это наступавшую развёрнутым фронтом плоскую бело-розовую электропопсу.
Ближе к концу лета мой голос окончательно пережил изменения и вышел из них поставленным от природы. Я мог, не надрываясь и не переходя на фальцет, петь высокие звуки в тоне открытой первой струны и гудеть на уровне шестой. Камертоном для настройки гитары служил телефонный зуммер. Всё было неплохо, только никак не удавалось быстро, на ходу подбирать гармонию к новым песням, приходилось заниматься этим дома и потом выдавать комнатные заготовки за экспромты. Но, если забыть об этой мелкой неприятности, я был рад своим успехам и теперь, через полтора года после первого взятого аккорда, ударял по струнам и, уже никого не смущаясь, запевал:
Один английский лорд валялся на дороге, Торчали из грязи его босые ноги.Одиннадцатиклассники, кому было не лень, подхватывали:
И кое-что ещё, и кое-что такое, О чём не говорят, чему не учат в школе…Жаль только, песня быстро заканчивалась.
– Огненов, драго ми je, спой «Мы с тобой встречались, будто с музыкой слова», – заказывала уютная, симпатично пухленькая, с персиковым румянцем, Света Шульц. Я не любил это петь: слишком образно и задушевно. Дальше там как раз: «Звёзды улыбались, и кружилась голова» – всыпать бы автору ремнём, чтобы кое-что другое закружилось!
– Может, «Старика Козлодоева»? – с надеждой предлагал я.
– Да ну его, старика твоего! Если споёшь что я прошу, на дискотеке буду танцевать только с тобой, – обещала Света. Я был бы рад, но отчего-то не верил, – может быть, оттого что Вадим, её друг, сидевший рядом, делал страшные глаза.
– А почему вы, Светлана Павловна, думаете, что этим окажете ему честь? – ехидно спрашивал Миша.
– Логично, – добавлял Олег, – он только о Наташе и мечтает.
– Ты бредишь, да?! – деланно возмущалась по-восточному яркая, жгучая брюнетка Наташа Касымова. – Не обо мне, о Маринке!
Марина Маринченко, стройная зеленоглазая красавица, сестра гитариста Игоря, уже второкурсника СВВМИУ,11 конечно, нравилась мне, но вовсе не так, как имела в виду Наташа. Слишком несхожие характеры: я давно понял, что Мариной хорошо любоваться со стороны, а на танец приглашать кого-то другого.
– Да ну вас, засмущали! – говорил я. – Сейчас как выдам:
На деревне дед Максим Так и помер холостым…До крайности неприличная песня, Лука Мудищев против этого деда – сущий младенец. Девушки второпях зажимали кто собственные уши, кто рот певцу. Продолжать я, разумеется, не собирался, но цель была достигнута: звёзды больше не улыбались и уж подавно не плакали.
3Мы сидели у Миши на ранчо и обсуждали, какую музыку будет играть школьный ансамбль. Сразу объясню, откуда у нас появилось ранчо. Садовые участки за чертой городка, с двухкомнатными щитовыми домиками, сараями и огородами, бесплатно раздавались в нашем исполкоме всем желающим. Но порой выходило так, что какой-нибудь лейтенант брал себе участок, через пару лет уезжал к новому месту службы, в его квартиру вселялась другая семья и от дачи не отказывалась, но вскоре понимала, что не очень-то она и нужна. Дача оставалась заброшенной, ветшала, забор превращался в дрова для шашлыков, чернозём с огорода растаскивали соседи, а в дом могли залезть и напиться солдаты из строительной части, удравшие в самоволку, или даже, не будем лакировать действительность, отдельные несознательные матросики. Однажды Серёга Изурин подговорил меня искать на заброшенных участках клад – то есть, вещи, забытые прежними хозяевами. Я не надеялся на сокровища, однако мы нашли два новеньких котелка и разбитый аккумулятор, свинец из коего годился для рыболовных грузил, а я вдобавок оцарапал лодыжку, ступив на ломаную половицу.
До поры до времени заброшенными участками никто всерьёз не интересовался, но, когда один такой дом сгорел – к счастью, без жертв, – за них взялись, переписали, ветхие начали разбирать, более или менее целые – отдавать в надёжные руки. Моя мама, инженер-электрик службы коммуникаций, как раз этим занималась. Мишин отец, заместитель начальника штаба флотской базы, взял участок подальше от своего, на окраине дачных кварталов, и отдал сыновьям: Мише и Андрею, ныне восьмикласснику. Мы посадили там сливу, яблони, несколько плетей винограда, устроили в сарае гараж для мотоцикла, вставили в доме стёкла, разрисовали его изнутри и снаружи морскими батальными сценами и теперь могли бы легко там жить – не все вместе, а посменно, человека по четыре. А если собраться после уроков, то хоть бы и все вместе, особенно ранней осенью, пока тепло.
Сегодня мужскую половину нашего общества составляли: Миша «Эстонец» – хозяин ранчо, самый быстрый из нас, владелец почти новенькой «Явы» с коляской; Олег «Молдаванин» – его лучший друг, мастер на все руки; Вадим «Немец» – кареглазый, с тонким, гордо выступающим вперёд орлиным носом; Володя «Куба» – недавно переехавший из Новороссийска боксёр, он и в Солнечном продолжал тренироваться с двумя лейтенантами-разрядниками, и передавал умение нам. Стойка, передвижение в челноке, разнообразные удары – всё это нравилось мне основательностью и научным подходом, нравилось больше набирающих силу восточных единоборств, но до поры я не мог представить, что когда-нибудь использую боевые навыки в жизни.
Эти клички могут, наверное, покоробить современное ухо, но ведь учился в Царскосельском лицее один смуглый и кудрявый Француз, а чем мы хуже? Ребята читали о лицее, они вообще любили читать, кое о чём я слышал от них впервые. Весной мы смотрели в Доме Офицеров «Полёт над гнездом кукушки», и только от них я узнал, что есть роман, по которому снят этот фильм, и нашёл его в четырёх номерах «Нового мира». А было ли прозвище у меня? – спросит кто-нибудь. Было даже два. Назвать Югославом – слишком просто, а ничего противоположного в голову не шло, так что именовался я то Греком, то Румыном, в зависимости от настроения и, возможно, погоды. Серёга же Изурин, которого я подтянул к этой компании, напоминал, если верить Наташе Касымовой, тушканчика: такой же лопоухий и ходит как на пружинках. А из всех тушканчиков самым близким нам, почти что добрым знакомым, спасибо классикам, был мексиканский тушкан.
Девушки одиннадцатого класса прозвищ не носили. В этот ранний вечер, кроме Марины, Светы и Наташи, на ранчо находились Таня, Оля и близняшки Вика с Алёной, различить которых можно было по причёске – у Вики волосы до лопаток, у Алёны каре; по серёжкам – Алёна носила, Вика нет; а на пляже ещё и по форме пупка.
Итак, мы сидели на ранчо и обсуждали, какую музыку будет играть школьный ансамбль. Мы мечтали об ансамбле с весны и уже определили состав: ритм-гитара и вокал – ваш покорный слуга, клавишные и вокал – Марина, с басом обещал помочь двадцативосьмилетний учитель истории Василий Васильевич. Играть на ударных хотел Олег, умевший сложить кирпичную стену, починить мотоцикл, разобрать и собрать фотоаппарат «Москва», но только не барабанить. Дело было за малым – научиться. «Василий в квадрате», как между собой называли историка, обещал научить Олега в два счёта, если обнаружит у него чувство ритма. В чём, понятно, никто не сомневался.
А вот выбрать репертуар было гораздо труднее. Мы все отвергали белую и розовую попсу, но здесь единство и заканчивалось. Время было странное: поиски, сомнения, нетерпимость перемешаны в разных пропорциях, но часто в одной голове. Я недавно вырезал из журнала «Кругозор» синенькую гибкую пластинку, до крайности удивительную пластинку. На одной её стороне были «Песни о Ленинском Комсомоле»: многотысячный хор, казённые голоса солистов, маршеобразные мелодии с малоразборчивыми, тонущими в оптимистическом рёве словами; на другой стороне – группа «Бригада С»:
Бродяга, какая странная масть! Бродяга, какое дерзкое призванье!..Пластинку сопровождала статья с таким примерно содержанием: «Что нужно современной молодёжи? Давайте попробуем всё». Никто не знал, что нужно молодёжи, да и сама она не знала, будучи слишком неоднородной. Вот и мы не могли решить, что нам нужно. О комсомоле, к счастью, речи не заходило, но Марина, увлечённая отечественным роком («Кроме „Землян“!» – вслед за Майком Науменко уточняла она), наша прекрасная Марина хотела исполнять песни с острой социальной тематикой, вскрывать недостатки общества, обнажать правду, мне же до правды не было дела, я стоял за чистое искусство.
– Тебе всё развлекаться надо, тоже мне Вивальди! – возмущалась Марина, сияя зелёными звёздами глаз. – Реальной жизни не видишь.
– По-твоему, реальная жизнь бывает только на помойке? – уныло спрашивал я.
– Помойка – это в сто раз честнее, чем твоя башня из слоновых костей.
– Да что вы спорите? – удивилась худенькая скромная Таня Карева. – Попробуем всё, что лучше выйдет – то и будем играть.
Таня в нашей компании, кроме тех случаев, когда приходила на ранчо с «Лейкой» или с пачкой свежих чёрно-белых фотографий, держалась чуть в тени, но я уже не в первый раз заметил, как она умеет высказать простую с виду мысль именно в то мгновение, когда все о ней, то есть об этой мысли, забыли. И… не знаю почему, но я чувствовал, что в душе она на моей стороне. Это придавало уверенности.
Кстати, именно так: «будем играть» – говорили даже те из нас, кто не собирался участвовать в ансамбле.
– Прячем пузырь, Василий идёт! – предупредил Миша.
Едва начатый трёхлитрович молодого самодельного вина мигом убрался под скамейку. Хоть и неформальная встреча, но всё же учитель есть учитель.
4Чувства ритма у Олега не оказалось. Василий барабанил пальцами по столу несложные фигуры, просил повторить, и Олег сбивался после трёх ударов, клялся, что теперь-то уж всё выйдет, начинал заново, но с тем же печальным успехом. Наконец он сдался, сказав, что это мы его отвлекаем. Можно подумать.
Зато Таня Карева легко исполнила все задания – и с начала до конца, и с конца в начало, и ножками в потёртых кроссовках по твёрдой земле. Барабанщик нашёлся, но в тот же вечер мы выяснили, что установка, много лет стоявшая без дела в школьном подвале, разрушена и покорёжена так, словно её забросило туда землетрясением. Василий Васильевич обещал похлопотать о покупке новой. Деньги на неё могла бы выделить школа или, что ещё вернее, военная часть, но ждать подарков нам было неинтересно. Прежде чем разойтись по домам, мы решили, что можем сами заработать хотя бы половину необходимой суммы, и наметили довольно рискованный план. Назавтра после уроков Миша поехал на мотоцикле в ближайший совхоз, где бригадиром виноградарей работал отставной мичман, прежде служивший под началом Мишиного отца. Вернулся запылённый донельзя и, умывшись на колонке, сказал, что всё в порядке, по большому блату удалось добыть рабочие места на месяц для одного парня и одной девушки.
Да, заработать деньги мы могли единственным и довольно нелёгким способом – уборкой винограда. Виноградники в нашем краю не пострадали от вырубок антиалкогольной кампании, только винзавод в селе, по-простому называвшемся Фронты, был закрыт и разграблен до последнего дверного косяка. Плантации начинались километрах в пятнадцати от Солнечного, если ехать кратчайшим путём – затерянным в предгорьях разбитым просёлком. Работы осенью там было море, совхозных сил не хватало, и в самую горячую пору на временный заработок могли взять даже беглого школьника.
Мы все время от времени занимались этим делом и имели о нём представление. Женщины вручную срезают гроздья, складывают в ящики и оставляют между рядами. Следом едет погрузчик, двое мужчин собирают эти ящики и ставят на поддон, если виноград столового сорта, либо высыпают в ковш – если винного.
Чтобы не запускать учёбу и не очень светиться прогулами, мы решили организовать три пары и меняться каждый день. Одну пару составили мы с Таней, другую – Марина и Олег, который, даже не пригодившись ансамблю, всё равно говорил «будем играть». В третью пару вошли Оля Елагина, высокая девочка с русой косой ниже талии, подруга и верный оруженосец красавицы Марины, и мой одноклассник, жадный до приключений Серёга Изурин. Миша взялся возить нас туда и обратно на своём мотоцикле.
Бросили жребий: нам с Таней выпала вторая смена, первая – Марине и Олегу. Договорились, что в понедельник вечером мы встретим их на ранчо.
5Я пришёл на ранчо за час до назначенного времени, очень скоро появилась и Таня. Андрей, младший Мишин брат, поставил на электроплитку чайник. Не успел он вскипеть, как за окном промелькнули два высоких силуэта и один миниатюрный: Оля Елагина, Куба и Наташа Касымова. Чуть позже подошли Света Шульц и Вадим, сели в уголке и зашептались о чём-то своём.
Таня была уже в образе: она закрыла глаза и ритмично покачивалась, в мыслях сидя за новенькими барабанами…
– Едут! – воскликнул Андрей, первым услышавший звук мотора, и выскочил во двор. Через минуту серая от пыли «Ява» с коляской остановилась под окном, и работники, отряхнувшись, ворвались в дом, и без того набитый почти под завязку. Олег поставил на табуретку большой ящик с мелким виноградом, по виду мускатом, а Марина – ведёрко с очень крупным на стол.
– Это съедим, – объяснила она, – а вон то пока не трогайте.
Ягоды в ведёрке были продолговатые, золотистые, на свет почти прозрачные, – «италия», самый вкусный сорт.
– Урожайный год. Ящик можно взять, никто слова не скажет, – объяснила Марина. – Вы завтра тоже постарайтесь.
Уставшая, хоть и не подающая виду, она стояла в старой, на боку прожжённой кислотой тельняшке, заправленной в латаные-перелатанные джинсы, и тяжёлых коричневых ботинках. Через плечо висела брезентовая сумка, спутанные каштановые пряди выбивались из-под косынки на чумазый лоб… Прекрасна, нет других слов!
– Пойду окачусь, – сказала Марина и шагнула к двери. Олег с Мишей уже вовсю плескались на колонке.
Куба, не вставая, взял её за ремень, подтянул к себе и усадил на колени. Я остолбенел на миг, и это мягко сказано. Марину?! Вот так легко, так запросто, будто какую-то сиротку из нашего класса?! Гром, молния, ураган, сейчас развалится домик!.. Но Марина только поморщилась с лёгкой досадой:
– Да Вовчик, блин… Дай привести себя в порядок.
– Ты в полном порядке, бэйби, – ответил Володя.
Марина вздохнула с терпеливым и снисходительным видом няни, в сотый раз объясняющей малышу, как вести себя за столом, и, запрокинув голову, что-то прошептала ему на ухо. Володя мгновенно отпустил её, предложив:
– Хочешь, колонку покачаю?
– Не надо, Оля справится. Идём, дорогая, поможешь.
Оля Елагина с готовностью приобняла её за плечи и вывела во двор, захватив по дороге ведёрко «Италии».
– Что, Куба, облом? – посочувствовал Андрей, младший Мишин брат.
– Цыц, малой, – беззлобно огрызнулся Володя. – Вам с румыном ещё рано смотреть взрослое кино.
– Птичку нашу прошу не обижать! – вступилась за меня Наташа. – Пусть смотрит на здоровье. Всё, что надо, сама покажу. Будут вопросы – объясню.
– Я потом, что непонятно, объясню!.. – протянул Вадим из своего уголка.
– Я сегодня не румын. Сегодня меня зовут Сократос Папастратомаврохристокар-рогелопулос, – сказал я, только один раз запнувшись.
Наташа, приложив тыльную сторону кисти к моему лбу, пожала плечами:
– Вроде, всё нормально.
– Проверь другой рукой, – посоветовал Куба. – Да не меня же!..
– И тебя вылечим, – невозмутимо продолжала Наташа.
Вокруг не прекращалось движение. С колонки, оставив её в распоряжении девушек, вернулись Миша с Олегом, а Наташа и Куба вышли, забрав ящик муската. Олег подсел к нам с Таней.
– Завтра подойдёте к бригадиру Пинчуку, – сказал Олег, – Миха его покажет.
– Да сами увидите сразу, – добавил Миша. – В тельняшке, рожа коричневая, усы вот такие, – он обрисовал двумя пальцами подкову, огибающую верхнюю губу.
– Тебе, Таня, надо будет постараться, – продолжал Олег, – Маринка сегодня как пошла щёлкать секатором, всех тёток из бригады сделала.
– Они её не побили, надеюсь? – спросил я.
– Руки коротки. Ау, Танюшка! очнись, ты меня слышишь?
– Марина всех тёток из бригады сделала. Пинчук в тельняшке, коричневый, усы вот такие, – повторила Таня, выйдя из задумчивости. – Слышу, всё понимаю, не волнуйся.
6Становилось всё теснее, прозвучали робкие голоса, призывающие выйти во двор, но никто не пошевелился: было лень, лень. Не знаю насчёт других, но я, глядя на первую смену и представляя завтрашний день, чувствовал себя так, будто сам хорошо поработал. Таня, освобождая место для вновь подошедших, двинулась на скамейке, привстала, а опуститься было некуда. Не скажу, что я усадил её к себе на колени, как недавно Володя Марину, – на это не хватило бы отваги. Я только подставил колени с такой примерно мыслью: соблаговолите милостиво приземлиться, ваше высочество… Таня приземлилась, чуть повернулась влево, чтобы не заслонять от меня спиной всю компанию, и, улыбнувшись, сказала:
– Спасибо.
– Удобно? – спросил я.
Таня кивнула, опустив глаза, и слегка повела плечами. Всё-таки хорошо, что мы будем работать вдвоём; будь моей партнёршей Марина, я бы не знал, куда себя деть. Конечно, мы оказались бы в разных углах виноградника и за весь рабочий день провели вместе не более часа, но нам и пяти минут хватало, чтобы устроить спор на любую тему – не о музыке, так об истории, не об истории, так о садоводстве или марсианском фольклоре. Почему-то Марина всегда первая на меня наскакивала. А с Таней мы друг друга поймём и обо всём договоримся, – так я подумал, сам не зная почему.
– Взрослые меня прогоняли с колен, когда была маленькой, – смеясь, сказала Таня, – говорили: жёсткое, костлявое одно место. А я обижалась… Не отдавила тебя?
– Не чувствую, – ответил я и слегка покачал её с ноги на ногу.
– Значит, кое-что наела…
– Не так и много, – ответил я и запоздало сообразил, что комплимент получился неудачный.
Кто-то вышел покурить, на скамейке стало чуть свободнее, но Таня так и не поднялась с моих колен: может, и вправду было удобно?.. Она повернулась боком и, отвечая через всю комнату на чей-то вопрос, положила тонкую горячую руку мне на плечи. Я увидел в клетчатом рукаве её побритую подмышку и отдёрнул взгляд. Буду смотреть в глаза.
Общая беседа по неведомым причинам не клеилась, все разбились на маленькие группы. Вадим Карапетов, как всегда, не сводил глаз со Светы Шульц. Володя-Куба смеялся с Наташей, продолжая разговор, начатый во дворе, где они давили мускат в большую стеклянную ендову. Марина, Оля, Олег и Миша с братом вели свою беседу, умудряясь ещё и жестикулировать. И мы с Таней остались как бы вдвоём, и я уже не боялся, что кто-то перехватит мой взгляд, скользнувший по её загорелым коленям, не прикрытым джинсовой юбкой…
Нет, Куба всё-таки перехватил и украдкой показал большой палец. Лучше и правда в глаза.
Таня, вздохнув, чуть отодвинулась и обернулась ко мне.
– Грустно бывает так сидеть, – тихо сказала она.
– Почему?
Она пожала плечами:
– Последний год. А что потом? Когда ещё увидимся?
– Когда-нибудь. Через десять лет – в самый раз?
– Хорошо бы. Но, кажется, мы уже будем не все. И неизвестно где.
– Здесь, – подсказал я.
– Может, и дома этого не будет… Ладно, долой хандру. Приеду через десять лет и всем вылечу зубы.
– Будешь стоматологом?
– Да кем я только не хотела! Учителем, водолазом, машинистом, путешественником… Но всем быть невозможно. Мама врач, анестезиолог, говорит: учись на стоматолога, без хлеба не останешься никогда. И дело хорошее, помогать людям. И ещё говорит, у меня руки прирождённого хирурга. Я её слушаю…
Таня показала растопыренную пятерню, затем дотянулась до графина, стоявшего на подоконнике, и налила мне половину кружки, себе на донышко и другим, кто подоспел. Поставив графин на место, вновь обернулась ко мне, и я подумал: ещё вопрос, кто из них с Мариной красивее. Марина эффектна, на неё сразу обратишь внимание, она и выглядит взрослее, уже как студентка. Таня на вид, пожалуй, младше своих лет, и к ней надо присмотреться. Я присмотрелся и вижу тёмно-серые глаза необычного, удлинённого разреза, густые изогнутые брови, длинные ресницы, очень прямой нос и ровные, сплошные зубы, блестящие даже при свете тусклой лампочки. Кажется, ни следа косметики, но вблизи чувствуется тонкий запах, скорее даже намёк на запах каких-то цветочных духов…
– А где будешь учиться? – спросил я.
– Есть варианты с Симферополем, Иркутском, там родственники живут, но я бы хотела в Ленинград.
– А там кто-нибудь есть?
– Никого, – покачала головой Таня, – но мне кажется, это такой сказочный город, волшебный…
– У меня там бабушка с дедушкой, мамины родители.
– И ты после школы поедешь туда?
Я кивнул.
– Вот и я хочу. Как думаешь, получится?
– Конечно, – сказал я и, боясь, что она тут же найдёт аргументы против, немедленно предложил:
– На зимние каникулы я туда полечу. Хочешь, пройдусь по медицинским вузам, соберу информацию?
– Спасибо, если не трудно. Это будет очень здорово.
– А ты когда-нибудь там была?
– Ни разу ещё.
– Понравится, я уверен. Правда, климат другой. Мы тут сидим, как в мае, а там уже скоро может снег пойти.
– Мне почему-то самым большим чудом кажется метро, – сказала Таня. – Смешно, наверное. Я была в метро несколько раз в жизни, маленькая, в Киеве, но всё прекрасно помню. Мечтала там кататься каждый день. Как заходишь, такой тёплый ветер в лицо…
Таня дунула вверх, выпятив нижнюю губу, чёлка лихо подпрыгнула, и мы рассмеялись.
– Оно быстро надоест, – сказал я, – по земле интереснее.
Я подумал: а у меня какие первые впечатления от Питера? Благодаря чему понимаю, что уже приехал, уже там? Много их, в один раз не упомнишь, но если попробовать… Дедушка, встречающий на огромном вокзале. «Волга» с чёрными шашками, везущая домой просторными улицами. Автомобильный мост, под которым проезжаем в самом конце пути, параллельным курсом с железной дорогой. Удивительно широкие лестничные пролёты в доме. Совсем другой, непривычный вкус воды из-под крана. Вот, пожалуй, да! Выпил чаю – и не только понял, что уже в Питере, но и как бы окунулся в него. И ещё, как ни странно, до сих пор удивляют мусоропроводы на лестнице. У нас, на юге, мусоропроводов нет. Дважды в день городок объезжает «ГАЗ» со сплошным металлическим кузовом, из которого сзади торчит маленькая челюсть. Машина стоит в определённых местах по пять-десять минут, мы все знаем её график и в нужный час подходим, опрокидываем вёдра в эту челюсть, которая пережёвывает мусор и заталкивает внутрь. Когда были младше, устраивали пустыми вёдрами целые бои…
– Что улыбаешься? – спросила Таня. Я тихо изложил всё, о чём только что размышлял, и добавил:
– Приезжай, замечательно будет.
И правда, лучше не придумаешь. Когда сам через год приеду, Таня будет в Питере уже своя, заведёт друзей, познакомит меня с новой компанией… Но и эту мы никогда не забудем и однажды приедем сюда вдвоём: Таня вылечит всем зубы, а я… например, спою что-нибудь новенькое.
7Когда я провожал Таню домой, было темно, полная луна катилась над чёрными крышами и вершинами тополей. Мы пересекли автомобильное кольцо и вышли на «бродвейчик» – так называли отрезок улицы между старым Домом Офицеров и почтой, вдоль которого стояли главные достопримечательности городка: красивое здание исполкома, гостиница, магазины, памятник героическому десанту военных лет, наделавшему паники в тылу врага. Улица носила имя командира десанта – капитана третьего ранга Василькова, каждый дом на ней украшала мемориальная доска с именем погибшего героя. Мы знали их наизусть: вот, отражая свет фонаря, блеснул мрамор на четырнадцатом доме – там увековечена память старшины Матвеева, на двенадцатом – лейтенанта Колоса. Я сам, не далее как позавчера, отмывал её хозяйственным мылом до зеркального блеска.
Таня усмехнулась:
– В первый раз буду прогуливать целый день. Урок или два случалось, но чтобы все… Такого ещё не было.
– Не страшно? – спросил я.
– Нет, – просто ответила она, – мне вообще не бывает страшно, никогда. Мама говорит: патологическое отсутствие страха. – И, помолчав секунду, рассказала: – Когда-то в детстве, ещё в Новоозёрном, есть такой городок, гуляли вечером с подружками и забрели на какую-то охраняемую территорию. И на нас кинулась овчарка. Девчонки кто завизжал, стал убегать, кто застыл на месте, а у меня первая реакция, ещё неосознанная: навстречу! испугать её!..
Я представил, и спина похолодела на миг, хотя вот она, Таня, рядом, целая и невредимая.
– И что? – спросил я.
– Она была привязана, это выяснилось в метре от меня.
– И не было страшно?
– Ни капли. Ни тогда, ни потом, когда вспоминала.
– Поэтому мама и говорит об отсутствии страха?
Таня засмеялась:
– О той собачке она не узнала. Надеюсь. Но всё равно, моё вечное стремление поплавать в шторм, попрыгать по камням, походить по узенькой доске на трёхметровой высоте, облазать все крыши… Целый год мечтала стать мотоциклистом, который ездит вот так, – Таня взглядом описала вертикальный круг, – в шаре. Видел?
Я кивнул. Видел в Евпатории, жутковато было смотреть.
– «Если у тебя, Танька, страху нет, думай головой: надо ли оно, какую пользу принесёт, чем может обернуться…», – произнесла Таня серьёзно, как Максим Горький, явно передразнивая кого-то взрослого или всех взрослых разом. – Я думаю, думаю, – продолжала обычным тоном, – и получается: то не надо, это… Скучно, иногда тянет сделать что-то такое, чего не надо. Или даже нельзя.
Наши руки случайно встретились внизу и на миг замерли, касаясь друг друга. Потом я осторожно взял Таню за руку, и она ответила лёгким пожатием. Ладонь была твёрдая, пальцы длинные, горячие, как угольки. «Руки прирождённого хирурга», – вспомнил я.
Мы свернули направо, на другую улицу, прошли мимо моей парадной. Окно нашей кухни было тёмным. Сквозь арку, соединяющую дома, блестели огни парка, и улица называлась Парковая. Небольшая, всего четыре дома с нечётными номерами. Виноградные лианы, карабкаясь с балкона на балкон, обвивали стены до половины высоты, встряхивали на ветру тёмными лиственными гривами.
– До нас уже доросло, на третий этаж, – сказал я. – Летом первые веточки зацепились за перила.
– Мы на четвёртом, до нас ещё нет. А то, представь, собрали бы, не выходя из дома, и никуда ехать не надо.
Из новой арки дуло сквозняком, доносился отдалённый звон гитары, и жизнерадостные голоса вразнобой горланили:
Осень, в небе жгут корабли, Осень, мне бы прочь от Земли!..– У нас лучше получается, – сказал я, и Таня кивнула. – Слушай, Тань, – продолжал я, – а вот ты говоришь, нет страха. Это не помешает стать врачом?
– Нет, а почему должно помешать? – ответила она. – Нет страха за себя, а сочувствие к другим есть, даже слишком иногда. В детстве, когда мама брала с собой на работу, больше некуда было деть, я так хотела, чтобы все выздоровели! Помогала, как была уверена, носила какие-то чашечки по коридору. Была такая гордая, что работаю, считала себя настоящей медсестрой. Мне даже сделали халат и шапочку нужного размера… И это касается не только жизни, книг и фильмов – не меньше. Вот, например, ты читал «Апофегей»?
– Да, в «Юности». В журнале «Юность».
– Я тоже. Там Надя такая классная, я в неё почти влюбилась. А когда он её ударил, помнишь? Вообще закапала страницу слезами. Придурок.
– А потом жалел, хотел отмотать время назад…
– Фигушки ему. Я бы тоже не простила, хоть бриллиантами осыпь с ног до головы, никогда. А что ты ещё читал?
– «Смену» выписываем. «Сказка о тройке» там была не очень давно, или вот «Отклонение от нормы» этого… ну как его, чёрт побери?.. Джона Уиндема!
– О чём?
– Лучше принесу журналы, чем буду рассказывать, хорошо? Вот прямо в школу послезавтра?
– Ладно, спасибо, – сказала Таня и улыбнулась.
Мы незаметно пришли. Таня жила на Морской улице; в отличие от моего двора на Парковой, похожего на букву П, Танин двор напоминал Г с видом на Яхтенную бухту вместо недостающего дома. Ветер с бухты приносил едва уловимый плеск волн. Дом Тани глядел окнами на дикий пляж, ограждённый молодыми платанами, а слева, на тёмном пирсе яхт-клуба, мигал огонёк – это какой-то любитель ночной рыбалки сам себе подсвечивал фонариком. Я много раз нырял с этого пирса и однажды грохнулся в воду не нарочно, пытаясь поймать швартов шестивесёльного яла…
– Спасибо, что проводил, очень интересно было поговорить, – сказала Таня и, оглянувшись на кусты возле парадной, из которых летело шипение, рявканье и гнусавый вой, добавила: – Когда к нам в гости впервые приехала моя родственница, я показывала ей город. Едем на велосипедах не торопясь, она смотрит и говорит: «Неправильно ваш город называется. Это не Солнечное, это Котоград».
Мы рассмеялись. «Не вас ли я видел на пляже прошлым летом?» – хотел я спросить, но не рискнул и, пожав на прощание Танину руку, ответил:
– До завтра.
8Ночью после нашего разговора я увидел сон, основанный на «Отклонении от нормы». Эту повесть вы легко найдёте в сети, в том самом переводе Феликса Сарнова, поэтому не буду долго отвлекаться на пересказ сюжета. Остатки человечества пытаются выжить после ядерной войны и сохранить внешний облик, беспощадно стерилизуя и изгоняя мутантов, которые рождаются с небывалой частотой, что неудивительно: целые континенты заражены радиацией. Но если третий глаз или лишний палец на ноге скрыть нельзя, то изменения внутренние – например, способность к телепатии, которую обнаруживают в себе молодые герои, – совсем другое дело. До поры до времени они успешно притворяются обыкновенными, но вот однажды… И хватит раскрывать интригу. Моему сну не было дела до лишних пальцев и даже голов. «Привет!» – слышал я в своей единственной голове голос Мексиканца. Он стоял рядом и губ не размыкал, однако я слышал. «Привет, – думал я, – мы что, общаемся мыслями?» «Да», – звучало в голове. Ох ничего ж себе, это круто! А больше никто не может? Вокруг появлялись знакомые, и я видел – по удивлённым взглядам друг на друга, по выражению лиц, – видел, что они тоже могут. Серёга переговаривается с Оксаной Ткаченко, Ира Татрова – с ними обоими и с Олей Виеру. Какими-то сигналами обмениваются одиннадцатиклассники, среди них Таня и Марина, а я больше никого не слышу. «Нет, нет! – говорю себе, – я ведь первый услышал! Сейчас всё наладится!..» Но в голове тишина. Слышат Метц, Чернова, даже кто-то из сироток Мэри, а я будто оглох. Но всё ещё верю, что вот-вот – и услышу. Не слышат только самые тупые вроде Сидельникова, Моториной и почти отличника, зубрилы и оглоеда Колесова, – неужели я вместе с ними?! Уже почти не надеясь, всё-таки делаю вид, что я с теми, кто слышит, подхожу, на меня обращены взгляды, но в голове всё та же тишина, – и я понимаю, что вот-вот буду разоблачён…
В этот миг я проснулся, посмотрел на будильник: двадцать минут до подъёма. Щель под дверью ещё тёмная. Хорошо, что это было не наяву… Перевернул подушку холодной стороной наверх. Кого-то не хватало в моём сне, но я не мог вспомнить, кого именно. Таня была, мы вчера замечательно поговорили, я никогда и ни с кем ещё так не говорил. К чёрту дурацкий сон, буду вспоминать нашу прогулку и разговор. Какой может быть сон, когда она сидела у меня на коленях, её рука лежала на моих плечах! И в Питере будет учиться не во сне. Я обещал принести ей «Смену». Я тоже читал «Апофегей»: он, безусловно, повлиял на моё решение показать тыл всем общественным организациям, и мне ужасно нравилась Надя с её хвостиком, перетянутым аптечной резинкой, манерой прикусывать нижнюю губу, чтобы скрыть улыбку, с её остроумием, гордостью и нежной горячей кожей под свитером… «Это не Солнечное, это Котоград», – говорит Надя и прикусывает губу. «Ах, Котоград!» – восклицает Таня, соскакивает с велосипеда, скидывает босоножки и бежит за ней по пляжу. Легко догоняет, но в последний миг даёт возможность увернуться, ещё раз, и наконец ловит. «Значит, так вы любите нового учителя? – говорит Надя, оборачиваясь. – Как фамилия?..» Чёртов будильник, не дал досмотреть!
Я собирался на работу так же, как обычно – в школу, только вместо учебников и тетрадей сунул в дипломат старые отцовские джинсы, пока великоватые мне, и зелёную рубашку, которую надевал на парковые субботники. Потом отстираю, если сильно извожусь. Кеды я должен был брать в любом случае: в расписании на сегодня у нас стояла физкультура.
Вышел из дома минут на двадцать раньше обычного, обогнул школу и направился к ранчо. По улицам городка шёл, а миновав последний дом – свернул на тропинку и побежал мимо старого матросского клуба, водонапорной башни, мимо огородов и пресноводного озерца, заросшего камышом и рогозом, будто целым лесом микрофонов.
В моём сне не хватало Лены Гончаренко, – вспомнил возле калитки, но думать, куда она делась, не было времени: Миша уже выкатил из гаража умытую, алую, как парус надежды, «Яву».
– Давай скорей, открыто. – Пожав мне руку, он кивнул на дверь с нарисованной корабельной пушкой, изрыгающей огонь и дым.
Я включил в доме свет, быстро переоделся, повесил школьную форму на спинку стула, вышел и забрался в коляску. Вскоре появилась Таня: она тоже бежала, судя по частому дыханию.
– Быстрее давай, – сказал и ей Миша.
– Быстрее некуда, ты же знаешь, – ответила Таня, одним махом взлетев на низенькое крыльцо. Она ушла в дальнюю комнату, а я глядел на эту стреляющую пушку: жаль, что рисовал её не Изурин, у него бы она получилась куда более объёмной, грозной и вздыбленной.
Как и я, Таня вышла из дома в рабочей одежде: белой кепке с якорем, синей, с коротким рукавом, футболке навыпуск, серых просторных брюках и кедах.
– Замёрзнешь в пути, накинь. – Миша протянул ей плотную рыжую кожанку.
– Спасибо.
Таня, застегнувшись, устроилась за его спиной. Мы надели шлемы. Миша вывел мотоцикл за ворота, спешился, закрыл их на ключ, вернулся. Мотор, прежде мягко урчавший, взревел, мы рванулись так, что меня отбросило на спинку, взметнули пыль; ещё минута – и Солнечное осталось позади.
Я чувствовал себя взрослым и самостоятельным. Еду зарабатывать деньги, которые мы потратим на серьёзное дело, а не на ерунду. А там, глядишь, ещё на что-нибудь заработаю. На собственную квартиру в Питере, и будем жить там вдвоём с Таней. Почему бы и нет?..
Некоторое время мы ехали мимо гаражей, затем выскочили на берег и промчались над обрывом. Миша выжал девяносто километров в час, на такой скорости было не до разговоров. Он сосредоточенно глядел на дорогу. Далеко внизу дышало море, окутанное туманом, острый ветер напоминал о том, что лето прошло и новое будет не скоро.
Мы сбавили ход, свернули на просёлок и заковыляли по кочкам, словно экипаж «Антилопы-Гну». Приближаясь к неизвестному, я всё больше тревожился, на миг даже возникла мысль: а не лучше ли сейчас было сидеть в тёплом классе, слушать речи Нины Вячеславовны? Пусть бы даже покричала, выругала нас за что-нибудь, назвала босяками… Но, взглянув на Таню, полную энтузиазма, я прогнал малодушие.
9– Вон Пинчер.
Высадив нас, Миша указал на дядьку совершенно боцманского вида, стоявшего у вагончика – странного вагончика, в сечении пятиугольного, как знак качества, с дверью в торце и прорезанными в бортах иллюминаторами. Виноградник подходил почти вплотную к одному его борту и метров на сорок отступал от другого: бесконечные ряды мохнатых зелёных лиан, местами расцвеченных благородной осенней ржавчиной, от земли до высоты человеческого роста обвивали невидимую проволоку, натянутую между деревянными и бетонными столбами. Вдали они сливались, напоминая брошенное на холмы махровое полотенце, расчерченное квадратами и кое-где окутанное клочьями пара. Оттуда уже доносилось рычание моторов, но движения пока не было видно.
Слева от вагончика многие ряды были убраны, стояли как бы сонные и похудевшие, справа же бесчисленное множество тяжёлых гроздьев глядело на нас, а сколько пряталось в листве, можно было догадаться по объёму. Ровная площадка перед нами была заставлена погрузчиками, тракторами, бензовозами. Ближе к первым столбам высились горы поддонов и деревянных ящиков: глубоких, как прямоугольные ведра, – для винных сортов, и широких, плоских, с торчащими по углам столбиками – для столовых. Работники потихоньку разбирали эти горы, растаскивали на кучи поменьше. Каждый из них, как я понял, знал свою задачу и не нуждался в указаниях бригадира.
Миша уехал, и мы с Таней подошли к Пинчуку. Кроме тельняшки, усов и коричневой физиономии, у него оказалось ещё немалое пузо. На вид он был лет пятидесяти, и я с первого взгляда понял: мужик себе на уме, от такого не жди добродушной улыбки и гостеприимства. Наоборот, прежде чем что-то сказать, десять раз подумай: как бы не нарваться на грубость. И всё равно реакцию не угадаешь. Я никогда не умел строить отношения с такими людьми, да особо и не хотел, со временем научился держаться так, что они сами считают за лучшее меня не трогать.
Но до той поры было далеко, и Пинчук глядел на меня недоверчиво, явно жалея, что уже не мичман, а я не матрос. Я буквально видел, как в его черепушке крутится что-то вроде «упал – отжался», и отожмись я хоть восемьдесят раз, хоть сто – ни в чём бы его не убедил. А может быть, он вовсе обо мне не думал, я просто много воображал.
– Вы не умрёте тут, детский сад? – ворчливо сказал он наконец, вынул из мешка, стоявшего у двери вагончика, пару брезентовых рукавиц и кинул мне: – Лови, это на всё время!
Я поймал: рукавицы оказались чистыми, жёсткими, пахли отчего-то канцелярским клеем. Разорвал связывавшую их нитку и сунул внутрь ладони, подвигал пальцами, сжал кулаки: тесновато будет. Впрочем, разношу, не стану просить, чтобы поменял.
Тане досталась пара вязаных перчаток и чудовищный секатор с лезвиями грозными, как касаточья пасть. Мы расписались в журнале безопасности. На предыдущей странице в наших графах расчёркивались Марина и Олег, ручка едва писала, и Марина в нетерпении прорвала бумагу. Мы с Таней, как могли похоже, скопировали их автографы.
– Иди вон туда. – Пинчук взял Таню за плечо и указал свободной рукой на группу женщин в зелёных халатах и косынках. Женщин было не меньше полусотни. Они стояли возле самой большой горы ящиков и шумно, перебивая друг дружку, разговаривали. Слов я не разбирал, но слышал и молодые звонкие голоса, и надтреснутые, почти старушечьи. И вдруг все грохнули хохотом, словно кто-то рассказал очень забористый анекдот.
Пинчук ухмыльнулся и пробормотал: «Вдуть бы как следует…» Затем вновь стал хмурым и обратился к Тане:
– Рано тебе такое слушать. Спросишь Лидию Сергеевну, она поставит на ряд. Поняла?
– Так точно! – Таня по-военному отдала честь и направилась к женщинам, едва не пританцовывая.
– А ты иди… – начал Пинчер, обернувшись ко мне, но прервался. – Гриша! – окликнул он рабочего в синем комбинезоне и белой кепке козырьком назад, перепачканной зеленью. Тот обернулся: помладше бригадира, с меня ростом, но худой и потому кажется высоким. Тонкое лицо и очки в серебряной оправе на длинном носу.
– Гриша, молодого в пару возьмёшь?
– А почему бы нет? – тенором отозвался рабочий. – Как зовут? Саня? Давай за мной, Саня, будем множить закрома Родины.
– Только не на ноль! – крикнул вслед Пинчук.
Когда мы только приехали, мне казалось, что людей на винограднике много, но в действительности их было страшно, невероятно много, как муравьёв на лесной тропе, и все суетились, на первый взгляд, без плана и мысли, таская в разные стороны угловатые деревяшки. Но, приглядевшись, я увидел в их действиях и мысль, и стройность, и знание своего манёвра, и перестал обращать на них внимание. Работы действительно было невпроворот.
10Напарник, который и мне велел звать его просто Гришей, оказался мужиком правильным: без дела не придирался, не донимал мелочным контролем, а когда увидел, что молодой освоился и почувствовал ритм, стал давать разумную свободу. Я раз за разом собирал полные ящики на поддон, сопровождал его до грузовика, придерживая стопку, чтобы не развалилась на ухабах, открывал борт, запрыгивал в кузов и, смелея с каждой минутой, командовал водителю погрузчика: левее, правее, сдай чуть назад, а теперь хорош, можно опускать! Заполненные машины в бессчётном количестве выезжали на дорогу и сворачивали: одни – в направлении Симферополя, другие – на юг. Туманное утро сменилось солнечным днём, вокруг одуряюще пахло терпким виноградным соком, разогретой землёй и немного дымом из выхлопной трубы.
– По пятнашке выйдет, – мимоходом бросил Гриша, когда время приблизилось к обеду. Пятнашка! Ё-моё, это же целое состояние!
Я не взял из дома ни чаю, ни бутербродов и в короткий обеденный перерыв сидел на перевёрнутом ящике, вытянув ноги. Поясница с непривычки гудела. Я ни о чём не думал, даже о Тане почти забыл и вздрогнул, когда она, подкравшись, щёлкнула меня по макушке.
Таня сияла, наслаждаясь свободой, её лицо выражало нескрываемое блаженство.
– Как дела? – спросил я.
– Фантастика! – с чувством произнесла она. – Столько винограда, и никто не стоит над душой: вымой да косточки выплёвывай…
– Значит, ешь немытый и с косточками?
– Уже не ем, – она приподняла футболку, – объелась, толстая буду.
Из-под футболки выпала веточка. Таня запустила пальцы глубже, вынула желтоватый лист. Я протянул руку, делая вид, что хочу помочь. Таня хлопнула меня по руке, отскочила и зашипела, как кошка. Я взвился на ноги, откуда силы взялись, и припустил за ней по кочковатой земле. Таня, добежав до горы сваленных поддонов, развернулась и приняла боевую стойку. Я с разгона подхватил её на руки и закружился, всё быстрее, быстрее…
– Поставь где взял! Я вся липкая, только лицо умыла!..
Я выпустил её, покачнулся, и мы уселись под куст «кардинала», увешанный тучными гроздьями.
– Вот тебе! – Таня сорвала виноградину и кинула мне за шиворот.
– Ты что делаешь?
Я вскочил, хоть голова ещё кружилась, вытряхнул ягоду, съел, вновь побежал за Таней и не без труда, но догнал. Мы оказались на том же месте, откуда стартовали, и теперь уже вдвоём сели на мой ящик.
Я не мог успокоиться и подтолкнул Таню плечом. Она ответила, но я отклонился назад, и Таня едва не упала мне на колени.
– Так нечестно, – сказала она и повернулась спиной. Мы недолго помолчали.
– Вся в этой трухе, – буркнула она и, дотянувшись, почесала лопатку. И тут я вспомнил.
– Тань, можно тебя кое о чём спросить?
– Попробуй, – ответила она неожиданно серьёзно.
– Это… – я чуть замялся, – как бы сказать… Однажды летом я видел тебя на пляже. В самом конце июля.
– И что? Мы все видели друг друга на пляже.
– Ты была с девушкой такой высокой, лет двадцати. Вы там бегали, валяли дурака…
– Что ты хочешь узнать-то? – спросила Таня каким-то чужим, гудящим голосом.
– Да так, в общем, ничего. Просто кто она такая…
– Хочешь познакомиться? Она далеко и замужем.
– Да нет, не хочу. Просто интересно, ты была такая маленькая…
– С тех пор немного выросла.
– Как ты могла её так, это?.. – я завязал в узелок невидимую нитку. – Вот что хотел спросить.
– Это же Машка была, – сказала Таня обыкновенным тоном. – Волосы примерно досюда, – она коснулась ладонью плеча, – и такие умеренно светлые, да? Значит, Маша. Ничего удивительного.
– А есть кто-то ещё?
– Есть Катя, – терпеливо объяснила она и вновь села со мной плечом к плечу, – они друг дружке родные сёстры, мне двоюродные. Катя младше, ей сейчас двадцать два, Маше тридцать; младше, ростом ещё повыше и совсем блондинка. Это она сказала про Котоград… Иду, иду! – крикнула Таня женщине, призывно махнувшей рукой с неубранного края, подобрала с земли секатор и поднялась. – Всё, Сань, я дальше трудиться. До вечера.
11Я тоже встал, потянулся и сделал шаг навстречу работе, но притормозил. К вагончику бригадира подрулил дребезжащий «ПАЗик», остановился, приоткрыл двери; их, кажется, заело, но с десяток рук вцепился в них изнутри и раздёрнул мощным рывком. Из автобуса высыпалась орава визжащих, поющих, жующих и пляшущих человеков. Гости шумной толпой сгрудились поодаль от совхозных работяг. В толпе не прекращалось движение: кто-то кого-то щипал, толкал, наступал на ногу, кто-то хихикал и вскрикивал, у кого-то была гитара, и он уже бренчал, плюнув на то, что инструмент расстроен.
На поверхность толпы вынесло странную девицу – с тёмно-бордовыми волосами, выбритыми на висках, и обведёнными густой чёрной каймой глазами. Одета девушка была в чёрную рубаху, завязанную узлом, и фиолетовые, будто резиновые, шорты. Старше меня на несколько лет, выше среднего роста, движения неторопливы, но во всём облике скрытая угроза, вызов. Немудрено – с такой-то причёской!
У неё было выразительное лицо с крупными чертами: оно казалось почти красивым, только надбровные дуги выступали немного сильнее обычного и лоб выглядел излишне покатым. Но это не портило девушку, лишь придавало ей особенную, какую-то диковатую чувственность.
Она встретила мой взгляд, и я понял, что глазею слишком долго и неприлично. Но и отвернуться не мог – это было бы всё равно что Остапу удрать от Эллочки без стула и с поджатым хвостом. Я принял вызов и уставился на её переносицу. Должно быть, выглядел ужасно глупо: она фыркнула, что-то сказала кудрявой соседке, и та засмеялась.
Я отвернулся и пошёл к оставленному ряду: расслабляться некогда, солнце высоко. Но, сделав пару шагов, услышал за спиной хрипловатое контральто:
– Молодой человек, я вам не понравилась?
И всё-таки пришлось обернуться.
– Что вы, я очарован.
– Тогда почему вы уходите? Мы могли бы приятно побеседовать.
– Работать пора.
– Вы курите? – спросила девушка.
– Нет.
– Курить – здоровью вредить, верно? Я тоже не курю.
Я промолчал.
– Вам, наверное, интересно, почему я спросила, если сама не курю? А просто так, чтобы поддержать разговор. Мы же современные люди? И должны вести приятный разговор. Теперь ваша очередь. Скажите что-нибудь.
Я не мог предугадать, что она выкинет в следующий миг и как себя вести, чтобы не угодить под горный обвал. А девица была на него способна, это я сразу почувствовал. Пинчук в юбке. Точнее – без юбки…
– Меня зовут Саша, – нашёл я самую безобидную, как думал, фразу. – А вас?
– Наташа её зовут, – вступила в разговор подруга, – а меня Валя. Не обращайте внимания, она загадочная у нас. Вот вы человек опытный, скажите, кто работает на винограде в шортах? Здесь всё время надо вставать на колено, то на одно, то на другое.
– Сама стой на коленях! – с откровенной злостью сказала Наташа. – Хоть ползай на здоровье.
– А ты звучишь гордо, – кротко добавила Валя.
– Счастливой работы, – пожелал я и отправился к напарнику. За работой пролетело часа два, а потом Таня вновь оказалась рядом и пояснила:
– Это студенты Приборки.12 Будут ездить сюда две недели.
– Понятно. Сегодня первый день?
– Да. А ты уже с одной познакомился?
– Даже с двумя. Скорее, они познакомились, чем я.
– Эта крашенная марганцовкой, в шортиках?
Я кивнул, поставил на поддон ящик с круглым фиолетовым «кардиналом» и, направляясь к следующему, сказал:
– Странная какая-то. Показалось, хочет меня застебать, как всех мочалок. Или со мной что-то не так?
– Да нет же, всё так с тобой! – зашептала Таня. – Она просто не в настроении, она протестует.
– Против работы? – спросил я, наклоняясь к новому ящику.
– Да. Ну представь, это мы добровольцы, а их, студентов, отправили принудительно. Она не хочет. И не работает, сидит и посылает всех, кто что-то скажет. Я её понимаю, на самом деле.
– А не отчислят за это?
Таня пожала плечами:
– Могут, наверное. Ей говорят подруги: ты хотя бы сделай вид, чёрт с ним, не работай, притворись. Не хочет, гордая птица. Ты сколько ящиков сделал?
– Больше тысячи. Напарник записывает точно. – Я всё-таки не мог заставить себя называть его вслух по имени. – А ты?
– До Маринки осталось двенадцать, догоним и перегоним, – с улыбкой ответила Таня. – Слушай, а давай как-нибудь поменяемся. Хочу попробовать…
– Стой! – шёпотом воскликнул я, пытаясь отобрать у неё ящик. – Тань, не надо. Тяжёлый…
Водитель погрузчика, глядя на нас, коротко просигналил и погрозил из кабины пальцем.
– Да брось, какой тяжёлый! – сказала Таня. – Ладно, уговорил, дарю. Исчезаю.
Очень скоро виноградные дороги завели меня в тот край, где трудились студенты. Наш погрузчик уехал заправляться, и Гриша, пользуясь случаем, ушёл к бригадиру покурить, поболтать. Я знал, что плохого обо мне он не скажет, и спокойно отыскал безлюдный уголок с особенно густыми листьями. Возвращаясь к месту встречи, сделал крюк и вновь увидел бунтующую Наташу: она сидела на ящике, опустив голову, и, стоя рядом на колене, что-то тихо говорил и обнимал её за плечи долговязый парень из студенческой компании. В голове сама собой прозвучала строка из какой-то прочитанной или будущей книги: «Этот день закончится для неё хорошо». Голосом Зиновия Гердта, читающего закадровый текст в «Двенадцати стульях».
Для неё – хорошо. А вот как для нас?..
12За нами не приехали. Рабочее время истекло, а Миши всё не было. Студенты погрузились в автобус и укатили, разбрелись по гаражам трактора; мы же с Таней, покинутые всеми, не знали, как теперь быть.
– Надо идти, – сказал я наконец. – Ты не сильно устала?
– Есть немного, но что поделаешь? Пойдём, будем голосовать по пути. Может, кто подберёт.
– Или Мишку встретим.
– А я надеялась, даст порулить на обратном пути…
Я вынул из тайника спрятанный в обед ящик муската, накрытый от пыли газетами, повертел в руках, прикидывая, как лучше взять.
– Ты что, понесёшь его? – удивилась Таня.
– Не пропадать же добру. Он лёгкий.
В конце концов я поставил ящик на плечо и нашёл это положение самым удобным. И мы двинулись.
– Меня студенты спрашивали, что я тут делаю, такая маленькая, и почему не в школе, – сказала Таня, подстроившись под мой шаг. Она тоже не бросила синее ведёрко с «кардиналом». – Я рассказала про барабаны. Ничего, как думаешь?
– Ничего, конечно. Это же не военная тайна.
– Серьёзно ничего, или просто не хочешь расстраивать?
– Серьёзно пустяк.
– А один приглашал в гости.
– Поедешь? – спросил я, чувствуя, как на ходу тяжелеет и становится громоздким виноградный ящик. Если услышу «да» – он, наверное, займёт место головы, а её вытеснит на плечо…
Таня покачала головой:
– Нет, конечно, я ведь ещё маленькая. Но всё равно… Приятно сознавать, что пользуешься успехом.
Нам повезло: минут через десять удалось тормознуть пустую «Колхиду» и шофёр согласился подбросить нас до берега, даже с грузом, при условии что он не течёт. От берега уже рукой подать. Водиле мы тоже рассказали нашу музыкальную историю, и я подумал, что если дальше так пойдёт, скоро её узнает весь полуостров.
– Ну всё, ребята, счастливого пути, – пожелал водитель, высадив нас на повороте. – Удачи и хорошей музыки.
– Спасибо, и вам лёгких дорог!
Мы, не сговариваясь, перешли шоссе и остановились над обрывом. Внизу катились волны, белые гребни вспыхивали то здесь, то там на бирюзовой глади залива и летели на каменистый берег. За спиной шумел, сбегая уступами с неба, густой тёмный лес. До сих пор эта картина первой встаёт перед глазами, как только вспомню Крым: вечернее солнце, слева на горизонте – горы в туманной пелене, серпантин, ветер, смешанный гул леса и моря и смешанный запах, от которого кружится голова. И Таня.
– Больше не будем ловить, дойдём пешком? – спросил я.
– Дойдём. Но, знаешь, я бы ещё искупалась. Последняя возможность, скоро похолодает, заштормит, медузы наплывут…
– Да мне вроде не в чем, плавок не взял.
– Я тоже не взяла. Не знаю, как некоторые, а я могу и в натуральном виде.
– Тогда и я могу, – сказал я, помедлив секунду для приличия, – идём.
Мы спрятали груз в придорожном терновнике и сошли вниз по хорошо знакомой обоим ступенчатой тропе. Я двигался впереди, Таня – следом, придерживаясь за мою руку. Спрыгнув с нижней ступеньки на галечный пляж, Таня разулась, расстегнула пояс брюк, и они сами упали ей под ноги. Отвернувшись, она стянула футболку и осталась в одних тёмно-синих трусиках. Я с приятным удивлением заметил, что её фигура больше не выглядит угловатой, какой она до сих пор жила в моей памяти. Вместо подростка на тёплых, отполированных морем камнях стояла необыкновенно изящная, гармонично сложённая девушка с длинными ногами, гибкой сильной спиной, крепкими плечами и целым водопадом блестящих тёмно-русых волос. А если она поставит ноги вплотную, икры и колени встретятся одновременно…
– Хватит разглядывать мои рёбра, – сказала Таня, нетерпеливо притопнув. – Бегом за скалу!
13За скалой, делящей пляж на две половины, я мигом разделся, попробовал ногой воду, быстро зашёл по пояс, глубоко продышался и, рыбкой нырнув, поплыл. Из всех, кого я знал, только мой отец мог проплыть под водой на одном дыхании больше меня. Я приближался к его рекордам, но не чувствовал своих пределов. Бывает, стелюсь над самым дном, поочерёдно разводя руками и толкаясь ногами, вижу, как солнце просвечивает зеленоватые, пыльные водные пласты, как стоят в колеблющихся зарослях шахматные морские коньки, прячутся под камень серенькие крабы. Огромной, в половину баскетбольного мяча, медузе, украшенной фиолетовой бахромой, сам уступлю дорогу. Плыву – и ощущаю небывалую лёгкость, и воздуха в груди столько, что хватит до Босфора, и это очень странно. Вспоминается прочитанная когда-то история о том, что замерзающему человеку не холодно, он просто засыпает… И рождается лёгкая паника: вдруг и мне только кажется, что воздуха достаточно, а на самом деле уже тону?! И вылетаю на поверхность, понимая, что хватило бы запаса ещё гребков на десять, но лучше не играть с судьбой.
Так произошло и сейчас. Я вынырнул и увидел Таню, отплывшую от берега почти так же далеко, но поверху.
– Ты где был? – спросила она, поднимаясь вместе с волной.
– Там, – указал я взглядом, – не бойся, я тебя не видел.
– Да, господи, причём здесь видел или не видел! Не геройствуй больше так, я за тебя отвечаю!
Глубина была метра три, и сквозь толщу воды я угадывал, как Таня двигает руками и ногами, словно танцуя твист. Кажется, больше усилий она прикладывала не для того чтобы удержаться на воде, а для того чтобы не выскочить из неё по пояс.
– Почему отвечаешь?
– Во-первых, это я придумала купаться. Во-вторых, я старше, весной уже паспорт получила.13
Это было убедительно. Я умерил пыл и больше не позволял себе смертельных трюков. Мы плавали на расстоянии друг от друга, кувыркались в волнах, однажды Таня нырнула, но ненадолго, и сразу после этого сказала, что замёрзла, пора выходить:
– Иди первый, я за тобой.
И, когда я вырос над водой чуть выше пояса, коснулась моего плеча:
– Санька, ты не обиделся на меня?
– За что?
– Ну, я сказала, что старше. Это, может, как-то… высокомерно.
– Тань, разве на правду обижаются?
– Я серьёзно.
– Я тоже. Вот честное слово, мне в голову не приходило, что здесь можно на что-то обидеться. Если хочешь, я попробую, конечно…
– Не надо! – воскликнула она и обдала меня брызгами. Я, забыв о её натуральном виде, развернулся: Таня стояла, закрывшись крест-накрест, смуглые руки и плечи были покрыты мурашками. Я тоже брызнул на неё – раз, другой, поднял настоящее цунами – она не взвизгнула, не отшатнулась и даже не моргнула ни разу.
– Так нечестно, – сказала она, наконец, – отвернись и зайди глубже.
Когда я исполнил просьбу, мгновенно вскарабкалась мне на плечи, постояла наверху, ловя равновесие…
– Закрой глаза. Раз… Два!.. Три!
И одновременно с последним словом сильно оттолкнулась. Я услышал тихий всплеск и открыл глаза в то самое мгновение, когда её ноги с оттянутыми носочками слишком быстро и отвесно уходили под воду. Внутри у меня что-то вскрикнуло, я ринулся было на помощь, но в этот миг Танино лицо показалось над волнами.
– Я же говорила вчера, – задумчиво произнесла она, – без башни и без тормозов. Кто-то со мной наплачется.
14Пока мы идём последние километры, расскажу немного о нашем городке. Я изменил название, так что не ищите его на картах: найдёте несколько Солнечных, но ни одно из них не будет похоже на место, где мы жили. Да и под настоящим именем его нет на картах советских времён.
В городке нашем базировалось крупное флотское соединение. Думаю, что, раскрыв эту тайну, я уже не причиню вреда ничьей безопасности. Располагался наш город в южной части побережья Каламитского залива, между Евпаторией и Севастополем, ближе к последнему. Прежде на месте Солнечного была татарская деревня Альма, о ней теперь напоминала речка с таким же названием, текущая невдалеке. На картах наша земля сплошь покрыта фруктовыми садами, и сады на самом деле были прекрасные, но чуть поодаль; у нас же – парк и лесополосы, высаженные с целью маскировки.
Городок был очень молод; девять тысяч жителей, пять улиц, в основном пятиэтажные дома, возведённые по особому проекту. Я очень мало где видел такие пятиэтажки – с просторными квартирами почти без проходных комнат, с широченными лоджиями, где при желании можно было хоть на самокате гонять, с большими окнами, высокими потолками. Море зелени, прекрасное детское кафе, внутри отделанное под каюты старинного парусника, старый и строящийся новый Дома офицеров, яхт-клуб… Мне было с чем сравнить, я знал, куда уеду после школы, – и то не скучал в Солнечном, а для тех, кого не ждали другие миры, лучшего места и придумать было невозможно.
Улица капитана третьего ранга Василькова, идущая чуть под уклон к заливу, разделяла Солнечное на два крыла. Правое заполнило всё пространство до извилистой Яхтенной бухты, глубоко врезающейся в берег, левое в наши дни ещё росло: два строительных батальона сдавали по новому дому каждую пару месяцев. Новостройки звали «Выселками», на севастопольский манер.
Если бы кто-то посторонний случайно забрёл в наши края – допустим, это возможно, – Солнечное могло показаться ему мирным посёлком, занятым, к примеру, ловлей рыбы. Или выращиванием кипарисов, разведением котов, или просто размеренной, чуть ленивой приморской жизнью. Но мы, хозяева и старожилы, знали множество тайн.
Мы видели, как несколько раз в год на учениях в бухту заходят огромные корабли, распахивают трюмы и выпускают прямо в воду десантные батальоны. Мы видели, как открываются потайные двери в скалах, оттуда с оглушительным рёвом вылетают катера на воздушной подушке и проносятся вдоль берега, поднимая океанские волны. Из-под земли, как по волшебству, вырастают антенны и локаторы; откуда ни возьмись, налетают эскадрильи самолётов, расчерчивая небо дымными полосами. Отовсюду слышна пальба, по взгорьям и долинам без устали носятся гераклы и аполлоны, давиды и голиафы, наполеоны и багратионы из морской пехоты. Какими глазами смотрели на них девчонки, как мы мечтали оказаться на их месте! На самом деле всё это было, не приснилось… Да.
Потом всё грозное, воинственное прячется, и Солнечное опять выглядит тихим пляжным городком. Только вот курортников здесь почему-то нет. Режим больно строгий. Вы спросите, как при этом строгом режиме нам удавалось беспрепятственно въезжать и выезжать куда угодно да ещё мотаться по виноградникам? Очень просто: на КПП14 дежурили одни и те же матросы, мы знали их наперечёт. Захотел кто-нибудь домашних пирожков или болгарских сигарет вместо «Беломора» – пожалуйста, всегда рады помочь. Да и партизанских троп мы знали не меньше десятка.
15Мы с Таней проскочили в город по одной из таких тропинок, что вела, минуя жилые кварталы, прямо к гаражам и садовым участкам, полукольцом охватившим старую часть. На ранчо нас встретили что-то мастерившие во дворе Олег и Миша с Андреем.
– Так, явились, – сказал Миша, глядя очень подозрительно. – А почему такие чистенькие? Вы вообще работали?
– А ты типа приезжал и нас не застал, да? – сказал я.
– Да! Я там ездил по всему винограднику. И сигналил, и кричал: ау! И спрашивал всех подряд: вы не видели двоих этих самых? И никто не видел, никто ничего не знает.
Из домика выскочил Серёга Изурин, следом вышли Марина с Олей Елагиной, Наташа, Света и Вадим.
– Тогда вот это откуда? – спросила Таня, указав на ведёрко и ящик.
– Штирлиц, – развёл руками Миша, – всегда отвертится.
Олег объяснил:
– Поломались немного, вы уж извините. Починили вот только что.
– Но мы были уверены, что вы дойдёте, – сказала Марина. Она подошла к Тане и, о чём-то тихо заговорив, отправилась вместе с ней на колонку.
– Сашуля, ты иди пока в дом, а мы немного посплетничаем, – сказала Таня, обернувшись.
– Ого, уже Сашуля? – удивилась Наташа.
– Совместный отдых сближает, – ответил я, – рекомендую.
Целый день питаясь одним виноградом, я ничего другого и не хотел, но, когда хозяйственная Оля поставила на стол тарелку с варёной картошкой в мундирах и налила горячего чаю, понял, как соскучился по чему-то более капитальному. Мексиканец принёс мне записи с сегодняшних уроков, сделанные под копирку, Олег спросил, не с Гришей ли я работал в паре, и рассказал, что Гриша, между прочим, – кандидат наук, доцент Приборостроительного. Всё равно учёбы осенью нет, студентов разгоняют по садам и огородам, вот и он нанимается на уборку последние лет десять.
– А если вдруг мы туда поступим? – спросил я. – Как тогда его называть?
– Объяснит, не волнуйся.
– «Из всех командиров, которых мне довелось увидеть на фронте, настоящими были только те, кто ощущал свою власть как бремя ответственности, а не как право распоряжаться», – на память и довольно-таки к месту произнёс Изурин.
– Студенты сегодня были, – сообщил я и, кажется, стал потихоньку засыпать. Комната задрожала, искривилась, стены оказались составлены из виноградных поддонов; постепенно они растаяли, передо мной замерцали огни железной дороги, поезда на большой узловой станции побежали сквозь туман в разные стороны, как ящерицы… Обычный мой сон в то время. Очнулся, когда вернулись Таня с Мариной, и, по заказу Светы Шульц, спел «Как фотография цветка, как яркий свет для мотылька». Гитара была знакомая – та самая, на которой когда-то играл Игорь Маринченко. Сегодня Марина приносила её на ранчо.
16– Такой день, будто в книге побывали, – сказала Таня по пути домой. – Правда?
– Интересно, в какой?
– Паустовский, «Романтики».
– Даже не знаю такой, – сказал я. – «Мещёрская сторона», «Кот Ворюга», «Резиновая лодка» – читал, это нет.
– Это ранняя. Первый роман, который он напечатал. У нас его семь томов, «Романтики» там в самом начале. Юг, странствия, такое впечатление огромной свежести. Потом Москва, снова юг, наши места. Потом война, Первая мировая. Но мы были в первой главе. Я тебе принесу, если хочешь, завтра.
– Давай, спасибо.
– Чем-то похоже на Грина, вот, я поняла.
– Грина очень люблю. У нас есть двухтомник, я почти весь прочитал.
– «Алые паруса»?
– Самое первое, лет в восемь. Помню, страшно удивился, когда Грэй сказал: «миллиардер подарит писцу виллу, опереточную певицу и сейф…» Как можно подарить певицу? Она ведь человек. Как можно подарить человека?..
Таня рассмеялась:
– Да, детское непосредственное восприятие…
– И меня поразило, как маленький Грэй замазывал краской гвозди на распятии. Думаю, что за картина, где из рук торчат гвозди и течёт кровь? У нас такой нет, я и не видел такой никогда… А когда был постарше, не мог понять Лонгрена, Ассолиного папашу. У него жена нищенствует одна во всей деревне. Все нормально живут, она побирается по соседям. Может, думаю, он больше денег заначивал, чем оставлял на хозяйство? Или моряк – такая невыгодная профессия?..
– После революции писал её? – спросила Таня. – Может быть, сработал стереотип: бедный – значит, хороший?
– Может быть. Но ведь Грэй богатенький и всё равно хороший?..
– Хоть и дарит опереточных певиц, – закончила Таня. – Наверное, дело в том, что он потомственно богатый, ему не приходилось трястись над каждой копейкой.
– Но больше всего меня потряс в этом двухтомнике «Возвращённый ад», – сказал я. – Я даже перестал на время читать Грина. Надо как-то успокоиться, если удастся.
– А что в нём такого?
– Я тебе завтра принесу. И «Смену», я помню.
– Спасибо, Саня. Ну всё, мы пришли. До завтра.
И быстро коснулась губами моей щеки.
17На кухне у нас две гостьи с пятого этажа, Светлана с дочкой Машей, пили вместе с мамой чай, закусывая домашним «наполеоном». Это была удача для меня: некогда разглядывать. Переодевшись и наскоро умывшись, я зашёл поздороваться, и мама спросила, откуда такой загар, но осталась вполне удовлетворена ответом о физкультуре на свежем воздухе.
– А как уроки? – спросила она.
– На ранчо сделал, – ответил я, – долго, что ли?
– Опять пропадал с дружками, – объяснила она соседке. – Ты завтра, пожалуйста, не исчезай так надолго, а то мусор не вынесен, хлеба нет.
Я кивнул: не исчезну.
– А мы вам больше не будем мешать разговорами, – сказала своим красивым грудным голосом Света, сидевшая за столом в умопомрачительной белой кофточке с кружевным воротником, против солнца несомненно прозрачной, и цыганистой юбке.
– Да вы и не мешаете совсем, – ответил я без тени смущения, хотя ещё несколько дней назад от такой дерзости покраснел бы весь, даже не высказав её вслух, а только подумав.
– Всё равно, обмываем наш телефон. Наконец-то поставили, а то был один смех, телефонист без телефона.
– А теперь? – спросил я.
– Теперь старший телефонист! – сообщила Маша.
Я подсел к столу, ещё раз поужинал, выпил чаю с тортом, потом взрослые стали обсуждать вязание кружев, а Машу, чтобы не скучала, доверили мне. В моей комнате бойкая первоклассница тут же пустилась рассказывать о Ваське, которому она нравится, а он ей нет, потому что в детстве, то есть в садике, подстраивал пакости и ябедничал. Я показал ей фотографии нашей компании, сделанные Таней, – Маша, разглядывая их, всё равно болтала о Ваське, затем перескочила на Артёма, который тоже чем-то отличился. Я поинтересовался, что они сейчас проходят, что читают, – Маша махнула рукой, мол, ерунду какую-то спрашиваешь, и продолжала об Артёме, да так темпераментно, с жестами, с драматической мимикой. В другой раз я бы улыбнулся, но сейчас уж больно хотелось спать, а ведь надо ещё вымыться как следует и постирать зелёную рубашку…
Услышав из комнаты родителей звонок телефона, я вышел и поднял трубку:
– Да, слушаю.
– Здравствуйте. Позовите, пожалуйста, Сашу, – прозвучал знакомый голос.
– Тань, это я. Не узнала?
– Были подозрения, но решила на всякий случай спросить. Ты ещё не спишь?
– Не сплю, а батя только через неделю вернётся из морей. Сейчас затащу телефон к себе, минутку.
И, принеся телефон на длинном шнуре в свою комнату, закрыл дверь, поставил аппарат на диван, сел рядом на пол и сказал:
– Готово.
– Слушай, я, оказывается, так вымоталась! – произнесла Таня вполне бодро. – Когда шла, было нормально, а сейчас закрою глаза, перед ними виноград, виноград, чёрный, зелёный… До самого горизонта.
– У меня то же самое, – ответил я.
– Хорошо, мне оставили мороженое, съела стаканчик и ожила. Я хотела рассказать одно место из книги, но не была уверена, что точно помню. Сейчас прочитаю, ладно?
– Давай.
– Слушай. «Я сказал, что меня с давних пор тревожит мысль о гибели европейской культуры. Прекратится творчество. Не о чем будет писать, никто не сможет сказать новое и весомое слово. Погаснут фонари, опустеют дороги, стёкла в домах будут лопаться от стужи, и только страх за свою, теперь уже никчемную, жизнь будет владеть лучшими умами…» И вот ещё: «Умирают не только люди, но и народы и всё человечество. Это – биологический закон. Человечество может дряхлеть, терять молодость, впадать в младенчество, у него перестанет свёртываться кровь. Я не могу себе сейчас представить те чудовищные формы, в которые выльется это умирание, но мне кажется, что скоро человечество свихнётся. Легенды о кончине мира родились именно тогда, когда гибли великие культуры Эллады, Рима, чудесные статуи и медно звенящие стихи». Как тебе это кажется? Согласен?
– Не знаю… – Что-то смутно беспокоило меня в этих словах, что-то было не так. – А кто это говорит?
– Герой, от имени которого идёт повествование. От первого лица.
– Как-то очень гладко и плавно, – выразил я, наконец, своё ощущение. – Если бы это его действительно тревожило, он бы, наверное, не думал, как покрасивее сказать?
– Может, ты и прав, – ответила Таня. – Ладно, завтра принесу книгу, сам прочитаешь. Спокойной ночи, Санька.
– И тебе спокойной.
Дождавшись коротких гудков, я положил трубку.
– С кем ты говорил? – тут же спросила Маша.
– С девочкой, вот с этой, – показал я Таню на единственной фотографии, где она была, в любимой клетчатой рубашке с коротким рукавом и сдвинутой на затылок ковбойской соломенной шляпе. А снимал её, как ни удивительно, я и до сих пор отчётливо помнил своё волнение: вдруг не получится, засветится или выйдет мутно и темно?..
Глава четвёртая. ТРЕЩИНА
1Пришло письмо от Оксаны Ткаченко. Я перечитывал его на литературе одним глазом, а другим косился в окно, где по дорожке вокруг футбольного поля бегали одиннадцатиклассники. Парни – три километра, девочки – два. На следующем уроке то же самое предстояло нам, я настраивался и очень хотел верить, что испытание будет таким же лёгким, как видится с третьего этажа сквозь двойные стёкла: ни хриплого дыхания, ни пота, ни иголок в боку, только вечное движение под действием неведомых сил.
В письмо была вложена цветная фотография: Оксана вместе с девочкой наших лет, тёмненькой, с чуть раскосыми северными глазами; обе в ярких свитерах под расстёгнутыми курточками, обе улыбаются на фоне Собора Покрова. Я помнил, как Оксана читала стихотворение Дмитрия Кедрина:
И тогда государь Повелел ослепить этих зодчих, Чтоб в земле его Церковь Стояла одна такова…Читала в мае на концерте самодеятельности, – я слушал, смотрел и думал, что другой такой девчонки нет на всей Земле…
На обороте фотографии была карандашная строка:
Саше с приветом от А. и О.!
Чуть ниже – две подписи и дата.
Одиннадцатый класс бежал. Вперёд со старта вышел Куба – длинноногий, длиннорукий, в спортивном костюме, как и в любой школьной одежде, казавшийся разболтанным и почти хилым. Насколько это впечатление ошибочно, можно было понять, когда он стоял напротив, даже не утруждаясь боксёрскими ритуалами, опустив руки; по едва заметному смещению центра тяжести, по изменившемуся взгляду я угадывал начало атаки, уклонялся и в следующий миг осознавал, что кулак прилетел и замер в сантиметрах от подбородка совсем не с той стороны, откуда я ждал.
Привет, Саша! – начиналось письмо Оксаны. – Наконец-то пишу, как обещала, а то уже было неловко столько времени молчать. Но я привыкала, это непросто. Я и раньше бывала в Москве и знала, что она огромная, но насколько огромная, доходит только сейчас. В школе, где учусь, четыре десятых класса и три одиннадцатых, представляешь! И таких школ в районе много. Я в 10-м А. Класс сильный. Я опасалась, что буду отставать, но нет, держусь на уровне. Только по английскому немного слабее, потому что наша Н. В. (Валентиновна) всё время больна. Тут есть компьютеры…
Метрах в пяти за Володей держались трое. Обманчиво хрупкая Таня едва касалась земли. Миша, весь плотный и основательный, выглядел не очень-то приспособленным для бега, однако не отставал, заметно чаще других перебирая ногами. Сверху было полное впечатление, что он катится под уклон. Широкоплечий и худощавый Олег бежал серьёзно, будто контрольную решал. Серьёзность эта была заметна даже со спины.
Я очень подружилась с Алисой, вместе гуляем по городу, она замечательная, очень весёлая, – продолжала Оксана. – Я пригласила её в гости на лето. А вообще тут все спокойные. У нас один раз пройдёшь по коридору – увидишь четыре драки. А здесь чуть ли не парами ходят под руку. Характер стойкий, нордический. Алиса предупреждала, в школе есть хулиганы. Я думала, разберёмся как-нибудь. А пришла: где хулиганы, какие?! Я даже искала их, заглядывала под лестницы, интересно было посмотреть. Может, она считает хулиганством, если кто-то кому-то поклонился не до земли?..
Пятым бежал Вадим Карапетов, за ним – Марина Маринченко и близняшки Вика с Алёной. Остальные растянулись по дорожке, и лидеры постепенно съедали отстающих. В то мгновение, когда Таня, Миша и Олег обгоняли на круг Свету Шульц, она захромала и, сойдя с дистанции, скрылась от взгляда за кустами сирени, где стояли скамейки. Туда же заскочил и Вадим, но почти сразу выбежал и понёсся дальше.
Наш класс, как я поняла, не очень дружный, – читал я письмо. – В основном все учатся и ходят сами по себе. Есть довольно симпатичные ребята. Как там ваши дела? Лена ещё болеет, я знаю. Ты молодец, что помогаешь ей, передаёшь задания. Она очень рада, хоть и не говорит тебе, стесняется (это я по секрету, не выдавай). Напиши, как живут остальные. Жду ответа, пока! Телефон, на всякий случай (мне разрешили сказать): ***-**-**.
Вадим, поднажав, догнал Мишу с Олегом, а Таня оторвалась от них и в несколько прыжков поравнялась с Кубой. Так, нога в ногу, они закончили круг, и Таня, победно вскинув руки, остановилась. Парни уходили на третий километр, девочки одна за другой набегали на финиш и собирались возле скамеек, частично выходя из поля зрения. Но Таня не выходила – стояла ко мне лицом, с довольной улыбкой, будто и не было позади этих восьми кругов.
2Звонить в Москву с переговорного пункта стоило времени и, главное, денег. Но был некоторый шанс дозвониться из дома по военным каналам связи. Мы иногда соединялись таким образом с ленинградскими бабушкой и дедушкой; главное условие здесь – не наглеть.
– Можно попробовать, – сказала на мой вопрос Светлана, – позвони мне на работу в четыре часа. Я «ласточка», свяжусь с «беркутом», попрошу набрать городской. Если получится, минут десять у вас будет.
– Спасибо! С меня пять кило винограда.
– Да брось, Саша. Сколько раз я от вас говорила, и вообще.
И вот теперь я сидел на деревянном полу возле телефона, стоящего на диване, и, прижимая к уху трубку, ждал. Трубка соединяла меня с большим осенним лесом. Почему-то я представлял именно северный российский лес, где гостил последний раз ещё младшим школьником, этакий шишкинский бор – просторный, светлый, с грибным ароматом. Невидимые руки тянулись друг другу навстречу, искали друг друга, ворошили опавшие иголки, хватались за тонкие веточки, и те с сухим треском подламывались. Я ждал – и почувствовал мгновение, когда руки крепко и надёжно сомкнулись.
– Алло! – сказал в трубке девичий голос.
«Алло, алло, алло…» – прозвучало медленно затихающее эхо.
– Здравствуйте, – ответил я.
«Асти, асти, асти…» – это я, что ли, так рычу?!
– …слышу! – вклинился в моё эхо девичий голос и пробудил собственное эхо, слившееся с остатками моего в причудливый дуэт. Потом раздался щелчок и всё стихло, и в тишине растаял воображаемый лес. «Разъединили?» – подумал я, но на всякий случай произнёс:
– Здравствуйте. Позовите, пожалуйста, Оксану.
– Сейчас! – ответила Алиса – я сразу понял, что это она, – ответила так чисто и близко, будто не было ни трубки, ни полутора тысяч километров между нами. Оксану она подозвала, вероятно, жестом, состроив очень хитрую гримасу, потому что первые слова Оксаны звучали пополам со смехом:
– Я слушаю.
– Оксана, привет, это Саша.
– Здравствуй! – ответила она, – ты откуда звонишь? – и вновь тихо прыснула.
– Из дома, через «ласточку». У нас десять минут.
– Тогда рассказывай скорее, как дела.
Я стал рассказывать, что Наталья Валентиновна снова на больничном, я в её отсутствие читаю «Morning Star» со словарём, но всё равно чёрт ногу сломит в этих tenses, их придумали враги человечества; что днём погода почти летняя, но по утрам всё холоднее; что мы с одиннадцатиклассниками решили создать ансамбль, только барабанов не было, и, чтобы купить их, мы тремя парами по очереди ездим убирать виноград…
– Это интересно, – заметила Оксана.
– Ещё как. Две недели отработали, а установку-то купили без нас, сегодня привезли. И мы ведь догадывались, что так и будет.
– Зачем тогда работали?
– Потому что интересно, – объяснил я. – А со следующей недели вся школа, кроме мелких, будет ездить на виноград, так что мы допашем свой месяц. Будем приезжать на автобусе вместе со всеми, там незаметно отделяться…
– Ясно. А с кем ты в паре?
– С Таней.
– Подожди… С Танюхой? Из одиннадцатого?
– С ней.
– А ты случайно не влип? – с подозрением спросила Оксана. – Ну-ка, Санёк, признавайся…
– Наверное, да, – не стал отпираться я. – А почему ты спрашиваешь?
Оксана рассмеялась в голос:
– Поздравляю! Что в тебе люблю, так это честность. Просто я её немного знаю, был один случай познакомиться, тебя тоже… Вот и подумала, представила вас рядом. Значит, у Ленки нет шансов… Ладно, никому не скажу, не бойся. Время заканчивается, Саня, пиши-звони. До встречи!
3Я рассказывал Тане, что в не столь далёком детстве, всего-то несколько лет назад, всем приключенческим книгам на свете предпочитал томики из серии «Пламенные революционеры». Небольшие, почти карманного формата, очень качественные и приятные на вид, они и внутри были полны очарования. Сами фамилии героев – Кржижановский, Лепешинский, Эссен и другие столь же звучные – говорили об их незаурядности, и, если в это общество попадал какой-нибудь Мартов, таинственный отблеск озарял его, превращая отчасти в Цедербаума. Знаю, знаю, что на самом деле наоборот. Но ведь так – интереснее, правда?
Таня была согласна. Она тоже читала некоторые из этих книг, например «Любовь к электричеству», которой не было у нас. Но я не просил дать её мне, а Таня не стремилась познакомиться с моими. Их время прошло, мы понимали это без ностальгии, вполне разделяя убеждение, что лучше бы для людей и для самих себя господин Ульянов состоялся как адвокат, а Джугашвили молился и писал стихи. Убеждение это ещё не стало официальным, шестая статья Конституции трещала под натиском сверху и снизу, но пока не сдавалась; секретари горкомов и райкомов, подобные Чистякову из «Апофегея», делали вид, что управляют жизнью, а кто-то, возможно, искренне в это верил; поэмы «Лонжюмо» и «Братская ГЭС» входили в школьную программу; дети, всегда готовые к борьбе за дело, вертелись под ногами в красных галстуках. Было интересно глядеть на эти пережитки свысока, со снисходительной усмешкой свободного, всё понимающего человека. С одной стороны, какая-никакая фронда, протест. С другой стороны – абсолютная безопасность. Однако не все глядели с усмешкой. Марина, к примеру, – с самым настоящим гневом. Она, как рыболов, била гарпуном значительно глубже отметки «1917». Послушать её, так и всё русское искусство скопировано с западных образцов, и в войне двенадцатого года победил генерал Мороз, и за реформы Петра заплачена неразумная цена, и Минин с Пожарским – сомнительные фигуры, не говоря уж об Иване Сусанине, Иван Грозный – маньяк, Александр Невский – двойной агент на службе Орды. Возвращаясь в двадцатый век, она доказывала, что Великая Отечественная велась бездарно, полководцы заваливали врага трупами плохо вооружённых крестьян, которым легче было погибнуть, чем так по-скотски жить… Но когда один товарищ, который был нам не товарищ и даже не заимел никакого прозвища, ответил Марине, что вообще не стоило напрягаться, сдались бы в сорок первом и жили припеваючи, – бог мой, каким презрительным взглядом она его наградила! Я предпочёл бы десять раз получить по морде, чем удостоиться такого взгляда. Но Маринка была права: коснуться этой морды противно даже кулаком.
Так было сейчас, а несколько лет назад я читал о пламенных революционерах. Мне нравилось настроение этих книг. Нравились люди, объединённые благородной мечтой – построить счастливую жизнь для всех. Мечта могла быть и другой: скажем, открыть новые земли. Главное – она была, и какие заманчивые опасности встречали героев на пути к ней! Окружающий мир не хотел счастливой жизни, был тёмен и враждебен. Противостоять этой темноте, идти плечом к плечу, не оглядываясь, жертвуя многими благами, дорожа каждым человеком из своей команды – что может быть лучше? А сколько причин для счастья! Самолётов нет, телефонов нет, надежды на почту никакой, и вдруг кто-то едва знакомый передаёт вам полустёртую шифрованную записку, добиравшуюся кружным путём через Париж и Красноярск, – записку от товарища, который давно не выходил на связь, и кто знает, жив ли вообще, – а вот, оказывается, жив, скоро приедет и, как прежде, станет плечом к плечу. Сколько испытаний вы прошли! Знали все питерские подворотни, в самую тёмную ночь отрывались проходными дворами от слежки, оставляли в дураках любого фараона. Беглым взглядом считали цветочные горшки на подоконнике: не провалена ли явка, – нет, не провалена, ждут. А какие споры вели, забывая о сне, – всё о том же, о будущем счастье! Но вот беда, среди вас был провокатор. Арест, одиночная камера, ожидание суда. Ваше заключительное слово о будущем счастье прогремит на всю страну, но это позже. Сейчас вы сидите в одиночке, обдумывая речь, а известия с воли передаёт, приходя на свидания под видом невесты, юная студентка, живущая той же высокой мечтой. Чистое, прелестное создание! Она поедет с вами в ссылку, уже настоящей невестой, и там, в сибирской дали, в компании самых верных друзей, вы сыграете очень скромную и очень весёлую свадьбу. Кто-то сбежит, проедет всю страну: на оленьих упряжках, переодевшись якутским погонщиком, на пароходе под видом кочегара, по железной дороге – пассажиром первого класса до границы и дальше, и ничего не подозревающие сыщики, пьющие водку в соседнем купе, до нитки продуются ему в карты. Вы дождётесь помилования, обманув жандармов притворным раскаянием, и тоже уедете в Европу. И там, в Цюрихе, Женеве или на Капри…
Как я жалел, что родился слишком поздно и никогда не испытаю эту жизнь на себе! Во-первых, счастье для всех уже готово. Может быть, не полностью готово, но главное сделано, остаются скучные мелочи. Я мог с удовольствием представить, как строю дом, заливаю фундамент, кладу кирпич, но мысль о штукатурке и обоях была невыносимо скучна. Вот так же и со всеобщим счастьем. Ха-ха! Здесь мы смеялись, понимая, какой же дом на самом деле оказался построен. Но это сейчас, а тогда… И новые земли открыты, думал я, и вряд ли осталось что-то интересное, кроме военных кораблей, но и их обаяние тускнело. Никто сразу не становится командиром, а жизнь матроса далеко не радостна: сплошное подчинение, ни шага по собственной воле. И тюремные главы, игравшие значительную роль в судьбе революционеров, были в наше время неуместны. Я представлял, как огорчатся родители, окажись я вдруг за решёткой. Книжные родители гордились мужеством детей, в крайнем случае ничего не знали об их участи. Мои гордиться не будут! Да и сам я, какими бы перелётными ни были мои ранние годы, слышал порой на улице рассказы о том, что за дивное место – современная тюрьма.
Получилось так, что несколько лет я жил без мечты, сам понимал это и не знал, откуда её взять. Только недавно она зашевелилась, просыпаясь. Первый толчок ей дал наш будущий ансамбль. Общие репетиции пока не начались, но Василий Васильевич учил Таню барабанить, запираясь с ней в подвале после уроков, и она говорила, что дело идёт, он доволен; я уже знал наизусть песни – отпечатанные на машинке стихи с написанными от руки аккордами. Мы ждали, со дня на день ждали того дня, когда впервые соберёмся вместе. Вторым и, пожалуй, более сильным импульсом стали Танины «Романтики». Я перечитывал их третий, четвёртый раз, – даже не перечитывал, просто нырял в них, растворялся и возникал заново, но внутри книги был уже не вполне собой.
Не был и Максимовым, главным героем. Его склонность к фразам, одну из которых Таня прочитала вечером по телефону, почти непрерывная взвинченность, надрыв, изрядно приправленный самолюбованием – всё это претило мне, да и внешне он виделся похожим на Пашку Метца. Может быть, дело во времени? – думал я. – Десятые годы, надвигается война, вот-вот грянет, сметёт всех, и надо успеть как можно больше почувствовать и сказать? Это отчасти оправдывало героя. Но главная притягательная сила заключалась не в нём самом, а в торопливой, захлёбывающейся жизни. Она увлекала сильнее революционных приключений. На первый взгляд в ней было всё то же самое: компания друзей, ежеминутный вызов приличным людям с их заботой о благополучии, шумные застолья в дешёвых кабаках, скитания, подруги, готовые разделить все радости и беды… Впрочем, это общее место. Подруги, с которыми вы сами готовы разделить все радости и беды, – это, как я понял, даже более важно. О таких девушках великий поэт написал бы совсем другую песню, не повторяя, как заведённый, тридцать раз: «ты спеши, ты спеши», – а хоть намекнув, что время от времени стоило бы ради них и самому поспешить.
Дух моря и творчества наполнял «Романтиков». Открыть их было то же самое, что распахнуть окно. За ним густела июльская жара, дул пронизывающий ветер и с горизонта надвигался шторм, клубились лиловые тучи, сверкали молнии. Впустить это всё в свою жизнь и написать такую книгу, чтобы для будущих читателей она была как распахнутое окно, – вот настоящее дело, а не какое-то общее счастье, вместо которого всё равно получится чёрт знает что.
И когда в третьей части начиналась война, совсем не похожая на живительную грозу, – унылые будни, дождь, грязь, разграбленные местечки, человеческие и лошадиные трупы вдоль дорог, гниющие раны, холера и тиф, – уже никаких преград не было между мной и главным героем. Я тащился с санитарным поездом по изуродованной земле, целыми сутками, не зная отдыха, мыл и перевязывал, слышал отдалённый грохот орудий, сознавал всю нелепость и бессмыслицу происходящего, терял близких, временами чувствуя, что жизнь вот-вот раздавит нас. И мне же придавали бесконечную силу воспоминания о другой жизни и мысли о том, как мало я сделал в ней и как много ещё надо успеть…
Говорил ли я Тане об этом? Пока молчал. Лучше и не говорить ничего, просто написать что-нибудь такое, что скажет само за себя. Так и сделаю. Она будет первой, кому дам прочитать. Она не засмеётся, даже если напишу полный вздор.
И, конечно, две девушки Максимова стали для меня откровением. Непохожие ни в чём, но одинаково прекрасные. Интересно, бывают ли другие у романтических авторов?.. Но я верил: они действительно прекрасны. Хатидже и Наташа. А Таня?.. – просто не мог не подумать я. – К которой из них ближе Таня? Если судить по её внезапным импульсивным поступкам – наверное, к Наташе? Нет, вряд ли. Таня едва ли способна вырвать из рук книгу, в которую вложено чужое письмо, например письмо Оксаны Ткаченко, и бросить в море. Когда мы купались, она сказала, что отвечает за меня, потому что, видите ли, старше. Это черта Хатидже. Но та заявила герою, что уйдёт от него, если он бросит писать, бросит думать и расти как человек. Неужели Таня может сделать то же самое?..
«Стоп! – говорил тут во мне какой-то ворчливый скептик старше моих лет минимум втрое. – Чтобы от кого-то уйти, надо сначала к нему прийти, а ты уверен, что она придёт? Мало ли с кем интересно болтать по пути домой? Не уверен – вот и не лети впереди самолёта».
Но если бы я хоть когда-нибудь прислушивался к своему внутреннему скептику!..
4Окончание виноградных работ мы праздновали на дискотеке. Тёплая погода задержалась в этом году надолго, и под конец октября, одетые по-летнему, мы собрались на открытой танцплощадке. Располагалась она позади старого Дома Офицеров, в центре маленького, почти одичавшего старого парка. Круглая, покрытая гладким, блестящим ярче любого паркета, камнем, окружённая серебристыми ивами, ветви которых почти скрывали забор и ракушку эстрады, субботним вечером она притягивала старшеклассников, получивших увольнительную матросов, молодых лейтенантов и мичманов, машинисток и телефонисток. Весной одна из них, высокая девушка лет двадцати, приникла ко мне всем телом в медленном танце, обвила руками шею и откровенно веселилась, чувствуя смущение партнёра и кое-что ещё, а ушла с дискотеки под ручку с Чернышом, тогдашним десятиклассником, который отсмущался своё, кажется, ещё в октябрятах. Заглядывали на площадку и семейные пары. Здесь все были равны под присмотром усиленного патруля. Здесь знакомились, прощались, договаривались, разрешали споры. Иной раз компания дружно вываливала за калитку и возвращалась минут через двадцать, покачиваясь, как на волнах. Пока не шумят и не падают – ничего страшного, пусть качаются. Бывало так, что несколько человек подходили к кому-то и почти ласково трогали за плечо: выйдем, побеседуем. Они уходили с видом лучших друзей и приходили с видом лучших друзей, а что было там – это не наше дело.
Вот только музыка год от года вырождалась. Чего стоила, например, модная в этом сезоне песня, где в конце припева повторяется слово «Эльдорадо», а слышится, как ни настраивай уши: «Эй, зараза!» – но эта зараза хотя бы смешная, от других и того не дождёшься. Одни лишь медленные темы не сдавались, возвышаясь авианосцами над этой утлой эскадрой. Звучал и «Отель Калифорния», если хорошо попросить диск-жокея, и «Мой друг художник и поэт», а уж Wind of Change с его знаменитым свистящим вступлением под гитарный перебор – каждую субботу непременно.
Мы с Таней танцевали под ветер перемен, стоя друг от друга сантиметрах в пяти, может быть, в десяти, но уж никак не дальше пятнадцати. Танины руки лежали на моих плечах, я легко держал её за гибкую талию с переливающимися в такт шагам мускулами. Шаг на левую ногу – импульс в мою левую ладонь, шаг на правую – его зеркальное отражение. Огни фонарей искрились в Таниных глазах, сегодня подведённых стрелками и оттого как бы незнакомых. Непривычно убранные волосы открывали высокую шею. И в этом тёмно-синем платье, которое сейчас казалось почти чёрным, я прежде её не видел.
Кое-что я не мог понять. Мы вместе работаем, я провожаю Таню домой – и ведь больше ничего; даже в школе, встречаясь на переменах, едва заметно киваем и расходимся. Но вот на дискотеке заиграл медляк, а я где-то в стороне, бывает. Таню пригласит Миша, Куба или кто-то другой из наших, это запросто, – а в конце мелодии обязательно подведёт ко мне и сдаст с рук на руки, всем видом говоря: «где пропадал, румынский тормоз? В другой раз не теряй своё сокровище». Были и другие признаки, по которым я догадывался, что друзья смотрят на нас почти так же, как на Свету Шульц с Вадимом. С чего бы, интересно? У них-то всё решено, они после школы подают заявление в загс и лишь потом документы в институт, а мы?.. Очень, очень это было странно.
5– «У Светы Соколовой день рожденья, ей сегодня тридцать лет…» – тихо пропела Таня по пути домой. – Дурацкая песня, но… Как подумаешь, и нам будет тридцать лет. Не страшно?
– Нет, – ответил я, – даже не могу представить, если честно, не хватает фантазии.
– Мне, наверное, тоже, – сказала Таня, – а может, и правда не будет?
– А я вчера вечером решил один вопрос, – похвастался я. – Несколько лет не знал ответа и вдруг нашёл. Эврика.
– Какой вопрос?
– Связан с «Золотым телёнком». Помнишь, когда Остап добыл миллион, он встретил на вокзале Шуру, дал ему пятьдесят тысяч?
– Помню, а тот дурень так глупо их потерял.
– А что было потом? Остап приехал в Черноморск, встретил Адама Козлевича…
– И что? – спросила Таня.
– Как что? Почему он Адаму не дал пятьдесят тысяч, а только маслопроводный шланг для «Антилопы»?
– Действительно… Странно.
– Не то слово. Я, помню, всех взрослых замучил: почему? Было ужасно обидно за Адама, разве он не заслужил? Или Бендер стал жадным?
– Да вроде, не должен, – подумав, сказала Таня, – а что говорили взрослые?
– Никто не мог ответить. А вчера я понял.
– Что?
– Он на самом деле дал ему пятьдесят тысяч. А может, и сто, просто авторы об этом не написали.
– Почему?
– Над ними висела идеология, надо было показать невозможность богатого частника в советской стране, а если он всё-таки возможен, об этом умолчать. Ведь Адам бы нашёл деньгам применение? Не потерял, как Шура?
– Думаю, не потерял.
– А вот об этом писать нельзя. Пусть живёт с деньгами и со шлангом, а напишем только про шланг. Похоже на правду?
– Наверное. А что-нибудь ещё такое замечал?
– Так, по мелочи. Скажем, когда Остап приходит к Корейко второй раз, уже с папкой, и всю ночь уламывает. И утром тот говорит: «Когда вы в первый раз ко мне пришли под видом милиционера, я принял вас за мелкого жулика». Ты в это веришь? Смотри: он ведь должен понять, что против него действует целая шайка. Минимум три человека. Двое отобрали деньги, третий принёс. А сколько ещё? Хотя бы попытаться выяснить он должен? С его-то осторожностью.
Таня кивнула.
– Думаю, тут возможны два варианта, – продолжал я, увлекаясь. – Либо он сразу исчезает и появляется в другом месте, либо Остап с друзьями однажды исчезают и нигде больше не появляются. Но просто сидеть на попе ровно? Не может этого быть, потому что не может быть никогда.
– Тебе бы детективы писать, – смеясь, сказала Таня. – Как-то мы опять незаметно пришли… Если хочешь, зайдём ко мне. Предков пока нет, ушли к друзьям на день рождения до двенадцати часов.
– Точно придут?
– Да. Мама – врач, помнишь? Её могут в любое время вызвать на операцию, так что она звонила в госпиталь: буду по такому-то адресу, такой телефон, в полночь карета превратится в дыню и я вернусь домой.
– В тыкву?
– Ну дыня же вкуснее, мы её съедим.
Мы поднялись на четвёртый этаж. Войдя в Танину прихожую, я огляделся с почти неприличным изумлением.
– Что-то не так? – спросила Таня.
– Наоборот, всё так. Кажется, у нас одинаковые квартиры.
Таня пожала плечами:
– Вторая улица строителей, дом… чёрт, не помню, какой. Давай проверим, подойдёт ли твой ключ.
Мой ключ не подошёл, и Таня, сказав, что ирония судьбы отменяется и Нового Года не будет, упорхнула в свою комнату. За минуту, пока я умывал руки и лицо, она переоделась в домашние серые брюки и тельняшку без рукавов. Потом она хлопотала на кухне, а я сидел в её комнате, на краешке застеленной синим пледом кровати. Комната была похожа на мою, такой же величины, но девичья, с очень светлыми обоями и люстрой в форме тюльпана. И пыль тут вытирали, без сомнения, чаще одного раза в месяц, и на письменном столе не было ни единой отметины от ножа, и на подоконнике стояли в горшках высокий кактус и что-то пышно кудрявое. На кровати лежала заграничная коробка из-под колготок; с картинки глядела, как бы говоря «Ах!» на вдохе, золотоволосая девушка с удивительно блестящими ногами, обнажённая выше пояса, но успевшая прикрыть пёстрым веером грудь…
Сквозь затянутый сеткой тёмный проём открытой форточки доносились голоса с дикого пляжа: там веселилась какая-то большая компания, то и дело заводя песню о Джеймсе Кеннеди. Задавали тон два нетрезвых голоса, несомненно знающих дело, но двигалось оно нехотя и, казалось, вот-вот заглохнет, – и вдруг, кое-как доползая до припева, все подбирались, преображались и звучали грозно и слаженно, почти как краснознамённый хор:
Только в море, только в море, Безусловно это так! Только в море, только в море Может счастлив быть моряк!Затем раздавался смех: знай, мол, наших! – и после недолгого затишья снова вступали два неугомонных голоса: «Шторм на море и туман!..»
6– Вот торопливая балда, – сказала Таня, едва не бросив на стол поднос с двумя чашками чаю, и взяла с кровати коробку. – Вы уже познакомились, да? Похожа?
И приняла позу блестящей девушки, так же, немного врозь пятками, поставив ноги и закрывшись воображаемым веером, только «Ах!» вышел иронически преувеличенным, вряд ли годным для рекламы.
– Ты лучше, – искренне сказал я, – но, чтобы окончательно убедиться, нужен такой же костюм.
– Ой, можно подумать, не видел, – ответила она и, закинув коробку в шкаф, села рядом. Наверное, впервые за всё время наших разговоров я почувствовал неловкость, будто мы дошли до какой-то стены, и что делать дальше?..
Выручили гуляки с дикого пляжа, вновь грянувшие свой припев. Мы послушали и рассмеялись.
– В детстве мне очень нравилась одна песня, – вспомнил я, – даже не то что нравилась, просто магически действовала. Как слышал её по радио, забывал обо всём, думал: вырасту, куплю пластинку и буду слушать без конца.
– Купил? – спросила Таня.
– Подобрал на гитаре.
– А что за песня?
– Может, знаешь. Там вначале оркестр играет так. Скрипки: па-а-а-а-а-а-ам… Тудум! Пам, пам, пам…
– Короче, – сказала Таня и на миг прикусила губу.
– А поёт довольно низкий женский голос:
Время вдаль укатится, и вспомним мы когда-нибудь зимою…– А, знаю, – кивнула Таня, – мне тоже нравится. Маринка бы на нас посмотрела, как…
– Знаешь, так помогай, повторяй последнее слово.
– Конечно. У меня голос как у павлина из мультика. «Спой, светик, не стыдись!..»
– Спой, Танчик…
– Что? Какой танчик? Я, по-твоему, сорок тонн?
– Маленький, сорок килограммов.
– Пятьдесят три, у меня кость тяжёлая. Ладно, только ради вас. Попробую, начинай.
Я вновь спел первую строку.
– «Зимо-о-о-ю», – повторила Таня.
Я продолжал:
Это невозможное, огромное и ласковое море…– «О мо-о-о-ре», – подхватила Таня.
– Дальше вместе на два голоса. Я вот так:
Вспомним мы, как волны на песок прибрежный набегают сонно…– А ты вот так: «Вспомним мы, как волны…» Нет, слушай, нужна гитара, без неё не уверен, что правильно показываю.
– Да я, вроде, поняла, – сказала Таня, – но как это можно – набегать сонно?
– И правда…
– Если бы я сонно набегала на финиш, об меня бы все спотыкались. Сонно можно наползать… Или просто валяться, вот так.
И откинулась на спину, разбросав руки острыми углами, как на египетском барельефе, и приоткрыв рот. Но тут же поднялась, мы ещё посмеялись, и вновь эта неловкость… Не знаю, чувствовала ли её Таня. Я чувствовал.
– Вот, вспомнила, – сказала она:
Ты далеко в эту звёздную ночь, Нам телефоны не могут помочь, Нас телеграммы уже не спасут…– Когда слышала в детстве «уже не что-то там», – продолжала она, – в первую секунду всегда удивлялась: у какого Жени?
– Или у какой?
– Нет, в моём представлении Женя всё-таки мальчик.
– Несмотря на Тимура и его команду? А я помню… блин, только что помнил!.. – я невероятным усилием схватил за хвост почти ускользнувшую мысль и, преодолевая сопротивление, потянул на поверхность. – Ага, вот оно:
Мужчины, мужчины, мужчины К барьеру вели подлецов…– Слышала?
– Давно когда-то.
– Я тоже давно. В моих ушах последнее «в» терялось, и я слышал: «К барьеру вели под лицо».
– Это как?
– Не знаю, но я не удивлялся. Можно ведь ходить под руку? Значит, можно и под лицо, примерно вот так, – я взял себя всей пятернёй за нижнюю челюсть. – И ещё это было как-то загадочно связано со словом «заподлицо».
Таня смеялась. Многие книжные герои, тот же бунинский Арсеньев – как ни странно, беседовать об этом было возможно только с книжными героями, – рассказывали мне впоследствии, как хороша девушка в минуты её уныния и какую ревность непонятно к кому, чуть ли не злость и желание немедленно вернуть уныние и тоску вызывает её смех. Я удивлялся, думая: не тех вы девушек встречали! – и в тот миг, дома у Тани, хотел бы вспомнить ещё что-нибудь забавное, но всё-таки был слишком напряжён, чтобы настроиться на нужную волну.
– Я, кстати, прочитала Грина, – сказала Таня и, взяв со стола знакомый том, вновь села на кровать, – большое спасибо за книгу. И первым делом «Возвращённый ад». Чем он так тебе понравился?
– Не то чтобы понравился, скорее расстроил.
– Чем?
– Да как бы сказать… Я хочу быть таким, как этот Галиен Марк был сначала, вот, – я нашёл нужную страницу: – «Не было вещи и факта, о которых я думал бы непосредственно: все, что я видел, чувствовал или обсуждал, – состояло в тесной, кропотливой связи с бесчисленностью мировых явлений, брошенных сознанию по рельсам ассоциации. Короче говоря, я был непрерывно в состоянии мучительного философского размышления…» Хочу вот так посмотреть на мир, это интересно, – продолжал я, – а я простой, каким он стал после дуэли. Я бы тоже мог написать такой рассказ, – перелистнул несколько страниц: – «За окном лежит белый снег. За ним тянутся желтые, серые и коричневые дома. По снегу прошла дама, молодая и красиво одетая, оставив на белизне снега маленькие частые следы, вытянутые по прямой линии…» Это скучно. Почему я такой?
Я не думал, что выскажу это хоть кому-нибудь, ещё минуту назад не представлял. Само вылетело. Таня смотрела так, что я не мог описать её взгляд одним словом: в нём была одновременно вся мировая скорбь и всё веселье, запертое в клетку самообладания.
– Как мы всё-таки неправильно сами себя видим, – наконец произнесла она. – Ты уж такой непростой, Саня, поверь, рядом с тобой даже Мишка простоват.
– Правда, что ли?
– Ненавижу врать, а тебе тем более не буду. И мне очень жаль, что они расстались, – кивнула на книгу.
– Не расстались они, – возразил я.
– Думаешь?
– Он убедил её, что стал прежним, и она не ушла.
– Буду верить, спасибо, – сказала Таня, коснувшись моей руки, и, помолчав секунду, продолжила невинным тоном: – На четвёртом этаже есть комната. У комнаты деревянный пол и стеклянное окно, а напротив него белая дверь с жёлтой ручкой. У стены стоит письменный стол… – она задрожала вся, но справилась, – и кровать. У неё четыре ноги. Внизу. А наверху два малолетних придурка…
Не удержалась и прыснула, а следом и я. В замочной скважине заворочался ключ: вернулись Танины предки. Таня встала, оглянулась на меня и рухнула на кровать, заливаясь во весь голос.
Очень скоро к нам постучали.
– Да-да!.. – сказала Таня, на миг приподняв голову. В комнату заглянула Танина мама, Виктория Александровна, темноволосая, худощавая и стремительная. Я знал её в лицо, здоровался на улице, и сейчас, хоть был не очень-то способен к внятной речи, собрался и сказал:
– Здрасте.
Вышло примерно как у Фрунзика в «Мимино».
– Здравствуйте, – ответила она с интонацией настоящей донны Розы, очень современной донны Розы в облегающих джинсах и яркой футболке навыпуск.
– Это Саша… – кое-как выдавила Таня и разразилась таким хохотом, что кровать завибрировала, как мотоцикл.
– Штанишки-то сухие? – с медицинской прямотой спросила Виктория Александровна.
– Ну ма-а-ам!..
– Да у вас, я вижу, всё серьёзно, – сказала мама, закрывая дверь.
Только через несколько минут мы сели и, глядя друг в друга как в зеркало, утёрли глаза.
– Она не подумает, что мы?.. – шёпотом спросил я и, подняв два пальца к губам, изобразил затяжку.
Таня покачала головой:
– Во-первых, знает, что я это делать не буду. Во-вторых, доктор, неужели не отличит это от простой истерики? На четвёртом этаже есть комната… – и вновь упала, головой мне на плечо, и, медленно успокаиваясь, прошептала: – Нет, на сегодня хватит…
7Мы с Таниными родителями пили на кухне чай с дыней. Таня представила меня как «того самого парня, который на зимних каникулах съездит в Питер и всё узнает о медицинских вузах».
– А не поздно браться за ум? – спросила Виктория Александровна.
– Я его и не выпускала никогда, – ответила Таня, взяв за руль воображаемую «Яву», и несколько раз газанула, при каждом движении подмигивая правым глазом и приподнимая уголок рта.
– Да он тебя и не спрашивает, сам убегает. Ладно. Значит, окончательно решила в Питер.
Таня кивнула.
– Одобряю, – преувеличенно командирским басом сказал Андрей Викторович, – там Собчак, он красивый.
– Папа!.. Если бы он мне нравился, я бы поступала на юридический.
– А серьёзно, так скоро везде начнётся кавардак, – продолжал папа, – а где-то уже идёт. Ко мне вон матросы приходят в последнее время, каждого третьего надо откармливать, чтобы хоть как-то служил, особенно кто из сельской местности. Читать и писать пока умеют, но что будет дальше?
– Это странно, – сказал я, – они же выращивают еду.
– Всё течёт мимо них туда, где есть деньги. И от денег им тоже ничего не обламывается. Мы ещё не чувствуем, страна худо-бедно думает о защитниках. Но это год остался, максимум два, а потом только в больших городах и можно будет прожить. Тоже не фонтан, но, в крайнем случае, таксистом подработаешь или домашним учителем, если есть голова. Даже не знаю, можно ли будет в нашем Ельце.
– Я вас перетяну к себе, – обещала Таня, – и Машку со всем её колхозом.
Виктория Александровна спросила и меня, кем хочу стать, какие планы на будущее. Я честно ответил, что пока не решил, слишком многое интересно. С Нового Года начну выбирать.
– Нового Года не будет, забыл? – сказала Таня, толкнув меня коленом под столом.
– Почему? – спросила мама.
– Шутка. Не хочу резать оливье.
– Не хочешь – заставим, – сдвинув брови, пригрозил папа.
Чуть позже, когда мы разошлись по комнатам, Таня сказала, что этот разговор они вели, очевидно, для меня, между собой всё обсуждали не раз, только про Собчака папа выдумал сегодня.
– Но это ерунда, он мне совершенно не нравится.
– Почему?
– Да голос какой-то… Я люблю низкие, как из пещеры: у-у-у!..
Опять возникла неловкость. Я представил её уже не стеной, а чем-то вроде огромной мишени, лежащей на полу; мы ходим друг за другом по внешнему её кольцу, а надо бы – к центру. Не обязательно дойти прямо сейчас, но хоть один шаг… Иначе можем никогда его не сделать. Я понял, что и Таня чувствует нечто подобное, когда она без слов принесла телефон. «Остаюсь ночевать у друга», – предупредил я отца. «У кого?» «Из одиннадцатого». Этого было достаточно: родители знали, что ребята там правильные и влияют на меня хорошо.
8– Посмотри фотографии, Санька, я скоро вернусь, – сказала Таня и вышла, оставив на кровати две коробки, тёмно-красную и тёмно-зелёную, обе размером с большой энциклопедический словарь.
Я сел на пол, как привык дома, открыл их и стал выкладывать содержимое двумя стопками на покрывало. Чуть не утонул в морских видах, но выплыл, чуть не заблудился в горных, но вышел точно к нашему ранчо, где встретил даже себя самого и не в первый миг узнал: вместо пухловатого юнца, которого обычно видел на снимках и терпеть не мог, всегда норовил увернуться от объектива, вместо ребёнка с тёмным пухом под носом и на щеках предстал перед собой каким-то героем вестерна с квадратными плечами, загорелой скуластой физиономией и пудовыми кулачищами. Может, я теперь и правда такой? Ведь Марина и все остальные выглядели почти как наяву, а небольшую разницу можно было объяснить преображающей силой искусства…
– Не скучал? – спросила вернувшаяся Таня, и по едва уловимой перемене в мелодии голоса я понял, что она уже сделала тот самый шаг. Она вошла в махровом халате чуть ниже колен, перетянутом в талии и с удивительным рисунком: на бежевом фоне разбросаны газетные заголовки, многоцветные, разнообразные по шрифту и местами понятные: Cacao Matin вверх ногами на рукаве или очень крупное Nessun Militarismo сзади чуть ниже пояса.
– Замечательные снимки, я по ним путешествую.
– Сама проявляла, печатала, – сказала Таня и, глядя в полированную дверцу шкафа, стала расчёсывать влажные волосы.
– Какой у тебя шампунь? – спросил я, потянув носом.
– Шоколадный.
– Такой разве бывает?
– Где-то бывает. Да везде, кроме нас. Когда папа уходит в Средиземку, я прошу, как в сказке: привези мне цветочек аленький, ну и ещё что-нибудь. Он привозит. Это вам, парням, лишь бы что-то было, а нам надо всё хорошее.
– Откуда знаешь о нас? – спросил я.
– Догадываюсь.
Таня, присев на корточки позади меня, надавила на плечи ладонями. Я продолжал рассматривать фотографии, и через несколько минут Таня указала на одну из них – с праздничной севастопольской улицей:
– А вот эту напечатали во «Флаге Родины» и ещё две другие. Минутку…
И достала из ящика стола три номера газеты. В одном на последней странице был этот снимок, в другом – стая зимующих в Яхтенной бухте лебедей, освещённая закатным солнцем, в третьем – мальчик лет десяти и маленькая девочка с напряжённым ожиданием на лице, он держит её за руку, оба в полной матросской форме.
– «Юная смена. Автор – Т. Карева», – шёпотом прочитал я.
– Как большая, – важно сказала Таня.
– Молодец. Ты их туда посылала?
– Да если бы. Кто будет смотреть, если просто пошлю? Редактор лечился у мамы, общаются до сих пор.
– А в школе не показываешь.
– Собиралась несколько раз, уже думала взять, но нужен какой-то повод, а если просто принесу, нате смотрите, получится будто хвастаюсь.
– Детьми?
– Фотографиями, – ответила она, дав мне лёгкий подзатыльник, – это же не мои дети.
– А чьи?
– Машкины, Серёга и Ксения. Ему сейчас одиннадцать, ей четыре с небольшим.
– Трудно поверить.
Таня, пожав плечами, открыла ещё одну коробку, где сверху лежало доказательство: снимок Маши с детьми.
– Вообще да, слишком хорошенькая и с каждым разом всё лучше. Если вдруг третий будет, даже не знаю, в кого превратится, крылышки отрастит. И Катя, она сейчас в Иркутске, летом родила сына. Назвали Андреем в честь папы, – Таня взглядом указала на стену, за которой была комната родителей, – так что я уже трижды тётя Таня, прошу уважать.
– Скучаешь?
– Ещё как, некого и поколотить… Что смеёшься? Знаешь, какая я была уже в девять, десять лет? Если запрыгну, обхвачу руками-ногами, не стряхнёшь!.. Они меня называли «маленькая шимпанзе». Мы на самом деле очень сильно дружим, я за них готова прыгнуть в окно или в огонь, если будет надо. Что не мешает друг друга доводить, когда встречаемся. Двоюродные – опасные соседи, как в «Войне и мире».
– А они по чьей линии?
– Дочки старшей сестры моего папы. Родом все из Ельца, папа учился в Севастополе, в Черноморском высшем военно-морском училище. Мама из Евпатории, училась в симферопольском меде. Познакомились на танцах. Романтично…
Мы ещё долго разговаривали. Я умылся в ванной, мизинцем почистил зубы и, на цыпочках прокравшись обратно в комнату, рассказал о своей семье и о том, что ударение в моей фамилии, и в исходном варианте, и в обрусевшем, точно падает на первый слог, но я так часто слышу его на втором, что уже и не возражаю. Таня ответила, что так говорят те, кому белый медведь ходил по ушам. Я похвастался, что у меня тоже есть двоюродная сестра, живущая на Дальнем Востоке, – мы виделись в очень ранние годы и, по словам взрослых, так яростно и беспричинно дрались, что нас приходилось разгонять по отдельным вольерам. Таня, перебирая снимки, вспоминала историю самых интересных, показала и себя на фото из госпиталя, в белом халате и шапочке с крестом, а ростом медсестра была чуть меньше стула. Постепенно все фотографии вернулись в коробки, коробки перешли на стол. Мы то и дело путали слова, но лень было смеяться. Таня погасила свет, забралась на кровать, легла поверх покрывала и, сказав, что голова высохла и надо уснуть хотя бы на два часа, чтобы днём не быть дохлой мухой, поманила меня к себе. Я растянулся на спине, и Таня, достав откуда-то ещё один плед, накинула на нас обоих, погладила меня по щеке и закрыла глаза.
9Не в ту ночь, но в одну из следующих мне приснилась полная ерунда. Во сне мы с Таней ругались, я не знал причины и не разбирал произносимых нами слов. Помнил только взаимное желание задеть друг друга как можно больнее. Таня задевала меня, я старался не показать виду и сам бросал, вероятно, очень обидные гадости. Не знаю, чувствовала ли она что-нибудь: внешне стояла как скала, все мои стрелы отлетали от неё бесследно. И тогда я выдал то, что разобрал очень хорошо. «Думаешь, ты мне так нравишься? – сказал я. – Не думай, мне на самом деле нравится Маша, а с тобой общаюсь только потому, что знаешь её. Не могу прикоснуться к ней напрямую, так делаю это через тебя, вот и всё». Не уверен в дословности, сгоряча так гладко не скажешь и во сне, но смысл был такой, а задел ли её, неизвестно, потому что я тут же проснулся с этой речью в голове. Какой ужас! – была первая мысль, – хорошо, что не наяву. Но если это правда? – была мысль вторая. Если действительно, как дурак, влюбился в женщину вдвое старше, замужнюю и с двумя детьми, которую видел раз в жизни? Но ведь тогда я не знал, кто она такая. А если бы знал? Или, скажем… – я быстро отнял от тридцати одиннадцать и ещё год, – если бы ей было восемнадцать?.. А если бы Мишель Пфайффер было восемнадцать! Мало ли что «если бы». Если бы Вера Холодная перелетела в наши дни? Или Мета с планеты Пирр, поразившая мой воображение в первый год жизни в Солнечном?..
Мета ненадолго отвлекла моё внимание. Она непохожа ни на кого из наших земных девушек, но скорее – благодаря воспитанию на неукротимой планете. А если бы росла среди нас? Уверен, тогда больше всех напоминала бы Таню. Спасибо вам, мистер Гарри Гаррисон.
«Неукротимая планета»!.. Как было её не вспомнить. Прочитав эту книгу, я сам решил заделаться хоть немного пиррянином, стал отжиматься не меньше трёхсот раз в день, взялся за гири в спортзале и обнаружил способность подбрасывать двадцать четыре килограмма в сальто и ловить. Неплохо для двенадцати лет. Однажды за этим упражнением попал на глаза старшеклассникам: девушки зааплодировали, а кавалеры чуть позже встретили на лестнице и сказали, чтобы не воображал себя очень крутым. Я порядком струсил, но это была первая реакция, следом бы точно взыграл дух противоречия и неизвестно, что бы в конце концов победило, не возьми меня под покровительство самый могучий и, как бывает, добродушный парень с выразительной фамилией Попович. На двухпудовые гири я так и не перешёл: отговорили взрослые, напугав, что от этой забавы останусь коротышкой. А попытки выкинуть в кости любую сумму на заказ, как делал хлипкий, но умный, сто раз избежавший верной смерти и всех спасший герой, кончились полным крахом.
Но всё же… Я вернулся мыслями к недавнему сну. Откуда он взялся? Было ли хоть что-то в жизни, что могло его вызвать? Если, конечно, жизнь хоть как-то связана со сном. Может быть, и нет. Одно недоразумение у нас недавно случилось, но такое мелкое, что я и думать о нём забыл в тот же вечер. Как-то в разговоре Таня обмолвилась, что никогда не играла в настольный теннис. Я загорелся научить её, подарил самую новую из своих ракеток и потянул в Дом Офицеров, где можно было найти свободный стол. Таня чуть-чуть упиралась, ворчала, что не хочет выглядеть неумехой, но всерьёз не возражала. Стол нашёлся, я быстро показал, как держать ракетку, подавать, куда бить, и мы стали перекидываться шариком. Очень скоро Таня начала возвращать всё, что я посылал, так что наши розыгрыши могли продолжаться ударов сто. Конечно, я действовал не в полную силу, было бы слишком сурово так обходиться с новичком, – но через пару вечеров Таня освоилась у стола, разгромила довольно сильную Ленку Чернову и выросла в равного соперника мне. И вот я уже не думал поддаваться, глядя, как она летает от угла к углу и бьёт неуловимо, почти без замаха, и серые глаза сверкают разбойничьим восторгом. Мы играли до двадцати одного, и после взятого мною мяча кто-то спросил, какой счёт.
– Шестнадцать – четырнадцать, – ответил я.
– Четырнадцать – шестнадцать, мои подачи, – уточнила Таня и тихо, как бы озвучивая мысль для самой себя, добавила: – Будет девятнадцать – шестнадцать.
Вот это меня и зацепило. Как будто напротив неё пустое место, с которым можно не считаться! Я, кажется, разозлился и действительно продул её подачи едва не всухую, довёл дело до больше-меньше, взял партию с превеликим трудом и по пути на ранчо ещё не до конца успокоился, хоть и старался держаться невозмутимо.
– Что с тобой? – спросила наконец Таня.
– Да ничего, – ответил я, – почему ты спрашиваешь?
– Вижу. Нет, если не хочешь говорить, то и не надо, я же не настаиваю…
Понятно, что я тут же всё сказал.
– Как будто меня там не было вообще, – так я закончил, – а я там был, между прочим, и мог тебе помешать.
– Саня… – она остановилась, повернувшись ко мне лицом. – Прости, пожалуйста. Я не хотела тебя обижать. Дело не в тебе. Я не считаю тебя пустым местом, просто увлекаюсь игрой. Да будь там даже чемпион мира, я бы всё равно так подумала. Больше не буду.
Она говорила здраво. После такого ответа я уже не понимал, на что, собственно, взъелся и почему Таня не может быть уверена в себе. Посмеялись и забыли, и больше никаких, даже самых отдалённых, намёков на ссору между нами не было. Откуда же взялся этот сон, после которого я будто вернулся в недавнее прошлое и весь остаток ночи чувствовал себя виноватым, против воли вспоминая пляжную красотку и держа у горла раскалённый клинок из божественного или дьявольского, кто знает, сплава её силы и беззащитности? Или, может быть, – подумал я перед самым будильником, – может быть… вовсе не Машу имел в виду, когда говорил о ней?
10– Я ничего не понимаю в информатике, – грустно сказала Лена. – Что это за рапира такая, кто её придумал…
– Наши старшие братья, – ответил я вовсе не остроумно. На другое в тот миг был едва ли способен – с таким-то чувством, будто в солнечное сплетение ударился снежок и от него разбегаются прохладные круги. Не надо бы продолжать… Но нет. Я продолжил: – Братья из Новосибирска. Давай зайду, попробую что-то подсказать? Можно? Когда будет удобно?..
Кажется, голос не выдал. Положив трубку, я обругал себя, но обмануть не сумел: радуюсь где-то там, в глубине. Будто… договорился о свидании. Наверное, это потому что редко видимся, – подумал, – а ходила бы в школу каждый день, так и не замечал бы? Нет, не убедительно.
Лена Гончаренко болела уже месяц и неделю – а, по-моему, скорее отдыхала от нас и от нового общества, такого дикого и неприветливого, чем болела всерьёз. Она, как прежде, жила в комнате Оксаны, улетевшей в Москву. Я звонил, передавал домашние задания, несколько раз заходил после уроков, чтобы объяснить непонятное. Лена выглядела свежо, прыщики на лице исчезли без следа, только время от времени кашляла, отворачиваясь и закрываясь ладонью.
«Значит, у Ленки нет шансов», – сказала по телефону Оксана. Наверное, в шутку, но всё равно неприятно, когда у кого-то нет шансов и это связано с тобой. А теперь в моей памяти смысл этих слов как-то разросся. Нет шансов не только на то, что Оксана имела в виду, но и на счастливую жизнь, удачу, хороших друзей – короче, на всё. И это – тоже из-за меня, и я понимал, что не могу изменить предсказание. А хотел бы изменить? Хотел бы, только не знал как.
К моему изумлению, даже стыду, я видел Лену теми же глазами, что и первого сентября, когда она, так внезапно появившись в классе, в коротком синем платье стояла у доски. И чувство было то же, отдельное от всех других. Я представлял его как трещину в чём-то прежде цельном, за ней виднелась чуть туманная, залитая лунным светом даль, оттуда сквозило лёгким, острым, будоражащим ветром… Где она возникла? Я был увлечён Оксаной, теперь ясно это понимал. Это увлечение могло превратиться во что-то настоящее: не хватило малости, одного её шага навстречу или, может быть, одного взгляда, – но оно было тем самым монолитом. Он раскололся в первый учебный день, как знаменитый Гром-камень. Лена не помешала Оксане и не слилась с ней, я никогда не представлял их вместе, а скорее так: днём одну, вечером другую. Днём – вечером… И ночью. А затем оказалась рядом Таня и вытеснила Оксану мгновенно и необратимо. Я теперь вспоминал её как соседку по парте, хорошую знакомую, даже подругу, но без капли волнения, без высохшего следа от капли. Был уверен, что, если вдруг она, вернувшись, сделает тот самый шаг, я ровно настолько отодвинусь: сама виновата. И в том, что подаренный ею катер не годился для плавания, тоже видел знак. Таня, только лишь Таня. А трещина осталась, чёрт её возьми. На том же самом месте.
Я не всегда ощущал её. Когда мы с Таней перекидывались шутками, оказываясь рядом на винограднике, или разговаривали, держась за руки, по пути к её дому на Морской, трещины не было и в помине. Я проверял, осторожно нажимал воображением на это место, как в детстве языком на новенький, ещё непривычный зуб, – нет, и правда нет! Не дурак же я, чтобы на что-то променять это чувство душевной близости и одновременно свободы. Как они могут сочетаться, я не представлял, но ведь сочетались, ничуть не мешая друг другу. И после расставания чувствовал свободу и недоумение: неужели можно допустить хоть что-то иное, кроме этих умных тёмно-серых глаз, горячих рук, звонкой и быстрой речи? Теперь и не будет иного, никогда не будет! После ночи, проведённой в Таниной комнате, этого настроения хватило на несколько дней, но они прошли – и, пожалуйста, всё вернулось: знакомая трещина, лунная даль, озноб от ночного ветра…
В мыслях я очень мало беседовал с Леной, не обсуждал прочитанные книги, не делился планами на будущее. Я представлял её удивительные при светлых волосах зелёно-карие глаза, чистую, нежную линию подбородка и шеи. Вспоминал удары её кулаков по моим ладоням – очень старательный, крупный дождь. Рисовал в мыслях её необыкновенные ноги, однажды навестившие мой диван. Отматывал плёнку в начало сентября и выбирал подходящий случай, чтобы всё-таки явиться спасителем. Иногда фантазия била совсем далеко, забрасывая нас в Питер: я показывал Эрмитаж и Петергоф, мы ходили по знакомым мне разводным мостам и достоевским дворам, которые до сих пор я не видел, но знал, что они есть. Лена, смертельно уставшая от ходьбы и впечатлений, едва стоящая на своих невозможных ногах, была, тем не менее, рада заглянуть ещё в одно прославленное место на другом конце города, и лицо её сияло такой благодарностью и готовностью на всё… А иногда и Питер был не нужен, чтобы случайно встретить её на серебряном пляже. Губы совсем близко, чувствую на щеке дыхание… А что потом?
Здесь воображение, как правило, заканчивалось, и я напоминал себе продавца фруктов, который, глядя на девушку перед прилавком, называет новую и новую цену: «Десять рублей. Семь. Четыре! Рубль!!» – и, вытерев руку о халат, вновь равнодушно произносит: «Десять рублей». Есть такой анекдот.
11Настроение колебалось между семью и четырьмя, когда мы с Леной начали урок. Она заметно отставала почти по всем предметам, что неудивительно: её прежняя школа была куда слабее нашей. За время болезни подтянулась, но трудно шла информатика, о которой никто в Весёловке, кажется, и не слышал. У нас тоже не всё было разумно: писать программы без компьютеров, не имея возможности даже увидеть на дисплее Hello world, – довольно странное занятие. Почему не было компьютеров, я не знаю. Военная часть могла приобрести нам хоть десять «Агатов», но если до сих пор не пошевелилась – значит, был в этом некий умысел. Возможно, адмиралы нашей школы боялись, что мы, получив в распоряжение ЭВМ, тут же станем делать на них что-то антиправительственное… Но я чувствовал, что в дальнейшем информатика пригодится, и смирился с нашими теоретическими уроками, помня, как ещё лет десять назад сидел на стуле, вертя перед собой игрушечный руль, – и верил, что действительно еду, и это было интересно. Вот и сейчас надо так же: верить и давить на газ.
Я поделился этой мыслью с Леной, она улыбнулась. В комнату постучалась Полина Сергеевна и, приоткрыв дверь, сказала:
– Ребята, я выйду часа на полтора, вы тут сами посидите, хорошо?
– Да, конечно, – ответила Лена.
Когда мы остались вдвоём, я подумал вслух:
– Кажется, Полина Сергеевна рада, что ты здесь. Так бы, наверное, скучала. Неожиданная пустота…
– Может быть, – кивнула Лена.
– Динка точно рада, – сказал я, погладив серенькую кошку Оксаны, запрыгнувшую на стол, – есть с кем поиграть.
– Да, она любит… – И после секундной паузы Лена тихо добавила: – Мне было так неловко первое время.
– Но сейчас привыкла?
– Наверное. Так благодарна, вообще… Не забуду никогда.
Мы продолжали. До программ Лене было ещё далеко, она переводила лёгкие алгебраические задачи на язык алгоритмов. Сидя за столом, прикусывала карандаш, мягко барабанила пальцами по лакированной доске, хмурилась, принималась быстро писать, всё стирала и вновь думала. Я заглядывал в тетрадь, касаясь то плеча Лены подбородком, то щекой – перетянутых красной резинкой волос.
– Не мешаю?
Лена покачала головой. Я не чувствовал в ней желания отстраниться, как, впрочем, и обратного. Отодвинулся сам и увидел её всю – в голубой блузе-толстовке, рубчатых серых колготках и белых шерстяных носках. И вновь заглянул в тетрадь.
– Помнишь двоечку? – спросил я, наконец. – Попробуй изложить её алгоритмом. Лучше графически.
Лена справилась довольно легко.
– Молодец.
– Я повторяю иногда, – сказала она.
– Давай на практике? Небольшая физкультурная пауза.
– Хорошо, – ответила она, поднимаясь.
Я выставил ладони:
– Тогда поехали. Сначала медленно…
В этот раз её удары напоминали скорее град, чем дождь. Вспоминала, мои руки подтвердят. Быстрее, быстрее, не забывай доворачивать… Потом она чуть закашлялась и сказала:
– Сейчас пройдёт… минутку… Уже гораздо лучше, чем было.
Съела таблетку пектусина, глотнула воды из пиалы, стоящей на столе и, обернувшись ко мне, вновь подняла кулаки к подбородку.
– Но знаешь, – пересказал я то, что слышал от Кубы, – на тренировках по мешку, а я у тебя сейчас в роли мешка, можно показывать чудеса. Когда перед тобой настоящий человек, которому надо сделать больно, а он ещё может в ответ, это совсем другая психология. Ты представь, что я серьёзный враг, и ударь как следует.
– Ну, я не знаю… – замялась она.
– Попробуй.
И, чтобы подразнить, слегка уклонился и кончиками пальцев задел её бок. Лена поёжилась.
– Не стесняйся, давай.
Повторил, ещё раз… Всю науку Лена тут же забыла, её ответное движение напомнило взмах крыла бабочки. Дальше она только сжималась, отступала, тихо айкала и, коснувшись лопатками стены, в один миг напряглась и затвердела.
– Не надо, – прошептала она, почти не размыкая губ, – пожалуйста…
И так взглянула на дверь, что я подумал: неудобно именно здесь.
– Хорошо, извини, – сказал я. – Ты не обиделась?
Она покачала головой.
– Работаем дальше?
– Да, – ответила Лена, садясь за стол.
Когда вернулась Полина Сергеевна, мы решали задачи с таким видом, будто ничем другим и не занимались, и стрелка моего душевного барометра, так и не пройдя верхней точки, кое-как отползала вниз. А, уже собираясь уходить, я обратил внимание на стопку «Юностей», лежащих на тумбочке; мы все выписывали и читали примерно одно и то же.
– Читаешь? – спросил я.
– Иногда. Здесь много всего…
– Не знаешь, с чего лучше начать?
Лена кивнула. «Она кивнула своей головой», – как я однажды перевёл фразу из какой-то английской повести, которую взялся читать со словарём, но бросил после нескольких страниц.
– Можно, я подскажу?
И, получив разрешение, быстро нашёл два прошлогодних номера: с рассказами Владимира Набокова, к первому из которых, «Пильграму», подступался несколько раз, пока не распробовал, но уж потом меня было не оттянуть, и «Воспоминаниями» Надежды Мандельштам.
Глава пятая. ПОДВАЛ
1О том, что голос у меня не самый обыкновенный, я догадывался и прежде. В один из первых дней сентября мы спели на ранчо несколько песен в дырочку Мишиного двухкассетника, потом слушали запись, узнавая себя и остальных. Я различал голоса так ясно, будто видел посуду на столе. Голос Марины – хрустальный бокал, Миши – чуть покосившийся на бок кофейник, Тани – электрический прибор наподобие тостера. Светы Шульц – ваза с абрикосовым джемом, Олега – сойдёт, пожалуй, за гранёный стакан… А где же мой?! Я растерянно шарил мысленным взором по скатерти, пока не сообразил, что мой голос – это стол.
И вот теперь, едва я даже не спел, а лишь осторожно, пробуя и примериваясь, выдохнул начальные звуки в микрофон, как этот стол, брыкаясь всеми четырьмя ногами, полетел из гулкого угла мне точно в голову. Будто я очутился в кино, посреди какой-то салунной драки… Машинально сделал движение уклониться и, конечно, сбился и замолчал на середине первой строки.
– Да всё нормально, – сказал за спиной Василий Васильевич, – поиграй ещё, привыкни.
Я отвернулся от микрофона и, стараясь забыть о нём, тронул струны. Медиатор я пока не чувствовал, играл пальцами, как привык на акустике, но даже так ощущения от электрогитары были потрясающими! Те же струны, тот же гриф, разве что чуть более узкий, а звук – другой, настоящий, как по радио или на кассете. Словно это не я играю и, стоит только подумать, как и запоётся само собой:
Мой друг художник и поэт В дождливый вечер на стекле…Нет… Это, пожалуй, не запоётся. Для начала что-нибудь попроще:
Никитские ворота открыты в листопад…Если честно, то репетировал я, с прицелом на Новый Год, вот эту песню:
Снег, до чего красивый снег, Я по снегу, как во сне, В старый дворик убегу, —которую пел под свою гитару не одну сотню раз, но в этом подвале с тусклыми лампочками под потолком и бетонными стенами в потёках разноцветных красок голос, хоть тресни, ругался с музыкой сильнее, чем все туманы мира со всеми дождями и грозами. Когда же Василий Васильевич добавил к моим аккордам звуки бас-гитары, я сбился окончательно и позорно, прямо на глазах сидевшей за барабанами Тани и всех остальных.
– Ладно, отдохни пока, – сказал учитель. – Марина Викторовна, ваш выход!
Марина, как ни странно, не настаивала на репертуаре современных рок-групп. Я сначала удивился, а затем предположил, что она думает так же, как и я. Песни современных рок-групп слишком крепко и кровно связаны с исполнителями и авторами – это ведь, как правило, одни и те же люди. Хорошая эстрадная песня, тот же «Снег» или «Королева красоты», – как выпущенная на волю птица, поймать её и вновь отпустить может любой, были бы способности. А рок-песня – скорее одежда её создателя или даже часть тела. Где-нибудь во дворе ещё можно тихонько спеть «Белый снег, серый лёд», но громогласно, со сцены? Всё равно что оторвать и приставить себе чужую руку.
Мы сошлись на том, что надо сочинять своё, оригинальное, а пока его нет – учиться на нейтральной лирике.
Пообещайте мне любовь, пусть безответную, Узнаю в облике любом её приметы я, —подыгрывая себе на «Ямахе», запела Марина, и выходило у неё куда лучше, чем только что у меня. Она тоже смутилась, когда на припеве вступил с басом Василий Васильевич, но взяла себя в руки и со второй попытки добралась до конца.
– Молодец, неплохо, – похвалил Василий. – Теперь я с «Жёлтым ангелом», и ты, Таня, подключайся, а то сейчас уснёшь. Помнишь, как играть?
Таня с готовностью пробарабанила несколько тактов.
– Поехали вступление! – скомандовал Василий.
Но едва они зазвучали вместе, как тут же всё разладилось.
– Стоп, Таня. И вы все, ребята. Вы думаете, мы тут играем? Нет, мы все друг друга слушаем! Понимаете? Я не играю, я слушаю тебя, Таня, и ты не играешь, а слушаешь меня. И вы тоже слушаете друг друга и нас, а мы – вас. Тогда будет хорошо. Давай ещё раз.
И вновь получилось что-то невразумительное.
– Нет, – сказал Василий, – ты уж не вся превращайся в одно большое ухо. Руки и ноги оставь, чтобы слушать меня, а играть всё-таки своё, понимаешь?
– Так точно, – ответила Таня.
– Мы с тобой фундамент всей конструкции, без нас развалится. Дубль третий, вперёд!
Теперь у них стало получаться, это уловил даже я. Очень узнаваемое, настоящее танго. Василий Васильевич, большой любитель Вертинского, сам в эти минуты напоминал его – не в гриме Пьеро, вообще не на сцене, а фотографию времён санитарного поезда, с медицинским крестом на рукаве. Голос был пониже и без картавинки. И, что меня совершенно изумило, он мог петь под бас-гитару. Она ведь играет не такую музыку, под которую поют, какую-то совсем другую… Однако он мог. Дождавшись приглашающего кивка, я заиграл свою партию и, кажется, ничего не испортил, а следом и Марина.
– Есть контакт! – сказал Василий в крохотной паузе между фразами и продолжал:
Лакеи тушат свечи, давно замолкли речи, И я уж не могу поднять лица…– Все поняли, как должно быть? – спросил он, допев.
Мы закивали.
– Предлагаю на этом закончить, чтобы сохранить ощущение, и завтра увидеться вновь. Всё будет хорошо, не переживайте, я так же начинал в восьмом классе.
Мы вышли на свет, вздыхая и расправляя плечи. Кажется, не только я, но и девушки оставили в подвале больше сил, чем за целый день на винограднике. Хорошее ощущение у меня сохранилось, но была в нём какая-то чёрная дыра, куда постепенно проваливалось всё. На полпути к ранчо вспомнил: ведь сам-то со своим номером облажался как никогда до сих пор! Войдя в дом, взял гитару Игоря Маринченко и, держа её на коленях, стал без звука обозначать аккорды. Петь не хотелось вовсе, я не мог забыть этот летающий стол.
– Да всё нормально, не переживай, – сказала Марина.
– Почему у меня ни хрена не вышло? У вас вышло, у меня нет.
– У тебя машина другой мощности, – ответила она, тронув своё горло. – Труднее совладать.
– Я что-то совсем не верю в эти истории. Жили ребята, решили по приколу побренчать, вдруг стали популярны, заработали сто миллионов, за тридцать лет не выучили нот…
– На первом этаже есть комната, – подхватила Таня, – в ней сидят разочарованные балбесы, которые думали, что они «Битлз»…
Тут мы рассмеялись, а следом Марина и все, кто ещё подошёл.
2На следующую репетицию я собирался с твёрдым намерением отказаться от участия в ансамбле, если и теперь ничего не получится. А в том, что не получится, был почти уверен и весь как-то внутренне закаменел, чтобы прежде времени не издёргать себя мрачными мыслями. В подвал подтянулись зрители: наша неизменная компания плюс беременная жена Василия, школьная библиотекарша Лиза Владимировна. Бедняга, ей-то за что такие муки!.. Я играл вступительные аккорды «Снега» с чувством, похожим на обречённость, но удивительным, непостижимым образом оказался готов к тому, что услышу из мониторов. Звук подчинился мне, я допел свой номер, споткнувшись по дороге от силы раза три. «Можешь, когда есть настроение», – похвалил Василий. Девушки тоже выглядели увереннее вчерашнего, и на улицу мы выходили весело и шумно.
Шёл, между прочим, второй день каникул, и запоздавшая в этом году осень не придумала другого времени, чтобы навалиться на город всеми своими тучами. Город мгновенно съёжился, стал почти карманным, потемнели будто присевшие дома, исчезли переменчивые узоры света и тени, размылись в туманной мути очертания парка. Заметно похолодало, и, как обычно в такие дни, мне казалось, что за пределами Солнечного – только пустота до самого океана, только летящий оттуда ветер, дождь, тревожный запах водорослей и отдалённый рёв прибоя.
Мы пришли на ранчо, включили в доме свет и занавесили окна, хоть на улице было ещё довольно светло. Миша с братом и Олег устроились в дальней комнате играть в подкидного. Таня, Марина и Оля, решив поставить чайник, отправили меня на колонку за водой. Вернувшись с полной канистрой, я ожидал какой-нибудь награды: щелчка, взгляда, шуточки – мало ли какой, ждал и, наверное, дождался бы, но тут дверь без стука распахнулась, и мы увидели на крыльце Вику, старшую из двух близняшек. «На целых десять минут, – говорила она, – а Алёнка мелочь пузатая…» Сейчас Вика была одна, в лёгкой рубашке, уже намокшей. Не заходя в комнату, она жестами и словами вызвала нас к себе:
– Скорее давайте, девчонки! И ты, Саня, тоже!..
Мы с Таней и Мариной быстро переобулись и поспешили за ней. Метрах в сорока от нашего участка возле забора стояла младшая близняшка Алёна, а рядом, в наброшенной на плечи Викиной розовой куртке, сидела Лена Гончаренко. Эта неожиданность была для меня как удар поддых. Что случилось, почему?! После недавнего занятия информатикой я не видел Лену, но разговаривал по телефону в воскресенье, то есть позавчера: сказала, что уже здорова, после каникул и праздников выйдет в школу, и ни в словах её, ни в звуке голоса не было и намёка на то, что вот так сбежит, заплутает в садоводстве, будет сидеть на каком-то пеньке… Те уроды, о которых говорила Оксана, не должны её достать, с нынешней защитой. Но ведь сбежала?
Все эти мысли промелькнули за секунду, не больше, потому что в следующий миг я увидел, что это не Лена, а её мама, Надежда. И понял, что здесь-то ничего странного нет. Когда мы говорили с Леной, я не спрашивал, хочет ли она домой, не скучает ли: не моё дело, нечего лезть в душу. А что чувствовала Надежда? Эту мысль я гнал от себя, догадываясь, что ничего хорошего. Вот теперь убедился.
Немудрено, что я их перепутал. В свои тридцать три Надежда выглядела почти девочкой, несмотря на вдовство, двух непростых детей и материальный достаток, вряд ли годный для самой непритязательной жизни. Внешне была необычайно похожа на дочь: тот же рост за метр семьдесят, та же лёгкость и золотистые волосы, лишь глаза светлее, с голубым оттенком. Сейчас они были абсолютно пусты, я впервые видел такой взгляд – без капли выражения, и слёзы, переливаясь через край, катились по лицу на розовую куртку. Близняшки, перебивая одна другую, рассказывали, что шли на ранчо и вдруг увидели: сидит в летнем сарафанчике, ни на что не отзывается, не встаёт… Таня, указав на неё взглядом, тронула меня за плечо, но я и сам догадался наклониться и поднять Надежду на руки. Она крупно дрожала и, кажется, не понимала, где она и что происходит.
3Откуда я был знаком с ней?.. Не скажу, что прямо уж знаком. Четыре года назад, в конце августа, только приехав в Солнечное, я познакомился с ровесниками во дворе и первым делом узнал от них, что самое интересное место городка – это гостиница, где живут командированные и родители матросов, приезжающие повидать сыновей. Мы бегали к гостинице, чтобы взглянуть на посланцев большой земли: это было и развлечением, и возможностью получить сувенир, и, самое главное, – доказательством того, что за границами нашей маленькой, почти герметично запаянной жизни есть другая, более интересная и богатая событиями. Мы как бы приобщались к ней. Гости проходили мимо, весёлые и свободные, их ждала дорога, ветер пел им песню странствий, и я мечтал когда-нибудь вот так же отправиться в путь. Да не один я, все мечтали, обступая гостя плотным кольцом. Мечты обламывала светловолосая горничная. Она выглядывала из окна второго этажа и в самый разгар получения значков или жвачки кричала что-то вроде:
– А ну разошлись, беспризорники! Кому сказала?!
– Надежда Петровна, – задирая голову, отвечал добродушный матросский отец, а иногда и просто: – Надя, – или даже так: – Наденька, да что вы волнуетесь? От меня не убудет, а ребятам радость.
– Не знаете вы этих ребят, – возражала Наденька, – они с вас последнюю рубашку снимут!
– Наденька! – вскоре кричали мы. – Идите сюда, мы с вас последнюю рубашку снимем!
Не знаю, кто как, но я понимал эту фразу буквально. Надя была одета по форме: в тёмно-синюю юбку, такой же китель поверх той самой голубой рубашки, чёрные лаковые туфли и синий с белым околышем, сдвинутый чуть набок берет – в общем, найдётся что снять.
Строгая Наденька выходила на крыльцо, и мы кидались врассыпную. Влад Балашов однажды зазевался, она поймала его за шиворот и увела в гостиницу с собой. Вернулся он минут через пять, цветом лица напоминая переспелый до трещин малиновый помидор «бычье сердце», и в ответ на все вопросы твердил:
– Я ничего не сказал!
– А что она хотела?
– Ничего не сказал.
– Да что она спросила?
– Зачем… зачем мы это делаем.
– И ты не сказал?
– Нет.
– Ну молодец! Прямо пионер-герой!..
Вскоре он утверждал, что попался нарочно, из чистого любопытства, и, кажется, сам себе верил. А я бы хотел попасться, да смелости не находил. И не видел ничего удивительного в том, что наши приставания к гостям вполовину не так интересны, когда вместо Нади в окно глядит её сменщица, кряжистая брюнетка с сонными глазами и заметными прежде глаз кавалерийскими усиками.
Удивительно всё изменилось за четыре года! От этой мысли на миг закружилась голова – раньше так бывало, когда входил в незнакомое место, на корабль или на городской новогодний утренник в театре, не представляя, чего ждать. А теперь… Страшно подумать, я уже здоровенный лось чуть выше Надежды ростом и без малейшего напряжения держу её, почти невесомую, на руках.
4На полпути нас встретили ребята, которых испуганная Оля отправила вдогонку, и близняшки уже гораздо спокойнее повторили рассказ. Я внёс Надежду в дом и, выполняя распоряжения Тани и Марины, уложил на кровать в дальней комнате. Девушки остались хлопотать, я вышел с тяжёлым чувством соучастия в некрасивом деле. Не сегодня, раньше. И не я его затеял, это полностью идея Оксаны, но ведь она была права. Я бы не смог вмешаться в её план, но и не хотел вмешиваться, совершенно не хотел: так, как жила Лена, действительно жить нельзя. Всё казалось верным, а вышло чёрт знает что.
Эта мысль была основной, но где-то в глубине, как мальки, стайкой носились другие. Как сошлись Таня с Мариной за время виноградных работ, и не скажешь, кто у них главный. Прежде Марина больше дружила с Олей Елагиной и очень явно главенствовала, а здесь, по крайней мере с виду, полное равноправие. Марина почти бросила воевать со мной и, когда я опозорился на первой репетиции, поддержала, как настоящий друг. А Таня обратила всё в смех, как лучший друг…
Из-за стены время от времени доносились голоса девушек, но слов было не разобрать. Я не особо и вслушивался. Выглянула Марина, сказала, что всё в порядке, и, захватив большую кружку чаю, вновь скрылась в дальней комнате. На нашей половине беседа не складывалась, все думали о чём-то своём и, дождавшись повторного заверения, что всё будет хорошо, потихоньку стали расходиться. За окном стемнело. Миша вполголоса сказал брату, что в любом случае собирался ночевать здесь. Появилась нахмуренная Таня, мы с ней вышли во двор и медленно двинулись в сторону посёлка.
– Что там? – спросил я. Таня пожала плечами:
– Она сейчас не объяснит. Хоть не вырывается, не бежит незнамо куда, и то хорошо.
– А так тоже бывает?
– Так бывает сначала, а потом наступает вот это.
– Замёрзшая была, – сказал я. – Чувствовал, как дрожит.
– Руки и ноги просто ледяные, мы надели всё тёплое, что было. Из-за чего так?.. Какой-то сильный стресс…
– Я, кажется, знаю.
Мы остановились недалеко от места, где сегодня увидели Надежду, и я рассказал почти всё, начиная от появления в классе Лены и до нашего с ней воскресного телефонного разговора. Умолчал только об уроках бокса и гитары и об этой своевольной трещине, которая то исчезала, то вновь открывалась.
Таня взглянула не слишком добро.
– И сколько бы ты ещё молчал?
– Таня, – сказал я, – мы же с тобой чуть больше месяца общаемся, а сколько я живу. Со временем всё расскажу, просто ещё не успел.
– Ты уже о многом рассказал, но об этом нет. Почему?
– Наверное, это для меня не так важно.
– А что важно?
– Ну… Грин гораздо важнее.
– Он не учится с тобой в одном классе, – возразила Таня, – и ты у него в гостях не бываешь. И у него не такие ноги.
– Твои лучше всех.
– Я знаю. Быстрее уж точно.
Развернулась и пошла прочь, но не очень торопливо, я в несколько шагов настиг её и мягко взял за плечи.
– Тань…
– Если бы я захотела, ни за что бы не догнал, – сердито сказала она.
– Верю, – ответил я и придвинулся так близко, что коснулся губами волос, пахнущих шоколадным шампунем. – Но и ты поверь, пожалуйста…
– Ты правда о ней не думаешь? И не хочешь её?
– Нет, конечно! – ответил я совершенно искренне, потому что в тот миг действительно ни о ком другом не думал. – Зачем мне кто-то, когда я тебя люблю?
Вырвалось. Был уверен, что не скажу это в ближайшие полгода и даже больше. Буду провожать в Питер, и вот тогда, в аэропорту или на вокзале, в последнюю минуту, когда посторонних уже попросят удалиться, может быть… И не сдержался. Сама Таня, земля под нами, окружающие фонари, заборы, дома, почти все с тёмными окнами, на миг уподобились не карусели, а скорее ялтинскому аттракциону «Осьминог», который вращает вас одновременно в тридцати плоскостях и трёх пространствах.
Таня, вздохнув, погладила мою руку.
– Я, наверное, тоже тебя люблю, – сказала очень серьёзно, повернулась лицом и, секунду помедлив, обняла меня за шею. – Если б не любила, так бы не дёргалась, правда? Прости истеричку.
Шёпотом рассмеялась, и я тоже. Холодный рукав её куртки касался моей щеки, но даже сквозь него я чувствовал тепло. Мы поцеловались и, выпустив друг друга, двинулись дальше, потом остановились и вновь поцеловались. И каждый раз утихавший было аттракцион пускался в новую пляску.
– Вот дурная голова! – сказала, наконец, Таня. – Иду, забыла обо всём, размечталась… Я же собиралась остаться, – и кивнула в сторону ранчо.
– Из-за Надежды?
– Да, волнуюсь за неё. Неадекватная реакция, тебе не кажется? Ну, живёт Ленка у подруги, но все живы, здоровы, с чего так убиваться?
– Не знаю. Буду не мамой, но хотя бы папой, тогда скажу.
– И почему именно сегодня? Очень странно это. Лучше было бы маму позвать прямо сейчас, но ладно. Если что, утром позову.
– А Лене сказать, как думаешь?
– А ты как думаешь?
– Скажу Полине Сергеевне, – решил я.
– Хорошо.
– Провожу тебя?
– Не, Саня, спасибо, сама доберусь. Ты лучше, как придёшь, позвони мне домой и скажи, что я осталась на ранчо, у нас интересная богословская беседа, договорились?
– Сделаю, – пообещал я и для начала сделал маленький шаг вперёд, хоть мы и так стояли ближе друг к другу, чем на дискотеке под ветром перемен. Необыкновенно мягкими были её губы. Впрочем, наверное, не мягче большинства других, но я ведь помнил твёрдый взгляд, твёрдые ладони, и вдруг такой ошеломительный контраст! И очень хорошо, как-то неправдоподобно хорошо она умела целоваться, я осознал это на полпути домой, когда голова, полетав над мокрыми улицами, вернулась на привычное место. Кто-нибудь спросит, что я там мог по-настоящему оценить – без образования, без опыта? Но ведь иногда они и не нужны, есть какое-то другое, изначальное знание. Поставьте пластинку Марии Каллас – любой скажет, что она поёт божественно, даже если он не музыкант и не отличит на слух мажор от минора. Или покажите кому угодно, хоть миклухо-маклаевскому папуасу Смольный собор…
5Виктория Александровна Карева к известию от дочери отнеслась спокойно: «Привет блаженному Августину, желаю сойтись во мнениях». Я даже позавидовал их умению понимать друг друга на лету, а точнее – самой тональности отношений. Сам бы никогда не отправил домой такое послание, потому что жизнь – вещь серьёзная, всяким хиханькам и хаханькам в ней не место и думать надо не о богословских беседах, а о более важных делах… Ну да ладно.
Уж не решила ли Виктория Александровна, что Таня остаётся на ночь у меня? – подумал я, закончив разговор. Сейчас, наверное, улыбается: ну-ну, конспираторы… А, может, и специально сделала так, чтобы я вообразил себя мистером Марплом, а сама прекрасно знает, что никакой Тани у меня нет?.. Или вовсе ничего не имела в виду, я и без подсказок навыдумываю что угодно? Это было вероятнее всего.
Но ведь то, что сказала Таня, я не выдумал! Это было на самом деле. Дома кружились, её губы касались моих – всё наяву… Как там в книге? «Медведица метнулась и упала в море. Звёзды припали к садам и запутались в чёрных ветвях. Перекрёстки шумели ветром. Хатидже вздрагивала и перебирала мои пальцы». Конечно, Таня – это Хатидже, и никакая Наташа мне не нужна, я не такой болван, как этот Максимов!
Вдруг сойду с ума от этого вечера? – вспыхнула мысль. – Или уже схожу?.. С одной стороны, интересно, с другой – кому тогда буду нужен?
Взял с полки, как якорь нормальности, дочитанную летом книгу. «Страшная буря рвалась и свистела между колёсами вагонов по столбам из-за угла станции… „Зачем я еду? – повторил он, глядя ей прямо в глаза. – Вы знаете, я еду для того, чтобы быть там, где вы, – сказал он, – я не могу иначе“. И в это время, как бы одолев препятствия, ветер засыпал снег с крыши вагона, затрепал каким-то железным оторванным листом, и впереди плачевно и мрачно заревел густой свисток паровоза». У нас не было ни паровоза, ни романтической бури – был только дождь и уже закончился, когда выходили из дома. Мне на голову, а Тане на рукав с крыши капнуло водой, хорошо так капнуло, не меньше стакана, и чуть пар не пошёл, что неудивительно с моей-то фамилией и Таниным апрельским зодиаком. Больше такого дождя в моей жизни, вероятно, не будет… Я разом пролистнул три сотни страниц. «Всё это случилось в одно время: мальчик подбежал к голубю и, улыбаясь, взглянул на Левина; голубь затрещал крыльями и отпорхнул, блестя на солнце между дрожащими в воздухе пылинками снега, а из окошка пахнуло духом печёного хлеба и выставились сайки. Всё это вместе было так необычайно хорошо, что Левин засмеялся и заплакал от радости».
Смеялись, плакали, не сходили ни с какого ума. Я поставил книгу обратно.
В дверь постучала мама:
– Саша, ты ужинать идёшь?
– Сейчас, только позвоню ещё одному человеку.
Вспомнил, к счастью.
Трубку взял папа Оксаны, и я попросил его позвать к телефону Полину Сергеевну.
– Добрый вечер, Саша. Тебе, наверное, Лена нужна? – спросила Полина Сергеевна. – Так она уже спит, сейчас рано ложится.
– Нет, хорошо, что спит, мне именно вы. Такая история произошла, хотел бы посоветоваться…
И рассказал, как девочки из одиннадцатого класса увидели Надежду в дачном посёлке, в каком она была состоянии, что она сейчас в доме одного друга и, возможно, завтра придётся звать врача… Полина Сергеевна взволновалась:
– Что же с ней такое? Вчера была совершенно нормальная, только грустная…
– Так вы общаетесь? – удивился я.
– Разумеется, ты же не думаешь, что мы вот так украли чужого ребёнка? Мы на связи, пытаемся решить вопрос. Пока Лена у нас, я говорю Надежде Петровне: ничего страшного, вы нам ничего не должны. И жалко её… Мы с нашим папой хлопочем в исполкоме, чтобы им дали двухкомнатную квартиру, но ведь главная проблема – очень трудный брат?
– Я с ним поговорю, если что, – пообещал я.
– Только без кулаков, пожалуйста, всегда лучше словами.
– А Лена знает, что вы на связи? – спросил я.
– Догадывается, наверное. Я пыталась об этом заговорить, но она как-то вся зажимается сразу, уходит в себя… Рано ещё, думаю, не отошла.
– А я думаю, говорить ей о том, что сегодня было, или нет?.. Что посоветуете?
– Если обойдётся, дай бог, конечно, тогда не скажу. А если… в общем, Саша, я надеюсь, что всё будет хорошо, но ты мне в любом случае позвони, как выяснится. Обязательно, в любое время. Первым делом, как узнаешь, звони мне, договорились?
– Конечно, – заверил я.
Поужинал, вернулся в комнату с чашкой чаю и стал представлять, как однажды Таня придёт ко мне на ночь и мы сделаем не шаг друг к другу, а, может быть, разом все оставшиеся шаги. Надо только, чтобы отцовское суточное дежурство по части наложилось на мамино дежурство по инженерной службе. Но календарь подсказывал, что это произойдёт не скоро, до февраля ни одного совпадения. Ну, если постараться, успеем и после уроков, а родители застанут нас за игрой в шахматы… Закрыл глаза, вспомнил Таню перед нашим недавним купанием, стоящую на гладких камнях, в одних трусиках, ко мне спиной. Не скажу, что видел много античных богинь и замечательных картин эпохи Возрождения – правда, те красавицы полноваты на современный вкус, – но живых девушек на пляже встречал таких, что любая Венера или Таис Афинская обзавидовались бы. Но Таня выделялась даже среди них, – я был уверен, что это правда, не просто хочу так думать. Выделялась не столько гармонией, сколько ощущением её мимолётности: вот сейчас повернётся, шагнёт – и всё исчезнет, от гармонии не останется следа, и я мысленно приближался, чтобы удержать её… Была у Тани особенность – более широкие и прямые плечи, чем у обыкновенной тоненькой девушки среднего роста, и при некоторых движениях казалось, что они готовы разлететься ещё сильнее, нарушить цельность облика – однако не разлетались, чувствовали границу. Зато какая осанка, ни сутулости, ни сколиоза, как красиво сужается книзу спина, какие две ямочки над ягодицами! Обернётся, протянет руки…
6Я захотел переплавить эти мечтания во что-нибудь реальное, сочинить песню для нашего ансамбля. Но, похоже, я мог бы это сделать, только валяя дурака и не подозревая, что пишу песню, а стоит взяться всерьёз, тут же все образы и темы разбегаются по углам: пустота, тишина, унылость… Наверное, время не пришло. Два года назад Иосиф Бродский получил Нобелевскую премию. Узнал я об этом, как и о существовании самого Бродского, прошлой осенью, когда прочитал его стихи и стенограмму судебного процесса. Завистники судили его за тунеядство и выслали из страны. «А кто это признал, что вы поэт? Кто причислил вас к поэтам?» – спросил судья. Бродский ответил: «Никто. (Без вызова). А кто причислил меня к роду человеческому?» Мне особенно запомнилось это «без вызова». Может, и я когда-нибудь, так же спокойно и зная себе цену, скажу нечто подобное… А примерно через месяц после стенограммы я увидел его интервью. «Когда вы начали писать?» – спросил журналист. «Лет в восемнадцать – девятнадцать».
Значит, у меня есть запас.
Стишками мы баловались с Мексиканцем, Серёгой Изуриным, когда сидели за одной партой, но что это были за стишки!.. Буриме, то есть сочинительство на заданные рифмы, оказалось неинтересным. Писать по очереди, не видя предыдущей строки или видя одно последнее слово, было глупо и вмиг надоело. Остановились на том, чтобы писать по очереди и видеть всё. Сидим на алгебре, вдруг мне в голову приходит начало. «Послушай, друг, ты день за днём», – пишу на листе и передаю Серёге, зная, как бы хотел продолжать, но ответ получаю неожиданный: «Меня не уважаешь». Ладно, будь по-твоему. Пишу своё: «Совсем каким-то злобарём», – невольно подсказывая продолжение, и оно впрямь почти такое, как я думал: «Вообще меня считаешь». Несколько минут молча угораем над этим злобарём, подслушанным мною где-то в Питере. Ольга Павловна выводит на доске уравнения, кого-то распекает за недоученный урок, а мы на галёрке перекидываемся: «Так говорил один ковбой» – «Другому в поздний час» – «Когда созвездья над землёй» – «Играют чёртов джаз» – «А тот ему сказал в ответ» – «Послушай, друг любезный» – «Где нас с тобой сегодня нет» – «Валялся конь железный» – «На нём зелёное пальто» – «И чёрные штаны»… Чем дальше, тем разнузданнее получается, и к перемене набегает десять четверостиший отборного бреда с погонями, драками и стрельбой.
Если к этому подобрать аккорды, смягчить некоторые словесные обороты и сделать Песню о Двух Ковбоях? – подумал я. Ерунда, конечно, и Марина вряд ли одобрит, ей подавай высокую гражданственность. Но всё-таки?.. Листок с оригиналом был у Серёги, нарисовавшего иллюстрацию, если только Серёга не запустил его из окна, но я помнил всё наизусть. Сел за стол, быстро воспроизвёл ковбоев и едва потянулся к гитаре, чтобы наметить мелодию, как в дверь снова постучали. Мама принесла телефон, я услышал в трубке лучший на свете голос и мгновенно перелетел мыслями в дачный квартал, в затихший дождь, кружение домов и фонарей…
– Сань, извини, если поздно. Ты ещё не спишь?
– Даже не собираюсь, – ответил я, – Танечка, а ты откуда?
– Из дома, – объяснила Таня. – В общем, она ни на что не реагирует, руки-ноги не согреть никак, пульс еле прощупывается, да я ещё так спать захотела после эмоциональной встряски… Не стала надеяться на себя, отправила Мишку за мамой. Мама пришла, посмотрела и отправила меня к телефону звонить в госпиталь, вызывать машину. Наверное, уже едут, я вызвала.
– Мне подойти?
– Да нет, спасибо, там больше и я не нужна. Мама проедет с ней, отдаст дежурной бригаде, а потом на машине домой.
– А что случилось, она поняла?
– То же, что и я: сильный стресс, шоковая реакция. Я вообще подумала… нет, это не по телефону. А ты звонил Полине Сергеевне?
– Да. Оказывается, они разговаривают и вчера Полина Сергеевна никаких странностей не замечала.
– Что могли, мы сделали, Саша, всё будет хорошо. Ладно, до завтра. Целую.
– А я тебя два раза. И три.
Мы помолчали несколько секунд, и вновь я ощутил подобие неловкости.
– Пока, – сказала наконец Таня и положила трубку. А я набрал номер Полины Сергеевны, рассказал ей всё и пообещал связать с Викторией Александровной напрямую.
7Утром, пока взгляд спросонья не привык к окружающему миру и был обращён скорее внутрь, я видел в голове некий трёхслойный пейзаж. Сверху – солнце и ясное небо такой синевы, какую найдёшь только на открытке с видом Ленинграда или Севастополя. Это Таня, – понял я, – и всё то, что мы друг другу сказали, и что будет впереди до самого конца и дальше. Внизу – тёмный провал, как будто никогда не знавший света. Надежда, – вспомнил я, – она сейчас в госпитале, надо будет навестить или хотя бы передать добрые слова. И вдруг мы всё-таки виноваты в том, что произошло?.. А посередине болталась какая-то серенькая ерунда, и вглядываться в неё было отчего-то стыдно, но я всё же заставил себя и понял, что это песня о ковбоях. Бред, настоящий бред! Непонятно, что мог найти в ней вчера. Никому не буду показывать и сам постараюсь забыть.
И не показал. Репетиция ансамбля, третья по счёту, прошла легче прежних, дело заметно стронулось, или просто на фоне жалкого первого дня любое, даже ползком, движение вперёд казалось мне стартом «Бурана». Сегодня Василий сыграл нам и раздал на листочках три новые песни.
– Наследство от нашей школьной группы, мой одноклассник написал.
– А где он сейчас? – спросила Таня.
– Инженер-теплотехник в Харькове.
– Может, это вы написали? – поинтересовалась Марина, разве что не подмигнув.
– Нет, что вы, у меня никогда не получалось, – открестился Василий, но как-то не очень убедительно.
– А как называлась ваша группа?
– «Депо». Расшифровывайте как хотите: дешёвые понты, деревянные поленья…
– Деловые попуасы, – предложила Таня.
«Детские поллюции», – пришло мне в голову, но я благоразумно смолчал.
– Я пробовала сочинить песню, – сказала вдруг Таня.
– И что вышло? – спросили мы. Таня махнула рукой:
– Ерунда, какие-то девичьи слёзы и сопли.
– Я тоже пробовала, – призналась Марина, – вышла сердитая детская чепуха. Написала Игорю в систему,15 он что-нибудь придумает для нас. На праздники отпустят домой; надеюсь, к этому времени…
– А я даже не пытался, – сказал я, – потому что и так знаю, что выйдет.
– Я ещё постараюсь, – обещала Таня, – завтра уезжаю в Евпаторию на два дня, к бабушке с дедушкой. Может быть, там придёт вдохновение.
– Как же мы без тебя?
– Ну я не нарочно… Обещаю ничего не забыть и вернуться в полной готовности.
После репетиции Таня вынула из сумочки катушку плёнки, и девушки стали её разглядывать. Подозвали и нас: всё прилично, скрывать нечего. Даже в маленьких окошечках, с чёрными зубами и кожей темнее волос, Марина была узнаваема и, как всегда, прекрасна, но для меня гораздо прекраснее оказались последние кадры с такой же негативной Таней.
– Поменялись местами, и Марина щёлкнула, – объяснила Таня на улице, когда мы остались вдвоём, – она сама предложила, я-то не собиралась, лохматая, ненакрашенная, à la naturelle.
– Напечатаешь мне один натюрель? – спросил я. – Ванну, какао с чаем…
– Попробую.
– Мой отец раньше фотографировал и печатал, я смотрел, но в технологию не вникал. А потом у него как-то пропал интерес. «Зенит» дома лежит, уже года два, наверное, не доставали из шкафа.
– Так попроси, пусть даст поснимать, если тебе интересно. Я покажу, что и как…
8Мы направлялись в госпиталь – мимо выселок, сквозь пёструю, разноголосо гудящую на ветру лесополосу; дальше на пути стоял Муравейник – поросший степными травами холм тридцатиметровой высоты. Летом по утрам на нём тренировались десантники, брали штурмом в чистом рукопашном бою, даже без учебного оружия, и то и дело, сгруппировавшись, как колобки, кувыркались с вершины поодиночке и целыми группами, заставляя зрителей ахать, – но я не припомню, чтобы хоть один серьёзно пострадал. Вскочил, отряхнулся – и снова наверх. А в остальное время здесь играла в десантников поселковая ребятня.
– Мне доводилось оттуда летать, – сказала Таня, кивнув на холм.
– А уж как мне доводилось! – ответил я. – Но самому лететь не страшно, гораздо проще, чем смотреть на других.
– Мама не видела… «Ты же девочка, а не Мишка Квакин, а-а-а!..»
– Мне кажется, она сама была такая. Правда?
Таня кивнула, добавив:
– Почаще бы вспоминала об этом… Хотя нет, я несправедлива. Она только в шутку ворчит, а так у нас прекрасные отношения. Даже удивительно, с моими-то заскоками, подростковыми и не только…
Мы могли обойти Муравейник по шоссе с дальней от залива стороны, могли по старой памяти взять его в лоб. Это было интереснее, уж больно красивый вид на посёлок и залив с кораблями открывался с холма. Но дожди… Забраться-то можно, только измажешься весь как чёрт. На обыкновенной прогулке это бы нас не остановило, но сейчас было самое время почувствовать себя нормальными героями.
Разговор перекинулся на Надежду и то, что произошло вчера. Таня рассказала, что так бывает, когда случается событие, которое наша психика не может принять, отталкивает его и кричит: этого не было! этого не может быть! – пока не израсходует все силы, и тогда наступает оцепенение, защитная реакция, чтобы не повредиться умом.
– Ты вчера говорила, что о чём-то сразу подумала, но это не по телефону, – напомнил я.
– Ой, Саш, не хочу пока об этом. Вдруг ошиблась? Извини, ладно?
– Да не за что извинять, – ответил я, и Таня пожала мне руку.
Обойдя холм, мы круто свернули к берегу и минуты через две, вдоль белого, расписанного красными крестиками госпитального забора, дошагали до проходной. «Привет, Славка», – сказала Таня дежурному матросу, он заулыбался, поздоровался в ответ и, ни о чём не спросив, пустил нас на территорию. Здесь было почти безлюдно, только возле склада санитары, лениво препираясь, выгружали из «РАФика» большие коробки, а рядом подметали дорогу несколько больных в синей пижаме, у одного из-под куртки выглядывала загипсованная рука. Я остался в скверике с деревянными скамейками вокруг фонтана в виде чаши со змеёй, а Таня отправилась на разведку в главный корпус и вернулась минут через десять.
– Вроде ненадолго уходила, но уже принесла лекарственный дух, – сказал я, коснувшись её волос.
– Не нравится?
– Нравится, конечно.
– То ли ещё будет… В общем, Саня, я поговорила с мамой. Надежда пришла в себя, но пока ещё слабая, сейчас спит, тревожить не надо. Я передала самые лучшие пожелания от всех нас, но, думаю, она просто не вспомнит. Ни нас, ни как попала на ранчо, ни вообще что там было. Психолог с ней поработает, всё будет хорошо.
Успокоенные, мы двинулись обратно и, теперь уже не сговариваясь, сошли с обочины на тропу, ведущую к Муравейнику.
– Видела в коридоре Лену и Полину Сергеевну, – вспомнила Таня, карабкаясь в гору.
– И что? – спросил я.
– Поздоровалась.
– А брата Лены не видела? Знаешь его?
– Не видела, – ответила Таня, и дальше стало не до разговоров. Только наверху, переведя дыхание, я сказал:
– Здесь хорошо спасаться от цунами. Вон мой дом виден, как раз успею добежать.
– Мой не виден, – отозвалась Таня и, отвернувшись, стала разглядывать госпитальные строения, расположенные изысканным, каким-то венецианским узором. Некоторое время мы молчали.
– Лена красивая, – сказала наконец Таня, – необычная такая, что-то негритянское в лице и светлая кожа. Понимаю, почему она тебе нравится.
– С чего ты взяла?
– А скажешь, нет? – спросила она
Я подошёл и обнял её за талию.
– Танечка, ну что ты выдумываешь?
– Не нравится, что ли?
Я, на миг задумался, собирая верные слова.
– Девочка как девочка. Нет, Тань, я же не буду говорить, что все, кроме тебя, противны, видеть не могу, тошнит от них и так далее. Просто есть ты и остальные. Тебя люблю, рядом с тобой жизнь преображается. А другие?.. Хорошо к ним отношусь. Вот Марина красивая, ты ведь о ней не спрашиваешь? Таня… – и сжал руки довольно крепко.
– Сломаешь, – сказала она, – останутся от меня винтики и дощечки.
– Не веришь?
Таня отвлеклась от госпиталя и, обернувшись ко мне, подставила губы. Это было сильнее вчерашнего, некоторое время холм, город, залив с кораблями просто не существовали. Таня вздохнула так глубоко, как не дышала и взбираясь сюда, поднялась чуть выше и, раскрыв куртку, прижала к груди мою голову. Необыкновенно милые, но уж больно твёрдые чашки под тонкой водолазкой не мешали мне слышать, как бьётся её сердце. Честное, отважное, самое прекрасное… Я скорее сдохну, чем огорчу его.
– Верю, Сашка, – прошептала Таня.
Чуть позже, когда мы отошли друг от друга на шаг и удивлённо посмотрели вниз: как не рухнули только что, не укатились к подножию? – она спросила:
– А ты меня к кому-нибудь ревнуешь?
– А надо?
– Мы не в Одессе, чтобы отвечать вопросом на вопрос.
– Таки да… То есть, нет. Кажется, ни к кому.
– Непорядок, – покачала она головой, – надо срочно дать тебе повод.
– К кому же?
– Подумаю на досуге. Ладно, идём, мне ещё надо собраться к завтрашнему и напечатать, – она приподняла сумочку, где лежала плёнка.
Мы побежали вниз, то и дело оступаясь, скользя и ловя друг друга за руку. Не упали, – думал я, – и здесь не упадём, и, даже будь эта гора ледяная, всё равно никогда не упадём!..
9В последний день каникул я заглянул к Тане перед репетицией ансамбля и застал её в непривычном раздражении.
– Что-то потянуло снова перечитать «Апофегей», – сердито сказала она, – и без слёз опять не обошлось. Как дурочка!
– Когда он её ударил?
Она кивнула.
– Представила себя на её месте?
– Нет, – ответила Таня, – со стороны представила, так гораздо жальче. А ты бы мог ударить женщину?
– Допустим, у неё в руке нож, – осторожно произнёс я, – и, если не ударю, она меня это самое… Тогда придётся и, скорее всего, без раздумий.
– Не, я не такой жёсткий случай имею в виду. Просто в жизни, что-то не то сказала или не тому, изменила, может, как-то подставила, мало ли… И вот ты узнал.
– Лариску Осадчую в пятом классе можно было считать женщиной? – осторожно спросил я.
– Ну-у, вам видней… А кто это? Я и не знаю.
– Летом уехала, а в весной мы – значит, я, двое ребят и девочка – побили её.
– За что?
– Стучала с каким-то прямо сладострастием. Кто куда посмотрел, что неприличное сказал, кому дал списать – всё становилось известно там, – я взглянул на потолок. – Или на контрольной как зашипит: «Изурин, хватит!» – а Павловна не разберётся: «Изурин, сдай тетрадь, два!» А он не делал ничего. Мы терпели-терпели, потом остались после уроков, когда она дежурила, и… Я дал в плечо и затрещину не шуточную.
– И не наябедничала?
– Побоялась народного самоуправления. В шестом классе, тем более старше, так бы уже не сделали.
– Ладно, не оправдывайся, этот грех я вам отпускаю, – сказала Таня. – Но если как здесь – помнишь, в книге?
Я помнил. Герой повести Юрия Полякова, молодой аспирант-историк Валера Чистяков, всё круче сворачивал с научной дороги на партийно-номенклатурную и первое время воспринимал это как игру, такую опасную и заманчивую детскую игру со спичками, но постепенно и как-то незаметно для себя увлёкся. Происходило это в конце семидесятых, то есть лет десять или чуть больше десяти назад. «Тому назад», как обыкновенно пишут в книгах; я никогда не понимал, что значит это «тому», но, раз положено, пусть будет. И вот однажды в Берлине, на конференции дружественных историков, где Валера руководил советской делегацией, а в её составе была Валерина невеста Надя, он произнёс тост за историческую науку, сметающую стены и преграды между народами. Шёл заключительный банкет, и Валера, разгорячённый пивом и шнапсом, просто не заметил, что его слова, при наличии в городе известной стены, звучат довольно-таки двусмысленно. Он понял это уже дома, когда на сборище институтского партийного комитета поднялся человек, которого Валера считал другом, спросил, правда ли, что товарищ Чистяков на банкете призывал разрушить берлинскую стену, и все посмотрели на Валеру так, «как смотрят на ошмётки человека, раздавленного поездом».
Ну и, казалось бы, что может быть лучше? Из парткома выкинут, никаких больше идиотских сборищ, занимайся наукой, как и мечтал, и ни один прокуренный старикан, коммунистическая шишка, не будет орать на тебя, как на салагу. Но Валера уже отравлен, он не может просто так вернуться в прежнюю жизнь. Гардеробщик уважительно подаёт пальто да ещё обмахивает щёточкой – а скоро всё узнает, снова будет швырять, и это кажется самым обидным. Великая сила художественной подробности. Из отдельной комнаты в аспирантской общаге выселят обратно в конуру, и все будут считать неудачником: упустил такой шанс… Вечером он в пьяных слезах жаловался Наде, не очень-то прислушиваясь к её разумным доводам. «Ты же талантливый, а все эти партийные игры – для бездарностей», – убеждала она, а Валера вдруг спросил: откуда, откуда он узнал про стену? Не Надю спросил, скорее судьбу. «Ты только не сердись, но это я ему сказала, – ответила Надя, – в шутку. Я же не знала, что он подлец». Вот здесь-то Валера и ударил её по лицу и навсегда потерял, а вместе с ней – последнюю надежду вырваться из номенклатурного гадюшника. А какой был роман, какие встречи, разговоры…
– Ты бы мог на его месте ударить? – спросила Таня. Я аж передёрнулся от этой мысли, как автоматный затвор.
– Нет, конечно! Даже такого желания не возникло бы, уверен.
– А что бы сказал?
Я помедлил, стараясь как можно более точно представить себя на месте несчастного Валеры.
– Мне было бы неприятно, – сказал, наконец. – Оказывается, ты, Надя, за моей спиной обо мне сплетничала. Смеялись, наверное, вдвоём над глупым Чистяковым. А если бы он не был подлец, я бы и не узнал никогда. Может, ты и с подружками меня обсуждаешь, где там родинка, пардон, на каком месте, а я и не знаю… Неприятно.
– В общем, резонно, – признала Таня, – а как же с карьерой?
– Да и пёс с ней, – искренне ответил я.
– И это не повод, чтобы ударить?
– Думаю, это повод позлиться два часа и забыть.
– Сашка, я тебя обожаю! – воскликнула Таня и, подбежав на цыпочках, поцеловала меня в щёку. – Она, конечно, скажет: ах, я была неправа! – Таня прижала руки к сердцу, – прости, я больше так не буду!.. Ты тут же растаешь, мир, дружба… В общем, не всё так плохо на этом свете. Сейчас, минутку… Переоденусь и пойдём.
10Дела в ансамбле не просто двигались на лад, перемена за время каникул произошла качественная. Всё-таки ансамбль должен быть содружеством равных, – думал я с самого начала и ни с кем не делился этой мыслью лишь потому, что считал её очевидной. У нас же получилось так, что с первой встречи один оказался значительно равнее прочих, и дело тут не в статусе учителя, а просто в опыте и умении. Это было неизбежно, я понимал, однако не мог избавиться от разочарования. Играть хреново – надеюсь, поправимая беда, но вот чувствовать себя в подвале тем же школьником, вызванным к доске…
Что-то переломилось в тот день, когда вернулась из Евпатории Таня. Василий оставил менторский тон, всё больше увлекался и распоясывался; мы, конечно, обращались к нему на вы и по имени-отчеству, но в остальном разница стиралась на глазах. Сегодня, когда мы всё отыграли, он пустился в воспоминания. Легко нам сейчас живётся, – говорил Василий, старчески покряхтывая, – пообещал директору на словах, что не будет никакого панк-рока, и достаточно. А в его годы была обязательная квота патриотических песен. Вот пока не отыграешь «Орлёнок, орлёнок, взлети выше солнца», за своё не возьмёшься. А своё надо было литовать в нескольких инстанциях, где сидят злобные пердуны. Зато какими героями, ломающими систему, они чувствовали себя, когда удавалось протащить в концерт, ближе к финалу, что-то нелитованное! Эх, нам, молодым, не понять…
– Жаль, что мы так поздно этим занялись, – сказала Таня по пути домой. – В следующем полугодии нажму на учёбу, для остального будет мало времени.
– Но хоть сколько-то будет? – спросил я.
– Посмотрим. Вот слетаешь в Питер, привезёшь, наверное, какой-нибудь материал для поступающих…
– Так я не полечу, – грустно произнёс я.
– Почему?
– Думал сразу после Нового года, а ты его отменила, так что всё, – я развёл руками, – Питер обойдётся без меня.
– Э, нет! Я ради такого дела опять его введу. Слушай: мы, императрица всей… всея Галактики, повелеваем: Новому году быть! Ну как?
– Теперь придётся лететь.
– Придётся, – передразнила она, – а что, не хочешь?
– Знаешь, что я вспомнил? Вот это, очень характерным голосом:
Судьбе не раз шепнём: Merci beaucoup!..– Помню, и что?
– Что такое merci beaucoup, я у взрослых спросил, а что такое «расшепнём» – нет. И так понятно: расскажем шёпотом. А «не расшепнём» – значит, будем кричать.
– В логике не откажешь. А я в детстве от тёти Ксении, Машиной и Катиной мамы, услышала выражение «тютелька в тютельку» и представила её перед зеркалом. Смотрит на себя: вот, значит, так всё и есть, тётенька в тётеньку.
– А я, когда слышал песню из другого кино:
Моей душе покоя нет, Весь день я жду кого-то, —там часто повторяется: кавота, кавота, и я думал, кавот – это зверь такой вроде бегемота, очень редкий, из Красной книги, иначе неинтересно ждать.
– А я слышала это:
Огромный мир замкнулся для меня В арены круг и маску без лица, —и не понимала: что за варена, какой у неё круг?
– Может, варёный круг?
Таня, пожав плечами, спела:
Варёный круг?.. Но это колбаса.Мы вошли под арку, соединяющую дома. Все арки в нашем городе были ветреные, но эта – чемпион: не знаю по какой причине именно здесь круглый год задувал такой сквозняк, что не каждый мог пробить его насквозь футбольным мячом или проехать на велосипеде. Несколько лет назад это было одним из наших любимых спортивных испытаний…
Наклонились вперёд и маленькими шагами, нарочно медля, прошли аэродинамическую трубу до середины. И здесь-то я остановился, пронзённый до пят внезапной мыслью.
– Таня!.. – сказал я, перекрывая гул и свист, – слушай…
– Что? – спросила она серьёзно, тоже что-то почувствовав. Я шагнул ближе, чтобы ветер не разнёс слова по всему посёлку, и спросил:
– Ты бы хотела полететь со мной?
– А можно?
– Я почему-то уверен, что твои родители отпустят. Надо поговорить с моими и с бабушкой, дедушкой. Билет ещё не взяли, на днях собираемся.
– Где я остановлюсь?
– Квартира трёхкомнатная, ты можешь в маленькой комнате, а я перекантуюсь в гостиной как-нибудь…
Под ногами с визгом и хохотом то ли пролетела, то ли прокатилась по ветру компания малышни. Мы поглядели им вдогонку, и в следующий миг Таня обхватила меня за шею.
– Санечка! Неужели правда? Фантастика! Спасибо тебе!..
– Подожди, Тань, – сказал я, чувствуя, как целый табун мурашек бежит по спине от её слов и прикосновения губ, – может, ещё и не получится.
– Да какая разница, получится или нет! Сейчас не выйдет, летом всё равно приеду. Главное ведь – желание, правда?
Мимо прошла женщина, одной рукой держа улетающие волосы, другой – развевающуюся сумку, и, кажется, покосилась в нашу сторону неодобрительно. Мы засмеялись, встали к ветру грудью и, растопырив руки, балансируя на весу, навалились на него так, что ещё чуть-чуть – и можно было упасть; Таня вдобавок изобразила «ласточку» и держалась непонятно каким чудом и, когда в сквозняке случился мгновенный перебой – с наветренной стороны мимо арки проехал грузовик, – скакнула вперёд на одной ноге и вновь непостижимо устояла. Весь остаток пути мы разговаривали о чём угодно, только не о возможном путешествии, будто могли спугнуть его преждевременной болтовнёй. Только возле своей парадной Таня вспомнила о нём:
– Извини, Саш, домой не приглашаю, я сегодня плохой собеседник. Буду сидеть и мечтать, спасибо ещё раз!
11По пути домой я вынул из почтового ящика второе письмо Оксаны Ткаченко. Кроме самого письма, в конверт была вложена открытка с цветной фотографией молоденькой девушки в джинсах и рубашке, с микрофоном в руке, и записка с одним только вопросом: «Правда, похожа?!!» У девушки были продолговатые, бесстрашно распахнутые глаза, густая чёлка, прямой нос и мягкие губы в сочетании с чётко обрисованными скулами, а в целом она выглядела как уличный сорванец на границе взросления, – уже не полезет без раздумий на соседскую яблоню, а спросит себя, поступают ли так настоящие леди, и лишь затем полезет. Я вынул из стопки Таниных фотографий новенький портрет: и правда много общего. Françoise Hardy – было написано на открытке. Француженка, – догадался я, – наверное, Франсуаза. Харди?.. У них, вроде, H не читается. Значит, Арди. Должно быть, певица, – понял Штирлиц, – надо будет узнать подробнее…
Но это сделаю позже, а сейчас я решил написать что-нибудь прозаическое. Решал я это и вчера, даже просидел минут двадцать перед открытой тетрадью и отложил, так и не коснувшись её карандашом, взял книгу. Почитаю для вдохновения, вдруг поможет… Книга была толстенная, с жутко неудобным названием: «А. П. Чехов в воспоминаниях современников», – попробуйте-ка произнести это тройное «в» на стыках, если вы не заикаетесь от холода. Я уже прочитал значительную часть, но почему-то с середины, а вчера наугад открыл первые главы – с воспоминаниями братьев, Александра и Михаила, – и очень скоро встретил такое событие:
…где-то в степи, в чьём-то имении, А. П., будучи ещё гимназистом, стоял у одинокого колодца и глядел на своё изображение в воду. Пришла девочка лет пятнадцати за водой. Она так пленила собой будущего писателя, что он тут же обнял её и стал целовать. Затем оба они ещё долго простояли у колодца и смотрели молча в воду. Ему не хотелось уходить, а она совсем позабыла о своей воде. Об этом Чехов, уже будучи большим писателем, рассказывал Суворину, когда оба они разговорились на тему о параллельности токов и о любви с первого взгляда.
Стиль, насколько я мог судить, был так себе, взять хотя бы четырежды повторённую воду… Впрочем, моё ли дело придираться к стилю? – опомнился я, – неизвестно, что бы сам натворил. Но тема была интересна необычайно! Параллельность токов, любовь с первого взгляда – об этом стоит написать. Героем, разумеется, буду я, а девочка… Я стал воображать нашу встречу в степи. Колодец не нужен, не один я читал эти воспоминания. Просто сидим на траве, разговариваем. О чём? Придумаю позже. Солнце клонится к закату. Выгоревшие волосы, босые ноги. Поднимаемся, идём, взявшись за руки. Полынный ветер треплет лёгкое светлое платье. Куда идём? На берег, обрывистый и каменистый, но у самой воды блестит узкая песчаная полоса. Спускаемся: я впереди, она следом, осторожно, держась за мою ладонь. Шагнув на песок, снимаю её с камня, нежные руки лежат на моих плечах, грудь сквозь тонкую ткань касается лица, и никаких твёрдых чашек. Ставлю рядом, бретелька падает с плеча…
И здесь я остановился, поняв, что эта выдуманная девочка совсем не похожа на Таню.
Она не была ничьей копией, но всё-таки… черты Маши, Таниной двоюродной сестры, различались в ней больше остальных, а маленькие босые ноги, видимо, достались от Светланы, моей соседки с пятого этажа. Я попытался вернуться и переиграть всю историю с правильной героиней, но воображение не стерпело такого насилия над собой, взбунтовалось и замолкло.
И сразу появился вопрос: а зачем я всё это пишу? Когда говорило воображение, такие мелочи меня не занимали, я был как Портос: дерусь, потому что дерусь. Каждое написанное предложение само по себе являлось целью. А теперь задумался, что буду делать с написанным? Не посылать же в журнал? Рано ещё…
Так ничего и не решив, закрыл тетрадь и вернулся к воспоминаниям о Чехове.
Сегодня тоже обратился к ним, дочитал заметки Лидии Авиловой – и навсегда принял её сторону в заочном споре, кого же по-настоящему любил Чехов: Авилову или всё-таки Лику Мизинову, – затем вернулся к главе, написанной Буниным. Она была для меня словно намагничена, я не мог понять отчего: такие же буквы, слова, никаких изысков, наоборот всё довольно строго и без прикрас, а впечатление – особенное, иное. Эти страницы два года назад стали моей первой встречей с Буниным, я не знал тогда ни «Жизни Арсеньева» – название слышал, но соотносил его с автором «Дерсу Узала», – ни «Тёмных аллей», «Тени птицы», тем более стихотворений, и до «Господина из Сан-Франциско» мы в школе ещё не добрались…
Были здесь утешительные для меня строки:
Один писатель жаловался: «До слез стыдно, как слабо, плохо начал я писать!»
– Ах, что вы, что вы! – воскликнул он. – Это же чудесно – плохо начать! Поймите же, что, если у начинающего писателя сразу выходит все честь честью, ему крышка, пиши пропало!
И горячо стал доказывать, что рано и быстро созревают только люди способные, то есть не оригинальные, таланта, в сущности, лишенные, потому что способность равняется уменью приспособляться и «живет она легко», а талант мучится, ища проявления себя.
Но сейчас мне открылись другие:
Говоря о нем, даже талантливые люди порой берут неверный тон. Например, Елпатьевский: «Я встречал у Чехова людей добрых и мягких, нетребовательных и неповелительных, и его влекло к таким людям. Его всегда влекли к себе тихие долины с их мглой, туманными мечтами и тихими слезами…» Короленко характеризует его талант такими жалкими словами, как «простота и задушевность», приписывает ему «печаль о призраках». Одна из самых лучших статей о нем принадлежит Шестову, который называет его беспощаднейшим талантом.
Моим любимым рассказом Чехова был и до сих пор остаётся «Дом с мезонином». Время от времени увлекаюсь другими, думаю, что они лучше, но неизменно возвращаюсь в этот дом. Я уже тогда чувствовал, что он гораздо сложнее школьной схемы, которую нам преподносят: мечтательный художник, поэтически беспомощная Женя-Мисюсь, приземлённая Лида из вредности губит чужое счастье в промежутке между земскими выборами и диктовкой о вороне с кусочком сыра… Это было бы просто, как песня о соколе. Я не сомневался, что на самом деле художник влюблён в обеих, в Женю и Лиду разом. Он и впервые увидел их вместе, и, думая об одной, всякий раз перелетает мыслями на другую, они для него – словно два отражения несуществующей совершенной девушки. И он нравится обеим – оттого-то Лида дерзит ему и не может остановиться. Вот, например, Марина ко мне равнодушна и остановилась легко, а Лида не может и злится, в первую очередь, на себя. А художник ни разу о ней плохо не подумал, даже сгоряча не обозвал каким-нибудь сухарём, и дело тут не в одном лишь воспитании… Конечно, он выбрал Женю, доверчивую и по-детски расположенную к нему, но возможно ли это – разделить идеальную девушку пополам и быть счастливым с одной половиной? Не взвоешь ли от тоски по другой, недоступной? И, может быть, Лида, так властно ломающая чужие судьбы, на самом-то деле всё понимает и уберегает всех от куда больших разочарований?.. Неоднозначно, как сама жизнь, и правда беспощадно.
Вот бы и мне написать что-нибудь такое, чтобы меня назвали беспощаднейшим талантом! Но что? Я, наверное, впервые так ясно понял, что сказать мне пока нечего, и даже приуныл. Но пришёл в себя довольно быстро: сейчас нечего, но ведь рано или поздно будет что? Несомненно будет, и, пока это время не пришло, надо тренироваться, чтобы встретить его в полной готовности. Надо писать о том, что знаю, – а я ведь что-то уже знаю? Ну хоть что-нибудь?..
12Сначала я подумал о том, что не люблю и чего в моём произведении не будет. Не люблю целенаправленные сюжеты, когда всё действие подчинено единственной задаче: найти убийцу, клад, поссорить одну парочку, помирить другую, спасти человечество, объяснить, почему мы все так живём. Такие истории, на мой взгляд, слишком явно сфабрикованы, подобны кроссвордам. Есть, конечно, исключения: «Эра милосердия», похождения великого комбинатора, где ловят и ищут, но этим далеко не ограничиваются. Но я ничего равноценного пока не напишу. И вообще, может быть, так получится один раз в жизни.
Что ещё не люблю? Закрученные интриги, нагромождения страстей, откровенные попытки развлечь и удержать внимание. Такие книги похожи на раскрашенные погремушки, которыми авторы трясут перед носом читателя-младенца. Не люблю случайно перехваченные письма и подслушанные разговоры, из которых узнаётся что-то важное. Не люблю безупречных героев с модными причёсками и лысых злодеев, равно как и наоборот. Не люблю назидания с моралью. Недолюбливаю роковых неотразимых красавиц. И просто ненавижу, не переношу на каком-то органическом уровне «говорящие» имена. Не наш человек – непременно какой-нибудь Чужанин, хороший парень – Жаркий… Или может ли хоть кто-то приличный носить фамилию Грацианский? Вмиг узнаешь негодяя с вражеским душком, лощёного и самодовольного. Интерес к книге убит на три четверти, как линкор на клетчатой бумаге, и следующий столь же очевидный персонаж отправляет его ко дну.
Страшилки, ужастики? Слово «триллер», замечу в скобках, было не в большом ходу. Чуть раньше, вероятно, они могли бы быть интересны, но я уже читал опубликованные фрагменты дневника Анны Гуреевой, долго читал, по абзацу в день, больше было не выдержать, и после этой невыдуманной повести все потуги напугать расставленными в определённом порядке буквами имели в моих глазах очень жалкий вид.
Фантастика? После Ефремова, Стругацких, Гаррисона?..
Но всё же были произведения, придраться к которым я не мог и в то же время не испытывал перед ними страха. В них во всех мне виделось нечто общее. Трилогия Льва Толстого, «Капитанская дочка» и повести Белкина, «Степь», те же «Романтики», выученные почти наизусть. Дворовые рассказы Юрия Нагибина, чьих героев – Лайму, Ивана, Вовку Ковбоя, непобедимого Арсенова и других – недавно видел глазами рассказчика, восторженного младшего соседа, а теперь мог бы стать их приятелем. «Смок Беллью», конечно: преодоление всего на свете, авантюризм и невозможное в нашей стране – а, может быть, дело и не в стране? – едва ли возможное в наше время чувство, что ты полный хозяин себе и своему золотому песку…
И ещё довольно много. Я пока не мог выразить словами, что их объединяет. Позже добрался до мысли, что там сначала появляется человек, начинает жить, из этой жизни без усилий возникает сюжет, сами собой рождаются идеи, но ни в коем случае не наоборот.
В тот же вечер я увидел своего героя. Он будто выпрыгнул откуда-то на стол и оказался моим ровесником. Только переехал в новый город… Нет, даже младше меня, но это и хорошо – интереснее будет. Ему интереснее: многое из того, что известно мне, почувствует впервые. А когда дорастёт до моих сегодняшних лет, станет ясно, что из него получится.
13Открывая тетрадь, я уже знал, что героя будут звать Олегом. Его тёзка из одиннадцатого класса был здесь ни при чём, – просто звучит хорошо, энергично и не нуждается в утомительном разнообразии, как, например, Александр, Саша, Саня, Шура… Я взял карандаш и, торопясь, пока не ушла мысль, написал, что первый город в своей жизни Олег помнил отрывками. Помнил тенистую аллею, где учился ездить на велосипеде, – с каждым разом уезжал всё дальше, дальше, меньше боялся упасть, вот и повернул, не упираясь ногой в землю. Помнил соседского пацана, ровесника, – не лицо и не слова, а невероятно громкий визг, острые, как стекло, зубы, каменную выдержку: он не плакал, даже если толкнуть его наземь и пройтись как по газону. Помнил голые загорелые спины на пляже, через которые хочется прыгать, но нельзя. Огромную камбалу на обеденном столе, мороженое, ветер, метущий по улицам горячую пыль, другие смутные видения, и не всегда понятно, было так на самом деле, приснилось или выдумал.
Второй город сохранился прекрасно, связно, во многих подробностях, не хватало лишь одного – первого впечатления, мгновенной картины, которая жила бы в памяти, просвечивая сквозь все дальнейшие открытия. Олег понял это в день знакомства с третьим городом.
Переехали быстро и деловито. Однажды вечером под конец августа мама, вернувшись со службы, сказала, что их с папой переводят в новую часть. Назавтра она вместе с Олегом сходила в школу, забрала его документы. Классную руководительницу и многих учителей он не встретил, но администрация была в сборе. «Удачи на новом месте, будем помнить друг о друге хорошее», – сказала напоследок завуч Марья Сергеевна по прозвищу «Извините меня» и чуть ли не впервые на его памяти улыбнулась: «Точно будем?» Олег кивнул с искренним согласием, подумав, что хорошего, наверное, о нём можно вспомнить не так и много. Учился почти без троек, однажды выиграл весенний кросс, написал сочинение, которое отправили куда-то на конкурс, но что с ним дальше стало, неизвестно… Вот, пожалуй, и всё хорошее. Плохого было больше: несколько драк на заднем дворе, синяки, окровавленные носы. Матерные перебранки, подслушанные кем-то из учителей, запущенная в туалете жутко дымная ракета из фольги, начинённая целлулоидом от теннисного шарика. Прогулы, два разбитых стекла, вечные жалобы девчонок, им даже повод не нужен. Смешки над самой Марьей Сергеевной, которая на каждой линейке произносила долгие речи, кипятясь и поминутно выпаливая грозное «извините меня»… Да в общем ничего ужасного, если разобраться, не лучше и не хуже остальных.
В тот же день Олег увиделся в Доме офицеров с Жекой Старковым, сыграл в настольный теннис и обещал написать из нового города, а если удастся, и позвонить при первой возможности. Андрей Щербина пока не вернулся из Ростова. Жаль, не попрощались… Но ладно, в конце концов, не на Марс уезжаю, – подумал Олег, – ещё встретимся.
Вечером он помогал папе складывать книги в большие коробки, заклеивать их липкой бумажной лентой. Мама собирала посуду, оставляя лишь самое необходимое на ближайший день, и ставила на специальный поддон горшки с цветами. Закончив с ними, слепила и отправила в духовку яблочный пирог. А следующим утром возле подъезда остановился бортовой «ЗиЛ» с контейнером, пришли матросы, наполнили квартиру запахом ваксы и тройного одеколона и вместе с папой принялись разбирать и выносить мебель. Олег помогал, стараясь не путаться под ногами, тащил по лестнице то стул, то велосипед «Орлёнок», подавал их стоящим в кузове. Он лишь теперь заметил, что матросы, которые прежде казались не пожилыми, но уж точно взрослыми, на самом деле мало отличаются от старшеклассников из его школы, так же толкаются плечами, так же изображают испуг, будто бы машина внезапно тронулась, чтобы вправду напугать того, кто стоит к ней спиной. Только в присутствии папы они как-то стихали, и дело, как догадался Олег, было не в том, что папа – их командир, а как раз наоборот. Они ещё не привыкли к тому, что он больше не командир, и, наверное, впервые видели его в обыкновенных гражданских брюках, рубашке и кроссовках.
Ещё Олег обратил внимание, какая тяжёлая вещь – книги. Когда несколько штук лежит в портфеле, то и не чувствуешь, а снести со второго этажа и поднять в кузов целую коробку – даже для двоих крепких парней задача непростая. А двое таких, как он, наверное, и не справились бы.
Конечно, их работа собрала вокруг любопытную толпу, и, когда вещи уехали, Олег ещё долго рассказывал, что теперь будет жить в другом месте, возле самого моря, всего в двадцати километрах от города, где когда-то родился. Поднявшись, наконец, к себе, он встретил матросов, очень весёлых и раскрасневшихся. Их голоса гулко отзывались в опустевших комнатах. «Не жалко уезжать?» – спросила мама. Олег покачал головой, с трудом узнавая квартиру. Лишь по прямоугольным силуэтам, сохранившим первозданный цвет обоев на пожелтевшем фоне, можно было определить, где раньше стоял шкаф, где книжная полка. Ему представилось на миг, что и город за стенами исчез, такие же тени остались от улиц, от парка, школы, от магазинов и даже от соседей по двору, которые только что развешивали уши. Вот только с собой ничего этого не возьмёшь… «Не жалко», – сказал Олег, хотя в носу всё-таки защипало. Но он не показал вида, а тут ещё мама дала кусок пирога, налила в кружку чай, и матросы подарили на память восьмикратный флотский бинокль.
Так, с биноклем на груди и рюкзаком за плечами, Олег через день и вышел из автобуса на конечной остановке своего нового города…
14Хорошо Тане, – думал я, – ничего не боится. Я был не такой и приступал к неизбежному разговору с опаской.
– Мама, – осторожно сказал я, – есть предложение. Даже, скорее, просьба. Одна девочка из одиннадцатого класса хочет после школы поступать на врача в Питере.
– Молодец, пусть поступает. И что?
– Я на каникулах туда полечу. Можно, и она со мной слетает, только ради дела, посмотреть медицинские вузы, взять проспекты, если есть? Если, конечно, бабушка с дедушкой будут не против…
– Ещё чего не хватало, – предсказуемо ответила мама, – отвечать за постороннюю девочку?
– За кого отвечать, зачем? Она взрослая, старше меня на полтора года и с паспортом.
– Не выдумывай. Где она хоть остановится?
– Три комнаты. Остановится там, где я обычно живу, а я в большой.
– Даже не мечтай.
– Но почему нет-то? Почему ты любую новую мысль сразу принимаешь в штыки? Что мешает сделать человеку доброе дело?
– А ты знаешь, как там сейчас живут? – сказала мама. – Это мы здесь, как в оазисе. Наверное, последний год. Разговоры ходят такие, что скоро будем с вечера занимать очередь за продуктами и всю ночь бегать отмечаться. Бросит нас родина на произвол судьбы.
– И о какой защите она мечтает, если так обращаться с защитниками?
– Будут другие заботы, не развалиться бы с гражданской войной, а вы, друзья, выживайте как хотите. А там уже все брошены, полки в магазинах пустые, на улицах темно. Можно подумать, ты не знаешь, на другой планете живёшь. И ещё хочешь кого-то везти…
– Значит, лететь одному мне – это нормально, да? А вдвоём с небольшой девочкой мы превратимся в саранчу и за пять дней объедим весь город, так, что ли?
– Не в том дело. Ты свой. А чужие в такое время…
– Спасибо, – сказал я, – мне теперь очень приятно лететь, зная, что там людям нечего есть и я отберу последнее.
– Не преувеличивай. И ещё раз говорю, ты свой.
– Да какая разница, свой или нет. Думаешь, её родители отправят с пустыми руками? Мы и сами возьмём сухой паёк.
– Какой паёк?
– Картошки килограммов десять, яблоки, несколько банок тушёнки. Кефаль копчёную. Положу в наш рюкзак.
– Чтобы всё провоняло рыбой?
– Упакуем в полиэтиленовый мешок.
– Испортится.
– Не успеет. Ну пожалуйста, не уводи разговор в детали. Возьмём что-нибудь другое, главное – возьмём.
– Откуда?
– Деньги заработали на винограднике. Скоро заплатят.
– Не выдумывай.
– Хорошо, тогда и я никуда не полечу. Буду сидеть в Солнечном до посинения, если ты не можешь даже прислушаться к маленькой просьбе. Всё.
15Хлопнув за собой дверью комнаты, я понял, что разговор ушёл не туда. В конце концов, Таня готова к отказу и не обидится, а цель у поездки практическая – разведать обстановку, – и как же я разведаю, сидя за этим столом? Чёрт, думать надо было, а не выступать.
С другой стороны, я уже не мог представить, как полечу и что буду там делать один… Чтобы хоть немного отвлечься, я вновь раскрыл тетрадь и с удивлением отметил, что воображение по-прежнему со мной и готово двигаться дальше. На чём остановились? Итак, Олег вышел из автобуса на конечной остановке своего нового города. «Через месяц приехали бы на машине», – говорил папа. Он уже несколько лет стоял в очереди на «Жигули», недавно получил права. Олегу самому не терпелось: выучил правила движения, мог, даже разбуженный посреди ночи, сказать, где какая педаль. Скорее бы за городом, на пустой трассе, взяться за руль, проехать для начала хоть сотню метров!.. Но в первый день, проходя мимо рынка, уже в ранний час полного дынями и персиками, Олег подумал, что сегодня лучше так. На машине подъехали бы к самому дому и ничего не увидели, а сейчас им овладела жажда впечатлений. Разглядеть как можно больше всего, почувствовать, запомнить – и непременно за один раз…
Дорогу от вокзала домой я срисовал с нашего городка, по которому достаточно гулял в воспоминаниях, и приводить её здесь не буду. Я подвёл Олега и его родителей к нашему подъезду, поднялся с ними на третий этаж, но на площадке свернул в другую сторону. Когда я сам только приехал в Солнечное, меня удивили арки между домами и совершенно поразили застеклённые галереи, соединяющие дома над арками. Я тут же придумал, что по этим галереям можно бегать из одного дома в другой и вообще там есть параллельное пространство, не пересекающееся с обыкновенным жильём, и только избранные знают, как туда попасть… На деле всё оказалось куда прозаичнее. Каждый этаж этих галерей делился глухими перегородками на четыре части, каждая из частей была дополнительной комнатой торцевой квартиры. Именно в такую квартиру с аппендиксом захотели вселиться герои.
Аппендикс был закрыт на ключ; там хранились вещи прежних хозяев, временно улетевших на Север. В остальном квартира напоминала ту, из которой выехали: квадратная прихожая, просторная кухня, раздельные ванная с туалетом, большая комната для родителей, поменьше – для Олега. Такой же крашенный светло-коричневым пол из плотно подогнанных досок, двери со вставками из матового стекла, даже рисунок обоев похож: бледные листья и гроздья винограда.
Были отличия, и главное среди них – балкон. Мама говорила: «лоджия», но это слово ещё не стало для Олега своим, да и звучало как-то по-девчоночьи. Но, как ни назови, таких огромных балконов он прежде не видел – будто продолжение его комнаты за стеной, состоящей больше из стекла, чем из бетона, четыре на два метра, наполовину встроенный в дом, наполовину выступающий наружу. На балкон можно было выйти как из комнаты Олега, так и из родительской, но папа с мамой туда не спешили, а Олег немедленно вышел, как на капитанский мостик, взялся за перила, посмотрел на молодой парк с низкими деревьями и бирюзовое море, ближе к берегу вспененное белыми гривами. Линия берега напротив дома изгибалась буквой S: её ближнее полукружие представляло собой небольшую бухту с более тёмной, чем в открытом море, водой; дальнее – песчаный мыс, заслоняющий её от штормов. Вся латинская буква была сплошным пляжем, и справа, где она переходила в ровную линию, а пляж продолжался, в море виднелась цепочка оранжевых буйков. Людей было немного: компания из восьми человек, встав на мысу довольно широким кругом, перекидывалась мячом и никому не мешала. Кто-то купался и заплывал за буйки, но это было так далеко, что даже в бинокль Олег различил только похожие одна на другую головы со слипшимися волосами.
А затем из-за штаба – ступенчатой белой башни, выраставшей будто из самой воды правее пляжа, – вынырнул корабль! Хищный, угловатый, острый, со светло-серой передней половиной и почти чёрной задней, он деловито шёл своей дорогой, отбрасывая на волны зыбкую тень, и никому не угрожал, но Олег услышал звуки духового оркестра, пушечный гром, увидел облака порохового дыма, поднёс к глазам бинокль и смотрел, смотрел не отрываясь… В его прежнем городе были батареи ПВО, флотский командный пункт связи, целый военный аэродром. Не было только моря и кораблей.
Проводив корабль, Олег сошёл в каюты. Он ещё не чувствовал себя дома. Для этого надо было, по крайней мере, чтобы приехали вещи, а комнаты пустовали: обедать придётся на подоконнике, спать на надувном матрасе… Но это кочевое состояние было по-своему интересным, и жажда впечатлений от него только разгоралась. Мама вынимала из чемодана привезённую на первое время посуду. Олег, отпросившись погулять, раздумывал, брать ли с собой бинокль. Почти уже взял, но в последний миг вернулся-таки в комнату и оставил драгоценный прибор в рюкзаке.
Обошёл свой двор, оказавшийся пустым, и замер на границе соседнего, откуда звучали ребячьи голоса. Больше десяти человек – может быть, и все двадцать – играли там в знакомую игру «Али-Баба». Взявшись за руки двумя цепочками, одна напротив другой, хором вызывали кого-то из противников, он с разбегу налетал на неприятельскую цепь и, если удавалось прорвать её, забирал с собой одного из тех, чьи руки разошлись. Если же цепь выдерживала – сам переходил в неё.
На мгновение Олег заколебался: подойти, попроситься в игру? Или пока интереснее со стороны?
– …Михайлову сюда! – грянула одна из цепочек. Другая расступилась; высокая рыжая девчонка в синих шортах и белой майке, на вид ровесница Олега или чуть старше, побежала, мелькая длинными ногами, под нарастающий одобрительный крик, налетела на сомкнутые руки, перегнулась через них, повисла, но разъединить не смогла. Одни голоса разочарованно выдохнули, другие восторженно заорали.
Олег представил, как она повиснет на его руке, станет рядом… Надо подойти! Он шагнул к игрокам, но тут произошла неожиданность – прежде всего, для автора. Это совершенно не вязалось с моим опытом, но я просто увидел, как худой белобрысый парень, выйдя из подъезда, взял Олега за плечо:
– Ты что тут делаешь?
– А тебе зачем?
– Что ты здесь стоишь?
– А что, нельзя?
– Сейчас покажу, что можно, а что нельзя.
– Покажи, смельчак!..
Это напоминало сцену из «Приключений Тома Сойера». Обменявшись десятком подобных реплик, противники сошлись, но злости, необходимой для того чтобы махать кулаками, ни у кого из них не было. Они схватили друг друга за что придётся и, дёргая в разные стороны, пытались опрокинуть. Олег был чуть выше и не сомневался, что победит, но внезапно его ноги подлетели в воздух. Перевернувшись, он рухнул на бок, мигом вскочил, кинулся на белобрысого и стал гнуть его за шею. Тот не поддался, а затем, вынув откуда-то из-за спины свою руку, с силой отодвинул голову Олега и свалил его подножкой. Теперь Олег поднимался медленно, сознавая обречённость, и не столько нападал на соперника, сколько из гордости что-то изображал. Белобрысый поглядел на него с видом скуки, будто нехотя шагнул за спину и, потянув назад, подбил колени.
– Ну ты всё понял? – спросил он, даже не запыхавшись. – Понял, я спрашиваю? Или нет?
Олег молчал. Ничто на всей Земле не заставило бы его ответить «да».
– Смотри у меня, – сказал белобрысый и исчез, точно его и не было, за углом пятиэтажки.
Да уж, в роли Тома выступил не Олег. Он встал, огляделся: видел ли кто-нибудь его провал? Кажется, никто. Игра во дворе продолжалась, теперь какой-то низенький крепыш помчался на цепь и не только разорвал её, но и уронил кого-то наземь. Рыжую Михайлову, кого же ещё. Она встала, отряхнулась, смеясь чуть ли не громче всех, и победитель за руку повёл её, как пленницу, в свою команду.
Да ну её вообще! Лицо горело, и от желания играть не осталось следа. Не так он представлял первый день в новом городе…
16– Ты не спишь? – спросила из-за двери мама. Оказывается, она стучалась ко мне, желая поговорить. Я торопливо сунул тетрадку в ящик стола и ответил, что просто задумался.
– Саша, – сказала мама, войдя в комнату, – в общем, мы с отцом посоветовались… Девушка хоть нормальная?
– Какая разница?
– Как это какая? Если хорошая, может, мы бы и согласились. Её-то родители отпустят?
– Отпустят, но у меня уже нет настроения лететь.
– Тебе надо, иначе бабушка с дедушкой огорчатся. Я ещё, кстати, не знаю, как они на это посмотрят.
– Да дедушка меня каждый раз спрашивает, когда же я познакомлюсь с хорошей барышней. Вот, скажу, познакомился. Моя подружка.
– Это он шутит. Но всё-таки она серьёзная?
– А ты как думаешь? Будет несерьёзная поступать на врача, тем более в Питере?
– И у неё там никого нет?
– Никого. Но в институтах есть общаги, если ты об этом.
– Я не об этом, а о том, что она, может быть, авантюристка.
– Совсем без авантюризма скучно.
– Надо думать не о том, чтобы было не скучно…
– Ой, не начинай, пожалуйста. Надо, надо… Любой разговор сведёшь к нравоучению.
– Ты её родителей знаешь?
– Мама работает в госпитале, анестезиолог.
– Так это наследственная тяга. Интересно, где мама училась.
– В Симферополе.
– Почему бы и дочке туда не поступить?
Я пожал плечами:
– Вот хочет в Ленинград. Запретить, что ли?
– А папа?
– Старпом на большом противолодочном. Андрей Викторович Карев, капитан второго ранга.
– Наверное, отец знает, спрошу. Ты выйди к нему, расскажи сам.
– Хорошо, сейчас.
– Фотография хоть есть? Может, я её видела?
– Есть, – я достал из сборника воспоминаний о Чехове заложенную между страницами Франсуазу.
– Хватит, я серьёзно.
– И я серьёзно. Очень похожа, вот смотри, – и показал уже Танины портреты.
– А, знакомое лицо, встречала. Вроде, спокойная девушка, положительная…
– Положительнее не бывает, – честно подтвердил я.
Глава шестая. ТЕТРАДЬ
1Закончились осенние каникулы, и старт новой четверти вместил в себя столько событий, что при более экономном распределении хватило бы на целую неделю. Первое я устроил самостоятельно – встал на десять минут раньше и побрился. Собирался давно, станок с двойным лезвием припрятал в шкафу ещё летом, но всё медлил. Не то чтобы видел в этом действии символический смысл, некую инициацию, после которой всё будет иначе, – просто было лень. И вот победил её, даже не порезался и решил, что бритьё, в общем-то, – пустяковое дело.
Следующее событие: в школу после болезни вернулась Лена Гончаренко. В тёмно-коричневом платье по росту, с белоснежными манжетами и воротничком, в тёмных колготках и туфлях-лодочках, она теперь выделялась среди одноклассниц разве что очень грустным взглядом. Я был готов обломать рога любому, кто тронет Лену, но Метц не задел её, младшая сиротка Мэри не обратила внимания, и я немного расслабился. На первой же перемене «верхние» девочки, как всегда, сбежались к парте Иры Татровой, стали наперебой разговаривать, смеяться, выкладывать на парту картинки с показов мод. Лена стояла поодаль, но добрая Оля Виеру заметила её и призывно махнула рукой. Лена робко подошла, и Оля, посторонившись, пустила её в девичий рой вперёд себя, но сама уже, конечно, из-за спины Лены ничего не видела и, вставая на цыпочки, нажимала ей на плечи: присядь, дай и мне посмотреть!.. Всё это выглядело до невозможности мило; когда же Лена, принятая в общество, вместе с девчонками пошла в столовую, я почти успокоился.
Третье событие: утром в школе появились незнакомцы. Симпатичная темноволосая женщина лет тридцати, немного похожая на Викторию Александровну, в морской форме, но с погонами капитана: вместо золотой продольной полоски – красная; и двое коротко стриженных плечистых мужчин в одинаковых тёмно-серых костюмах. Более высокий из мужчин был, как мне показалось, главнее. Гости заняли кабинет черчения и на уроках по одному вызывали к себе старшеклассников. Дошла очередь и до нас. Одной из первых, в самом начале алгебры, к ним отправилась Лена Гончаренко и, вернувшись минут через десять, что-то шепнула на ухо Ольге Павловне.
– Гурбанов, – сказала учительница, кивнув на дверь.
Лена села на своё место за последней партой у окна. Только я подумал, что она держится молодцом, как оттуда раздался тихий плач, и Ольга Павловна, прервав объяснение новой темы, подошла и стала успокаивать Лену. Тем временем вернулся Гурбанов и с порога рявкнул:
– Жвакин! Цигель-цигель!
Дашу Дятчину из «верхней» компании не пригласили. Олю Виеру, кстати, тоже. И дальше приглашали не всех, и некоторые задерживались очень ненадолго, а кабинет черчения находился в нескольких метрах от нашего, так что к концу третьего урока, геометрии, подоспела моя очередь. Я постучался и вошёл, довольный возможностью лишний раз увидеть приятную женщину-капитана. Она сидела за учительским столом перед раскрытой общей тетрадью, а главный из крепышей расположился у входа и читал или делал вид, что читает «Советский Спорт».
– Садитесь, пожалуйста, – пригласила меня капитан. – Вы Александр, правильно? Я Наталья Борисовна. Хочу задать вам несколько вопросов. Скажите, хорошо ли вы знаете Диму Игнатовича из восьмого «Б»?
Она сказала именно так: Диму, а не Дмитрия, словно подчёркивая неформальность беседы. Дима Игнатович – так звали брата Лены Гончаренко, которого я считал законченной скотиной.
– В лицо знаю, но не больше, – ответил я, на мгновение встретившись с нею взглядом. Красивая, но усталая, тени под карими глазами, припухшие веки, и на лице время от времени мелькает чуть ли не жалобное выражение: отпустите домой, хочу спать! – но тут же сменяется строгим и деловым.
– То есть, назвать его другом не можете? – спросила Наталья Борисовна.
– Не могу.
– И даже хорошим знакомым?
– Не назову.
– А почему, если не секрет?
– Маленький, чтобы быть мне интересным.
– С восьмиклассниками не дружите?
– Только с Андреем Тарасовым, – честно сказал я, – брат его учится в одиннадцатом, я с ним дружу, заодно и с Андреем.
– Значит, с одиннадцатым дружите… Ну а вот, скажем, Алексей Лысенко из того же восьмого «Б» когда-то учился с вами. Он тоже маленький?
Я развёл руки, показывая нечто обширное, как колесо от трактора:
– Большой, но только в этом смысле.
– Понятно, спасибо вам, – сказала Наталья Борисовна.
– А что случилось, если не секрет? – рискнул поинтересоваться я.
– Исчез Игнатович. Скорее всего, сбежал, несколько дней не видели. Интересуемся, вдруг с кем-то делился планами? А теперь о Надежде Петровне Игнатович. Расскажите, пожалуйста, что произошло тридцать первого октября в садоводстве. Это ведь, как я понимаю, вы с друзьями её нашли. Укажите на карте, если ориентируетесь, прямо пальцем, не думайте о хороших манерах.
Наталья Борисовна вынула из-под тетради сложенную карту, развернула, и я по ходу рассказа без труда отыскал наше ранчо и мысленно проделал путь к тому месту, где на пне спиленного тополя сидела в полном ступоре Надежда. Вспомнил и Таню тем вечером и остаток разговора провёл, будто чувствуя её руки на плечах и видя блестящие глаза. Более или менее точно ответил на вопрос о времени, помня, когда закончилась репетиция ансамбля, сколько минут занимает путь от школы до ранчо и примерно сколько мы там пробыли до появления Вики.
– А это как-то связано? – поинтересовался я в конце, – его исчезновение и вот такой шок? Если, конечно, не секрет.
– Думаю, связано, но подробнее пока не могу сказать. И вы, если можно, не распространяйтесь, договорились?
– Конечно.
– Тогда распишитесь вот здесь, что побеседовали, и пригласите Тамару Портнову, – попросила Наталья Борисовна, которую в мыслях я уже называл Наташей, и мы вежливо распрощались. Мужчина в сером костюме кивнул мне, на миг отвлёкшись от газеты.
Тамара Портнова – это младшая сиротка Мэри. Я пригласил её и сел на своё место.
– Ты чего так долго? – спросил Пашка Метц, будто ревнуя, хотя сам, по моей прикидке, беседовал с Наташей чуть ли не вдвое дольше.
– Сделал крюк на обратном пути, – ответил я. – Испытал, знаешь, некоторые позывы.
Оставшиеся до перемены минут пять я думал не о синусах и тангенсах. Если предположить, что этот стресс Надежды вызван исчезновением сына? Вряд ли: столько времени прошло, десять раз могли бы хватиться. И, скорее, это был бы повод действовать, искать, обращаться в милицию, комендатуру, а не цепенеть. Более вероятным выглядел такой ход событий: с нею что-то стряслось, и он, не желая сидеть в госпитале и вообще проявлять участие, пустился в бега. Но это было бы даже не по-скотски, а вообще не знаю как. Может быть, он влез в неприятности и подставил её, а бежал из страха за собственное седалище? Но какие крупные неприятности могут быть в нашем образцовом городке, под охраной всего Черноморского флота? Не убил же он никого, в конце концов? Даже если допустить, что вдруг случайно, по неосторожности?.. Уж это бы вмиг стало известно.
2Четвёртое событие не заставило себя ждать: нас попросили остаться после уроков на лекцию о вреде наркотиков. Прежде на моей памяти таких мероприятий в школе не бывало. «Может, лучше о половой жизни?» – сострил Рыбин и загоготал, но не встретил поддержки даже у Метца, всегда отзывчивого на эти темы. Во взглядах и репликах чувствовалось напряжение: объявленная лекция, хочешь или нет, всё-таки соединялась в уме с сегодняшними беседами, – и я был уверен, что кто-нибудь да знает об этой связи и её причинах куда больше моего. Мы собрались в огромном кабинете географии, вскоре подошли одиннадцатиклассники и заняли свободные места. В трёх партах впереди нас с Мексиканцем сидели Таня и Марина, и ни одна из них не обернулась. В школьных стенах мы с Таней не подавали виду, что знакомы ближе, чем привет-пока.
Проводил лекцию нарколог Валентин Викторович – тот самый, кто листал «Советский Спорт», слушая нашу с Натальей Борисовной беседу. Рассказывал он уверенно, чётким преподавательским голосом, разворачивал перед нами цветные плакаты и диаграммы. Не агитировал, не давил на эмоции – спокойно и подробно объяснял, что такое каннабиоиды, психостимуляторы, галлюциногены, опиаты, как они действуют на нервную систему и внутренние органы, как возникает зависимость, отчего рано или поздно распадается личность. Я не заметил, как пролетело девяносто минут.
До сих пор я очень мало знал о наркотиках и не сильно интересовался, хотя в нашем краю, где индийская конопля растёт как сорняк, невозможно быть невинным в этих вопросах. Друзья время от времени покуривали траву, главным любителем был, как ни странно, главный спортсмен – Куба. Он однажды угостил меня между раундами боксёрского спарринга. Составлял ему компанию чаще других Вадим, но лишь тайком от Светы, сильно не одобрявшей это занятие. Он тоже предложил затянуться, но дальше одного раза дело не пошло. Слишком нежное горло досталось мне от природы. Судя по голосу или по способности не простужаться в самую лютую непогоду, этого не скажешь, но малейшая капля дыма в дыхательных путях вызывала у меня кашель, подобный небесному грому: кто хоть раз его слышал, больше не предлагал ни сигарету, ни косяк. В последнее недели я не то чтобы жалел об этом, но временами размышлял: вот если бы дунуть как следует – вдруг откроется небесный свод, на парашюте спустится хорошая песня, так ведь делали кумиры, пусть и не мои… Но я никогда не пробовал вдохновляться при помощи лекарственных «колёс», помня рассказ Миши о том, как он отведал тарена, не испытал никаких увлекательно расписанных ощущений и даже разочаровался, между делом отрывая от одежды и топя в гальюне мотки проволоки, которые, как живые, цеплялись за брюки и с визгом карабкались вверх. Чужих галлюцинаций мне было вполне достаточно.
Событие номер пять я вновь организовал сам: проводил домой Лену Гончаренко. После лекции, когда первым ушёл одиннадцатый класс – а Таня, великий конспиратор, так на меня и не взглянула, – я поставил Лену перед фактом: иду с тобой, это просьба Оксаны. «Хорошо», – кивнув, тихо сказала Лена, и мы тронулись. Я шёл за ней метрах в десяти как бы сам по себе и думал, что плохое время в классе для неё, кажется, миновало. И в новом образе Лена, даже удивительно, приобрела некоторую строгость и недоступность, так что и младшие наглецы, если я хоть что-то понимаю, должны отвязаться от неё. Вернее всего, они её и не узнают. Я бы сам не поверил, если бы не видел своими глазами, что эта печальная красавица и то растрёпанное, еле стоящее на ногах чучело, которое меньше двух месяцев назад я почти на себе утаскивал из Пиратского сада, – в действительности одна и та же девочка.
Я шёл, сознавая нарастающее отчуждение. Ничего между нами не может быть. Не только у Лены нет шансов – в первую очередь, у меня самого. Не помог, когда ей было трудно, – значит, теперь не имею права использовать её даже в фантазиях. Это и к лучшему, если задуматься, ведь вмешайся тогда хоть раз – возможно, и Таня бы в моей жизни не появилась? И это была бы совсем другая жизнь. Я никогда не обману Таню. И больше не будет этой трещины.
На школьном дворе я догнал Лену, и мы рядом, не за руку и не под руку, пошли к дому Оксаны. Моросил занудный дождь, у меня не было зонта, чтобы раскрыть над Леной. Мы подняли капюшоны курток. И я совершенно не понимал, о чём говорить. Спросить, как даются уроки после перерыва? Но до уроков ли ей сейчас? Как чувствует себя Надежда? Лишние напоминания ни к чему, да и всё, что можно знать, я знал от Тани: чувствует себя лучше, дело идёт к выписке. Есть ли догадки, куда исчез брат? А мне-то какое дело? Пусть хоть в Америку сбегает, там быстро объяснят, почём кило редиса и кто его красит под землёй.
Мы молчали до самого дома, лишь возле крыльца Лена чуть слышно сказала: «Спасибо». А по пути к себе, уже поднимаясь на своё крыльцо, я с разбега налетел на шестое событие, после которого бросил подсчёты.
3– Саша! – окликнула меня Вика, старшая близняшка из одиннадцатого класса. Мы жили в соседних домах, сходящихся прямым углом, наши парадные разделяло не более двадцати метров. Я встречал Вику и Алёну во дворе чуть ли не каждый день, но никогда прежде ни одна из них не звала меня таким трагическим голосом. Я двинулся, но, заметив, что Вика тоже сделала шаг, остановился. Остановилась и она, видя моё движение. Так повторилось несколько раз, мы дёргались друг к другу, замирали и в иной день, несомненно, посмеялись бы, но сейчас почему-то не хотелось. Только с четвёртой или пятой попытки я наконец преодолел наваждение.
– Слушай! – выпалила Вика, едва я подошёл, – хорошо, что ты один. Я в школе не решалась, там все увидят сразу… Вот, короче, это самое… Попробовала сочинить, вдруг подойдёт… ну, для ансамбля. Несколько…
И протянула мне свёрнутую трубкой тетрадь в полиэтиленовой обложке.
– Это здорово, спасибо. Одна или вместе с Алёной? – спросил я, зная, что они на такие шутки не обижаются.
– Это я сама. Алёнка тоже пробовала, но говорит, ерунда получается, даже мне не показывает.
– А ты ей?
– Показала один стишок. Она не смеялась, иначе бы я сразу выкинула.
– Сейчас посмотрим… – я приоткрыл было тетрадь.
– Нет! – воскликнула Вика, схватив меня за руки. – Дома смотри, один! Чтобы я не видела…
– Хорошо, как скажешь.
– И потом, Саш. Если посчитаешь, что это бред и фигня, то выброси! А лучше порви на части и сожги, пожалуйста. Но мне не говори, никому не говори, просто забудь! Мы тут не виделись, я тебе ничего не давала, хорошо?
– А ты думаешь, я прямо так могу оценить, что бред, а что гениально?
– Ну… со стороны виднее в любом случае. Ладно, я пошла. Не забывай о чём договорились, пока!
Прежде чем уйти, она несколько секунд смотрела мне в глаза, будто сомневаясь, правильно ли делает, стоило ли вообще… Стоило, конечно, не бойся, – просигналил я в ответ. Всё сделаю как сказала, неужели огорчу такую прекрасную девчонку! Подъезжая к сией станции и глядя на природу в окно… как там дальше? Поднимаясь по лестнице и вспоминая наш разговор, перед глазами стояло её лицо: длинноватый тонкий нос, большой рот, брови, всегда готовые подняться «домиком» над золотисто-карими глазами… Бывают такие лица, которые даже с серьёзным выражением, только благодаря чертам, кажутся чуть плутовскими – например, у девушки, поющей: «Подорожник-трава». Не скажу, что Вика и Алёна были на неё сильно похожи, – на мой взгляд, красивее, – но впечатление оставляли примерно то же самое. А уж когда улыбнутся – тут даже бронзовый Ильич, если он не бюст, проверит, на месте ли кепка. Обе невысокие, ладные, с каштановыми волосами, отливающими в рыжину, и целым созвездием веснушек, особенно ярких летом, на носу и щеках… Раньше я не задумывался, почему близняшки не встречаются ни с кем из одноклассников или хотя бы матросов, почему домой после дискотек идут всегда без провожатых, вдвоём? Вика была мне ближе, я легко разговаривал с ней, но ведь и сам не посмотрел на неё другим взглядом, когда ещё не появилась Таня. Я подумал, что, наверное, все воспринимают их как нечто целое: обратишь внимание на одну – обидишь другую. Ясное дело, что не обидишь и вряд ли кто-нибудь прямо так считает, но где-то в глубине, в подсознании, подобное чувство наверняка сидит…
4В Викиной тетради оказалось девять стихотворений – и, прочитав первое же, я понял, что больше не буду обманывать себя. Что думал раньше? Подожду восемнадцати лет, девятнадцати, двадцати пяти, много времени в запасе и так далее… А вот и нет его! Ни минуты. Кому дано, тот не ждёт, а пишет; а ты, Саня, хоть двести лет просиди, толку не увидишь, и не мечтай.
Главное, я даже не мог объяснить, почему это было так прекрасно. Видел, что прекрасно, и ни в каких доказательствах не нуждался. Магия?..
Глаза закрыты. Вижу снег. Мне холодно, пойми… Коснись моих холодных век, Покрепче обними. Давай немного помолчим, Раз нечего сказать. Как ясно светят мне в ночи Зеленые глаза!..Перелистнул страницу:
На сердце – огненная горечь, А на глазах – морская соль. Пусть не пришел никто на помощь, Но мне прийти позволь…Что-нибудь особенное есть в этих словах: «Буря мглою…»? Не понимаю!..
Есть, особенное, есть.
Я понимал, что эти стихи можно отправить в любое издание: большая часть того, что печатается в «Юности», рядом с ними покраснеет от стыда и засохнет. Их можно списывать от руки, передавать друг другу, пока не затрутся до дыр, но это не беда, я многое запомнил наизусть с первого прочтения. Непонятно было, во-первых, как из них сделать песни для ансамбля? Если бы я был не я, а, скажем, Алексей Мажуков или Давид Тухманов – думаю, сумел бы написать на них музыку. Будь я Дмитрий Шостакович – вдохновлённый ими, сочинил бы струнный квартет, может быть, вовсе без слов. Или даже симфонию. Но браться за них, не имея ни абсолютного слуха, ни мелодической фантазии, ни дара музыкальной импровизации, ни мало-мальского образования?..
А во-вторых, я не знал, как объяснить это Вике. Сказать всю правду – вдруг решит, что просто не хочу расстраивать? Старалась, писала – и даже для самодеятельности не подошло?.. Я довольно долго просидел в раздумьях, повторяя про себя самые яркие строки, и опомнился, когда до репетиции оставалось полтора часа. Решил, что всё-таки надо попробовать. Невозможно, но надо.
Выбрал два стихотворения и, взяв гитару, стал напевать и прикидывать аккорды.
5«Идём в подвал», – говорили мы о наших репетициях. «Ты из подвала?» «Как там в подвале?..» Вот так, само собой, у ансамбля родилось название не хуже пресловутого «Депо». Мы постепенно набирали репертуар. Первоначальные «Снег», «Пообещайте мне любовь», «Жёлтый ангел» и «Джимми-пират» дополнились тремя песнями, унаследованными от «Депо», и одной, сочинённой Игорем Маринченко, – как и хотела Марина, остросоциальной, про вожаков и толпу. На мой взгляд, она сильно отдавала «Марионетками», но мне ли было критиковать?
Две готовые песни на стихи Виктории я показал через день после нашего разговора. Для того чтобы набраться смелости, надо было сделать что-то неординарное. Во время короткого перерыва я подошёл с гитарой к микрофону и запел «Незнакомку» на мотив «Шаланды, полные кефали»:
По вечерам над ресторанами Горячий воздух дик и глух…И продолжал. Только о припеве Александр Александрович не подумал, пришлось довольствоваться оригинальным, про Костю моряка. После трёх куплетов я почувствовал, что готов показать две песни на Викины стихи: «Венди» и другую, которая получилась в ритме вальса:
В электрическом вальсе Гибнут бледные свечи…– Обалдеть! – сказала Таня. – Это ты сам?
– Нет, это девочка из вашего класса.
– Кто?! – спросила Марина.
– Вика.
– Одна или вместе с Алёной?
– Одна, – ответил я, когда все отсмеялись.
– Надо же, Вичка-то какой талант, – задумчиво сказала Таня, и на её слова откликнулся Василий Васильевич:
– Вичка молодец, а вот ты, Саша, замечаешь, на что похож мотив? Вот это:
Guarda che Luna, guarda che mare…– Действительно… Что же делать?
– Усовершенствовать, я бы вот так предложил, – он наиграл на синтезаторе изменённую мелодию, – и гармонию тоже. Вот это будет в тему, – взял он на клавишах необычный, словно миндальной крошкой присыпанный аккорд, – нормально?
– Да, отлично, – подтвердил я, пытаясь по слуху воспроизвести аккорд на гитаре.
– Обыкновенный си минор, только третью струну прижми не на четвёртом ладу, а на третьем. Большой минорный септаккорд. Вот, правильно, чувствуешь? Давайте я к следующему разу набросаю аранжировку и попробуем.
На том и порешили. Расходились мы тихо, всё ещё под впечатлением стихов. Перед тем как выйти на тёмную улицу, я вспомнил о Франсуазе и вынул из сумки открытку.
– Что-то есть, – сказала Таня. – Надо поискать её песни, интересно.
– Не что-то, а много общего, – возразила Марина.
– Только она, судя по пропорциям тела, ростом метр восемьдесят, как моя двоюродная сестра. Я рядом с ней буду малявка.
– Это которая сестра? – спросила Марина.
– Младшая из двух. Старшая всего-то метр семьдесят четыре.
6Довольно часто я думал, что надо бы, надо вести дневник, заносить в него ежедневно что-нибудь важное. Взяться мешало моё фантастическое терпение: я, например, никогда не мог растворить во рту леденец, разгрызал задолго до естественного финала. Так и здесь: хорошо ведь сразу получить толстую книжку, а когда ещё она заполнится, если в день писать несколько строк? Далеко не каждый день происходит столько событий, как в начале второй четверти.
Но если бы я всё-таки вёл дневник, то ближе к середине ноября записал бы, что Таня в моей душе окончательно взяла верх. Записал бы её слова, сказанные по пути домой: «Саня, ты стал как-то мягче, добрее». И то, что я понял, наконец, как прекрасно иметь чистую совесть.
Я провожал Таню домой всё более кружными путями, через дальние аллеи парка. Особенно притягательной была самая старая и дремучая, похожая в темноте на лесную дорогу. Здесь не было ни души, фонари светили размытыми пятнами, словно пробиваясь издалека сквозь тучи, и ветер дул иной, с сильной можжевеловой нотой. Вошли, остановились…
– Сашка, – прошептала Таня, – весь день хочу сказать… У тебя, оказывается, совсем другое лицо. Не то, к которому я привыкла.
И погладила мой выбритый подбородок.
– Хуже? – спросил я.
– Нет, что ты. Просто необычно. Расстояние между носом и ртом гораздо больше, чем я думала.
Она прошагала пальцами над моей верхней губой; шаг получился модельный – нога за ногу, следы в одну цепочку.
– Как у Алисы Селезнёвой? – спросил я.
Таня нахмурилась, вспоминая.
– Нет, ну всё-таки не так… – И, помолчав секунду, выдала железным голосом Вертера: – А-ли-са. Ви-дишь в уг-лу ба-та-рей-ки?..
И согнулась, прижимая руки к груди. Я склонился над ней, придержал за плечи и, дотянувшись до уха, продолжил:
– А го-во-ри-ли, что я не ро-ман-тик! А! А! А!..
– Да ну тебя! – простонала Таня, пытаясь освободиться. В какой-то миг она присела, и я за руки потянул её вверх.
– А вообще мне нравится, – сказала она, успокоившись, – шёлковый такой…
Потёрлась щекой о мою щёку, её губы оказались напротив… Потом, когда она отстранилась, я увидел в её глазах как будто виноватое выражение, которое встречал уже не раз. Для себя понимал его так: «Извини, что не позволяю большего, но ещё рано», – а иногда и так: «Извини, но большее достанется кому-то другому». Но кем он может быть и где?.. Об этом думать не хотел.
– Саня, а откуда у тебя эта фотография? Ну, с девушкой, Франсуазой?
– Одноклассница подарила. Оксана, бывшая соседка по парте, а может, и не бывшая. Она сейчас в Москве, мы говорили по телефону как раз на середине виноградных работ. Я сказал, что работаю в паре с тобой, она сразу такая: «Ах, поздравляю, Сашка, ты влип, и не отпирайся!» – не знаю почему, может, как-то особенно произнёс твоё имя, а она почувствовала. И вот на днях прислала открытку.
– Понятно.
– Не ревнуешь?
– Ни на вот столько, – показала Таня кончик мизинца. – Даже не думаю, она ведь не Лена.
– Тань, ну причём здесь…
– Ладно, я валяю дурака. Уж и подразнить нельзя…
– А я думаю, где ты научилась так целоваться?
– А я думаю, где ты научился?
– У тебя.
– А я по вдохновению. Ну, ещё уроки замечательных кузин… Теория, не фантазируй лишнего. Практика только с тобой.
Мы неспешно двинулись к её дому.
– Знаешь, что я скажу, Сань? Только никому, это секрет.
Я кивнул.
– В госпитале обнаружили большую пропажу лекарств. Промедол, трамадол, другие психоактивные, но и не только. Судя по всему, тащили что под руку попадётся, не разбирая.
– Кто?
– Уже задержали нескольких. Одного хирурга после ординатуры, я его знаю. Никогда бы на него не подумала. Практиканты, санитары…
– А твоей маме ничего не будет? – спросил я.
– Она же не начальник госпиталя, не главврач, не заведующий складом. Ничего не будет, могут вызвать свидетелем.
– Будь она главврач, думаю, не допустила бы бардака, – сказал я.
– Наверное.
– И давно тащили, если известно?
– Как минимум с весны, больше полугода.
– Ничего себе! И… Тань, лекция о наркотиках как-то с этим связана?
– Верно понимаешь, опомнились. Вещества продавали в том числе и в школе.
– А мне никто не предлагал, обидно, да? Я даже не догадывался ни о чём.
– Грамотно действовали до поры, понимали, кто свой. В нашем классе вообще ни с кем не завязывались, у вас такие уже есть. А главный у них этот… козёл приблатнённый из девятого «Б».
– Земляков? – догадался я.
– Ага, он самый.
Вот, значит, чем промышляла наша «мафия». Вот откуда взялась их сплочённость и вот почему моё появление в Пиратском саду и довольно долгий разговор с Натальей Борисовной так озаботили Метца. Он ведь ближайший подручный Землякова, я часто видел их вдвоём. Выходит, им было что скрывать. Да и Димка Игнатович постоянно возле них отирался. И сбежал, несомненно, из-за этих событий. Раньше других почувствовал опасность. Или струсил, что дружки выставят его крайним. Может быть, уже выставили? Не жалко ни разу. А Надежда?..
– Тань, – спросил я, – а история с Надей тоже оттуда растёт?..
– Думаю, да, вряд ли совпадение, но точно пока не знаю. Мы пришли, Сашенька, спасибо, что проводил.
Раньше слов мне об этом сказал её взгляд, вновь какой-то виноватый. «Извини, что не приглашаю домой… но пока тебе нечего там делать».
7Пятнадцатого ноября Олег и Марина получили в совхозе зарплату. Денег вышло больше, чем мы ожидали, а кроме денег – талоны на покупку баснословного количества великолепных поздних яблок по такой смешной цене, что её как бы и вовсе не было. Мотоцикл бы тут не помог; Миша выгнал из отцовского гаража «запорожец», взял меня грузчиком и осторожно поехал во Фронты. В совхозном магазине мы набрали столько «симиренко», «голдена» и «джонатана» что машина под тяжестью ощутимо просела, и я засомневался, сможем ли вывезти всё за один раз. Последние ящики, не вместившиеся ни на заднее сиденье, ни в багажник, я взгромоздил себе на колени, и мы кое-как тронулись.
Несколько ящиков мы оставили на ранчо, чтобы было чем закусить и угостить любимых учителей, к тому же Оля Елагина с Наташей захотели сделать сидр. Остальное развезли по домам. Как ни возмущалась Таня, как ни требовала дать ей подержаться хотя бы за уголок, я сам втащил её долю на четвёртый этаж, а вскоре и свою, на третий. Чувствовал себя при этом… Хорошо чувствовал. Вроде бы я уже самостоятельный, хозяйственный мужик и несу домой трудовую добычу. И Светлана теперь от своей доли не увильнёт.
А вечером вновь открыл тетрадь. Сочинять, на мой взгляд, было куда интереснее, чем вести дневник. Во-первых, можно писать помногу, хоть за пару часов придумать целую неделю, во вторых – совсем не обязательно каждый день. Я понимал так, что если задаёшь себе вопрос: зачем? – то и не надо мучиться, а приходит настроение Портоса – тогда пора.
8В прошлый раз я оставил своего героя в постыдный для него миг. Олег, поверженный в уличной стычке первым встречным ровесником, поднялся с земли и, немного побродив туда-сюда, чтобы остыло горевшее лицо, вернулся домой. Мама, пока он гулял, на скорую руку сварила картошки, папа принёс с рынка десятикилограммовый арбузище. Олег наелся так, что, наклоняясь, еле-еле мог дотянуться лбом до колен, и почувствовал себя заметно лучше.
В тот день он больше не выходил на улицу, только на капитанский мостик. Смотрел в бинокль на корабли. Стоя на колене, крутился волчком на гладком полу своей пустой комнаты. Читал привезённый с собою роман Виктора Устьянцева «Флагман». Слушал «Маяк» по радиоприёмнику, и время от времени в гладкое пространство музыки и новостей вторгались обрывки каких-то местных переговоров. Часто бегал в уборную, выпускал переработанный арбуз. Казалось, всё прошло… Но ближе к вечеру, когда солнце стало заливать балкон, вспомнил о рыжей Михайловой и заново пережил унизительные минуты. Что он в ней нашёл? Наверное, дура: смеётся без причин. А этому белобрысому он ещё покажет, кто самый крутой! Вот только натренируется как следует – и покажет!
Олег стал отжиматься, приседать, бить кулаками воображаемого противника; несколько раз, запыхавшись, останавливался и вновь начинал упражнения. Когда сил почти не осталось, он стянул мокрую майку и в одних шортах выскочил отдышаться на балкон.
Он как-то и не думал о том, что мостик в доме не один. Не обращал внимания на целый ряд балконов, тянувшихся слева на высоте третьего этажа, – выше и ниже, разумеется, тоже, но эти находились с ним на одном уровне, до ближнего было метра два. И именно оттуда раздался обращённый к нему женский голос.
– Привет! – сказала незнакомка. Олег обернулся и увидел на соседнем балконе темноволосую девушку в тёмно-синем раздельном купальнике.
– Загораешь? – спросила она.
Олег кивнул и что-то промямлил.
– Я вот тоже, – сказала девушка, на вид старшеклассница. – Ты здесь теперь живёшь?
– Да.
– Сегодня приехали? А раньше Света жила. Она улетела в Североморск, папу туда отправили в командировку. Холодно там… – она чуть поёжилась. – Меня зовут Настя, а тебя?
– Олег.
– Очень приятно. Тебе сколько лет?
– Двенадцать.
– В шестой класс пойдёшь?
– В седьмой. В декабре будет тринадцать.
– Светка в восьмой. Маленькая, но мы дружили, она умная. Ходили в гости. Знаешь, что это за окно? – кивнула Настя на окно, разделявшее их балконы.
– Нет… – Олег не мог выйти из растерянного состояния, а вопросы Насти ещё сильнее в него загоняли. В гости, что ли, ходили через окно?..
– Там моя комната, – объяснила она. – Когда она хотела что-то сказать, стучала по подоконнику условным сигналом, я выходила. Когда я хотела сказать, стучала по перилам. Вот такой сигнал.
И Настя костяшками пальцев отбарабанила на перилах два быстрых удара и через короткую паузу – три.
– А зачем условный? – решился спросить Олег. – Можно ведь просто…
– Ну, были ещё и другие.
– А вы… то есть… это…
– Это я, что ли, «вы»? – указала Настя на себя и рассмеялась. – Не выдумывай, я – это «ты». Хочешь спросить, в какой класс пойду, верно?
Олег кивнул.
– А ни в какой, в этом году окончила. Одной пятёрки не хватило до медали. Не прошла по конкурсу в институт и вернулась. Теперь буду готовиться, чтобы через год пройти железно. И надо искать работу. Хотела нянечкой в детский сад, у меня бы получилось, но там нет вакансий. Есть вакансия уборщицы, я бы и уборщицей пошла, но здесь уже мама против: «Не для того мы тебя воспитывали!..»
Настя внезапно скрылась в глубине балкона и заговорила с кем-то, кто спрашивал её из квартиры:
– Что? Да. С привидением, конечно… С новыми соседями. Я достаточно одета! – сказала она после паузы уже с раздражением и вернулась к перилам.
– Ладно, сегодня уже не получится поговорить. Завтра день большой, выглядывай. Пока! – и, махнув рукой, исчезла.
9В школу снова пришла Наталья Борисовна, теперь одна, в джинсах, кожанке и кроссовках. Она собрала нашу команду на перемене и спросила:
– Ребята, вы помните, когда закончили репетировать в тот день?
Какой день имелся в виду, было понятно без слов. Конечно, мы помнили. И только сейчас я заметил кольцо на безымянном пальце её правой руки.
– Сегодня заканчивайте минута в минуту и тем же путём двинемся на участок. Желательно так же одеться. Будем повторять события во всех подробностях.
Мы с Таней, вопреки уговору не выделять друг друга из общей массы, переглянулись. Всех подробностей, пожалуй, не надо… Впрочем, то, что хорошо было бы скрыть, к делу явно не относилось.
Репетиция в тот день была замечательна тем, что мы наконец уговорили спеть Таню. «Спой, Танчик», – вспомнил я единственный вечер у неё в гостях, и это стало последней соломинкой: Таня, погрозив кулаком, сдалась. На её необычный, очень экспрессивный голос, как все и ожидали, замечательно легла одна из Викиных песен, и ещё Василий предложил новую – такое популярное лет десять назад, а теперь подзабытое зимнее регги:
Завтра, Завтра ты ко мне вернёшься, завтра, Нашей улицей пройдёшь завтра, Ты мне снова улыбнёшься завтра…16Одновременно петь и играть на ударных ей было неудобно, палочки пришлось отложить. Василий пообещал выучить до концерта кого-нибудь на подмену, хотя бы Андрея Тарасова, давно проявлявшего к барабанам интерес.
Наталья Борисовна встретила нас на выходе из подвала. Общество ей составляли пожилой географ Демьян Филиппович – герой-партизан и классный руководитель моих друзей – и трое мужчин; один из них держал наготове планшет и ручку, другой – фотоаппарат, а третий стоял чуть поодаль. Мы расписались на листе, где уже были пропечатаны наши фамилии. Коротко переговорив с Натальей Борисовной, к нам присоединился и Василий.
– Идёмте, – сказала Наталья Борисовна, – той же дорогой, в том же темпе. О чём вы говорили по пути?
– Делились впечатлениями, – сказала Таня.
– Это была вторая репетиция, верно? – продолжила Марина. Мы кивнули. – Прошла гораздо лучше первой, все были довольны.
– Особенно некоторые, не будем указывать пальцем, – добавил я. – В первый раз вообще ничего не сумел, а во второй почувствовал, что не полная бездарь.
– Хорошо, идите дальше, на нас не обращайте внимания, – сказала Наталья Борисовна и отошла в сторону. Один из её спутников что-то записал в планшет, и фотограф, заранее расчехливший камеру, снял нас по пути со всех ракурсов.
– Занимайтесь, чем занимались тогда, – сказала Наталья Борисовна, когда Миша открыл дом. Миша, Олег и Андрей, разувшись и повесив куртки, ушли в дальнюю комнату и занялись картами. Девочки вместе со мной остались в предбаннике.
– Не заварить ли нам чаю, как вы думаете, господа? – светским тоном предложила Марина.
– Воды нет, – отозвалась Оля Елагина, приподняв поочерёдно чайник и на две трети полную канистру.
– Я сгоняю мигом! – и, подхватив канистру, я выскочил за дверь. Фотограф, следуя за мной, сделал несколько кадров.
Вернувшись, я снял кроссовки, сел к столу и сказал:
– Жду, вдруг дадут кусочек сахару? – и пальцами оттянул книзу уголки глаз.
– Долго ждали? – спросила Наталья Борисовна.
– Минуты две.
– Понятно. – Выглянув за дверь, она подала знак. Тут же к нам постучались: на крыльце, энергично жестикулируя, стояла Вика в летней рубашке.
«Интересно, кто там сидит?» – думал я по пути к спиленному тополю. Вряд ли Надежда, её надо пожалеть. Если бы её роль исполнила Таня, было бы прекрасно. Также я не отказался бы отнести на ранчо Наталью Борисовну, хоть она и целый капитан, да ещё замужний…
На широком пне, в накинутой на плечи Викиной розовой куртке, сидела незнакомая мне светловолосая девушка лет чуть за двадцать. Рядом стояли Алёна и тот из мужчин, кто всё время держался отдельно. Фотограф сменил плёнку, и под неустанный щёлк затвора я поднял девушку на руки. Потяжелее Надежды, но ничего, долетим.
– Жаль, у нас нет собаки, – подумал я вслух. – Пустили бы по следу, узнали, откуда пришла…
– А вот этого не надо! – сказала неожиданно резко, будто выстрелила, Наталья Борисовна. Я даже вздрогнул. – Не надо самодеятельности и геройства, – продолжала она, – всё понятно?
– Так точно…
– Помогли человеку – и молодцы, а для остального есть профессионалы, – добавила она мягче.
Блондинка в моих руках на миг открыла глаза, подмигнула и вновь притворилась спящей.
Как и тогда, мы молча сидели в прихожей. Стемнело раньше, чем в последний день октября. Выглянула Марина, взяла кружку чаю. Постепенно все стали расходиться, наконец и мы с Таней вышли во двор.
– Куда вы ходили? – спросила Наталья Борисовна.
– До того места и ещё чуть дальше, – ответила Таня.
– Как долго?
– Минут пятнадцать, двадцать…
– Идёмте прогуляемся. – И, когда мы дошли до спиленного тополя, Наталья Борисовна спросила: – Вы о чём-то говорили по пути?
– Да, обсуждали, что случилось. Думали, из-за чего, почему, – сказал я. – Ну, и погоду… Осень пришла именно в те дни.
– Ясно. Вы, Александр, извините, что я так на вас накинулась. Испугалась даже, что уроните девушку. Но действительно подумайте. Вы, конечно, не дети, но пока и не вполне взрослые. Хочется приключений, помню по себе, не так давно это было. Только не на свою голову, пожалуйста, и не на другое место, догадайтесь какое. Вдруг бы действительно нашли? А они могут быть опасны, ну знаете, как загнанные в угол звери? Слышали о таких?
Я кивнул.
– Могут быть и вооружены. У нас военный городок, не забывайте.
– Их уже поймали? – спросила Таня.
– Поймали.
– А это как-то связано с пропажей лекарств?
– Связано. Вы ведь дружите и знаете больше остальных? Что Таня знает, то и Александр?
– Не совсем, – ответила Таня. – Когда я вернулась, то подумала… в общем, что её изнасиловали. Хотела об этом сказать, но притормозила. Пока одни догадки…
– Но это точно? – спросил я.
– Я же не проверяла, как ты это представляешь? Просто вот стукнуло в голову.
– Правильно стукнуло, – сказала Наталья Борисовна. – Теперь подумайте, на что они ещё могли быть способны, если бы вы их вдруг нашли. Только, ребята… Никому. Ни слова.
– Конечно.
– Сами понимаете, зачем лишние разговоры.
– Я потому и вызвала маму, так бы ночь просидела, – сказала Таня.
– Очень правильно вызвали. Ну вот вы поговорили, дальше?
– Я сказала, что остаюсь, – кивнула Таня в сторону ранчо.
– А я пошёл домой и позвонил Таниной маме.
– Понятно. Тогда спасибо, Александр, ваша миссия на сегодня окончена. Идите домой, а мы вернёмся и ещё немного поработаем.
– Звонить Виктории Александровне? – спросил я.
– Нет, это уже ни к чему.
10Дома, поужинав, я вновь открыл тетрадь и вместе с героем перенёсся в летнее утро. Спал Олег беспокойно, в голове мелькали чьи-то длинные ноги, тускло-серые глаза, море, полное кораблей, как перекрёсток в час пик, и кто-то – кажется, он сам – даже ездил по нему на грузовом фургоне… И было что-то ещё, непонятное и невыразимое никакими картинками, – и оно обернулось в конце концов пятью быстрыми ударами: два и через короткую паузу три.
С этим звуком в ушах Олег проснулся, вскочил с надувного матраса и, припомнив разом всё, дёрнулся было на балкон. Ведь не просто так Настя вчера показала сигнал, она разрешила стучать, когда захочется? Или это будет наглость?.. Поколебавшись, он отложил решение на потом и отправился в ванную.
Папа уже ушёл на службу – знакомиться с новым местом. Мама поджарила яичницу и тоже стала собираться по делам.
– Можно, я схожу на пляж? – спросил Олег.
– Сходи, только осторожно. Далеко не заплывай, на солнце долго не сиди, понял? Ключ не потеряй.
– Хорошо, – ответил он, умылся, позавтракал и, вернувшись в комнату, стал раскладывать свои пляжные принадлежности: плавки, кепку с длинным козырьком, вьетнамки, коврик, полотенце… Снова в голове зазвучали эти позывные: два удара, пауза, три, – и повторились не единожды, прежде чем он сообразил, что теперь они раздаются наяву.
Он вылетел на мостик быстрее футбольного мяча. Настя, в майке и спортивных брюках с лампасами, прямо со своего балкона стучала по его перилам длинной рейкой.
– Привет, – сказала она, – не разбудила?
Олег покачал головой.
– Ты хоть скажи: с добрым утром.
– С добрым утром.
– Вот другое дело. Идём на пляж! Хорошо плаваешь?
– Бегаю хорошо, плавать мог бы лучше, – честно сказал он.
– Ничего, я покажу. Давай через пятнадцать минут внизу у подъезда.
А если опять встретится этот белобрысый? – подумал Олег, собираясь. Хорошенькая будет картина: он идёт с Настей, может быть, даже несёт её сумку… И тут выскакивает хмырь и за минуту покрывает его позором. А вот фиг тебе! – решил Олег. – Не буду больше возиться, дам сразу по зубам. А может, и не встретим?..
Обо всех сомнениях он забыл по пути на море. Настя, едва они тронулись, тут же заговорила, и Олег не смог бы вставить даже односложные вопросы в её темпераментный монолог.
– Одного балла не хватило, – рассказывала она, – понимаешь, одного-единственного. Обидно. Приехала домой, думала, скажут: ничего страшного, ты ведь умная, через год обязательно поступишь… Хоть немного поддержки. А тут смотрят, и губы куриной жопкой: ну что же, значит, не тя-анешь… Вон твоя подруга взяла и поступи-ила… А то, что она в Симферополе поступила, а мне одного балла не хватило в Ленинграде, это не считается, так, ерунда. «Что де-елать будешь?» – тем же тоном. «Устроюсь на работу». «Ну давай, давай». Мол, убогая, на что ещё способна? Сходила в садик, говорят: нужны уборщицы. Ладно, я готова. Сказала дома. Что тут началось! Два дня стоял крик. Я говорю: «У нас любая работа почётна, твои же слова». «А ты меньше слушай разные слова! Человека судят по делам!» Я поняла: самое главное в жизни – это пустить пыль в глаза. «Вот у меня дочь студентка!..» А дочь уборщица – разве похвастаешься?..
Олег уже тогда почувствовал, а впоследствии осознал всю зыбкость и как бы незаконность её положения в городе. Здесь существовали только два мира: к одному принадлежал он сам, все школьники и дошкольники, к другому – папа с мамой и все родители. Или ты растёшь и учишься – или служишь, работаешь, воспитываешь собственных детей. Настя выросла из мира детей и не вошла во взрослый – места для таких, как она, здесь просто не было. Не поиграть во дворе, не сходить в магазин. Одинаковые косые взгляды: а что это девица тут делает? Никому, что ли, не нужна?..
– Можно было в техникум пойти, – сказала Настя, – если бы я знала, как тут будет, так бы и сделала. Но хотела подготовиться как следует. А теперь уже поздно. И самое обидное, – добавила она тише, – я ведь не поступила нарочно.
Олег удивлённо взглянул на неё.
– Нет, не то чтобы так решила. Само получилось, но всё равно… Вот представь: я подала документы и узнала, что конкурс – четыре человека на место. И сразу как-то подумала: вот пройду, значит, трое не пройдут. Огорчатся, будут наверное плакать, уедут… Заранее пожалела и где-то потеряла настрой. Сдала экзамены хуже, чем была готова. Там, где знала на твёрдую четвёрку, ответила на трояк. А где знала на отлично и могла всё исправить, получила четыре. Одного балла и не хватило. И ужаснее всего: когда увидела результаты, испытала в первый миг какое-то облегчение.
– А куда поступала? – спросил Олег.
– В педагогический имени Герцена. На математику.
Они зашли правее латинской буквы – туда, где параллельно береговой линии в море покачивались буйки. Это место для больших, – объяснила Настя, – а в бухточке плещется мелюзга и там на глубине полно тины. Не сговариваясь, бросили сумки на маленьком холме поблизости от навеса. Почти безлюдный пляж оказался просторнее, чем выглядел с балкона, волны при безветренной погоде накатывались пенными барашками. Песок с примесью гальки и мелких ракушек был в ранний час уже разогрет. И не было, совершенно не было никакой земли до горизонта и дальше, дальше…
– Хорошо босиком, – сказала Настя, сняв босоножки, и стала расстилать покрывало. – И вот теперь, – продолжала она, – я должна не только подготовиться, но и воспитать характер, понимаешь? Обрести необходимую жёсткость. Кто-то не поступит, будет плакать – ну и чёрт с ним, я поступлю и точка. Тебе надо переодеться? Вот кабинки.
Олег с раннего детства знал, что ходить по улицам в плавках вредно. Он переодевался в жаркой кабине, стены которой не доходили до песка, и видел смуглые ноги переодевавшейся рядом Насти. Только сейчас он обратил внимание, что при большой разнице в росте – она выше почти на голову – размер ноги у них одинаковый, тридцать восьмой. Может быть, у неё длиннее за счёт пальцев, но у него пошире…
Он выскочил наружу и, промчавшись к своему покрывалу, бросился на него животом. Настя вышла не торопясь и, взглянув на него, улыбнулась.
– Ты уже? Шустрый, однако. И симпатичный, вырастешь – берегитесь, девчонки…
Встав на колени, аккуратно сложила ярко-жёлтый сарафан, убрала в пакет и легла рядом. Купальник на ней был другой, в широкую бело-синюю полоску, и вблизи Олег увидел на нём четыре банта. Целых четыре!.. Два сверху – на спине и на шее, – и плавки не на резинке, а тоже на бантиках, завязанных по бокам. Что же она удивляется, что дольше переодевалась!..
Он лежал, стараясь не шевелиться. Настя вскоре перевернулась на спину и забросила за голову руки.
– Олежка, – лениво сказала она, – слушай, ты не спи… Обгоришь в момент и не почувствуешь. Завтра утром поймёшь, когда всё будет болеть.
На лицо она накинула полотенце, словно из деликатности не желая замечать Олеговых взглядов. Он, косясь против воли, увидел, что в такой позе у Насти выступили косточки на бёдрах и, провисая между ними, белый верх трусиков едва касается запавшего живота…
– Идём лучше в море, – сказала Настя ещё немного погодя.
Высыпала ему на спину пригоршню тёплого песка, встала, подтянула нижние бантики и, поманив его рукой, направилась к воде. Не медля и больше не оглядываясь, зашла по пояс, нырнула и, показавшись над волнами метров через пять, поплыла к буйкам стремительно, как торпеда. Олег, пыхтя, догонял как умел – руками загребая по-лягушачьи, ногами бултыхтая вверх-вниз. Он и половины пути не одолел, а она уже поравнялась с ним, возвращаясь. Остановилась, отбросила волосы с лица.
– Давай за мной, – сказала она, – покажу как правильно.
Олег вернулся к берегу, где глубина была ему по грудь.
– Вот так работай руками, – показала Настя, стоя перед ним, – понял? Повтори.
Олег постарался.
– Нет, не совсем. Смотри, – она шагнула к нему, взяла за руку и слегка встряхнула. – Расслабься, не зажимай плечи, я тебя не укушу. Вот, понимаешь? – и описала круг его рукой. – Одна, затем другая. Одна – другая. На каждый гребок два удара ногами. Голова прямо, лицо вниз, выдыхаешь. Каждый второй или третий гребок, зависит от темпа, поворачиваешь голову – и вдох.
– А как смотреть вперёд?
– Ну поглядывай иногда. Постоянно-то зачем? Давай повтори ещё раз и дома вспоминай…
11Надя Игнатович выписалась из госпиталя, но на работу ещё не вышла. За ней ухаживали Лена и Полина Сергеевна, на дом приходил военный психолог. В Севастополе отловили её сына Димку, зависавшего у каких-то приятелей, и, за неимением лучшего места, временно поместили в приёмник-распределитель.
По обрывкам фактов, по косвенным свидетельствам мы с Таней восстановили более или менее правдоподобную картину. Димка не только бегал как хвостик за Земляковым, но ещё и брал на хранение ворованные медикаменты. Брал непосредственно у старших товарищей из госпиталя, и к ним же кинулся, весь дрожа и трясясь, когда Надежда обнаружила дома партию и спросила: «Что это? Откуда?» Что сказали товарищи, неизвестно – но, вероятно, напугали втрое против прежнего.
Они же на следующий день встретили Надю после работы и поинтересовались, не видела ли она дома вот такие таблетки? Отняли, между прочим, у вашего сына при попытке продать. А это – колония, уважаемая, покрывать его никто не будет, не рассчитывайте. Чувства бедной Нади представить легко. Таблетки – правда видела, даже ампулы видела, на что способен сынок – представляет, и, хоть он мерзопакостник, устраивает дома кошмары и таскает деньги из кошелька, всё-таки родной человек. Наверное, она и сама виновата, не сумела как следует воспитать… А, может быть, ни о чём таком и не думала, – бывают минуты, когда все логические доводы теряют смысл.
Как бы там ни было, она согласилась купить молчание известной ценой. Идти до садоводства было недолго. Но за первым разом последовал другой, третий, – и, когда она увидела, что из этого плена не выбраться, сорвалась и почти в беспамятстве пришла через все дачные кварталы к нашему ранчо.
Всё-таки очень жаль, что мы тогда их не нашли и даже не подумали искать.
А Димка от страха удрал в Севастополь и ни о чём не подозревал.
Я осторожно предположил, что теперь он, наверное, многое поймёт и поумнеет.
– Вряд ли, – мрачно ответила Таня, – таких бесполезно учить и воспитывать. Лечить, а не поможет – пиздить, чтобы боялся и вырабатывал рефлекс.
В первый и последний раз я услышал от неё непечатное слово.
Вероятно, она была права; а что Лена с братом такие разные – так у них разные отцы. Может быть, Димка удался в папашу.
Мы написали свидетельские показания. Наталья Борисовна, приходившая в школу ещё трижды, сказала, что вызывать в суд нас не будут: доказательства собраны, хватит на пять судов, экспертиза всё установила и подтвердила. Процесс по делу о хищениях в госпитале решено – вон там, в этих сферах, – подняла она взгляд к потолку, – решено сделать максимально громким в духе перестройки и гласности, с газетными статьями и репортажами по телевидению, а по делу Надежды – закрытым, без лишнего шума. Все получат своё.
12Моё состояние драки ради самой драки на удивление затянулось. Удивление было радостным: тетрадь исписана почти на треть, вопроса, кому это надо, нет и в помине. Один минус: я не знал, чем и когда история закончится, а, не закончив, не мог показать её Тане, потому что героиня была не только не похожа на неё, но во многом противоположна. Откуда взялась, кто прообраз?.. Да бог её знает, она и вышла на балкон ниоткуда, и каждым словом и поступком удивляла меня самого. Впрочем, было небольшое самооправдание: герой тоже имел со мною очень мало общего – как с сегодняшним, так и с тем, каким я был три года назад.
Итак, на следующее утро после пляжа… На следующее утро Олег проснулся бодрый и совсем не обгоревший. Подумал, что без Насти наверняка перебрал бы солнца, но она, опытный человек, то звала купаться, то уводила под навес. Временами хотел поспорить: не дело девчонке, даже такой большой, командовать, – но между «хотеть» и «решиться» слишком долгая дорога. И правильно, что не спорил.
Немного болели мышцы от непривычной работы – плавания, бадминтона на песке, – но это было по-своему приятно. Теперь-то он быстро станет сильным и покажет этому белобрысому!..
После завтрака Олег пошёл с мамой устраиваться в новую школу. Его определили в седьмой «А»; он получил в библиотеке учебники, увидел классного руководителя, директора, завуча, некоторых ребят, среди них и рыжую Михайлову, которую звали, оказывается, Олей. Белобрысого не было нигде.
Мама сразу из школы пошла оформляться на работу: быстро у неё всё получилось. Олег, вернувшись домой, пообедал на кухонном подоконнике и стал повторять движения рук пловца. Они выходили в таком ритме: два быстрых гребка, пауза, три гребка, – будто он заранее готовился услышать знакомый стук. И действительно услышал и, бросив упражнения, выбежал на балкон.
Соседний балкон был пуст. Олег в растерянности огляделся…
– Ку-ку! – сказала Настя, выглянув из окна, разделявшего балконы. – Привет юным подводникам!
– C добрым утром, – ответил он, и она засмеялась:
– Да вроде уже день, на пляж опоздали. Ты скажи, почему только я тебе стучу? Сам, что ли, не можешь? Или не хочешь? Гордый, да?
Олег молчал. Не понимает или смеётся?..
– Помнишь, я говорила о других сигналах? Если наоборот, вот так, – Настя, в этот раз деревянной линейкой, стукнула по перилам три раза и два, – что это значит, догадайся?
Олег пожал плечами.
– Это значит: приходи в гости. Вот так. – Настя постучала ещё раз: три, пауза, два. – Намёк понял?
– Понял, – сказал Олег и развернулся.
– Постой. Через десять минут, договорились?
– Хорошо…
Кажется, таких долгих десяти минут в его жизни ещё не было.
Ему не пришлось даже звонить: Настя распахнула дверь, едва он приблизился.
– Заходи! Не бойся, дома никого. Кроме меня, конечно, – И, проводив его в комнату, добавила: – И тебя.
В комнате легко пахло цветами. У Насти было не совсем то лицо, к которому он уже привык. Отвёл взгляд и, прежде чем оно растаяло в памяти, догадался: накрасила глаза. Не сильно, но достаточно для того, чтобы стать и взрослее, и какой-то более своей, что ли, как в кино. Там на самую прекрасную героиню найдётся нелепый Шурик и легко заговорит с ней, возьмёт за руку. Ещё раз осторожно посмотрел… От мысли, что она сделала это для него, сердце подскочило вдвое сильнее. Вишнёвые босоножки, сиреневое платье без рукавов, с тонким поясом на талии, – неужели вправду хочет понравиться, или он не в меру размечтался?.. Олег и сам не терял даром десять минут ожидания: вымыл руки и лицо, причесал волосы, надел новые шорты, клетчатую рубашку, – но всё-таки рядом с Настей, по здравому размышлению, не тянул и на половину смешного Шурика.
Настя села за письменный стол и спросила:
– Знаешь признаки делимости на три и на девять?
– Да, – ответил он сипловато и кашлянул. – Если сумма цифр делится, то и число.
– А доказать?
Олег пожал плечами: о доказательствах в школе не говорили, просто дали готовое правило. Он даже и не знал, что здесь надо что-то доказывать.
– Иди сюда, смотри. – И, когда он склонился над её плечом, продолжала: – Возьмём любое число, ну, скажем, четырёхзначное. Запишем его в виде abcd. Назови любое число.
– Четыре тысячи пятьсот восемьдесят девять.
– Замечательно. Так вот четыре – это a, пять – b, восемь – с, девять – d. Это понятно, а дальше?
Олег покачал головой.
– Запишем наше abcd, – продолжала Настя, – в виде 1000a +100b +10c + d. Можем так сделать?
– Можем.
– Ставим равно: 999a + a… Ну? Дальше сам.
В голове Олега щёлкнуло, прояснилось, упала мутная пелена, и он легко завершил доказательство.
– Видишь, всё просто, – сказала Настя, – надо только сообразить.
– Ты будешь супер учитель, – отважился он на комплимент и покраснел.
– Спасибо. Что будет непонятно в школе – спрашивай, не только по алгебре-геометрии, по любым предметам вообще. Ладно, садись. Чай, думаю, готов.
Усадив Олега на диван, она принесла из кухни блюдо с персиками и сливами, пачку печенья, две пустые чашки и фарфоровый чайник, поставила всё на низенький столик, скинула босоножки и с ногами забралась на диван. Олег, увидев её тонкие длиннопалые стопы, вспомнил вчерашнюю кабинку на пляже и на миг зажмурился.
– Тебе с сахаром, без? – спросила Настя, взяв чайник.
– Лучше, наверное, без…
– Я тоже привыкла без, из вредности. Однажды услышала, что ни копейки в жизни не заработала и всё, что у меня есть, – это не моё, ну и решила: некрасиво брать чужой сахар, обойдусь. Помню, угощала подругу, налила по привычке без сахара, не спросила, и она вообще не поняла, что это чай. «Что это такое вкусное? Да? Теперь сама так буду». Два года назад, а кажется, будто тысячу… Ну расскажи что-нибудь ты. Где жил раньше, откуда приехал?
Олег назвал свой прежний город.
– Подожди, – сказала Настя, – там же нет моря?
– Моря нет, а моряки есть, – ответил он.
– Сухопутные моряки?
– Даже подземные. То есть они живут на земле, а служат под землёй, на командном пункте.
– Ничего себе. И глубоко?
– Мама говорит, метров пятьдесят. Там очень жарко и вообще целый город не меньше того, что наверху.
– Вот это да! А что ещё загадочного?..
Постепенно Олег разговорился, и оказалось, что рядом с Настей он способен не только пожимать плечами и делать вид, что смотрит не туда, куда можно подумать. Оказалось, он знает даже что-то интересное для неё. Когда он дошёл до города, в котором родился, Настя воскликнула:
– Это же рядом! Сел на автобус, и… Когда ты уехал оттуда?
– В пять лет.
– И с тех пор ни разу не был?
Он покачал головой и неожиданно сказал:
– Хотел бы съездить.
– Так не вопрос, я там каждый угол знаю, была двести раз. Можно будет найти день, и… Как думаешь?
– Можно.
– И отлично. Какой-нибудь выходной. Слушай, я не сказала, чем мы занимались с подругами? У меня есть любимая одноклассница, сейчас поступила в Симферополе в институт… а эти, – Настя взглянула на комнатную дверь, – настраивают меня, чтобы завидовала, не дождутся… Она ростом почти как я и светленькая, а третья с нами – Светка, где ты сейчас живёшь. Маленькая и восточная, она Света Ким. Представь, как мы вместе смотрелись! На всех концертах самодеятельности, вечерах, конкурсах мы танцевали. Сами придумывали движения, костюмы, искали музыку. Сейчас я покажу. Правда, одна не так красиво, но для трёх всё равно места нет. Смотри.
Она соскочила на пол, крутанулась, обдав Олега цветочным ветерком, включила магнитофон и перемотала на нужную песню. Песня была незнакомая Олегу и страшно заводная. Именно такие ему втайне и нравились – там, где гулкие удары барабана быстро чередуются с лёгкими и сухими: вниз-вверх, вниз-вверх… Под такую музыку хорошо подскакивать, и Настя подскакивала, подбрасывала то колени, то прямые длинные ноги, делала сложные движения руками, одновременно пуская по телу волну, и в поворотах, едва не задевая Олега по лицу, разлеталась сиреневая юбка. А музыка всё звучала:
One, two, three, there you go, It isn’t very easy, but I told you so, Feel free from trouble and sorrow. One, two, three, you’re learning fast, You’re looking very pretty in your Sunday best. Don’t worry about tomorrow!..Казалось, Настя не знает усталости. Но, когда она одновременно с последними звуками замерла в шпагате, Олег увидел, как бурно она дышит и как густо бисерные капли усеяли раскрасневшееся лицо.
– Ну… как? – с трудом спросила она.
Олег поднял два больших пальца:
– Во!
Настя, протянув руки, взглянула очень выразительно. Догадавшись, Олег поднялся и помог ей встать.
– Спасибо… – сказала она.
– Фантастика! – ответил он. – Обалденно!..
– Рада… что вам нравится…
– Вы только под иностранное?
– Не всегда, но чаще… Так… слова не отвлекают…
Зазвучала новая песня, медленная.
– Пригласите, сэр… – сказала Настя и, шагнув ближе, коснулась ладонями его плеч. Олег будто оцепенел, хотя расстояние между ними оставалось вполне пионерским. Но даже в такой близости от девушки он прежде никогда не стоял. Более того, какой-то год назад презирал и мысленно звал «бабниками» тех, кто танцует медляки. Вслух, разумеется, было опасно…
– Смелее… – и Настя положила его руки себе на талию. Олег немного освоился и даже как-то повёл – хотя, возможно, это она своими движениями незаметно подсказала, что ему делать. Он чувствовал, как колотится её сердце, – но так было лишь вначале, под конец она отдышалась и даже стала тихо подпевать:
You know, these lonely nights can really bring me down. How can I go on living when I know you’re not around?..и ритмично надавливать пальцами на его плечи. Олег, не решаясь взглянуть ей в лицо, почему-то не сомневался, что глаза её в эти мгновения были хитрыми.
А когда музыка затихла, Настя заторопилась:
– Олежка, спасибо огромное, замечательно провела время, даже забыла о неприятностях. Ты, надеюсь, тоже… но пора. Тебе пора. Иди домой, не забывай, сигналы знаешь… Скоро уже придут… буэ-э-э! – скорчила гримасу и тут же, взъерошив его волосы, рассмеялась: это, мол, не тебе…
13Может показаться, что придуманная жизнь в эти дни заслонила для меня реальную. Но дело в другом. В реальности всё как бы стало на рельсы и катилось пусть и вверх, но уж больно размеренно катилось. Каждая репетиция «Подвала» выходила немного лучше прежней, каждый учебный день прибавлял каплю знаний. Не было качественного скачка. Таня… Как выразительно звучал у неё этот щемящий интервал с ноты ми на си бемоль перед словом «завтра» в одной из строк! Когда Василий просил её повторить, начиная с припева, я был уверен, что он тоже хочет ещё раз услышать… Скачок бы несомненно удался, пригласи она меня в гости, но она не приглашала. А сама заглянула, но не ко мне. Должны ведь родители познакомиться с девочкой, которая полетит в Ленинград вместе с их сыном? Таня пришла, когда мои мама с папой были дома, познакомилась, выпила чаю с яблочным пирогом, поговорила и совершенно очаровала их спокойствием и здравостью суждений. Я проводил её до парадной – вновь дальним путём, через самые старые аллеи парка, изученного нами вдоль и поперёк.
И, вернувшись, открыл тетрадь. Может быть, скачок произойдёт именно с её страниц, кто знает…
Сюжет начинал беспокоить меня своей неуклонной поступательностью, но так решил он сам. Я хотел бы раскачать его, заглянуть вперёд или провести параллельную линию – для чего-то ведь появились в тексте белобрысый парень и рыжая Оля Михайлова, – но, уже зная на опыте, как не любит воображение нажима извне, решил не выделываться. И всё двинулось по-прежнему: день за днём, день за днём…
14На следующее утро после визита к Насте Олег подобрал валявшийся на балконе кусок пенопласта и отбарабанил на её подоконнике приглашающий в гости сигнал. И сам испугался. Как будто проходил мимо машины с открытым окном и рука потянулась к клаксону: неужели сработает? И что потом? Бежать?..
Может, её и дома нет, – успокаивал он себя, – а если есть, эти сигналы ей до лампочки, так она к тебе и пойдёт!.. Звонок в дверь, прозвучавший минуты через две, не стал для Олега совсем неожиданным, но вздрогнуть заставил.
– Звали – принимайте! – весело сказала Настя, ступив через порог, и потрепала Олега по плечу: – Рада тебя видеть. Так спешила, даже не переоделась.
Была она в белой и довольно мятой футболке с коротким рукавом, синих физкультурных трусах и кедах с засунутыми внутрь шнурками.
– Чем удивишь? – спросила Настя, разувшись нога об ногу.
– Да вроде ничем…
– А я-то думала… Твоя комната здесь?
– Да. Как догадалась?
– Ты правда хочешь знать? – спросила она вкрадчиво.
– Хочу!
– Что ж… Пусти в комнату – скажу.
И, войдя в пустое помещение и оглядевшись, объяснила:
– Да просто Светка здесь жила. Тут был стол, тут кровать. Я приходила со своей подушкой драться, она ко мне тоже.
– И кто кого?
– Если это важно… Что главное: процесс или результат?
– Наверное, результат.
Её звонкий протяжный смешок затопил его с головой, а эхо на миг лишило опоры.
– Когда в результате у неё две подушки, а я, лёжа клубочком на боку, закрываю голову, мне как-то ближе процесс.
– Всегда?
– Ну, однажды мы повздорили по-настоящему, всего один раз, я рявкнула, сама испугалась, и она от звука вылетела в коридор. А если дурачиться – мне, наверное, не везло… А ты меня уже удивил, знаешь? Сто лет не слышала такого эха. А-а-а-а! – прогудела она, как оперная певица по радио, и прислушалась к звону во всех углах.
– У-у-у-у! – ответил Олег и продолжил не без сожаления: – Оно последний день, завтра придут вещи.
– Так надо использовать последний день на всю катушку! Давай читать стихи, кто больше вспомнит?
Больше вспомнила Настя, хотя Олег, упираясь до последнего, вытащил из архива даже маленького мальчика, который нашёл пулемёт.
А потом она сказала серьёзно и почти шёпотом:
– Слушай, я вот что хочу спросить. Там есть ещё одна комната. Она закрыта?
– Да.
– Не опечатана? Пломбы нет?
– Вроде нет… Но я не разглядывал.
– И ключ у вас есть. Ну должен быть? Вдруг там прорвёт батарею, вам же надо войти?
– Ключ есть, – кивнул Олег.
– Если бы мы осторожно открыли?.. Можно? Понимаешь, в этой комнате лежат вещи, которые Света и её родители не взяли на Север. И среди них – одна моя. Я давала ей платье, помнишь, говорила о танцах? Чтобы она посмотрела и нашла подходящее для себя, поменьше. А она и не нашла, и не успела вернуть, улетела. Мне за это платье тоже достаётся: «Ты вещи сама не шьёшь, потому и не бережёшь!..» Можно подумать, они хлеб выращивают. А в мусор кидают только так… Это платье в Светкином чемодане, я его знаю. Откроем, а? Быстро найду…
– Ладно, давай посмотрим.
Пломбы на двери не оказалось. Настя повеселела и в своей манере стала поддразнивать:
– Неужели тебе было совсем не любопытно открыть эту комнату раньше? Вот ни капли? А если всё-таки заметят – что скажешь? Приходила наглая соседка и заставила?..
– Услышал звуки, испугался, что прорвало батарею, – придумал он, – а это вода шумела в трубе.
– Летом?
– Может, испытания были…
Дверь открылась беззвучно, как бывает во сне.
– Спасибо. Постой, пожалуйста, на шухере. Хотя какой шухер, всё равно не успеешь ничего… Идём лучше со мной. Если что, вместе услышали странные звуки.
В комнате, сумрачной от плотных занавесок и по сравнению с остальными глухой, оказалось несколько чемоданов, картонная коробка, стол, узкий полированный шкаф и две застеклённые книжные полки, уставленные тяжёлыми томами. Они мгновенно притянули внимание Олега. Он помог Насте, хоть она и утверждала, что сама справится, поднять на стол большой коричневый чемодан и, отвернувшись, подошёл к полкам.
– Я мигом найду! – как-то бармалейски прошептала Настя.
Она отражалась в стекле, и выходило, будто Олег подглядывает, так что и дверцы пришлось открыть. Чего за ними только не было! Энциклопедический словарь юного художника. Юного математика… Юного спортсмена… Шедевры архитектуры!.. Не выдержав, он коснулся переплётов. Сам бы никогда не оставил такие сокровища, будь они хоть десять тонн!
Он почти не вникал в то, что бормочет за спиной Настя:
– Так, замочек кодовый… Но код мы знаем… Сезам, отворись… Куда ты денешься?.. – недолгая пауза. – Нет… наверное, в шкафу… – И, после молчания, наполненного тихими щелчками, шорохом и взволнованным дыханием, произнесла, будто сбросив балласт и взлетев:
– Вот оно! Надо было сразу подумать…
Она держала вешалку, на которой колыхалось что-то сказочное, сшитое как бы из абрикосовых лепестков.
– Заметаем следы преступления! – распорядилась Настя. И, когда они, положив на место ключ, довольные вбежали в комнату Олега, попросила:
– Отвернись, пожалуйста, на минуту. Я скажу, когда будет можно.
Он послушно уставился в стену, воображая перед собою книжные ярусы.
– Вот и отлично! – сказала Настя, когда минута, кажется, ещё не прошла. Олег не реагировал секунду или две, словно просыпаясь, а затем обернулся. Настя, только снявшая футболку, стояла перед ним в одних коротких синих трусах. Мгновение неподвижности – и с её губ слетел испуганный возглас, тёмные глаза округлились, руки метнулись вверх и прижали футболку к груди.
Олег уже вновь рассматривал стену. Будь здесь настоящие книги – пожалуй, вспыхнули бы от соседства с его лицом. Не четыреста пятьдесят один по Фаренгейту, все девятьсот.
– Извини… – выдавил он пересохшим горлом.
– Что извини? Я разве сказала?
– Насть, я думал…
– Думал! – передразнила она, – индюк тоже думал, пока в суп не попал!.. – и, глубоко вздохнув, продолжала спокойнее: – Вот уже матушкины поговорки лезут… Ладно, это я виновата, глупая привычка рассуждать вслух.
И ещё немного погодя добавила:
– Я прямо так и скажу: «можно смотреть».
Впоследствии у Олега случались такие дни, когда одна неприятность тянула за собой другую, другая – третью, будто целый мир восставал на него, и он шёл навстречу новым бедам с каким-то отчаянным, почти весёлым любопытством: а что ещё может произойти?.. Возможно, задаток этих дней, их первый аванс жизнь подкидывала сегодня. Он вновь обернулся, а Настя лишь готовилась надеть абрикосовое платье. Теперь она не закрылась, а бросила его.
– Блин! – воскликнула она и уткнулась в противоположную стену. – Я не сказала, что можно! – голос её прерывался, будто от сдерживаемых слёз. – Я сказала, как скажу, когда будет можно!.. – и по-настоящему всхлипнула. Вздрогнула загорелая спина с хрупкими бусинами позвонков.
Олег, пережив секунды одеревенения мыслей и тела, поднял платье, по опасному, стеклянному полу подошёл к Насте и, стараясь не коснуться её, накрыл прохладной тканью острое плечо. И вышел в прихожую, мысленно телеграфируя, что даже выстрел, даже взрыв теперь не заставят…
Вскоре дверь комнаты приоткрылась, и Настя, выглянув, произнесла каким-то новым, сложным тоном:
– Можно смотреть.
Как будто она притворялась насмешливой и нарочно усиливала, делала заметным притворство. С таким же выражением лица она покружилась, встав на пальцы.
– Нравится? – спросила всё с той же интонацией.
– Очень.
– Спасибо, рыцарь. – Приподняв подол, она сделала книксен на одну и другую ногу. – Мне пора.
– Я ещё, это… Можно будет тебя позвать?
– Разве кто-то запрещал?
Никто, конечно. Тот самый мистер Никто в чёрном пальто, который не запрещал ему позвать ни Сабрину Салерно, ни Полярную звезду.
15«Надо показать», – настраивался я, провожая Таню после репетиции. Что бояться, вряд ли я пишу мрачный бред, читая который она пожмёт плечами, какую-нибудь «Страдалицу Андалузию». А посоветовать что-то дельное или найти ошибки, ускользнувшие от моего внимания, Таня сумеет. Авторский глаз замыливается, вдруг я пропустил косяк наподобие «он видел из окна прекрасные морские виды»?..
По пути мы разговаривали о том, что всё-таки маловато у нашей группы хороших оригинальных песен. Я поделился сном, который впервые посетил меня перед началом виноградных работ, а последнее время являлся нередко и в разных вариациях. То я оказывался в римском Колизее, знакомом по открыткам и картинкам из учебника, вдруг одним прыжком взлетал на верхний ярус и думал: «Ого! вот это я дал!» Тут же, глядя на меня, взмывали на самый верх, плавно спускались по воздуху и вновь поднимались друзья, а я больше не мог оторваться от поверхности, но делал вид, что могу, тоже могу, просто вот хочу постоять на месте… Или это было другое умение – например, дышать под водой. Суть не менялась: я внезапно делал что-то такое, чего не умел никто, за мной повторяли многие – а я после единственного раза терял способность безвозвратно. И ближе к пробуждению обычно понимал, что это сон, сейчас открою глаза в своей комнате; но разочарование было самым настоящим, даже когда я видел привычную стену, подсвеченную лучами парковых фонарей, тень от люстры на потолке, угол книжной полки…
– И я, значит, летаю? – сказала Таня с улыбкой. – Не бери в голову, проще относись. Мне иногда снится, что я не человек, а, скажем, Бородинское сражение, так что ж теперь?
– Хорошо хоть не Куликовская битва, – ответил я. Сомнительная шуточка, и наш смех улетел было путешествовать над Землёй, но, отразившись от стены трансформаторной будки, вернулся.
– Всегда уверены в себе дураки и бездари, – продолжала Таня. – Мне Василий говорил, что временами хочет завязать с музыкой, историей и уйти в дворники. До сих пор, представляешь!
– Что это он с тобой разоткровенничался?
– Не знаю… Наверное, у меня лицо хорошего человека.
Я остановился, увидел её лицо совсем рядом, и настало время практики, так мы теперь это называли. «Практика – только с тобой…» Увлёкшись, я обнял Таню под курткой и не сразу понял, откуда взялись эта внезапная темнота и оглушительный порыв горячего ветра. Когда он немного затих, до меня наконец дошло, что никакой брони вроде чашек на ней сегодня нет и нежное следствие этого лежит точно в моей руке. Сквозь рубашку, но тем не менее…
Таня открыла глаза.
– Вот и всё моё имущество. Негусто, правда?
– Не с чем сравнить, но мне очень нравится. И я слышал, что имущество должно умещаться в ладони, остальное лишнее.
– Ну, если это твоя ладонь… – прошептала Таня, вновь зажмуриваясь. Расстегнуть её рубашку я не рискнул, но почувствовал, что кое-что сегодня всё-таки можно. Другая рука сама легла на её затылок, и пришла вместе с более счастливой в лёгкое согласованное движение, я поцеловал Таню в уголок рта, в подбородок… Она отзывалась прерывистыми вдохами, всё дальше запрокидывая голову, но в какой-то миг словно очнулась и без усилий вывернулась.
– Сашка… Хватит, пожалуйста, больше не надо. Сейчас… постоим минуту и пойдём…
16Удивительно, – вспоминал Олег, – сколько ни видел её за эти несколько дней – всякий раз она была одета по-другому. Раньше не обращал такого внимания на девчонок, чтобы замечать, как часто они, когда не в школе, меняют наряды. Неужели все так делают, или она особенная?..
Непонятны были её слова о процессе и результате. Для него имела значение только победа – и неважно, в шутку или по-настоящему. Когда они с ребятами во дворе без малейшей вражды устраивали рукопашные сражения, каждый хотел победить даже лучшего друга. Какое удовольствие может быть от процесса, от этой потной возни? И о том, что проиграл, Олег никогда бы не стал рассказывать, да ещё так весело и легко, и уж подавно – если вдруг его побьёт второклассник, хотя бы и подушками…
Размышлял он об этом ночью: раньше было некогда, весь день ушёл на обустройство. Утром такой же грузовик, как и в прежнем городе, доставил к подъезду мебель, поднимать её в квартиру пришли матросы – похожие, да не такие. В их глазах отразилась океанская даль, голоса звучали гулом осенних штормов, даже походка была иная, привычная к палубам и трапам.
Комната Олега обретала всё большее сходство с той, откуда он выехал несколько дней назад. Появились тот же самый стол, диван, шкаф с одеждой, полка с книгами. Исчезло эхо. Он продекламировал стихотворение:
Звери вышли из трамвая, На углу стоит пивная…Хватило двух строк: ответом была унылая тишина, словно это Настя, уходя, забрала эхо с собой. Почему она так обиделась?.. – думал Олег, ворочаясь под махровой простынёй. – Он ведь не нарочно. И не успел почти ничего увидеть, а что увидел, тут же забыл. Почти забыл… по крайней мере, очень этого хотел. Но постучаться и объяснить было невозможно – наверное, из-за тона, которым она разговаривала перед тем как уйти. Оказывается, так бывает: слова говорят одно, а голос, взгляд, всё лицо – другое, и это другое весомее…
Здесь он уснул, а утром настало первое сентября. Олег собирался в школу с беспокойством: сегодня-то должен встретиться этот белобрысый, который чуть не испортил ему день приезда! Лучше скорее увидеть и всё выяснить. В школе Олег даже искал его на переменах, но так и не нашёл. Один из седьмого «В» был как будто похож, и Олег внутренне привёл себя в боевую готовность, но парень скользнул по нему безразличным взглядом и, развернувшись, погнался за кем-то пробегавшим в стороне. Не тот, показалось.
Не встретил его Олег и на следующий день. А дома, когда уже привстал из-за стола, сделав задание по физике, услышал знакомые позывные: два удара и три. Стул, грохоча, отлетел в угол, и Олег со всех ног кинулся на балкон.
– Привет! – Настя вытянула из окна руку, и Олег пожал её. – Я жду, жду, что постучишь, решила сама. В школе сильно грузят с первых дней?
Олег покачал головой:
– Пока ничего особенного.
– Или, может, раскрыли нашу вылазку, тебе влетело и ты на меня сердит? – спросила она, понизив голос.
– Не раскрыли.
– И замечательно. Я боялась, вдруг тебя подставила… Иногда делаю что-то, прежде чем подумать. Но платье моё, не сомневайся. Чужое не возьму.
– Я не сомневаюсь.
– Мне по размеру, ты видел. Сейчас даже великовато, с моими переживаниями. За это вчера тоже получила выговор.
– За что?
– Люди, понимаешь, видят, какая я худая, и думают, что меня дома морят голодом. А это стыдно. Была бы как поросёнок, тогда стыдиться нечего.
Они рассмеялись.
– Не надо как поросёнок, – сказал Олег.
– Не буду, обещаю. Ну хорошо, – продолжала Настя, – если твои мама с папой и сегодня ничего не заметят, будем считать, пронесло.
– Сегодня точно не заметят.
– Почему так уверен?
– Папа ушёл в море, мама дежурит, вернётся завтра.
– Значит, мы спасены. А я утром тренировалась писать сочинение на тему «Мой друг». Написала… угадай о ком?
Олег пожал плечами.
– Да ладно скромничать, всё понимаешь. Держи, – она протянула тетрадь, – будет правильно, если дам почитать. Не забывай!
Сегодня Олег не заметил – наверное, от радости, – как она была одета. Но, кажется, опять в чём-то новом.
Первые два листа её тетради были исписаны очень ровным почерком, буква к букве и без единой помарки. Самому Олегу, чтобы добиться такой чистоты, надо было переписать страницы раз десять, Насте – наверное, хватит трёх… В то, что хоть кто-нибудь сумеет так с первого раза, он бы никогда не поверил.
Настя писала:
Анастасия Левченко
Сочинение на тему «Мой друг»
Когда я училась в школе, у меня было много друзей, но ни одного очень близкого. У меня была мечта уехать в Ленинград, никто из друзей не разделял её. Я понимала, что, даже если очень сильно с кем-нибудь подружусь, всё равно придётся расстаться. Поэтому старалась не привязываться ни к кому слишком крепко. Иногда это было нелегко. К тому же, многие считали меня слишком гордой, а я была просто застенчивая и скрытная.
Моя первая попытка уехать оказалась неудачной. Я вернулась домой и поняла, что друзей в городе у меня не осталось. Может быть, кто-то ещё приедет осенью, но сейчас нет никого. Мне было бы совсем грустно, если бы у меня не появился новый друг.
Он появился неожиданно – приехал и стал жить в соседней квартире. Он немного младше меня, его ещё нельзя назвать юношей, но умный, и я почти не замечаю разницы в возрасте. У него ломается голос: то говорит мальчишеским голосом, и вдруг какое-нибудь слово скажет почти басом. У него большие серые глаза и немного вьющиеся каштановые волосы. Он довольно высокий для своих лет, с красивой пропорциональной фигурой, но с большими руками, ногами и головой. Таких ребят иногда сравнивают с щенками крупной породы, какой-нибудь овчарки. Пусть он не обижается, я считаю, что это очень хорошее сравнение. Вырастет такой же большой, добрый и смелый.
Он многое знает и умеет интересно рассказывать. Я узнала много нового о городе, в котором он раньше жил. Оказывается, это таинственный город с подземными лабиринтами, а для меня он был просто маленьким кружком на карте. Ещё мой друг весёлый и понимает шутку, с ним никогда не скучно. При этом он очень воспитанный и тактичный. Когда я, обрадовавшись такой хорошей встрече, повела себя в один из дней слишком легкомысленно, он мог бы, наверное, рассердиться, но вместо этого понял и простил меня.
Я считаю, что мне очень повезло с моим новым другом. Иногда я думаю, что хотела бы такого брата, а иногда – что для брата сойдёт и кто-нибудь похуже, а этот мальчишка мог бы сыграть в жизни более важную роль.
Сочинение понравилось необыкновенно. Олег захотел так же красиво ответить, но быстро понял, что не сумеет написать ничего даже отдалённо похожего. Тогда – нарисовать её в сиреневом платье, как в тот день, когда у неё гостил.
Открыл альбом, взял цветные карандаши, но отложил через несколько минут. Ерунда получается! это ещё труднее, чем написать. Надо потренироваться на чём-нибудь попроще. Принёс из кухни стакан с водой, поставил перед собой на стопку тетрадей и учебников. Теперь из-под карандаша выходило что-то похожее на стакан, но всё равно Олег был недоволен. Он догадывался, что есть какие-то секреты мастерства, которые он сейчас пытается открыть заново. Да несомненно есть… И, совсем немного поколебавшись, Олег сделал то, чего не должен был делать, но знал, знал, что рано или поздно не устоит. Снова забрался в комнату, где однажды побывал вдвоём с Настей, приоткрыл стеклянную дверцу и бережно снял с полки энциклопедический словарь юного художника.
17Интересно, был ли в самом начале хоть один намёк на художественные способности? – подумал я. Кажется, не было… Значит, будет.
И дописал к тому абзацу, где Олег после разговора с завучем Марьей Сергеевной размышляет, можно ли вспомнить о нём что-то хорошее, ещё несколько строк. Неплохо рисовал, учительница Жанна Ивановна всегда хвалила, а он даже не старался, всё получалось само. Это, может быть, наследственное. В спортивном зале уже целый год висел плакат о пользе утренней зарядки: мама с папой работали над ним несколько вечеров и мальчика в синих трусах и белой майке, показывающего, как надо прыгать, отжиматься и приседать, срисовывали с Олега. Все в школе его узнали, и он пару недель, пока рисунки не примелькались, был слегка знаменит.
Этот случай я взял из своей биографии, пусть послужит делу. Ещё непонятно было, как отнесётся герой к такому вторжению в прошлое… Отнёсся благосклонно, – понял я через несколько минут.
Поздно вечером, когда Олег поговорил по телефону с мамой, умылся и, сидя на диване, читал в энциклопедии статью об Оресте Кипренском, вновь раздался стук по балконным перилам, но какой-то странный: просто три удара, через паузу – еще три, и опять…
– Доброй ночи, – прошептала Настя, выглянув из окна.
– Анастасия Левченко, – ответил он так же тихо. – Очень понравилось сочинение, перечитал десять раз. Поэтому и не сигналил, чтобы тетрадку не отдавать…
– О том, что ты хитрый, я написала?
– Нет…
– Напишу ещё, подожди. Рада, что понравилось, я старалась.
На самом деле Олег не сигналил по другой причине. В квартире Насти вечером как будто гремел скандал: сквозь стену доносились крики, в которые он не вслушивался, что-то хлопало и звенело, разбиваясь. Но сейчас она была спокойна.
– Что значит этот сигнал? – спросил он, трижды коснувшись перил.
Настя на миг приложила к губам указательный палец.
– Дома никого? – произнесла она почти беззвучно.
Олег кивнул и жестом указал, что да, только он один.
– Сейчас узнаешь. Держи, повесь куда-нибудь, – она протянула сетчатую авоську.
– Есть.
– Теперь вот это. – В руках у неё была верёвка с карабином на конце. – Видишь над головой железную скобу? Пристегни, только тихо.
– Готово.
Настя, распахнув половину окна, вылезла на подоконник: босиком, в цветастой пижаме и широком кожаном офицерском ремне, к которому на глазах Олега прицепила другой конец верёвки. Жестом показав Олегу отойти, она шагнула с подоконника на перила, бесшумно спрыгнула на бетонный пол и, потянув какой-то шнурок, прикрыла за собой оконную створку.
– Ты в ужасе? – спросила она уже в комнате. – Не ожидал такого?
– Ты смелая…
– Ладно, мне сейчас будет немного страшно.
Он взглядом показал на диван.
– Спасибо. – Настя села на краешек, тщательно отряхнула подошвы, забралась на диван с ногами и, обняв колени, положила на них голову. Замерла, будто прислушиваясь к себе, и через пару минут, когда Олег почти решился сесть рядом и погладить её, встрепенулась и скрестила ноги по-турецки.
– Всё в порядке, живём, – сказала почти весело.
– А как будешь обратно? – спросил Олег, подставляясь под шуточку: что, мол, хочешь быстрее спровадить? Но Настя показала, вытянув из-под пижамной футболки, ключ на плетёном шнурке:
– Естественным путём. Или ночью, когда уснут, или утром, когда уйдут. В комнату ко мне не заглядывают.
– Лучше утром, – тут же сказал он. Она улыбнулась:
– Посмотрим. Твоя мама когда придёт?
– В десять часов.
– Тогда можно. Да не переживай, я впервые так залезла почти полтора года назад. Света утром захлопнула дверь, а ключ оставила дома. Звонит ко мне в шоке. Ничего особенного не случилось, правда? Родители вечером придут, но её заклинило. Наверное, потому что в первый раз так произошло. Разговариваем, слушаем музыку, а у неё то и дело взгляд останавливается: «будут ругать… будут ругать…» «Ладно, – говорю, – у тебя дверь с балкона в комнату открыта?» «Форточка должна быть открыта…» «Что-нибудь придумаем». Она хотела сама лезть, но у меня дома я командир. Сидеть-бояться! И шагнула. А потом – головой вперёд в форточку и открыла квартиру изнутри. Как она благодарила! Я думала, растаю, как мороженое.
– И не страшно было?
– Когда лезла, совсем нет. А минут через десять накрыло, я даже заплакала. Потом, чтобы было проще, сделала страховку.
– И всё равно лазаешь, хоть и страшно?
– Так когда лезу, не страшно. Голова ясная, ноги не дрожат. А что потом, – Настя махнула рукой, – пройдёт. С каждым разом легче. Сегодня почти ничего не было, ещё и потому что перед тобой стыдно раскисать. Я к Светке так ходила в гости сто раз, даже при её родителях, и ни разу не попалась.
– И дома тебя не хватились?
Настя засмеялась:
– Как же меня хватятся, если я сказала «спокойной ночи»?
Олег посмотрел на неё с недоумением.
– Не понимаешь? Смотри, каждый вечер, где-то в полдвенадцатого, я как бы лежу в постели, и мне через дверь говорят: «Спокойной ночи». Я должна ответить: «Спокойной ночи», – и после этого считается, что я сплю.
– А если не ответишь?
– Возмущаются: что, мол, оглохла? Не слышишь, что тебе говорят?
– А если уже спишь?
– Что делать… Проснулась, ответила. Положено. Зато после могу заниматься чем угодно, только не шуметь. Раз уж сказала – нет сомнений, что сплю. Великое дело – ритуал.
– А «с добрым утром»? – спросил Олег.
– Это по телефону, часов в девять. Да, слушай, я принесла пирог с разными ягодами, сама испекла. Сейчас достану, а ты ставь чайник, хорошо?
После недолгих хлопот они вновь расположились на диване.
– Как твоя работа? – спросил Олег. – Нашла?
– Сегодня сделала ещё один заход. Разносить газеты, письма.
– И что?
– Сказала дома, тут же включилась пожарная сирена. Дочерью почтальонкой не похвастаешься. Да я уже не надеюсь, разве здесь дадут работать?
– Почему?
– А над кем тогда чувствовать моральное превосходство? Грустно это на самом деле. У меня есть подруга в твоём родном городе, тоже Настя, старше на два года. Была мысль уехать к ней. В феврале исполнится восемнадцать – и прямо в день рождения… Конечно, будет: «Милиция!.. Верните ребёнка!.. Неблагодарная, кормили-одевали!..» А я открою паспорт: нате! совершеннолетняя.
– И правда уедешь?
Настя покачала головой.
– Очень хочу подготовиться в институт. А с Настей… – усмехнулась она, – будет одна большая гулянка, что я, не знаю?
Допили чай, съели пирог.
– Спасибо, очень вкусно было, – сказал Олег.
– Я рада.
Немного помолчали.
– Настя… а ты подушку не взяла? – спросил он.
– Не догадалась. Но если ты об этом?.. – взглянула она как-то исподлобья.
Он кивнул: именно об этом.
– …обойдёмся без неё, в чём вопрос?
Диван был достаточно просторным и крепким. Настя поднялась на колени и, вытянув руки, сделала приглашающий жест. Олег, словно переключив режим, ничего не боясь и не стесняясь, развёл её руки в стороны, просунул между ними свои, дотянулся до её плеч. В тот же миг она, поддёрнув Олега на себя, резким поворотом ушла с линии атаки. Он едва не полетел носом вперёд и, выставив ладони, оказался в гордой позе на четвереньках. Она была уже сбоку и, наваливаясь, неотвратимо клонила его вниз и переворачивала. Осознание того, насколько она больше и, главное, сильнее, потрясло Олега. Не прошло и минуты, как он барахтался на спине, одна его рука была прижата Настиным коленом, другая – наглухо заблокирована её рукой, а её свободная кисть большой тропической бабочкой летала перед лицом, то и дело заслоняя свет. Он затих, чтобы собрать силы для последней попытки вырваться.
– Обидно, да? – спросила Настя откуда-то из-под потолка.
– Немного…
– Сам захотел.
Она придавила пальцем его нос. Олег замотал головой, но пальцев у неё было достаточно, как ни отворачивайся – какой-нибудь один всегда наготове. И он окончательно сдался.
– Воспитание характера, – сказала Настя. – Помнишь, я говорила о необходимой жёсткости? Это она и есть. В прошлом году, наверное, поддалась бы тебе, как Светке многое позволяла, а сейчас не дождётесь. И мне тебя совсем не жалко, вот так.
– Через год ещё попробуем, – ответил он.
– Так я через год буду в Ленинграде.
– А разве не будешь приезжать? – спросил он.
Наверное, что-то дрогнуло в его голосе, зажглось или, напротив, погасло во взгляде. Настя улыбнулась, отпустила его. Вытянулась рядом, положила обе ладони ему на грудь, поставила на них подбородок и, глядя Олегу в глаза, тихо сказала:
– Конечно, буду.
18Незаметно подошёл, скорее даже подкрался на цыпочках день нашего первого концерта. За неделю до него мы перенесли аппаратуру в актовый зал, подключили, настроили, опробовали. Последние репетиции проводили вечером, когда никто, кроме волейболистов, не мог бы нас услышать, да и у тех был отдельный выход из спортзала на улицу. Но слух разлетался, хотели мы или нет, и возле заветных дверей в любой час бродили пожираемые любопытством личности, готовые даже прогулять урок, лишь бы хоть одним глазом, хоть на минутку заглянуть…
Мы, участники ансамбля и ближайшая поддержка, сидели в кладовке, считая оставшиеся до выступления минуты. Вернее, считал втихомолку я, за остальных утверждать не берусь. Василий Васильевич выглядел спокойным, волнение Марины выдавали пальцы, то и дело искавшие клавиши на гладком столе. Андрей Тарасов, чьей задачей было на две песни подменить Таню за ударными, как заведённый подскакивал и вертелся. Таня… Вот поистине счастливое создание! Ей и правда было по барабану, играть ли в подвале для самих себя – или на сцене перед сотнями глаз. Что до меня, то последняя неделя однозначно дала понять: мне ближе подвал. Он не уступит залу по вместимости, было бы здорово запустить туда весь народ, садитесь где хотите, без церемоний, можно и прямо на пол… Играли же боги в гаражах, кочегарках и других не слишком приспособленных, но душевных местах. От зала, на мой взгляд, слишком веяло официозом; даже когда он был пуст, я предчувствовал снисходительно-приторные взгляды учительниц: «наши ребята, хороший домик из песка слепили наши ребята», – и это сразу низводило всю затею на иной уровень.
В кладовую по-свойски вошёл Серёга Изурин, держа за шею краснощёкого пятиклассника по прозвищу Копейкин. Звали шкета, не поверите, Андрей Рублёв, был он знаменит способностью импровизировать, никогда не повторяясь, длинные, грамматически связные и совершенно абсурдные монологи.
– Ну-ка изобрази, – сказал Мексиканец, не снимая пальцев с его загривка. Копейкин сфотографировал нас внимательными глазками, распрямился, набрал побольше воздуха и, помедлив едва ли один миг, выдал нечто подобное:
– Король нижней бургундии люцифер пятнадцатый двинул вперёд отряды боевых каракатиц. Они переходят улицы по зелёному сигналу радио и делают пушки из черепах. Озверевшие витамины летают по дорогам на табуретках. Мой дядя наполеон кувыркается под колёсами, но он только маленький пирог…
И продолжал, и только через минуту взял паузу, чтобы отдышаться.
– Вставило! – сказал Серёга. – Я в его годы так не умел.
– Да ты и сейчас так не умеешь, – отозвалась Марина.
– Я тоже не умею, – вступился я за друга, – это вообще талант.
– Свободен, талант, adiós! – Серёга развернул его, хлопнул между лопаток, и Копейкин удалился, страшно гордый и довольный собой. До нашего выхода на сцену оставался час сорок минут, и просто час – до начала всего мероприятия.
– Идёмте, мужики, прогуляемся на улицу, – поднялся Василий.
Двинулись мы, конечно, не на улицу, а по коридору, затем налево и до самого конца. Давно было пора, сегодня меня тянуло бегать этой дорогой раза в три чаще обыкновенного. На обратном пути Василий сказал, что подойдёт чуть позже, и мы вернулись одни. Актовый зал был ещё пуст, если не считать нескольких пронырливых малышей; ударную установку, синтезатор и гитары скрывал в глубине сцены тяжёлый тёмно-синий занавес, расшитый по случаю праздника серебряными звёздами и белыми снежинками
– Ребята, не заходите пока! – выглянула из кладовки Оля Елагина. – Или можно? – обернулась она в глубину и, получив окончательный сигнал, сказала: – Нет, ещё нельзя, подождите немного.
Мы разбрелись по залу, не раз и не два сменили места. Я, перемещаясь с первого ряда на галёрку, пытался представить, как мы будем отсюда выглядеть, а потом взошёл на сцену, изобразил себя же в ближайшем будущем, но формально изобразил, без огонька. Наверное, зря так сделал. Именно в эти минуты я почувствовал, что наблюдаю за происходящим словно с другой планеты, откуда и не докричаться, и не прислать письмо, а на сцене подёргивает руками и гримасничает пустая механическая оболочка. Она повернула голову, когда из кладовки вышли девушки и жестами показали, что теперь нам можно. Вошла, села и устремила взгляд в окно, притворяясь человеком. Я напряг волю, чтобы вернуться, и, кажется, сумел, но потратил на это слишком много душевных сил, а результат получился ненадёжный, готовый исчезнуть от первого слова или движения. Должно быть, так чувствовал себя несчастный Галиен Марк после дуэли… хотя почему «несчастный»? Он ведь не понимал, что происходит, ему было зашибись…
В этом полуотлетевшем состоянии я пребывал, когда вернулись девушки. Марина, держась за Танины и Олины плечи, на одной ноге проскакала к стулу и, чуть ли не упав на него, сорвала с другой ноги туфлю, зашипела и сморщилась.
– Спокойно, спокойно… – Таня погладила её по голове, села напротив и, взяв на колени травмированную ногу, легко прикоснулась к щиколотке. – Серый, бегом в столовую, проси кусок льда побольше и пусть завернут в полиэтилен! – на одном дыхании распорядилась она, и Мексиканец сорвался с места, исчез, только хлопнула дверь. – Всё в порядке, разрыва нет, – продолжала Таня, – скоро будешь как новенькая.
Марина открыла глаза и утёрла выступившие слёзы.
– Чёртовы новые туфли, – сказала она почти нормальным голосом. – Да буду я играть, что вы так смотрите! Неужели отменять из-за ерунды! – и вскоре даже улыбнулась: – Танька, у тебя такие руки, можно подсесть, как на наркотик…
– У меня всегда горячие руки, а тебе нужен холод. Сейчас… надеюсь, там открыто.
Видя такое мужество, я устыдился, очнулся и пододвинул к девушкам стоявшую в углу двухпудовую гирю. Марина приложила сустав к прохладному чугуну. Актовый зал за нашей тонкой дверью наполнялся голосами и топотом, как Титаник атлантической водой. Прибежал радостный Серёга с целым айсбергом в руках: успел в последнюю минуту. Подошёл Василий, и с ним – Лиза Владимировна; она была уже в декрете и в школе последние недели не работала, но послушать наш дебют собралась.
– Всё в порядке, не налезет – выйду босиком, – заверила Марина.
В зале установилась тишина, зазвучал усиленный динамиками голос директрисы Евгении Максимовны. Марина, надев злополучную туфлю, встала, прошлась до окна и обратно, в какой-то миг ойкнула и схватилась за Олино плечо, но сразу выправилась.
– Поворачивать немного больно, а прямо ходить могу. Как трамвай, по рельсам…
– Садись, давай ещё подержу, – почти шёпотом сказала Таня.
Евгения Максимовна окончила речь, аплодисменты сменились музыкой. Концерт самодеятельности, танец каких-нибудь зайчиков, хорошенький разогрев для нас… Я снова начал улетать и безучастно отметил, как Василий Васильевич приоткрыл дверь, обменялся с кем-то жестами и, обернувшись, показал две пятерни. Столько минут нам осталось. Приготовились. Надо хотя бы мысленно пробежать все свои партии. Не успел, выходим…
– Так что, Санёк? – спрашивала Таня ближе к ночи, когда мы, потрёпанные, оглушённые и отметившие успех на ранчо, возвращались какими-то новыми тропами через парк. Сначала толпой провожали Марину – она держалась молодцом, но всё же прихрамывала, – затем прощались, расходились, и вот мы остались вдвоём. – Что мыслишь, стоит оно того или нет?
– Сейчас кажется, стоит, – ответил я, – но с поправкой на обстановочку.
– Да, это вам не андерграунд, – согласилась Таня, и больше о концерте мы в тот вечер не упоминали. Каждому, как я понял, надо было обсудить этот опыт, для начала, с самим собой.
Глава седьмая. ПОЛЕТИМ
1Таня, притопывая и окутываясь белыми облачками, напевала:
Который раз лечу Москва – Одесса, Опять не выпускают самолёт.А вот прошла, вся в синем, стюардесса, как принцесса…
– Ты бы хотела стать стюардессой? – спросил я.
– Я же мелкая, три сантиметра не дотягиваю до стандарта или пять.
– А лётчиком?
– Военным когда-то в детстве. А сейчас выбрала медицину, и не сбивай меня.
Я пожал плечами и, чтобы уж совсем не сбивать, запел сам:
Полетим, полетим, полетим, Наконец-то мы вскоре к своим, Ты да я, как один херувим…– Тихо ты, херувим! – подтолкнула меня локтем Таня. – Едиот ахронот, застудишь драгоценный голос.
– Тем лучше, появится суровая хрипотца.
И продолжал:
На высоте семь тысяч, когда алел рассвет, Воздушные пираты проникли в туалет…– Ну и проникай, если от страха невтерпёж. Я уж как-нибудь обойдусь.
– Неужели тебе совсем не страшно?
– Не-ет. А тебе?
– Не то чтобы страшно, но как-то не верится, что эти великаны могут летать. Когда снизу видишь, ладно, а вот вблизи…
– Ай, не журись, отроче, как-нибудь взлетим и сядем. И ещё бы очень хотела прыгнуть с парашютом, – мечтательно протянула Таня и рассмеялась: – Не сегодня, конечно! Сегодня больше всего хочу в Питер, тебе повезло.
И вновь толкнула меня в бок. Мы стояли в ожидании посадки, оба в брюках, куртках и вязаных шапках; Танина – перламутрово-голубая, пуховая, надвинутая почти до бровей, придавала ей очень девичий и очень готовый к полёту вид. Через плечо висели сумки: у каждого – чай в термосе, бутерброды, тёплый свитер, носки. Кроме того, в Таниной сумке лежала «Лейка», в моей – отцовский «Зенит», тетрадь, которую не открывал целый месяц, и перчатки. У нас стоял морозец, не такой крепкий, чтобы заставить меня надеть перчатки, но по пути в аэропорт мы хрустнули не одним тонким панцирем на обмелевшей луже, в Питере же утром было минус восемнадцать и всё по-взрослому. Остальные вещи были сданы в багаж, мамы и папы простились с нами, высказав последние напутствия, и Ту-154 ждал на лётном поле.
Взошли по трапу, отыскали наши места.
– Дам посмотреть, если будешь хорошо себя вести, – обещала Таня, заняв кресло у иллюминатора, сняла шапку, расчесалась, не глядя в зеркальце, и вынула из сумки путеводитель. – Спорим, я знаю Ленинград лучше тебя? Кто построил Зимний дворец?
– Растрелли Бартоломео Франческо, – ответил я. Уж это знал не только от Михаила Задорнова.
– А Строгановский дворец?
– Тоже Растрелли, – ответил я наугад.
– А дворец Белосельских-Белозерских?
– Наверное, кто-то другой… Ринальди?
– Андрей Иванович Штакеншнейдер, – сказала Таня, не заглядывая в книгу, – а теперь найди что-нибудь и спроси меня.
Я нашёл Петропавловский собор, и Таня без запинки ответила:
– Доменико Трезини. Я готовилась, что ты думал.
У неё в руках появилась карта, глянцево блестящая и на сгибах слегка потёртая.
– Покажи, как поедем из аэропорта?
– Вот Московский проспект, свернём на Ленинский, Народного ополчения, а там уже рядом.
– Здорово!
– Разве? Окраинами, вдали от знаменитых мест.
– Всё равно классно, знаменитые места не убегут, доберёмся до них!..
Таня, привстав, сняла куртку. Пока мы разговаривали, самолёт тронулся, вырулил на полосу, замер. К нам подошла девушка, светлыми волосами и тёмно-синей формой напомнившая Надю Игнатович, предложила леденцы и с улыбкой велела пристегнуться. От конфет мы не отказались, свою я, по обыкновению, немедленно раскусил. Что ожидать в ближайшие минуты, оба знали: я путешествовал в Питер и обратно чуть ли не с рождения, а Таня летом долетела через Москву до Иркутска, это вам не с крыши на чердак. Когда самолёт рванул, с каждым мигом набирая скорость, вдавил нас в кресла, приподнял нос и наконец оторвался от бетона всей массой, наши руки встретились, Таня подалась ко мне, я наклонился, и она несколько раз прижалась мятными губами к моей щеке.
– Сашка! – с какими-то новыми оттенками прозвучал её голос. – Спасибо, это всё ты придумал!..
Вскоре наш подъём сгладился, стал едва заметным, как шум прибоя в тихий день. Я протянул Тане тетрадь, Таня открыла, стала читать, то улыбаясь, то хмурясь, и я, даже не глядя на страницы, понимал, где она сейчас находится. Она не отвлекалась ни на чай в термосе, ни на бездонное небо, затопившее иллюминатор, и, когда я провёл пальцем по её колену, будто не заметила.
– Интересно, вообще супер! – сказала она, дойдя до места, где меня временно, как очень надеялся, покинуло воображение. – Я не льщу тебе! – продолжала Таня. – Настоящая книга, я и забыла, что твоим почерком и вообще от руки. У них есть какие-то реальные прототипы или ты всё выдумал?
– Сами выдумались, я даже не знал, что они сделают в следующую минуту.
– И долго писал?
– Недели три, по часу-полтора в день. Очень быстро и почти не исправлял, как будто всё видел перед собой. И мне ничего не мешало, мог прерваться на полуслове, вынести мусор, почистить картошку, поужинать и дальше писать. Потом они стали очень много разговаривать, вместо действия – сплошной диалог по нескольку страниц без перерыва. Потом ушли.
– Но обещали вернуться?
– По-английски ушли. Верю, что так же и придут.
– И предки этой девочки, Насти… Бр-р-р! Тоже сами выдумались?
– Возникли на ровном месте. Может, это мой подсознательный страх вырасти в похожего родителя? Выпускаю и таким образом освобождаюсь?..
– Наверное. Знаешь, чего на мой взгляд не хватает? – спросила Таня. – Я думаю, Олег должен их увидеть. Соседи ведь, не надо подстраивать какие-то особенные обстоятельства? Настина матушка зашла познакомиться под каким-нибудь предлогом, любопытно ей, он увидел… И поразился, какая она благовоспитанная святоша, просто патока сочится изо всех пор! Знала я такую ещё в Новоозёрном, жила в соседнем доме. Дочка у неё – моя одноклассница, Ира Крупенина. Одно время Ира ходила ко мне в гости чуть ли не каждый день, ну я только рада, мы дружили. Некоторые наши домашние разговоры она слышала. Мама такая: «Танька! откуда я знаю, что тебе надеть! Полный шкаф вещей, ты мне голову морочишь! Возьми что-нибудь и свободна! И хлеба купи!..» Я иду довольная как слон, Ирка смотрит, и такая тоска в глазах… Я тогда не понимала почему. Однажды мы бесились, она спряталась за занавеской и нечаянно уронила карниз с одного конца. Как она перепугалась, чуть не до обморока! Я успокаивала, а она за меня боялась. Понятно, что не выдам, и она думала, меня будут бить.
– Мерила по своей семье.
– Точно. А когда я встречала её маму где-нибудь, – Таня усмехнулась, – халва сироповна карамелькина. И все: какая милая, какая милая… Вот такие дела. – И, помедлив, добавила: – Ещё меня поражало, вообще казалось диким, что она, живя у моря, совершенно не умела плавать, даже по-собачьи.
Мы ненадолго замолкли, обратили внимание на бутерброды и чай, да ещё стюардесса предложила изумительно вкусный сок и пирожные. Тетрадка так и оставалась у Тани, а я уже думал, как воплотить её идею. Конечно, Таня права, молодец, догадалась, такой контраст необходим. Но если сделать просто, как на выставке: вот дамочка показана одним глазами, тут же подробно – другими, – наверное, это будет грубый приём? В прошлом веке он был бы хорош, а сейчас нужен один какой-нибудь жест, звук голоса, мимолётное слово: «маслице», «водичка», – на которое Олег не обратит большого внимания, а читатель вздрогнет…
Я встретился взглядом с Таней, она подмигнула.
– Я бы хотела сказать, как представляю дальнейшее. Можно?
– Спрашиваешь.
– Значит, так… Смотри, сам разрешил. Настя поступила на следующий год, легко и без лишних переживаний. Учится, вечерами работает. Угадай кем? Репетитором, занимается с детьми математикой. Дети её обожают, а мальчишки, знаешь, стыдятся перед ней выглядеть чайниками и стараются вдвойне. Ну и гуляет на полную, дискотеки, вечеринки, поклонники, само собой. Студенты, обязательно дядька лет так… много, на иностранной тачке, но она его не любит. Может, немножко увлечена, но не хочет, чтобы он из-за неё бросил семью, и от подарков отказывается. Домой приезжала. Целых два раза, на первых каникулах и на вторых, дальше совсем закрутилась. Олегу пишет, но не часто и так, формально: привет, у меня всё хорошо, пока… Он тоже пишет, иногда присылает фотографии, чтобы она видела, как он взрослеет, чаще – рисунки, он же будет художником. Этого, конечно, мало. Но вот однажды весной он прилетает на экскурсию в Ленинград со своим десятым классом. Наверное, уже в Санкт-Петербург. Написал заранее, договорились о встрече. Отпросился у классного руководителя или кто там главный: хочу провести один день с родственниками, – или просто сбежал. Встретились, а он такой красавец и богатырь, она увидела его чистый, преданный взгляд, всё поняла… Дальше остаётся немного подождать, он после школы едет в Питер, и хэппи-энд. Вот такая история. Нравится?
– Ужасно нравится, – сказал я, – но бывает ли так?
– Откуда я знаю, как бывает, мне же не тридцать лет. Я думаю, хорошо бы так получилось… Но это не приказ, ты слушать слушай, а пиши по-своему. Кстати, когда закончишь, куда-нибудь собираешься послать?
– Вот. Как только встаёт этот вопрос – значит, пора им, – я взглядом указал на тетрадь, – от меня отдохнуть. Когда пишу, вообще об этом не думаю.
– Искусство ради искусства?
– Или ради тренировки. Чтобы, когда буду писать что-то серьёзное, уже понимал, как это делается.
– Мне кажется, это тоже серьёзно, – сказала Таня. – Снижаемся, Сашка, чувствуешь?! Всё, почти прилетели!..
2Дедушка Сергей Васильевич Александров дожидался нас в многолюдном пулковском терминале. С лета не изменился, не постарел: те же чуть прищуренные тёмно-карие глаза, седая шевелюра, коротко подстриженные усы. Ростом он был невысок – наверное, поменьше Тани, – очень бодр и подвижен.
– Здорово, летун! – сказал он и уколол меня усами. – А вы, значит, та самая Татьяна?
Таня кивнула, пожимая его ладонь:
– Здравствуйте.
– Ручка-то у вас крепкая! – с явным удовольствием сказал дедушка.
– Да я вообще не слабенькая, – скромно ответила Таня.
– Это точно, – заверил я, – подъёмы переворотом крутит только так.
– Молодец, хорошую невесту нашёл. Будет держать как положено и за что надо.
Здесь я промолчал, а Таня только улыбнулась.
– Думаешь, я поверю, что можно привезти девчонку, с которой не хочется вместе лететь? Эх ты, тихушник! – заключил дедушка. – Ладно, идёмте.
Таня глядела на него почти благоговейно. Всё, что о нём знал, я давно рассказал ей: прошёл войну от рядового штрафбата в Заполярье до старшего лейтенанта, командира мотострелковой роты на озере Балатон. Награды не уместятся на груди, пять орденов и четырнадцать медалей. После войны учился в Горном институте, работал и продолжает работать в свои шестьдесят девять, не каждый день, а когда позовут, но зовут часто. Голосом может покрыть целый сектор на стадионе Кирова – понятно в кого у меня такая труба, но мне до этой мощи командовать и командовать. Умеет ориентироваться в любом буреломном лесу без компаса и даже без солнца, полными корзинами собирает белые и какие угодно грибы. Иногда у него болит голова, несколько дней, даже неделю подряд – последствия фронтовых контузий, летом на месяц ездит в санаторий, каждые два или три года ложится в госпиталь, но зимой, как вот сейчас, непременно энергичен и полон сил.
Мы получили багаж, вышли. Мороз покусывал щёки. Дедушка остановил такси; водитель, мгновенно проникшийся к нему тем же весёлым почтением, что и Таня, ловко разместил в багажнике её элегантный чемодан на колёсиках, мой футбольный баул и рюкзак с сухим пайком. Мы с Таней сели на заднее сиденье. По пути она, не скрывая любопытства, разглядывала улицы, то приникая к своему окну, то чуть ли не ложась на мои колени. Я тоже смотрел, пытаясь найти следы запустения и упадка, но серые новостройки тридцатилетней давности примерно одинаковы всегда и везде. Сегодня они выглядели даже наряднее, чем помнилось, – благодаря Тане, чей локоть я то и дело ощущал сквозь наши одежды, светлому облачному дню, молодому снегу, остаткам новогодних гирлянд в витринах…
Приехали. Дедушка на моей памяти никогда не пользовался лифтом; он и сейчас, опередив нас, проворно взошёл на третий этаж и достал из кармана ключ. Что будет дальше, я более или менее представлял. «Танечка, вы такая худенькая!.. Как же вы уроки-то учите целыми днями?.. Давайте я подложу вот этого…» «Спасибо, Марина Григорьевна, очень вкусно, но мне столько не одолеть…» Но, прежде чем ожидания сбылись, Таня минут на двадцать закрылась в ванной и вышла такая свежая и благоухающая, что пример оказался заразительным и для меня. Прилети я один – наверное, умыл бы только руки да лицо.
– Действительно, совсем другой вкус, – сказала Таня, отпив глоток чая, и обернулась к бабушке: – Саша говорил ещё осенью, что здесь не такой чай, как у нас, – а затем ко мне: – Помнишь?
– Конечно.
– У нас очень хорошая вода, – объяснила бабушка, – но всё-таки я беспокоюсь, Танечка, вы так мало пообедали…
– Что вы, спасибо, всё прекрасно, замечательно, просто во мне уже места нет. Может, погуляю, тогда появится…
3После обеда я расположился в гостиной, разобрал привезённые брюки, трусы и рубашки, кое-что повесил в шкаф. Затем пошёл на кухню заварить новый чай и в коридоре встретился с Таней. «Загляни ко мне в комнату», – жестом показала она.
– Ну вот, я устроилась, спасибо вам, – сказала Таня, когда я вошёл. Следов её обустройства в комнате почти не было: у стены стоял закрытый чемодан, на батарее сушились белые носочки, на спинке стула лежал цветной лоскут.
– Тебе-то хоть удобно? – спросила Таня. – Выгнала в большую комнату, а она проходная, и телевизор там…
– Удобнее не бывает. Там занавеска на проволоке, задёрнул, если надо, – и всё.
– Тогда хорошо.
– Красивая маечка, – кивнул я на спинку стула.
– Это платье! – строго сказала Таня. – Не знаю, зачем взяла. Наверное, вам показаться, мистер.
Платье? Однако… Значит, эта серьёзная вещь может быть не только лёгкой – по сути, общая фраза, штамп, – но и такой маленькой, что сложить несколько раз – и уместится на ладони. Надетое на Таню, прикоснётся к её телу и лишь одно укроет его от меня – это ведь почти то же, что ничего… И как всё изменилось за небольшое время! Недавно был у неё в гостях, и вот мы уже в другом краю репетируем будущее, в котором каждый день станет таким, как сегодня. Удивительная жизнь! Всегда будет рядом Таня, её лицо, голос, платья на спинке стула…
Конечно, в тот миг я не думал такими словами. Разобрался в ощущениях позднее и понял, что они не просто смешались, а словно бы образовали химический состав, по действию схожий с лишней кружкой самодельного вина. Ничего подобного не чувствовал Олег из моей тетрадки: то ли воображение беднее реальности, то ли он ещё молод и Настя пока не значит для него столько, сколько Таня – для меня.
– Классно здесь!.. – сказала Таня. Она стояла ко мне спиной, в обыкновенных тренировочных брюках и футболке навыпуск, и смотрела в окно. Я подошёл, обнял её и заглянул через плечо. Красоты нашего спального района, знакомые с дошкольных лет. Прямо под окнами – парковка, тротуар и большой заснеженный газон с гигантской берёзой, зимой похожей на голую мачту. Слева – улица, широкая, как залив. Справа – мелкие хозяйственные постройки, словно катера и баркасы, впаянные в лёд недалеко от панельной девятиэтажной громадины. Впереди – торговый центр, этакий обшарпанный дебаркадер высотой до наших окон, заслоняющий нижние этажи точечной башни с антеннами на крыше…
– Невский отсюда не виден, – сообщил я Тане на ухо, тронув его губами.
– Всё равно же он есть! Идём, Сашка, а то уже неприлично, что о нас подумают… Давай прогуляемся на воздухе.
Снова мороз, игольчатый ветер. Небо прояснилось, на розоватый снег легли синие тени – наши тени, длинные, как на ходулях, и суженные по закону перспективы к головам. Таня расчехлила фотоаппарат: на юге мы таких чудес не видывали. Из-за угла девятиэтажки высыпала компания, не догулявшая Новый год, послышались крики, топот, взлетела и распустилась бледной астрой ракета. Ещё несколько кадров. Мы обошли дом, поглядели на детей, строивших во дворе подобие иглу, затем направились в книжный магазин. Таня купила увесистый том Булгакова – «Белая гвардия» и «Мастер и Маргарита» под одной обложкой; я – сборник стихов Гумилёва и «На берегах Невы» Ирины Одоевцевой. Не знаю, как в продовольственных магазинах, проверить не успел, но в книжном выбор здесь был куда богаче нашего.
– Тань, идём, покажу каток, – позвал я. – Представляешь, я очень давно катался тут не на роликах, а на самых настоящих коньках. Мои детские коньки лежат на антресолях. Может, тебе подойдут?
– Может, и подойдут, но хороша я в них буду. Как известное животное…
– А в этой школе учился в первом классе, когда отец был в академии, а потом снова уехали в Крым…
Каток был завоёван хоккеистами, по дворам разносились яростные возгласы и стук клюшек. Когда мы двинулись дальше, стало темнеть. Добрались до Проспекта Ветеранов, посмотрели, как почти бесшумно замер у остановки троллейбус, гармошками сложил двери, люди поднялись в мягко освещённый салон. Уехали, подкатил автобус. И, не тормозя, пролетали машины: «Жигули», «Мерседес», а следом не иначе японка с хитрыми раскосыми фарами…
На обратном пути мы встретили ту же компанию, пускавшую ракеты, и взрывы теперь были многоцветными, пышными, космическими.
– Попробую, вдруг что выйдет, – сказала Таня, прицеливаясь из «Лейки». – А потом идём смотреть телевизор? Хочу дождаться ваших легендарных шестисот секунд.
– Сколько мы гуляем? У нас за это время половину города бы прошли.
– Тоже об этом подумала. Здесь, наверное, меньше одной тысячной…
4А утром, ещё затемно, мы вошли в стремительно-призрачный троллейбус. Захваченный Таниным настроением, я сам видел дорогу к метро как будто впервые, хотя уж эти-то несколько остановок знал наизусть. Названия улиц напоминали о нашем городке, почти все – в честь военных героев: партизана, маршала, генерала, солдата…
– Есть и подводник, но до него не доехали, – сказал я и подал Тане руку, помогая сойти на обледенелый асфальт.
– Ничего страшного, – отозвалась она, – спасибо, Сашка, идём скорее, хочу в метро.
В метро, когда мы бросили пятаки в турникет и вошли, Таня огляделась почти разочарованно, не найдя эскалатора, но я пообещал, что на станции прибытия он точно будет.
– Чувствую, вниз идём, к центру Земли! – сказала она мне на ухо в самом начале пути. Медленный спуск продолжался до «Технологического института», где мы перешли на другую ветку, и дальше, до самой «Петроградской».
– Теперь твоя душенька довольна? – спросил я, когда ступенчатая лента медленно и неотвратимо понесла нас вверх.
– Сбылась мечта идиота, но пока лишь одна, – ответила Таня и, развернувшись против движения, посмотрела в глубину, похожую на муравьиный ход.
– Осторожнее, – придержал я её за талию. Таня только улыбнулась и провела пальцами по моему лицу.
– Всё, поворачивайся, приехали.
То, что ни один путеводитель не сравнится с живой картиной, стало ясно уже на площади Льва Толстого. Едва увидев дом Розенштейна с его шестиугольными башнями и канканом оконных проёмов, Таня остановилась, приготовила к бою фотоаппарат и вновь стала понемногу двигаться, но не в нужную нам сторону, а взад-вперёд, ища лучшую точку для съёмки. Глядя на неё, и я достал из футляра «Зенит». Такими темпами дорога к Первому Медицинскому институту заняла у нас не три минуты, а добрых двадцать, но всё-таки мы добрались и вошли на территорию. Таня, сверившись с картой, разыскала административный корпус и перед дверями повесила на меня «Лейку»:
– Не скучай, не мёрзни, я быстро!
При восьми градусах не замёрзнешь, особенно когда такое любопытство греет изнутри. По первому впечатлению этот институт был значительно больше всего нашего посёлка вместе с госпиталем. Целый город в городе! Или даже страна в городе, – решил я, глядя на двух высоких, тонких, с кофейно-шоколадными лицами, африканок. Они напомнили сенегальских красавиц из книги Владимира Корочанцева «Бой тамтамов будит мечту», только те, на цветной фотографии, были обнажены выше пояса – и страшно признаться, сколько доставили волнующих минут! – эти же проплыли мимо, закутанные в пальто, шапки, шарфы, зато улыбнулись моему «здравствуйте» и ответили по-русски, блеснув идеальными зубами. Надо понимать, они и живут где-то здесь недалеко, будущие авиценны, гиппократы, парацельсы.
Вскоре из дверей выскочила Таня, сказала на ходу: «Ещё немного, ещё чуть-чуть!» – и понеслась в соседний корпус. Разогнавшись, она так лихо прокатилась по тёмному ледяному языку, что несколько парней, куривших неподалёку, разом, как по команде, повернули головы. Таня, будьте уверены, заметила это движение, я так и представил её хитрющий взгляд… «А ты меня к кому-нибудь ревнуешь? – спросила на осенних каникулах. – Непорядок, надо срочно дать тебе повод…» Не то чтобы я сейчас приревновал её к завтрашним светилам, да и вряд ли назовёшь это ревностью, – просто осознал каким-то морозным озарением, насколько веселее, труднее и увлекательнее будет её жизнь по сравнению с нашей, как легко она может заполнить все мысли, чувства, не оставив места для прошлого. Но ты уж, Танюха, не сдавайся один год, какой-то маленький год, а там я приеду и снова буду в настоящем…
Курильщики ушли, и я сам, придерживая на груди два фотоаппарата, проехал по ледяному языку.
– Ты живой, бедняга? – спросила Таня минут через пятнадцать, подойдя с неожиданной стороны.
– В порядке, – и в подтверждение коснулся её щеки.
– Всё узнала, всё достала. Требования, вопросы, список литературы, летом ещё успею отзаниматься на подготовительных курсах. И, знаешь, все такие приветливые, как будто на самом деле рады, что ещё одна козявка хочет к ним поступить.
– Я бы тоже радовался.
– Сань, ты как будто расстроен?
– Вовсе нет. Может, эта козявка станет новым Павловым.
– Хотела бы… А ты не переживай, скоро приедешь, покажи лучше самый-самый главный университет.
– Пешком пойдём?
– Конечно.
И мы двинулись – по Каменноостровскому до Петропавловской крепости, прошли её насквозь, и Таня на полпути перезарядила фотоаппарат.
– Тридцать шесть кадров как с куста. А будь моя воля, уже бы сделала триста шестьдесят.
Вышли к Биржевому мосту, перебрались на Стрелку. Лёд на Неве был непрочным даже на взгляд, с длинными промоинами посередине.
– Раньше было не так, – сказала Таня, – на льду устраивали ярмарки, гулянья, пускали конку по рельсам и даже трамвай.
– В путеводителе прочитала?
– Да. Думаешь, врут?
– Не врут, моя прабабушка, мама бабушки, ездила в этом трамвае.
– А ты её застал?
– Застал, но не помню, салага был, два года с небольшим.
Таня сверилась с картой:
– А вот Институт русской литературы, Пушкинский дом.
– Тот самый? «Имя Пушкинского дома в Академии наук»?..
– Как бы да, но Академия наук в другом месте, вот что странно.
– Может, он во времена Блока был в Академии наук, а теперь здесь?
– Наверное… Обалдеть, Сашка! Сойти с ума, ты такой счастливый, всё это видел и знаешь!
Щёки у неё так и горели на балтийском ветру. Южанка, прирождённая и потомственная!..
– Теперь и ты знаешь, – сказал я.
– Так мне сколько лет и я впервые вижу, а ты всегда знал. И как тебе после этого живётся в Солнечном?
– У нас тоже нормально и Севастополь рядом. Не замёрзла, Тань?
– Нет, мне даже жарко. Одета как вчера, а сегодня теплее.
– В Солнечном можно жить, во Фронтах, думаю, было бы нелегко… Менделеевская линия, если не путаю?
– Да, – кивнула Таня.
– Вот Двенадцать коллегий, главное здание нашего университета уже, кажется, не имени товарища Жданова. Летом загляну туда и всё возьму, как ты сегодня.
– Представляю, как тут здорово летом.
– А немного впереди увидим памятник.
– Хочу памятник.
– Вот он. Сейчас обойдём и посмотрим в лицо.
– Постой. Менделеевская линия, а памятник Ломоносову?
– Верно. «Муму» Тургенев написал, а памятник… Ты не устала ходить?
– Да я сутки могу ходить без перерыва, а здесь вообще неделю. Здравствуйте, дядя Миша, Михал Васильевич, позвольте сохранить вас для истории!..
– И к Зимнему?
– Давай.
С Дворцового моста нас чуть не сдуло на хрупкий лёд, но мы всё же остановились и сменили плёнку: первая катушка закончилась у меня, у Тани – вторая. Снимали мы разное: Таня – архитектуру, я – в основном Таню на фоне прекрасной архитектуры. Линия дворцов, Адмиралтейство, купол Исаакия; с другой стороны – василеостровское учёное царство, а правее и дальше – крепостные стены, золотой шпиль… Не понравилось мне только здание Академии наук.
– Как-то стандартно, что ли… В другом городе, может, и было бы нормально. Но я привык, что Питер – это фантазия, вдохновение, у каждого дома своё лицо. А так могу и я нарисовать: длинный брусок, сверху треугольник, впереди колонны, только мне будет скучно.
– Поживу здесь – может, и я стану такая же привередливая, но вряд ли…
5Шутки шутками, но это был первый всплеск моей нелюбви к классицизму, в дальнейшем она росла, и чем более строгий классицизм я видел – тем сильнее чувствовал неприязнь. Касаюсь только архитектуры, судить о которой могу как обыкновенный зритель: нравится или нет. Люблю барокко, модерн в полном их разнообразии, считаю, что Спас-на-Крови прекрасно вписался в городской ансамбль, уважаю конструктивизм, а если о чём-то жалею – так больше всего о том, что в Петербурге нет настоящей готики. Ясно, почему нет настоящей, причины объективны, но хоть бы что-нибудь стилизованное построить, один большой собор наподобие Миланского…
Не было его нигде, в том числе и на Дворцовой площади, зато был Зимний дворец, сверкавший под безоблачным небом оттенками изумруда и бирюзы. Многие находят этот цвет холодным и ядовитым, – рассказывал я Тане ещё до путешествия, – и мне порой так кажется, но только на расстоянии, когда вспоминаю. А стоит увидеть наяву: нет же, всё гармонично и здорово. Потом, когда уеду, вновь подумаю, что зелёный дворец – нехорошо, и опять убежусь… убеждусь… в общем, уверюсь в обратном при новой встрече. Наверное, пастельный растреллиевский тон смотрелся бы всё-таки лучше, но нам, с монохромной плёнкой в фотоаппаратах, разницы по большому счёту не было. Главное – светлые колонны, как и задумал создатель, потому что иначе дворец выглядит совсем другим. Однажды я не признал его на картине начала века, в сплошной терракотовой расцветке: видел что-то знакомое, но что именно – понял далеко не сразу…
Мы не забыли арку Главного штаба и Александровскую колонну, а затем, чуть ли не впервые за всю прогулку, обратили внимание на людей. Площадь была оживлённой: не меньше сотни мужчин и женщин, в основном взрослых, но кто-то на вид и немногим старше наших лет, стояли плотной группой между колонной и дворцом, время от времени чуть нестройным хором произнося: «Достоинство! Честь! Свобода!» – вокруг клубились любопытные, и довольно много граждан спокойно проходили мимо.
– Постой, Сашка, дай сниму тебя, – сказала Таня. – Стой вот здесь, не напрягайся, не выпучивай глаза, просто смотри.
Отойдя на несколько метров, прицелилась и сфотографировала меня, а затем взмахом руки подозвала парня в джинсовой куртке с меховым воротником, стоявшего невдалеке:
– Молодой человек! Извините, можно вас на минутку?
Он подошёл, всем видом давая понять, что можно.
– Снимите, пожалуйста, нас вдвоём. Вот сюда встаньте, на моё место, и просто нажмите, хорошо?
Отдала ему «Лейку» и, подбежав ко мне, стала рядом. Худощавый длинноносый парень навёл на нас объектив.
– Ещё два раза! – словами и жестом показала Таня после первого нажатия кнопки. – Спасибо!
– А вы не боялись, что убегу с вашим инструментом? – спросил парень, возвращая камеру.
Мы переглянулись.
– Нет, мы доверяем людям, – сказал я.
– Да и от нас не убежите, – весело добавила Таня.
– Да, пожалуй, – признал тот, совершенно не выглядя разочарованным.
– А за что они выступают? – кивнул я на митингующих.
– Народный фронт… За демократические выборы или против Славы КПСС. Сейчас узнаем.
Он направился к ним и, пристроившись рядом, крикнул:
– Коммунисты тормоза, мы им выколем глаза!
Наши с Таней глаза одновременно округлились, руки взлетели к губам…
– Без экстремизма, пожалуйста! – обернувшись, строго выговорил парню интеллигентный мужчина.
– Всё-всё, понял, извините, – ответил тот с видом раскаяния и вернулся к нам:
– Так и есть.
– Ну вы даёте! – только и сказала Таня. Он пожал плечами:
– Молодость, горячая кровь… Простительно. Можете и вы что-нибудь сказать.
– Что? – спросил я.
– Что хотите, – он поднял указательный палец, – только без экстремизма.
– Ладно. – Я ослабил ворот куртки и проревел так, что в сотне метров, возле штаба Гвардейского корпуса, оглянулись прохожие: – Каждой двери по косяку!!!
– Эй, вы что! – испугался парень. – Микрофон, что ли, прячете?..
Таня в голос расхохоталась.
– Да ну вас!.. Идёмте скорее, тут полно переодетой милиции.
И быстро пошёл к арке Главного штаба, мы – следом. Таня, сдвинув брови, на ходу сказала:
– Выключи микрофон!
6Под аркой стояла небольшая толпа и бородач в расстёгнутом пуховике, не боясь мороза, пел а капелла нежнейшим тенором:
O dolce Napoli, o suol beato, Ove sorridere volle il creato, Tu sei l’impero dell’armonia, Santa Lucia! Santa Lucia!Мы сфотографировали его, затем увидели над головами небесное окно и застыли, запрокинув лица. Провожатый терпеливо ждал.
– Будем знакомы, – сказал он, дослушав песню, – Всеволод.
– Очень приятно, – и мы назвали себя.
– Вы приезжие?
– Заметно, да? Дремучие провинциалы? – спросила Таня.
– Нет, просто в речи слышно что-то такое…
– Мы из Крыма на каникулы, потом обратно.
– Так вы школьники? А что после?
– Приедем сюда учиться, – сказала Таня, – а вы?
– Может, будем на ты? Я уже учусь. В универ пролетел как фанера над болотом, пошёл в техникум, чтобы отсрочка была. Летом буду снова поступать, на журналистику.
За разговором мы по улице Герцена – Всеволод заверил, что скоро она вновь станет Большой Морской, – вылетели на Невский, перескочили его и, не сбавляя хода, помчались в сторону Гостиного двора.
– Как у вас татары, возвращаются? – спросил Всеволод.
– Постепенно, – ответил я, – пока ещё не массово, но скоро, по слухам, будут.
Мы рассказали о поселении, которое возводилось на голом холме неподалёку от Фронтов. Прежние жители с детьми и внуками, не знавшими Крыма, возвращались в Урманкой – так или, на русский лад, Урманка раньше называлось село, – и, получив землю, строились согласованно и дружно. Мы видели их работу: сначала – две шеренги фундаментов вдоль дороги, канавы для труб; чуть позже – на одинаковую высоту поднявшиеся кирпичные стены, а недавно, в конце осени, – почти готовая двухэтажная асфальтовая улица с магазином, высаженными фруктовыми деревьями, и размеченное пространство для будущих улиц.
– Нет, я не понимаю, как это можно! – разгорячился Всеволод. – Взять и выгнать целый народ чёрт знает куда, хотите – живите, хотите – подыхайте!..
– Свинство, конечно, – ответил я, – но вообще в Крыму под конец войны было меньше людей, чем сейчас в одном Севастополе или Симферополе, на выбор, и немцы постарались больше нас. Кто их звал, таких гостей?
– Немцы немцами, а свою голову тоже надо иметь, – ответил Всеволод. – Вы-то не против того, чтобы они вернулись?
– Нет, – сказала Таня, – пусть едут на здоровье, места хватит.
– Любезно изволите согласиться.
– Ну а что нам делать, на колени встать? – серьёзно сказала Таня. – Мы же лично никого не выгоняли.
– Сын за отца не отвечает?
– И отцы не выгоняли, они ходят в море на боевых кораблях. Мы совсем упали в ваших глазах, да? Ниже ватерлинии?
– Нет, почему, – ответил Всеволод, – разные мнения имеют право на жизнь. Может, я о вас напишу заметку: интересная встреча на Невском…
– Это пожалуйста.
– А вот здесь, у Гостиного двора, – продолжал Всеволод, снова входя в роль экскурсовода, – можно купить самиздат, да-да, и независимую прессу.
– А такая есть? – спросил я.
– В основном из Прибалтики, там больше свободы. Создают кооператив при университете, выпускают газету, печатают в типографии горкома партии материалы против партии. Мы пока так не умеем…
Купили у парня студенческого вида несколько номеров «Тартуского курьера» и пошли дальше, уже не торопясь. Таня вновь поменяла плёнку.
– Чувствую, половина запаса улетит за один день…
Дошли до Фонтанки – стало быть, прогремели по трём мостам, хоть на мосты они были не слишком похожи: никакого, даже символического, горба, или я просто не заметил. На третьем, Аничковом, Таня зависла у клодтовских укротителей и не тронулась дальше, пока не сохранила для истории всех.
– А вот здесь было знаете что? – остановился Всеволод возле углового дома и веско продолжил: – «Сайгончик» тут был. «Я знаю каждую собаку под „Сайгоном“, я оборачиваюсь на свист… – произнёс он речитативом, вероятно, какую-то цитату. – Кто здесь ты, а кто здесь я, кто здесь бог, а кто свинья?..» Закрыли, демоны, а так бы выпили кофе в великом месте… Но ладно, в другое место сходим, недалеко. Угощаю.
Мы стали протестовать: сами богаты, осенью заработали на винограднике. Заработанных денег оставалось немного, но на две внеплановые чашки должно было хватить.
В кафе Всеволод пустился рассказывать о рок-клубе, о звёздах, с которыми здоровается за руку, – не знаю, сочинял или нет, но выходило увлекательно. Мы признались, что сами немного играем.
– Это интересно. Можете оставить телефон? – спросил он.
Я замялся: был бы телефон моим, тогда пожалуйста, но так…
– Ладно, запишите мой, – и Всеволод продиктовал семь цифр. – Найдёте время до отъезда – звякните…
– Постараемся, – сказала Таня.
7В метро я взял Таню за руку, ощутил ответное пожатие. «Всё-таки притомилась», – сказала она, и до конечной станции мы ехали молча. Вышли в потёмках: странное состояние, вроде бы день, но немного и ночь. Летом бывает наоборот, – говорил я ещё в Солнечном, а сейчас подумал: хорошо бы это лето опоздало, заблудилось где-нибудь… Или нет, не надо опаздывать, пусть лучше следующий за ним год летит как пуля.
– Знаешь, что я вспомнила? – сказала Таня, когда мы сели в троллейбус. – Играю однажды в комнате, совсем маленькая, вижу календарь, часы. Какое-то число – например, пятое декабря тысяча девятьсот семьдесят восьмого года. Какой-то день – скажем, воскресенье. Время – ну, половина третьего. И вот смотрю и понимаю: завтра будет полтретьего, послезавтра. Воскресенье пройдёт, но через неделю новое. И пятое число через месяц, и декабрь через год. А семьдесят восьмой год закончится – и всё! больше никогда вообще его не будет. Меня это так потрясло! Даже игру оставила, что там было, больница с куклами, скорее всего…
– С мамой не поделилась? – спросил я.
– Кажется, нет. Я бы и слов не нашла, чтобы это выразить, да и вообще детское внимание легко перескакивает. Увлеклась чем-то другим, а это открытие выплыло только сейчас откуда-то из глубины. – И, немного помолчав, добавила: – Наверное, от голода. Ужасно хочу есть, быка бы съела, да ещё твоя бабушка так замечательно готовит!..
Бабушка волновалась, отчего нас долго нет, и, наконец дождавшись, явила всё своё искусство. Мы с Таней, чистые, одетые по-домашнему, приговорили борщ, умяли котлеты с гречневой кашей и крымскими маринованными помидорами, выпили чай, закусив ещё не остывшим печеньем. Дедушка был занят: взял на дом работу, чертил у себя в комнате, это надолго, – мы поздоровались с ним и больше не беспокоили. Бабушка, накормив нас, собралась и ушла в соседний дом к Софье Николаевне.
Надо хотя бы вкратце изложить эту грустную историю. Софью Николаевну, бездетную вдову, полгода назад разбил инсульт; к счастью, если можно так сказать, это случилось во дворе, прохожие успели вызвать скорую. Пролежав несколько месяцев в больнице, Николаевна вернулась домой совсем беспомощная. К ней ходили сиделки, медсестра и каждый день навещали подруги, разговаривали, помогали восстановиться. В последнее время она уже садилась, отвечала на вопросы и немного рисовала левой рукой.
– Хорошо, что ей лучше, – сказала Таня. – Саш, зайди, пожалуйста, ко мне в комнату. Минут через десять…
8– Вот и показалась.
Таня крутанулась на цыпочках, её платье мелькнуло перед глазами. То самое, что я видел вчера, – очень летнее, асимметричное, с подчёркнутой талией, глубоким вырезом на спине. Её горячую кожу я ощутил ладонями, когда мы шагнули друг к другу так близко, как ещё не были, и пальцами, губами, всем телом понял раньше, чем головой, что продолжение неизбежно. Избегать его я не думал, но повод для страха имел. Однажды декабрьским вечером, прохладным и на удивление звёздным, мы, как всегда, заплутали в парке, моя рука забралась Тане под свитер, нашла её грудь без любых, даже самых тонких препятствий, и едва ли не через мгновение я вскипел и перелился через край. Не знаю, заметила ли Таня. Очень надеялся, что нет. После того случая я тренировался, крутил его в памяти, стараясь в точности пережить и продержаться как можно дольше, и добился некоторых успехов, но насколько острее всё оказалось наяву!.. И насколько проще было целоваться, зная, что через десять минут разойдёмся по домам.
Явно предвидя опасность, Таня выскользнула и повернулась спиной:
– Сделай, что ты хочешь.
Отвёл в сторону её волосы, поцеловал затылок, попробовал обнажить хотя бы плечи… Чёрт его знает… держится не пойми на чём.
– Не торопись, Сашенька, – прошептала Таня, – никуда не убегу.
И скинула платье одним движением. Под ним были белые в горошек трусики, и только временным помрачением разума я мог объяснить то, что не заметил, как они исчезли; может быть, и сам руку приложил… Мою одежду тоже куда-то унесло. Даже в январе на её теле виднелись следы от купальника, светлые, хоть и не молочной белизны. Живот, вопреки стараниям бабушки, был впалым, под тонкой кожей проступали нижние рёбра и две сближающиеся книзу полоски мускулов с ложбинкой посередине. Продолговатый, будто сдавленный с боков пупок, и внизу треугольник коротких тёмно-русых волос. Сами собой не вырастут так аккуратно, наверное, ухаживает, подстригает…
Таня жестом поманила меня и с ногами забралась на диван. Я коснулся губами её груди, небольшой, дерзко приподнятой. Таня прерывисто вздохнула, погладила меня по голове. Ножницами ровняет в ванной. Так же старательно, как и стучит в барабаны… Осмелев, я вытянул руку и обрисовал треугольник пальцами, спустился ниже, куда указывал острый конец. Таня тихо ахнула и, достав откуда-то, протянула мне резиновое кольцо:
– Надень. Знаешь как? Теперь иди сюда.
И легла на спину. Я пошёл, но притормозил на половине дороги, опасаясь сделать больно.
– Смелее, – сказала Таня и, когда я послушался, вздрогнула и тихо застонала.
Всё продолжалось недолго – наверное, меньше, чем я расспрашивал после, хорошо ли ей было, понравилось ли.
– Прекрасно было, замечательно, – повторяла Таня и гладила меня по голове, – лучший день в моей жизни…
Наконец я поверил, и она, чуть отстранившись, продолжала:
– Прости, что динамила тебя там. Знала, что если позову домой… то прощай, моя невинность. Не такое уж богатство, но, когда ты придумал лететь в Питер, захотела, чтобы это произошло здесь. Маленький каприз. Не сердишься?
– Нет, конечно, – ответил я, – Танечка, разве могу на тебя сердиться?..
– Спасибо. – Она поцеловала меня, поднялась и быстро сложила расстеленное на диване полотенце. – Сейчас накину что-нибудь, сбегаю в ванную, потом ты.
Приведя себя в порядок, я вытряхнул в удивительную трубу на лестнице мусорное ведро, затем на кухне обследовал холодильник и приготовил чай с лимоном. Налил и Тане, но она разговаривала с дедушкой в гостиной, и такими увлечёнными оба выглядели, что я не стал мешать. Выпил две чашки и открыл в Таниной комнате – да-да, так уже называл её: Танина комната, – Ирину Одоевцеву. Но какое там чтение! Перед глазами стояла Таня. Мы теперь совсем родные, так будет всегда. Возможно, когда-нибудь я привыкну к этой мысли, вновь смогу нормально читать, учиться, жить, но сейчас и на книжных страницах видел Танино лицо, и волшебный треугольник, и лишь где-то внизу время от времени проступали бледные строки:
Маг и колдун Мандельштам Жабу гладит на кухне…И таяли, не оставляя следа.
Вскоре пришла бабушка с хорошей вестью: Софья Николаевна впервые встала и сделала несколько шагов. И это, понял я, конечно, благодаря Тане…
Ночью, когда все успокоились, я вылез из постели, прокрался по коридору и, тихо постучав, приоткрыл дверь:
– Тань, можно к тебе?
– Заходи, – шёпотом ответила она.
Приставать я не хотел: не совсем был тёмный, знал, что первый раз – для девушки травма и надо подождать. Встал на колени рядом с диваном, обнял Таню. Она откинула одеяло:
– Забирайся, Сашка… Только утром вернись обратно, часов в восемь, хорошо?
– Вернусь, но лучше бы остаться.
– Надо. Давай поставим будильник на всякий случай…
9Изначально Таня собиралась навестить все медицинские вузы города, но первый же, куда заглянула, так пленил её, что о других теперь не было и речи. А времени до отлёта оставалось предостаточно. С утра мы вновь поехали на Дворцовую, но, поглядев на очередь в Эрмитаж, отложили его на когда-нибудь и пешком дошли до Русского музея. Там провели несколько часов – и, что удивительно, дольше, чем у картин Айвазовского, задержались у Левитана: подходили, отступали, глядя, как бесформенные цветные пятна преображаются, складываются в неизвестные и знакомые по учебникам пейзажи, как они вновь притягивают, пока ты сам не растворишься в них, превратясь в облачное небо, тропинку в лесу, вечернее озеро. После музея отправились в кинотеатр «Спартак»; вспомнить фильм труднее, чем книгу, которую хоть сейчас можно взять с полки, но, кажется, смотрели «Любимца Нового Орлеана» с голосистым Марио Ланца, похожим на огромного жизнерадостного карапуза.
На следующий день поехали в Дом Книги, нашли необходимую Тане литературу. Вечером Таня примерила мои детские коньки, найденные на антресолях, и сказала, что почти в самый раз. Утром на катке я взял напрокат пару снегурок сорок четвёртого размера. «На красных лапках гусь тяжёлый…» – вспомнил некстати, прежде чем ступить на лёд, мы переглянулись… Не удивлюсь, если ещё весной посетители катка вспоминали двух клоунов, которые давились смехом, шатались, выписывали непредсказуемые зигзаги от борта к борту, лишь чудом не падая и не тормозя о соседей. Может быть, кто-то даже решил, что они это делают нарочно.
А когда вернулись домой, на глаза попался лист из блокнота с записанным телефоном Всеволода, питерского знакомого.
– Ты, Сашка, не приревновал тогда? – спросила Таня.
– А надо было?
– Мы не в Одессе.
– Почему ты так решила?
– И не в Солнечном.
– Я, по-твоему, должен ревновать ко всем встречным?
– И даже не на Брайтоне.
– Не ревновал, – признался я, – но, кажется, он перед тобой выделывался.
– Ещё как, но он не в моём вкусе.
– Почему?
Таня открыла блокнот и взяла карандаш:
– Смотри, вот я рисую твои глаза. Левый, правый, – вышло в натуральную величину и довольно похоже, – а между ними расстояние, примерно равное длине одного глаза, как и должно быть. А у него – обратил внимание? Оно гораздо меньше, вот где-то так, – нарисовала она чуть ниже новую пару. – Мне такое лицо не может понравиться, хоть парень он, кажется, хороший.
– А если бы могло?
– Придралась бы к чему-нибудь другому, подбородок мелковат…
– А если б не нашла к чему?
– Чтобы я не нашла? Не уважаешь?
В общем, мы решили позвонить. Трубку сняла женщина и, выслушав меня, громко сказала: «Сева, к телефону!»
– Алло, – раздался голос Всеволода. – А, это вы, привет! Я почему-то думал, что если кто позвонит, то скорее Татьяна.
– Он думал, ты позвонишь, – шепнул я Тане.
– Сейчас бегу, аж ветер свистит!.. Привет аборигенам!
Все трое рассмеялись.
– Как долго вы ещё здесь? – спросил Всеволод.
– Послезавтра улетаем.
– Я сейчас ухожу, застали почти в дверях. Давайте, если хотите, часам к пяти подъезжайте по адресу: тринадцатая Красноармейская, – дальше я записал на листе дом и квартиру, – знаете, как добраться?
– Найдём по карте.
– Ближайшее метро – «Технологический институт» или «Балтийская», примерно одинаково. Думаю, будет интересно. Там много звонков, жмите второй сверху; если я не успею к этому времени, кодовое слово: «Ёзель».
– Заинтриговал, – сказала Таня, вернувшись в комнату, – я бы съездила.
10Танина комната превратилась у нас в подобие штаба заговорщиков. Я принёс рюкзак, достал из него литровую нержавеющую флягу, полную самодельного мускатного вина, отвинтил крышку, понюхал…
– Чувствую, пригодится, – сказал Тане.
– Когда брал, уже чувствовал? – спросила она. Я пожал плечами:
– Наверное, предвидел встречу с интересными людьми. Кстати, до Болтов можем доехать на электричке, ещё один местный ништяк для коллекции.
– Питерский воздух действует? На глазах превращаешься в хиппаря.
– Нужен хайр.
– Федотов тебе покажет хайр. «Р-распущенные!..» – сказала Таня.
– «Иди сюда, бар-рмалей!..» – ответил я.
Иван Захарович Федотов, наш военрук, отставной капитан второго ранга, добрейший и способный при случае заменить учителя в любом классе по любому предмету, обладал лишь одним недостатком – полным, совершенно иррациональным неприятием внешних сторон неформальности.
Мы сказали бабушке и дедушке, что хотим погулять по ночному городу – и правда, в четыре часа вовсю темнело, – собрались и, перекидываясь разнообразными федотовскими словечками, вышли. Пока дожидались электрички, стемнело совсем, так что мрак растворял не только зрительные образы, но словно бы и звуки, и ослепительный прожектор с длинным хвостом бледно-жёлтых окон, подлетевший к платформе, не помешал нам разговаривать вполголоса. Вошли, сели; вагон был почти безлюден, и Таня, в обществе обычно сдержанная, положила голову мне на плечо. Тронулись. Двойные удары колёс на стыках, летящие навстречу фонари, хриплый голос из динамиков, объявляющий станции… Я бы сутки так ехал, но дорога до Балтийского вокзала была коротка, а пешком от вокзала до цели – и того меньше.
Нашли нужный дом, парадную. Этаж был третий, но насколько выше он оказался нашего третьего: лестничные пролёты длиннее раза в полтора! Тёмная металлическая дверь с нарисованным размашистыми белыми мазками городским видом: закруглённая колоннада, то ли Питер, то ли Рим, частично переходящая на стену. Я нажал вторую сверху кнопку и не услышал звонка. Первые секунды за дверью ничего не происходило: ни шагов, ни вопроса, глазок не потемнел, – и вдруг щёлкнул замок, колонны бесшумно разомкнулись. На пороге стоял высокий мужчина лет, наверное, под тридцать.
– Здравствуйте, – сказал я, – а Всеволод здесь?
– Нет пока.
– Кодовое слово: Ёзель.
– Прошу. – Хозяин, посторонившись, впустил нас в коридор и, пока мы разувались и вешали куртки, объяснил: – Ёзель, чтобы вы знали, – это я, потому что с добрым утром, тётя Хая.
– Ай-ай-ай, – кивнула Таня.
– Вижу: в теме. Здесь ванная, а будете готовы – заходите сюда, – кивнул он на одну из дверей, которых в сумрачный коридор выглядывало не меньше десятка. По первому впечатлению, квартира была огромна: настоящая питерская коммуналка, о которых я много слышал и читал, с паркетом и высоченными потолками, небогатая, но чистая. И почему-то при таких размерах было бы нелегко вообразить здесь километровую очередь в туалет.
Только войдя в комнату, мы вспомнили, что надо представиться.
– Очень приятно, я Станислав по паспорту, но где бы его найти, – огляделся Ёзель по сторонам.
В комнате было гораздо светлее: под потолком сияла роскошная, почти музейная люстра. Сама комната превосходила размерами, особенно длиной, нашу гостиную и вдобавок имела подобие второго этажа, занимавшего примерно треть площади и отгороженного тёмной занавеской. Наверх вела деревянная лесенка, а внизу не только мы, но и рослый хозяин мог бы гулять, не пригибая головы. Но больше этих полатей и даже больше старого беккеровского пианино внимание притягивала стена, сплошь покрытая рисунками и фотографиями: были здесь виды разных городов, горы, море; я заметил даже крымский пейзаж с Аю-Дагом, а рядом – набросанный карандашом или углём портрет ослепительной красавицы в теннисной повязке на волосах. В одной лишь повязке, а нарисована девушка была почти по пояс. Наши с Таней взгляды остановились на ней одновременно.
– Вот вам и ай-ай-ай, – сказал Станислав.
Он усадил нас на низенькую банкетку или козетку, а сам так и стоял посреди комнаты, всем обликом необычайно гармонируя с ней: костлявый, темноволосый, слегка небритый и лохматый, в просторных тёмных брюках и тропической рубашке с коротким рукавом.
– Чем бы вас занять пока? – продолжал он, – хотите почитать?
Достал из антикварного шкафа громадный том, положил на журнальный столик перед нами. Я открыл: ничего ж себе, стихи, да какие! Машинописные страницы, проложенные папиросной бумагой… Таня, едва касаясь, перелистнула несколько и остановилась на самом длинном:
Из пасти льва струя не журчит и не слышно рыка. Гиацинты цветут. Ни свистка, ни крика, никаких голосов. Неподвижна листва. И чужда обстановка сия для столь грозного лика, и нова…– Нравится? – спросил Станислав, когда мы дочитали.
– Очень, – синхронно сказали мы.
– Мой родной дядя за эти сборники лежал в психушке пятнадцать лет назад, такие дела…
Интересно, – задумался я, прочитав новое стихотворение, – смогу ли сам когда-нибудь написать хоть несколько строк – чтобы их перепечатывали, хранили, показывали гостям? Или, может быть, одного писания мало, нужна ещё биография?..
Таня подтолкнула меня плечом:
– Что, Сашка, мечтаешь?
11На верхнем этаже кто-то заворочался и чихнул.
– Не обращайте внимания, – сказал Станислав, – встаёт, отсыпался после смены… Серёга, вылезаешь?!
– Да, – отозвались с полатей.
– Здесь новая леди, оденься предварительно.
– Окей!
Вскоре по лестнице спустился босой парень в чёрной майке и армейских камуфляжных штанах, с перекинутым через плечо полотенцем, учтиво поздоровался и, обув шлёпанцы, вышел.
– Больше там никого, – сказал хозяин, и мы продолжали читать.
Не прошло и минуты, как в дверь постучали и сразу распахнули во всю ширь.
– Ста-ас! – протяжно сказала вошедшая девушка – та самая, с портрета. – Я не поняла-а, ты хоть кофе сделаешь гостям?
– Тебя ждём, мастер, – ответил Стас.
– Мастер… ты бы ещё сто лет ждал! Привет, ребята. Ася. Сейчас всё организую.
Была она в шотландской юбке и такой же рубашке, как у Станислава, завязанной узлом выше талии. На вид едва ли старше двадцати, не меньше меня ростом. Тёмно-каштановые кудри, белая кожа с веснушками, огромные карие глаза. Она вышла, хлопнув дверью, и Станислав подмигнул вслед. Мы проглотили ещё несколько стихотворений – и вновь, уже без стука, появилась Ася.
– Ста-ас! – я подумал, что это, возможно, и есть основная интонация их разговоров. – К телефону!
Стас медлил, посмеиваясь.
– У меня убежит! – повысила голос Ася.
– Иду, иду… – Станислав поднялся с явно показушной неохотой.
– Иду!.. – передразнила она и, схватившись за голову, исчезла.
Мы с Таней недолго оставались одни. Вернулся умытый, причёсанный Сергей, следом Ася принесла дымящийся кофейник, чашки и блюдо с бутербродами на подносе. То, что кофе очень хорош, понял даже я, и вряд ли какой-нибудь другой запах на свете лучше подошёл бы к этой комнате. Таня закрыла книгу, сдвинула на край стола. Ася, хозяйничая, наклонилась… нет, я этого не видел. Не видел и всё. Хотя художник, кажется, преувеличил…
– Как насчёт? – спросил Сергей, поставив на стол бутылку коньяка. Девушки согласились на чайную ложку в кофе, я – на столовую и сразу вынул из сумки флягу крымского привета. Сергей отвинтил крышку, поглядел и сказал:
– Чувствую, круто, но подождём, пока соберутся, тогда заценим.
Станислав, получивший кофе с коньяком, как показалось, в равном соотношении, сел в кресло, Ася примостилась на подлокотнике. Едва мы сделали несколько глотков, откуда-то сверху зазвучала мелодия:
С добрым утром, тётя Хая, ай-ай-ай!..Я не сразу понял, что это звонок: кто-то на лестничной площадке давил вторую сверху кнопку. Ася, сердито поджав губы, отдала чашку Стасу, встала и вышла.
Ввалилась целая компания – две девушки, два парня. Пока они здоровались, знакомились с нами и рассаживались, Ася приготовила второй кофейник. Все гости были наших лет или постарше, но моложе Станислава; всё, кроме Аси, обращались к нему на вы, а он – ко всем, кроме Тани, на ты.
– Это Сева звонил, – сказал он, глядя на нас с Таней, – интересовался, пришли вы или нет. Сказал, там у себя играете музыку.
– Немного.
– Ты на чём? – спросил он меня.
– На гитаре.
Ненадолго воцарилось молчание, прерванное гневным возгласом Аси:
– Ничего не может без меня!
Вскочив с подлокотника, она вылетела из комнаты. До сих пор я удивлялся, почему гляжу на это, скрывая ухмылку, почему такое отношение Стаса не вызывает ни капли внутреннего протеста, – и вдруг, не иначе после напитка, сообразил: они не всерьёз. Стас как будто бесит её, она делает вид, что злится, – это похоже на игру. Хотя причина могла быть и иной. Ася, протянув мне двенадцатиструнную гитару, задержалась напротив: колени вместе, стопы вместе, а икры друг дружки не касаются, между ними сплошной просвет – неужели поэтому мне её не жаль?..
Вновь подошедшие девочки расспрашивали Таню о Крыме, восхищались её загаром – это зимой, обалдеть, какой же он летом?! – и густыми от природы ресницами. Маленькая звонкоголосая Лера даже потрогала их и, когда по стаканам разлили наше самопальное вино, выпила с Таней на брудершафт.
Сергей, спросив, на чём играет Таня, достал из-за шкафа высокий расписной барабан. «Личный подарок Фиделя», – сказал он очень серьёзно. Таня улыбнулась, пробежала по нему пальцами; Ася взяла на пианино ноту ля, я подстроил гитару. Начали мы со «Снега», который доставил мне столько мучений на первой репетиции, затем двинулись дальше, взглядами договариваясь о следующей песне. Ася стала подыгрывать на слух в джазовом, рваном ритме.
– Когда вы улетаете? – спросил в паузе Станислав.
– Послезавтра.
– Жаль, тут рядом хорошее кафе, поэты читают стихи, народ валом… Там бы спели.
Снова зазвучала тётя Хая, и Ася привстала было с табуретки, но Стас, потрепав её по голове, пошёл открывать сам. Явился Всеволод и с ходу, завидев нас, рассказал, как встретил двух чудиков на Дворцовой. Мы ещё поиграли, потом гитару взял Сергей и запел что-то неистовое:
В Питере стрёмно, в Питере стрёмно, В Питере стрёмно, в Питере стрёмно… Бег в каменном мешке!..Дальнейшее было не вполне разборчиво благодаря шквальному темпу и не лучшей Серёгиной дикции, но для того, чтобы создать настроение, слова оказались не очень и нужны, хватало напора и энергии. Когда же во втором или третьем куплете вспыхнуло отчётливое:
Это что за шаги на лестнице? Это нас арестовывать идут!.. —в голове сложилась картина: вот мы сидим, горсть вольнодумцев с полным шкафом запрещённых книг, свободным разговором, нелитованными песнями, а за окном тридцать седьмой год, у парадной остановилась зловещая решётчатая машина, хлопнула дверь, по лестнице грохочут сапоги – понятно по чьи души, все остальные квартиры пусты, но мы просто так не сдадимся, хозяин раздаст парабеллумы и ТТ…
Тут и правда позвонили, но вместо врагов пришли ещё несколько молодых людей.
– А я бы спела в кафе, – сказала Таня, – ладно, приедем в другой раз – попробуем…
12Девочки, и Лера больше всех, осаждали Таню вопросами, но далеко не на каждый она могла ответить.
– Лисья бухта? А что это, где? Не была, я и не знаю никакой Лисьей бухты, – говорила она, качая головой, – даже не слышала, теперь поинтересуюсь…
Я тоже не знал Лисьей бухты и не видел, ходят там голыми или нет, поэтому сказал:
– Много раз замечал, что жители Крыма знают пляжные и курортные места хуже тех, кто ездит отдыхать.
– Отдыхать? – спросил Станислав. Он стоял, покачиваясь, но глядел и говорил твёрдо. – В Крым – отдыхать? Вам что, карты мало? Найдите любое место: Сочи, Ницца… Гавана, блин, и марш туда отдыхать. Красное море, Белое, всё к вашим услугам. Но Крым и отдых – более пошлого сочетания не найдёте, хоть переройте нахрен лопатой весь словарь Ожегова. Суровая каменная земля, солёная, сколько надо пахать, чтобы вырастить виноград… ну сами знаете лучше меня. А степи? Летом сухо, осенью шторма, зимой никому на целом свете не нужны к чертям – какой там отдых? Это место для работы. Трудной, сосредоточенной работы прежде всего над собой. Для творчества, как это ни глупо звучит. Сколько имён, от Пушкина до Ахматовой и Волошина, вся культура создавалась в Петербурге и Крыму. Много бы они сделали, лёжа кверху пузом?.. Правда, солнце? – спросил он Асю.
Она, потянувшись к его уху, что-то шепнула.
– Больше не буду, ты права как Розенталь, – ответил он и удалился в тень второго этажа.
Вскоре там собралась почти вся компания и зазвучала английская речь. Я прислушался: Станислав и гости обсуждали какой-то современный фильм, то ли «Курьера», то ли «Плюмбума».
– Do you understand? – спросил он, уловив моё внимание.
– A little… I don’t speak English very good, – ответил я.
– Ясно, по-буржуйски каши не сварим, давай по-нашему. Что непонятно больше всего?
– Грамматика, особенно времена. Так вроде нормально, но как услышу Present perfect, уши сами закрываются и пропадает всё желание. Настоящее завершённое, как это может быть? Не врублюсь.
– Ещё одна жертва школьного преподавания, – сказал Станислав. – Никак не может быть.
– Кто это всё придумал?..
– Я скажу кто. Это придумали люди, которые очень плохо знали английский. Возможно, хуже, чем ты. Зато они прекрасно знали латынь и описали непонятный для себя язык по типу латыни. Натянули на него латинскую грамматику, которая совсем ему не нужна, потому что язык – германский, то есть варварский, примитивный, никакой грамматики там, по сути, нет. Есть очень малые средства, с помощью которых ты выражаешь мысль, как тебе надо. Примерно так: я хотеть вы чтобы быть мой жена, – обернулся он к Асе.
– Посмотрим, что завтра скажешь, на свежую голову, – ответила она.
К нам подсела Таня, но не вмешивалась в разговор, а с огромным интересом слушала.
– Переводи буквально, чтобы понять логику языка, – продолжал Станислав. – Это просто, потому что, я уже сказал, средства там очень бедны. Нет чисто служебных слов, например, которые только выражают грамматическую категорию. Они обязательно что-то значат. Как по-английски «я буду копать»?
– I shall…
– Dig, – подсказала Таня.
– I shall dig – это не просто «я буду копать», а «буду копать, как велит судьба». А I will dig – «буду копать, как мне угодно». Вам, конечно, говорят, что shall – обязательно с первым лицом, а will – со вторым и третьим?
– Говорят.
– Брешут. Какой смысл хочешь передать, так и говори. Видишь, нет пустых слов. Или to be. To – частица перед глаголом, которая обозначает инфинитив?
Мы кивнули.
– Хрена лысого. Это когда предлог, когда союз, по смыслу схожий с нашим «чтобы». И так далее.
– А present perfect? – спросил я.
– Да нет никакого present perfect на самом деле. Have – тоже не служебный глагол, он употребляется в прямом смысле. Вы же в курсе, что капиталисты всё имеют? Я имею дом, имею мечту, имею тётю, в конце концов. Это понятно?
– Да.
– А можно иметь не просто тётю, а иметь её в каком-то состоянии. Скажем, в навещённом. Это состояние выражается пассивным причастием или, как мы говорим, страдательным. Если неправильный глагол, то крайний правый столбик. Drink – drank – drunk, нам нужен drunk. А если правильный, совсем просто. Переведите: я имею свою тётю навещённой.
– I have my aunt visited, – сказала Таня.
– А теперь переставьте слова, как привычнее, и всех делов. Имею – конкретно сейчас, в момент разговора, поэтому его зовут настоящим. Ферштейн?
– Да, спасибо.
– Смотрите с точки зрения смысла, а таблицами времён можете растопить костёр.
И Станислав вернулся к разговору о фильме.
– Это кажется, мы не имеем своих бабушку и дедушку позвоненными, – сказал я.
– А сколько времени? – спросила Таня. – Без четверти десять, mamma mia!..
Спросив разрешения у хозяина, мы помчались к телефону. Трубку снял дедушка, он не имел свой голос обеспокоенным и подсказал расписание электричек. Мы обменялись адресами со всеми, кто имел нас желанными, попрощались, оделись и, торопясь, выбежали в город.
Погода изменилась за несколько часов. Сыпал мелкий колючий снег, и ветер то кружил его под ногами, гоняя бешеные воронки по улице, то выстреливал сухими языками в лицо, заставляя жмуриться и поднимать воротник.
– Тань, у тебя сколько осталось плёнки? – спросил я на ходу.
– Половина катушки в камере и одна целая.
– Завтра сходим ещё в одно место? Встанешь там, будешь медленно поворачиваться и считать мосты. Как насчитаешь семь, загадывай желание. Круто?
– Потрясающе. И ты знаешь, что я загадаю.
– Может быть, догадываюсь?
– Знаешь, Саня, не притворяйся. – Таня остановилась и крепко, изо всех сил, обняла меня. – Знаешь, знаешь, знаешь, всё ты знаешь…
Глава восьмая. ОСТРОВ
1Мы вернулись в Солнечное и назавтра пошли в школу. Вернулась и Оксана Ткаченко, теперь она вновь сидела со мной за третьей партой.
– Ты стала какая-то другая, – заметил я на перемене, – будто мыслями далеко…
– То же самое могу сказать о тебе. И ещё о ком-то. Помнишь, Саша, я говорила по телефону, что однажды с ней познакомилась?
– Помню.
– Почти пять лет назад. Мама и папа вместе со мной поехали в Евпаторию к друзьям отмечать День Победы. Было довольно много гостей, в том числе Танины родители с Таней. Они тогда жили не здесь, мы впервые увиделись. Мне одиннадцать, уже тёлочка в миниатюре, с формами, все дела. Таня на год старше, на вид совершенный ребёнок. Кроме нас – мальчик, примерно ровесник, и девочка лет пятнадцати. Взрослые сели праздновать, нас отправили в отдельную комнату: идите поиграйте. Мы с Танькой разговариваем, старшая девочка скучает, мальчик вообще демонстративно презирает девчонок… Потом стал меня обижать. Может, таким образом выказывал симпатию, не знаю, было неприятно. Таня говорит: «Не трогай её». Он как не слышит. Она продолжает: «Не трогай, сейчас дам, будет больно!» Он такой растопырился: «Ну дай, дай!..» Что ты думаешь? В следующее мгновение полетел кувырком! – Оксана рассмеялась, и я тоже, представив картину. – Вскочил, бросился к ней и снова полетел, – рассказывала дальше Оксана, – и к выходу, а Таня ему: «Беги жалуйся, девчонка тебя побила». Я прямо вижу, у него шарики в голове закрутились, заработали… Отошёл от двери, дальше был как шёлковый. А осенью мы с Таней встретились в нашей школе, не подружились как-то особенно, но отношения добрые. Она ещё повзрослела, красивая, такие глаза неземные. Будь я парнем, даже не знаю, предпочла бы её или Ленку… Вижу, Саня, всё решил. Может, и правильно, вы равные, идёте рядом. Лена всё-таки ведомая, это не каждому интересно…
Мне показалось, Оксана была немного обижена. За время, что она провела в Москве, Лена сблизилась с девочками из «верхней» компании, особенно с Олей Виеру, и теперь словно разрывалась между прежней и новыми подругами, – но те звали к себе, тормошили, тянули за руки, Оксане доставался виноватый взгляд. А бегать ни за кем она не станет, будьте уверены. Только под конец учебного дня недоразумение разрешилось, и в гардеробе Лена заплакала на плече Оксаны, успокоилась, улыбнулась – всё это в течение минуты, – а затем они вместе пошли домой. Жили они теперь в одном подъезде: сразу после Нового года Надежда получила там двухкомнатную квартиру.
О чём могла знать или догадываться Оксана? О лекарствах из госпиталя – знала, как и все, о нервном срыве Надежды – тоже; но, кажется, не имела понятия о его истинной причине. Думала, что он случился от беспокойства за беглого сына, как я понял из дальнейших разговоров. И замечательно.
2В один из ближайших дней я встретил брата Лены, ничуть не укрощённого севастопольским распределителем. Эта страница биографии скорее добавила роковых и грозных красок его образу. Может быть, дома он вёл себя прилично и оставил в покое сестру, но безответные ребята были и в восьмых-девятых классах. Одного из них, спокойного, умного Германа Думбадзе, он повалил наземь возле стены на заднем дворе и так сжимал его пальцы, что бедняга извивался и едва не всхлипывал. Куртка его была расстёгнута, рубашка вылезла из брюк. Выглядело это всё непристойно.
Когда в сентябре на пришкольном участке нечто подобное, но ещё хуже, творила с Леной кошмарная, членистоногая Кондратюк, я был в пяти шагах от того, чтобы остановить её, но всё-таки прошёл мимо. Сейчас, приняв мой тяжёлый пендель, Игнатович выпустил руку Германа и обернулся. Не давая опомниться, я схватил его за плечи и толкнул к стене. Он вякнул что-то угрожающее, но тут же прикусил язык – струсил, уродец, закрылся предплечьями и выглядывал из-за блока, точно леший из дупла. Эта внезапная робость только сильнее разъярила меня. Чуть помедлил, прислушался: злой, просто бешеный, но голова трезвая, руки не дрожат. И хорошо. Просунул кисть сквозь глухую защиту и, толкнув пальцами в лоб, крепко приложил его затылком к оштукатуренному кирпичу. Повторил дважды. «Отпустите, дяденька, больше не буду!» – умолял его взгляд, но я не верил и далеко не был удовлетворён, костяшки кулаков чесались, требуя работы.
Отступил на полшага и сказал наугад:
– Выкладывай живо.
И не ошибся: он выгреб из кармана несколько монет. Я зажал их в левой руке, а правой двинул ему чуть ниже солнечного сплетения – от души, чтобы донести привет сквозь куртку. Может, и перестарался: Игнатович хватанул воздух ртом, выпучил глаза и стал опускаться на корточки.
– Встать! – рявкнул я, потащил его вверх за шиворот и, кое-как разогнув, съездил сбоку в челюсть, прежде чем он вновь осел. Опрокинул ударом колена в плечо и лишь тогда заметил ошарашенное лицо сидящего на мёрзлой земле Думбадзе. Кажется, он пытался встать, но поскользнулся. Я протянул руку и одним рывком поднял его в полный рост, будто выдернул утопающего. Герман был чуть выше меня и, вопреки фамилии, русоволос и сероглаз.
– Идём, – сказал я, вернув ему деньги, – если ещё тронет, сразу говори мне.
– А… как же…
– О нём, что ли, волнуешься? Не бойся, очухается. Подожди минуту. – Я отряхнул его с боков и сзади несколькими взмахами ладони. – Теперь идём.
От изумления он даже не сказал спасибо, но я не огорчился. Зная свой характер, предполагал в недалёком будущем сожаление, муки совести, но день заканчивался, а на душе было светло, и чувство такое, словно я не Игнатовичу, а себе вломил за прошлое недостойное поведение и теперь от него свободен. Подайте скорее Метца, подайте Землякова!.. Впрочем, это я загнул. Метца, Землякова, Лысенко и ещё нескольких видных мафиози в школе больше не было, их родителей срочно и без лишнего шума перевели в другие части: кого-то – на Север, кого-то – на Дальний Восток.
3Таня приболела и несколько дней не появлялась на уроках и в подвале. Сама виновата, – чуть охрипшим, но бодрым голосом рассказывала по телефону, – решила, что крымская зима после питерской – почти лето, и бегала по магазинам в курточке на футболочку. Но это в какой-то степени к лучшему: не торопясь проявила плёнки, разобрала привезённые книги, многое успела прочитать…
– И как тебе? – спросил я.
– Интересно! Сегодня изучала строение и функции печени в подробностях, от картинок разыгрался аппетит… А за окном знаешь что происходит? Лебеди в бухте ломают лёд. Представь, вылезли всей стаей, ходят, переваливаются на коротких лапах. Нашли слабое место, собрались толпой и качаются, пока не треснет!.. – Посмеявшись и несколько раз кашлянув, она продолжала: – Сань, завтра буду уже не заразная, приходи в три часа, хорошо? Ужасно соскучилась…
И на следующий день, едва я показался в её комнате, повисла на мне, обхватив руками и ногами.
– Не стряхнёшь, и не думай! Помнишь, я говорила, это невозможно?
– Даже не собираюсь, – ответил я, – и пробовать не стану, сидите на здоровье.
– Ай, Саня, раздавишь… Ну что ты делаешь?
Таня притворялась: раздавить упругую часть её тела, стиснутую моими ладонями, не смог бы и первый силач на Земле. Уступая просьбе, я на миг отпустил её, затем вновь прижал к себе, и вскоре от этой пульсации над ухом раздались тихие стоны пополам со смешками. Я уже понимал, что физический контакт, напряжение и сопротивление жизненно необходимы Тане, и всегда был рад помочь, но удивлялся, как легко эта забавная возня вызывает ощущения совсем иного характера. Не только у неё, у меня ещё и больше…
– Сашка, так рада тебя видеть!.. – шептала Таня, стягивая через голову кофту вместе с майкой. Путалась в рукавах; я не то помогал, не то мешал и хотел подумать о чём-нибудь постороннем, только бы отвлечься и не истратить пыл раньше времени, но о чём подумать? Не о чем совершенно, голова пустая и до жути счастливая… Она ещё не перестала восторженно звенеть, когда мы вместе сбегали в ванную; затем Таня, стоя в одних трусиках перед зеркалом, говорила, что временами нравится себе, – а какой невзрачной казалась ещё год-другой назад, особенно рядом с Маринкой. «А сейчас нравлюсь, просто удивительно, удивительно…» – повторяла, и я смотрел, находя приметы, не замеченные раньше. Так получилось, что в Питере, кроме первого раза, видел её больше ночью, в сумраке, да и не столько видел, сколько чувствовал руками и губами, – а теперь, при дневном свете, ясно различил тонкий вертикальный шрам на боку, от рёбер до верха правой ягодицы.
– Откуда это? – спросил, поцеловав его. Таня улыбнулась:
– Ерунда. Берег обвалился, съехала вниз и оцарапалась.
– Ничего себе… И какая высота?
– Метра два, наверное. Ещё на коленке, видишь? Другой случай, неудачный прыжок.
– А мои шрамы почти все на левой руке, – сказал я.
– Почему?
– Правша. Вырезал корабли из деревяшек, нож иногда соскакивал, чиркал по левой… в общем, ей не везло.
– И вот здесь, – сказала Таня, раздвинув волосы надо лбом. – Совсем глупо: ехала на велосипеде, колесо в яму на полном ходу – и рыбкой через руль, да ещё двухколёсный друг на меня сверху. Хорошо, без сотрясения… Руку сломала, но срослась как новенькая.
– Когда?!
– В седьмом классе весной. Ходила в гипсе, не помнишь?
– Нет…
– Если бы ты ходил с перевязанной головой, тоже бы не заметила.
– А вообще без головы?
– Тогда может быть.
– Я сейчас без головы.
– Немножко оставь, ладно? Чтобы поступить и учиться. Ради меня, если сам не хочешь.
– Хочу.
– Значит, не теряй всю голову. Сейчас сварю кофе, настоящий, как у Аси, только без этого, – прикоснулась к горлу, – понимаешь? Надо одеться, Саня, Санечка, пусти…
Потом, с чашками в руках, мы глядели в окно на Яхтенную бухту. Каждую зиму здесь останавливалась одна и та же стая шипунов, год от года более многочисленная. Некоторым, прилетавшим не первый раз, мы дали имена: самый большой, с чёрной отметиной на шее, лебедь звался Петровичем, его подруга – Машкой… В позапрошлом январе ударил необычно сильный мороз, бухту можно было перейти с берега на берег по льду, и мы вместо школьных занятий разбивали его, носили пленников в котельную, где в пустом зале они отогревались и пережидали непогоду, а двое повредивших крылья жили в Солнечном целый год до возвращения стаи. Нынешняя зима была милосерднее, огромные птицы сами расчищали пространство, и в качестве дружеской помощи яхт-клубовцы ежедневно обходили место зимовки на четырёхвёсельном яле, превращённом в ледокол. Послезавтра, если не ошибаюсь, моя очередь…
4– Ты уже смотрел? – спросила Таня. Я обернулся и увидел у неё в руках пришедший сегодня первый номер «Юности» с абстрактным рисунком на обложке.
– Не успел пока.
– Я ведь купилась. – Таня раскрыла журнал и, найдя страницу, актёрским голосом произнесла: – «Всякий знает в центре Симферополя, среди его сумасшедших архитектурных экспрессий, дерзкий в своей простоте, похожий на очиненный карандаш, небоскрёб газеты „Русский Курьер“». Ты знаешь?
Я покачал головой.
– А я сначала задумалась, где могла его видеть?.. Потом въехала, что это альтернативная история. Ну, как будто большевики не взяли Крым и он превратился в самостоятельное государство под боком у Союза, невероятно процветающее. Только стала читать, перед твоим приходом.
И мы, сидя на кровати, продолжили читать вдвоём. Андрей Лучников, сорокашестилетний холостяк, издатель «Русского курьера», проснулся на верхнем этаже небоскрёба, поговорил по телефону с отцом, сел в спортивную машину диковинной марки и в сплошном автомобильном потоке двинулся по многоэтажным транспортным развязкам и высотным фриуэям. Free way – свободный путь, бесплатный, – мысленно перевёл я. Удивительные слова об экономическом буме ранних сороковых… Войны, что ли, не было совсем? А впрочем, в параллельной истории может делаться что угодно. Я обнял Таню за плечи, но она вся была там, на страницах. Невиданные картины сказочно благополучного Крыма, надо же такое выдумать! – а герой словно недоволен, чувствует вину перед огромной, угрюмой страной на севере… Вот он доехал, увидел отца и сына, где-то долго пропадавшего, – дед и внук поразительно похожи друг на друга и, кажется, имеют больше общего между собой, чем все отцы и дети. Сын привёз двух девушек, они плавают голышом в бассейне… Семейный обед с приглашённым гостем сменяется серьёзным, жёстким разговором. Твоей политикой недовольны влиятельные люди, – объясняет гость, – готовится покушение… Я почувствовал, как неторопливо и мощно взводится пружина, набирая энергию, которой хватит до конца и дальше, за границы романа; нечто подобное есть в одной хорошей книге, где Анна, приехав мирить с женой непутёвого брата, встречает на вокзале судьбу в лице Вронского, или в другой, где Ипполит Матвеевич, направляясь в Старгород за тёщиными сокровищами, неотвратимо движется навстречу великому комбинатору… Они едут, преследуя важную цель, – к ней-то пружина и крепится, хотя раскрутиться может совсем в другую сторону. А мой Олег зачем приехал в новый город? – подумал я. – Перевели служить родителей – это не зачем, а почему. Но тут же нашёл оправдание: те герои взрослые, а ему двенадцать, какая в эти годы может быть цель? Причины вполне достаточно.
А девчонки появились не просто так: одна из них, Кристина, склоняется в темноте над Андреем, блестят хулиганские глаза… Постельная сцена, обстоятельно-детальная, как спортивный репортаж, украшенный сравнениями и метафорами. Это, как я понял через несколько лет, мы видели ещё не полный авторский вариант. Таня, сидящая рядом, фыркнула; я ощутил, как она возвращается в комнату. «Что такое?» – спросил движением бровей. Таня, кивнув на страницы, скорчила гримасу, которую можно было перевести как «фи».
– Девушка, вы стали ханжой?
– Упаси боже, не в этом дело. Просто… ну помнишь, я прочитала по телефону отрывок, а ты сказал, что автор хочет выражаться гладко и красиво там, где это не нужно? Вот здесь это в сто раз более заметно. И в тысячу раз более неуместно. Где угодно, только не здесь.
Наверное, она была права.
– Саш, когда у твоих ребят дойдёт понимаешь до чего, а дойдёт обязательно, и не спорь, – Таня подтолкнула меня, – пожалуйста, обойдись без наглых солдат-захватчиков… и особенно без эдиповых заморочек. Обещаешь?
– Торжественно.
– Что торжественно?
– Клянусь.
– Тогда я спокойна, искусство на верном пути.
– И в надёжных руках, – добавил я, притянув её к себе. – Тань, кто босиком после болезни?
– Тот я. Да не холодно, топят же.
– Проверю. Правда тёплые…
– Как всегда.
– Но всё-таки надень носки, пожалуйста. Или дай мне, сам надену.
– Ладно, уговорил. Заботливый…
А потом мы вновь погружались в душевные терзания Лучникова, вместе с ним колеся по фантастическому Южному берегу. Хотел бы я жить в таком Крыму? Точного ответа пока не знал, но… попробовал бы с удовольствием. И Таня сказала, что не против, совсем не против, особенно после того как встретила на последней странице собственное имя. Там возникла Татьяна – вероятно, главная любовь героя, с которой он расстался по какой-то причине и вновь случайно встретился. «Он смотрел на её плащ, туго перетянутый в талии, на милый пук выцветших волос, небрежно схваченный на затылке, на загорелое красивое лицо и лучики морщинок, идущие к уху, будто вожжи к лошади». Здесь уж я поморщился: автор несомненно хотел представить свою Таню трепетной ланью, но одним сравнением зачем-то превратил в кобылу. Конечно, тоже благородное, красивое животное, но всё-таки… Да и морщинки к уху, если точно представить, идут скорее как вожжи от лошади к седоку.
Тут мы посмотрели на часы: не так много времени оставалось до репетиции. Таня, попросив обождать несколько минут, поставила в магнитофон кассету, нажала клавишу воспроизведения. Зазвучала приятная, ритмичная музыка. Нежнейший женский голос: девушка скорее не пела, а говорила полушёпотом, будто приглашая в спальню. Впечатление было, что она тратит на звук едва ли четверть набранного воздуха, остальное – на то, чтобы лёгким дыханием щекотать микрофон. Ему, должно быть, приятно… Голос был знаком, я недавно слышал по радио другую песню в её исполнении, но не с начала и не до конца, поэтому не знал имени.
– Кто это? – спросил я.
– Твоя Франсуаза Арди.
– Почему моя?
– Ну ваша с Оксанкой. Нравится?
– Очень мило, но по фотографии представлял её не такой, более хлёсткой, что ли…
– Я тоже, – кивнула Таня, – романтично, но немного анемично. Всё-таки самой важной и близкой французской певицей для нас была и остаётся Эдит Пиаф.
И внезапно пропела на одном дыхании:
Non! Rien de rien, Non! Je ne regrette rien…Мгновенно переполнив комнату через край.
– Ох ничего ж себе! Тань, надо повторить это там, – кивнул я в направлении школы.
– Я же не знаю язык, это какая-то белиберда, похожая на слова.
– Ни за что бы не догадался. А если выучить?
– Подумаю. Давай собираться, пойдём.
5После новогодних концертов аппаратура нашей группы вернулась в подвал. Снова выйти оттуда ей предстояло восьмого марта – может быть, в Дом Офицеров, а девятого мая – скорее всего, прокатиться в Севастополь. Для этих гастролей мы взялись учить «Майский вальс» Игоря Лученка. Все поводы были замечательные, правильные, но я уже не раз убеждался, что больше ценю спонтанность. Пусть остаются формальные предлоги, но ведь они довольно редки, и насколько интереснее выступить просто потому, что сегодня есть настроение и обещали прийти друзья! Василий Васильевич разговаривал с директором Евгенией Максимовной насчёт открытых репетиций – один или два раза в неделю, в подвале, со свободным входом для всех желающих. Если разрешит, – заверил он нас, – попробуем в одну из ближайших пятниц.
Василий старался не подавать виду, что нервничает, но почти бросил рассказывать музыкальные анекдоты и вечерами сразу убегал домой. Даже я чувствовал, что жена на восьмом месяце – это очень, очень серьёзно, а Таня с Мариной втихомолку жалели его и в открытую успокаивали. Сейчас ему стало вроде бы легче: из Харькова приехала мама Лизы Владимировны, молодая энергичная пенсионерка, и взяла на себя часть хозяйственных забот. Но, с другой стороны, Лиза, понимая, как важен для него ансамбль, сама напоминала о репетициях и просила не волноваться, а любезная тёща была далека от этих тонкостей и всё явственнее начинала ворчать.
– Давайте споём для неё песню, – предложил я на днях, – вот эту:
Я скажу о своей, и скажу немало: В доме тёща у нас в чине генерала…– Подхалимаж, говорите? – задумался Василий. – А петь придётся мне… Что ж делать, попробуем.
Тогда же записал с моего голоса мелодию, подобрал аккорды, и сегодня мы впервые играли тёщу вместе. До конца так и не дошли, но в каждой новой попытке кололись чуть позже предыдущей. В последний раз кое-как дотерпели до слов:
Если тёща поёт, все ей подпевают, Если пляшет она, сердце замира…И грохнули таким хохотом, что я перепутал лады, а Таня чуть не выпала из-за установки.
– Чего ржёте?! – спросил Василий, но тут не удержался сам. – Ладно, надежда есть, – продолжил, махнув рукой, – маленькая, но хоть так…
У нас появилась ещё одна забота: найти и воспитать клавишника, который на будущий год заменил бы Марину, и, возможно, гитариста, способного играть соло. Музыкальная школа в городке действовала несколько лет до моего приезда, потом закрывалась, а последние два года вновь работали классы фортепиано и аккордеона, но занимались там малыши. Надеяться нам приходилось на самоучек или на тех, кто научился чему-либо раньше, до Солнечного. На следующее утро, в самом начале второго урока, репродуктор в классе проснулся, откашлялся и голосом Тани объявил, что сегодня в три часа в актовом зале состоится прослушивание музыкантов во второй состав ансамбля. Об этом же извещали объявления, приколотые нами к стендам на всех этажах и в столовой. В назначенное время мы сидели на первом ряду: Таня, Марина, я, Андрей Тарасов, а также попутчики – Оля Елагина и Серёга Изурин. Эти двое очень подружились с виноградных времён, хоть, кажется, и не так близко, как мы с Таней.
Играть в ансамбле захотели четыре девочки. Марина, взяв на себя роль распорядителя, по одной провожала их на сцену, усаживала за пианино. Нам понравилась Кира Садовых из девятого «Б», невысокая кудрявая блондиночка с аквамариновыми глазами, замечательно сыгравшая вальс Арама Хачатуряна и песню «Земля, где так много разлук». Изурин потребовал «Мурку» – Кира улыбнулась, выдала «Мурку» и немедленно была приглашена к половине восьмого в подвал. А когда уже думали расходиться, в дверь постучали, на пороге остановилась Майя Думбадзе, одноклассница Андрея и младшая на год сестра Германа. «Заходи смелее», – показали мы жестами. Майя вошла и, помявшись, тихо спросила, нужен ли нам скрипач. Мы переглянулись. Четыре песни Вертинского, два романса на стихи Виктории… Как не подумали раньше?
– Скрипач нужен! Показывай.
– У меня скрипка дома. Если бы я знала вчера… Могу сбегать.
– Знаешь что, приходи сразу в подвал к половине восьмого, там и послушаем, – сказала Марина.
Вечером в подвале Майя без запинки сыграла несколько песен из нашего репертуара.
– У нас была соседка с музыкальным училищем, – рассказала она, – работала машинисткой, больше негде. Но музыку не хотела бросать и вот два года меня учила, потом уехала. Я уже дальше сама…
Обе новые участницы были довольны и смущены. Майя, кстати, имела куда более характерный облик, нежели брат: смуглое лицо, нос с горбинкой, жгучие тёмные глаза, только волосы – светло-каштановые, волнистые и пышные. Кажется, она не бросала на меня никаких особенных взглядов, не выделяла из всех – отсюда я сделал вывод, что Герман не рассказал ей о происшествии на заднем дворе. И правильно, я бы на его месте сам помалкивал.
6На Танин адрес, предназначенное нам обоим, пришло письмо от Всеволода, ленинградского знакомого. Кроме тетрадного листа, из пухлого конверта мы вынули сложенный и хитро склеенный по краю номер свободной прибалтийской газеты. «Склеил, чтобы было понятно, вскрывали письмо или нет, – объяснял Всеволод в постскриптуме, – а то многие жалуются на перлюстрацию». Нам жаловаться не приходилось: газета и конверт выглядели нетронутыми. В письме Сева ответил на вопросы, которые не слышал, но предугадал. Станислав – бывший военный переводчик, уволенный из рядов за раздолбайский характер и чинонепочитание. Лет ему оказалось не под тридцать, а уже тридцать пять. Свободно владея многими языками, на гражданке он устроился в кооператив, занимающийся подготовкой к поступлению в вузы. Все, кого мы видели в тот вечер, – его нынешние и бывшие ученики, кроме Аси, она – соседка по квартире, влюблённая в него с детства. Да и Стас без неё жить не может, хоть и выделывается, – писал Всеволод, – а вот причём здесь Ёзель и тётя Хая – тайна, покрытая жутью. Кто пытался разгадать, тот теперь хромой и заикается… Самая правдоподобная версия – то, что она поднимает хай во время его похождений и ругается нешуточно.
В конце Сева предупредил, что следующее письмо пришлёт мне, чтобы никому не было обидно.
Мы быстро сочинили ответ, добавили несколько фотографий – нашли чем питерца удивить, питерскими снимками – но, возможно, в них был какой-то свежий взгляд на привычные для него картины, а посылать виды нашего городка не рискнули, он закрытый и засекреченный, вдруг письмо действительно где-нибудь проверят?.. Наклеили на конверт марку с лестницей Графской пристани и в тот же день отправили.
– Мне ещё Лера написала, – сказала Таня по дороге с почты, – персонально мне, но и тебе горячий привет. «Приезжайте обязательно, белые ночи, гулять до утра, Пушкин, Павловск», – и, вздохнув, закончила: – Мне-то этим летом будет не до гулянья… как и осенью, впрочем, и зимой, и весной, если поступлю.
– Поступишь.
– Надеюсь. Мама рассказывала, на первом курсе главное желание было – спать, в любом месте, в любой позе, в любое время суток. И не до фотографий будет совсем. Надо как-то нагуляться, наиграться и нащёлкаться про запас…
Я не без зависти отметил, что в письмо мы вложили главным образом фотографии, сделанные Таней, и для школьной выставки отобрали их же, – разница в качестве снимков была потрясающей. То, что одно и то же здание у Тани помещается в кадр целиком, а у меня выходит обрезанным, объяснялось более широким углом её объектива, но почему на моём снимке оно перекошено и так развёрнуто, что самое интересное прячется за некстати выпирающими углами, а у Тани, стоявшей рядом, выглядит как модель на подиуме, – было совершенно непонятно. Но дело даже не в этом. Три года назад я, не последний в классе шахматист, сыграл несколько партий с дядей Александром; после десяти-пятнадцати ходов у нас было примерно поровну фигур на доске, но как отличалось расположение! Фигуры дяди – все гармонично связаны, прикрывают друг дружку и выглядят разумными, только подумаешь напасть на одну – мгновенно получишь двукратный, троекратный ответ. Такое же впечатление было у меня сейчас от Таниных фотографий. Моя позиция – случайная, рыхлая, уязвимая в центре и на флангах, глаза бы не видели, и такими же выглядели мои снимки. «Опыт, только опыт, – объяснила Таня, – я шестой год не расстаюсь с камерой. Зато ничего не могу внятно написать, сочинения выжимаю из себя по букве».
Некоторые её кадры были особенно интересны – там, не пытаясь охватить целый дом, Таня обращала внимание на подробности: крупный план львиной морды на фасаде, окно с деревянной рамой, несколько звеньев обледенелой цепи, извилистая, как река, трещина в штукатурке… Мне оставалось только удивляться, почему сам прошёл мимо.
Но всё-таки четыре моих работы пригодились для выставки. Придумал её Демьян Филиппович, Танин классный руководитель. На стене возле дверей актового зала висел большой застеклённый стенд – для детских рисунков, стенгазет, отпечатанных на машинке писем выпускников. Один писал из города, где учился в институте, другой – из армии, а Роман Синицын, чей выпускной год совпал с моим первым в этой школе, – даже из Афганистана. Его письмо запомнилось нелепой и от этого ещё более трагической опечаткой: «солдат бежит, пырг в ямку, а там мина». К счастью, он вернулся невредимым чуть больше года назад и ныне работал на Севастопольском морском заводе.
Теперь весь стенд занимали фотографии. Автором значилась одна Таня, от своих прав я отказался легко и сам вместе с другими останавливался, смотрел как будто впервые, восхищённо качал головой. Не знаю, обманул ли кого-нибудь этим представлением и было ли хоть кому-то до него дело.
7Всеволод исполнил обещание и в следующем письме прислал газету с заметкой о нас и фотографией наших довольных лиц на фоне Зимнего дворца. Конечно, это была не «Смена» – популярнейшая молодёжная газета, не путайте с одноимённым журналом, – и не «Ленинградская правда». Распечатанный на ротаторе листок: стихи самодеятельных поэтов, объявления о знакомствах, анонсы рок-концертов и на последней странице – небольшое эссе под названием «Преображающая сила». Обладал ею Питер, а объектом приложения были залётные провинциалы вроде нас.
Первая встреча на площади, охваченной многолюдным митингом, – живописал Всеволод, – изумлённые глаза двух молодых севастопольцев, наивные суждения, в которых ветер перемен как бы заблудился среди кирпичных зданий прошлого и с трудом ищет путь на свободу. Впечатление здоровья, неиспорченности, душевной чистоты и крепкой дружбы…
Мы с Таней переглянулись: хорошенькие дела, неужели вправду такие телята? И если здания прошлого кирпичные, то каковы же здания настоящего? Картонные, что ли?..
Новая встреча, не прошло и недели, – продолжал Сева, – и как же разительно изменились гости! Будто каждый прожитый тут день стал для них месяцем. Если раньше их легко было представить на какой-нибудь советской демонстрации, то теперь – скорее на «среде» Вячеслава Иванова или в «Бродячей собаке»… И, самое главное, – заключал он, – сразу видно, как преобразились их отношения за считанные дни. Это уже не дружба, а нечто иное и значительно большее. И, если кто-то посторонний захочет подбить клинья к черноморской красавице – у него и прежде было бы немного шансов, а теперь и вовсе нет.
– Как думаешь, под «кем-то» он имеет в виду себя? – спросил я.
– Мне всё равно, – ответила Таня, пожав плечами.
Весь этот и следующий вечер мы, как собачки, по пятам преследовали старшую близняшку Викторию, прося разрешения отправить её стихи Всеволоду, чтобы он показал их в редакции этого листка. Не хочешь в «Юность» или «Огонёк» – ладно, но уж здесь тебя никто не съест!.. Вика долго отнекивалась, но в конце концов махнула рукой: чёрт с вами, отправляйте.
А на просьбы написать что-нибудь новое для нас она отвечала: «Ребята, я так не могу по заказу. Это вообще не зависит от меня. Придёт что-нибудь – напишу обязательно».
После своих прозаических опытов я хорошо её понимал.
Через несколько дней я открыл тетрадь со своей повестью и вернулся к заскучавшим без автора героям. Написал встречу Олега и Настиной матушки, занявшую страницы полторы, дальше герои вновь стали много разговаривать и дело застопорилось. В поисках вдохновения обратился к Таниному семитомнику и после первого тома, состоящего из «Романтиков», «Блистающих облаков», «Кара-Бугаза» и «Колхиды», попросил домой четвёртый и пятый – «Повесть о жизни». И довольно скоро встретил главы, посвящённые необыкновенному писателю.
Я читал:
В рассказе «Король» всё было непривычно для нас. Не только люди и мотивы их поступков, но и неожиданные положения, неведомый быт, энергичный и живописный диалог. В этом рассказе существовала жизнь, ничем не отличавшаяся от гротеска. В каждой мелочи был заметен пронзительный глаз писателя. И вдруг, как неожиданный удар солнца в окно, в текст вторгался какой-нибудь изысканный отрывок или напев фразы, похожей на перевод с французского, – напев размеренный и пышный.
Об Исааке Бабеле я слышал и раньше, но до сих пор он стоял примерно двадцатым в очереди писателей, с которыми необходимо познакомиться. После такой рекомендации, конечно, мигом вскочил на первое место. Очень скоро у меня сложилось впечатление, что автор «Повести о жизни» влюблён в него, как в девушку. А сам Исаак Эммануилович, судя по этим же главам, любил себя, как тысяча Нарциссов, но ведь гению простительно! Гений может даже пожаловаться на отсутствие воображения – да кто поверит? Сочтут за чудачество вроде суворовского кукареку.
Зато сколько интересного и нового я узнал о литературе на этих нескольких страницах. Раньше и понятия не имел о такой работе над стилем: «работаю, как мул», «как галерник, прикованный на всю жизнь к веслу», «как землекоп, как грабарь, которому в одиночку нужно срыть до основания Казбек», «плачу от усталости», «болят все кровеносные сосуды». Ничего себе, это перед листом бумаги-то!.. Десятикратно переписывать рассказы, каждый раз избавляясь от лишних слов: оказывается, язык искусно прячет их, стараясь нас перехитрить. Проверять свежесть и точность каждого образа, сравнения… В рассказе «Любка Казак» пятнадцать страниц – вот вам папка в сто страниц со всеми вариантами Любки, и, кажется, последний ещё можно сократить.
Как будто в компанию праздных гуляк, любителей что-то пописывать, куда мечтал затесаться и я, вошёл серьёзный, матёрый профессионал, одним взглядом расставил всех по местам и между делом дал бесценные уроки. Я захотел немедленно прочитать всё, что сотворил этот чудо-писатель. Его книг не было ни в школьной библиотеке, ни в поселковом магазине, и только в Севастополе я купил пахнущий свежей краской, в обложке цвета томатного сока, том под названием «Пробуждение».
Не утерпел, стал читать в автобусе по пути домой. Начал, естественно, с рассказа «Король». Но что это?.. Если бы кто-то незнакомый увидел меня в начале поездки и в конце – думаю, не узнал бы, так вытянулось лицо. Это и есть великий Бабель? Это и есть «жизнь, ничем не отличавшаяся от гротеска»? Это вообще жизнь? Или набор ярко и грубо размалёванных фанерных кукол, со скрипом передвигаемых авторской рукой? К чему это всё написано? Кажется, весь рассказ – лишь к тому, чтобы ввернуть шикарную фразу «Беня знает за облаву». У героев нет ни мыслей, ни души, одни лишь инстинкты. Не только Белый Клык – даже бедная Фру-Фру гораздо больше человек, чем эти бутафорские налётчики!
Рассказ «Любка Казак» я вовсе не дочитал: лень разбираться, кто куда поехал, что кому сказал, если эти персонажи ничего не говорят лично тебе. Это могло бы сойти за занимательную этнографию, если бы было хоть немного занимательно.
Может быть, дело как раз в отсутствии воображения? Только не у меня. Я вернулся к «Повести о жизни».
– У меня нет воображения, – упрямо повторил он. – Я говорю это совершенно серьёзно. Я не умею выдумывать. Я должен знать всё до последней прожилки, иначе я ничего не смогу написать.
– Но у вас же литая проза, – сказал я. – Как вы добиваетесь этого?
– Только стилем, – ответил Бабель и засмеялся… – Всё дело в языке и стиле. Это я как будто умею делать. Но вы понимаете, что это же не сущность искусства, а только добротный, может быть, даже драгоценный строительный материал для него.
Что-то он сам о себе знал. Может быть, именно то, что без этой малости как ни старайся, каким стилем ни разукрашивай, – выйдет в лучшем случае полицейский протокол.
А хвалёный стиль? Так ли он хорош? Если выразить моё ощущение одним словом, этот стиль – деланный, как бывает деланная улыбка. От него разит трудовым потом. Да и просто физически неприятно читать книгу, где каждая фраза поглядывает на себя в зеркало, поигрывает мускулами, а некоторые даже снимают штаны.
Но ведь Паустовский восхищался, вся литературная Одесса, если ему верить, смотрела в рот?.. Я испытал одесские рассказы на Тане – она вернула через несколько дней с заключением: «Местами интересно и забавно». И даже в её речи с тех пор появились некоторые характерные выражения, а моя критика была, на её взгляд, чересчур строга. Родители приняли эти рассказы спокойно. Я оказался один против всех и сделал самый логичный вывод. Ничего не понимаю, вижу белое чёрным. А раз такой дальтоник – значит, и самому не стоит писать. Может быть, до тех времён, когда что-то пойму. А может, и вообще. Поживу, поучусь, посмотрю на мир, там будет видно.
Спрятал тетрадь поглубже в стол и постарался забыть о ней.
Впоследствии я неоднократно видел, как что-либо новое, с чем не встречался прежде, вызывает у человека мгновенное и часто сильное отторжение, но спустя время становится любимым. Бывало так и со мной, но не в тот раз. Бабеля я не полюбил до сих пор – стал к нему равнодушен, могу прочитать рассказ-другой, удивляясь давнему возмущению. Хочет писать так – и на здоровье, а ты пиши по-своему, всего-то и делов-пирогов.
Надо было больше верить в себя, думаю сейчас. Глядишь – и вся жизнь повернулась бы иначе… Но как вышло, так и вышло, что теперь гадать.
8Зимой и весной того года случались дни, даже часы, которые сохранились в памяти целиком, до каждого слова и взгляда. Это время видится мне теперь цепочкой островов, а между ними – прыжок, ещё прыжок, сквозь пустоту, темноту, тишину.
В те дни, когда приходил свежий номер «Юности», мы с Таней читали продолжение «Острова Крыма». Уже понимали, куда всё катится: самовлюблённый балбес Лучников сдаст прекрасный остров Советам, даже если придётся ради этого пожертвовать сыном, отцом, друзьями, собой. Неизбежно сдаст. И всё-таки надеялись: вдруг его кто-нибудь образумит? Хотя бы Татьяна Лунина. Таня так полюбила её, что считала чуть ли не подругой и была готова простить всё что угодно, любой загул. Даже корыстному приключению с миллионером: «…как брал её этот старик, как он сначала её раздел и трогал все её места, неторопливо и задумчиво, а потом вдруг совсем по-молодому очень крепко сжал и взял её…» – даже этому нашла оправдание и поспорила с Мариной, осуждавшей подобные номера. Каждая осталась при своём, но доводы Тани, вспомнившей и «Яму», и Сонечку Мармеладову, и Nolite judicare et non judicabimine, в моих глазах были куда убедительнее железного знания как надо. Но, возможно, дело было в том, что это – доводы Тани.
Ещё один остров: открытые репетиции нашего ансамбля. Первая состоялась двадцать третьего февраля. Всё было как всегда, мы по нескольку раз начинали каждую песню, прерывались, повторяли с любого места, но теперь всю прежде скрытую работу видели человек пятнадцать – в основном девочки из восьмых-девятых классов. Под конец, когда мы поймали настрой, они даже стали пританцовывать. То, что затея удалась, я понял в следующую пятницу, когда народу в подвал пришло вдвое больше.
Восьмого марта мы впервые выступили в Доме Офицеров. Полный зал, новые песни, в том числе «Тёща», – а настоящая тёща сидела в четвёртом ряду, покатываясь со смеху вместе с Лизой Владимировной. После концерта мы неделю репетировали без Василия и бас-гитары, несколько дней он не появлялся в школе и, наконец придя, доложил: «Глеб Васильевич, пятьдесят два сантиметра, три с половиной кило!»
На весенних каникулах мы съездили в Севастополь на военно-спортивную игру. Соревновались районами – четыре огромные сборные. Наш район, Нахимовский, побеждал в игре все последние годы. Каждому из нас достался какой-то один вид, мне – перетягивание каната. Меня выбрали капитаном команды, вошли в неё парни из пригородных сёл – атлеты, знакомые с крестьянским трудом и горными тропами. Мы выдернули соперников, как гнилую репку, и до вечера смотрели, как другие бегают, подтягиваются и стреляют.
Ночевали всей толпой в какой-то заброшенной казарме с рядами двухъярусных кроватей, шатким полом, треснувшими окнами, без отопления, а до лета было далеко. Никто не спал, все собирались то в одном, то в другом углу, без конца ходили в гости, знакомились, пели под гитары что придётся, угощали друг друга привезёнными втихаря напитками. Утром позавтракали у полевых кухонь, выстроились колоннами и вновь пошагали на стадион.
Таня в этот раз поднимала туловище из положения лёжа. Первые восемь девушек легли на доски, соединили руки за головой. Я держал Таню за щиколотки. Она начала размеренно, поначалу отставая от некоторых, но уже на третьем десятке догнала, на четвёртом вышла вперёд. Ещё десять – и самые торопливые стали сходить, новые кидались в бой и не выдерживали. Кто-то одолел сотню подъёмов, более крепкие – полторы. Таню остановили на четырёхстах, сказав, что всё ясно и судьи тоже хотят отдохнуть.
– Так нечестно, они робота привезли! – раздались голоса в стане противников. – Юные техники и натуралисты!
– Давайте её сюда! мы проверим, это человек или где!..
Было много шуточек, а «робот» стоял необыкновенно довольный, и текло с неё в десять ручьёв. «Идём», – тронула её за плечо Марина. Душ организаторы не предусмотрели, но мы как-то выкручивались, поливали друг друга из вёдер: сначала прекрасная половина, затем ужасная.
9– Что бы я хотела сказать в эту грустную минуту? – поднялась из-за стола Таня три недели спустя. Её день рождения пришёлся на воскресенье, и мы чуть ли не впервые устроили настоящий праздник с подарками, утыканным свечами тортом, и Танины папа с мамой ушли к соседям, оставив квартиру на разгром. – Разве кому-то интересно, что бы я хотела сказать? – продолжала Таня. – Что на моём месте должна сказать каждая приличная… гм… девушка? Никогда не думала, что доживу до столь преклонных лет… Лучше умереть молодой, чем влачить безрадостные годы… Но вот дожила и не знаю, что теперь делать… Как быть?..
– Это не страшно, – сказала Оля Елагина, – я уже полгода как дожила.
– А я всегда хотела дожить! Ура! Да здравствует спокойная старость!..
В моей голове с полудня звучала мелодия, я не мог вспомнить, где её слышал, кто её сочинил, пока не догадался, что, кроме меня, – некому. Не слишком оригинальная, минорная, в духе городских романсов, но скорее приятная, чем нет. Я несколько раз ловил себя на том, что насвистываю, а теперь, под праздничный шум, возникали слова. Пока не мои, обрывки чужих стихов – то, что профессионалы называют «рыбой». Привет, мой дядя самых честных правил, он уважать себя заставил, когда не в шутку занемог, японский бог… Его пример другим наука, но боже мой какая скука, с больным сидеть и день и ночь, ни шагу прочь… Недолгая пауза и опять. Скажи, мой добрый дядя ведь недаром, Москва спалённая пожаром, была французу отдана, как ночь темна… Ведь были схватки боевые, да говорят ещё какие, гулял там некогда и я, привет друзья… Я поднимал бокалы, произносил запутанные тосты – где только научился? – разговаривал со всеми одновременно и думал, явятся ли на смену этим словам настоящие. Вдали полоска дымного рассвета, моя счастливая планета, куда уходишь от меня при свете дня?.. При раскалённом, белом свете остановить волну и ветер и этот парус на бегу я не могу…
Стол отодвинули в угол, включили музыку. Медленная композиция. Таня, одетая кинозвездой прошлых лет: брюки с высокой талией, свободная рубашка. Уже совсем никакого расстояния между нами. Слушая внутреннюю мелодию, я сбился с ритма раз, другой. Таня вопросительно посмотрела в глаза.
– Вроде, песня сочиняется, – признался я.
– Покажешь потом?
Я кивнул. Но слова больше в голову не приходили.
– Ты меня заразил, – сказала Таня через пару дней. – Смотри, под голубыми небесами, великолепными коврами, блестя на солнце снег лежит, и лес дрожит… Прозрачный дуб один чернеет…
– Лес?
– Ну он уже дрожит… Чего ты ржёшь?!
– Представил. И что-то где-то зеленеет?
– Луна как бледное пятно, глядит в окно. Вот, не собьёте.
И мы продолжали. Шепни мне то единственное слово, когда-нибудь увижу снова я этот берег и прибой… К утру кое-что получилось. Песню мы назвали «Остров Крым» и успели до конца учебного года отрепетировать и несколько раз спеть. А вскоре дочитали роман в журнале «Юность». Всё закончилось примерно так, как и думали: танки, выстрелы, огонь. Но могучие советские лётчики в решающий миг всё-таки пустили ракету мимо, позволив младшему Лучникову с женой, новорождённым сыном и парой друзей бежать.
– Мне больше всего жаль, что Танечка погибла, – сказала Таня. – Точно буду сегодня реветь…
– Она не погибла, – сказал я.
– Как это? «Он взял горсть этой земли, в которой, конечно, были и осколки Эллады, поднял глаза и увидел рядом другую могилу, чёрный мраморный крест и выбитое на нём имя покойной – Татьяна Лунина», – вслух прочитала Таня.
– Хорошо, имя мы видели. А тело?
– Думаешь… там пусто внутри?
– Кристину видели, Татьяну нет. Я просто уверен, что она замела следы таким образом, а сама уехала с этим Фредом в Новую Зеландию, забрала детей и живёт там до сих пор.
– Хорошо, если так, – улыбнулась Таня, – спасибо, тоже буду верить… С лёгким сердцем пойду на экзамены.
Экзамены приближались к ней двумя волнами: школьной и вступительной. Между ними была передышка – выпускной вечер, прогулка на штабном катере. На катер, кроме выпускников, контрабандой проникли их младшие братья и сёстры, а также и мы с Мексиканцем. Рулевой взял курс в открытое море, берег ненадолго пропал из виду. Мы вышли на палубу – может быть, последний раз все вместе? Кажется, только доросли до того, чтобы построить собственный остров Крым лучше книжного, ещё непонятно было, что в нём может появиться, но очертания уже проступали. А что теперь?..
Теперь Таня приехала в Ленинград вместе с мамой и поселилась не у нас, а в снятой комнате на Каменноостровском проспекте. На время экзаменов мама жёстко ограничила её общение со мной – пятнадцать минут в день по телефону. Для того чтобы держать меня в курсе событий, этого было достаточно.
– Я поступила! Зачислили! – услышал я в день последнего экзамена.
– Поздравляю! Я и не сомневался.
– И уже получила место в общежитии. Это мама заглянула, поговорила с кем надо… Теперь Саня, пока ты не уехал обратно, я ваша навек!
10А потом я возвратился в Солнечное и, как ни удивительно это звучало, в первое осеннее утро проснулся одиннадцатиклассником. Мои друзья, прежде носившие это имя, разлетелись. Марина прошла по конкурсу в Киевский Политехнический институт, Оля Елагина, поступавшая с ней за компанию, не прошла и зацепилась за техникум радиоэлектроники. Близняшки Вика и Алёна теперь учились в Ростовском пединституте, Наташа Касымова – в Симферопольском училище культуры. Вадим Карапетов, Миша Тарасов и Володя-Куба, единственный из всех, до конца сохранивший прозвище, стали курсантами СВВМИУ. Света Шульц, чтобы быть поближе к Вадиму, поступила в Севастопольский приборостроительный институт, Олег Коломоец – в Николаевский кораблестроительный. Вот такие дела.
Учителя говорили, что этот выпуск – сильнейший на их памяти, но куда более поразительно то, что каждый из ребят – личность, яркая, своенравная и неповторимая. Обыкновенно таких бывало двое-трое, много четверо на класс, но чтобы больше половины!.. Средняя температура нашего класса была значительно ниже и ещё упала, когда в октябре вновь улетела в Москву Оксана Ткаченко.
Она писала мне примерно раз в месяц, Танины одноклассники – кто так же, кто чаще, Таня – порою дважды на неделе. Её письма были переполнены рассказами об учёбе. Какие там к чёрту гулянья, какие дискотеки, когда анатомия, учебником такой толщины можно если не убить, то крепко оглушить, а ещё химия, высшая математика и куча всего, плюс хотят посылать на какой-то межинститутский кросс, угораздило пробежать на физкультуре в полную силу, знай – так притворилась бы черепахой!.. Даже по почерку, и уж подавно по обилию восклицательных знаков, было видно, как увлекает её новая жизнь. Иногда концы строк начинали ползти вниз, но потом выравнивались. Я спросил, есть ли известия от Всеволода – он со второго раза не поступил в университет и давно не писал, – Таня ответила, что недавно столкнулись в метро, проводил до института, сказал по дороге, что родители уезжают в Нью-Йорк и увозят его с собой. Уже на днях должны. Что касается Станислава, у него по-прежнему собираются ученики, надо бы найти время заглянуть, но где найдёшь это время… «А зимой увидишь сюрприз, – обещала Таня, – даже не спрашивай, лучше прилетай на каникулах!» – и с того письма до самых каникул не прислала ни одной своей фотографии.
Я спрашивал, как им живётся в нелёгкие дни, – Таня отвечала, что ей нормально, а вот курящим наступает полный оверкиль. Табака нет совершенно, народ собирает бычки, некоторые деловые товарищи даже продают их литровыми банками, представляешь картину!.. Я представлял с большим трудом: хоть и читал об этом занятии в «Повести о жизни», но чтобы в наши дни…
Нелёгкие дни наконец докатились до нашего городка. Мы увидели пустые полки в магазинах – нет то хлеба, то гречки, то разом хлеба, сахара и чего-нибудь ещё; познали очереди за мясом, которые надо занимать с вечера и ночью бегать отмечаться. Владельцы огородов стали переходить на натуральное хозяйство: если раньше копали грядки скорее для разнообразия и утоления тяги к земле, то с минувшего лета цели были практическими, предприимчивые офицеры и мичмана из крестьян строили теплицы, заводили кур и поговаривали о свинтусах.
11Все эти трудности пока что мало касались младшего поколения. Я довольно-таки беззаботно учился и после октябрьских праздников, то есть ближе к середине ноября, получил паспорт. Вместе со мной в Севастополь поехали Сергей Анатольевич Изурин, который был старше на два месяца, но долго раскачивался – неинтересно просто съездить и получить, вот если бы украсть или найти на затонувшем корабле, да ещё под строгим запретом, здесь он был бы первый, – и, к нашей радости, Ирина Гурамовна Татрова и Елена Константиновна Чернова. В школе эти предводительницы разных кланов на моей памяти не враждовали, но и не разговаривали, здоровались небрежными кивками, но, едва оказались на свободе, стали болтать и смеяться, как хорошие подруги. Посмеяться было над чем – такие плоские, застывшие, с диким взглядом, физиономии глядели с новеньких разворотов. «Ну и рожа у тебя, Шарапов», – дежурно произнёс Мексиканец.
Налюбовавшись на себя и друг на друга, пошли гулять, купили семикопеечных ливерных пирожков и кваса, на площади Лазарева я увидел знакомые лица и вспомнил: военно-спортивная игра. Парни тоже узнали нас. «Как там ваша с гидравлическим прессом?» – был чуть ли не первый вопрос. Я с удовольствием рассказал, обещал передать привет. Продолжили встречу во дворах и в чьей-то квартире, с гитарой и самодельным вином. Возвращались в сумерках, на Графской пристани вместо катера, идущего к Северной бухте, сели в инкерманский и не сразу спохватились: давно уже надо причалить, а мы идём, идём – моряки не говорят «плывём», – и берег какой-то странный… Восторг был неописуемый. Сошли в Голландии, до нужного пирса добрались на рабочем теплоходике, полном докеров и слесарей. Наша одиссея, изложенная в красках, имела успех, и портреты, по словам попутчиков, были вовсе не страшные. Выбежав на площадь генерала Захарова, узнали, что последний бесплатный автобус до Солнечного, который должен был уйти двадцать минут назад, на полчаса задержался из-за поломки, свободных мест осталось два. Мы с Серёгой взяли девчонок на руки, мне досталась Чернова – или, может быть, я достался ей, откуда посмотреть… Счастливчики! В тот вечер казалось, так будет всегда.
Теперь расскажу о том, что однажды произошло на репетиции «Подвала». Ансамбль жил и чувствовал себя прекрасно. Ударными теперь заведовал Андрей Тарасов, клавишами – Кира Садовых, она же взяла все женские вокальные партии. Постепенно я привык к её голосу и по-своему расставленным акцентам. Темпераментная скрипка Майи Думбадзе вывела наше звучание на какую-то новую высоту, особенно нравились её переливы юному Глебу, которого Лиза Владимировна привозила на репетиции; он даже, к всеобщему удовольствию, подпевал. К тому же Майя оказалась прекрасным импровизатором. Вот только «Остров Крым» я почему-то не мог петь без Тани, никто другой за него не брался, и мы превратили его в инструментальную композицию, где солировала скрипка.
Как и в прошлом году, вечером в пятницу подвал был открыт для всех. Приходили не только старшие – и до чего забавно смотрелись шести-семиклассницы в нарядных платьях, с накрашенными губами, радостно и чуть ревниво глядящие вокруг и друг на дружку: тоже маленькие дамы в поисках внимания! Однажды в середине декабря наша «верхняя» девчоночья команда привела с собой Лену Гончаренко, ранее в подвале не бывавшую. Так неожиданно было увидеть в толпе золотистую голову и нежную линию шеи, словно всегда подсвеченную контражуром, что я чуть не сбился с темпа. Играли мы что-то философское, не располагающее к танцам, но следующая мелодия была полегче, и народ двинулся в центр. Лена стеснялась. Девочки вывели её под руки, поставили в круг, Оля Виеру взглядом сказала: повторяй, – слегка выставила бедро, подняла как бы вытесненную бедром руку. Два раза в одну сторону, два – в другую… Лена осторожно повторила. Теперь выше, – показала Оля, – не бойся, вытяни к потолку и повернись… Лена повернулась. А теперь в два раза быстрее и не прямо, как палку проглотила, а голова – синхронно с бёдрами, и вверх другую руку, а эту – вбок… Лена повторила, в одну сторону, другую, и следующую минуту или больше танцевала раскованно, самозабвенно и выглядела так, точно в подвале вспыхнула сверхновая звезда! Это заметил не один я: все подруги остановились, не скрывая восхищения, и Лена будто опомнилась, закрыла лицо и кинулась к выходу. Кто бы её отпустил!.. Девочки вернули Лену в круг, но, как ни уговаривали продолжать, она лишь качала головой и мелко-мелко пятилась к стене. Потом мы заиграли медленное, Лену пригласил Герман Думбадзе – к слову, один из девчоночьих любимцев, – но она и тут не ожила, деревянно переступала с ноги на ногу, стоя от него едва ли не в полуметре. Чуда словно и не было. Приснилось?..
12В ближайший понедельник, не прошло и часа, как я вернулся из школы, позвонили в дверь. Я заглянул в глазок и… нет, кажется, не ошибся. Открыл: на площадке и правда стояла Лена.
– Прошу, – сказал я, – такому гостю рад всегда.
– Я ненадолго, – почти прошептала Лена в прихожей, – в общем…
Я осторожно расстегнул верхнюю пуговицу её пальто. Вторую Лена расстегнула сама, следом – снова я и опять она. Наконец я снял пальто, повесил на крючок, наполовину засунул в рукав пушистый шарф.
– Уезжаю, – сказала Лена. – Хочу попрощаться…
– Когда?
– Завтра ближе к вечеру… В школу, наверное, уже не приду.
– Куда?
Лена промолчала. Повинуясь какому-то слепому, идущему наугад и на ощупь желанию, я присел и развязал шнурки её ботинок, Лена вышагнула из них. Тапки… где же вы? Ладно, дома тепло.
Распрямился, взглядом показал на дверь своей комнаты:
– Заходи, сейчас поставлю чайник.
Кивнула, глядя мне в глаза, но не двинулась. Почти с меня ростом, меньше сантиметра на три… Мгновение мы стояли, едва не касаясь друг друга, затем я осторожно привлёк её к себе, и Лена, уткнувшись носом в мою шею, разревелась.
Тот же лёгкий запах корицы, что и в первый день, когда она прошла мимо, больше года назад…
– Ленка… Ну перестань, что ты, в самом деле… – шептал я вздор, а она только всхлипывала. Стал целовать солёные щёки, нос, уголки глаз, перескочил на губы, ошалев от собственной смелости, и она ответила. По-настоящему ответила, я не ожидал. Когда мы сделали паузу, Лена уже не плакала. Приподнял её, внёс в комнату, мы продолжили поцелуй, и вскоре мне показалось, что Лена не очень твёрдо стоит на ногах. Недолго держал её почти на весу, усадил на диван и оказался перед ней на коленях.
– Куда уезжаешь?
Конечно, не знает о Тане, а я не скажу, не могу сказать…
Лена, переводя дыхание, подёргала воротник полосатого свитера.
– Жарко, – сказал я, – можешь снять, не бойся.
– Не боюсь.
Лена, выворачивая наизнанку, потянула свитер за подол. Надетая под ним голубая футболка тоже поехала вверх, я придержал и оправил. Потом наши губы снова встретились и не вмиг разомкнулись.
– Куда уезжаешь? – повторил я, открыв глаза.
– В Калининград, на Балтийское море.
– А почему? Надолго?
– Мама выходит замуж, он там служит. Анатолий. Взрослый, тридцать восемь лет. Два года назад приезжал в командировку, жил в гостинице, влюбился, позвал к себе. Я тогда не здесь жила, точно не знаю, как было… Мама сомневалась, не могла решиться. А потом, когда это, ну…
Я молчал, стараясь даже взглядом не дать понять, что понимаю. И так ясно.
– В общем, он как-то узнал, приехал ещё раз, выбил опять командировку, так ведь просто сюда не попадёшь… и сказал: буду ждать сколько надо, хоть двадцать лет. Как надумаешь, дай знать. И вот… надумала.
– Счастлива?
– Не то слово, прямо вся расцвела.
– Брат тоже с вами?
Лена кивнула:
– Анатолий хочет устроить его в суворовское училище после девятого.
Эта идея мне не понравилась: станет командиром, чему научит солдат? Ещё найдёт как прикарманить их скромное жалованье. Конечно, на одного такого трое наших, из одиннадцатого, но кто бы поручился, что через несколько лет соотношение не перевернётся?
– Он сейчас тихий, весь год ни одного скандала…
Мы чуть помолчали.
– Лена, ты когда-нибудь занималась танцами? – вспомнил я.
– Что ты, какие танцы в Веселовке.
– Или в Весёловке? Куда ударение ставить?
– Мы говорили на о, Ве-се-ло́вка… Какие танцы, даже на дискотеку не ходила, в комнате воображала, когда никто не видел. А тебе понравилось, да?
– Ещё как!
– Хочешь, попробую сейчас? Только настроюсь…
– Музыку?
– Нет, я про себя напеваю.
Я поднёс к губам её ладонь, может быть, напрасно, если «настроиться» для неё значило: представить себя одной. Выпустил, когда Лена поднялась, и с минуту почти не дышал. «Нет, что-то не получается», – вздохнула она, едва переступив, и я подхватил её на руки, покружился на месте и осторожно усадил к себе на колени.
– Ленка, у тебя талант. Едешь в город больше Севастополя, займись непременно…
То ли хотел сказать? Прервал себя на полуфразе, обнял её, прижался лицом. Что же происходит? Давно отпустил, даже не мечтал о ней, выбрал другую… Чёртов автор «Романтиков», он всё выдумал! Писал бы своих вороватых котов на резиновой лодке!.. И Грин заодно.
Лена, едва касаясь, гладила меня по голове.
– Саша, – сказала она, – помнишь, я говорила, девочка учила меня играть на гитаре?
– Помню.
– Не девочка.
Я взглянул, приподняв брови.
– Мальчик. Играл почти как ты и пел. Голос, конечно, потоньше…
– Твой мальчик?
– Бывший… Я хотела остаться с ним, не ехать сюда. И он хотел, чтобы я осталась… но ему не разрешили.
– И что у вас теперь?
– Ничего, – покачала она головой, – больше не виделись. Прислали несколько писем, и… Нет, ты не думай, что я…
«…прошусь остаться с тобой», – мысленно договорил я. Честное слово, была минута, когда не знал, как бы к этому отнёсся. Хотя мне тоже никто не разрешит.
– Не думаю.
– Просто не люблю обманывать, не хочу уезжать с неправдой. Ты будешь писать?
– Буду.
– Я тоже, обязательно.
И вновь заплакала. Я стал целовать её шею и, подняв футболку и лифчик, – грудь, маленькую, меньше Таниной, такую накроет не то что моя рука, даже лапка Оли Виеру… Лена сжимала мой затылок, лохматила волосы, вздрагивала, прерывисто дышала. Соски, по цвету почти не отличимые от тела, формой напоминали верхушки очень крупных, круглых виноградин. Всё тело было мягче, нежнее Таниного, но умело и напрягаться, и твердеть. Ладонь скользила по ногам, обтянутым тонкими шерстяными рейтузами, замирала под самый конец пути, отступала и вновь начинала подъём… Кажется, я упустил мгновение для последнего шага; в какой-то миг, не уловленный мною, Лена почти перестала отзываться на прикосновения и постепенно затихла.
– Мне пора, Саш… спасибо. Надо ещё к Ольге зайти, она ничего не знает.
К той самой Ольге, которая сегодня на перемене не выпускала Лену из-за парты, и Лена, приподнимаясь и падая обратно на стул, со смехом умоляла: «О-оля!.. Ну О-оля, перестань…» – и я был бы не против на несколько минут оказаться Олей, понять, зачем она так делает и что чувствует. Если, конечно, это можно понять.
– Давай всё-таки чаю напоследок? – предложил я.
– С лимоном? – улыбнулась Лена.
– Со сливовым вареньем.
– Тогда давай…
13Мы отыграли декабрьские концерты, встретили Новый год. Лишённый своей компании, в кои веки раз я просидел новогоднюю ночь дома, выслушал обращение к народу свеженького нобелеата, отведал селёдки под шубой, оливье, посмотрел «Голубой огонёк». И третьего числа вместе с мамой улетел в Питер.
С Таней всё обговорили заранее. В назначенный час я ждал её между башнями дома Розенштейна. Опоздав минут на двадцать, она кометой вылетела из-за угла. Вязаная шапочка, куртка, джинсы, рюкзак за спиной и сияющие даже в потёмках серые глаза, единственные в мире, сказочно удлинённые… Я рванулся навстречу: хоть на несколько шагов сократить ожидание. Таня, секунду помедлив, как когда-то – в воду с моих же плеч, кинулась мне на шею.
– Рада тебя видеть, Сашка!.. Прости, никак было раньше не освободиться, – прошептала она, когда мы смогли говорить. Я смог даже настолько, чтобы продекламировать Сашу Чёрного:
Устала. Вскрывала студента: Труп был жирный и дряблый…Таня подхватила:
Холод… Сталь инструмента. Руки, конечно, иззябли.И, сняв перчатку, сунула пальцы мне за шиворот. Горячие, как всегда, но я потешно съёжился и застучал зубами. Таня рассмеялась на всю площадь Льва Толстого. Я продолжал:
Потом у Калинкина моста Смотрела своих венеричек…– Ой, Саня, ты не представляешь, как мне ещё далеко и до студента, и до птичек-венеричек… и шизофреничек. Пока – только отдельные косточки…
Это да, латинские названия косточек она перечисляла в письмах: так, мол, лучше запоминаются.
– …может, они когда-то и были студентом, но очень-очень давно.
– Или ты на каблуках, или выросла? – спросил я, внимательнее поглядев.
– Странно, что заметил, сам-то вырос больше.
– На два сантиметра. Метр семьдесят восемь.
– Я на один, метр шестьдесят восемь. Но ты ещё, наверное, вытянешься, а я – всё, теперь только в ширину.
– Не надо в ширину.
– Ага, девчонки хотят по мне изучать анатомию, а ты: не на-адо!..
– Завидуют.
– Чему? У нас такие лапочки есть, и стройные, и гладенькие, если бы ты видел, но нет, не покажу.
– Главное, чтобы мальчишки не хотели по тебе изучать анатомию и природоведение.
– Тоже мне Отелло! – фыркнула Таня, и мы, взявшись за руки, наконец-то тронулись.
– До утра, хорошо, Тань?
– Конечно, – просто сказала она и через несколько шагов добавила: – Не сочти за наглость, я бы и не хотела на ночь глядя ехать от тебя на «Пионерскую»… Ха, помнишь когда-то: метро, метро, хочу в метро!.. Вот так всё меняется.
И продолжала:
– Я приготовилась завтра ехать на пары, но это будет рано. В шесть сорок пять подъём, в семь сорок пять – на выход, труба зовёт.
В голове у меня, как испорченная пластинка, завертелись строки:
В метро, в метро, хочу в метро Я целый день кататься! —отчего-то на мотив заставки «Полевой почты „Юности“». Одёрнул себя: не накаркай, передача – для солдат.
– Провожу тебя? Хотя бы до «Петроградской».
– Бедный Сашка… Даже на каникулах не дают выспаться.
– Сон для слабаков, я бы рядом с тобой вообще не спал.
– Не-е, на своих каникулах буду вставать не раньше двенадцати. Такие у меня сейчас мечты.
В вестибюле метро Таня сняла шапку.
– Это и есть сюрприз, верно? – спросил я.
Открытый лоб, ни следа прежней чёлки, от этого всё лицо – серьёзнее и строже, но ещё осталось былое сходство с Франсуазой.
– Нравится?
– Ужасно нравится. Непривычно.
– Догадайся, кто сделал? Лерка, представляешь!
– Она ещё и парикмахер?
– Любитель, ужасно талантливый. Звала моделью на конкурс парикмахерского искусства, я бы пошла, но время, время, кто же мне его родит. Сама не умею…
Наконец добрались домой. В гостиной теперь остановилась мама, а мы – в той комнате, которую год назад я называл Таниной. Уже никому не приходило в голову что-то изображать, одним – притворяться друзьями, другим – делать вид, что верят. Таню встретили с радостью и не мучили долгими разговорами. «Совсем взрослая стала», – заметила мама. «Говорят, взрослым становишься, когда нравятся оливки, а мне всегда нравились, так что даже не знаю…» Чуть позже я с торжественным видом открыл обещанную в письме высокую греческую банку, продев кончик мизинца в жестяное кольцо. Таня разобрала увесистый пакет гостинцев от Виктории Александровны, особенно хороши оказались домашние песочные коврижки. Я попробовал только одну. «Угощу подруг завтра, – сказала Таня, – моей соседке по комнате перед Новым Годом привозили мёд с собственной пасеки, вообще не такой, как в магазине. Пили с ним чай, представляешь как здорово?..» – и, прикрыв ладонью рот, зевнула. Она бодрилась, но ближе к ночи в одно мгновение словно выключилась. Лёжа в постели, совсем раздетая, ещё листала здоровенный анатомический кирпич, таким и правда можно покалечить, а я закончил массаж её спины – как волшебно сужается к талии, гладил бы и гладил! – и разогревал ноги, готовясь взяться за них крепче.
Удивительно, я совсем не чувствовал уколов совести. Если помнил о Лене, о прощании с ней, – то отстранённо, будто видел нас обоих в кино, и ни её письмо, полученное в конце декабря, ни моё, отправленное на следующий день, ничего не меняли.
– Скоро выходные, Саш… – пробормотала Таня, – воскресенье и новый праздник, Христос воскре…
– Родился, – подсказал я, но она уже не слышала. Единственная, никого другого не может быть! Хоть бы утро подольше не наступало…
Будильник Таня поставила на без четверти семь. Закрыв глаза, я нарисовал в воображении циферблат с огромными стрелками, застывшими на шесть-пятнадцать, запрограммировал себя проснуться и минута в минуту словно подскочил. Так быстро, как только мог, одолел в ванной извечное утреннее неудобство, умылся и выбежал на кухню. Когда Таня, радостная и готовая к долгому дню, села за обеденный стол, её ждали горячая яичница с помидорами и болгарским перцем из замороженных летних запасов, нарезанный хлеб и закипающий кофейник.
– Вечером опять ко мне, – напомнил я по дороге в институт.
– Могут задержать… Если полчаса меня не будет, поезжай домой, сама доберусь.
– Час.
– Ладно. Эх, в общаге меня забудут…
– Ничего страшного. Танечка, ты лучшая на свете.
– Ты тоже. Всё, Сашуля, мне пора, чао! До вечера.
– Но пасаран. Худых и мускулистых студентов тебе.
Вернулся домой. «Завтракать не буду, – сказал маме, – спасибо, мы уже… Впрочем, можно через час. И пойду шататься с фотоаппаратом». Вошёл в комнату. Десять часов, Танька учится вовсю. Завёл будильник на одиннадцать. Оставила, рассеянная!.. Нет, не трусики, тетрадь на столе. Каюсь, я приоткрыл: разворот исписан химическими формулами. Углерод, кислород, татьяний… Мысленно пожелал, чтобы эта тетрадка ей сегодня не понадобилась, рухнул на диван и, кажется, ещё в падении уснул.
14В январе была неделя, когда казалось, что время идёт на второй круг. На каникулы в Солнечное собрались почти все одиннадцатиклассники: так, не добавляя «бывшие», я называл друзей и будто становился с ними вровень. Даже курсанты, о чьей жизни мы прежде узнавали только из писем, приехали в увольнение. Прилетела Таня и выполнить обещание спать до двенадцати не смогла. «До десяти кое-как терплю, и всё, тянет на подвиги!» – говорила она по дороге в подвал, на ходу вспоминая ударные партии: больше полугода не видела установки, микрофона. Ничего не забыла, ни одного движения, ни одной ноты. В пятницу мы устроили открытую репетицию в первом составе плюс, конечно, скрипачка Майя. Среди гостей я, к изумлению, увидел рыжую соседку Светлану, – взрослые заглядывали в подвал с октября, но она до сих пор не бывала, да и представить её здесь я не мог. На следующий день, позвонив мне домой, она попросила разрешения спеть с нами что-нибудь красивое. Сюрприз для мужа с дочкой, как я понял. Голос у Светы был джазовый, с большим диапазоном, вроде Эллы Фитцджеральд. Выбрали песню «Двое»:
И вновь дурман цветущей липы, Птиц то ли вскрики, то ли всхлипы, Конец июня, царство дня…17Она оказалась неожиданно трудной, но мы всё-таки выучили и сыграли – уже после того как студенты разъехались по своим новым городам. Именно эти два события окончательно дали мне понять, что никакого второго круга у времени не будет. Превращайся в камень, Саня, в камень, выпущенный из катапульты!..
Что можно вспомнить о последнем школьном полугодии? Оксана Ткаченко вернулась из Москвы таинственно-хитрая или хитро-таинственная. Влюбилась там? – подумал я сразу и не ошибся. До сих пор, когда слышу разговоры о невозможности дружбы между девушкой и парнем, вспоминаю Оксану и наши с ней отношения в эти месяцы. Не было у вас, господа, таких друзей и таких подруг!
Мы с Таней всё так же часто отсылали друг другу письма и не повторялись, каждый раз отыскивая новые, новые темы. То, что их находила она, было не удивительно, но ведь как-то и я умудрялся. Очень скоро письма, разложенные стопками, заняли целый ящик моего стола: кроме Таниной, самой высокой и быстро растущей, – от всех одиннадцатиклассников и от Лены Гончаренко. Она была в порядке, в новой школе приняли хорошо, не сравнить с нашим зверинцем. Брат вёл себя смирно – зарабатывал характеристику для суворовского училища, да и побаивался отчима: нрав у Анатолия, как я понял, был крутой, и рука потяжелее некоторых. С Леной мы переписывались в сдержанном, немного шутливом тоне, словно договорившись не упоминать внезапное прощание. Но как она решилась прийти! Я представлял, чего это стоило, какой смелости надо было набраться! И вот – ни слова, ни малого намёка, только иногда мелькнёт сожаление о том, что нельзя вернуться, переиграть, вновь почувствовать её так близко; мелькнёт, даже выскочит на лист, но я мигом скомкаю и напишу новый, шутливо-сдержанный… Ладно, я знал на опыте, что от этих мыслей не останется следа, когда будет рядом настоящая, неунывающая Таня.
Что ещё? Замена в «Подвале» мне нашлась сама – девятиклассник Лёша Фридман, чьи пальцы были тоньше моих и умели бегать по грифу куда проворнее.
Весной у нас наконец-то открылся компьютерный класс. Я успел поиграть в тетрис и увидеть на дисплее «Здравствуй, мир», написанный собственными руками. Учёба? Учёбы как таковой в эти полгода не было – одно лишь повторение пройдённого, подготовка к будущим испытаниям. Последний звонок, выпускные экзамены, вручение аттестатов, прогулка на штабном катере… Всё как у других, и задерживаться здесь не стоит.
Глава девятая. ЖИЗНЬ
1Прежде чем начались вступительные экзамены, я успел отзаниматься на месячных подготовительных курсах, взять несколько уроков английского у Станислава и надуться самоуверенностью, без которой лучше было бы обойтись. После сочинения, оцененного четвёркой, на следующем экзамене – истории – вытянул чуть ли не единственный вопрос, который упустил при подготовке. Трижды долбаная третья пятилетка! Первую знал, вторую знал, а о третьей – лишь то, что началась в 1938 году и не окончилась, так как война перепутала все планы. Догадался об ожиданиях войны и увеличении оборонных расходов. Получил трояк: на первый вопрос, по дореволюционной истории, ответил всё-таки прилично.
Ничего, – думал, шагая по Менделеевской линии, – только в октябре будет семнадцать, год в запасе, к новому лету выучу третью пятилетку, двадцать третью в пятой степени, сорок восьмую в крапинку… Но уже возле памятника Ломоносову настроение изменилось. Вам-то, с рыбным обозом, было труднее, Михал Васильевич! Не всё потеряно, проиграно сражение, впереди два, свистать всех наверх! В этой мысли меня укрепила Таня и все домашние. Английского я побаивался, но управляемый страх лучше бесконтрольной спеси. Ответил на четыре, на большее вряд ли мог рассчитывать. Последний день, русский и литература устно, моя сильнейшая сторона… Отлично!!! Есть проходной балл! И ни капли жалости к не набравшим этого балла, кроме симпатичной барышни из Мурманска, с которой разговорился под дверью аудитории. У неё было такое же положение, как у меня, но что-то напутала в характеристике Онегина или Вронского – и до встречи через год…
Теперь надо отставить прыжки до потолка и объяснить, что понесло меня на филфак. Место без определённой перспективы да ещё девичье царство – при горячей и нежной Тане… Но дело в том, что я далеко не так кристально, как она, представлял будущее. Университет, работа учителем? Университет, аспирантура и что там дальше? Всё это были очень туманные галактики. Просто я знал, что физиком или математиком быть не смогу. Врачом, как Таня? Не чувствовал склонности, а без неё не стоит и браться. Юристом? Взвою от казённого языка законов, кодексов и протоколов… Большая часть моих способностей, не сто процентов, но восемьдесят точно, жила в области гуманитарных наук, а какая здесь может быть чёткая перспектива? Поступить, начать понемногу работать, образование добавит культуры, солидности, в итоге куда-нибудь вырулим и причалим.
Главное – теперь мы жили в Питере. Я – у бабушки с дедушкой, где вскоре прописался, Таня – по-прежнему в общаге и училась допоздна. Два-три раза в неделю я провожал её после занятий к себе, и все выходные были нашими. О том, чтобы ей окончательно переселиться ко мне или нам двоим найти какую-нибудь общую пристань, мы говорили, но несколько лет назад это можно было попробовать сразу, а сейчас надо сперва подняться на ноги, начать зарабатывать. За год, ставший моим первым студенческим, жизнь изменилась сильнее, чем за предыдущие семнадцать. Едва успел сдать экзамены – бессмертный балет Чайковского по всем телеканалам. Следующая новость – давно ожидаемая: нет больше Ленинграда, есть Санкт-Петербург. Но магазины пустые. Под Новый Год развалился Советский Союз и, казалось, то же самое со дня на день произойдёт с Россией. В январе взлетели цены, разрушив, кстати, наш план съездить на каникулы в Солнечное. Резко наполнились магазины, в основном дрянью, но даже её теперь стало не на что покупать… Легко ли посреди этой качки двум вчерашним школьникам строить свой маленький прочный дом?
Мы старались. Я раньше Тани начал работать, – специальность позволяла, жизнь и здоровье людей от меня не зависели. Даже в это время находились родители, готовые вкладываться в образование детей. У меня появились ученики, которых я подтягивал по русскому языку. Первое время сомневался, способен ли, с моим-то замечательным терпением? Запутавшийся шнурок на ботинке никогда не мог развязать – сразу резал и вдевал новый. Ни одной рубашки до сих пор не выгладил – пробовал, но впадал в ярость на середине первого рукава. А сколько заевших «молний» разломал могучими рывками! Какой из меня репетитор? Оказалось, это занятие вовсе не требует терпения. Терпеть надо, когда занимаешься скучным, противным делом, а преподавать интересно. Ученик не отличает прилагательное от глагола? Не беда, пройдём ещё раз. Снова не понимает? Повторим три раза, четыре, десять, спокойно и без нервов.
В университете я посещал не каждую лекцию, иногда прогуливал целый день, но отрабатывал пропуски, давая понять, что не зря, не зря в меня верили даже после провала третьей пятилетки. И зимнюю, и летнюю сессии сдал довольно легко. Подождал Таню, у которой после второго курса была серьёзная практика, и мы всё-таки съездили в Солнечное. Там встретили Мексиканца, теперь студента севастопольской Приборки, и ребят из одиннадцатого, но… верно заметила Таня во время нашего первого разговора: уже не всех.
Возвратились… Если раньше это слово относилось к Солнечному, то теперь – к Петербургу. Возвратились и продолжили учиться. И угораздило меня осенью влезть в эту чёртову драку! Впрочем, повторись она сейчас – думаю, влез бы снова. Повод был нормальный: вступиться за ребят и девочек, у которых другие борзые ребята повадились отнимать деньги. Вместе со мной нашлись ещё бойцы за справедливость, и, если взглянуть со спортивной точки зрения, мы победили. У тех, с разбитыми лицами, оказалась влиятельная родня. Мой дедушка Сергей Васильевич – тоже не простой человек, и никакого уголовного дела они не добились. Но из универа я всё же вылетел, и как-то неприлично быстро об этом узнал военкомат.
2О том, чтобы увернуться от армии, не было речи. Отец служит больше двадцати лет, а я испугаюсь даже не двух, как раньше, – полутора? Ерунда, проскочу со свистом! Примерно так я говорил Тане в последнюю гражданскую ночь.
– Обязательно напиши, Сашенька, я к тебе сразу приеду! – шептала она. – Почему-то уверена, что будешь недалеко. Но, если что… я к тебе на Камчатку прилечу, никуда от меня не денешься!..
Услышь я о Камчатке от кого-то другого, ужаснулся бы. А слушать Таню было весело, хоть она и смахивала то и дело слёзы с ресниц.
Я оказался везунчиком, попал в сержантскую учебку рядом с Озерками. Звание – рядовой, должность – курсант. Вот так надо будет объяснять ученикам разницу между частями речи и членами предложения. Звание – имя существительное, должность… обстоятельство, в крайнем случае дополнение. Увы, на подлежащее я теперь не тянул.
Если рассказывать о службе подробно, выйдет совсем другая книга. Обойдусь несколькими историями, которыми делился с Таней. Одна из них случилась в первые недели. Нас, «духов», едва надевших форму, строем привели в полковой клуб, показали какой-то фильм. Ужас как не люблю эти пассивные неопределённо-личные обороты! Куда лучше было бы: «я пришёл, я посмотрел», но что поделаешь… После фильма на сцену вышел помощник командира полка по воспитательной работе, которого по привычке называли замполитом, – живучее оказалось словцо.
– Поднимитесь, у кого из вас нет отца или матери, – обратился к новобранцам подполковник Реутов, вероятно, на предмет каких-то будущих послаблений. Встала чуть ли не треть собравшихся, я удивился такому числу. Среди них был мой сосед, невысокий и моложавый, на вид не больше пятнадцати лет, Антон Грушин из Гатчины. Большого значения этому я не придал.
– Поднимитесь, у кого нет отца и матери, – продолжал подполковник. Встало гораздо меньше солдат, и среди них Антон Грушин.
– Поднимитесь женатые, – продолжал замполит. Встала горстка человек; это маленькое множество имело с предыдущим одно пересечение по имени, да-да, Антон Грушин.
– Поднимитесь, у кого есть ребёнок, – не унимался подполковник. Встало двое – и, думаю, понятно, кто был один из них.
Больше мы не видели Грушина в расположении роты. Его на следующий день произвели в ефрейторы и отправили как бы в командировку, а на самом деле – домой. В часть он после этого приезжал дважды: присягать и увольняться, когда жена родила второго.
Этот случай дал мне понять, что к солдатам в армии могут относиться по-человечески. Могут и иначе, как убеждался впоследствии, но о грустном подождём.
По воскресеньям, если я заранее не предупреждал, что буду в карауле, ко мне приезжали гости. Иногда это была Таня, иногда – бабушка или дедушка, а порою – Таня вместе с бабушкой или дедушкой. Я ждал её всегда и каждый раз наводил на себя красоту. Родственники простят затрапезный вид, но перед Таней хотелось выглядеть чудо-богатырём из книги Леонтия Раковского «Генералиссимус Суворов». Лучше недоспать, но постираться, погладиться, пришить свежий подворотничок. Чистые ногти, зубы, сапоги – обо всём подумать…
Таня в это время уже работала, делала массажи грудничкам.
– Приносят красавца, – рассказывала она в комнате для встреч на КПП, – глажу ручки, спинку, увлеклась, прислонилась к столу, чувствую: бок мокрый. Что такое? Это маленький негодяй расслабился и лужу на столе напустил!..
Послушав её, новый друг из моего призыва сказал: «Хочу девушку-доктора, с ней будешь всегда здоров и не соскучишься». «Спрошу, – обещал я, – у Тани есть подруги». Но к следующему её приезду Кирилла отправили в Подмосковье, а я остался здесь и попал в миномётчики. Забегу вперёд, скажу, что стрелял из миномёта за время службы целых три раза; разгружал уголь в Сертолово и убирал картошку в Фёдоровском – чаще.
Потом я стал приезжать домой в увольнения. Дивизионный командир нашёл мне занятие – писать курсантам характеристики для отправки в войска, всем хорошие и разные. Я добросовестно работал неделями, а выходные проводил дома и большую часть времени отсыпался.
Однажды со мной произошёл удивительный заскок памяти. Увидел в наряде по столовой неслаженную работу и вспомнил басню «Квартет». Чем она отличается от «Лебедя, Рака и Щуки»? Те трое знают своё дело, но цели у них разные, а здесь просто бардак. Вот такой бардак я и встретил:
Какая-то Мартышка, Осёл, Козёл да косолапый Мишка Затеяли сыграть квартет…Но какая Мартышка? Убей – не помню… В голове всплывала «развратница», но остаток здравого смысла подсказывал, что на самом деле кто-то другой. Спрашивать сослуживцев постеснялся, я же филолог Фаддей Симеонович Смяткин, и мучился несколько дней. Неужели вправду она?..
– Карманница, – без раздумий сказала Таня. Я вставил кирпич на место, прикинул:
– Вроде нет…
– Ладно, – сжалилась Таня и ответила правильно.
Я хлопнул себя по лбу:
– Точно!..
– Эк вас корёжит, – продолжала она. – Идём скорее, я хоть и не мартышка, но…
Двинулись в путь мы не сразу, и очень хорошо, что на вокзале были скамейки.
Кроме встреч с теми, кто жил поблизости, мой дух поддерживали письма. Я переписывался с родителями, с друзьями и с Леной Гончаренко. У неё был маленький брат, она училась в педагогическом колледже. Это звучало удивительно: какой из Ленки педагог? Даже если будет хорошо знать предмет, управится ли с кровожадной толпой? Конечно, я не высказал эти сомнения, но в следующем письме она уточнила: на отделении начальной школы. Если так, может, и сойдёт. Техникум находился в другом городе, в двух часах езды от дома, – каждый день не накатаешься, и Лена жила на неделе в общежитии, а домой приезжала на выходные.
В спортзале повесили боксёрский мешок, – писала она зимой, – очень он нужен, когда девочек 90 процентов или больше! Но собрались, начали бить по очереди, я тоже сделала раз-два, как ты показывал, с доворотом корпуса и так далее. Все сказали «о!» и теперь просят научить. Благодаря тебе я попала в авторитет, а о том, что никогда не смогу ударить человека, никто не догадывается…
Рад, что хоть так удалось тебе помочь.
А я смогу без колебаний, и на ком впервые убедился – ты не знаешь, наверное…
В апреле я стал младшим сержантом и отправился в часть недалеко от Выборга. Кто-нибудь непременно спросит: а где же дедовщина, ужасные неуставные отношения? Скажу честно, это была не главная беда. Куда хуже – скверное питание: брикеты замороженной мойвы, квашеная капуста, которую я видеть не мог, потому что знал, как она готовится, картофельное пюре из хлопьев, сырой глинистый хлеб с непременной изжогой в послевкусии. Думаю, именно поэтому я чуть не лишился пальца на руке. Ослабли защитные силы организма, и какая-то царапина, по привычке не замеченная, выросла в огромный панариций. В медсанчасть долго не отпускали, некому было ходить в караул. В итоге я больше месяца провёл в госпитале и лишь потому отделался шрамом, что у нас были хорошие врачи, недавно переведённые из Дрездена, и настоящие лекарства.
– Передай, что я их целую, хирурга твоего и всех, – сказала Таня, рассматривая шрам. – Так нежно, как… даже тебе ещё не доставалось!
После госпиталя служба пошла под гору. Главным занятием, причём с каким-то староанглийским, соревновательным уклоном, для меня стали поездки домой. Способов было несколько. Самый простой – командировка в Питер для покупки канцелярских принадлежностей. Второй способ – самоволка с дозволения командира батареи, в гражданской одежде, хранившейся у него дома. Третий, самый интересный, – самовольная самоволка, обычно в полевой форме прапорщика, в которую легко превращается солдатская.
Я не всегда мог предупредить Таню об этих приездах и дожидался возле института, надеясь на удачу. Однажды меня хватились в части и, когда вернулся, отправили на гауптвахту. Десять суток. Ладно… Если уж Варя Синичкина попадала на губу, можно разок и нам.
После Нового Года, когда служить осталось всего ничего, меня прикомандировали к духовому оркестру дивизии. Играть на трубах и валторнах я не умел, но при оркестре существовал вокально-инструментальный ансамбль, и мой голос понадобился для праздничных концертов. Пригодился отрепетированный в школе «Майский вальс», я выучил и несколько новых песен. К моему несказанному удивлению, слух о наших концертах дошёл до окружного ансамбля песни и пляски, оттуда звонили, интересовались, но где же вы раньше были, господа?..
Во второй половине мая в отпуск приехали родители, заглянули в наш полк. Может быть, сказалось вековое почтение сухопутных офицеров к морякам, или просто они поладили с командиром, – как бы там ни было, на следующий день, одним из первых, меня уволили в запас.
– С возвращением! – сказала Таня. А у меня было чувство, что я никуда и не уезжал.
3А город куда-то съехал. Пробегая в армейской спешке, я не обращал внимания на перемены, теперь они глядели отовсюду. Восстановился на заочном, хотел устроиться в кооператив по подготовке к экзаменам, где работал Станислав, – оказалось, кооператива больше нет и Стас занят в конторе по продаже станков, раскуроченных на металлолом. На Асе он всё-таки женился, но никакие ученики у них давно не собираются. Не было и кафе, где четыре с небольшим года назад он предлагал нам выступить, и в бывшем помещении кафе даже ничего не продавали – просто выломанная дверь, разбитый пол, какие-то гнилые доски. Город заполонили опустившиеся, дурно пахнущие люди, вызывавшие смешанное чувство брезгливости и сострадания.
Неожиданностей было хоть отбавляй: вот, например, игровые автоматы. Никогда не думал, что это развлечение из моего детства станет таким популярным. В Солнечном, бывало, прибегал один или с толпой, обходил, скармливая монеты, морской бой, автогонки, тир, хоккей. И теперь вижу одну вывеску, другую – чуть ли не на каждом углу… Вошёл и замер: это какие-то совсем другие автоматы, для взрослых, полусумасшедших, дёргающих за рычаги! Посмотрел, развернулся и вылетел на улицу: очень уж недоброе настроение клубилось в зале, давило на уши и глаза.
Месяц погулял и задумался о работе. Попробовал, как раньше, сам найти учеников, но летом они не клевали. В июле позвонил Аркадий, один из участников той давней драки, с нашей, конечно, стороны. Вспомнили прошлое, поговорили о сегодняшнем дне. В армию Аркадий не попал по здоровью, в университет поступил вновь, бывший историк – на заочный экономический. Он предложил мне завтра погрузить и выгрузить вместе с ним мебель каких-то переезжающих хозяев. Через день были другие хозяева с мебелью, вскоре – партия строительных материалов. Удивительно много людей в это время переезжали, делали ремонты и готовы были платить. Осенью заказов стало ещё больше. Мы с Аркадием сдружились и вскоре взяли в аренду подержанный фордовский грузовичок. Хотя «мы» – это сильно сказано; Аркадий, опытный и наработавший кое-какие связи, оставался главным. Он со всеми договаривался, принимал и раздавал деньги, я был крепким и толковым санчей пансой. Гордость не страдала, амбиции не просыпались, поскольку я чувствовал, что предназначен для чего-то другого, а это дело временное. Аркадий говорил, что именно такого помощника ему раньше и не хватало. Через несколько месяцев он выкупил «форд». Появились ребята, готовые мгновенно откликнуться на вызов, и вскоре стали у нас чем-то вроде постоянного штата. Аркадий уже не работал физически, да ему и не стоило: хоть и выше меня, шире в плечах и с бицепсами, после восхождений с грузом на этажи он бледнел и временами глотал таблетки. Вскоре у нас появилась «Газель», и я тоже перестал носить грузы. Дело постепенно росло, Аркадий размышлял о покупке мачтового подъёмника.
Таня была очень занята. Учёба, практика всё сложнее; вдобавок, отучившись четыре курса на стоматолога, очень многое умея, она увлеклась челюстно-лицевой хирургией и думала о второй специальности, а для этого надо было вернуться к гистологии и другим уже пройденным дисциплинам. Плюс работа: массажи и новое дело, возникшее случайно. «Отчего ты такая?» – спрашивали подруги, имея в виду чудесную осанку, цвет лица, неутомимость, совершенные стопы – высокий свод, ни намёка на болезненные косточки. Таня отвечала: детство босиком на пляже, плавание, подвижность, фрукты и виноград, никаких шпилек до восемнадцати лет и после не увлекаться… Всё формируется к юности, дальше можно только подправить. «Нам бы хоть подправить», – говорили подруги, и Таня стала дважды в неделю вести лечебную гимнастику. Для этого училась и тренировалась: раньше, к примеру, не могла садиться на шпагат, оттого что не было необходимости, теперь делала это запросто и как угодно.
4В сентябре мы сняли однокомнатную квартиру на Дачном проспекте недалеко от Ветеранов и назвали, разумеется, «дачей». Подходящее слово: мы появлялись здесь в основном для отдыха, на ночь. Я вспоминал день, когда, впервые увидев Танино платье на спинке стула, подумал: скоро так будет всегда. Теперь было много платьев, и медицинские халаты, инструменты – я приучился видеть их без содрогания, – и разнообразные тюбики, баночки, пилочки в ванной. И Таня совсем рядом, каждую ночь; во сне она вечно забирала всю подушку, выдёргивая из-под моей головы.
С каждым вечером всё раньше темнело, по подоконнику часто колотил дождь, где-то совсем рядом пролетали самолёты. Иногда, перед тем как уснуть, мы вспоминали последний общий школьный год: как важно тогда изображали посторонних. «Так хотела подойти и сказать: сделай проще лицо!» – призналась Таня. И друзей, виноградник, подвал… Как недавно это было и как мало, по сути, мы изменились!
Однако даже такие, мало изменившиеся, мы обзаводились бытом. О мебели в съёмной квартире не заботились, достаточно было хозяйской, но я купил отличную гитару, Таня – несколько мелких барабанов и свободно выстукивала на них свои партии. Время от времени на неё находил кулинарный стих. Однажды поздним вечером варит полуведёрную кастрюлю супа дней на пять с таким расчётом, чтобы утром, остывшую, поставить в холодильник, сыплет всего побольше, а стол чистый и в раковине – дощечка, ложка и два блюдца. Как это получалось, ума не приложу.
По утрам я старался сохранить для Тани каплю бесценного сна и раньше вставал, готовил завтрак. Как-то в шутку спросил, провожая в клинику: может быть, тебе нужен кто-то более грозный, кто не будет варить овсянку и мыть посуду? Таня сморщила нос и сказала: «Бросьте этих пошлостей!»
Мы часто заглядывали к бабушке с дедушкой, жившим недалеко, минутах в двадцати на маршрутке. Они ворчали: зачем нужна конура, ещё и деньги платить, неужели здесь мало места? Через два месяца игры в самостоятельность мы прислушались к резонным словам и оставили «дачу».
К нам, и туда и сюда, заходили гости. Аркадий с подругой, очень милой, лет на пять старше, с восьмилетним сыном. Костик, услышав, откуда мы, тут же стал расспрашивать о кораблях и не успокоился, пока не выведал всё, что знали. Бывали Танины медички, весёлые и шумные, иногда в сопровождении парней, как на подбор созерцательных, молчаливых. С Лерой, нашей первой ещё ленинградской знакомой, мы ездили в Павловск и Царское Село. Таня дружила с нею всё это время, и я, встретив после долгого перерыва, подумал, что невысокая Лера, прежде напоминавшая разом Олю Виеру и близняшек Вику с Алёной, превращается в Таниного мини-двойника. Походка стала такая же, с виду неспешная, но поразительно быстрая, – довольно крупными шагами, с полным выпрямлением толчковой ноги и мягким, почти без колебаний вверх-вниз, перекатом с пятки на носок. Развернулись плечи, голос, прежде звучавший с писклявинкой, обрёл более низкие, грудные ноты. Эти перемены, на мой взгляд, были ей очень к лицу.
5Было чувство, что вместе с нами постепенно встаёт на ноги город. Улицы становились чище, молодели дома, густели стада диковинных красивых автомобилей. Я искренне хотел надеяться, что опустившиеся люди не вымирают, а находят дом, возвращаются к нормальной жизни. Таня, повидавшая их вблизи на сестринской практике, мои надежды не разделяла.
В апреле от едва знакомой родственницы мне досталась в наследство двухкомнатная квартира на улице Севастьянова. Мы с Таней решили пожить там, а если с деньгами будет туго, сдать её и вернуться обратно.
– Будет пространство, куда смогу хотя бы на двадцать минут уйти, побыть одной, – сказала Таня, – хочется иногда. Ну и ты, если вдруг…
Честное слово, я не догадывался о таких её желаниях.
Первое время казалось, что на новом месте всё идёт наперекосяк. Мы стали ругаться без видимых причин. Точнее, Таня ругалась, могла повысить голос, ударить по столу кулаком и, хлопнув дверью, закрыться в другой комнате. Я не кричал в ответ, не бросал ничего на пол и всякий раз оставался в недоумении. Что с ней произошло? Куда подевалась прежняя, весёлая и ласковая Таня? Так продолжалось больше двух месяцев.
В один из вечеров она припомнила Лену Гончаренко.
– Я знала! – говорила Таня, блестя сухими глазами. – Знала, что тебе Ленка больше нравится! Тебя к ней тянет, чувствовала! А со мной хотел быть рассудочно, потому что я надёжная, со мной не пропадёшь! Ладно, думала, старается человек, уговаривает себя, надо дать шанс. Дала. А лучше бы не стоило!
Я стоял в полном остолбенении.
– Таня, что ты выдумываешь? – сказал наконец. – Лену не очень хорошо приняли в школе, мне было её жалко, только и всего. А потом всё наладилось и…
– А меня тебе не жалко?! – крикнула Таня, унеслась в ванную и включила полный напор из крана.
После таких сцен она быстро остывала и первая делала шаг навстречу, вот и тогда подошла через десять минут и, обняв меня, сказала:
– Саш, я наговорила кучу ужасных глупостей. Прости, пожалуйста… и, если можешь, забудь. Это была неправда.
И ночью сделала всё, чтобы доказать правоту этих примирительных слов. Я простил бы и так, но забыть не мог и стал размышлять. Тане двадцать два, как ни странно это звучит. Много ли я о ней знаю? Довольно много; возможно, больше о ней знают только её мама и папа. Но что она пережила в детстве, сколько раз летала с велосипеда и глядела на землю с крыши? Это я мог только предположить. А сколько неприятного видела и до сих пор видит на учёбе и практике? Шутит обо всём по живости характера и медицинской привычке, но в глубине накапливаются тяжёлые впечатления, обиды, вероятно, даже страхи, хоть она и ничего не боится. Вспомнил ту овчарку, о которой Таня рассказала в первый вечер… Наверное, она больше не может держать это внутри, всё выходит на поверхность. И из-за Лены, конечно, переживала. Почему достаётся мне? Может быть, потому что доверяет, знает, что ничего из услышанного не использую против неё…
Таким образом, я не только оправдал её со всех сторон, но даже увидел в этих ссорах знак ещё большего сближения. Постепенно они сошли на нет, всё наладилось.
Теперь о том, что получилось с Леной Гончаренко. Мы не теряли связи во время моей службы и после, от Тани нашу переписку я скрывал. Лена писала на абонентский ящик, её конверты я выбрасывал, а письма подсовывал в другие, невинные конверты и без опаски хранил дома. Лена окончила колледж, работала в школе, поступила на заочное отделение пединститута.
Мои первоклашки меня любят и слушаются. Но, когда по коридору несутся навстречу здоровые лбы с пятого по одиннадцатый, всё внутри противно сжимается и по привычке ищу шапку-невидимку. Потом говорю: эй, ты всё-таки учитель! И с гордо задранным носом иду своим путём…
О личной жизни она не спрашивала, я и не писал. И сам не интересовался.
Той весной, когда мы с Таней вновь ушли в самостоятельный полёт, Лена сообщила, что вскоре на несколько дней приедет в Питер. Появилась возможность встретиться, и, будь Таня в отъезде, я бы рискнул. Но увидеться с Леной – и бог весть какая молния сверкнёт, я представлял не катание по рекам на теплоходе, а номер в гостинице, завешенное окно, капли воды после душа на её голых, незабываемых ногах, – увидеться с нею и тем же вечером, как ни в чём не бывало, явиться к Тане?.. Невозможно. Я ответил: увы, к сожалению, в эти дни уезжаю, неотложные дела. Так и не пересеклись, но некоторое время ещё писали друг другу. В одном из писем Лена сказала, что вышла замуж, в следующем – что ждёт ребёнка и вместе с мужем-лейтенантом готовится ехать в Севастополь. Прислала фотографию в белом платье и чуть ли не на целой странице поведала о том, сколько хорошего я для неё сделал и как много значу в её жизни. Это было похоже на прощание. Я написал ответ с пожеланием счастья в новом-старом краю и подумал: стоит ли продолжать? Взрослая женщина, в скором будущем мать семейства, нужны ей мои письма? Будь мы хотя бы друзьями – тогда можно понять. Но разве мы были друзьями? Кем вообще мы были друг другу? Ответа нет.
Севастопольский адрес Лена не прислала. Вряд ли забыла: то ли решила, что продолжать незачем, то ли подумала, что я каким-нибудь мистическим образом должен узнать его сам. Возможно, некая мистика в наших отношениях и правда сквозила, но оказалась не всемогущей.
6Было и встречное движение, с юга на север. В Петергоф, успев послужить в Севастополе и дорасти до капитана третьего ранга, перевелся муж моей рыжеволосой соседки с пятого этажа. Мы с Таней съездили к ним в гости, вспомнили Солнечное, всей компанией погуляли в Нижнем парке среди фонтанов. Света и Владислав не изменились сами, но, кроме Маши, долговязого подростка тринадцати лет, у них теперь был трёхлетний Георгий.
К нам стали приезжать друзья, первой на несколько дней заглянула Марина Маринченко. Как они радовались, как обнимались – общепризнанная первая красавица школы и девушка, которая для меня дороже всех красавиц! Моё присутствие тоже никого не огорчило. В первый день Таня была сильно занята, и знакомил Марину с городом я. Катались по рекам, восходили по винтовой лестнице на Исаакий, целый день гуляли; Марину прежде всего интересовали мосты, и не столько большие, разводные, всем известные, сколько Почтамтский, Фонарный, Старо-Калинкин, Подьяческий, Банковский, Певческий… Мы прошли не один их десяток, и, вновь после довольно долгой паузы чувствуя желание фотографировать, я без конца наводил на гостью «Зенит».
Под вечер, наверное, от усталости, едва не заспорили о политике. Хоть Марина и обосновалась в Киеве, даже нашла там жениха, всё равно российские события занимали её сильнее.
– Из этого можно сделать вывод, что ты по-прежнему воспринимаешь нас как одну страну со столицей в Москве, – заметил я.
– Упаси боже! Просто интересуюсь тем, что творится в мире, в том числе у вас.
Мы говорили об октябрьских столкновениях у Белого Дома. Марина и тогда, и сейчас была целиком на стороне президента, я стоял на том, что это не моя война, пусть разбираются сами хоть до последнего выжившего, если больше нечем заняться.
– Ты же в армии тогда был.
– Спасибо за напоминание.
– Нет, серьёзно. Если бы вам приказали выйти с оружием, кто бы это был? Какая сторона?
– Этого даже командиры не знали. Вполне вероятно, что обе.
– И кого бы вы послушали, думали об этом?
– Думали. И решили, что в любом случае не будем стрелять в людей.
– А если бы приказали?
– К чёрту такой приказ.
– Накажут за невыполнение?
– Зато совесть чиста.
– Армия хиппи, – сказала Марина, – дети цветов, вам ещё надо пацифики на эти, как их? – указала на плечо.
– Шевроны?
– Наверное.
Здесь мы закончили спор и отправились ужинать в кафе, куда вскоре, созвонившись со мной, подошла и Таня. Назавтра она водила Марину за покупками по каким-то своим, девичьим местам. Вечером мы втроём слушали в Мариинском театре «Евгения Онегина».
– Теперь давайте вы ко мне, – сказала Марина через несколько дней, прощаясь в аэропорту. Мы обещали и с тех пор не раз говорили об этой будущей поездке, прикидывали, интересовались…
Летом и Таня сильнее прежнего ощутила страсть к фотографии, но теперь хотела быть по другую сторону объектива. Снимали её профессионалы и очень классные любители. Портретов становилось всё больше: крупные планы с выразительным, глубоким взглядом, почти всегда печальным, – утверждала, что так просят мастера, им виднее, – или сцены, где представала одна и с другими девчонками то в платье, то в костюме с бабочкой, то в каком-то античном хитоне. Однажды спросила, как бы я посмотрел на идею сняться обнажённой: «только один раз, фотограф – девушка, с мужчинами об этом даже не разговариваю». Я не возражал и даже не видел здесь повода для вопросов: хочешь – снимайся. А чуть позже и сам прибавил к её коллекции несколько удачных кадров.
В августе к нам в гости наведался Серёга Изурин с подругой и неожиданно оказался выше меня, хотя в школе всегда был чуть меньше. Подругу звали Оля, кто бы сомневался, но другая Оля, не Елагина. Главным впечатлением Мексиканца стали художники на Невском: сказал, что однажды бросит всё, приедет и будет так же рисовать. «А я буду носить обед в термосе», – поддакнула Оленька.
Стоило им уехать, как ранней осенью нагрянула Танина двоюродная сестра. «Маша, без китайских церемоний!» – сказала она, крепко пожав мне руку. Она приехала на учёбу от компании по продаже косметики, где работала несколько лет и добилась таких успехов, что ей оплатили проживание в недорогом отеле. Но с семинаров и новомодных тренингов она сбегала как можно раньше и вместе с Таней или одна бродила по городу; когда же обе появлялись в нашем доме, то норовили разнести его вдребезги, как некогда Памела и Кристина – замок старшего Лучникова.
У них появились совместные фотографии, сделанные той девушкой, что снимала обнажённую Таню. Новая серия была не проста: роскошные апартаменты, резная мебель – сразу видно, настоящая старинная, не муляж, – камин, тёмный паркет, розы на столе, мягкий плед на кровати; на этом фоне контрастно выделялись тела, а сюжеты прямо-таки кричали: опасные соседи эти двоюродные, чрезвычайно опасные…
– Может быть, не только теорией вы раньше занимались? – спросил я.
– Брось, это древняя история, времён очаковских… Просто у Маши была хандра: я тётя под сорок, жизнь заканчивается, всё прошло, завяли хризантемы. Но, во-первых, ещё не сорок, а во-вторых, ты бы сколько дал, если бы увидел впервые?
– По лицу не больше тридцати. По тому, что ниже, – наверное, двадцать пять.
– Вот. Показала это наглядно. Нравятся фотографии?
…Никогда не слышал от неё слово «фотки».
– Изумительно! – ответил я.
– И прекрасно. И не думай о ней, а то буду ревновать, как к Ленке.
Я всё же немного подумал, затем перестал. Минул год нашей жизни на улице Севастьянова. Осенью в запас уволился мой отец и вместе с мамой переехал в Питер. Перебрались в Елец и Танины родители. Таня съездила к ним на десять дней – одна, я заменял на работе Аркадия и с трудом находил время даже пообедать. Вернулась, и мы стали замышлять грандиозную поездку в Крым. Подумать только, провели там большую часть жизни и ни разу не видели генуэзских крепостей. На руины Херсонеса глядели нехотя и вскользь. Не интересовались ни Большим, ни Малым каньонами. В силу атеистического воспитания не замечали храмов. В музее Грина были однажды с экскурсией и вовсе не были у Чехова в Ялте и у Волошина в Коктебеле. Не пробовали шампанское в Новом Свете. Не поднимались на Кара-Даг, Чатыр-Даг, не фотографировали с Ай-Петри море и берег… Наступало время восполнить эти пробелы и, кстати, заехать по пути к Маринке. А потом можно будет задуматься об официальной регистрации и, пожалуй, увеличить семью…
7Чувствую, начал вязнуть в событиях повседневности. Дай мне волю – утонул бы совсем, чтобы только не доплыть до того июньского вечера, когда, вернувшись домой, услышал от Тани, что она уходит.
Никаких причин для этого я не видел. Утром всё было хорошо, ночью, вчера, неделю назад, месяц… Ни одного намёка.
– Нашла кого-то другого? – спросила моя пустая оболочка, пока сознание, опрокинутое этой новостью, слушало отсчёт: «семь… восемь… девять…»
– Да. То есть… Не знаю, ничего не знаю! – воскликнула Таня и продолжала тише: – Просто всё изменилось. Хотела уйти, пока тебя не было, оставить письмо, но не могу. Решила дождаться…
Села на кровать и в голос расплакалась. Я и раньше видел её слёзы, но то были капли на ресницах, а сейчас… Даже не представлял, что она способна на такой бурный поток.
…Недавно пошла заниматься в автошколу, на днях, смеясь, рассказывала, как пытается отучить инструктора, старичка-боровичка, называть её Танькой. «Я Татьяна Андреевна!..»
– Что ты выдумываешь, Таня? – спросил, присев рядом.
– Надо, – выдавила она и обхватила меня за плечи. – Сашка, ты всегда будешь для меня самым лучшим и самым главным… но так надо.
– А как же «всё изменилось»?
– Кроме этого…
И зарыдала сильнее. Я чувствовал, что она говорит правду о самом лучшем и главном, просто с кровью, по живому себя отрывает.
– Никуда тебя не отпущу, – сказал я.
Таня молча вздохнула, и почему-то именно в этот миг я понял, что её решение окончательно, держать бесполезно. И, когда она поднялась, не шевельнул и пальцем.
– Я возьму немного? – взглядом указала на ящик, где мы хранили сбережения. – Четверть?
– Да хоть всё.
– Не надо всё… Четверть.
– Что скажу Свете с Вадимом?
– Придумай что-нибудь. Сашенька, только не сердись. Пожалуйста. И не ищи, я сама найду, если что… Здесь или там, – кивнула в сторону Проспекта Ветеранов.
«Катись на здоровье», – мысленно сказал я в тупом раздражении. Кажется, поработала без меня, вывезла многие вещи, сейчас при ней были только спортивная сумка и небольшой чемодан. И не думай, что помогу вытащить их. И мне всё равно, ждёт ли тебя кто-нибудь на улице, с машиной или без. Иди к чёрту со своим спектаклем.
Подошла, наклонилась, коснулась губами моих губ. Я отдёрнулся, как от кипятка.
– Понимаю, – сказала Таня. – Но всё равно… Саша, я люблю только тебя, знай это. И всегда любила, ещё до виноградника, и буду до самого конца. Прости.
Я даже не закрыл за нею дверь, так до утра и просидел.
Через день я встретил на Московском вокзале Свету и Вадима Карапетовых и на вопрос: «Почему один?» – выложил всё как есть. Они были ошеломлены.
– Не переживай, Саня, вернётся, – утешала Света по пути домой.
– Да всё в порядке. Ничего страшного не произошло.
Они гостили неделю и успели выполнить всё, что наметили. Света, добрая душа, время от времени принималась успокаивать, но быстро умолкала, видя, что я и так спокоен. Я будто вернулся в то время, когда мы собирались на Мишином ранчо и не надо было думать, где Таня, искать её, когда без неё невозможно было представить жизнь. Пришёл в школу – увидел Таню, позвонил – сняла трубку, открыла дверь; вот и сейчас, казалось, появится с минуты на минуту, наведёт «Лейку»… Я был настолько спокоен, что даже пел под гитару любимые песни Светы:
Любовь приходит только раз, её не отвергай, Любовь приходит только раз, скорей её встречай. День без любви на что похож? День без любви на что похож? На грустный дождь, на грустный дождь…18И другие. А погода была замечательная, и на ночь глядя мы собирались гулять. Света возражала:
– Знаю, какие личности по улицам шляются. А вы… И ты, Саня, чёрный, а у Вадика на носу написано: Карапетян! Сидели бы дома!..
– Молчи женщина, – отвечал Вадим, не выделяя паузой обращение, и все трое смеялись.
– Тогда идём, – говорила Света, и мы ходили по улицам иной раз до утра и никого подозрительного не встречали: кругом были такие же мирные бродяги, девушки в коротких юбках среди заколдованного камня, плавучие дискотеки на Фонтанке и Мойке, зазывалы на ночные экскурсии, школьники с гитарами. Даже удивительно, – думал я, – какая ерунда приснилась, как легко её пережил…
– Найдётся, – сказала Света на прощание, – подожди ещё несколько дней. Спрошу наших, вдруг кто знает?
– Спасибо, но не надо, – ответил я и, придя домой, несколько дней по инерции думал, что и правда сейчас повернётся ключ в скважине, откроется дверь. Свой ключ, уходя, Таня оставила, но вдруг есть запасной… Я даже звонил ей, но телефон был выключен или вне зоны действия сети.
А потом меня накрыло. Не дождавшись, собрал её забытые вещи – что-то из одежды, белья, – сложил в пакет и вынес к свалке: может быть, кому-то пригодится. Туда же отправились барабаны. Книги сохранил, но несколько тетрадей, все письма и фотографии сжёг за городом на костре. Их было так много, что дома просто бы не справился. Возвращаясь электричкой, с похудевшим вдвое рюкзаком, не чувствовал ни раскаяния, ни вины. Тем же вечером напился в чудовищную сине-зелёную водоросль. Никогда ещё таким не был и потому не знал, как поведу себя, что буду делать: может, захочу прыгнуть в Зимнюю канавку или набить лицо первому встречному?.. Агрессия наружу не полезла, видно, нет её в моей природе, а вот желания излить душу целому свету – хоть отбавляй. Сохранились обрывки воспоминаний о том, как привязался к студенческой компании, тоже не очень трезвой, не давал покоя рассказами и в конце концов меня стали чуть ли не волоком таскать за собой, прикрывая от милиции. Проснулся с набитым булыжниками черепом в незнакомой квартире, и улыбчивая девушка поднесла стакан пива со словами: «Подобное подобным». Запах подобного был так ужасен, что я прошептал: «Оставьте, дайте спокойно умереть…» – однако не умер и через полчаса вполне бодро ходил, разговаривал, пил чай. Голова совсем не болела, только спиртного не мог видеть ещё месяца три и понял, что алкоголь – не моя стихия. Никаких моих заслуг в этом нет, ни силы воли, ничего особенного, просто так устроен организм.
Позвонил Таниным однокурсницам, чьи телефоны помнил, – новостей не услышал ни от кого. Позвонил Лере, с которой Таня всё время была на связи.
– Да что ты говоришь! – ахнула Лера. – Нет, не знаю… Как раз собиралась позвонить, закрутилась, три недели не разговаривали…
– Теперь бесполезно звонить. Если только нет секретного телефона.
– Не слышала о таком… Свяжись с родителями, вдруг что-то подскажут?
– Не хочу.
Адрес Таниных родителей я помнил частично: город, улица. Мог бы попробовать найти дом с квартирой, не такой огромный Елец. Но должна быть и гордость хотя бы маленькая.
– Ну как знаешь, – ответила Лера, – я всё-таки поинтересуюсь. Если что, скажу.
Мы попрощались, и я решил больше никого не спрашивать. И оставаться на Севастьянова не было смысла, так что я сдал квартиру хорошей молодой семье и вернулся в прежнюю. Поселился в той комнате, где семь с половиной лет назад, во время нашего первого совместного прилёта, останавливалась Таня и сравнительно недавно четыре месяца мы жили вдвоём. О ней тут напоминало всё, даже вид из окна, но что поделаешь… Весь мир точно так же напоминал о ней.
8Родителям и бабушке с дедушкой я объяснил так: ничего страшного не произошло, мы всего лишь выросли и оказались разными. Не осталось общих интересов, ничем больше не можем друг друга удивить. Нет, не ссорились, просто решили, что теперь у каждого будет своя жизнь.
И начал эту собственную жизнь. Первые дни досадовал на себя за то, как поступил с Леной Гончаренко. Мог бы увидеться, когда приезжала в Питер, мог переписываться, поддерживать надежду. Уверен, она бы тогда не вышла за своего лейтенанта, никуда не уехала и сейчас по первому слову прилетела бы, ни о чём не спросив. Я бы сам рассказал всю правду до малейших подробностей. Глядишь, осталась бы навсегда… Её письма, ни о чём не говорящие прямо, были полны намёками, рассыпанными между строк. Я на время перестал думать о Тане, мысленно проигрывая другой вариант судьбы, и, хоть дверь закрылась, прикидывал шансы влезть через окно. Если бы Ленка написала!.. Я, наконец, понял, что в ней есть такое, чего не было в Тане. С Таней никогда бы не позволил себе расклеиться: стыдно, неловко. С Леной – один раз в жизни можно.
По вечерам выходил во двор, присоединялся к компании волейболистов лет от пятнадцати до сорока. Одна высокая старшеклассница, игравшая то с нами, то с ребятнёй в какие-то свои догонялки – очень бледное подобие наших, южных, искромётных, – была похожа на Лену не только внешне, но и тем, что, даже подбрасывая мяч, вызывала желание немедленно спасти её от мяча. В игре мы часто оказывались рядом, переглядывались, пасовали друг другу, однажды я проводил её до парадной мимо косо глядевшей девицы, которой на ходу был показан язык. На следующий день вдвоём прогулялись вокруг школы, поговорили о причастных и деепричастных оборотах, и по алгебре-геометрии я мог кое-что подсказать. Кажется, эта юная душа видела во мне дядьку – может быть, весёлого и симпатичнее гориллы, но всё-таки человека другого поколения.
Едва ли не в тот же вечер на глаза попалась Танина книга. Те самые «Романтики», первый том собрания сочинений. Открылся на сто сорок седьмой странице, взгляд упал на слова Хатидже:
Я поняла, что у тебя в жизни будет много падений и подъёмов… но я всегда буду близка тебе, потому что у нас одна цель – твоё творчество. Оно принадлежит всем… Моё прошлое и будущее только в тебе. Теперь всё ясно… Но если ты бросишь писать, бросишь думать и расти как человек, я откажусь от тебя.
С Хатидже я когда-то сравнивал Таню. Возникла сумасшедшая мысль: может быть, она отказалась от меня, потому что бросил писать, думать и расти как человек? Но ведь не бросил! Я ушёл в люди – обретать жизненный опыт, знакомиться с миром. В конце концов, я даже младше Максимова, когда он услышал эти слова, мне ещё нет двадцати трёх!..
9Я знал, в каком ящике стола лежит тетрадь с неоконченной повестью об Олеге и Насте. Открыл. Из тетради выпала Танина фотография, избежавшая костра. Пристальный, в самую душу направленный взгляд удлинённых глаз. Вложил её в книгу и осторожно перечитал собственную повесть. Неужели это действительно я писал? Почерк знакомый, но некоторые страницы видел как будто впервые…
Тут же стал перепечатывать её на компьютере, исправляя вопиюще неудачные, на мой современный взгляд, места. Главные ошибки были нескольких родов. Разъяснение прямым текстом всех-всех желаний, мыслей и чувств, о которых можно догадаться по словам и действиям. Избыток штампов – «как гром среди ясного неба» – и канцелярской лексики в описаниях. Попадались излишне слащавые, сентиментальные абзацы или предложения – вот третий недостаток; но большая часть написанного, как ни удивительно, нравилась.
Перепечатал за неделю и, разогнавшись, продолжил и закончил повесть именно так, как фантазировала в самолёте Таня. Её давние мысли совпали с моими сегодняшними. Описал поездку Насти и Олега в его родной город – первое воскресенье октября, весь день с утра до вечера. Олег помнил свой старинный адрес, Настя часто проходила этой улицей, направляясь к подруге, тоже Насте. «Вот он», – кивнула на дом, выстроенный на склоне холма. Обошли кругом, отыскали парадную, не сговариваясь, открыли. Поднялись на пятый этаж, Олег ничего не узнал, но вспомнил – будто фары мелькнули в тумане, – с каким трудом затаскивал сюда свой первый двухколёсный велосипед, пыхтел, обливался потом, но не останавливался и не принимал ничьей помощи. Вот и квартира. Рука Олега сама потянулась к звонку, нажала. Странный сигнал за дверью – голоса дельфинов, теплоходный гудок. Олег и Настя переглянулись… и с грохотом, через ступеньку ринулись вниз, столкнулись в дверях, выскочили на улицу, летели ещё несколько минут под гору, задыхаясь от беззвучного смеха, и лишь потом остановились и долго хохотали на все окрестности. Я сам ухмылялся с ними заодно. «Большая тётка, господи, скоро восемнадцать лет!..» – утирая слёзы, простонала Настя. Случился в тот день и клад, как в настоящей приключенческой книге: нашли на дороге три рубля и тут же истратили на лимонад, пирожки, мороженое. Три рубля! Как они звучали теперь, когда мы все были сплошь миллионерами…
Я писал в третьем лице и не был привязан к одному-единственному герою. Это позволило мне свободно перелетать в Питер, когда Настя со второго захода поступила в институт, и рассказывать о её студенческой жизни. Мелькали занятия, друзья, подруги, ученики, возник сорокалетний ухажёр, выдуманный Таней. Он не жил с семьёй, но и не разводился. Чтобы добавить драйва и экшна, я наградил его дочерью четырнадцати лет, крайне не одобрявшей новое папино увлечение. Когда она убедилась, что Насте плевать на предупреждения и угрозы, подкараулила её в тёмном дворе вместе с подругами, вооружёнными палками и камнями. Случай подлинный: такая история произошла с Валентиной, девушкой моего друга-шефа Аркадия, и едва не закончилась грустно. Её выручил Аркадий, в тот вечер случайный прохожий, – разогнал малолеток, отвёз беднягу в травматологию. С тех пор и не расстаются. Настя же, ловкая и не обделённая силой, сумела выхватить у одной из нападавших палку и, раскрутив её над головой, прорваться на улицу, где были люди. Она ничуть не испугалась, но интерес к взрослому поклоннику после этого как отломило, – дочка всё-таки добилась своего. А жаль, именно в тот вечер Настя думала расстаться с невинностью. Она сделала это чуть позже при помощи студента, ровесника, без каких-либо чувств, больше из любопытства, – и, получив опыт, на время успокоилась.
Олег учился в школе, рос и всё лучше рисовал. Его работы, карандашные и акварельные, брали призы на республиканских конкурсах. Многое рисовал специально для Насти, посылал в больших конвертах, она отвечала, хоть и не на каждое письмо.
А весной в десятом классе состоялась давно задуманная экскурсия в Петербург. Олег выбрал на карте место, где будет ждать Настю, – Дворцовая площадь, у Александровской колонны, – написал, ответ получить не успел. Я колебался: сбежать ему на день или отпроситься? Первое романтично, второе – по-человечески. Конец сомнениям положил сам герой, с коробкой шоколадных конфет постучавшийся в номер классной руководительницы.
Место встречи он нашёл удивительно быстро, Настя появилась через несколько минут. Поцеловались в щёку, посмеялись, взглянули в глаза. «Ну ты и вырос, настоящий великан!» – сказала Настя, преувеличив: если он и был выше, то совсем чуть-чуть. «А ты всё такая же, только ещё красивее». «Льстец! Идём гулять». Гуляли недолго, по пути свернули к ней домой, в общежитие квартирного типа. Настя делила комнату с однокурсницей, та очень вовремя уехала на чей-то день рождения или свадьбу. Хозяйка поставила на стол бутылку сухого вина, гость достал из сумки ещё одну коробку конфет.
Выпили по половине чашки. Настя встала и тронула его за плечо: «Помнишь, ходила к тебе в гости по воздуху?» «Помню, будто вчера». «И чем мы занимались? Всё жду, когда захочешь отомстить, взять реванш». Засмеялась и, как тогда, вытянула руки. Никакого реванша он брать не стал, легко поднял её, шагнул к кровати… Потом они долго не могли распрощаться, Настя даже проехала с ним до гостиницы, где остановились десятые классы. Некоторые из ребят узнали её, обрадовались, и все как-то сразу поняли, что между нею и Олегом произошло. Он вмиг стал знаменитостью, первым мужчиной в школе, и оставшийся год с небольшим только и отбивался от девчонок. Отбился, приехал в Питер, Настя ждала его. В финале они шли по летнему парку мимо родителей с колясками, играющих детей, и разница в возрасте, прежде столь значительная, была совсем не заметна. Ей двадцать четыре, ему девятнадцать – какая, в сущности, ерунда! И всё самое важное и интересное только начиналось.
Поставил точку, оглянулся. «Видишь, я пишу, думаю, расту, – мысленно сказал в пространство. – Возвращайся». Но её всё не было.
10– Надолго вы исчезли, – с улыбкой сказала моя знакомая во дворе.
– Работы полно, – отговорился я, вскоре снова исчез и за неполные два месяца вырастил ещё одну повесть. Теперь – от первого лица. Героя-рассказчика звали Саней, видел я в нём, естественно, себя, а у каждой из тринадцати героинь была какая-нибудь Танькина черта. Я всю её разобрал на части и раздарил этим девушкам: одной достались глаза, другой – манера смеяться, третьей – медицина, четвёртой – увлечение фотографией… И так далее, вплоть до способности перелезть любую гладкую стену, если удалось подпрыгнуть и схватиться за верх.
И все они летели к герою, как пчёлы к цветку, хотя что в нём могли найти? Цветочек был ещё тот. Он неприлично ругался и непомерно пьянствовал, за день выпивал больше водки, виски и текилы с джином, чем реальный я – за всю жизнь, исключая единственный вечер. Ещё он много блевал и мочился, придавая этим занятиям даже философский смысл. Таким образом, – рассуждал герой, покачиваясь, – из него необратимо вытекает чёртова сука жизнь. Вообще он любил это собачье словечко, в пространных внутренних монологах так именовал подруг, смеясь над жалкими попытками перевоспитать его, направить на истинный путь, или пожалеть, или восхититься мнимым талантом, или разнообразить за его счёт собственное существование, или мало ли что ещё сделать. Он и правда не завлекал их, не расставлял капканы, девчонок влекла к нему часто непонятная самим бедняжкам сила, и герой расправлялся с ними от души, обманывал, хамил, доводил до истерик, намеренно ссорил одну с другой и утверждал, что сами виноваты, он никому ничего не должен и никого не звал.
Иногда, правда, накатывало прозрение: «Что же мы творим?..» Тогда он поднимал взгляд, обращаясь к высшему судье: «Как же ты терпишь?! как допускаешь такой бедлам на прекрасной Земле, созданной для счастья!..» Ответа не ждал, но вдруг раздвигались тучи, в окне появлялась далёкая, чистая звезда, и всё было бы хорошо, но тут новая пчёлка, умеющая играть на ударных, летела к цветку на его многомесячный перегар, и Санёк, обречённо вздыхая, принимался за старое…
Обе рукописи хранятся в моём компьютере. Если вздумаю публиковать, начну со второй. Критика назовёт её искренней, честной, горькой, жёсткой, правдивой, больной, очень мужской, нежной, яростной, трогательной и пронзительной, непременно – пронзительной. Имена Генри Буковски и Чарльза Миллера всегда наготове. Успех, предполагаю, будет куда больший, чем у нынешнего повествования, где герой-десятиклассник даже ни разу не переспал с молоденькой училкой английского у неё в гостях или хотя бы в пустом спортзале на стопке матов под баскетбольной корзиной.
А если серьёзно, то как в первой книге я полуосознанно преследовал цель вернуть Таню, так, думаю, и во второй – разделаться с нею раз и навсегда, выдернуть из сердца и памяти со всеми корнями, и будь что будет…
Обе попытки провалились, оставалось надеяться на время и ждать.
11В декабре, в самый день солнцестояния, позвонила Лера.
– Привет. Ты из дома? – спросил я.
– Да. Я звонила туда, но…
– Сейчас наберу городской.
– Как твои результаты? – спросила она уже в стационарную трубку.
– Никак.
– У меня тоже, – вздохнула Лера.
Оказывается, она писала на бывший Танин адрес в Солнечное с просьбой к новым жильцам переслать письмо старым, если они знают куда. Новые жильцы не знали и вернули письмо по обратному адресу.
– Спасибо, – сказал я, – но ладно, пережил. За полгода можно всё пережить, я спокоен.
– Я, наверное, тоже, – ответила она.
По этому случаю мы решили встретиться и сходить куда-нибудь на моё усмотрение. Если бы я думал ухаживать, предпочёл бы театр, но Лера в моей душе занимала иное место, и я выбрал армянский ресторан. Давно хотел попробовать блюдо под названием тжвжик, да и к музыке Арно Бабаджаняна в последнее время пристрастился, с удивлением открыв целый мир, наполненный вовсе не одними песнями, хотя и песни гениальны.
Мы отлично провели вечер, выпили даже легендарного коньяку, я для разгона сто пятьдесят граммов, Лера – сто. Раскраснелась, стала одновременно разговорчивая и загадочная. И удивила: привык считать её как бы младшей Таниной сестрёнкой, а на самом деле – ровесница, аспирант педагогического института, будущий кандидат наук. Уже преподаёт студентам. К тому же красивая, большие синие глаза…
Добавили «Арарата» и так раскрепостились, что я принялся уверять: знакомства по объявлениям – бред и фигня, потому что люди пишут и читают их не от хорошей жизни. И возможного партнёра, пусть не всегда сознательно, прежде всего рассматривают как средство, болеутоляющее, возбуждающее или какое угодно. А это унизительно – видеть в человеке средство, – и, даже если поначалу отношения радуют, обида рано или поздно вылезет и всё испортит.
– Так что?.. По-твоему, знакомиться можно только весёленьким и счастливым? – спросила Лера.
– Нет, совсем нет. Но пусть это будет… случайно, что ли, когда ты на знакомство не нацелен и думаешь вообще о другом. Вот так вот – р-раз! Как бы из ниоткуда. И ты видишь, какой он есть, не искажённый ожиданиями, фантазиями…
Этот мой «р-раз!», чудом не опрокинувший бокалы, видимо, навёл Леру на собственные размышления, и она сказала: когда сходишь по ком-то с ума и не можешь открыться, понимая, что так не должно быть, остаётся перевести своё чувство в дружеские рамки, а это едва ли не труднее, чем просто забыть.
Тут Лера смутилась и не стала продолжать, а я больше не подливал изумительного напитка. Когда мы вышли на морозец, хрупкий и неустойчивый в этом году, она спросила, хотел бы я заглянуть в один из ближайших дней к Станиславу. Он живёт там же, снова работает переводчиком, только не военным, а литературным, и скучает по прежним временам.
Мы зашли к нему до Нового Года. Стас немного поседел, но в остальном не изменился, Ася не изменилась вовсе, такая же красивая и притворно негодующая по разным поводам. Из лестницы, ведущей на второй этаж, были вынуты почти все перекладины.
– Предосторожность, – объяснила Ася, кивнув на шустрого четырёхлетнего пацана, – вдруг не уследишь, заберётся, свалится. Мы и так залезем, если надо, но, чувствую, и он скоро начнёт…
Парня звали Лев Станиславович, и он поздоровался с нами на трёх языках.
В тот вечер я пригласил Леру к себе, обещав не приставать. Лера поколебалась и поехала. Мы долго разговаривали обо всём, кроме одного человека, решили посмотреть какой-нибудь фильм, и я включил «Пятый элемент», ещё не переведённый на русский. Примерно такой же была и новогодняя ночь, но я, помимо воли, уже присматривался к Лере другими глазами. Заметил, какая она фигуристая при всей хрупкости, каким крутым изгибом талия переходит в бёдра. Длинные пальцы, почти как Танины…
В следующую встречу она стала первым читателем оконченной повести об Олеге и Насте, похвалила и даже придумала название:
– «Городок на берегу». Хорошо?
– Мне нравится. Песня такая есть, уже забытая. Слышала?
Снова море качает звезду, Лодки пахнут, пахнут смолою…19Увлёкся, взял гитару, спел целиком.
– Слышала, помню, – сказала Лера, – с душой получается. Чувствую, ваш городок много для тебя значит. Хотела бы там побывать.
– Он, кажется, ещё закрыт. А вот Севастополь – открыт. И я давно задумал большую поездку в Крым, на месяц или полтора. Посетить места юности…
– Ой, прямо ископаемое! Где твоя вставная челюсть?
– …и узнать новое, потому что, когда там жил, многое под самым носом не видел. Намёк достаточно прозрачен?
– Я подумаю, – ответила Лера, но я уже понял: согласна.
12Мы готовились к поездке. Изучали возникновение полуострова с позднеюрских времён, когда он этаким вулканическим китом поднялся из моря, географию, растения и животных – удивительно, сколько редких и реликтовых. Историю народов, городов, сёл, дворцов, памятники культуры и природы от древности до наших дней. Жизнь великих людей, связанных с Крымом. Читали художественные книги, с особенным вниманием – такие, где он представал совсем не парадным: «Беглец» Николая Дубова, например. Встречались то у меня, то у неё в однокомнатной студии.
Придя к Лере в первый раз, я увидел на столе фотографию, снятую мною в Павловске: хозяйка в обнимку с Таней, и у обеих такие лица, будто вот-вот захохочут, больше не в силах сохранять важность. Помню, Лера тогда не выдержала секундой раньше…
Во второй раз этого снимка уже не было на виду.
Лера начала бегать и приседать, чтобы на горных тропах и скалистых берегах не отвлекаться на тяготы и полностью открыть себя красоте. Так она объяснила и с тех пор каждую неделю докладывала об успехах. «Сто раз вот с этими, – указывая на гантели в четыре килограмма, – неплохо, да, для вечной хилячки?» Здесь бы я поспорил: когда мы зашли к родителям Леры, она без видимых затруднений подняла свою одиннадцатилетнюю сестрицу над диваном вниз головой.
Мы смотрели карты, намечая маршрут, я сидел перед монитором на вращающемся стуле, Лера – на моей ноге, как миледи Винтер в седле. «Удобно, замечательно удобно…» Она же управляла мышкой, а мои руки, нашедшие было покой на её талии, вскоре стали отлучаться вверх и вниз, точно проверяя, многое ли она готова позволить. Однажды забрался под резинку брюк и почувствовал: готова позволить всё.
Что может выйти из этих встреч, мы не загадывали до того майского дня, когда Лера сказала, что беременна. В причал ударила волна, разбилась и взлетела облаком брызг, на мгновение закрыв горизонт. Когда они улеглись, я стоял в классической позе будущего отца, за спиной подружки, соединив ладони на её совершенно плоском животе. Как там оказался – не имею понятия. Её положение было невозможно определить извне, но голос звучал в голове, и новые брызги взлетали, сливаясь на ветру в необыкновенные картины.
– Давай оформим отношения, – сказал я.
– Неплохо бы оформить…
– А поездку отложим?
– Да сейчас! Я что, совсем немощная теперь? Инвалид?
13И через два месяца мы так же стояли на обрывистом берегу Тарханкута. Причудливые известняковые скалы, коричневые волны выгоревшей степи, чабрец, перекати-поле, жаркий, раскалённый ветер. Спускаемся. Ослепительная на солнце полоска пляжа, бирюзовая вода прозрачнее воздуха вдали становится синей, переходит в небо без чётких границ. Не хочется вылезать, но надо, иначе отрастут плавники. Решила стать дельфином? Ладно, давай ещё полчаса… Взгляд в профиль: заметно, заметно, в сарафане можно скрыть, но не в купальнике.
– Как необычно! – говорила Лера. – По фотографиям не поймёшь… Я завидую тем, кто здесь родился. Вы же инопланетяне! Чувствуешь себя инопланетянином?
– Разве что немного.
– Давай ходить пешком, обойдём все дороги!..
– Для этого надо приехать на год или купить здесь дом. Лучше держаться плана, пешие дороги отложим на юг.
– Как скажешь…
Мы не слишком твёрдо держались плана, но отходили от него недалеко. Приехали севастопольским поездом, в прицепных вагонах, идущих до Евпатории. Там, в заранее намеченной гостинице, устроили первую базу и обследовали всё, что расположено к северу. Калос Лимен, Донузлав, Джангуль – в названиях фантастически смешивались Запад и Восток. В Черноморском прошли мимо дома, где я когда-то жил, но подниматься и звонить в квартиру не стали. Вернувшись в Евпаторию, соблазнились организованной экскурсией в Симферополь. Отвык, Саня, не ожидал увидеть, до чего здесь всё маленькое, кривоватое, шершавое; любая блочная пятиэтажка, каких и в Питере полно, выглядит так, будто нарисована нетвёрдой детской рукой. Вблизи моря это ощущение скрадывалось. И архитектурный классицизм, в Петербурге нагоняющий на меня тоску, под этим небом выглядел живым, не оторванным от греческих корней.
– Я бы легко поверила, что он построен до нашей эры и так с тех пор стоит, – сказала Лера, проходя мимо медицинского университета.
– Здесь училась Танина мама, Виктория Александровна, – вспомнил я, – ты её знаешь?
– Заочно. Не видела, но Таня рассказывала…
Затем мы переехали в Севастополь, где дожидался Мексиканец.
– А здесь совсем другая планета, – изумлённо сказала Лера на мысе Айя, куда мы вместе с другой компанией пришли на яле из Балаклавы: четверо мужчин на вёслах, хозяин на руле и пассажирки: Лера, Оля Изурина и Регина, с которой познакомились три часа назад.
– Будет и третья, и четвёртая, – обещал я.
– И всё-таки вы наглые шовинисты! Я тоже хочу грести.
На обратном пути мы позволили ей сделать несколько символических гребков, затем хозяин шлюпки по очереди усадил девушек за руль.
За несколько дней мы облазали Севастополь; я временами оглядывался на улицах, не мелькнёт ли в толпе знакомое лицо Лены, для меня навсегда оставшейся Гончаренко, но не встретил. Затем двинулись через Бахчисарай и опять-таки Симферополь в направлении Феодосии, заехали в Керчь. Возвращались по Южному Берегу, многие участки проходя пешком. Тропа Грина, тропа Голицына, Боткинская тропа… Камни горячее, можжевельник и сосна протягивают дружеские руки. Ладонь Леры в моей на кручах и поворотах, небо и море в её глазах.
– Я сбилась со счёта, сколько здесь планет! – призналась Лера. – Чуть ли не за каждым мысом новая!..
В силу понятной причины она не могла оценить сокровища «Нового Света» и «Массандры», но мне разрешила.
– Мне кажется, он или она тоже всё видит, пусть и нашими глазами, – говорила она, взглядом указывая на живот. – Потрясающее начало жизни. И, знаешь, я не понимаю, во что здесь превращается время. Что с ним творится? Как будто пропадает вообще! Спроси меня, сколько тут путешествуем, сразу не скажу. Неделю, три месяца, один день?.. Загадка.
– А я не могу понять, какой бы мне Крым был ближе, как у Аксёнова или как здесь?
– Мне – как здесь, – без колебаний сказала Лера.
А я по-прежнему не мог понять.
14Пока мы гуляли, страна огорошила дефолтом. Я трижды благословил советы мудрых людей хранить сбережения в долларах – благодаря этой привычке не пострадал на бытовом уровне, но работать в ближайшие месяцы пришлось вдвое больше, чтобы только не потонуть. Лишь к зиме всё стало более или менее налаживаться.
С Лерой мы расписались в октябре. Оба не придавали значения формальностям, обошлись без торжеств и даже без особенных костюмов. Фамилию Лера оставила свою: Родионова. Единственной уступкой официозу стали кольца.
На девятом месяце Лера умудрялась ходить на лыжах, плавать и принципиально не знать, мальчика ждёт или девочку. Приметы говорили разное: «Судя по тому, как активно пинается, наверное, парень. Но пузо аккуратное, не слишком огромное, так что, может, и девица». Я достаточно изучил её, чтобы понимать, какое волнение скрывается за внешней беззаботностью, и сам старался не дёргаться лишний раз, но она тоже меня изучила.
– Хорош паниковать, не я первая, не я последняя, – сказала она в середине декабря, и через несколько дней мы в спешно вызванном такси под песни «Ночных Снайперов» помчались в роддом. Едва родив дочку, Лера тут же выбрала имя.
– Почему-то с первого взгляда сказала: Настя. Как будто она сама попросила. Может, так и оставим?
– Анастасия Александровна, – прикинул я на слух, – отлично, вообще прекрасно!
И не сразу подумал: может быть, она спешила, опасаясь, что предложу другое имя? Какое – не надо объяснять. Но нет, не предложил бы.
Лера оказалась замечательной мамой из тех, на кого посмотришь – и увидишь бесконечный праздник, конверт с розовым бантом, довольных бабушек и дедушек, здоровый аппетит, весёлые купания, тихий сон, кукол, альбомы с картинками, первые слова и шаги, яркие платьица, дни рождения в обществе подруг с такими же славными малышами: одна свеча на торте, две… Резей в животе, кашля, крика, бессонных ночей, синяков и ссадин будто и нет, хотя они тоже были, без них не обойдёшься. И неотступное, на грани страха, напряжённое внимание: как бы не ушиблась, не порезалась, не обожглась, не съела что-нибудь не то. Я помогал как мог, Лера даже сказала, что поражается моему терпению. А терпение, как и с учениками, было здесь ни при чём, это слово из другой энциклопедии.
Лера удивительно похорошела, и Настя растёт красивая, даже странно, что такая красивая – и похожа на меня. Раньше я думал, эти два качества несовместимы. Глаза у неё сначала были голубые, чуть позже потемнели, стали карими. Волосы тоже менялись от светло-русых до тёмно-каштановых. Они всё-таки светлее моих и немного вьются.
Очень крепенькая и подвижная, она побежала едва ли не раньше, чем пошла. Рано заговорила, и сразу – точными, осмысленными фразами с чудесной дикцией. Может быть, оттого что мы с самого рождения разговаривали с ней как с большой, рассказывали, читали, пели. Она уже в три месяца всё понимала, я видел по глазам, а дальше – тем более.
Но порою случалось так: беседуем в комнате, смотрим мультфильмы, складываем из кубиков слова, и всё как-то слишком хорошо. Обыкновенно, как бы ни было хорошо, в глубине всё-таки бродят отвлекающие мысли: что-то «форд» в последнее время греется… Или: жизнь идёт, когда же я наконец прославлюсь и стану знаменит?.. Даже не в виде слов, просто какими-то тенями. А здесь – полная безмятежность. Поневоле задумаюсь, откуда она, и поймаю себя на уверенности в том, что рядом – Танина дочь. Таня сейчас войдёт, скажет что-нибудь весёлое, Настя немедленно потребует взять её на руки, потом все вместе будем гулять… Опомнюсь, стряхну эти мысли, а на прогулке вновь кто-то шепчет: обернись, она рядом. У неё, наверное, тоже есть дочка или сын. Может быть, разом дочка и сын…
– Ты опять улетел, – сказала однажды Лера, – возвращайся.
– Нет, я здесь, всё в порядке.
– Ла-адно, – протянула она снисходительно, – будто я не вижу. Каждый день бываешь такой, всё-таки мало времени прошло. Я сама иногда…
– Что?
– Вспоминаю, – вздохнула Лера. – Редко, но удавалось зазвать её в гости, а Таня знаешь как уматывалась на учёбе. Коснётся головой подушки, и будто нет её, а я ещё долго не сплю, смотрю… чувствую себя бездельником и лоботрясом.
– И всё?
– Всё, а разве мало? Так что понимаю, вас-то связывает гораздо большее.
Это лишь один эпизод, бывали другие. Мы ещё год пытались всё удержать и исправить, но только ближе подходили к дружбе – с другой стороны. И наконец подошли. Лера встретила хорошего парня, месяц назад родила сына. Настя радуется брату, ладит с отчимом, но папой называет меня, мы часто видимся. С Лерой мы друзья навек, нас многое объединяет. Дочка, Крым. И Таня. До сих пор.
15Надо же было так затеряться на небольшой Земле. Почти восемь лет никаких следов, никаких известий. Я слышал, за этот срок мы обновляемся полностью. Не знаю, осталась ли во мне хоть одна клетка с того времени, когда видел Таню, разговаривал с нею, обнимал. И память сглаживается. Могу не вспоминать неделю, две, а если вспомню, то почти без волнения.
И всё-таки что-то осталось. Сегодня ездил подписывать договор с новым издательством, погода солнечная, обратно решил пройтись пешком. И где оказался? На том месте, откуда видно семь мостов: поворачивайся, считай, загадывай желание. Вспомнил, как стояла здесь Таня в те невероятные каникулы. Когда? Без малого полжизни назад. Ей не было семнадцати в тот день, а сегодня исполнилось тридцать два. По сути, детский возраст, всё только начинается. Я сам ещё далеко не постарел, могу поучить отжиматься любого двенадцатилетнего лыжника.
Не буду врать, что пришёл сюда нарочно. Задумался, ноги принесли.
Что мне загадать?.. Увидеть тебя ещё хоть раз? По-настоящему, не на фотографии.
Иногда встречаю Танины снимки в интернете. Снимки, где она фотограф и где модель. На портретах ей восемнадцать лет, двадцать, двадцать два… Ни одного, где было бы двадцать семь, тридцать. Конечно, она и в тридцать лет может выглядеть на двадцать два, но я просто знаю эти фотографии. Видел их напечатанные оригиналы.
Ни одного незнакомого, ни одного, который был бы изначально цифровым.
Интересно, как ты сейчас живёшь, Таня? И где? Может быть, здесь, рядом?
У меня всё налаживается. Снова пою песню, которую мы сочинили. До сих пор поддерживаю связь с Мариной, Мишей, Серёгой Изуриным, Светой и Вадимом. Они развелись через два года после поездки в Питер, у каждого своя семья, но сохранили добрые отношения.
Может, ты хотела бы их повидать, если уж не меня? Или вот Лерку?.. Она подпрыгнет выше Аю-Дага.
Когда-то я не искал Таню из гордости. Сейчас от неё даже пепла не осталось, время унесло. Наверное, мог бы найти родителей или двоюродную сестру, красотку с давнишнего пляжа. Хотя бы попробовать найти. Но не ищу. Хорошо Тане, она ничего не боится. А я боюсь услышать плохие новости. Прошлым, позапрошлым летом думал, вдруг её торопливость, желание всё успеть и узнать были вызваны предчувствием: впереди мало времени? Или за физическое совершенство, как морскому волку Джека Лондона, непременно надо платить? Или он расплатился за образ мыслей – а Тане тогда за что? Или всё это – дело случая?.. Пытался вспомнить, не замечал ли у неё признаков нездоровья перед расставанием. Бросил эти догадки. Не замечал. Она никогда не жаловалась на головную боль, как и на любую другую. У неё было идеальное зрение после всех студенческих перегрузок. У неё в двадцать четыре года ни один зуб не был тронут сверлом. Тогда не замечал, а выдумать задним числом можно что угодно. И, наверное, родители бы мне написали. А может, и писали, да я прозевал. Но, надеюсь, нет.
До сих пор уверен: всё самое лучшее в моей жизни происходит и ещё произойдёт благодаря тебе, Таня. Теперь – моё окончательное желание. Пусть любая из машин на набережной остановится, оттуда выйдешь ты и скажешь, как раньше: «Привет, Сашка, рада тебя видеть!» Почему-то не сомневаюсь, что сегодня так и будет. Вот подходящая Audi. Тормози.
И что тогда? Брошу всё, уйду к тебе, начну сначала? Вряд ли. Поговорим и разойдёмся? Не верю. Станем только друзьями? Не могу представить. Буду разрываться, как несчастный Максимов из «Романтиков»?..
А машины едут и едут, ни одна не остановилась. Пора бы мне понять, что ты никогда не придёшь. И записать, наконец, эту историю, так ясно звучащую в голове. Завтра начну, за остаток весны и лето должен справиться.
Но это завтра. А сейчас пойду домой, впервые за последние годы не торопясь, и по дороге буду думать о том, что человек, который в юности встретил тебя, просто не может не быть счастливым.
15 апреля 2005 года
Примечания
1
Черноморское – посёлок городского типа на северо-западе Крыма (п-ов Тарханкут). До 90-х годов прошлого века – база катеров Черноморского Флота. Там же, неподалёку, находится и знаменитый Тарханкутский маяк.
(обратно)2
«Арно», музыка Аркадия Хаславского, слова Владимира Попкова.
(обратно)3
Автор Умка (Анна Герасимова).
(обратно)4
Яхта юниорского класса длиной 420 см, отсюда и название.
(обратно)5
Именно четыре, а не пять. В десятый класс мы пошли после восьмого, бывшие девятиклассники перепрыгнули в одиннадцатый, семиклассники – в девятый, и так до самых младших.
(обратно)6
Ошибался, приношу запоздалые извинения. Помнят лично меня и остальных, да ещё как помнят!
(обратно)7
Краснознамённый Черноморский Флот. Или чулочная фабрика, если верить испытанным острякам.
(обратно)8
Морская миля – 1852 метра.
(обратно)9
Гауптвахты – то есть, места, где матросы отбывают разные мелкие наказания.
(обратно)10
Всё-таки выяснил: Апти Далхадов. Музыка Виктора Радзионтковского, слова Диомида Костюрина.
(обратно)11
Севастопольского Высшего Военно-Морского Инженерного Училища.
(обратно)12
Севастопольского Приборостроительного Института (СПИ). Или заборостроительного, если верить острякам, – потому что «принимает дубов, выпускает липу».
(обратно)13
Паспорта мы получали в шестнадцать лет.
(обратно)14
Контрольно-пропускные пункты.
(обратно)15
Сленговое название военного училища.
(обратно)16
Музыка А. Морозова, слова Ю. Бодрова.
(обратно)17
Музыка Р. Майорова, слова Т. Кузовлёвой.
(обратно)18
«Прикосновение любви», музыка А. Мажукова, слова Т. Кондратовой.
(обратно)19
Музыка В. Диденко, слова М. Танича.
(обратно)
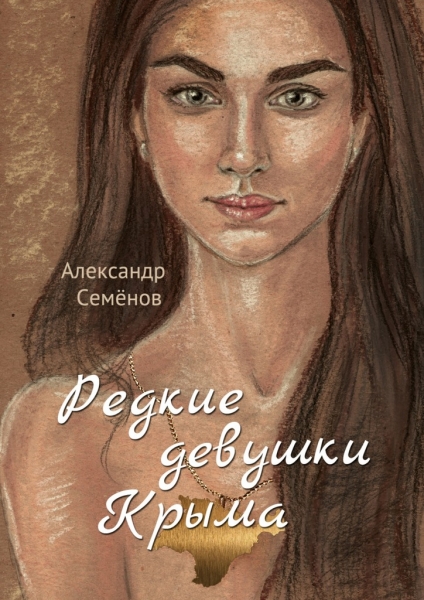

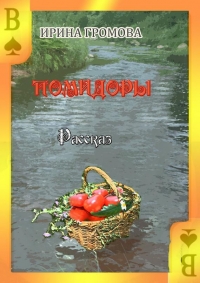







Комментарии к книге «Редкие девушки Крыма», Александр Юрьевич Семёнов
Всего 0 комментариев