Блонди Елена ДИСКОТЕКА. КНИГА 2
Посвящается Марии
Все события и персонажи вымышлены. Любое сходство с реальными событиями и именами случайно
Глава 1
— Не думай о секундах свысока… — бархатным голосом запел Кобзон, приглушенный закрытыми дверями.
Ленка вздохнула и встала с дивана, уселась за стол, раскладывая на нем тетрадь. Щелкнула кнопка, на пустые листы лег мягкий кружок света от лампы. Протянув руку, Ленка шевельнула штору, чтоб между полосатыми плоскостями прорезалась черная линия. Подумала, наверное, там, на улице виден совсем узкий кусочек комнаты, может быть, ее глаз и немножко светлых волос.
Представив себе это, снова тронула рукой штору, закрывая плотнее.
В спальне родителей заиграла бравурная заставка к программе «Время», и мама заходила по коридору, щелкая выключателями — туалет, ванная комната, кухня. Ленка скучно ждала, кусая кончик шариковой ручки.
— Лена? Ты идешь смотреть новости?
Мама заглянула, раскрывая дверь в комнату.
— Нет. Не хочу.
— Очень зря. И кино не стала. Что это с тобой?
— Три раза уже видела. Надоел.
— Ах, — Алла Дмитриевна прислонилась к дверному косяку, стягивая на талии пояс цветастого халата, — Штирлиц и вдруг надоел? А музыка, Лена, музыка какая! Не думай о секундах…
Ленка закатила глаза. Чиркнула ручкой в тетради.
— Мам, мне еще алгебру доделать.
— Делай, конечно, — в коридоре послышался бодрый голос диктора, и мама заторопилась, — ладно, началось. Могла бы и раньше доделать. И прибери ты свои патлы, Господи, видеть не могу!
Громко вздыхая, ушла, но дверь, как обычно, оставила открытой. Ленка подождала минуты две, встала, на цыпочках прошла к двери и тихонько закрыла. Чтоб не услышала мама, а то вернется, снова ее открывать. Выдвинула ящик стола, доставая из дальнего его конца тонкую тетрадочку. И положила поверх школьной. Открыла, листая густо исписанные страницы. И, опуская к листу голову, так что волосы свесились перепутанным домиком, стала быстро писать.
За белой крашеной дверью, на которой Ленка год назад нарисовала смешную мультяшную блондинку в сетчатых чулках и пронзительно-розовом платье, бормотались бодрые новости, и она знала, когда снова заиграет «Время, вперед!», мама выйдет в коридор, усядется боком на массивную подзеркальную тумбу и позвонит своей Ирочке, станет ей жаловаться на то, что скоро случится, и вообще на все. Пока она говорит по телефону, доставать не будет, и двери в ленкину комнату тоже открывать не будет.
…
— Лена! Лена, да сколько можно!
— Что? — Ленка дернула школьную тетрадку, бросая поверх исписанной, нацелила ручку и обернулась.
— Ты все еще делаешь свою алгебру? — мама подняла брови на блестящем лице, мизинцем вытерла уголок губ, где белели разводы крема, — уже одиннадцать почти!
— Как одиннадцать… — Ленка посмотрела на часики, что лежали рядом.
И правда, почти одиннадцать. А не заметила, кажется, только вот села.
Мама подошла, через ее голову осмотрела тетрадь с формулами. И возвращаясь, села на диван, сложила на коленях руки, тиская пальцы.
— Мне нужно с тобой поговорить. Серьезно.
Ленка повернулась и, повисая на спинке стула, кивнула серьезному блестящему лицу:
— Угу. Давай.
— Фу, какая ты грубиянка!
— Мам. Да что я сказала-то?
— Не что, а как. Как ты это сказала, слышала бы ты себя!
— Поговорить, мам, — напомнила Ленка.
— Да… — мама слегка растерянно оглянулась и вдруг всхлипнула, бережно прикладывая к нижним векам кончики пальцев.
Ленка вздохнула и подавила желание снова закатить глаза.
— Я совершенно, совершенно не понимаю, как это все будет! Через месяц приезжает папа. Уже через месяц. И сразу же следом приедет эта! Как я ее ненавижу! И что нам делать? Где она будет жить, где спать? В большой комнате? Там все наши вещи, шкаф. И вообще!
— Ну, пусть живет в маленькой, а вы с папой в большой.
— А как же… А кровать? Нам что, в гостиную волочить нашу кровать? Господи, какое горе!
— Мам, я правда, не знаю. Ты уже сто раз про это говорила. Ну, реши что-нибудь. Уже. И сделай. Я помогу.
— Что? Что сделать? — трагически воскликнула Алла Дмитриевна, снова сцепляя руки.
— Тогда не делай ничего. Еще два месяца почти. Папа приедет и подумаете. Куча времени. Может, еще что случится.
Алла Дмитриевна горько усмехнулась, поднимаясь с дивана.
— Да уж. Случится. У нас если и случается, то все не слава Богу. Ты вот просто убила меня. Съездила, называется, в спортивный лагерь.
Ленка все же закатила глаза, снова поворачиваясь к столу.
— Да! И что ты спину мне показываешь? Когда мать с тобой. О тебе! Да мне соседям в глаза стыдно. Тетя Римма вчера спрашивает, а что, Аллочка, твоя дочка в театральный собралась? Или в цирковое? А я стою! Не знаю, куда глаза. Девать!
— А ты обязана, что ли, ей говорить? — угрюмо отозвалась Ленка, — тоже мне, нашлась инспекторша.
— Причем тут ей? — возмутилась мама, — я о тебе сейчас. И хотя бы прибирала что ли, ну, косу какую заплети.
— Угу. И бантики.
— Это неприлично. Как… я и сказать не могу, ты как кто!
— Спокойной ночи, мам.
— Что?
Ленка повернулась, крепко держась за спинку стула белыми пальцами.
— Я сказала, спокойной ночи. Иди спать. И попей там своего корвалола.
— О-о-о, — ответила Алла Дмитриевна и вышла, коротко треснув дверью.
Ленка снова повисла на спинке стула, опуская руки, в одной — шариковая ручка.
Потом выпрямилась и слушая, как мама, возмущенно пройдясь по коридору, наконец, ушла в спальню, выдернула тетрадку. Положила и, не перечитывая написанное до этого, быстро зачиркала ручкой.
«Валик, черт, ну куда ты делся-то? Какой-то полный бред, так нельзя. После того, что у нас с тобой, и вдруг вот так! Я что, я совсем тебе не нужна? А говорил такие слова. Я понимаю, ты совсем еще пацан, но с другой стороны, как раз те которые старше, они могут и наврать. А ты, я думала ты настоящий. Даже если ты не можешь написать длинное письмо, то пару слов мог бы? Или позвонить. Как ты не понимаешь, что я жду! Дурак ты, Валик от пишущей машинки».
Она поставила жирную злую точку. И откинулась на спинку стула, разглядывая тетрадь. В глазах копились слезы, и было себя ужасно жалко, просто совсем жалко. Кончался январь. Ну, первая неделя, понятно, пока она вернулась, пока пережила войны и скандалы вокруг своей многострадальной новой головы, пока в школе начинали полугодие, заваливая их планами и заданиями, она и не волновалась особенно. Потому что «Ромашка» — «Ласточкой», но и они там учатся тоже. Да еще и лечатся. Потом примерно неделю она ждала его звонка. Обещал ведь! Или не обещал, Ленка никак не могла вспомнить точно, потому что в памяти осталось другое — как стояли за толстой сосной на остановке. Это осталось. Но все равно, мог бы! Правда, зная маму, она допускала, может, и звонил, а мама ей не сказала. Или он сам промолчал. Так что, когда поняла, звонка, скорее всего не будет, стала ждать письма. И сама написала, как договаривались, на адрес главной почты в Феодосии, до востребования, еще радовалась, дурында, что не маленький мальчик, смотается и сам заберет. Написала короткое, смешное, чтоб не расстраивать, о том, как тут все на ее новые волосы отреагировали, да пообещала потом написать уже большое, подробное. Я тебя еще заболтаю, Валик Панч, вот ответишь и готовься. Так написала. И стала ждать ответа, в уме подсчитывая дни и понимая, еще рано ждать. Ну, пусть неделю оно туда идет, и может, он не смог сразу поехать забрать. Десять дней. Допустим. А потом еще думал ответ. Писал. То есть, она отправила двадцатого, а сегодня — двадцать седьмое января. Может, он его не получил еще. Но все равно, мог бы просто написать ей сам! По сто раз выходить к почтовому ящику уже надоело.
Она перечитала написанное и закрыла тетрадку, не выдергивая листка. Поправилась мысленно, не надоело, конечно, просто, когда суешь ключик в скважину и после откидывается узкая дверка, целую секунду Ленка думает, вот сейчас в руки выпадет конверт. От него. А когда там только газета и журнал, так становится паршиво, хоть вешайся. Или те три раза, когда вынимала конверты, а они все были не от него.
Может быть, это и все, Ленка Малая?
Мысль пугала, и после нее становилось невыносимо на тетрадку даже смотреть, а не то, что перечитывать, чего там понаписала. Потому что все, что с ним связано, вдруг начинало болеть, очень сильно. Болело слово «Феодосия», и слово «Коктебель». И всякие там ромашки-ласточки-хамелеоны. И коты, которые ходили по двору за окном, закручивая цветные хвосты, тоже болели в Ленке, и она начинала думать, ну зачем мы так, зачем делали, чтоб всего было много? А еще радовалась, вот сколько успели. Теперь это все болит, куда ни посмотри, о чем ни подумай. Гена сказал, пройдет. Она пока не хочет, чтоб проходило, но мучиться так паршиво, а если снова считать дни, то получается она сто раз дура, и совсем не умеет терпеть. Еще рано отчаиваться и вообще все рано. А оно уже болит.
За полосатой шторой вдруг стукнуло, и Ленка подпрыгнула на стуле, поперхнувшись пересохшим горлом. Сердце заколотилось. Стукнуло снова, поцарапалось. И приглушенный стеклами голос позвал:
— Ленуся?
Вот черт… Выругавшись шепотом, Ленка вскочила, гася лампу, дернула штору и, вставая на цыпочки, приоткрыла форточку. Опираясь коленкой на стол, взлетела, прижимая горящее лицо к холодной щели.
— Пашка? Ты чокнулся совсем? Мотай отсюда!
Шипела, вытягиваясь и одновременно прислушиваясь, что там в коридоре, не вышла ли мама.
— Ленуся. А выйди, а? Или открой, на минутку я.
— Иди отсюда!
Пашка потоптался внизу, покашлял. И вдруг начал громким ясным голосом, сильно слышным в почти полуночной тишине двора:
— Лену-ся! Ма-ла…
— Замолчи! Щас выйду.
— Ага, — довольно сказал Пашка закрытой форточке.
Ленка прокралась к вешалке, путаясь руками, влезла в пальто. Прижимая пальцами звонкую защелку, открыла замок, тихо ковыряя ключом, заперла дверь, и вылетела по семи ступенькам вниз, к батарее, где уже стоял Пашка в расстегнутой куртке. Поймал ее, прижимая к теплому свитеру, тыкнулся в волосы свежим лицом, пахнущим морозным ветром и сигаретами.
— Опа! Привет!
— Не надо так, Паш. Ты домой свалишь, а мать мне все мозги проест.
— Почему? — удивился Пашка, укрывая ее краями куртки, — просто стоим же, не валяемся, водку не пьем.
— Через соседей неудобно, — процитировала Ленка, отпихивая его ладонями, — да не трогай.
— Я скучаю, — признался Пашка, — ты чего на дискарь не ходишь? Раз ищу — нету тебя, другой — опять нету. Нехорошо. Мне без тебя там грустно.
— Грустно? Ну и зашел бы узнать, а вдруг я тут в горячке. При смерти. А ты, видите ли, на танцах меня ждешь.
— Не. Я с балкона вижу, ты идешь, живая-здоровая. Красивая такая, вся блонди-блонди. Ну, думаю, сегодня Ленуся появится. А тебя нету.
— Не понимаю я вас, — сердито сказала Ленка, перестав трепыхаться под Пашкиной рукой, — если нету, сам бы и сделал чего, узнал как-то. А то все мы должны, да? Вокруг вас бегать.
— Ты сейчас про кого? — засмеялся Пашка, — эй, ау, я тут, пришел, в окно стучался, узнавать как-то. А ты не меня ждала, да? Колись, Ленка, влюбилась, что ли?
— Нет.
— Да!
— Нет!
— Сама кричишь вот.
— Я не кричу.
— Совсем ты пацанка, — задушевно сказал Пашка, — ничего спрятать не умеешь еще. Врать не умеешь. Врешь и все сразу наружу. Даже после винчика сегодняшнего я тебя раскусил. Влюби-илась. А он тебя бортанул. Теперь злишься.
— Ничего не бортанул, — рассвирепела Ленка, на этот раз выдираясь из теплых объятий, — чего ты лезешь, тоже мне психолог.
— Во-от, — закивал Пашка, — именно! И снова я тебе скажу, Ленушка, время идет, мы с тобой, видишь, сколько уже вместе! Сентябрь. Октябрь… Пять месяцев! А знакомы вообще почти год! И до сих пор в дружбу играем. Ну, чего ты не хочешь, а? А я тебя люблю.
— Чего? — удивилась Ленка, вглядываясь в неразличимое лицо с блестящими глазами.
— Ну, почти, — поправился Пашка, — наверное. Мне так кажется. По-своему. И снова скажу, нам с тобой будет, ну очень хорошо, зуб даю.
— Два, — машинально сказала Ленка, — Паш, мне пора уже, щас мать если застукает, то будет скандал. И не надо так больше ладно? Блин, так хорошо дружим, а ты все портишь. Не делай так, чтоб мать меня гнобила. Нам же обоим будет лучше.
— Давай поцелуемся. И я пойду, — согласился Пашка.
Ленка покачала головой, отступая. И он, опуская руки, расстроился.
— Та-ак, приехали. Ленуся влюбилась, точно. Ты хоть расскажи мне. Я друг, я имею право знать!
— Потом, — медленно ответила Ленка, обдумывая предложение, — может быть, потом расскажу, хорошо? Ну, попозже.
— Гололед кончится, поедем на море, хочешь? В Камыш поедем, там песок и снег, круто! И расскажешь. Смотри, обещала!
Он все же поймал ее, поворачивая к себе спиной, облапил через живот, целуя в макушку. И отпустил, тихо смеясь.
— Видишь, я даже не лезу. Я самый классный.
Дверь на улицу спела пружинами, хлопнула, гоня по голым ногам ледяной сквозняк.
Ленка, прокравшись в квартиру, расстелилась и легла, натягивая одеяло к самому подбородку. Хорошо бы сейчас закрыть глаза, увидеть Валика и думать, о них обоих. Ленка Малая и Валик Панч. Только непонятно, что думать. Если прошлое, то снова ноет сердце, да что за бред, наверное, она как мама, и что получается, значит, у мамы вот так же болит внутри, когда она волнуется? А если будущее думать, то опять двадцать пять — его нету. Остается мечтать, придумывая им сказку. А для сказок она уже взрослая, и когда придумывает сказку для двух живых, которые хотят быть вместе, то это получается, как доски на входе крест-накрест. Типа, вот вам детки сказочка, потому что ничего вам больше не будет.
— Фу, — горестно расстроилась Ленка, совершенно не понимая, что делать. И даже всяких бессовестных тайных мечтаний не хотелось ей с самого дня приезда, потому что и их никуда не воткнешь, ни в одну их реальностей, а мечтать о ком-то еще, например об Алене Делоне или том актере, что играл Виннету, и в Ленкиных мечтах когда она засыпала, превращался в Вову Индейца… О них она не хотела.
И она просто закрыла глаза, устав думать, но продолжая думать уже немного другое. Пашка сказал, расскажи мне. Фигушки, не станет она ему рассказывать о Панче. Но получается, здесь ей совершенно некому рассказать о нем. Получается, доктор Гена с его циничными усмешками и ледяными словами — единственный, кто мог ее выслушать и понять, пусть и наговорил потом такого, что Ленка бесилась и его почти ненавидела. А тут…
Рыбке такое не нужно, ей бы разобраться со своим Ганей, это раз. А во-вторых, совершенно понятно, она никак не поймет, что именно чувствует Ленка. К брату. Совсем пацану. Поворачиваясь и плотнее закутываясь в одеяло, Ленка представила себе недоумевающее Олино лицо, для которой эти вот неясности и тонкости, их не существует — Ленка немного понимает как у Рыбки устроена голова. Викочка — вообще не вариант. Взрослые? Еще лучше. Вернее, хуже. Наверное, ее понял бы Петя. Даже точно, понял бы. Хотя он тоже в ответ наговорил бы всякого нехорошего бреда, но зато бред был бы в тему. То есть, выслушал бы и возражал. И Ленке стало бы неприятно. Но они говорили бы именно об этом! А еще…
Она села, запуская пальцы в волосы. Ее понял бы Кинг. Почему-то она уверена в этом. Но тоже по-своему, и в ответ говорил бы свое, для Ленки опасное, и для их с Валиком будущего не сильно такое светлое и приятное. Зато говорил бы он именно об их будущем. Но с ним нельзя.
Вздыхая, она снова легла. Придется ей самой. В одиночку. Ну и ладно. У нее есть голова на плечах. Когда тоска отступает, жить как-то можно. И нужно жить. Вдруг завтра письмо, а она тут вся извелась и почти похоронилась.
Ленка вытянулась, поджимая пальцы на ногах и зевая до хруста в челюсти. Закрыла глаза. Ладно. Раз так, то и мечтать она пока станет о самом простом. Как завтра придет из школы, быстро возьмет ключик, и из ящика ей в руки выпадет конверт, с незнакомым почерком, она ведь и не знает, как он пишет. И там будут слова, от Панча — Ленке Малой. Смешные. Не как у всех. Или она придет, а мама ей говорит, Лена, тебе там письмо, я положила на полку. Странно, кто это тебе пишет… А она ей скажет…
В темном дворе гудел ветер, который принес, наконец, зиму, настоящую керченскую. И она заморозила голые тротуары, и голые деревья, сперва полив их стылым дождем. И теперь все как спрятано в стекло, даже усталая трава, даже тонкие веточки. Ноги в сапожках мерзнут, неудобно ходить, каблуки скользят. А на шею приходится накручивать старый шарф, он не сильно подходит, но на другой нету ниток, чтоб связать. И вообще, засыпала Ленка, видя перед глазами солнце и желтый песок, а еще — сухие стебли золотой травы, зачем зима, нам ее не нужно, мы сидим на палубе маленького катера, ветер горячий, веселый, шевелит черные волосы Панча, треплет Ленкину цветную юбку. Катер везет их на Остров, теперь это будет их место, навсегда. Ленка его забрала у Костромы, у девчонок, у всех, кто приезжает туда просто купаться и отдыхать, не весь, конечно, пусть отдыхают. Но есть тайное место, куда она однажды ушла совсем одна, там зеленая прозрачная вода, песок без краев и звонкий ветер. Там никто не найдет их, там они поставят сначала палатку, и будут в ней жить. По-настоящему. Как…
Она открыла глаза в сон. Улыбнулась внимательному лицу над своим лицом.
— Ле-на, Ма-ла-я, — сказали губы, совсем рядом.
И она, обнимая голые плечи, задохнулась от счастья. Потому что он был уже совсем не мальчишка четырнадцати лет, а вполне взрослый парень, щека кололась щетиной, и тело сильное такое, гибкое, впереплет с ее мягким.
Значит, я тоже взрослая, подумала она, принимая его поцелуй, такой — сладчайший, и я его старше, но совсем ненамного, ну ладно, мне двадцать да, например… а ему тогда…
Это было так здорово, и одновременно где-то внутри покалывало страхом, и что-то там в этом страхе пыталось сосчитать, а когда же это, сколько нужно ждать — до этого вот…
Но она заснула, радуясь тому, что заснула вовремя.
Глава 2
В комнате было совсем тихо и слышно, как за окном по жестяному подоконнику стукает дождь, скатываясь и шлепая о замороженную землю палисадника. Ленка удобнее села на диване, поджимая босые ноги под халат. Растрепывая пальцами, снова потянула нитку из старого свитера. Она нашла его у мамы в шкафу, валялся с рукавом, прогрызенным молью, и мама все хотела его выкинуть, но тут Ленка научилась вязать. Немножко. И сразу свитер забрала себе, распорола, и теперь, окуная пальцы в мисочку, где была намешана вода с уксусом, аккуратно тащила нитку, от времени и стирок вросшую в плотное свалявшееся полотно. Осматривая серые пушистые клубки с узелками, прикидывала, что выйдет, может быть, шапка, или лучше пусть нормальный длинный шарф, такой, как Олесе принесла мать, импортный, с золоченой лейбой у бахромы.
Из дальней комнаты мурлыкал телевизор, и там звякало и брякало — мама наводила порядок в серванте.
А еще, думала Ленка, стряхивая с пальцев капли и связывая нитку, пора проявить пленки, вот нужно вытащить Рыбку и Семки на улицу, чтоб дощелкать свою старую, которая заправлена в фотоаппарат, и все вместе проявить, чтоб не возиться с каждой пленкой отдельно. И сесть напечатать. Когда уезжала от Валика, то думала, сделает сразу. Но из-за этой дурацкой тоски испугалась, что будет еще больше тошно. И решила сначала дождаться от него хоть какой весточки. Чтоб все как-то подтвердилось, чтоб он снова стал реальным пацаном, а не просто ленкиным воспоминанием.
Звяканье стихло. В коридоре послышались мамины быстрые шаги.
— Лена? Леночка! А что мы с тобой сидим? Я подумала, у нас же месяц как кончился кредит! Ну?
У мамы волной лежали по плечам темные волосы, и на щеках горел румянец. Такая красивая влетела в комнату, что Ленка залюбовалась.
— Мам. А потом снова будешь страдать, да? И волноваться.
— Не буду! — заявила Алла Дмитриевна, становясь у окна и подцепляя рукой выгоревшую полосатую штору, — и потом, сколько можно экономить, должны же мы, иногда хоть! Как думаешь?
— Должны, — засмеялась Ленка, отпихивая клубки.
Такая мама ей нравилась. Хотя она знала, как будет дальше, когда каждый месяц придется отсчитывать из зарплаты пару червонцев, а покупки уже не будут новенькими, станут привычными, и мама станет громко причитать и Ленке тоже попадет не раз.
— Одевайся! Пока суббота, пока утро. Оформим в универмаге, купим постельное, новые шторы, так… что еще. Тебе отрез на платье, и мне на блузочку, там поплин завезли, в цветочек и клеточку меленькую такую. Может быть, тебе готовое платьице там померить?
— Нет, — поспешно отказалась Ленка, натягивая колготки, — ох, нет, не надо мне тех готовых.
— Я бы еще набор кастрюлек взяла, — мечтательно кричала из комнаты мама, тоже одеваясь, — но надо там посмотреть, сколько будем платить-то. И да, если нужно, звони своей Оле, может, ей тоже какой отрез на платье.
Ленка застегнула драповую юбку и побежала звонить Рыбке.
В почти пустом просторном универмаге все казалось немного серым от широких окон в серый промозглый день и от каменных скользких полов в мелкую серую крапку. Небыстро ходили из отдела в отдел черные и серые люди, скучно разглядывая привычные, годами не меняющиеся товары на прилавках и стойках. И мама, в распахнутом кримпленовом пальто, с волной темных волос из-под сбитого набок берета, произвела небольшое волнение, появляясь то у стола кредита, то в отделе постельного белья, то среди пирамид эмалированных кастрюль.
Ленка с Олей сразу уединились возле прилавка со штуками ткани и встали там мертво, щупая и откидывая концы, с тяжелым стуком переворачивая рулоны, прикладывая матерьяльчики к щеке, и разглядывая друг друга.
Под взволнованный мамин голос из-за невысокой стенки отдела выбрали, каждая по куску на платье, да еще выкопали в дальнем углу совершенно чудесный ситец в крупные розы, и Ленку соблазнил оранжевый штапель с белыми ромашками, и вдруг обнаружился поплин в смешные картинки с автомобилями и кусками газетных вырезок. Такой матерьяльчик у них так и назывался «газетка», был страшно ценим и уж никак не ждали девочки найти его в скучном универмаге.
— Наощупь он, конечно, не того, — расстроилась Ленка, комкая и отпуская край тощего рулончика, но Оля рассердилась, отпихивая ее плечом.
— Шо ты его мацаешь, Малая, тоже мне ощупь, не ощупь, кто тебя там будет щупать в нем?
— Мало ли, — резон возразила Ленка, — а то не щупают. Будут щупать.
— Наощупь нас, — согласилась Оля, — мац-мац, а ну девки, какие вы там наощупь.
— Щупь убери, — отрепетировала Ленка, — не выросла ишо щупь, вот как отрастишь, тогда и вертайся. Со шупью.
— Щупем, — поправила ее Рыбка, — не прогоняй тетенька, я тока вот пошшупать.
На смех из-за угла выскочила Алла Дмитриевна, подозрительно оглядывая веселящихся барышень и прижимая к животу свертки.
— Ну конечно. Как всегда. Выбрали хоть? Лена, берите кульки, и ждите там, в сувенирах. Сейчас я подпишу и вернусь.
Девочки нагрузились и, развивая тему про щупи и ощупи, повлеклись к выходу, где в сумрачном первом отделе торчала скучная продавщица на фоне пластмассовых обелисков и криво раскрашенных матрешек. Устроились сбоку, рядом с небрежно кинутыми через прилавок кружевными лифчиками с пластмассовыми пуговицами, как на казенных наволочках.
— У Котельниковой «анжелика», телесного цвета, прикинь, — мечтательно сказала Оля, цепляя суровую сатиновую лямку пальцем, — ей мать дала денег, на день рождения, думала, Наташка купит юбку там, или шапку вязаную. А она на толкучку рванула и все двадцать пять хоба — на лифон. Застежка спереди. И чашки с поролоном, сразу такие сиськи у нее. Мурка как увидела на уроке, чуть не упала под стол. И сказать же не может, боится, пацаны ржать начнут, а Натаха сидит скромная такая, сиськи торчат, аж платье трещит.
— Двадцать пять, нифига себе, — поразилась Ленка, — у матери получка, выходит, как раз на четыре лифона. Это ж сколько надо получать, чтоб таскать такие вещи.
— Угу. Котельникова теперь его нянчит, знаешь как. Стирает отдельно, сушит в полотенцах, на улицу не вешает, чтоб не сперли. Ты чего ржешь? Малая?
— Да я… Ой… прикинь, идет такая Котельникова и тут Зорро в маске, шпагу к горлу. Лифон или жизнь! Снимай, Котелок, поносила и хватит!
— Ага. И бедным его, бедным. Чтоб справедливость. Ыыыы…
— Аааа!
Продавщица вздрогнула и неодобрительно переместилась от полки с матрешками к полке с пластмассовыми эсминцами и аврорами.
Вдалеке уже шла Алла Дмитриевна, держа в руке кошелек и прижимая к боку еще свертки. А в стеклянные двери вошел Сережа Кинг, улыбнулся, поворачиваясь на смех. И кивнул, одобрительно оглядев ленкину белокурую голову.
Прошел дальше, на ходу разматывая пушистый шарф, такой же, как у Олеси, и так же сверкнула на бахроме золоченая квадратная латочка. Алла Дмитриевна сунула девочкам еще свертки, провожая глазами высокую фигуру с вольным разворотом плеч.
— Какой красивый мальчик. А что посмотрел, он вас знает, что ли?
— Нет, — быстро ответила Ленка, — не знает.
Мама проницательно оглядела копну светлых волос, закрывающую откинутый капюшон.
— Ну да. С твоей новой прической все парни на тебя смотрят. Ох, Лена…
— Мам, не начинай, а? Давай, мы унесем домой. Ты с нами?
Алла Дмитриевна посмотрела на часики, поднимая край жесткого рукава, покусала накрашенные губы.
— Если все заберете, я пожалуй, зайду к Веронике Петровне. Она на пенсию вышла, сто лет не видела ее. Спрошу, может что нужно. Ну и чаю попьем. Вы сегодня опять намылились на эту свою дискотеку?
— Нет, — доблестно сказала Оля Рыбка, — нет, Алла Дмитриевна, я хотела Лену в кино позвать. А там две серии. Ну, в общем, на пять часов сеанс и дома тогда аж получается в девять.
Алла Дмитриевна кивнула. Натягивая перчатки, осмотрела свертки, шевеля губами — считала, чтоб ничего не забыть.
— Молодцы, всегда бы так. Лена, тут вот паласик, мы с девочкой его туго свернули, так что подмышку, и это все — в сумку.
Она развернула тряпочную самодельную сумку изрядных размеров. Ленка уныло вздохнула, но по гололеду в руках не утащишь, так что вместе они запихали добро в сумку, и в вязаную авоську. И Алла Дмитриевна ушла, поднимая плечико с ридикюлем и оскальзываясь на ледяных потеках.
— Рыбка герой, — отметила Ленка, осторожно балансируя на скользком тротуаре, — отказалась от дискаря, чтоб отсидеть задницу на двух сериях хинди-руси. Что там хоть идет?
Оля пожала плечами, удобнее перехватывая паласик в рулончике.
— То ли слоны мои друзья, то ли месть и закон какой-то. Или мститель?
— Мстительные слоны? — предположила Ленка, — на автобус? Или пышек пожрем по дороге?
Оля не успела ответить. Сережа Кинг обогнал их, становясь рядом и подхватывая с Ленкиного плеча тряпочные ручки.
— Ого затоварились, красавицы. Привет, Леник-Оленик. Богатая будешь, я тебя за кинозвезду принял.
— Угу, — возразила Ленка и прокашлялась, а уши под капюшоном запылали. Кинг было такой весь нарядный, дорогой, благополучный, что ей показалось — ужасные пуговицы-колеса пришиты не к ее дурацкому клетчатому пальтишку, а сразу к животу, и каждую она чувствует.
— Пойдем, подброшу. А то растеряете свои сокровища.
На обочине ждал, тарахтя двигателем, ярко-синий жигуленок, весь в хромовых цацках. И за рулем маячил кто-то неузнанный. Пока девочки медлили, Кинг уже отошел, унося сумку. Засмеялся, оглядываясь и блестя крупными ровными зубами:
— Не боитесь, не украду. Мы все равно сейчас к базару едем.
В машине было тепло, негромко чирикало радио, водитель повернулся, свешивая руку с золотым перстнем-печаткой и осматривая скованно сидящих девочек.
— Это Димон, знакомьтесь. Шошанчика брателло. Ты помнишь Шошана, Леник? Фотограф.
Ленка кивнула.
— Вы особо в окна не мелькайте, — распорядился Кинг, вольно усаживаясь и глядя в окно на плывущие мимо стволы тополей, — не надо, чтоб вас в этой тачке видели. Ну, как дела, Леник-Оленик? Все сложилось хорошо?
— Да, — сказала Ленка. Слова про окна ей не слишком понравились, но куда деваться, уже сели, уже едут.
— И отлично. Экие вы обе беляночки. Как летние бабочки!
Он смеялся, поворачиваясь и любуясь. Димон смотрел в зеркало заднего вида, кивал, соглашаясь и скаля неровные зубы под тонкой ниткой серых усов. Был он похож на брата, но не такой толстый, хотя руки на баранке — пухлые, как пирожки, и шея в распахнутом вороте нейлоновой куртки садится складками, когда опускает голову. Ленке не понравился масляный взгляд его серых, как волосы и усы, глазок. И отвечать Кингу было вовсе нелегко, под этим масляным взглядом и настороженным вниманием едущей рядом Оли. У первой пятиэтажки она с облегчением замахала рукой:
— Тут вот. Не надо к дому, спасибо!
— Сидите, — распорядился Кинг, — у «серединки» тогда высажу.
— Так ты зайдешь, Серый? — спросил непонятное Димон, но Кинг махнул рукой, останавливая.
— Сиди, сейчас я барышням помогу.
Выгрузив сумку, авоську и рулончик паласика, Кинг поймал Ленкину руку, склонился, целуя и щекоча короткими усами. Отпустил и рассмеялся, когда Оля резво отпрыгнула, пряча свою руку за спину.
— Бегите. Оленик, позвони. Я буду ждать. Номер помнишь?
— Да, — сипло ответила Ленка.
Кинг покивал, глядя тепло и спокойно.
— Ты его там не раздавай никому. Да? Не нужно.
— Да что я, маленькая совсем.
Ленка сердито поправила сумку и пошла следом за Олей. Через десяток шагов оглянулась. Машина все так же стояла на углу, рядом с «серединкой». И Кинг все так же стоял, сунув руки в карманы кожаной куртки. Смотрел вслед. Ленка поежилась, кивнула еще раз, на всякий случай. И пошла быстрее. Она не видела другого — у лавочки следующего дома, скрытая путаницей кустов гибискуса, стояла Викочка Семки, пристально через ветки глядя то на Сережу Кинга, рядом с лакированным синим автомобилем. То на Ленку, со скинутым капюшоном и копнищей светлых волос, поднимаемых ледяным ветром.
А потом девочки сидели в темном зале, на последнем ряду, шептались, невнимательно следя за прыжками, драками, танцами и снова прыжками горячих индийских героев и их пышных смуглых возлюбленных. Рыбка, наклоняя бутылку, укладывала горлышко на краешек пластмассовой чашки и лила сухое вино.
— Наощупь, — шепнула Ленка ей в ухо, и Рыбка заржала, плеская на грязный пол.
Фильм все шел и шел, никак не кончался, и девочки утомились даже издеваться над сюжетом, чем они обычно увлеченно занимались, для чего и ходили смотреть индийские фильмы. И Ленка, замотав чашечку в платок и спрятав ее в сумку, призвала Рыбку к ответу.
— У меня жопа уже закаменела. Ты вообще чего меня притащила сюда?
— Поговорить. А на улице ж холодно.
— Так говори, — удивилась Ленка.
— Так орут же, — логично возразила Оля.
Ленка закатила глаза. Разумеется. А то что в индийском кино все время или орут или поют, этого Оля, конечно, не знала.
— О, — сказала Рыбка, — о! Пошли в кафетерий. Пока кино, там пусто же. Соку треснем. И расскажу.
А в Ленкином доме на пятом этаже у окна сидела Викочка, смотрела в черное стекло. Думала. И сильно обижалась. Она отказалась пойти в кино, когда Оля позвонила ей от Ленки. Потому что обидно. Пока она тут бегает за Валерой, который от нее шифруется, и который без перерыва звонит своей девушке, которая, осталась, откуда он там приехал-то… Эти две типа подруги катаются по городу на машине! С крутым Серегой Кингом. И конечно, Викочку не позвали. Семки можно позвать на индийское кино за сорок копеек. А кататься на жигуле с деловым пацаном, конечно, нет. Не заслужила. Мордой не вышла, значит.
В маленьком кафетерии кинотеатра было исключительно неуютно и серо, так, что Ленке казалось всякий раз, специально, что ли, так задумано, но зачем? Почему такие голые столы с серыми пластиковыми столешницами, и стулья с черными тонкими ногами, которые противно скрежещут по серому полу. Почему стоят они в середине серого зальчика, со всех сторон открытого, к двум лесенкам в пяток плоских ступеней, чтоб из зальчика сразу выходить в коридоры к кинозалам — голубому и розовому. Это они назывались так, а на деле тоже были в основном серыми со скучной на стене намалеванной полосой указанного цвета.
Вот тут, прикидывала Ленка, я бы стену задрапировала шторами, такими… разного цвета, и еще повесила бы поперек, каким-то смешным лабиринтиком. Столы к стенкам поближе, и на каждом — цветной фонарик в серединке. И ваза, пусть не с цветком, а например, с веточкой миндаля, если сейчас их набрать, они расцветут, хотя еще совсем зима. Всего-то пять веточек, по одной на стол. Посуда опять же…
Она взяла в руки граненый стакан с томатным соком, который Рыбка притащила от стойки, где торчала голова продавщицы в кружевной наколке на пышно начесанных волосах.
Оля подвинула к ней столовскую тарелку с голубой полосой.
— Пирожок, трескай. С картошкой. Чего кривишься? Нормальный пирожок, заклял немножко.
— Я худею. Вот думала, какую можно прикольную кафешку тут сделать. Если по уму.
Оля разломила пирожок, заглядывая в рыхлое тесто.
— Ну? И де та картошка, мне интересно? По уму, Малая, как раз нефиг за одну зарплату зря корячиться. Они и так ее получат. А за всякие прибамбасы кто им заплотит?
— Заплатиит, — наставительно поправила ее Ленка, тоже ломая пирожок и выгрызая серединку, — ну я так, прикинь, если бы такое кафе свое личное. И оно если классное, то будут люди идти, и заранее места заказывать. И чем лучше сделаешь, тем получается ж, больше заработаешь, так?
— Пф. И кто же тебе за это заплатит? Если оклад?
— Люди. Они и заплатят. Это же просто, Оль.
Рыбка положила обратно обкусанный пирожок. Выглотала полстакана красного густого сока. Вытирая руки платочком, покачала выбеленной головой.
— Это просто за границей, Лен, там как раз капитализм, и частные всякие заведения. Но тогда прикинь, ни пенсии, никакой защиты ж нет? А если никто не придет, а? Мы же учили, как там все разоряются.
— Угу. Они разоряются, но Кинг на толкучке продает почему-то джинсы Монтана и туфли итальянские. Оно откуда берется? Кто-то же их делает там? И кто-то носит. Покупает. Я папу спрашивала, тыщу раз. Ну там про нищих, что на каждом углу помирают, бастуют, про вопли и слезы, про детский рабский труд. Чего там еще нам Мартышка и Элина рассказывают-то.
— Ну? И что говорит папа?
Ленка пожала плечами, распахнула пальто, съезжая на неудобном стуле пониже и вытягивая ноги под стол.
— Смеется только. Ничего он не говорит, потому что в партии, и у него паспорт моряка. Начнет рассказывать, могут визу прикрыть. Будет ходить на буксирах в порту.
— Это он тебе, что ли, сказал такое?
— Нет. Это я слышала, мать по телефону шепотом своей Ирочке.
Оля отодвинула пустой стакан и, сложив на краю стола руки, сплела пальцы, наклоняясь ближе. С двух сторон из залов — голубого и розового вразнобой слышались пение, удары и крики, иногда сильнее, когда дежурная по залу тетка выходила, открывая двери.
— Малая, ты достала. В понедельник на первом уроке будешь политику разводить, вот уж Валечка ваша обрадуется. А у меня разговор.
— Давай, — разрешила Ленка, — я уся унимание.
— Короче. Я решила Гане дать.
Ленка дернулась, шаря под столом ногой и усаживаясь повыше. Напротив белело серьезное и очень спокойное лицо Оли Рыбки, и сплетенные на краю стола пальцы — тоже совсем белые.
— Я… — растерянно начала Ленка, хотела возмутиться или обругать подругу. Но как-то не получалось. Потому что — а за что? Ну да, они все еще ходят, как доктор Гена сказал «в девушках», и не потому что так уж себя к свадьбе берегут. Это вообще смешно, в наше время думать о невинности, чтоб до самой свадьбы. Свадьба вообще что-то такое, мифическое. То, что должно произойти после института и после работы по распределению. По идее, конечно. Это ж выходит, почти в тридцать? Просто, пока в школе, то хлопот полный рот, если начать заниматься сексом. Во-первых, нужен парень свой, постоянный. Чтоб только с ним. Потому что город маленький, а пацаны трепливые, как полные придурки. Это в кино только показывают, ах, этот не сгодился, надо попробовать с тем. Во французских комедиях. В Керчи не Франция, тут, если кто трепанет, мол, она уже не девочка, так задолбают приставаниями. Считается, если девка пилится, значит, обязана давать любому, кто подкатится. Ясно, дебилизм, но придется же это все выслушивать. Каждый день. А когда свой парень, то все нормально, у Рыбки в классе есть такие, два года уже встречаются и пилятся, конечно. И у Ленки в классе тоже. А еще вот Танюха Лемникова, которая пришла после восьмого из другой школы, у нее парень на стороне, учится в техникуме, но тоже — все знают, что она его девушка.
Так что, если парня нет, то нужно в полной тайне. Да еще знать, как не залететь. Уж лучше закончить школу и тогда уже: более-менее взрослые, свободы побольше. А тут, как-то не вязались у Ленки в голове их коричневые платья и черные фартуки с тем, что идешь куда-то после уроков, там раздеваешься и, голая, занимаешься совсем взрослым делом. Секс. Простыни, подушки. Или еще хуже — подъезд с теплой батареей, расстегнутые штаны, спущенные до коленей. Это значит, там, где они стоят с Пашкой Саничем, треплются и смеются, или ругаются, вернее, Ленка его ругает, а он ржет и тискает ее, как плюшевого медведя. И вдруг они там — со спущенными штанами. А сверху сосед с мусорным ведром. Фу…
Оля тоже так думает, они с Ленкой несколько раз вместе на эту тему смеялись. Но сейчас главная закавыка в том, что «свой парень» из Гани никакой. Никакущий. Не будет он с Олей встречаться, как нормальные пацаны. А будет она у него одна из десятка, и если б еще десяток этот был один. А то какую поймает, ту и трахнет. Или его заловит девка, и Ганя, конечно, не откажется. Певец, блин. Звезда эстрады.
— Ну? — требовательно спросила Оля, — ты что замолчала?
Ленка пожала плечами, собирая мысли. Подняла руку ладонью к Оле.
— Подожди. Я подумаю, я сейчас.
— Думай, — разрешила Оля, слегка воинственно, видимо приготовилась возражать, а пока не на что.
Вот, вспомнила вдруг Ленка важное, тоже от доктора Гены. Будешь, как цветок, раскрываться. Такую вот сказал глупость. Глупыми такими словами. Прямо тебе кино, куды там. Но…
— Оль. А зачем ты хочешь?
— Я его люблю, — торжественно сказала Рыбка, выпрямляясь. Тряхнула головой, белые прямые пряди рассыпались по кружевной пуховой косыночке на плечах. На впалых скулах запылал румянец.
— Угу. Ну, будете вы спать. И что? Ты ж понимаешь, да, насчет Лильки Звезды и насчет барышень вокруг Гани. Что изменится-то? Давай, честно.
Оля подумала, опуская глаза к пустому стакану. Снова подняла их на Ленку.
— Ну… Он тогда поймет, что я его люблю на самом деле. А то не верит же.
— Это он тебе сказал так?
В ответ на Олин кивок Ленка разозлилась.
— А то не знаешь, они все это говорят! Ах, не даешь, значит, не любишь. Дай и поверю. Оля, блин! Мы это проходили еще в пятнадцать лет! Это не причина! Ну ладно, допустим. Поверил он, за сердце схватился, о-о-о, Рыбища мене любит, аж дала! И дальше что? Тебе что?
— Я не знала, что ты такая эгоистка, — скорбно возразила Рыбка, — это же любовь, але, Малая? При чем тут я, мне? Когда любишь, то надо так, что ему было хорошо!
— А мне кажется, надо чтоб обеим. Обоим. Ну и мне кажется, нужно ж хотеть секса.
— Чего? — удивилась Оля, откидываясь на спинку стула, — хотеть? Ты с дуба упала, Ленк? Кто ж его хочет?
Со стороны розового зала заиграла бравурная музыка, громко и победительно запели главные герои, захлопали деревянные сиденья и поднялся шум, постепенно стихая — народ уходил в другой выход, удаляясь от кафетерия. Оля сидела с таким уверенным на лице удивлением, что Ленка смешалась и покраснела, маясь тем, что снова сморозила глупость, кажется изрядную. Как цветок, ага…
И одновременно ужасно сильная пришла тоска, уколола под ребра, как укусила, из-за этого вот «с дуба упала», которое они с Валиком говорили друг другу. И следом — память о сне, в котором плеск воды, провисающие реденькие стенки палатки и он, голый, таким приснился. И тот поцелуй, во сне, совсем не такой, как их единственный, в жизни. Но это ведь сон.
— Ленк, надо идти, уже девять. Слушай. Ты кино и жизнь не путай, поняла? А то, как лопух последний, веришь всякой ерунде. Любовь есть, да. А вот это вот, ах, и покатились валяться голые, это все сказки. Для красоты. На самом деле мужик хочет, баба дает. И тогда у них может что-то получиться. Ну там встречаются. Или семья там, дети. Или вот, как я хочу, пусть знает, что я его люблю совсем. И будет делать, что хочет, но будет это знать. Ну, я не могу сказать яснее.
Она поднялась, застегивая пальто и накидывая косынку на волосы. Ленка тоже встала, вешая на плечо сумочку. Спускаясь по плоским ступеням в вестибюль, спросила негромко, тыкаясь к уху идущей ниже Рыбки:
— И когда? Прям вот вот щас?
Та пожала плечами.
— Ну… ну, может на восьмое марта. Он меня пригласил. В кабак. И в гости. Чего ты бормочешь там?
— Хорошо не двадцать третье февраля хоть. День советской армии. Отечество защищать…
— Тю на тебя, Малая!
Глава 3
Иногда случался совершенно восхитительный вечер, весь из теплого синего света, мягкий, как кошачия лапка, и после тишайшей ночи из лапки этой вдруг вынимались острые когти ледяного ветра, и попробуй спрячься от него. Негде. Хорошо в такой день остаться дома, думала Ленка, спотыкаясь каблуками на замороженной комками глине — после недавних унылых дождей, но дома сидит мама в отгулах, да и тошно там, потому что одно и то же вокруг, привычное до сведенных скул.
Скорее бы уже тепло, скорее бы прошел дурацкий февраль, в котором радости всего-то две штуки — Олин день рождения, да ее — Ленкин. Оля февраль почти начинала, празднуя десятого числа, а Ленка заканчивала, в аккурат двадцать восьмого. И разница в две недели была у них предметом дежурных шуток. Правда, сама Оля свой день праздником никак не считала, и вечно из года в год, сколько были они знакомы, десятого числа у нее то ссора с родителями, то непонятки с сестрами, или просто — настроение жуткое. Ленку это удивляло. Ну да, зима, самая такая паршивая, с ледяными ветрами, зимними стылыми дождями или скудным колючим снежком. Но ведь единственный день в году, который принадлежит только тебе. Твой день. Значит, хоть этим февраль становится лучше, а лето и весна — там и без именин полно всяких радостей.
— Чего будешь делать, десятого? — спросила Ленка в автобусе, качаясь рядом с Олей в душной толпе, вперемешку горячей и стылой.
Оля пожала плечами. Сказала привычное:
— Та…
Ленка терпеливо ждала. Через четыре остановки вышли, и, наклоняя головы, отворачивая лица от укусов ветра, быстро пошли к тяжелым дверям под бетонным козырьком.
— Пленку, — спохватилась Ленка, — надо пленку дощелкать, чтоб проявить. Рыбища, не падай духом, мы с тебя кинозвезду сделаем, хочешь? На улицу не пойдем, в хате пощелкаем. Со вспышкой. Портреты! Клево будет.
— Та, — раздумчиво ответила Оля, открывая дверь и стряхивая с рукавов белую мокрую слякоть, — ну…
— Надо только подумать, где. А то на всех фотках мой диван и ковер с тиграми.
Они ушли в самый дальний угол гардероба, выискивая вешалку поуютнее. Повесили пальто и теперь шарили в карманах, вынимая мелочь, чтоб ее не вытащил кто-нибудь другой.
— У меня нельзя, — сказала Рыбка, — батя возбухать начнет, ну его. Викочку давай раскрутим. Она чето дуется снова. На нас.
— Не Викочка, а сто рублей убытку, — согласилась Ленка, — надо ее вытащить на дискотеку, мы видишь какие стали учоные деффки, с нового года что, два раза всего и были?
Оля покивала. И не стала, как Ленка опасалась, упрекать ее в том, что не поддерживала компанию. Дискотечные вечера для обеих отошли на второй план, из-за парней, мысленно усмехнулась Ленка, поднимаясь следом за Олей по лестнице и мелькая в зеркалах светлой копной волос. Вот только ее подруга не знает, что Ленка имела глупость влюбиться в мальчишку, совсем зеленого, да еще и брата. Нет уж, никому она об этом не расскажет, обойдутся. Ленка представила, как изменится у Оли лицо, и она посмотрит с выжидательным удивлением, требуя объяснений.
— Кто с Викусей поговорит? — спросила Оля и закричала в раскрытые двери кабинета, — Настя, я щас, место держи мне!
— У них сегодня УПК, я позвоню ей вечером, — Ленка помахала рукой и побежала в другой конец коридора, где за фанерной перегородкой орали и бесились пацаны, готовясь к уроку военной подготовки.
От Панча так и не было никаких известий. И Ленка совсем потерялась, не зная, как быть. Если бы не это вот — брат, младший, она, наверное, набралась бы терпения и просто ждала дальше. Ну мало ли, подумала бы умная Ленка, мало ли, что там у него. Одновременно понимая, что скорее всего маялась бы еще сильнее, ревновала бы. Там тоже девчонки. А он красивый. Но тогда она хотя бы знала, как себя вести, пусть глупо, но как то бывает: влюбленная дурочка, ревнует своего парня, может обидеться, наброситься с упреками. А тут совсем все непонятно. Было такое ощущение, что с каждым днем прошлое неумолимо утекает, волной, которая уходит от берега. И чтоб все вернулось, нужно новое. Телефонный разговор. Или письмо. Хоть что-то кроме памяти, которая все меняет, постоянно. То Ленке кажется, что оба они чувствуют одно и то же. А на другой день думает с раскаянием, он же совсем мальчишка, наверное, просто живет себе дальше, смеется, учится, ходит на свои процедуры и мечтает выздороветь. И тут она, здрасти-здрасти, ах мой драгоценный братишка, как ты там, это я, Ленка Малая. Ле-на. Ма-ла-я.
Ложась, она слышала его голос, сердце сначала замирало сладко, пробуя каждый слог, будто катая по языку леденец, и вдруг сильно кололо, так что она вздрагивала, недоумевая и злясь. А потом острое стало проходить, оставляя взамен виноватую и мягкую печаль. Ленка винила себя за то, что внутри все происходит так быстро и сильно. Настолько сильно, что пришлось самой отталкивать недавнее прошлое, пусть оно уходит, дальше во времени, не мучает ее.
— Дурак ты, Валик Панч, — шептала, садясь в постели, и слушая, как недоуменно отзываются пружины в животе старого дивана, — что ж ты такой дурак? Ну два слова, по телефону. Или письмо, маленькое. И я буду просто жить дальше, знать, ты там есть и меня не забыл.
И падала навзничь, кусая губы. Хотелось заплакать, но глаза были сухими, будто в них песок.
— Каткова! — ворвался в уши скрипучий голос Кочерги, и все крики примолкли, а Ленка, очнувшись, подняла голову, придерживая рукой дипломат на подоконнике.
— Вместе с патлами ты себе и уши… это…
— Выбелила, — подсказал за квадратной спиной Саня Андросов и присел, отпрыгивая в сторону, когда Кочерга резко обернулась.
Но у завуча было более важное дело, чем ругать Саньку, и она снова уставилась на Ленкины волосы и распахнутую военную рубашечку.
Девочки любили уроки начальной военной подготовки, потому что в эти дни положено было приходить не в скучных коричневых платьях, а в юбках и рубашках цвета хаки, и под рубашки они надевали всякие блузочки и майки, чтоб на переменках покрасоваться, не застегивая зеленых пуговиц.
Ленка вздохнула и подняла было руки — застегнуть рубашку. Но лицо мерзкой тетки было полно такой ненависти, что она передумала.
— Вам чего, Инесса Михална? — спросила ласково, поправляя волосы.
— Рас… рас…пустила тут! — задохнулась Кочерга, бесцельно водя по бокам короткими ручками и сжимая корявые кулачки, — как… как… девка какая…
— Начнется урок, я застегнусь, — безмятежно ответила Ленка, а внутри уже все привычно мелко тряслось, — и галстук надену, и булавочкой пришпилю. Вопросы есть?
— Тебе! — заорала Кочерга, — тебе вот! Экзамены! Выпускной! А ты, у-у-у, вырядилась, и патлы твои!
Звонок на полминуты заглушил вопли. Ленка молча смотрела на багровое лицо и открытый рот. Удивительное, конечно, дело. Когда она пришла в школу после каникул, то на каждом уроке, от каждого учителя выслушала всякое. И все про бедную свою башку нового цвета. На первых двух уроках ей еще хотелось встать и крикнуть в ответ, эй, очнитесь, я ведь все та же Лена Каткова, и под этими белыми волосами те же мои мозги, нормальные, между прочим, мозги, которые вашу школьную программу вполсилы щелкают. А дальше уже и не хотелось. Было в Ленке с самого сопливого детства тяжелое такое упрямство, из-за которого мама в ошеломлении качала головой и разводила руками, после бесполезных попыток Ленку наказать.
— Да что ж ты за чучмек такой! — орала мама, хватаясь за темные пряди и качая головой, — нож дать, так и зарежешься, небось?
— Нет, — мрачно отвечала Ленка, — в окно выпрыгну.
Так это говорила, что мама верила и уходила, треснув дверью.
Учителя этого не знали, так что попытки надавить, нажать и заставить продолжались до сих пор, и как всегда, ничем хорошим не кончались.
— Вы все? — спросила она, когда звонок замолчал, и следом замолчала Кочерга, набирая воздуха для нового вопля, — я пойду, у нас урок.
Застегнула рубашку, подтянула черный галстучек и вошла, сильно хлопнув дверью. Быстро прошла к столу, на котором уже лежали приготовленные автоматы, бросила на пол дипломат. Взяла один, щелкнула затвором, готовясь разбирать на время.
— Ахтунг, — негромко сказал Саня Андросов, держа другой автомат. И подмигнул.
Ленка не выдержала и засмеялась. Военрук, согнув большую руку в испачканном мелом рукаве кителя, уставился на часы, дал отмашку другой рукой. И Ленка защелкала деталями, особо не торопясь, Саньку никто все равно обогнать не мог.
Следующим уроком была литература, и Элина снова, а Ленка подивилась, и не надоест же ей, взрослой и неглупой вроде тетке, выразительно закатила глаза, оглядывая копну золотисто-белых волос.
— Ах, Каткова Елена… Ты бы хоть косы, что ли, заплела. Для приличия.
— А что, так неприлично? Мне одной заплести, или пусть (Ленка оглянулась на девочек) все остальные тоже заплетут?
— У остальных на головах нет такого безобразия, Каткова.
— Могу принести детские фотографии, Элина Давыдовна, — предложила Ленка, раскрывая тетрадь и укладывая на парту учебник, — у меня там волосы точно такого же цвета. И как меня только в детсаду терпели.
— Дневник, — металлическим голосом сказала Элина, — двойка за поведение на уроке.
Ленка пожала плечами и встала, подошла к учительскому столу, кладя на него раскрытый дневник. Элина покусала тонкие, ярко накрашенные губы. Положила руку на желтоватые страницы. И злым ясным, наигранно утомленным голосом спросила, выводя жирную двойку, такого же цвета, как помада:
— У тебя что, Кат-ко-ва, месячные в полном разгаре?
Класс за Ленкиной спиной грохнул, веселясь. Ничего не видя, она дернула дневник из-под руки, вернулась, подхватывая учебник, подняла дипломат и еле успела прижать замок, с ужасом представив, как он раскроется, выбрасывая на пол книжки и тетради, и ей придется на корточках все собирать. Но обошлось, и, прижимая его к себе, быстро вышла, застучала каблуками по коридору к лестнице. В зеркале мелькнуло кривое лицо с темными глазами, пролетели волосы и воротничок рубашки.
— Эй, Каток! Ленка!
Санька Андросов догнал, тяжело и быстро топая, пошел рядом по ступеням, толкая ее плечом.
— Ты ебнулась, да? Чего с тобой блин? Они же тебя в жопу загонят теперь, тоже мне ленин на броневике.
— А пусть, — сказала Ленка, стуча каблуками, — брошу на хуй.
— Ого, — Санька коротко хохотнул, — наша Каток матом ругается. Довели до ручки. Короче, ты это. Не припухай. Скажу Олеське, она отмажет, наврет, медпункт закрыт, а у тебя пузо прихватило. Поняла? Если что, завтра так и говори. Пирожков несвежих обожралась. Тебя простят, ты ж отличница.
— Спасибо, Сань.
— Та иди уже.
Ленка замедлила шаги. Вот ему она и сказала бы, наверное. Про Панча, и вообще. Но Санька остался, не пошел вниз, стоял, сунув руки в карманы, смотрел сверху. И она поняла, для него она та же самая Ленка Каток, это неясно хорошо или плохо, он все равно любит свою Олесю и ленкины новые волосы не сделали ее лучше. Но и хуже не сделали, напомнила она себе. И кивнув, ушла в гардероб, влезла в клетчатое некрасивое пальтишко. И потом, он нужен ли ей? Конечно, нет, вернее, не так, как мечталось раньше, когда дежурно влюблялась в Саньку каждый сентябрь, будто она Викочка Семки со своими регулярными новыми влюбленностями. Другое нужно было, чтоб как друг. Выслушал.
Она бежала, забыв накинуть капюшон, не к остановке, та как раз под окнами кабинета литературы. А в сторону стадиона, проскочить дорожку, мостик, и пойти дальше пешком, потому что домой рано, еще четыре часа где-то надо болтаться, или придется врать маме, а что соврешь с такой перекошенной рожей.
За спиной посигналили, Пашкин голос с веселым раздражением прокричал:
— Ленуся, блин, ты совсем глухая?
— Паша!
Она взлетела к открытой дверце, бухнулась на сиденье, теплое и пружинистое, сунула вниз дипломат, а Пашка уже дергал свой грузовичок, рычал и взревывал, давя педали, двигая ручку скоростей с черным круглым набалдашником.
— Фу… как хорошо, что ты ехал.
— Так у меня гараж тут. С нового года ставлю своего динозавра. Нормально, до дома десять минут, бегом если. И дежурка всю ночь открыта, можно хоть утром машину ставить. Гуляй не хочу.
Пашка засмеялся, глядя вперед, сморщил ровный короткий нос. Отнял одну руку и положил ее на ленкино колено.
— Школьница! Блин, я везу школьницу, Ленуся. Кайф такой. Еще бантики тебе.
— Фу. Замолчи. А то выкинусь нафиг на дорогу.
— Чего? — он кричал, чтоб перекричать рев мотора, смеялся, убирал руку и тут же снова трогал Ленкино колено. В кабине крепко пахло бензином, сигаретами и старой кожей.
— Ты куда едешь? Можно с тобой?
— Я в рыбколхоз, на Сипягино. Потом в Камыш. Но это долго, Ленуська, часа три придется кататься. И в кабине сидеть, пока я там с накладными.
— Вот! Отлично. Давай часа три. Как раз. Я посижу.
Когда Пашка подвез Ленку к автовокзалу, уже темнело, зажигались в жиденьких сумерках сочные желтые фонари. Поворочавшись, он схватил ее руку, притягивая к себе через круглый набалдашник ручки скоростей.
— Ты теперь просто обязана меня поцеловать, Ленуся. Сама. За то, что я такой прекрасный.
Ленка фыркнула, вывертываясь и отбирая руку.
— Паш, ну перестань. Пожалуйста. У меня и так день через задницу, что там дома еще…
— Ленуся, обижусь. Ну, ты мне сколько будешь голову крутить? Я жду-жду тебя.
— Господи, как тебе не надоест, а? Мне что, прятаться, если ты едешь или идешь? Значит, если три слова сказали, друг другу, я тебе уже голову кручу?
— Ладно, иди уже, — печально сказал Пашка. И вдогонку добавил скандально, — но я все равно обижаюсь, поняла? И жду! Ты обещала!
— Да, — кивнула Ленка, — да-да, пока.
И побежала, осторожно ставя ноги, и всматриваясь в блестящие загогулины тропинок и дорожек. Уже почти вечер! Вдруг там письмо? А она катается с настырным Пашкой, у которого гвоздь в голове — уложить, наконец, Ленусю в койку. Может он, и правда, ее любит? Никакой другой парень не стал бы так долго возиться, девчонок вокруг полно. У него есть красивые, не то что Ленка. Странные у них отношения. Наверное, если так, то дружить дальше нельзя, он ведь ждет и надеется на другое.
Возле Викочкиного подъезда Ленка подумала и решительно вошла, застучала каблуками по лестнице на пятый этаж.
… Она Пашку вполне понимает. Ему двадцать три. Взрослый парень, не будет он крутить с малолеткой, с которой только в кино позажиматься и на лавочке посидеть. Честно говорит, что ему нужна девушка — встречаться. Одна девушка, чтоб быть постоянно с ней. Спать с ней. Гулять. Ходить на дискарь, в гости. Ездить на море. Прекрасные отношения. Были бы. Если бы любовь. Ну, почему все так криво и косо в жизни?
На Ленкин звонок внутри квартиры зашебуршилось, кто-то затемнил глазом стеклянный кругляш. Щелкнул замок, за ним другой, за ним скрежетнула щеколда.
— Заходи, — вполголоса сказала Семки, не включая свет в прихожей. И заорала в сторону кухонной двери:
— Да это Лена, мам. Мы у меня посидим.
— Телефон принеси, — шепнула Ленка, разуваясь.
Викочка кивнула. И через минуту вошла в комнату, таща белый квадратный аппарат, с которого свисала трубка, пикая короткими гудками.
Ленка кивнула, принимая его. Поставила рядом на тахту, поверх скинутого пальтишка.
— Викуся, есть план. У меня там двадцать аж кадров. Хочешь, завтра поснимаемся? У тебя. Я тряпок притащу, будет клево.
Викочка опустила голову, поблескивая гладкой макушкой. Подняла снова.
— У меня тональный кончился. А нету в «Нарциссе» такого.
— А не надо. Тебе очень идут твои конопушки.
— Угу. Ну да, — по унылому лицу видно было — не верит.
Но Ленка не врала, треугольное личико Семки, похожее на мордочку песчаной ящерки, конопушки делали особенным, так ей казалось. Убери и будет просто белый треугольник, никакой. Потому улыбнулась и покивала уверенно.
— Я тебе говорю! Семачки, я тушь принесу и ту свою помаду. Для снимков надо особенное, понимаешь? Не такое, как в жизни. Давай попробуем! Вот я в Коктебеле снимала…
— Кого?
Ленка махнула рукой, устраивая телефон на коленях и набирая номер.
— Так. Потом расскажу. Щас я матери скажу, что у тебя. Завтра, да? Давай завтра после школы. Мам? Мам, я тут у Вики. Скоро да. Мне? Да!
Сунула телефон на тахту и вскочила, кидаясь к двери. Викочка побежала следом, теряя тапочек.
— Да погодь! Когда завтра-то? Куда рванула? Пальто, Малая!
— Да, — сказала Ленка, хватая пальто, и через охапку суя ноги в невидимые сапоги, — я быстро. Мне пора. Завтра. Да.
Мама открыла ей, с удивлением глядя.
— Бежала, что ли? Блины будешь? Я тут…
— Где письмо, мам?
— На столе, у тебя. Лена, это от кого? Там город не разобрать толком. Каменск, что ли, какой-то.
Ленка уже вертела конверт, цепляла ногтем клапан, стараясь не порвать по адресу, ведь нужно будет писать ответ, а он вдруг не написал внутри…
И уставилась в листочек, исписанный мелким аккуратным почерком. С подступающей глухой тоской перевернула, читая подпись.
«Целую, Василий.»
И ниже знакомая ей размашистая роспись — Костромин. С парой завитушек.
— Лена, от кого? Ты что молчишь?
Ленка и хотела бы сказать, но голос не слушался. Поняла с испугом, откроет рот и сразу разревется. Из-за Элины и Кочерги, из-за Санькиного «скажу Олесе, она…», из-за дурака Пашки, с его обидами. И вот — вместо письма от Панча, такого нужного, до боли в животе, письмо от Костромы…
Она кашлянула и ушла, держа конверт и письмо в руке. Закрылась в ванной и включила воду. Села на холодный табуретик, низенький, положила подбородок на край ванны. И, наконец, заплакала, хотела долго, с соплями и кашлем, но слезы сразу высохли, оставив пощипывание на веках.
— Дурак ты, Панч, — сказала злым шепотом, комкая ни в чем не виноватое письмо.
— Лена? — мама стояла снаружи, и Ленка порадовалась, что слезы ушли и мать не слышит, как она тут…
— Лена, ты долго там собралась? И вообще ты почему пришла так поздно? Ты теперь будешь что, уходить утром в школу, а потом шляться неизвестно где и с кем? Скорее бы уже папа. Лена, выходи!
— Сейчас, — ответила Ленка вполне нормальным голосом, — мам, я сейчас, иди в комнату.
Побыла в тихом кафельном полумраке еще немного, а потом встала, умылась, резко кидая воду в горящее лицо. Вытирая, внимательно осмотрела себя. Темные глаза, опухшие веки, нос, слишком уж простой такой, почти картошкой, щеки — круглые, хомяк хомяком. Губы, толстые, и над верхней губой дурацкий пушок, почти не виден, но есть. Оскалилась, холодно рассматривая зубы, передний с темным пятнышком у края, и острые клычки, один немного выдается. Маленький подбородок, тоже круглый, и шея — такая никакая.
Тоже мне, великая краса Ленка Малая, усмехнулась отражению. Получила? Да не нужна ты ему. И дура, сто раз дура, ладно бы страдала из-за какого Сережи Кинга, например. Или… ну из-за Пашки чего страдать, он как раз рядом, и не прогонишь. Ладно. Пусть из-за Кинга. А то — из-за сопливого пацана, четырнадцать лет! Эй, Малая, окстись уже! Придумала себе любовь. Наверное, решила, раз он младше, то не увидит, что ты самая обычная девица, каких тыщи вокруг. Захотела, чтоб такой, для которого ты — единственная, и навсегда. А мальчик взял и разобрался. Увидел тебя настоящую. Обычную Ленку Малую, никакую. Только вот патлы. И те крашеные.
— Лена? — мама стояла в дверях спальни, за ее спиной мурлыкал телевизор, просвечивая темные волосы голубым светом.
— Это от Васи письмо, мам. Костромин, помнишь, приходил в гости, летом? Он служит сейчас, ему еще до августа, кажется. Ну да, август. Вот, пишет просто.
— А, — успокоилась Алла Дмитриевна, — помню, хороший мальчик, в институте, да? С высшим образованием. Высокий такой. У меня тетя Римма тогда спрашивала, это Леночкин парень такой видный? Ты блины будешь? Там я варенье поставила.
— Да, мам. Мне уроки еще.
— А тут концерт, — сообщила мама об очевидном, поворачиваясь к сильному голосу, выводящему ироническое взрослое:
— Мой голубь сизокрылый… Печальный знак вопроса. Мой голубь сизокрылый Клюет чужое просо!Ленка кивнула и ушла к комнату, тихонько закрыла дверь. Усмехаясь, спела шепотом:
— Плюет в чужое просо!
Бросила скомканное письмо на диван и села рядом, стаскивая колготки и юбку. Тонкие брови хмурились, глаза пристально смотрели в зеркало за дверцей стенки, не видя удвоенного отражения.
Ладно. Пусть так. Она справится. Но нельзя себе позволять, всякое. Потому что не в кино, ах, он такой весь изменщик, делаю назло. Мальчишке и так тяжело, он болеет. Мало ли что там сейчас. Нужен план, Ленка Малая. Сперва надо позвонить. Узнать, как он. И достать его, пусть позовут, пусть он ей сам скажет, прости, Малая, я занят. И вообще. А если не позовут, то Ленка поедет сама. Не разломится, ездила уже. В субботу, например. В шесть утра автобус. Если что, обворожительная Вероника пустит ее переночевать. В воскресенье обратно. И вот тогда, когда уже она его увидит, и он жив, и все с ним нормально, и они поговорят… Тогда она вернется домой. И станет девушкой Пашки Санича. Потому что школа пусть идет лесом, Ленка ее, конечно, отбудет, всего-то осталось февраль… полгода, в общем. Получит аттестат и гуд бай беби. Пойдет работать. А через год поступит, в самый крутой вуз. После приедет к школе на крутой тачке, зайдет и плюнет Кочерге прямо в рожу. И уедет обратно, чтоб забыть это все. У нее впереди целая жизнь, и нахуй эти паршивые десять лет, с их политинформациями и беседами, ах не дай боже девочки подумают про замуж и про мальчиков, а надо учиться учиться и учиться как завещал великий ленин.
Она застегнула халатик и нашарила рядом бумажный комок. Бедный Вася Кострома. Вот так бывает, когда человек хороший, а совсем не нужен. Попал под раздачу, опять, со вторым уже письмом. Так и ты, Ленка Малая, не нужна своему драгоценному брату.
Вытащила из шкафа одеяло и легла, погасив свет. Поджала к груди коленки. Закрыла глаза. Подумала (со страхом, что станет больно), вызывая картинки, на которых Панч, его широкая улыбка и ровные зубы, его темные глаза и эта дивной красоты черная прядь по бледной скуле… — когда мне будет тридцать, ему будет двадцать семь. Это сейчас он сопливый и младше тебя, Ленуся. А потом ты будешь старая кошелка, а он всегда моложе на два с половиной года. Охренеть. И у него будет девушка, молодая женщина, которая, может, еще не родилась даже.
— Не забудь, Малая, — строго напомнила себе, открывая сухие глаза в темноту, — сперва достань его и поговори. А потом уже. Головой об стенку.
Эта картинка тоже всплыла и Ленка в тишине комнаты засмеялась. Потому что, и правда смешно, — рвет выбеленные кудряшки, и стучится дурной башкой в стену, причитая о погибшей любви.
— Ой, я не могу… Малая. Ну ты и дура.
Глава 4
А фотосъемка прошла очень даже хорошо. Еще в школе девочки собирались на переменах, все заранее обговорить. Ленка перечислила Рыбке, что нужно к Викочке принести, и саму Викочку озадачила всякими поручениями.
— Сперва по домам сгоняем, — сказала, стоя у широкого подоконника в светлом коридоре, а под ногами мельтешили орущие первоклашки, — пожрем там, переодеться. И через час соберемся. Ты, Рыбища, дома не телись, а то я тебя знаю, начнешь голову мыть, заодно и обои поклеишь. Плойку принеси. И еще тот шарф прозрачный длинный. Ну, что там еще. С обуви есть что? Может, шпильки какие от старших остались? Колготки там. А еще шорты были, с латками?
— Останутся от них, — горько пожаловалась Рыбка, — они и мое вечно утаскивают. А купальник взять?
— Мать меня зарежет, — мрачно пообещала Викочка, — если еще раздеваться начнем.
— Не надо купальник, — согласилась Ленка, — та ну, на диване в купальнике, кичуха полная. Это мы летом, на Острове. А тут просто будет такая фотосъемка — девочки дуркуют. Помнишь, Оль, как мы к Вальке попали в мае?
Оля кивнула, фыркая и кусая губу. Случай был такой, немного странный. Гуляли они на Луче по району, вдвоем, Ленка в руке «Смену» таскала, которую ей старшая сестра оставила в наследство. А тут навстречу Валька Панчуха и с ней еще три барышни, все из деловых, местные. Кока, Маркиза и Понька. Идут, все четверо в джинсиках, в рубашках навыпуск и манжеты расстегнутые отвернуты, по моде. И не как все носят — с джинсами туфли и босоножки на шпильках, а белые кроссовки, с цветными полосками. Ленка с Олей как раз перед этим спорили, красиво так или нет, без каблука совсем, ноги выглядят короче, и большие, как у пацанов. Очень непривычно. Оля склонялась к тому, что некрасиво. А Ленке внезапно понравилось. Совсем по-другому можно жить, подумала она, бегать, как захочется, и прыгать чуть ли не через заборы, а не идти, постоянно выискивая, куда бы шпильками ступить, да где поблизости лавочка, свалиться и усталые ноги вытянуть. Так ведь и ходили — от лавочки к лавочке.
Тогда Валька увидела их, улыбнулась, показывая просвет между мелкими зубками. Замахала рукой, блестя тяжелыми пацанскими часами под манжетой клетчатой рубашки. И потащила в гости, удивив и девочек и своих подружек тоже.
Ленка тогда всю пленку в Валюхиной комнате отсняла, дурковали девочки знатно. У них была литровая банка с бензином, и Ленка с Олей в первый раз увидели, как бензин нюхают. Им тоже Валька предложила, когда уже Кока сидела на полу, раскинув длинные джинсовые ноги, и хохотала, а Понька и Маркиза, перегнувшись с балкона, орали что-то вниз, задирая проходящих парней.
Оля отказалась решительно и сразу. А Ленке стало любопытно и она села на диван, укрытый стильной попоной из косматого барашка. Взяла в руки толстую полосу сложенной марли, на которой расплылось остро пахнущее пятно, поднесла к носу и осторожно вдохнула, закрывая глаза.
— Ту-дук, — сказало ей сердце, предупреждая. И вдруг спрыгнуло сразу на три ступеньки ниже, заколотилось там, будто издалека — тихо и очень сильно:
— Ту-дук-ту-дук-ту-дукдукдук…
Ленка быстро отняла тряпку от лица, продышалась и вернула хозяйке угощение. Через неделю она принесла на дискотеку пачку фотографий, которые неожиданно вышли очень хороши — броские, контрастные, с выразительными лицами и яркими, слегка безумными глазами. Была там Понька, смеялась, сидя на полу с запрокинутой головой, и рубашечка натянулась, показывая белое горло и длинную шею. Валька, с руками в стороны — самолет, а над ней — Кока, длинные волосы свесились по Валькиным скулам, и тоже руки раскинуты в стороны, и два смеющихся лица в объектив. А потом все вместе вповалку на диване, руки-ноги под неожиданными углами, и снова хохочут.
С тех пор Валька Панчуха Ленку считала «своей» и Ленкины подружки тоже находились поэтому под ее королевской защитой. Поначалу Ленку беспокоило, вдруг Валька начнет приглашать ее везде и всюду, требуя фотографий, но те «гости» так и остались единственной фотосъемкой.
Уходя от Викочкиного подъезда домой, поесть и переодеться, Ленка и прикидывала, снять что-то такое же примерно, только без всякого бензина и прочих допингов.
Мама смотрела телевизор и, вздыхая, перебирала вещи, готовясь к завтрашнему рабочему дню, видно было, совсем неохота ей идти после отгулов. Ленка быстро перекусила, побросала в тряпочную сумку всякие интересные вещи — колготки в крупную сетку, отрез цветного крепдешина, длиннющую золоченую майку, которую папа привез совершенно случайно, что-то там напутав в лас-пальмасском магазине, и с тех пор она несколько лет лежала в шкафу, иногда вынималась для какого-нибудь маскарада и складывалась снова. Так страшно блестела и так качественно была сшита, что резать ее у Ленки рука не поднималась, да и куда ее носить, такую вырвиглазную всю из золота. Повертев в руках, сложила в сумку смешные древние ботики на круглых пуговицах, это мама носила еще в девушках. И надев свои вельветки и привычный полосатый свитерок, вышла, накидывая пальто. Предупредила полуоткрытую дверь в спальню:
— Мам? Я у Вики. Пару часов. Мы фотографироваться будем.
Дверь ответила ей рассеянным вздохом. Ленка слетела по ступеням, хлопнула дверями подъезда. И уже возле Викочкиной лавки, пустой из-за стылой паршивой погоды, остановилась резко, вдруг поняв — не проверила почту. Первый раз с того дня, как стала ждать письма от Валика Панча. Вдоль длинного дома дул ледяной ветер, забивал в кусты скомканные бумажки, гнул голые ветки кустов. Поднимал над головой перепутанные Ленкины волосы. А она держала за ручки увесистую сумку и думала, напряженно сводя брови. Забыла. Просто забыла! Потому что думала о съемке, о тряпках и о том, есть ли у Семки в комнате свободная розетка для вспышки. Вдруг встало перед глазами лицо доктора Гены, он кивнул ее мыслям, прикрывая светлые глаза, улыбнулся знающе и слегка цинично. И вся любовь, да, Малая? Перестрадала, и вот — месяца не прошло, а ты уже забываешь, как три дня тому от ящика не отходила, ключ из рук не могла выпустить. Так чего ты от пацана хочешь, Ленуся? Если ты так, после такого больного и острого ожидания, то он наверное раньше еще отошел, отвлекся, и живет себе поживает.
Она дернулась было обратно, внимательно слушая себя, вдруг полетит сейчас птичкой, теряя тапки и роняя вещи, лишь бы проверить, а вдруг — письмо!
И мысленно погладила себя по голове, поняв, сумеет удержаться. Проверю потом, когда вернусь от Семачки, решила и пошла в подъезд, испуганно радуясь, что кажется, острая невыносимая боль пошла на убыль. И хорошо. И скорее бы.
В просторной, почти пустой, чем она Ленке и нравилась, Викочкиной комнате девочки размахнулись. Тем более, что Семки материнские причитания мало праздновала, вышла в кухню разок за компотом, скандально там огрызнулась и после решительно подперла двери стулом. Тыкнула в клавишу магнитофона, который стоял на полированной полке у окна. Тот, шелестя пленкой, запел хриплым голосом Криса Нормана. Открыла шкаф, вываливая на диван гору цветных тряпок. И не два, а часа четыре девочки, смеясь и споря, натягивали колготки, шорты, застегивали пуговицы на старинных ботиках, сбив набекрень соломенную шляпу с бахромой их помпончиков, которую Викин отец привез из рейса как сувенир — на стенку повесить. И хохотали, садясь на диван или стул, падали на пол, укрытый полосатым ковром, наверчивали на себя куски ткани, прикидывались то принцессами, то лисами Алисами, то еще неизвестно кем. Ленка снимала, командуя и сердясь, смеялась сама. Иногда отдавала «Смену» Оле, та, неловко крутя и спрашивая, куда нажимать, нажимала. А Ленка снова сердилась, через улыбку подсказывая, куда же нажимать. Даже Викочка развеселилась и забыла обижаться.
Потом устали. Повалились на диван в ворохах тряпья, как были — в сетчатых колготках и шортах, обмотанные цветным крепдешином.
— Что там твой Валера, Семачки? — спросила Рыбка, лениво потягиваясь и разглядывая согнутое сетчатое колено.
— Угу, — мрачно ответила Вика, села, обхватывая колени и уложила на них подбородок, — мой, как же. Я ему нужна, только вот пока не приехала его эта, старая.
— А приедет?
Викочка пожала голыми плечами в мелких веснушках.
— Ты же нам доказывала, что знаешь как. Кричала, захочу, сразу мой будет, — удивилась Оля.
А Ленка подняла голову, защищая Викочку:
— Оль, ну чего ты пристала. Ну мало ли, кричала, а сейчас передумала просто. Не хочет уже. Да, Викуся?
Семачки помолчала. Потом спросила равнодушным голосом:
— А чего это вас Кинг катал на машине? Ты же с Пашкой, вроде, ходишь.
— Не катал, — возмутилась Ленка. Села, стаскивая короткие шорты, все в лохматых латочках, — подвез просто. А Пашка друг. Мы и не встречаемся с ним, просто дружим. Викуся, а компот есть еще?
— Угу, — Семки кивнула и, накидывая халат поверх мини-юбки и куска шифона, наверченного на грудь, пошла к двери, — щас, я в туалет еще.
— Оля, — вполголоса предупредила Ленка, — смотри не ляпни Семачки, насчет Гани. Она еще мелкая девочка, и дурында, не хватало с ней мороки потом. Мало с тобой вот.
Оля, как всегда, занервничала, движения стали резкими, и Ленка вдруг подумала, когда-нибудь Рыбка выйдет замуж. И будет там, получается, как Ленкина мама, вечно ходить со своими нервами. Мотать их мужу и детям тоже. Интересно, это все от характера? И можно ли это изменить? Хорошо бы не быть такой, думала Ленка, глядя, как Оля дергает с ноги ботик, а пальцы срываются с пуговиц.
— Оль, ну ты чего? Что я такого сказала?
— Да нормально. Просто подумала вот. О нем. А Викочке я не скажу, конечно. Знаешь…
Они обе прислушались к дальнему разговору в кухне. И Оля продолжила:
— А ты сама как? Насчет этого?
— Я? — Ленка так удивилась, что села, спуская ноги. На магнитофоне Крис Норман в десятый раз исполнил свою коронную песню, и бобина, щелкнув, остановилась.
— А что я-то?
— Как что? — удивилась теперь Оля, — вы же с Пашкой…
— Оля! Да мы дружим!
Рыбка покивала скорбно, натягивая свою теплую юбку в клетку.
— Я тебе Викочка, да? Какая дружба. Он с тебя не слезет. Ты если бы не хотела, давно бы его послала уже.
Она уже переоделась и вытащив из сумки щетку, резкими движениями расчесывала белые пряди, наклонив голову набок. Ленка сидела рядом, натягивая вельветки.
— Ты что, — догадалась со смехом, — ты хочешь, чтоб я с тобой за компанию, что ли, девственности лишалась?
— Тише ты!
— Оля, за компанию, конечно, и жид повесился, но ты чего, с дуба упала?
— Ну… — неопределенно ответила Рыбка, и после рассердилась, — а что такого? Мы с тобой в одном месяце родились. Как-то это нечестно будет, если я уже, а ты еще нет.
— О-о-о, — сказала Ленка, но больше не успела.
Викочка пятясь, вошла, ногой закрывая двери и неся в обеих руках кружки с компотом. Сунув девочкам, посмотрела подозрительно:
— Вы тут о чем?
— Спрашиваю, как у Малой дела с ее золотой медалью, — соврала Оля, припадая к кружке.
Ленка пожала плечами. Пока в школе ее никто не трогал и не дергал. Может, еще просто рано, но все равно странно, сперва директриса ей столько наговорила, а теперь молчит. Рассказав это, она напилась и поставила кружку. А Викочка неожиданно разумно рассудила:
— Так ты им до лампочки, Ленк. Если бы уже впрягли, то может и гнобили бы, а так ты болтаешься сама по себе, ну, и чего тебя дергать. А щемить тоже не будут, и за поведение не будут, у них план, а ты отличница. Прикинь, придется писать, что ты с пятерок скатилась на двойки по поведению. У них премию снимут. За тебя. Лучше сделать вид, что все нормально. Чего удивляетесь, у меня тетка — учительница в пятой школе. Она рассказывала, про эти штуки. Если бы еще девятый, как у меня, то может, воспитывали бы. А выпускной — все равно через полгода дадут вам под зад коленом и забудут.
— Вот черт, — сказала пораженная Ленка, — черт и черт, правда, что ли? А я тут ночами не сплю, думаю, как мне в глаза глядеть Лидуше. С сочинением этим дурацким. Да еще с Элиной погавкались, я целый день прогуляла, считай.
— Угу, — покивала гладкой стрижкой Викочка, — а кто полгода всю алгебру просачковал? Да ваша Валюша, между прочим, собралась валить в горком, ей там место держат. Ей тоже на вас наплевать. Теть Таня сказала, она в феврале уйдет, от вас, они на планерке там какой-то были городской, там трепались тетки.
— А я думала, это потому что я такая вся вундеркинд, — расстроилась Ленка, отбирая у Оли щетку, — думала, Валюша видит, что у меня все равно одни пятерки. Вот блин. Даже как-то обидно. И нет, не уйдет она сейчас. Это же ее первый выпуск, она нас выпустит и тогда уйдет.
— Спорим? — предложила Семки, — если проиграешь, познакомишь меня с Кингом.
— Семачки, — нежно сказала Ленка, — я тебя убью, ты глупая совсем Семачки наша. Нельзя тебе с Кингом. Он взрослый. И опасный.
— А тебе, значит, не опасный, — надулась Викочка.
Ленка покачала головой, взглядывая на молчащую Олю. Вика не знала про долг в двести рублей. И это все осложняло. Как ей объяснить, что Ленка общается с Кингом совсем не потому, что хочет с ним крутить любовь.
— И мне опасный. Я… ну, в-общем, ты поняла? Не лезь к нему. Пожалуйста.
— Это потому что ты с ним… — завелась Викочка, не желая успокаиваться.
Ленка встала, беря сумку и запихивая в нее вещи.
В коридоре ходила семачкина мама, останавливалась за матовым стеклом, прислушиваясь. И шла дальше, тень исчезала в кухонном коридорчике. И переждав, девочки снова вполголоса спорили.
— Короче, Викуся, я не могу тебе сказать, потом скажу, ладно? Но знакомить не буду. И не вздумай сама. Ты поняла?
Семачки неохотно кивнула, кутаясь в большой халат. Встала, открывая двери комнаты.
— Теть Таня, спасибо, очень вкусный компот! — прокричала Оля в сторону кухни. Толкаясь, они обулись и вышли, оставив обиженную Вику.
На улице ветер утих, в густых уже сумерках стало неожиданно ласково и прекрасно, наверное, думала Ленка, таща неудобную сумку и удаляясь от своего подъезда в сторону «серединки», наверное, ночью пойдет дождь и завтра ходить ей с мокрой ногой, потому что сапог протекает.
— Кстати, — задумчиво сказала Оля, видимо, совместив в мыслях Кинга и место, куда они шли, — а как он знает про наше все? Ты тогда говорила, и вот в машине, он такой — я вас у «серединки» высажу. Ты ему, что ли, рассказывала? В кабаке? Точно нет? А как?
— Не знаю, Оль. Я сама дергаюсь, неприятно как-то. Такое ощущение, что про нас ему кто-то рассказывает. Ну не Семки же! И такие вещи, которые мы только знаем. Немного сказал, но прям в точку.
— Тсс, — Оля схватила Ленкину руку. Та дернулась, напряженно всматриваясь в черные ветки, закрывающие угол дома.
— Что?
— Ползет… ой! Вот он!
— Да кто?
— Кинг ползет! За нами! Следит!
— Оля! — заорала Ленка, выдергивая дрожащую руку, — фу, Оля, блин! Чтоб ты скисла!
Рыбка повалилась на невидимый куст, всхлипывая и хохоча, с треском продралась по узкой дорожке к заветной трубе. И бухнулась, вытирая слезы и маяча в оконном желтеньком свете белыми волосами. Ленка упала рядом, держась за сердце.
— Пп-поверила, — еле выговорила Оля, — а прикинь, и правда бы…
— Оля! — Ленка согнулась, утыкаясь лицом в колючее пальто на коленях, — О-ля!
— А ну пошли отсюда! — заорал сверху женский голос, — счас я на вас воды! Сидят тут ржут! Засрали всю стену уже, бомжи чертовы!
— Кто? Мы? — возмущенная Оля вскочила, Ленка, давясь, дернула ее обратно.
— Молчи! Та молчи уже, устроила цирк на дроти! Тихо. А то правда, ливанет.
Они притихли, прижимаясь друг к другу и все еще сдавленно хихикая. Над самыми головами зажегся свет в угловом окне, треснула-скрипнула балконная дверь, и кто-то задвигался там, чем-то звякнул. Девочки молчали и дверь хлопнула снова.
— Не знаю я, что придумать, — сокрушенно сказала Ленка, — Викуся теперь и спать не будет, будет мечтать о прекрасном Сережечке Кинге. Если бы я с ним не общалась, она б и ухом не вела, а так, дай ей то, что у Малой.
— Поносить, — подсказала Оля, — сама поносила, теперь дай Семачки.
— Та не носила я, — отмахнулась Ленка, — и вообще.
Она замолчала. А сверху с тихого темного неба посыпался мелкий-мелкий дождичек, почти туман, сеялся тонкими крапками, и было их много, сразу же намочил волосы и лица. Надо идти, подумала Ленка. Домой. А там почтовый ящик, и в нем снова ничего нет. И прежняя жизнь уже забирает ее снова, отпихивая Новый год, свечку в блюдечке и шампанское в смешной кружке с нарисованным зайцем. На их месте располагается Пашка с теплым старым сиденьем в раздолбанном безотказном грузовичке, Викочка с надутым треугольным личиком. Оля, которая совсем скоро станет лежать с Ганей, в обнимку, под сбитым одеялом, интересно, где, но не представлять же лучшую свою подружку в подъезде с задранной юбкой. И еще этот Кинг. Но надо проявить пленки, и напечатать тот Новый год. Нельзя выбрасывать. Может быть, это что-то изменит? Вдруг она сама виновата, и думает недостаточно сильно? Вдруг она не умеет по-настоящему хотеть? А даже если не умеет, все равно надо напечатать. И послать ему письмо, с фотографиями. Обещала ведь.
Вокруг было так тихо, сонно и немного сказочно, что Ленка очень захотела рассказать Оле про Валика Панча. Но вздохнула и не стала. Расскажу ей потом, решила, когда уже или что-то случится. Или все совсем кончится.
Оля тоже вздохнула и встала.
— Пойдем, что ли. А то мать меня сожрет.
— Пока, Рыбочкин, до завтра.
— Ага, беги, Малая. И смотри, не наступи на Кинга!
— Тю на тебя.
Глава 5
Печатать фотографии Ленка любила. А пленки проявлять не очень. Пластмассовый бачок раздражал, пленку в него приходилось закручивать наощупь, и пока стоишь в темном туалете, а снаружи ходит мама и в шагах слышится некоторое раздражение, то непонятно, правильно ли там все внутри под пальцами, где шелестит и увертывается. И не проверишь. Временами Ленку тоже раздражала собственная обстоятельность, но поймав себя на этом, она старалась не накладывать раздражение от неточности процесса на раздражение, направленное против себя. Но отмечала свои состояния, они были ей интересны. Про эти углубленные самокопания никому не рассказывала, потому что на попытки мама, обычно, закатывала глаза и говорила наставительное:
— Слишком много думаешь!
По маминому тону становилось ясно, много думать — занятие вредное. И Ленка просто закрывалась в туалете, предупредив маму, чтоб не включала свет, да на всякий случай еще кричала оттуда, из темноты, когда слышала шаги в коридоре:
— Не включай! Свет не включай!
— Да хорошо, — раздражалась мама, и шаги удалялись в кухню.
Папа фотографировал в молодости, потом бросил. В кладовке до сих пор валялся, о, диво дивное, увязанный в старую наволочку древний аппарат с бумажной черной гармошкой, а потом у папы были другие фотокамеры, но все это считалось, как и магнитофоны или пластинки — молодежным, досемейным, и было так почти у всех, а кто продолжал заниматься чем-то кроме работы, или еще рыбалки, тех уже считали чудиками, такой вот суровый рабочий город Керчь. А может быть, так было везде, Ленка не задумывалась. Пока что таскать везде подаренный сестрой фотоаппарат ей было можно — молодая. Светка со своим Петичкой снимали много. Разок в месяц печатали фотографии, запираясь в кухне. Там вполголоса смеялись и шебуршились, замолкая, когда мелкая Ленка царапалась в двери, изнемогая от желания тоже посидеть в сказочном красном полумраке, в котором лица были похожи на страшноватые маски и вдруг красно-черный демон опускает лицо, свет падает по-другому, а это — сестра Светища, с ее большими, как у матери, темными глазами и тонкими прядками на висках, которые вечно выбивались из любой косы или хвоста. Пока не постриглась, под мальчика. Мама тогда пила корвалол — такие волосы! А Ленке понравилось. Из томной красавицы с тяжелой косой Светка сразу стала похожей на Пепилотту в книжке, то есть на саму себя. Хотя никаких у нее конопушек, и не рыжая, но Ленка с детства понимала, сестра у нее — Пеппи длинный чулок. И когда подросла, то вполне поняла Петичку, который приклеился мертво, стал Ленке почти братом, а вот уехала Светка учиться, и пропал, хотя Ленка немного скучала. Но тоже понимала, ему нужна Светка, а ее тут нет, и приходится как-то без нее жить, работать в своем яхт-клубе. Ждать.
Он иногда приходил, длинный, весь из локтей, коленок и шеи, с выгоревшими за лето почти добела русыми волосами и бровями. Ленка шла из школы, а он сидел на скамейке у подъезда, вытянув ноги, смотрел издалека, кивал, и спрашивал:
— А чо, нет письма?
— Нет, — говорила Ленка, усаживаясь рядом и тоже вытягивая ноги, — звонила вот.
— Когда?
— Неделю. Нет, уже две недели назад. Теперь, наверное, через месяц только.
— Угу, — говорил в ответ Петичка.
Дальше вместе молчали, и Ленке ужасно нравилось, что с ним можно молчать просто так.
Сидела рядом, смотрела на четыре ноги, и на куст крыжовника за асфальтовой площадочкой. Думала, хорошо бы выдать Светку замуж за Петичку и пусть он к ним переедет. Ему можно, он классный. Правда, они станут жить в большой комнате, и как же тогда телевизор, кино там и всякие передачи, но в последний год все равно она его смотрит мало, а еще мама мечтает о втором, пусть маленький, но будет стоять в спальне, а большой цветной тогда в гостиной, то есть у Светки с Петичкой. Правда, мама несколько раз по телефону своей Ирочке говорила с решительным испугом в голосе:
— Ириша, молодые должны жить отдельно! Я просто в ужасе, ну, а если у нас? И тогда пеленки, и ночами это все. И все ведь будет на мне! Разве ж кто поможет? Как всегда, только я и в кухне, и по магазинам, и вдруг еще пеленки и всякие эти переживания. Ну уж нет!
Так и отложились в Ленкином сознании пеленки каким-то ужасом из ужасов, тем, чего нужно избежать во что бы то ни стало.
Но Светки нет, и потому пеленки маячили в неясном и далеком будущем, о котором мама вспоминала, когда не было других причин попереживать. А Ленке остался от Светки и Петички полный домашний набор фотолюбителя. Пара черных бачков со спиральными катушками внутри, фотоувеличитель, который жил в кладовке, упакованный в толстый полиэтиленовый мешок, перевязанный поясом от давно сношенного халата, четыре кюветы, одна — коричневая от проявителя. И всякие мелочи — квадратный резак для карточек, большой пинцет и запасное красное стеклышко в круглой металлической рамке с винтом. Маленькая Ленка иногда утаивала его, чтоб выносить во двор и глядеть на красное вокруг. Потом пробиралась к полке и совала обратно — под задранный край полиэтилена в кювету.
Глянцеватель!
Она вспомнила о нем, когда уже вынимала последнюю пленку из бачка и вешала ее сушиться в ванной, нацепив на нижний хвостик прищепку, чтоб не заворачивался. Петичкин глянцеватель, который поломался, на истертом месте шнура стал искрить, плохо грел, и Ленка отнесла его Пете в лабораторию. Он починил давно, пару раз напоминал Ленке, когда она сидела на старой тахте, показывал рукой на полку в углу, и Ленка там его даже видела, стоит, кругля высокие бочки, затянутые зеленым полотном. Но так и не забрала, вечно было не с руки и не вовремя. А теперь вот Петя уехал, и в лаборатории воцарился толстый Шошан, друг Кинга.
Ленка вытерла руки и задумалась, выходя из ванной.
— Мам, там пленки, сохнут, — напомнила в сторону кухни.
Мама оттуда выразительно вздохнула. Ленка ушла в комнату, села на свой диван, поджав ноги и разглядывая себя в зеркале стенки. Ей нравилось, как за всякими рюмочками и вазочками отражаются светлые волосы — тряхнешь головой, пересыпаются по плечам. А деталей, из-за которых можно загрустить, снова поняв, что ничего совершенно прекрасного в Ленкином лице нет, в дальнем зеркале не видно.
Так вот. Глянцеватель. Можно конечно, приклеить фотки к оконному стеклу, но они прилипнут, так уже бывало. Можно разложить на газетке, а когда высохнут, каждую прогладить утюгом. Но во-первых, там Валик, аж на двух пленках. А во-вторых, мама насмотрится на сетчатые колготки и как барышни валяются на диване, корча рожи и задирая ноги в шортах, и ей на полгода вперед хватит, чтоб стонать, пить корвалол и упрекать Ленку в грехах. Уж лучше ночью сразу посушить, сложить в пакеты, и девицам отнести, а свои спрятать, оставив на виду самые безгрешные.
Обдумывая, Ленка снова ушла в ванную, подцепила край пленки и стала на просвет разглядывать мелкие фигурки с черными лицами. А вот только лица, с белыми глазами по черному. Смешно — у Ленки поверх темного лица копна чернющих волос, а у Валика наоборот, волосы белые, будто сугроб на башке. Нет, скорее такая шапка из барашка.
Темноликие смотрели на нее глазами, похожими на цветы одуванчика, белыми в еле видных лучиках, и Ленка смотрела на них, как на что-то чужое. Слушала сердце, которое еле заметно покалывало, и боялась того, что сядет печатать, и тогда все снова вернется. Блин, подумала со злой беспомощностью, выходя и накидывая крючок, да что ж я такая вот! Даже влюбиться не могу нормально, так хотела, а вышло в результате чорти шо и сбоку бантик. Брат, малолетка, молчит, и одна от этого всего сердечная боль. А как же счастье? Где оно? И нафига вообще эта любовь, если в ней всего радостей — пока были рядом, смотрели и разговаривали, а как только расставались, даже на чуточку, то сразу вместо счастья куча всяких переживаний. Как только мама живет, постоянно переживая? И такое ощущение, что ей это даже нравится. Ленке решительно не нравилось то, что приходится тосковать и страдать. И она недоумевала все сильнее. Ведь если чертов Панч относится к ней так, как он о том говорил. И как смотрел на нее… То он должен ее поберечь, разве нет? Написать парочку слов. Такое может понять даже первоклассник, мрачно думала Ленка. О чем же говорит нам логика, думала она дальше все мрачнее, — значит, оно ему не надо. Ох.
— Оль, — уныло сказала она в телефонную трубку, — Оль, а поехали завтра к Шошану? После уроков. Мне надо глянцеватель забрать. Ну тогда уже и печатать. Да. Если отпустят, конечно приходи. Можно раньше сесть, ну в семь вечера, и тогда к двенадцати точно закруглимся. А. Нет, подожди. Давай сперва заберем глянцеватель.
Ленка повесила трубку. Печатать придется два раза. Потому что пленки с Панчем неохота показывать даже Оле. Ладно. Мать, конечно, начнет закатывать глаза, говорить про учебу, ну ничего. Не в первый раз.
На следующий день из школы они вышли втроем. Викочка сперва было надулась, когда поняла — Ленка позвала Олю, но после отошла, потому что и правда, кто ж знал, что у них отменят классный час и Викочка освободится одновременно с подружками.
Сейчас она шла, подняв голову и облизывая губы, покачивала на плече спортивную сумку с клапаном, и встряхивала стриженой головой, скинув на плечи капюшон светлого пальто в крупную клетку.
— Семки вышла на тропу войны, — прокомментировала Ленка, шагая рядом, — ты, Семачки, особо не старайся, тебе этот Шошан точно не понравится. Толстый, как порося.
— Да? — упавшим голосом переспросила Викочка.
— Волосы жиденькие, — неумолимо продолжила Ленка.
— Да?
— Жопа, как диван!
Викочка скорбно вздохнула. Оля позади сдавленно закашлялась. И вдруг добавила вкрадчиво:
— Жигуль у него, красный.
— Да? — радостным окрепшим голосом воспряла Семки.
И девочки громко заржали, на ходу толкая Викочку и тиская ее за всякие пальтовые детали — локти, карманы и хлястики.
— Та пустите уже, — кричала Семки, тоже смеясь, — автобус вон уже!
Они побежали по крупным плитам школьного двора, и тут из-за густых туек на углу выступила большая фигура, в широкоплечей кожаной куртке, в тугих джинсах дивного темного колера, с блестящими заклепками. Из-под кожаной кепки выбивались кольца светлых волос, а глаза прятались в тени козырька.
— Ольчик! — позвал Ганя, улыбнулся, сплюнув в сторону.
Автобус почти уже добрался к остановке.
Оля резко остановилась. Откинула голову и пошла, постукивая каблуками, иногда оскальзываясь на темных ледяных потеках. На середине пути остановилась, обернулась и махнула рукой.
— Короче. Ну вы сами.
И почти побежала, а ветер кидался, поднимая белые волосы и лепя их к лицу.
— Лен, скорее!
Вика схватила Ленку за локоть и повлекла к автобусу, размахивая другой рукой, чтоб не уезжал.
В просторном дворе техникума было много народу, и Ленка слегка растерялась, как-то за своими мыслями и заботами она не подумала о том, что и тут учатся, раньше приезжали они к Пете, подгадывая, чтоб или выходной или каникулы. Или весной совсем к вечеру, когда еще светло, но уже пусто.
Зацепив Викочку под локоть, Ленка быстро протащила ее между парней и немногих девчонок, отворачиваясь от свиста и окриков. И влетела в железную дверь, тут же вспомнив, а вдруг печатает и сейчас обругает. Встала резко, удерживая Семки, и звонко сказала в задернутую облезлую штору:
— Здрасти. Можно?
Позади за полуоткрытой дверью слышался шум и крики, а потом забрякал звонок, все стало утихать, и тогда за шторой недовольный и одновременно заинтересованный голос ответил:
— Та заходите уже! Светик, кисанька…
Шошан сидел так же, как сидел его брат за рулем машины, обернувшись и свесив руку со спинки стула. Желтая лампа светила сверху, а белая длинная — со стены, делая лицо каким-то зыбким, не поймешь выражения. Только голос изменился, когда понял — не Светик-кисанька.
— А… — сказал, присматриваясь, и добавил, — о-о-о! Какие люди! Как тебя. Не помню. Зовут как?
— Глянцеватель, — сказала Ленка, стоя рядом с отдернутой шторой, — там, на полке, я отдавала, а мне нужен.
Шошан крутанулся на стуле, встал, одергивая растянутый свитер. И пригладил серые волосы, прижимая к шее толстыми пальцами. На Зорика похож, отметила про себя Ленка, все толстяки друг на друга чем-то похожи. А может, другое. Глаза масляные такие. И врет, что не помнит ее. Фу. Какой-то дурак.
Шошан стоял, разглядывая девочек, на зыбком лице непонятно менялось выражение, вроде бы обида, и тут же что-то такое презрительное, будто плюнуть хотел на пол.
— Лена, — подсказала она, — я приходила, ну, к Петру. Когда еще… ну…
— С Кингом мы базарили, — Шошан сделал вид, что вспомнил. И повеселел, благожелательно обратив взгляд на Викочку.
Та хмуро осматривала растянутый свитер, толстые покатые плечи и жидкие волосы, раскиданные по закрученному вороту.
— А это Вика, — добавила Ленка, — так что насчет глянцевателя? Я заберу?
— Ну-у-у, — протянул Шошан.
И Ленка тайно рассердилась. Знала она эту петрушку, не в первом классе. Тянет резину, сейчас начнется, а если я не отдам, а что мне за то будет, а откуда знаю ваш или нет. Детский сад. И парней таких она знала. Которые не надеются собой барышень заинтересовать и потому злые. Зорик в этом отношении получше будет. Так себя любит, что злиться ему некогда.
Она шагнула в сторону, выдернула с полки глянцеватель, подняла, показывая.
— А что мне за то… — начал было Шошан, но от двери его перебил спокойный голос:
— А ничего не будет, так что радуйся, Шоша.
Кинг стоял совсем рядом, прямо над их головами, и Семки задрала свою, приоткрыв рот и не отводя глаз от его лица.
— Здравствуйте, милые девочки, — он протянул руку, тронув Ленкины волосы, приподнял светлую прядь и отпустил, смеясь.
— Это Вика, — снова сказала Ленка, чувствуя, что краснеет. Подумала, он сейчас снова скажет, а я знаю. И добавит что-нибудь из их тайной личной жизни, а они будут краснеть, как мелкие, когда взрослые стоят, пересказывая друг другу детские шалости, и смеются. Но Кинг серьезно кивнул:
— Очень приятно, Вика. Я Сергей.
— Да, — сказала Семки, — да. Сергей. А я — Вика. Семкисова Вика. Я живу на автовокзале, мы там рядом живем. Я…
Ленка дернула ее за рукав. Держа под локтем глянцеватель, толкнула мимо Кинга к выходу.
— Спасибо. Нам пора. До свидания.
— Я… — снова сказал Вика, и разозлилась, упираясь, — да пусти ты. Я…
Но Ленка выпихала подругу в пустой двор и, цепко держа за рукав, потащила к железным воротам. Та дернулась, вырываясь. И встала, топнув ногой. Сузила глаза, резко задышав и краснея веснушчатыми щеками.
— Леник! — Кинг вышел следом, в три шага оказался рядом с девочками.
В распахнутой кожаной куртке светлел свитер с черными ромбами на груди, такой же, как у Валика, подумала Ленка. Только размер побольше, конечно.
— Чего же не позвонила? — смотрел с мягким упреком, и тайным весельем в темных глазах под красивыми четкого рисунка бровями, — я ждал.
Ленка молчала. Глянцеватель сползал и она перехватила его другой рукой, отпустив, наконец, рукав Семачкиного пальто. А что ему говорить? Спросить вместо ответа, а зачем мне тебе звонить? Свидание чтоб? Так нельзя, думала обрывочно и тоскливо, я ведь ему должна. Он знает, что отдам деньги потом, позже. Не нужно ему сейчас ничего с Ленкой, а то, как отказывать?
Но вопрос Кинга оказался риторическим, ответа он не стал ждать, поднял руку, глянул на тяжелые большие часы.
— Мы в центр. Пошли, подбросим до автовокзала, а то руку оттянешь своим прибором. Вон Димона тачила стоит, у киоска.
— Мы на автобусе, — сказала Ленка, — нам еще надо…
— Да! — перебила ее Викочка, — да, спасибо. Лен, поехали.
И пошла вперед, встряхнув волосами, и только разок оглянулась, умоляюще посмотреть на Кинга. Тот аккуратно отобрал у Ленки несчастный глянцеватель.
— Пойдем, королевна диких земель, снежная дева, верну, когда приедем.
В дверях лаборатории маячил Шошан, смотрел мрачно, ковыряя рукав свитера. Ленка кивнула ему издалека, чтоб не слишком расстраивался. А то Кинг вроде приехал по делу, и получается, сразу же свалил, забрав от Шошана барышень, не дал пообщаться. Хоть и противный он, но немножко жалко.
Девочек Кинг усадил на заднее сиденье, и Ленка вспомнила, как вез их из города, сказал, что не маячили. Сам сел впереди. Церемонно представив Викочке водителя, заговорил с ним вполголоса, о чем-то своем, пару раз за всю дорогу оглянувшись на молчащих подружек. Только улыбался, с разговорами, к Ленкиному облегчению, не приставал.
Викочка, притихнув, ехала, не отводя жаркого взгляда от стриженого затылка Сережи Кинга. Смотрела так, что Ленке было немного неловко.
У Рыбкиной пятиэтажки Кинг махнул рукой, показывая Димону за угол:
— Там встань, за деревьями.
Выйдя, галантно открыл двери, выпуская девочек. Кивнул Вике и тронул Ленку за плечо, придерживая. Викочка потопталась и медленно пошла, встала у скамейки, исподлобья глядя, как они стоят рядом с машиной.
— Ты не ответила, — напомнил негромко, — и на дискотеке не появляешься, я искал.
— Я… — на этот раз сказала Ленка, не зная, как продолжить, — я… ну… Сережа. Я не знаю.
Он ждал. И она спросила прямо:
— А зачем? Звонить зачем?
— А не хочешь? — он улыбнулся. Такой уверенный в себе, такой взрослый. Как внезапно сказала ее мама, такой красивый мальчик. И Ленка тогда поежилась, потому что, какой же он мальчик, что-то было в этих словах неправильное, хотя для мамы, да, он конечно…
— Чего не хочу? — перебила она собственные мысли, устав маяться и колебаться.
Теперь Кинг просто рассмеялся, не ответив, покачал головой. Викочка вдалеке с вызовом сменила позу и бухнула сумку на лавочку.
— Или у тебя есть парень? Встречаешься с кем-то?
— Да.
Ответила и сама затосковала: его вопрос все по местам расставил. Он просит, чтоб она ему позвонила, если у нее нет парня. Ясно, что это значит.
— С Пашкой-водилой, значит. Будь с ним осторожнее, Леник-Оленик, хитрый, без мыла влезет, сама понимаешь куда.
— Сережа, — голос у Ленки от злости и растерянности звенел, и она, кашлянув, повторила, стараясь потише, — Сережа, а откуда? Откуда ты про нас? Так нельзя! Скажи.
Кинг внимательно смотрел в сердитое недоумевающее лицо. Снова взял пальцами лежащую на плече легкую прядку, дунул, приближая губы почти к ее щеке. Сказал на ухо:
— Позвонишь, расскажу. Обещаю. Поняла? Беги, Леник, заячий хвостик.
Молча они с Викочкой дошли до ее подъезда. Ленка помахала ей свободной рукой. Но Вика не ответила. Встала рядом с лавочкой.
— Лен? Ты с ним будешь? Встречаться.
— Что? — Ленка чуть не уронила глянцеватель, прижала его обеими руками, возмущенно глядя на Вику, — Семачки, ты с дуба упала, что ли? С кем встречаться-то? Ему двадцать шесть, наверное, если не тридцать. Нашла мальчика встречаться.
— Не будешь, значит, — уточнила Викочка. И машинально стала поправлять гладкие стриженые волосы, провела пальцами по щекам и покусала бледные губы.
— О-о, ну ты упертая, Викуся. Дело не в том, буду или нет, а в том, что не надо с ним. И тебе не надо и мне не надо, поняла? Ты мне не веришь совсем? Думаешь, я решила всех пацанов прям себе подгрести, да?
Она ждала, что Викочка рассмеется, но та молчала. Так, чтоб Ленка поняла — именно это она и думает.
— Викуся. Давай завтра поговорим. Без Рыбки. Сами. Я замерзла и вообще. А завтра я тебе все расскажу и поговорим. Ну? Ну, Семачки, а?
Семки немного подумала и кивнула. Не засмеялась в ответ на Ленкины умильные уговоры, как то обычно бывало. Повернулась и ушла в подъезд, высоко подняв голову, и у Ленки стало нехорошо на сердце. Знала она Викусю. Если уж вобьет чего в голову, то вокруг вообще ничего не видит, только главное, только цель. И прет к ней танком. Это не Рыбка с ее метаниями и скаканиями, и не Ленка с вечными сомнениями. Потом, конечно, приходится Викочку утешать и успокаивать, в аккурат до следующего раза. Но до сих пор все это было слегка несерьезным, без особенных последствий. А с Кингом они уже могут быть такие вот, из взрослой жизни.
А потом настал вечер и Ленка все забыла. Пашку с его грузовиком и уговорами. Кинга с его спокойной уверенной улыбкой. Олю, отягощенную заботами о раздолбае Колясике Гане и его Лильке Звезде. Викочку с ее планами.
За вечером пришла ночь — Ленка специально села печатать поздно, чтоб мама легла спать и не зашла случайно, посмотреть на глубокую кювету с водой, в которой мокли уже напечатанные снимки.
И ночь забрала Ленку, вернула в самое начало января, унесла за две сотни километров, и плавно опустила на галечный пляж маленькой бухты, которая есть, но которую никто не видит, и никто не может попасть в нее. Кроме Валика Панча. Это он придумал ее так, что она стала совсем настоящей, реальной. И взял туда свою сестру Ленку Малую, а больше никого.
За черным окном, укрытым зеленой шторой с ромашками, иногда проезжала машина, треща колесами по ломкому ледку на лужах. Брехали дальние псы, охраняя беленые домики с палисадами. Из порта грохотали краны и свистели маневровые паровозы, а в поясницу жарко грела ребристая батарея.
Ленка подкручивала винт, глядя в темное лицо с глазами, как маленькие одуванчики — белые с белыми лучиками от серединки. Укладывала в рамку лист фотобумаги, и плавно отводя красное стеклышко, считала про себя нужные секунды.
И раз, и два, и три, че-ты-ре… и раз, еще, и два.
Закрывала свет красным, так же плавно окунала краешек листа в кювету с проявителем и толкала пальцем, утапливая целиком. И держа пинцетом, чтоб не всплывала, стерегла, с замирающим сердцем глядя в темные глаза под темными бровями, и его улыбка, такая классная, с ямочками на впалых скулах. А еще эта прядка, по щеке, отдельная, сама по себе.
— Черт, — шепотом говорила, вынимая пинцетом мокрый отпечаток, и перенося через воду дальше — в закрепитель. Повторяла беспомощно, чтоб не заплакать, как совсем прям страдалица, — черт, да черт же!
Насмотревшись, прокручивала кадр, сразу сделать еще один, и следующий. А после вернуться и повторить, доставая из-под попы пачку фотобумаги. Петечка научил, если открываешь пачку, то лучше всего на нее сесть, чтоб не засветить ненароком.
Две пленки, отснятые целиком. Семьдесят два кадра. Испортить они умудрились совсем немного. Пять кадров Валик щелкнул в школьных коридорах, без вспышки. И там все растеклось быстрой дымкой, лица белесые с глазами кляксами. Еще несколько с неправильной выдержкой, слишком темные, а еще — совсем серенькие, с серыми фигурами. Но кроме этих — полсотни ярких снимков, на каждом — Валик в ракушечных ожерельях, Валик на склоне в стеблях сухой травы. Ленка стоит, раскинув руки и смеется. Сидит, подняв лицо, плечи укрыты водопадом светлых волос.
Да много всего. Она опускала их в воду, в самую большую и глубокую кювету, чтоб насмотреться потом, когда уже унесет в комнату и там сядет на полу с глянцевателем. И поверх всех положила снимок, где они вместе. Их целых пять штук, таких кадров, Панч тогда сбегал в корпус, притащил маленького важного Петра, а следом, конечно же, торопилась Валечка, с обожанием глядя. Быстро показал, куда смотреть и как нажимать. И Петр, сипло командуя, покрикивал:
— Тута сидите вот. Елена Сергевна, та поближе ж!
Панч тогда засмеялся и обнял ее длинной рукой, облапил, притиснул к себе, дурачась, сказал басом, дыша в ухо:
— Сидите смирно, Елена Сергевна!
И она замерла, стараясь не закрывать глаза, и желая, пусть щелчок фотоаппарата длился час, а может год или пусть вечно. Так вот сидеть, и чтоб никто не понял, что с ней.
После боялась, что на лице все прочитается, на снимке. И вот он — под тонким слоем воды. Два лица, очень крупно, волосы вперемешку на сомкнутых плечах — темные и почти белые. Его скула у ее щеки. Веселые такие. Как будто у них полно всего было и впереди тоже полно всего, одно сплошное счастье. Отличный снимок, хоть в журнал его.
А еще рука Валика вокруг ее плеча, и его пальцы на клетчатой рубашке.
В коридоре мама вышла из спальни, мягко прошоркала в туалет и вышла, под шум воды поскреблась в матовое стекло, закрытое старым покрывалом:
— Лена, уже ночь совсем.
— Мам, я почти все.
Ленка накрыла снимок испорченным отпечатком, черным от проявителя.
— Утром покажешь, да? — мама зевнула, и ушла.
— Да, — прошептала Ленка, — угу, наверное.
Усмехнулась. Из полусотни кадров маме показать нельзя было ни одного. Вернее, там где сама Ленка, эти еще можно. Хотя начнет же спрашивать, а где сам санаторий, где всякие новые друзья, и вообще.
Скажу, пленка засветилась, решила Ленка, унося в комнату, где на полу ждал глянцеватель, кювету, полную январского Коктебеля, моря среди гор, и сосен на склонах.
Такая незадача.
Глава 6
Ленка все-таки позвонила Сереже Кингу, в тот день, когда поругалась с мамой, из-за фотографий. И ссора была совсем пустяковая, но Ленку ужасно взбесила. Она уже понимала, из-за чего многие ссоры у них в доме происходят, не маленькая. Мама злилась, и не на нее. Снова кончались деньги, а тут Светка позвонила, ей на что-то там срочно нужен был из дома перевод, она не сказала, на что, сюрприз-сюрприз, узнаете — ахнете, но пока не скажу.
А еще пришло письмо от бабки, в котором та, после обязательного перечисления приветов раскиданной по городу дальней родне, сообщала о своем намерении приехать, поосмотреться, и насчет, чего из мебели с собой везти.
Мама от потрясения тут же слегла с жуткой головной болью, а после, увидев на письменном столе дочери рассыпанные фотографии, возмутилась. Шевелила глянцевые отпечатки пальцем, и громко, с раздражением комментировала. Глобально, как она любила.
— Нет, Лена, ты меня просто убиваешь. У-би-ва-ешь! И это все, чему ты научилась у сестры? Ну хоть что-то тут есть приличного качества? Все какое-то… серое, тусклое.
— Угу, — подсказала вполголоса Ленка с дивана, листая книгу и не видя в ней строчек, — черно-белое такое…
Мама толкнула от себя фотографии и взялась за виски.
— Опять! Опять мне грубишь! Ты бегаешь в магазин, покупаешь там эти свои… закрепители, и всякую химию. И зачем? Чтоб сделать сто одинаковых серых снимков? Что ты молчишь? Я с тобой говорю или нет?
Ленка прикусила губу. Она знала, лучше бы маме отвечать. Тогда разговор быстро кончится, мама уйдет в кухню пить корвалол и вслух рассказывать о своей загубленной жизни. Но не хотелось. Хотелось молчать, глядя в книгу. И ждать, когда маме надоест. Но в том и петрушка, что чем дольше Ленка молчала, тем сильнее и громче высказывалась Алла Дмитриевна.
— Боже мой! — рыдающим голосом подтвердила мама Ленкины унылые размышления, — да за что мне такое наказание! Ты еще… и бабка еще эта…
— Не к кому прицепиться, так ты ко мне цепляешься? — не выдержала Ленка, изо всех сил захлопывая книгу.
— Что? И не смей! Блока! Это подписное издание! Да я… а тебе бы только портить!
— Мам! Але! Ты хоть сама себя послушай!
Ленка вскочила с дивана и, обойдя мать, сгребла со стола снимки, пихая их в малиновый бумажный пакет. Большую часть фотографий она уже спрятала, и мамино недоумение было с какой-то стороны оправданным, две ночи куковала дочка, подружку притащила, а результатов — три десятка почти одинаковых картинок барышень в комнате Викочки, да не слишком удачные пейзажи Коктебеля. Там Ленке было не до пейзажей, но мама этого не знала. Но все равно, сердито понимала Ленка, пилит ее мать вовсе не за это.
— Я что, не права? — Алла Дмитриевна заходила по комнате, мимо Ленки, которая сидя на диване, натягивала колготки, — нет, ты посмотри мне в глаза и ответь! Скажи, что я не права! Что я обижаю бедную девочку, которая…
— Больше я фотографировать не буду, — ровным голосом сказала Ленка, суя ноги в вельветовые штанины, — довольна?
Мама фыркнула. И прежде чем успела что-то сказать, Ленка снова встала, вернулась к столу и, вытряхнув из коробочки рулончик фотопленки, ножницами отрезала хвост, потом еще и еще, щелкая и роняя на пол черно-серые прозрачные куски.
— О-о-о, — потрясенно не нашла слов Алла Дмириевна, — о-о-о, ну, какая же ты…
— Да! — Ленка шваркнула ножницы об пол, кинула остатки пленки, и выскочила в прихожую.
— Вся в свою бабку! — крикнула мама, поднимая с пола ножницы.
С неба лил скучный зимний дождь, Ленка почти ничего не видела, надвинув клетчатый капюшон до самого носа, бежала, сердито кривя лицо, и остановилась только в подъезде у Рыбки, встала возле почтовых ящиков, шмыгая и стараясь успокоиться. В руках держала красный, чуть намокший пакет. Поразительная у нее мама. Ленка помнила, как мечтала мать, вот уедет Светочка в свой институт, и Сережа будет в рейсе, и бабка решит не приезжать, и «представь, Ленка, будем мы с тобой одни, в трех комнатах, когда еще бывает такое счастье!». И Ленка это очень понимала, потому что летом к ним наезжали родственники — купаться и загорать на море, а в прочие времена в квартире всегда было по разным причинам многолюдно. Две дочери, вечный Светочкин Петичка, папа в кухне, а еще кто-то приезжал по делам, то мамин старший брат с севера, то папина двоюродная сестра. И вот оно, долгожданное мамино счастье. На целых полгода. И вместо того, чтоб полгода радоваться, она без перерыва стонет и грызет Ленку. Громоздит страхи один на другой, и все они насчет будущего. Ну ладно бы сама изводилась, но чего цепляется к ней?
Ленка скинула капюшон и мрачно подумала, — а сама-то? Если уж совсем честно, Елена-краса, чего сама сегодня взбесилась? Ведь не только из-за дурацких пленок, а потому что Валик молчит. А мог бы…
— Вот блин, — разозлилась на себя и побежала вверх по пыльным бетонным ступенькам, рассыпая в голых стенах постук каблуков.
Оля была дома и совсем немного удивилась тому, что Ленка без звонка.
— Залазь, — сказала отрывисто и плюнула в картоночку с тушью, завозила в ней пластмассовой маленькой щеточкой, — давай скорее, в комнату.
Ленка скинула пальто и сапожки, вошла, уселась в продавленное кресло рядом с китайской розой в деревянном бочонке.
Оля плотно закрыла дверь, задвинула маленькую, как игрушечную щеколдочку. И села напротив на диван, вытягивая длинные худые ноги в штопаных шерстяных носках.
— Рассказуй. Мои щас к Надьке поедут, собираются там. У младшего именины.
— Гулять будут? А ты нет?
— Та. Мужики нажрутся. А ты надолго? А то я вечером же…
— Угу, — расстроилась Ленка, — к Гане на свидание, да?
Оля скрестила ноги, вытянула шею, запрокинула лицо к зеркальцу. Прикусила губу и стала бережно водить щеточкой по ресницам. Убрав, поморгала. Утешила Ленку:
— Да то аж в семь часов, куча еще времени. Чего стряслось-то?
Ленка вздохнула. В коридоре громко говорил Олин отец, мать скорбно что-то перечила, умолкая, когда он повышал голос. Потоптались, и после хлопнула дверь. Загремел замок.
— Фу, — сказала Оля, — наконец-то. Жрать хочешь? У меня картошка тушится. С мясом. С деревни привезли кусок.
— Хочу. С мясом хочу.
— Угу. Сиди тогда, я за хлебом сгоняю. Кончился.
Ленка не успела ничего возразить, а Рыбка уже накинула пальто и выскочила, хлопнув дверью.
И Ленка сразу пошла в кухню, потому что оттуда, из окна был виден весь автовокзал, курган в центре, и крыши автобусов. А главное, была видна Оля, вышла из-за угла и, резко отмахивая рукой, спешила к ларечку у перекрестка. Смотреть на нее сверху было интересно и странно. И Ленка, провожая глазами маленькую фигурку в вишневом пальто, с зонтиком над белыми волосами, представила себе все это на снимке — сверху, будто люди — шахматные фигуры. Тут же вспомнила злое обещание, данное маме, порезанную пленку. Вздохнула. Но вот что интересно, вроде бы и взбесилась, но пленку схватила самую паршивую, которая все равно, мало куда годилась, а не ту, где Валик и Коктебель.
Оля пропала в дверях магазина.
Ленка соскучилась смотреть на серые крыши и серый асфальт. Ушла в коридор, и там на тумбочке, стоял телефон, белый, захватанный руками. А рядом вазочка с пластмассовым ужасным цветком.
Два-десять-тридцать… Длинные гудки…
— Алло?
У него был такой сильный, уверенный голос, в телефоне. И в жизни тоже. Голос похож на него, подумала Ленка. И кашлянула. Сказала в трубку:
— Это я. Ну, это Лена. Малая которая. Привет.
— Ленник польского короля! Надумала, наконец?
— Ты обещал сказать, откуда знаешь. Если я позвоню. Вот я звоню.
Он засмеялся. Ленка притихла, стараясь за его голосом и дыханием определить, один или еще кто там в квартире.
— Везучая. Только зашел и скоро ухожу снова. Вовремя звонишь. Леник-Еленик, мне нужно поехать по делам, так что давай быстренько выбеги, на «серединку», за полминуты все и узнаешь. Идет?
— Я не могу, — растерялась Ленка, сжимая в руке теплую трубку и глядя на пластмассовые лепестки, отраженные в зеркале, — я не из дома. Но я тут одна. В смысле, не слышит никто.
— Тогда… — он помолчал немного, наверное, смотрел на свои часы, дорогие тяжелые, все пацаны о таких мечтают, рассказывают, в них можно даже купаться и нырять, — тогда подходи через полтора часа. На «серединку». Только одна, поняла?
Подождал и поторопил с веселым раздражением:
— Ну, ты что там заснула, хвостик? Договорились? Мне пора.
— Но я только поговорить, — поспешно предупредила Ленка, а за входной дверью уже стучали шаги, и скоро Оля начнет скрежетать ключом, — да, договорились.
— Жду.
В трубке запикали короткие гудки. Ленка положила ее, с щекочущим ощущением в животе и мыслью, а надо ли вообще было, и зачем. Но забирая у Оли сунутую авоську с буханкой хлеба и консервными банками, решила, интересно же в конце-концов узнать, кто ему рассказывает их девчачьи секреты.
В кухне, доедая мясо с картошкой, спохватилась:
— Оль, так что послезавтра? День рождения все-таки!
— Та, — ожидаемо сказала Рыбка, подцепила вилкой из открытой банки лепестки перца в томате.
— С Колькой, что ли, будешь?
— Не. Я вообще…
— …не хочу, ну его, — закончила за подругу Ленка, — но у меня подарок, так что не отвертишься. Давай хоть пару часов как-то попразднуем, а, Рыбища? Чего вы нудные все такие? Викуся вечно стонет. Мать мне концерты закатывает. Ты еще тут! Ой.
— Чего ржешь? — подозрительно спросила Оля, елозя по тарелке корочкой хлеба.
— Да мне мать в детстве орала все время, когда я под руку подвернусь. Ты еще тут! А теперь я. То же самое!
— Будем пользовать, — постановила Рыбка, подняла вилку, сурово уставив ее на смеющуюся Ленку, — а то — ты еще тут!
А потом они сидели в комнате. Оля завела проигрыватель, он у нее был маленький, со встроенным динамиком, потому играл так себе. Но какая разница, если пластинка старая, вся в царапинах, как выражалась сама Рыбка «порипанная», а слова девочки знали наизусть. И пока черный диск покачиваясь, послушно крутился, обе, сидя на диване с подобранными ногами, голосили, перекрывая хрипы и трески, скорбное:
— Я знаю теперь… Я знаю теперь… Об одно-м-м. Путь многих потерь Мне виден теперь. И знако-о-ом…— В парк давай пойдем, — в перерывах улещивала подругу Ленка, — а вдруг не будет дождя? Ладно, тогда можно в «Голубой залив» поехать. Там мороженое. С сиропом.
— Та, — с сомнением отзывалась Рыбка, и, закатывая накрашенные глаза, выводила похоронным голосом:
— Боль и обида! Все забыто. Мир праздником стал Как. Шум. Ный. Кар. Навал. Засверкаа-а-ал.— В «Льдинку»! — вдохновилась Ленка, — давай, а? Там диваны кожаные. И слойки!
— Хм, — ответила Оля, роясь в косметичке и вынимая помаду.
— Прекрасно, — удовлетворилась Ленка, — решено. Семачки скажем и дернем.
Она посматривала на часы, которые висели на стенке напротив, и нервничала. За болтовней время шло быстро, уже скоро идти, и стоять, в кустах, а он уже будет там или подойдет, под дождем, а у Ленки дурацкий этот капюшон и, вообще, все пальто дурацкое. И мокрое. А еще вдруг он приедет на машине, станет ее куда-то приглашать. А еще, вот она мучается из-за Панча. И одновременно сама звонит Кингу. Как-то это совсем не так, как пишут в книжках, где героини сидят у окошка и ждут своих любимых до самой пенсии. По идее, Ленка тоже никакого интереса не должна испытывать к мужчинам. В смысле, к парням и мальчишкам. А он есть. Себе ж не соврешь. Правда, другой. Не такой, как раньше.
— Там где клее-он шуми-ит, — перешла Рыбка к еще более скорбной песне, — над речной волной… Малая, пой давай!
— Говорили мы-ы-ы, — машинально подтянула Ленка.
— О любви-и-и с та-а-абой! — заголосила Оля в полный голос.
По батарее грюкнуло, труба зазвенела.
— О, — поспешно вставила между словами Оля, — сосед проснулся… Опустел тот клее-он! В поле бродит тьма!
— Мгла-а-а! — очень громко поправила ее Ленка, валясь головой на Олино плечо.
— А любовь как сон, стороной прошла!!! — проорали вместе и театрально разрыдались, вздымая руки и валясь друг на друга.
Батарея звенела, не умолкая. Стеная от смеха, Оля села, оттягивая пальцами нижние веки.
— Тушь! Потечет ща-ас! Малая, ты еще тут!
— Поднимите мне веки, — басом прокомментировала Ленка, — о-хо-хо!
Устав смеяться, валялись молча, слушали еще одну хриплую старую пластиночку, на которой Роллинги предлагали покрасить все в черный цвет, а потом Мик Джагер мурлыкал про сладкую леди Джейн. И, осторожно пальцем растирая помаду по нижней губе, Оля вдруг потребовала:
— Малая, ну, может, расскажешь уже тете Оле, что там у тебя за роман случился в Планерском? А то я жду-жду.
— Какой роман, — ненатурально и потому глупо удивилась Ленка.
Оля выразительно вздохнула. Часы на стене показывали без пятнадцати нужное время, и у Ленки в голове от волнения образовалась настоящая каша. Она села, коротко вздыхая. И вдруг резко захотела в туалет.
Оля снова закатила глаза, посмотрев, как Ленка, пожимаясь, дергает дверную ручку.
Вышла следом, когда та, уже выскочив из туалета, поспешно совала руки в рукава пальто.
— Оль, я расскажу. Потом. Мне сейчас очень надо. Давай, вот уже после именинов твоих.
— Имениньев, — поправила Оля, — иди уже, со своими секретами.
— Послезавтра, — крикнула Ленка с лестницы, — после школы в «Льдинку», ясно? Смотри у меня!
— Ты еще тут! — метнулось среди крашеных звонких стен.
Дождь перестал, но вокруг капало с неразличимых в сумраке деревьев, а фонари еще не зажглись. Ленка расстегнула пальто, стукая каблуками по дорожке, боком скользнула в кусты, стараясь не задевать мокрых густых веток. И встала под балконом второго этажа, облизывая губы и оглядываясь по сторонам. Из дома слышалась приглушенная стеклами вечерняя жизнь. Плакал ребенок, кто-то ругался, а высоко на балконе кто-то надсадно кашлял. За кустами иногда проходили люди, каждый раз у Ленки начинало стучать сердце, и она слушала, повернут ли шаги на узкую тропку, ведущую к стене. Но все шли мимо. И поначалу она вздыхала с облегчением, а после стала злиться. Казалось, вечность она простояла тут, и нужно было посмотреть на часы, но под балконом темно, вообще не разглядеть ничего. Хотя на ее маленьких часиках цифры светились, но бледненько, и лучше бы выйти на свет.
Свет был, рядом, бросал на трубу желтый квадрат, отграниченный черными линиями — тень от балконных перилец. Ленка шагнула из темноты, вытянула руку, задирая рукав и вглядываясь.
— Вот он, маленький заяц, беленький хвост, — сказал над ее головой знакомый голос — спокойный и веселый одновременно, — привет, беляночка!
Ленка дернулась, мысленно себя за этот дурацкий испуг обругав. Опуская руку, независимо повернулась. Мимоходом недоумевая, странно как-то голос звучит, вроде и рядом, а вроде и…
— Голову подними, — подсказал Кинг, — я тут, на балконе.
Вместо лица Ленка увидела только очертания головы и широких плеч, на желтом электрическом фоне. Шагнула в сторону, попадая рукой в мокрые ветки. Засмеялась от неожиданности. Начала говорить, что-то в шутку, легкое такое, типа ой, ну надо же… И замолчала, вдруг подумав, сколько всего они болтали тут, сидя на теплой трубе или стоя под балконом. Смеялись, замолкали, когда в этой квартире на втором этаже загорался свет, и хлопала балконная дверь. Снова говорили, думая — хозяин квартиры ушел, вон дверь снова хлопнула.
— Зайдешь? Двери налево.
Она опустила голову, и пошла из кустов, не отвечая.
— Леник?
Но Ленка выдралась к подъезду, пылая щеками и устремляясь от дома.
А он выскочил из темных распахнутых дверей, в джинсах и белой футболке в обтяжку, в два шага догнал, мягко, но сильно хватая за плечо и сразу разворачивая к себе. Засмеялся, когда она попыталась вырваться.
— Пусти!
— Злишься?
Ленка топнула, поднимая лицо к его, смутно освещенному светом из окон.
— Так. Так нельзя! Зачем ты?
— Ну, моя дорогая. А что мне было делать? Уйти в горы, как Алитет? Я тут живу. Я же не виноват, что три прелестные барышни выбрали место для своих секретиков под моим балконом.
— Черт, — сказала Ленка, — о черт, а мы тут, о-о-о… блин…
— Угу, — кивнул Кинг, — я прям тащился, когда слушал. Просто кино про девочек. Теперь я даже знаю, когда у кого из вас месячные. И про ваши любови. И про то, что Рыбка собралась переспать с Ганей придурком. Пойдем, Леник, покажу, как я живу.
Она опустила голову, отдергивая руку. И Кинг, поведя плечами, не стал уговаривать. Скрестил руки на белой груди.
— Не лето. Совсем не жалеешь меня. Стою тут голый, с малолеточкой.
— Я домой, — мрачно сказала Ленка, — пока, извини. Я, мне надо, домой.
— Беги. Увидимся, я тебе толком все расскажу. И не копыль губу, не так много слышал, я ж не торчу на балконе часами. Поняла?
Ленка кивнула и пошла, с ужасом вспоминая про ползающего под ногами Кинга, и как Оля предупреждала — не наступи.
— Лен? — окликнул, и Ленка остановилась, потому что с такими, как Серега Кинг, не шутят, несмотря на теплые дружеские шуточки и подначки.
— Телефон свой скажи, — голос его был по-прежнему приветлив, но Ленка испугалась. Что-то услышалось ей в интонациях, новое.
Она назвала номер, и Кинг помахал рукой, темной под коротким белым рукавом.
— Не волнуйся, сперва дождусь твоего звонка.
— А если я не позвоню? — спросила Ленка.
— Позвонишь, — успокоил Кинг, — беги, горда шляхетна полька, красотка-блондинка.
Глава 7
Пакет с фотографиями для Валика получился таким объемным, что Ленка, засунув его в еще один пакет, склеенный из белой бумаги, задумалась, сидя за столом и трогая пухлые краешки. За спиной тихо мурлыкал проигрыватель, гоняя нежные мелодии Поля Мориа, такие подходящие к настроению, а оно сегодня вечером было у Ленки задумчивым и нежным. За дверью слышались женские веселые голоса. У мамы гостила ее телефонная Ирочка. Дамы пили сухое вино, ели принесенный Ирочкой тортик и весело ябедничали другу другу на детишек. Когда Ленка выходила в туалет или на кухню, то слышала обрывки беседы. Усмехалась, доставая с сушилки любимую пузатую кружку.
— Юрчик совсем отбился от рук, ты не поверишь, Аллочка, я у него под кроватью нашла…
Тут голос Ирочки снижался, а после — взрыв хохота и возмущенные восклицания, с оттенком взрослого умиления.
Нашла мама у мальчика, наверное, карты с голыми тетками, догадалась Ленка, унося в комнату кружку с молоком, или перепечатанные через копирку порнографические рассказики. И зря смеются, думая, что пятнадцатилетний Юрчик совсем несмышленое существо, угу, Ленка общалась с Валиком, не такие они и маленькие, в свои четырнадцать или пятнадцать, хотя девчонки ровесницы их, вроде бы, обогнали, и выглядят старше.
— А моя, ты только представь… — возмущенный голос мамы тоже стал тише.
Ленка поморщилась, закрыла двери плотнее, чтоб не слушать ерунды. Но голоса вдруг стали громче. Дамы вышли в коридор.
— Да. Вот и скажи ей, Ириша! Как взрослая умная женщина!
Дверь Ленкиной комнаты распахнулась и она быстро накрыла конверт учебником. Опустила голову, листая тетрадь.
— Лена, — позвала мама с напряженным сюрпризом в голосе, — Леночка, тетя Ира хочет тебе сказать. Что-то.
— Леночка, — душевно согласилась Ирочка, и тень от ее завитой головы упала на раскиданные учебники, — Леночка, мама сказала, у тебя сложный период. Я понимаю. Когда я была девочкой, такой вот (она хихикнула и тень качнулась, рука уцепилась за спинку стула), мне тоже было важно, чтоб мальчики… ну ты понимаешь. Одноклассники. Но учеба, Лена! И институт. Ты должна. Мама правильно говорит. И еще это… поведение чтоб. А вот когда диплом. Хорошая работа. Ну и там…
Ленка с тоской подвинула к себе еще один учебник. Кивнула в ответ на выжидательную паузу.
— Мнэ…, - Ирочка еще полминуты постояла, собирая мысли, и объявила маме, — вот видишь, она все понимает. Правда, Леночка?
— Да, — согласилась Ленка.
— Пойдем, и мне уже, наверное, пора, там Юрчик. Уроки. Ох, Аллочка, не представляю, как ты справляешься. Хозяйство, без Сережи, такой сложный возраст у дочки. А что там Светланка?
— Светка! — спохватилась мама, и они быстро ушли, одна горячо рассказывала о свете очей своих — старшей умнице и красавице Светочке, а другая внимала, гремя уносимыми на кухню тарелками.
Ленка снова выдернула из-под книжек пакет и продолжила над ним думать.
Они втроем совершенно прекрасно посидели в кафе «Льдинка», куда поехали на автобусе, в другой район города, потому что там правда были дивные кожаные диваны, хоть лежи на них, и мягкий свет из развешанных на стенах хрустальных светильничков, а еще превкусные слойки в сахарной пудре и кофе в маленьких чашечках. Как в Прибалтике, оценила их посиделки Оля Рыбка, рассказав заодно совсем уже не местное, странное, что оказывается, там, в этой самой Прибалтике кругом всякие кафешки, где можно просто сидеть и пить кофе, и никто не пристанет, не полезет знакомиться, потому что пришли просто попить кофе и поболтать сами себе.
— Да ладно, — не поверила Викуся, — прям сами сидят и никто не лезет?
— Да, — сказала Оля, — там так принято. Это тебе не керченские пивнухи или столовки, Семачки. С тремя кафешками на весь город.
— Ну… — с сомнением задумалась Викочка.
Ленка рассмеялась, уютно увалившись в угол меж двух высоких кожаных спинок:
— Скажи, Семачки, тоже мне щасте — сидишь и никто не пристает.
— Ну… — снова задумалась Викочка, и девочки посмеялись.
— На дискарь когда пойдем? — спросила Викочка, видимо, спохватившись, что ж давно никто к ним не приставал, — а Кинг ходит туда сейчас?
И вот тут Ленке стало грустно. Она поняла, их жизнь изменилась. Видимо, менялась давно уже, наверное, это так и надо, но вот сидит Вика Семки, с тщательно уложенными гладкими волосами карамельно-пепельного цвета, с губами, накрашенными розовой помадой, и в глупой семачкиной голове воцарился Сережа Кинг, прекрасный и опасный. А еще виновник того, что теперь им никогда не посидеть как раньше, на заветной «серединке», которая всегда была только их местом, таким ценным поэтому. И надо Семачки рассказать, а непонятно, что будет дальше, — если эта мадонна торчала у Пашки на лавочке, то с нее станется, она пойдет ломиться к Кингу в двери. И рассказать Оле тоже, чтоб не трепала языком, когда в следующий раз усядутся на теплую трубу, сунув под попы по учебнику.
Но собираясь совсем расстроиться из-за будущего, Ленка вдруг поняла, что поступает сейчас совершенно как мама, и — не стала. Осмотрела из своего уютного угла столик с крахмальной скатеркой и вязаными смешными салфетками, пустой маленький зальчик, почему-то в «Льдинке» всегда было очень мало народу, мягкий свет, двух девочек напротив. И выбросила из головы тревоги и опасения, оставив себе только удовольствие быть здесь и сейчас.
Потом, уже дома, она подумала, в этой внезапной грусти есть что-то еще, и даже пришла догадка, что именно. Но так не хотелось, чтоб она была верной. И Ленка снова решила пока не додумывать эту мысль до конца, а пусть оно все идет и идет. Тем более, у нее есть свои проблемы и хлопоты. Как отправить толстенное письмо, например.
Она засунула конверт под стопку тетрадей на полке. Уже укладываясь спать, подумала сонно, можно ведь поехать. Опять туда, в сказочную коктебельскую бухту, которую охраняют два каменных дракона. И тьфу на доктора Гену, она уже знает сама, где санаторий, знает обворожительную Веронику, и та обрадуется ей. Даже если чертова Панча там почему-то нету.
«Как это нету», испугалась сквозь наплывающий сон, «он там есть, просто ну… заигрался, нет времени, и вообще».
Утром она поняла, что все решила. Поедет. Сама. Повезет ему фотографии, и побудет там два выходных дня. Принятое решение ее совершенно успокоило, будто она уже доехала и, пробежав по галечной полосе, ворвалась в жизнь «Ласточки», такая свежая, красивая и такая нужная. Он обрадуется, думала уверенная в себе Ленка, танцуя у кухонной плиты, на которой трещала и плевалась жиром яичница, конечно, обрадуется, и почему она должна ждать, она старше, она может подумать и за него. Встретятся. И поцелуются. И гори все синим пламенем, о прочем подумают позже.
В ответ на ее уверенные мысли за окном ярко светило почти забытое солнце, сверкало в тонких сосульках на ветках и краешке балкона второго этажа.
Одеваясь, уже одна, а мама выскочила раньше, Ленка схватила телефонную трубку.
— Рыбища? Ой, извинити, тетя Оля, вас беспокоит Ленка Малая, ну вы знаете, маааленькая такая Ленка, шо на цельный год вас младше. Стала вдруг. Угу, узнали. А то я думала, вдруг у вас, тетя Оля, скрелоз развился, старческий. Молчу. Короче, ты со мной сегодня пойдешь в кассу? Мне билет надо взять. Да расскажу, не волнуйся. Признаюсь, во грехах.
Морозец кусал нос и щеки, но на тротуарах темнели лужицы, обрамляя собой яркие пятнышки вчерашнего снега. Ленка бежала в расстегнутом пальто, дышала сильно, мерно, и была такой легкой, тоже сильной, казалось, пальцем может перевернуть мир, одним лишь движением.
Налетела на Рыбку, которая ждала ее, зевая, и завертела ее, смеясь, обнимая и чмокая возле уха.
— Малая влюбилась, и это серьезно, — констатировала Рыбка, торопясь следом и придерживая падающую на плечи пуховую косынку, — да не беги так, все равно первый урок, считай, прогуляли.
— А что у вас? — Ленка влетела в гулкое здание автовокзала, все изнутри облицованное коричневатой плиткой из полированного камня.
— Та. Физика. Но Кочка ударился в запой, снова прибежит, выдаст самостоятельную, и сам просачкует весь урок.
— Ага, нормально. А у нас классный час какой-то. На первом, прикинь, Валечка вообще с дуба упала.
У окошечка кассы топталась небольшая очередь. И Ленка у самого входа вдруг резко остановилась. Дернула Олю за рукав, утаскивая ее за мохнатый ствол пальмы, окруженный квадратом скамеечек.
— Чего? — грамотная Рыбка послушно метнулась следом, снижая голос, — кто там?
Они встали за тройкой громких дядек в ватниках и больших сапогах, у одного в мешке кудахтали сонные куры, другой разминал пачку беломора, вытряхивая папиросу.
— Бока там. Вот черт. Стой, а это с ним?
У стены рядом с кассой стоял Юра Бока, в распахнутой короткой дубленке, и свитере с открытым горлом. Смеялся, сунув руку в карман и показывая надорванный край. А показывал другому, похожему на него, как брат, неважно, старший или младший, но с таким же уверенно-наглым лицом и поза такая же, с выставленной вперед ногой и расслабленно опущенными плечами. У Ленки нехорошо засосало внутри. Как же назвала его тогда на школьной дискотеке маленькая прелестная Кися, которая материлась грубо, как взрослый мужик у пивного ларька?
— Та не ссы, Чипер! — метнулся под высоким потолком хриплый голос Боки, который знали все на дискотеке и не только там.
Ленка оглянулась, кусая губы и по-прежнему держа олин рукав. Сейчас надо повернуться и выйти, пока они там, возле кассы. Чтоб засранец Чипер ее не узнал. Может и не узнает, ведь у нее совсем другие волосы. А Бока? Уж он ее видел, после нового года. И даже по своей привычке попытался пристать, когда она выходила из дискотечного туалета, правда, особо не выпендривался, должно быть, вспомнил, что за Ленку когда-то вступился Кинг. Но это было давно, и Бока прекрасно знает, что у Кинга таких барышень целая пачка.
Чипер засмеялся в ответ, слегка оскорбленно, дернул из рук Боки белую полоску, наверное, взятые билеты, и быстро пошел прямо к пальме, за которой стояли девочки. Сел, расставив ноги, и шаря в карманах распахнутой черной куртки. Теперь, чтоб выйти, нужно пройти как раз мимо него, подумала Ленка, и народу мало, вот же свинство какое, и пальма совсем оказалась не толстая, а жаль, что не джунгли тут в кадках. Но нужно идти, пока он один, просто быстро пройти мимо…
Она развернула послушную Олю, и вместе они процокали мимо сидящего Чипера, который оторвался от своих карманов, бросая на них оценивающий взгляд.
От кассы приближался Бока, и еще не видел их, вернее, пока не смотрел, говоря с третьим, мелким и незаметным, как некрупный таракан, и таким же суетливым.
— Опа, — заинтересованно сказал Чипер в быстрые спины, — эээ, эй ты, а ну!
Вылетая из стеклянных дверей, Ленка оглянулась. Оба уже стояли, и Бока показывал рукой, на нее. А рядом Чипер, тоже смотрел, слушая, что тот ему говорит.
Вот. Же. Блин!
— Вот скажи! Почему, когда кажется, ну, совсем все супер и супер, обязательно случается какая-то жопа? А, Оль?
Рыбка пожала плечами, торопясь рядом. Крутила головой, то оглядываясь, то осматривая углы пятиэтажек и редких между ними прохожих.
— Билет, значит, не станешь покупать, — подвела итог вопросом, и кивнула на Ленкино молчание:
— Ладно. На «серединку» тогда? Расскажешь все?
— Ох, — нервно сказала Ленка, быстро огибая курган, закрывающий их от входа в автовокзал, — не надо туда. Там нельзя. Может ко мне…
— Эй! Малая! Эй, я кому говорю! — у Боки был странный голос, хриплый и высокий, пронзительный, не перепутаешь ни с кем. И будто все время в нем истерика. Это пугало.
Девочки кинулись на платформу, влетели в автобус, который уже рычал, пуская клубы зыбкого пара из выхлопной трубы. Встали в толпе на задней площадке. Ленка сжала кулаки, торопя водителя, ну давай же, скорее, а то вдруг добегут. Закрывай свои лязгающие двери!
Обе двери, лязгнув, захлопнулись. Оля пошарила в кармане, выудила два талона и сунув в компостер, хряпнула рычажком, прокусывая в бумаге дырки.
— Куда мы едем хоть, Ленк? Успела посмотреть?
— В окне увидим, — подавленно сказала Ленка, проталкиваясь в самый угол качающейся площадки, — вот и сбегала за хлебушком, называется. Фу. Ладно, щас народ повыходит и я тебе расскажу.
В школу девочки успели ко второму уроку, и попрощались в вестибюле, среди бегающей орущей малышни. Оля задумчиво ушла по боковой лесенке в кабинет химии, и Ленка проводила подругу виноватым взглядом. Пока ездили на автобусе, который оказался номером первым, идущим в дальний пригород, она рассказала кое-что о поездке, но не все. Не решилась сказать, что любовь у нее случилась с Валиком, а так как врать пришлось на ходу, то Оля, выслушав, как Ленка бекает и мекает, подбирая слова, рассердилась и сама ее остановила.
— Короче, Лен, надумаешь мне сказать правду, тогда и поговорим, а то слушать тошно, как у тебя глаза бегают.
— Смотреть, — уныло поправила ее Ленка, держа на коленях сползаюший дипломат.
— Чего?
— Не слушать, как глаза. Смотреть тогда уже.
— Ой, молчи, тоже мне грамотная нашлась!
И они помолчали вместе, глядя в замурзанное окно на столбы с проводами и сверкающее за крышами полотно пролива с игрушечными на нем корабликами. Потом Оля сменила гнев на милость, обдумав на этот момент главное, рассказанное Ленкой.
— Так говоришь, этот гад грозился тебя найти? А ты ему про Кинга в ответ?
— Я ж не думала, что он в Керчи появится. Да еще видишь, с Бокой корешует, та кто ж знал.
— Угу. А чего удивляться. У них всякие делишки уголовные, они ж не только в одном городе их делают. Я про Боку слышала, пацаны рассказывали, он парней раздевает.
— Как это? — удивилась Ленка, увидев безумную картину, как Бока, масляно улыбаясь, расстегивает на ком-то рубашку-батник.
— Фу, ну ты иногда, как ваша Инка Шпала. Джинсы снимает и куртки. Потом продают занедорого. Тут заловят кого, а продавать ездиют уже в другие места, на толкучку в Симферополь, видишь, может и в Феодосию. О, мне говорили, с ними даже ваш Андрос одно время терся.
— Санька? — Ленке стало тошно, — вот дурак-то! Посадить же могут.
Оля покивала, соглашаясь.
У кабинета математики Ленка с удивлением остановилась, перед толпой молчаливых одноклассников. Из-за только что узнанных новостей внимательнее пригляделась к Саньке, а тот, как обычно, маячил рядом с Олесей, нависал над ее плечом, сдувая с уха прядь соломенных волос. Олеся, дернувшись от щекотки, хлопала себя по шее, толкала его локтем.
— Отстань, Андрос, заколебал!
Ленка поздоровалась и встала рядом, осматривая собравшихся одноклассников. Звонок уже был, и чего стоят в коридоре?
— А чего стоите? Все тут?
Олеся пожала прямыми мальчишескими плечами. Отвела локоть и пихнула Саньку в ребра. Тот схватился за бок и грохнулся на колени, прижимая руку к груди. Сказал снизу:
— Все пропустила, Каток. А нет, не все, щас вторая серия кина будет.
— Валечка нас бросает, — сообщила Олеся, встряхивая завитыми соломенными кудрями. Мизинцем поправила накрашенные ресницы.
— Ей работу предложили, в горкоме, так что гуд бай беби наша классная руководительница.
— Ничего себе! — Ленка вспомнила Семачкины пророчества, — так мы же выпускной. И как теперь? А ей совсем наплевать на нас, выходит?
— Она классный час собрала, ну стала что-то там рассказывать, и тут хоба ее вызвали, с документами там уже что-то. Так что прискакала химоза и весь урок нам ездила по ушам с повторением материала. Чисто время потянуть. Вот ждем. Валечка вроде придет, закончить. А вон идет.
Классная приближалась, на бледном лице пятнами цвел румянец, и локти резко дергались при каждом шаге. Пройдя мимо суровых подопечных, опустила глаза, теребя связку ключей, вытащенную из кримпленового кармана.
В кабинете все молча расселись и уставились на нее обвиняюще. Классная смешалась, становясь перед партами, потянула за рукав приведенную с собой практикантку — учительницу истории. Та, слегка упираясь, встала рядом, испуганно моргая светлыми невидными ресничками на небольшом круглом лице. Поправила толстую рыжеватую косу и тут же убрала руки, пряча за спину — они у нее заметно дрожали. Ленке стало ее жалко и она увидела класс глазами испуганной девушки, возрастом, как сестра Светка. Тридцать пять парней и девиц, вполне взрослых, и настроенных явно не благожелательно.
— Вот, — сказала классная и прокашлялась, — прошу, как там, любить. Маргарита Тимофеевна доведет вас до выпускных и… в общем, вот так.
Класс зловеще молчал.
— Угу, — издевательски сказал Санька Андросов.
Валечка вскинулась, отыскивая его глазами:
— Так. Андросов. Сейчас отправишься к директору…
— Угу, — не согласился Санька, вытягивая в проход ногу в старом ботинке, — а не имеете права. Вы нам уже никто.
— Я… — бывшая классная замолчала.
После паузы Санька спросил задушевно:
— А скажите, Валентина Георгиевна, вы почему нас бросаете? Всего осталось три месяца, чо, подождать было в падлу?
— Андросов, — беспомощно воззвала Валечка, всем корпусом поворачиваясь к Маргарите. Та задрожала уже не только руками, но и губами.
По классу пронесся одобрительный ропот.
— Да, — шелестели негромкие слова в одном углу, и в другом.
— Ага, точно.
— Почему?
— Расскажите, а?
— Санька прав.
Ленка тоже кивнула, молча. Ей было жалко Маргошу, на которую свалилось внезапное классное руководство над самым отчаянным и раздолбайским классом среди трех десятых. И обидно за всех этих раздолбаев, потому что даже при равнодушной Валечке и при не сильно теплых, вроде бы, отношениях между одноклассниками, в самые жесткие моменты они как-то оказывались вместе, будто оно происходило само по себе. Так было, когда хоронили угасшего от водки отца отличника Славы Перепича, который так и не оправился после смерти жены. Всем классом тогда пришли в замызганную Славкину квартиру и отдраили ее до блеска, Олеся бегала в похоронное бюро вместе с бледным как смерть Славкой, а Ленка с девочками резали салаты и обходили соседей, собирая деньги на венок.
Так было, когда вдруг с подачи того же шального Андроса, решили порадовать заболевшего военрука и легко победили на дурацком слете строевой песни — поставили на уши всю трибуну, пройдя через площадь с диким уханьем и посвистом, орали марши так, что у Ленки потом неделю горло саднило.
А еще каждый май именно их класс собирался на маевки, на второе мая и на девятое, уходя в дальние степи на Азовское побережье и возвращаясь к вечеру. Уставшие, слегка еще хмельные, но все живые и здоровые, с букетами тюльпанов, исцарапанными в боярышнике локтями и с красными от первого солнца носами. Все это происходило совершенно отдельно от школьных планов и отчетов, и от классной Валечки тоже, без чьих-то инициатив и команд. И Ленка иногда думала, наверное, самое ценное — то, что случается само, без пинков и приказов.
Но, сидя среди суровых одноклассников, одновременно понимала, они все немного играют в обиду. Наверное, потому что всегда и постоянно взрослые были правы, так полагалось, а они — раздолбаи, всегда виноваты. И вдруг наоборот — можно обидеться на Валечку с полным правом. Сидят теперь, обижаются… А Маргошу бедную жалко.
Маргошу стало жалко и Саньке Андросову тоже. Он встал, опершись ладонями и нависая над партой широкими плечами:
— Добро пожаловать, Маргарита Львовна, ой простите, Тимофеевна…
— Лев Маргаритыч, — внятно прошептал кто-то, и Маргоша отчаянно покраснела.
— Будьте, как дома, — продолжал разливаться Санька, — с нами хорошо, весело, вот увидите.
— Андросов! — в отчаянии завопила Валечка, приходя в себя, — да ты что творишь? Я все еще и ты именно к директору сейчас! Со мной!
— Это как Маргарита Тимофевна скажет, — Санька прижал лапу к груди, поклонился. И замер в полусогнутии.
— Не надо, — сказала Маргоша ясным, немного сердитым голосом, — не надо к директору, все в порядке. У нас все будет хорошо, Валентина Георгиевна, не волнуйтесь. Садись, Саша, спасибо за радушие.
Все зашевелились и захихикали. Санька медленно сел, не отводя глаз от сердитой Маргоши, раскрывающей на весу журнал.
— Получил, Андрос, — внятным шепотом подытожила Олеся, — Са-ша…
И все, услышав шепот, освобожденно заржали, валясь на парты.
На перемене перед последними уроками — была физкультура, Ленка стояла вместе в Олесей в тупичке коридора за распахнутой дверью туалета. Слушала, как Олеся, переминаясь стройными мускулистыми ногами в ношеных полукедах, пилит Саньку. Он стоял вместе с ними, прислонясь к стене и согнув смуглую ногу, покрытую темным пухом. На спортивные трусы, небрежно перекошенные на бедрах, Ленка старалась не смотреть, равнодушно поглядывая в окно за олесиным плечом.
— Что-то ты сегодня воспарил, Санечка, — язвила Олеся, одергивая на боках тесную, ушитую вручную красную футболку, — прям соловей. Влюбился, что ли?
— А чо, — покладисто согласился Санька, поменял ногу, ухмыльнулся, почесав подбородок, — Маргоша вполне товарного вида барышня, коса такая, как в кино про сибирь какую-то. Ей бы еще туфельки модные, ну и глаза накрасить, и будет ваще суперски.
— Ой-ей, — Олеся смешалась, не найдя сразу ответа. Фыркнула, сказав медленно, подчеркнуто по слогам, — Са-ша!
Задрав круглый подбородок, пошла к спортзалу, откуда гулко орали и кто-то громко шлепался на маты.
Санька проводил ее взглядом и повернулся, подмигнул Ленке:
— Да, Каток? Любовь, кругом любовь. Как это в книжках — юношеская гиперсексуальность. Скажи, Каток, я как — сексуальный?
— Угу, — кивнула Ленка, — гипер. Мне у тебя спросить надо, Сань. По делу.
— После физры, — предложил Санька, — идет? Выйдем вместе, расскажешь.
И ушел следом за Олесей, мерно шевеля лопатками, обтянутыми выгоревшей синей футболкой с линялым самодельным трафаретом на спине — череп и кости.
Ленка качнула дверь, раздумывая, не заскочить ли в туалет перед уроком, и застыла, моргая. За дверями стояла Маргоша, мяла пальцами конец рыжей толстой косы. Краснея, кивнула Ленке и пошла за угол коридора, почти побежала, топая некрасивыми туфлями на толстой подошве.
— Вот черт, — шепотом пожалела ее Ленка, ныряя в кафельную пустоту сортира.
И Санька еще этот, со своим трепливым языком.
Глава 8
Девушки, чернокожие и круглолицые, пели о солнце, танцевали, блестя зубами и переливаясь одеждами. Поднимались руки, рукава сползали к самым плечами, и топали ноги, охваченные ремешками серебряных босоножек, такие бы вот на выпускной, но разве ж такие где купишь.
— Санни, — пели звонкие голоса, и у Ленки сердце сжималось от желания вырваться из зимы, которая все длилась, длилась, и никак не хотела кончаться, — естедэй май лайф воз фил из грей.
Или рейн? Неважно. Главное, что серое и дождливое осталось в зимнем вчера, а вместо него засверкало солнце и после непонятных слов такое торжествующее, конечно, солнечное — ай лав ююю-уу…
Она сидела в комнате, на диване, прижав к животу полосатую подушку, и шмыгала, наревевшись до совершенной пустоты в голове. Ну и день, с самого утра. Не просто так, получается, набежала она на Боку с Чипером, это были только цветочки, вот получила и ягодки, к вечеру.
В коридоре прошла мама, молча, в кухне чем-то зазвенела и после грохнула кастрюлей. Ленка вздрогнула. Подумала с усталой злостью, хоть бы телевизор включила, чтоб не прислушиваться к ее ледяному молчанию.
В школе после физры Ленка переоделась, выскочила в коридорчик, отыскивая Саньку, и не увидела. Свернула в большой коридор, пошла мимо кабинетов, раздумывая, искать ли Рыбку, или просто поехать домой и снова обдумать насчет письма. И — брать ли билет. Но Андрос сам догнал ее, толкнул локтем, быстро идя рядом.
— На улице холодрыга, пошли в химию, в лаборантскую.
— Там же Карамеля сейчас.
— Не ссы, Каток, нормально.
Он по-хозяйски повернул ее за плечо, толкая на лестницу. Первым зашел в кабинет химии, и через минуту вышел, так же по-хозяйски подталкивая Олю Карамелю, которая в перерывах своей секретарской работы была еще и лаборантом на полставки. Карамеля любопытно оглядела Ленку, поправляя вырез пуховой розовой кофточки, надула губы, обижаясь на Саньку. И ушла, оглядываясь.
В длинной узкой комнате, заставленной штативами и колбами, Ленка прошла к окну и села на выдвинутый Санькой стул. Сам он, опершись руками, легко уселся на стол, так что его бедро оказалось у Ленки под самым носом.
— Колись, Каток, чо случилось, — велел задушевно.
Покачивая ногой, выслушал ее рассказ про Боку и Чипера.
— Ты их вроде знаешь, Сань. Чипер он как — он сильно опасный? По-настоящему?
— Ну, ты влипла, Каток. Чипер та еще гнида. Я ж от них не просто так свалил. Там тебе не школа с Валечкиными выебонами. И даже не к директрисе вызвать.
Санька покачал головой, продрал пятерней темные кольца волос.
— У него бзик, как у бакланья бывает, типа, у меня желтая справка с дурдома, порежу, и мне нихуя за это не будет.
— Ну, — дрогнувшим голосом сказала Ленка, — сколько их орут про справки, врут же все.
— Жопа в том, что не просто орет, он уже сидел, понимаешь? Пацана покалечил, вкатили за тяжкие телесные. Если он тебе глаз выбьет, тебе легче, что справки нет, и сядет?
Они помолчали. В коридоре и на лестницах бился утихающий школьный шум, такой привычный — топот, крики, смех. Санька дернул листок со стола, устроил на колене, складывая неровный самолетик.
— Чипер с нашими дела имеет, потому щас мотается в Керчь, часто. И у себя, в Феодосии они трутся рядом с автовокзалом, пивнуха там за домами, так что, считай, как на работу туда лазят, днем. Заодно пасут, кто куда едет. И с наперсточниками у них тоже всякие макли. А там ваще все серьезно. Так что, Ленка, если тебя взяли на примету, то лучше с автобуса не вылазь, когда едешь. Чо, посиди полчаса, и дальше. Куда там надо.
— Так мне в Феодосию надо, — подавленно ответила Ленка.
— Что, так сильно? — удивился Санька, — ну я не знаю. На тачке разве. Или чтоб кто-то писался за тебя, по-серьезному. Я тут не помогу, сам, считай, убежал от них. Вовремя свалил, не успел там вляпаться. Менты не ищут и ладно. А ты с новыми волосами, вообще как светофор, тебя за километр видать, мужики, наверное, пальцем показывают. Да?
Ленка кивнула, вздыхая. Слышать это было зябко, но одновременно приятно.
Санька откинулся, щуря глаз, метнул самолетик. Тот сперва ушел вниз и вдруг, клюнув бумажным носиком, взлетел, тыкнулся на верхнюю полку фанерного стеллажа и затих между темными бутылями. Санька спрыгнул со стола.
— Ну, все? Пошли, а то Карамеля меня сожрет. А вот еще, слушай. Тебе Маргоша, как вообще?
— В смысле как классная? — спросила Ленка и смешалась, ругая себя за тупость, и правда, бывает она наивнее Инки Шпалы.
Санька хмыкнул, поднимая густые брови.
— Да поняла я, — поправилась Ленка, — ну… я не знаю. А тебе?
Андрос кивнул, пропуская ее к выходу:
— Мне очень даже. И давно.
Ленка хотела удивиться, сказать насчет Олеси, но двери уже открывались и вообще, чего нос совать. Сказала только:
— Она слышала, Сань. Ну, когда ты про туфли.
— А я знаю, — ответил Андрос и ухмыльнулся, — знаю.
Домой Ленка ушла сама, пешком, чтоб как-то обдумать плохие новости. Ветер залезал ледяными пальцами между пуговиц, тыкался в шею и под капюшон, был злым, настырным, не стихал, подвывая и мечась в голых деревьях. Ленка от него совсем устала и почти побежала, подворачивая ноги на мерзлом кривом тротуаре. Мысли из-за ветра никак не хотели выстраиваться верно и тоже спотыкались, и от них Ленка устала тоже.
Нажимая кнопку звонка, потому что ключ в скважине не поворачивался, а значит, мама уже пришла, порадовалась тому, что Бока не знает, в какой школе она учится, а значит, пока этого не узнает и Чипер. Прочее додумаю в тепле, решила с облегчением, ступая в тесную прихожую.
И сразу насторожилась. Мамино настроение она умела угадывать по шагам и даже по ее молчанию.
— Мам? А у нас такие новости. Классная уходит, и будет новая, молодая совсем… Мам? Что случилось?
Алла Дмитриевна вернулась из кухни, уничтожающе глянула на дочь и молча прошла в свою комнату. Что-то там бросила на столик. Чем-то стукнула. И снова вернулась, не глядя на Ленку, строевым шагом прошла к ее двери и распахнула настежь, хлопнув о стену пронзительно-розовую блондинку с ногами в сеточку.
— Ну? Может, объяснишь? Это вот.
Ленка, скинув сапожки, повесила пальто и прошла за мамой. Встала, с мгновенно пересохшим горлом, глядя на рассыпанные по дивану снимки.
Лежали глянцевые, яркие черным и белым, и было их много. Ну да, еле поместились в пакет из-под фотобумаги, невнятно подумалось Ленке.
Везде на снимках был Валик Панч. Смеялся на фоне воды, воздев руки, увешанные ракушечными ожерельями. Сидел, глядя на волны. Стоял, тонкий, с закатанными штанинами, босой (Ленка вспомнила, как орала на него, чтоб быстро обулся и не лазил, дурак, по холодной воде), показывал рукой на выпирающий бок черной скалы. Смотрел прямо в объектив, улыбался. И этот снимок Ленка полюбила больше всего, крупный, все-все на нем видно, и можно трогать пальцем всякие Валика мелочи — пушок на верхней губе, щербинку на переднем зубе, и одна бровь немножко другой формы, а еще…, и еще…
Его она напечатала дважды, как почти все, и второй отпечаток спрятала отдельно, в книге, чтоб под рукой. По вечерам, когда засыпает.
Еще там была Ленка, тоже россыпью, надо же, как много успели наснимать. И поверх рассыпанных улыбок, лохматых голов, скул, уха, пальцев на сумке и колене, поверх линии горизонта и уходящего к ней старого пирса с домиком-скворечником, лежали фотографии, на которых — два лица, с двумя счастливыми улыбками, крупно, щекой к щеке. Пальцы Валика у самого края кадра, так что понятно, он Ленку обнял и прижал к себе крепко, а она смеется.
Мама нагнулась и взяла верхний снимок, перевернула его, придвигая к Ленкиному лицу. Мелкие буквы сливались в одну волнистую линеечку, а под ней другая, и так до самого низа белой изнанки.
— Я… я бы и не поняла, ну мало ли, мальчик. Обругала бы. Конечно. Знаешь за что. Но — это! Ты как могла вообще? Я не понимаю!
Она дернула рукой, снимок упал на пол, перевернулся, показывая две улыбки.
А потом мама без перерыва что-то говорила, и у Ленки в голове это что-то путалось, как у совсем маленькой, кололось отдельными злыми словами, такими, что она успевала удивиться, какие они… ненужные, грубые и совсем не про то. Она сначала стояла, перед маминым белым лицом, а когда та начала кричать, отвернулась, у шкафа машинально разделась, складывая вещи на полку. Накинула и застегнула халат, плохо попадая пуговицами в петли. Ушла к окну, взялась потными пальцами за штору, прижимаясь животом к подоконнику. Но мамин голос догнал, кидался сзади, тыкаясь в голову и уши, и снова она говорила какие-то несуразные, безжалостные вещи, на какие Ленка не знала, что отвечать, потому что ведь маялась и сама, долго, и даже когда все решила, то продолжала пугаться своего решения, особенно просыпаясь по ночам и глядя в неясный потолок дневными, без сна, глазами. Но слушать мамины злые слова стало невыносимо, и она закричала, дергая штору:
— Замолчи! Хватит уже. Замолчи!
Зная, что этим вызовет не молчание, а очередной взрыв. Так оно и стало.
Мама уже не стояла за спиной, она ходила по комнате, резко, иногда брала клубок, лежащий в углу дивана, мяла его и швыряла обратно, потом подхватывала книгу, с размаху шлепала ее на полку, откуда валилась другая и мама хватала ее, сминая раскрытые страницы. И по ее словам, что текли все быстрее, торопились, налезая одно на другое, выходило, что Ленке нет прощения, а что она просто выродок, развратная психопатка, с чудовищными наклонностями, и как же теперь, ну у всех дети, а тут именно горе и по-другому не скажешь.
— Драгоценный! — язвительно кричала Алла Дмитриевна, цитируя ленкины слова с изнанки снимков, — Валинька, братишка мой драгоценный! А это? Прости! Прости, что испугалась, не загадала, когда сидели. Под… под оде-я-лом! Зато сейчас. Люблю. Что? Как это? О чем? Люблю, значит. И хочу, вместе.
Мама замолчала, наново подавленная дочкиными откровениями. И села прямо на фотографии, хватаясь за виски.
— Бо-же! Боже мой, наградил же ты меня. Наказал. Что я такого сделала?
— Причем тут ты, — угрюмо сказала Ленка, — ну я выродок, а ты причем?
— Не смей, слова такие!
— Ты сама мне. Слово это.
А хуже всего было то, вдруг поняла Ленка, что случился с ними тупик. Кроме этих криков мама ничего не могла сделать, ведь не запрешь почти уже взрослую девицу, и не уехать куда-то в Африку, чтоб потерялся и след. Потому она будет орать, награждая Ленку оскорбительными прозвищами. И целыми днями пилить ее, попрекая.
Она вдруг изо всех сил захотела исчезнуть. Отсюда, совсем-совсем. Может быть, даже умереть, лишь бы не слушать, и не думать о том, что мать, конечно, права, все выходит так криво, косо, не как у всех. И возможно, это действительно, очень плохо. А еще…
Но думать совершенно не было сил.
Ленка вскочила, метнулась мимо матери снова в прихожую. Резко дернула к себе пальто, в которое вцепилась Алла Дмитриевна.
— Куда? На гульки свои собралась, юбку задирать?
— Мама, — шепотом сказала потрясенная Ленка, — замолчи, да заткнись же, нельзя так!
Вылетела в подъезд, шлепая тапками и держа у горла расстегнутое пальто. Сбегая по ступенькам, рванула дверь, ветер загудел, раскачивая и звеня пружиной. И столкнулась с маленькой почтальоншей, которая, охнув от неожиданности, не стала отходить в сторону, мешая Ленке выбежать.
— А вот вам, как раз, — быстро проговорила почтальонша, суя Ленке конверт, — а газет нету, завтра газеты, письмо вот.
Из дверей квартиры что-то крикнула мама, но увидев женщину, замолчала, и вдруг, к ошеломлению Ленки, поздоровалась, вполне нормальным голосом.
— Добрый день, тетя Вера.
— Газеты нет, — пропела та, лязгая замком почтового ящика, — завтра вот.
— Да. Конечно.
Ленка не стала слушать дальше, вышла, опуская голову и неся перед собой мятый конверт. Увидела край подписи и, остановившись, разжала пальцы. Ахнув, побежала, шлепая тапками, ветер холодил голые пятки и икры, халат облепил ноги.
В соседнем подъезде было тепло и тихо, сумрак разбавлял жиденький свет в пыльном стекле на двери. Ленка встала у батареи, отковыривая приклеенный клапан. Тот порвался посередке, и она, как все, оторвала сбоку полоску. Прерывисто вздохнула, непослушными пальцами дергая краешек сложенного листка.
«Привет, Ленка Малая! Ну ты поняла кто тебе пишет, да? А если нет, там внизу подписано, прочитаешь. Ты прости, я сразу не писал, тут приехала мать, и куча была всяких глупых дел, не хочу про них, а еще я тебе звонил, два раза. И молчал, как партизан. Лен, я напишу тебе потом, ладно? У нас изменилось все, матери предложили работу хорошую, и она там меня оформила еще в новую школу, лечение у них нужное есть. Это на год. Ну, получается с февраля и до нового года. Я не могу тебе сейчас много писать, блин я вообще не могу, потому что надо много, а нет времени. Так все глупо. Лен, ты мне напишешь? Ты напиши, да? Я тебе пришлю письмо с обратным адресом. Скоро. Когда мы там уже поселимся, я сразу напишу. И буду ждать. Я позвоню.
Малая, ты самая красивая.
Валик Панч».Ленка медленно перевернула листок. Осмотрела белую изнанку в еле видные клеточки. Аккуратно оторванный краешек — выдирал из школьной тетрадки. Снова открыла листок и перечитала письмо, поднося к мокрым глазам. Спохватившись, перевернула конверт, и с холодеющим сердцем внимательно прочитала свой адрес и ниже — одно слово — Коктебель.
— Куда? — потерянным шепотом сказала Ленка Малая, держа в руке листок и конверт с надорванным клапаном, — где? Куда уехал-то, Валик?
Злясь, она снова осмотрела конверт, и вдруг, сглотнув, поддела ногтем край, что остался приклеенным, отлепила его и разгладила. С изнанки клапана было написано мелкими печатными буквами:
«Лена Малая, я тебя люблю».
И вот тут Ленка заплакала. Прижалась к пылающей батарее спиной и голым локтем под сползающим краем пальто. И глядя на буковки, позорно заревела, кривя губы и изо всех сил шмыгая носом, чтоб не потекло. Иногда тихо подвывала, водя глазами по сторонам. И снова пыталась разглядеть буквы через мокрые ресницы.
Хлопнула дверь наверху. Кто-то смеялся, удивилась Ленка, а чему тут смеяться? Разве можно смеяться…
Шаги зашлепали вниз и она, сжимая письмо и подхватывая пальтишко, вылетела из подъезда.
— Ленуся! — со своего балкона орал ей Пашка, пританцовывая от холода и маша голой рукой, — айда ко мне, Ленусь, давай, я жду.
— Уйди, Паш, — попросила она шепотом, быстро идя к своему подъезду, — отстань.
Мама открыла ей и молча ушла к себе, с оттяжкой треснула дверью, та грохнула, захлопываясь.
Ленка вошла в комнату, посмотрела на гору обрывков, блестящих на полу у дивана. Тихо закрыв двери, подперла их креслом. Села с ногами на диван, уложила на коленки подушку. И, сжимая письмо в мокрых пальцах, снова заревела, очень тихо, чтоб не услышала мать.
Глава 9
В конце февраля на базаре появлялись первые настоящие цветы. Не те, на толстых стеблях, огромные красные колокольцы, что тетки срезали в горшках у себя на подоконниках, Ленка знала — амариллисы, красивые конечно, но они совсем из горшков, а значит, все же ненастоящие. А первые подснежники и бледненькие оранжерейные тюльпаны. Подснежники продавали на углах тетки в старых пальто и испитые мужики в ватниках и поношенных куртках. Держали в руке сразу кучу тугих пучочков, спеленутых мрачными листьями плюща. И Ленке всегда было их жалко, хотелось купить все, чтобы рассечь тугую нитку и высыпать белые поникшие горошины на маленьких стеблях в воду, чтоб вздохнули. А тюльпаны, хоть и более настоящие, чем толстые комнатные амариллисы, она не любила, слишком уж заметно, что их заставили вырасти и расцвести, когда сами они еще хотели бы спать в своих луковицах, дожидаясь уверенного солнца.
Ах да, еще были гиацинты, плотные, как лепленные из пластилина, с ошеломительным запахом, таким роскошным, будто их полили сверху духами, и получить такой цветок на день рождения, да, было здорово. Но сердечно полюбила Ленка другие. Новенькие цветы, раньше не было таких, но вот уже пару лет именно к ее дню рождения на рынке в ведерках появлялись желтые, белые и розово-алые грозди на высоких изящных стеблях — по пять-шесть цветков на каждом. И сами цветы прекрасны, прихотливо свернутые из живой чуть прозрачной бумаги лепестков, и запах — нежный, но уверенный. Имя носили сказочное — фрезии, и оно им очень подходило.
Вот и все цветы, которыми керченская зима встречала март, но Ленке вполне хватало, и каждый год она радовалась тому, что день рождения и цветы обязательно будут. А прочие подарки не слишком ее волновали, того, чего хочется все равно не получить, думала Ленка, а что получаешь, оно какое-то все не особо и нужное. Подарили и спасибо.
Фрезии и подснежники провожали вместе с ней зиму и встречали весну. Для цветов у Ленки были специальные, ее собственные вазы, в городе был завод стеклоизделий, где не только штамповали скучные майонезные банки и молочные бутылки, но имелся там цех художественного стекла, куда школьники ходили на экскурсии, смотреть на огненные леденцовые фокусы. И во всех магазинах и магазинчиках города продавались не только выводки стеклянных лебедей с пузырями в круглых животах, и пепельницы в виде тяжелых застывших клякс с неровными лучами, но и множество ваз, вазочек, и всяких фигурных бутылочек. Стоили они сущие копейки, и Ленка с большим удовольствием выбирала, чтоб нравились, чтоб именно ей.
Самая любимая ваза стояла на письменном столе. Круглая, как медовый шар, с высоким узким горлом, похожая на колбу алхимика, а еще на спокойное густое солнце, и над ней, на тонких стеблях, бабочками — алые небрежно свернутые цветы. За ними, в окне маячила серая дорога, голые ветки деревьев, низкий бетонный забор, обрывающийся у бельевой площадки, и за ним Пашкина пятиэтажка — песочного цвета, в хмурые бессолнечные дни тоже совсем серая. Так что медово-желтая ваза с красными цветами на зеленых стеблях очень получалась к месту.
Вечерами серый мир темнел и прятался за шторой, включалась настольная лампа, и круглое солнце, наполненное водой, загоралось неярким медовым светом. А цветки становились почти прозрачными. Те, которые умирали, Ленка осторожно срывала, оставляя живые, и было это как ее личный календарь, приближающий настоящую весну. Ленка знала, сидя спиной к комнате, к закрытой двери, за которой ходила мама, а за ее шагами мурлыкал телевизор, — цветы кончатся, а весна еще не придет, но можно сманить девочек на дальний пустырь, набрать веток миндаля, расставить их в вазы, и они тоже помогут дотянуть до зеленой листвы и яркого, настоящего солнца.
В этом году фрезии стояли долго. Ну, хоть так, усмехнулась Ленка, стряхивая в ладонь увядшие колокольчики — на стеблях остались всего по одному, на самых макушках. Красный и два желтеньких, и уже растеряли свой запах. Но все равно молодцы, уже середина марта. За шторой гудел ветер, иногда стихал и снова кидался, и тогда в стекло царапалась колючая снежная крупка. Каждый год в начале февраля кажется — вот она, весна, почки зеленые, солнце, и кругом свежая травка, которая вылезла еще в декабре. И каждый год после самых теплых зимних деньков неумолимо приходила февральская зимка, лютовала, длилась без конца, забираясь в март и не желая отступать. Никуда от нее не денешься. Только ждать апреля.
Он придет, так же обязательно, как приходят последние злые холода. Его можно ждать, хоть это и тоскливо и скучно, долго. Но он придет.
А вот как ждать того, что неизвестно, будет ли, Ленка не знала. И промаявшись весь последний месяц, поняла — не умеет. И некому научить.
Держа в кулаке смятые цветки, встала, сдвигая на угол стола учебники. Надо выйти, выкинуть, да может быть сделать себе чаю.
Телевизор заболтал громче, зашуршали в коридоре шаги.
— Лена, — мама приоткрыла дверь, не вошла, но встав на пороге, внимательно оглядела комнату, — ты сделала уроки? Чай будешь?
— Нет, — Ленка пошла к двери, открыла ее полностью и прошла мимо матери, включила свет в кухне.
— Я совершенно не понимаю, на что ты снова дуешься. Ну поссорились. В первый раз, что ли? И давно уже. У тебя такой тяжелый характер, просто ужасно. И ты должна понимать, что ты была неправа. А я говорила…
— Угу.
— Ну, может быть я сказала чересчур резко, но чистую правду!
Ленка хлопнула крышкой ведра и повернулась.
— Ты чего от меня хочешь? Никуда не хожу. Делаю уроки. Сижу дома. Какого черта еще надо от меня? Чтоб я прыгала тут и скакала? Песни пела?
Алла Дмитриевна взялась за виски. Тонкие брови страдальчески поднялись.
— Началось! Да, мне интересно, почему ты никуда не ходишь. В твоем возрасте надо общаться со сверстниками, конечно, в разумных пределах, но надо. В секцию записалась бы, спортивную там. Или шахматы. Чтобы культурный досуг, вон у тети Анжелы дочка ходит во дворец пионеров, танцевальная студия, такие все милые девочки.
— Не то что я.
— Да! Именно! Никто из них такого не учудил бы, как ты устроила мне. И после этого еще сидишь целыми днями надутая, как мышь на крупу!
Ленка открыла рот, чтоб снова спросить, ей что — песни петь и танцы плясать, но поняла, язвительный этот вопрос полминуты тому задавала, чего повторяться. Тем более, мама иронии в нем не услышала.
И снова хотелось спросить, нет, прокричать, да чего же хочет она от дочери, но Ленка знала, чего. Именно, чтоб пела, улыбалась, и как будто ничего и не было, фу-фу, улетело, растаяло, притворимся, что у нас все хорошо, любящая мама, прилежная дочка. Да и ладно бы с обидами, Ленка привыкла их в конце-концов отметать и выкидывать, потому что мама всегда в своей правоте стояла насмерть. Но как быть с тоской от этого невнятного ожидания? От того, что Валик Панч, такой прекрасный, такой уже совсем-совсем Ленкин, потому что она решила и кинулась в это решение, с холодеющим сердцем и с песней в душе, он — исчез. Нет адреса, нет писем и не звонит. Он обещал и Ленка верит, но он написал — год. А вдруг он напишет через полгода? Или вообще не напишет? Как ждать? Да еще постоянно в голове крутится мысль, наверное, так ждал ее письма Вася Кострома, где-то там, в армии, стриженый под ноль, в каком-нибудь окопе, или землянке, ну в казарме, в общем. Ждал, не зная, ответит ли. А она так и не ответила. Вдруг это ей наказание за вину? Теперь испытай, Малая, то, что заставляешь испытывать другого, теперь это же происходит с тобой.
А самое паршивое, что совсем не с кем об этом поговорить. Оля знает, что Ленка влюбилась, но это и все. И будет ждать, когда ее Малая сама соберется рассказать подробности. С Викочкой Ленка особо не откровенничала никогда. Так с самого начала повелось, дружили Оля и Ленка, а Викочка прилипла к ним позже и оставалась немного сбоку-припеку, и потому что младше, и из-за своего мрачного обидчивого характера, да и сама она часто пропадала, то уезжая с родителями по многочисленным родственникам, то приставая к компании одноклассниц. Да и что Викочка посоветует в таком сложном запутанном деле.
Вот если бы не имел на нее видов Кинг, подумала Ленка, возвращаясь в комнату и распахивая шкаф, он умный и спокойный, наверняка сказал бы что-то нужное, что помогло бы ей жить. Но как ему плакаться, страдая о другом парне? Да после истории с балконом остался у Ленки нехороший осадок, даже когда собиралась подумать о том, что вот, рассказать бы… то мысль эта не думалась до конца, будто на нее наступали ботинком.
Жалко, что нет адреса Пети-фотографа. Вот он бы понял. И поговорил. Почему-то так казалось сейчас Ленке и из-за этого «почему-то» она даже простила Пете его глупые намерения наделать с нее эротических фоток. Она же объяснила тогда Кингу, что Петр хотел не денег, и не полапать, наверняка хотел другого. Раз она так сказала, то оно так и есть. Наверное.
— Ты куда собралась?
Ленка очнулась от размышлений, сунула голову в свитер, висящий на руках, и, вылезая из тесной горловины, поправила волосы. Не удержавшись, сказала, уже зная, что последует:
— Во дворец пионеров. На кружок с танцами.
И под мамин монолог, говоримый высоким от злости голосом, ушла к зеркалу — расчесываться.
Обуваясь, дождалась паузы.
— Я к Оле, вернусь в одиннадцать.
А еще, думала она, уже сидя с ногами в маленькой комнате Оли, где сильно дуло по полу сквозняком от старой балконной двери, несмотря на свернутое одеяло, подоткнутое к порожку, еще паршиво то, что после нового года и с ней, с Рыбкой разладились у них отношения. Совсем увязла ее подружка в своем любовном треугольнике. И изменилась.
Оно вроде и понятно, думала Ленка, глядя на Олин профиль и волосы, просвеченные настольной лампой, на руку с длинной щеточкой. Рыбка красила ресницы тушью, которую ей подарила Ленка. Когда-то в бонном магазине выбрасывали, и маме досталось две штучки, Ленка выпросила обе, спрятала, до дня рождения. И сама не пользовалась, чтоб вместе начали новенькую импортную тушь.
Понятно. Оля девочка, как выражалась Ленкина бабка — характерная. С ударением на второй слог. И теперь, когда все затянулось, и она уже привычно делит своего Ганю с соперницей, понимая, как унизительно для нее — ждать, когда та уезжает, встречаться тайком, а после делать вид, что все нормально, что вроде и нет ничего, а оно ведь есть, — теперь Оле стыдно, и она все чаще молчит, ничего не рассказывая.
— На дискарь пойдем? — отрывисто спросила Оля, безжалостно крутя щеточку в синем пузатом цилиндрике.
— А… я думала. Ну что ты…
Ленка не захотела продолжать, зная — у подруги запылают впалые щеки и сузятся глаза.
— Та, — Оля махнула рукой, снова вытянула шею, и, сложив губы, стала бережно наводить ресницы перед маленьким зеркальцем.
— Не знаю, — призналась Ленка, — не пойму, охота или нет. И Семачки наша пропала куда-то.
— К бабке уехала сегодня. В школу от нее пойдет.
— Оль, а чего так плохо все? Ну не плохо, а как-то тоскливо. Вообще везде кругом. Ты заметила?
Ленка взяла косматого плюшевого львенка, совсем уже облезлого. Пощипала свалянную кисточку на хвосте. Оля завинтила тушь и поморгала, проверяя. Кивнула, качнув белыми прядями.
— Угу. Ну зима ж. А к нам скоро моя сеструха переезжает. С малыми. Уже не посидим просто так в комнате, Ленк.
— И в школе тоже, — развивала тему Ленка, — такое впечатление, что им тоже всем все набрыдло. Вся жизнь. Подожди. Как переезжает? Совсем?
— Угу. С мужем горшки побила. И хочет обратно. Такой начнется гуй-гай тут. Они ж в садик ходили там, в поселке, а тут пока она их устроит. Будут дома носиться.
Ленка огляделась. Олину комнату с диваном, полосатой дорожкой на весь пол, с фикусом в углу и таким же письменным столом, как у Ленки, стало ужасно жалко. А еще тут балкон, где летом они часто сидели просто так. Ели вяленую рыбу.
— У нас тоже скоро приезжает бабка. Что за жизнь такая…
— Та ничего, — утешила ее Оля, — все равно выпускной, да я уеду сразу. В Ейск, в техникум.
— А я? — скорбно спросила Ленка, — бросаешь меня, да?
— Поехали, — утешила ее Оля, копаясь в шкафу и рассматривая на свет колготки.
— Угу. В рыбный техникум, да не хочу я.
Оля натянула колготки, вытягивая поочередно худые длинные ноги. Влезла в тесный вельветовый сарафан, выдохнула, застегивая молнию на животе. Сдавленным голосом сказала:
— Не ссо, Малая. Поехали на дискарь. Попляшем. Уф. Щас растянется. Пашка своего Валерчика притащит, я их видела, когда за хлебом ходила. Про тебя спрашивал.
Ленка вдруг решила, сегодня все и расскажу Оле. Одной тосковать уже невмоготу. Пусть обругает даже, зато можно будет вслух спорить, и говорить имя, не как сумасшедшая, дома, разговаривая с фотографиями, спрятанными в книгу.
Радуясь, спрыгнула с дивана, хватая с тумбочки щетку для волос.
— Ну точно, рванули. Чего киснуть.
Телефон зазвонил, когда обе уже топтались в прихожей, мешая другу другу застегиваться, а Олина мама стояла у стенки, сложив на переднике полные руки и печально смотрела на девочек.
— Але… — сказала Оля, отворачиваясь и завешивая лицо волосами, — да? Конечно. Сейчас. Да я только выйду. Десять минут. Да.
— Што? — закричал из кухни Олин отец, и она быстро сунула трубку на место, толкнула Ленку, одновременно распахивая дверь.
— Што, — орал суровый родитель, и мама, охнув, заторопилась к нему, по пути быстро проговаривая что-то успокоительное, — што, и ты еще побежала, подолом трясти? Да чтоб вас…
Оля треснула дверью, и голос остался внутри.
— Дались им наши подолы, — мрачно сказала Ленка, торопясь следом по ступеням.
На улице остановилась, дожидаясь Олиным слов. Уже знала, что та скажет.
— Лен? Ну, я пойду, да? Я ж думала они сегодня. А видишь.
— А ты и побежала, — не удержалась Ленка, — а мне теперь что? Домой идти?
Оля молчала. Оглянулась быстро, нервно. Поправила волосы и Ленка поняла — уже торопится, не слушает.
— Я, между прочим, с матерью погрызлась, — добавила с вызовом, отвернулась и пошла, быстро стукая каблуками.
— Лен, — позвала в спину Оля.
Ленка с надеждой замедлила шаги. Но в ответ раздался постук каблуков, и он удалялся.
— Вот блин, — сказала она сама себе. И побрела обратно домой, не ехать же на дискотеку в одиночестве.
Над «серединкой» белел угловой балкон, окна квартиры были темными, и верно, не сидит же Кинг там без перерыва, у него куча дел и тыща баб. У Оли — Колька Ганя. У Викочки сложные отношения с Валерой Чекицем, и безответная свежая любовь к Кингу. А у Ленки — тонкий листочек и мятый конверт с клапаном, подписанным с изнанки печатными буковками. Как то делают дети, играясь в секретики. Оставляют на клапане тайные послания. Совсем он еще дите, а она тут страдает. Тащит пацана из детства в какие-то взрослые отношения. Правильно сказал доктор Гена. И это не только нельзя, это как-то и нехорошо. Для Валика. Наверное… Пусть бы еще в машинки играл и паровозики. Кормил полосатого Боцмана вместе со своим мелким Петром и его Валечкой.
Подходя, она с удивлением посмотрела на свет в окне своей комнаты. Неужели мама никак не успокоится и снова шарит по ее вещам? Кроме тех фотографий, что Ленка хотела отправить Панчу, есть и еще, они лежат на дальней полке, в трех книжках. Вдруг найдет? А еще эти тетрадки, где Ленка пишет.
Она прибавила шагу. Смотрела на желто-полосатый свет и потому испугалась, когда тихий голос позвал откуда-то сбоку.
— Ленуся!
— Фу. Паш, ты меня до приступа доведешь!
— Это ты меня доведешь, — печально возразил Пашка, оказываясь рядом и хватая Ленку под локоть, притиснул к себе, тыкаясь в волосы над скинутым капюшоном, — мне сколько за тобой бегать? Ищу тебя везде.
— Паш, я домой.
— А я был. Мать сказала, а Лена ушла к девочке. До самого вечера. Поругались с Рыбкой, что ли?
Ленка отступила, отпихивая его руки.
— Мне правда, надо. Ну подожди ты.
— Подожду, — согласился Пашка, — или зови меня в гости. Или тут, у батареи я постою. А ты выйди. Ну, Лен, ну, Ленуся, выйди, а? Мне надо тебе сказать. Важное очень.
В неярком свете из подъезда светили темные Пашкины глаза, с влажным бликом. И темнели надо лбом коротко стриженые волосы. Ленка вздохнула. Печальный такой, серьезный. Или начнет в любви признаваться, клоун. Или что случилось у него.
— Ладно. Я проверю там. И выйду. На полчаса. Постоим тут, хорошо?
Пашка тут же заторопился в подъезд и устроился у батареи, расстегивая куртку.
— Смотри, не забудь про меня, — позвал в Ленкину быструю спину.
А та уже давила на кнопку звонка, прислушиваясь к неясному за дверями шуму и говору, к шагам в прихожей.
— Ага! — сказал из-за раскрытой двери знакомый, такой неожиданный голос, — ну-ка, ну-ка, это кто у нас тута!
И Ленка влетела прямо в пушистую кофту, схваченная крепкими руками.
— А… — сказала ошеломленно, отпихивая руки и поворачиваясь к свету, — о! Светища? Ничего себе. Ты чего тут?
За спиной сестры маячило мамино растерянное лицо, ее руки возле темных волос, а потом на вырез халатика и снова вверх — поправить темные локоны. И глаза почему-то испуганные.
— Узнаю брата васю, — смеялась сестра, таща Ленку за руку в большую комнату, — да не разувайся, погодь, дело есть. Вот сперва познакомься, и скажу.
Со стула в гостиной встал незнакомый высокий парень, и от растерянности Ленка не смогла разглядеть его лица, увидела только, что волосы русые, до плеч, и ниже — джинсовая рубашка с кнопочками, а на спинку стула кинута зеленая куртка, уронив рукава к полу.
— Тадада-дамм! — спела Светка, подтаскивая ее ближе, — прошу любить! Это моя сестра Еленица-крокодилица-красатулица. А это мой муж Георгий, а проще Гера, а еще проще — Жорик. Очень приятно. Да?
— Ка-акой муж? — растерялась Ленка, берясь за протянутую влажную ладонь, — очень приятно, да. А Петичка?
Влажные пальцы разжались и Ленкина ладонь повисла. Внезапный муж Жорик нахмурился и стал смотреть в сторону, криво улыбаясь. У него усы, отметила Ленка, дурацкие какие-то, кудрями.
— Ну, вы авоськи, — рассердилась Светка, быстро и уверенно передвигаясь по комнате. Вынимала из огромной сумки вещи, уходила к открытому шкафу, совала на полку, а на столе, отметила Ленка — лежала вытащенная оттуда кипа свежих полотенец и простыней.
— Между прочим, это неприлично, законному мужу тыкать моими юношескими, а нет, девическими прошлыми отношениями. Ленка, я что хотела тебя попросить, а сбегай в магазин, а? Жорику нужен кефир, у него желудок слабый, на ночь, ну и утром, сразу, как встанем. В нашем уже наверное нет, сгоняй в гастроном на ленте, а? Три кефира, одно молоко. Вот деньги. Когда вернешься, сядем, отметим приезд. А завтра уже все остальное.
Она смеялась, тормошила Ленку, толкая ее обратно, мимо растерянной мамы к выходу. И там, осмотрев и обняв, чмокнула в щеки, щекоча концами темных стриженых волос.
— Ишь, какая. Смотри, чтоб тебя там не сперли по дороге. Иду, Жорик!
Через секунду уже говорила что-то в комнате, смеялась, спрашивала. И мужской голос послышался в ответ, высокий, как-то он Ленке не понравился.
— Мам? — сказала она вполголоса, держась за дверную ручку.
Алла Дмитриевна вытолкала ее в подъезд и прикрыла за собой дверь.
— Лена, я сама ничего не понимаю. Совершенно! Ни письма, ни телеграммы, я думала — соседка. Открываю, а они… Какой-то Жорик. Господи… Лена! Муж. Она сказала — муж? Законный?
Пашка деликатно покашлял, и Алла Дмитриевна дернулась, хватая Ленкин локоть.
— Это Паша, — поспешно сказала Ленка, — Санич Паша, меня ждет.
— Да, — рассеянно отозвалась мама, — конечно, Паша, добрый вечер, Паша. Вы поняли, да? Три молока, кефир.
— Три кефира, мам.
— О Господи, — ответила та высоким голосом, — я… она сразу полезла в холодильник. Лена! За огурцом! Вы идите. И скорее обратно. Боже мой, ну а как же Петичка?
— Дела, — сказал Пашка через несколько минут, шагая рядом с молчащей Ленкой, — похоже, у вас там водевиль начинается, да?
Ленка хихикнула. И вдруг расхохоталась, спотыкаясь. Пашка поддержал и она уцепилась за его руку, вытирая пальцем мокрые глаза.
— Ой, я не могу! Паш, у нас батя с рейса приходит, щас скажу… в конце марта. И сразу приедет баба Лена, типа жить с нами. А тут Светища. С Жориком. Вот уж то пусто, то густо.
— Огурец еще, — подсказал Пашка.
— Что огурец? — не поняла Ленка, накидывая капюшон, чтоб не морозить уши.
— Соленый. Ты что, Ленуся, не знаешь, когда девушки все огурцы-помидоры с холодильника сжирают? Что, все еще не поняла? Сеструха твоя — беременная.
— Нет, — возразила потрясенная Ленка, — с ума сошел совсем? Не может быть! Она ж в стройотряд собиралась, и еще год ей учиться. Да ну… чего ты ржешь?
— Ленуся, ну ты наивная. Совсем еще дите. У меня мутер всю жизнь медсестра. Уж ты мне поверь, просто так с внезапным мужем не приезжают, бросив институт, и за огурцом с порога в холодильник не лезут. Я тебе зуб даю, через месяцев шесть будешь возить коляску. С племяшом. Я не понял, ты чего опять смеешься.
Ленка остановилась на тротуаре, разрисованном квадратами света из витрины гастронома. Убирая волосы, покивала.
— Ну, я просто дальше представила. Бабка, мать с отцом, Светка, ее Жорик, коляска. Может и мне замуж выйти, и тоже кого родить? Вот это у нас наступит жизнь! Маме понравится.
— Двойню, — предположил Пашка, и вдруг повалился на колено, прикладывая руку к куртке, а другой таща к себе Ленку за рукав.
— Выходи за меня, Ленуся! Буду приходить с работы, а ты мне хоба — блины. Потом секс. Потом спать. Потом…
— Секс, — слабым голосом ответила Ленка, — встань, я уписяюсь на дорогу прям, ой, да вставай же.
— Секс, — радостно согласился Пашка, — и я на работу. А потом…
— Блины!
Глава 10
Будильник зазвонил сердито и, как показалось Ленке, с облегчением, треща слово «наконец-то». Ленка высунула руку из-под одеяла и так же сердито хлопнула его по холодной голове с кнопкой. Тоже подумав при этом — наконец-то. И снова завернулась по самый подбородок, прислушиваясь к тому, что делалось в коридоре и кухне. Очень хотелось писать, потому не спала, лежала, ленясь высовываться, чтоб посмотреть на время и даже устала от этого. Но в коридоре слышались шаги, хлопала дверь, шумела вода, в кухне вполголоса говорили, и иногда смеялись.
Жорик оказался не только мужем со слабым желудком, но и жаворонком. И ко времени звонка будильника кухня, ванная и туалет оказывались безнадежно оккупированными.
Ленка села, кутаясь в одеяло. Мрачно посмотрела на свое отражение в дальнем зашкафном зеркале. А еще надо срочно красить макушку, ее русые волосы, оказалось, очень быстро растут, и каждые пару недель на башке проявляется темная клякса. Сами и не темные, но по контрасту с выбеленной светло-золотистой копной — выглядят. А раз взялась быть блондинкой, то надо соответствовать, вздохнула Ленка. Хорошо Олесе, у нее свои волосы цвета темной соломы и она не осветляет, а полощет их в ромашке или в коре крушины, чтоб были — золото. А Ленка с Рыбкой теперь бегают в аптеку за таблетками гидроперита, разводят мыльный раствор, капают туда нашатырь, потом в траве полощут, потом маслом касторовым выхаживают, чтоб не попортить волосы. Мама пару раз попыталась стукнуть кулаком по столу, требуя от Ленки вернуть обратно родной русый цвет, но Ленка объяснила, что теперь или другую краску покупать, чтоб перекрашиваться, пока все не отрастет, заново почти до пояса. Или стричься почти под ноль. Услышав про стрижку-нулевку мама тяжело вздохнула и, сказав в сердцах, что хватит с нее одной в доме комиссарши, от Ленки отстала. Больше разговоров о цвете ленкиных волос не было. Не самая большая проблема, понимала Ленка.
Терпеть было невмоготу и она встала, надевая халат и туго затягивая пояс. Подергала нижнюю петлю, там оторвалась пуговица и халат распахивался чуть ли не до талии, пока были вдвоем, так и ладно, а теперь вот этот Жорик с кудрявыми усами. Уже месяц они со Светкой обитают в квартире, а Ленка никак не может привыкнуть.
Мама одетая стояла в прихожей перед зеркалом, красила губы, внимательно глядя на себя. Кивнув, сказала вполголоса:
— Воды нет. Там ведро в туалете. Я поздно приду, и завтра тоже. В понедельник поеду папу встречать, так что надо пару отгулов подзаработать. Завтрак, ну они там делают что-то. Вместе.
Подкрашенные губы скривились, но тут же нахмурились брови, и мама не стала продолжать. Взяла с тумбы перчатки:
— Закрой. Ушла я.
Когда Ленка, пожимаясь, уже закрывала за ней дверь, она придержала ее поверх руки. Сказала сердитым шепотом:
— А тебя я хочу попросить, моя дорогая, отцу не смей и слова сказать, о своих выкрутасах с этим его. Сыном. Хватит с нас Светланы и этого ее… Георгия. Пожалей папу. И меня тоже.
— Я и не собиралась, — хмуро ответила Ленка, переминаясь — из подъезда задувал холодный сквозняк.
— А кто тебя знает. Иди уже. Пока туалет свободен.
В туалете, морща нос, Ленка все делала тихо и слушала, как в кухне гудит голос Жорика, то повышаясь, то затихая. Мало того, что жаворонок, он еще и болтун, подумала, производя манипуляции с ведром. Потом прокралась в ванную, где на решетке стоял таз с водой и в нем плавал ковшик. Вздыхая, умылась одной рукой, плеская себе из ковшика, вытерла горящее лицо и быстро расчесалась, заправляя волосы за уши. Осмотрела себя. Ну, вроде можно показываться на люди. Хотя халат этот…
Вообще-то, в их трехкомнатной квартире не всегда было так райски свободно, как последние пару лет. Раньше, до того как ее получили, жили в бараке на окраине. Сначала в одной комнатушке, и этого Ленка не помнит, только вот рассказы матери о том, что спала она в коляске, потому что места для детской кровати не было. А позже играли они со Светкой под большим квадратным столом. Там было постелено одеялко, и вот эти игры уже в памяти зацепились, Ленке, наверное, лет пять было или шесть. Со стола свешивалась скатерть, плюшевая, с помпонами. И Ленка время от времени тайно откручивала по штучке, нитки были уже непрочные от старости. Скатерть и стол достались родителям от предыдущего владельца комнаты. Мама помпоны не любила и потому не ругала Ленку. Только смеялась, находя очередной где-то в пыльном углу, и выбрасывала в мусор.
Туалет был во дворе, довольно далеко, через еще один двухэтажный дом. Так что в кладовке, узкой и высокой, стояло ведро с настеленной на него газетой, все же двое маленьких детей, куда им бегать зимой по холоду, да в темноте. А вода была в колонке, которая вообще за домами, перед проволочными заборами огородиков.
Так что, квартира, где унитаз с бачком, кухня с газовой плитой и вода для посуды, а еще ванная и там тоже вода, это было ослепительным счастьем, не зря почти пятнадцать лет в очереди стояли.
Семья торжественно переехала. И с тех пор в квартире кроме них постоянно жил кто-то еще. Так получалось. Первый год — северная бабушка Нила, как принято говорить — мамина мама. Уехала потом. И сразу приехал папин брат с женой, он устраивался на работу в Керчи, думали перекантоваться пару месяцев, а прожили почти два года. После наезжала баба Лена, — папина мама. И каждое лето — толпы сначала раздраженных предстоящим отпуском, а после измученных активным отдыхом родственников разной степени дальности. От родных до семиюродных, некоторых не то что Ленка, но и родители в жизни не встречали, до появления своей квартиры, конечно.
Всякий раз, получив известие о новом временном жильце или жильцах, Алла Дмитриевна трагически заболевала, и каждый день начинался с монологов о несчастной ее жизни и страданиях. И вот тут Ленка понимала ее на все сто процентов. Не понимала другого, — когда все уезжали и наступала недолгая благословенная тишина, Алла Дмитриевна вдруг кидалась в ностальгические воспоминания, как прекрасно было когда-то жить в Северодвинске, в коммуналке, и какие чудесные были там отношения, и люди какие прекрасные, а как праздновали, как пели…
Ленка готова была согласиться, что те люди и нынешние, которые наезжали пользоваться с ними одним туалетом и ванной, наверное, могли быть совершенно разными, допустим и правда — те чисто ангелы. Но даже с ангелами, знала о себе Ленка, ей было бы затруднительно, и лучше бы вокруг только совсем свои, и чтоб у каждого своя территория. С дверью. Чтоб выходить, когда захочется. А еще не караулить, когда же, наконец, освободится сортир.
— Малая, что ты там шифруешься! Иди пока оладьи горячие!
Светка ойкнула и засмеялась, гремя чем-то в кухне. Жорик авторитетно что-то сказал и тоже засмеялся.
Ленка вошла, поздоровалась и села в неудобный угол, к стенке у входа. А ее насиженный, в уголке у окна, был занят Жориком. Вот он совсем не стеснялся, мрачно отметила Ленка Жориковы цветастые трусы, открывающие тощие колени в светлом пуху, и белую майку на костистых плечах. А Светка, стоящая у плиты над сковородой была по-прежнему ее Светкой, той самой прекрасной Светищей, тонкой и быстрой, с узкими мальчиковыми бедрами, сейчас спрятанными в мамин банный махровый халат, с большим улыбчивым ртом и темными глазами в густых ресницах. С той же пацанской стрижечкой, из-за которой все дядьки млели, когда улыбалась на рынке, спрашивая почем огурцы с помидорами.
Огурцы… вспомнила Ленка, неловко беря из миски горячий оладушек. А вот и новое у ее сестры — глубокие тени под глазами и грудь в вырезе халата, эдакая, как у взрослой совсем женщины. Она вдруг поймала взгляд Жорика и спохватившись, отвела глаза от сестры, опуская их к тарелке. Но успела увидеть, как он стал смотреть туда же — в вырез к Светке. И русые усы шевельнулись, губы сложились в улыбку. Противную такую.
Ленка в два укуса одолела оладушек и встала.
— Спасибо. Мне пора уже.
— Малая, я тебя не узнаю. Жрала, как конь, куда только влезало. А теперь чисто фея, клюешь. А-а-а!
Светка засмеялась, блестя мелкими зубами.
— Я знаю. Малая влюбилась. Да Летка-Енка? Это ее папка так называет, семейное прозвище. Летка-Енка. Мама рассказывала, они что-то там праздновали, в ресторане. И танцевали. Такой смешной был танец, все становились паровозиком и прыгали, как детишки в садике. Нет, ты прикинь, Жорка, наших всех согнать, пусть прыгают, и ножкой-ножкой…
Ленка не услышала, что сказал в ответ Жорик, но говорил, через две закрытых двери что-то такое без перерыва. Умное. Одеваясь, вспомнила, как через неделю мама загнала Светку в кухню и там, пока законный Жорик сладко спал в гостиной на разложенном скрипучем диване (оказалось, ну очень скрипучем), громким шепотом потребовала от Светки поделиться планами.
— Он что, он так и будет? Никуда не ходить. Сидеть тут. С гитарой своей. Света!
Ленка тогда тихо повесила полотенце и затаила дыхание — через открытую в ванной маленькую фрамугу, задернутую тюлем с кружавчиками, ей все хорошо было слышно.
— Мам, не митингуй, ладно? Мы всего неделю как приехали, я уже насчет работы договариваюсь. Нормально все. Мне же в декрет надо, так что вроде в отделе кадров стекольного вакансия есть. Помощник инспектора. Только молчать надо, что я временно.
— Светлана, не дури мне мозги. Я не о тебе. Я про него! Здоровый же мужик. А сидит.
— И правильно сидит. Он хочет по специальности, мам.
Ленка услышала, как задохнулась от возмущения мама, и прикусила губу, чтоб не захохотать вслух. О своей специальности Жорик доложил им в первый вечер знакомства.
— Я занимаюсь изучением роли основного тезиса Гуссерля в интенциональном развитии современной феноменологии, — скромно поведал он ошеломленной Алле Дмитриевне, насыпая в папину чашку пятую ложечку сахара.
Мама вздрогнула и промолчала в ответ. После, пересказывая Рыбке диалог, Ленка за нее вступилась, конечно:
— Ну, прикинь, а что она должна сказать-то? Ах да-да, вы знаете, а мы тут все извелись, без вашего Гуссерля. Или что? Другой вариант, это на пол харкнуть и еще нос рукавом вытереть. Я б так и сделала, например.
Оля кивнула.
— Угу, ты вообще у нас известная язва. Вот только он поймет? Да подумает что вы такие и есть — темные, дерёвня, на пол пилюете. Тем боле, ты ж не знаешь и вправду, кто такой этот гуссейн.
— Не знаю, — покаялась Ленка, и рассердилась, — и знать не хочу! Такой был Петичка, совершенно прекрасный! Весь в загаре и мускулах. И умный. Мы с ним сидим и молчим, так классно.
— Угу.
— Не язви, Рыбища. Чтоб ты знала, молчать как раз можно с умными. А дураки всегда болтают. И чего она выбрала себе урода этого с кудрявыми усами. Фу. Прикинь, на губе — кудри!
— А что говорит? — деловито спросила Оля, стоя коленками на табуретке и целясь пинцетом на кончик брови.
— Светка? Говорит, теперь у нее свободное распределение. А то бы послали в мухосранск.
— Это где?
— Нигде. Шутка такая у них.
— О-о-о, куда нам с тобой, Малая. У них даже шутки вишь какии, умныи, про сраных мух!
* * *
— Бедный наш папа, — сказала Алла Дмитриевна в понедельник утром, стоя рядом с автобусом и выразительно глядя на сонную Ленку, — и что мне ему говорить, горе-горе с вами — девками.
Лена промолчала и стала смотреть за мамино плечо. Там ее терпеливо ждала Оля Рыбка, покачивая сумку на длинном ремне. А мама собралась еще что-то сказать, но, кажется обе они — и дочка и мать, подумали об одном и том же, так показалось Ленке. Девки да. Тут у него — девки. А где-то есть еще одна женщина, и с ней — его сын.
Так что мама только вздохнула, и стала давать всякие мелкие указания, на три дня их вольной жизни.
Автобус уехал, выдыхая противный запах, а вокруг вовсю цвел апрель и пахло цветущими деревьями — алычой, миндалем и абрикосами. Будто в воздухе разбрызгали мед.
Девочки шли в школу пешком и молчали, глядя по сторонам и щурясь от яркого, сочного, будто протертого влажной тряпочкой солнца. Такая странная весна. Только что был март, зябкий, нервный и опасно неустойчивый. Но прикатил апрель и сразу стало понятно, совсем скоро лето. И что-то надо решать.
У Ленки засосало под ребрами. Решать совсем не хотелось. Совсем не представляла она себе, что куда-то поедет, с чемоданами, а в них нужно что-то складывать. И денег нет совсем, папа конечно получит зарплату сразу за несколько месяцев, но в квартире сидит беременная Светка, и ее безработный Жорик, и это просто кошмар получается, то что они еле растягивали с мамой на полгода, с переводами Светке, и всякой отдачей долгов и уплатой кредитов, теперь нужно тратить на Жорика и их будущего ребенка. Коляски-кроватки-пеленки. Мама плакала ночью в своей комнате и Ленка пришла к ней, села рядом на краешек кровати. За стеной тяжко скрипел разложенный в гостиной диван, и была совсем ночь, даже не включить телевизор или радио, чтоб заглушить звук, и мама вздрагивала иногда. Ленке было ее жалко и одновременно это бесило. Подумаешь, секс, думала она сердито, сидя рядом и не зная, что сказать или сделать. Ну, все этим занимаются и их тоже сделали родители не в пробирке, а в постели. И мысли эти не надо думать, а то ведь и, правда, можно поехать умом, если представлять себе дурацкого Жорика голым, лапающим Светку за всякие места. Да если Ленка начнет все это себе представлять — отца с мамой, а еще его с этой ни разу не увиденной Ларисой, матерью Панча, Рыбку с Колькой, и вот еще Пашка дурак со своими мечтами про секс и блины. Или бедный загорелый Петичка, у них со Светкой, наверняка, уже все было. Наверное, так живут всякие маньяки, подумала Ленка, ходят по улицам, или спрашивают цену на базаре, а сами видят только одно, то, что под одеждой. Фу…
Но заговорила мама о другом. О деньгах как раз. Все шепотом перечислила, и были сказаны вещи, о которых Ленка не все знала, потому что не она ведь распоряжалась доходами. О том старом долге сказала мама, в целых пятьсот рублей, что тянуть некуда и скорее всего придется отдать с этой зарплаты. И о том, что Светке сейчас нельзя работать там, где платят, на той же эмальпосуде, к примеру, потому устроится она в контору, будет там получать не деньги — слезы. А еще же надо решить, как наскрести на билет Ленке.
Мама не знала, что у Ленки тоже долг. И никакой надежды его отдать, получается, и что делать, она сама совершенно не понимает.
— А еще эта бабка, у меня голова кругом. Ты когда уедешь, наверное, мы с папой переселимся в твою комнату, а она пусть в маленькой.
Диван умолк, хлопнула дверь, высокий голос Жорика что-то невнятное сказал негромко, и Светка тихо засмеялась, шлепая по коридору тапками.
— А я не поеду, — вдруг сказала Ленка маме, — еще чего, бабка эта. Скажешь, места нет. Все занято.
— Как не поедешь? — испугалась мама, — а институт?
Ленка пожала плечами. Мысль все больше нравилась ей.
— Подумаешь, институт, — начала она. Но мама перебила с надеждой в голосе:
— Ты решила в наш, да? В торговый, Лена, вот как хорошо, будешь дома, и ходить, ну ездить туда. А бабке скажем…
— Я работать пойду. Вот и деньги. Небольшие конечно, но все равно.
Мама трагически молчала и Ленка подвинулась, чтоб в свете ночника увидеть ее лицо. Вздохнула, подведя глаза, и отодвинулась снова.
— Как работать? А что скажут соседи, Лена? Ты умная, тебе нужно высшее.
— Успеется, — неумолимо ответила Ленка, — не убежит институт. Я поработаю год. В ателье, например. Ученицей. Потом мастером. Зря, что ли корочки получила на УПК. Ну и подготовлюсь, как следует. А еще, мам, ты извини, конечно, но я сейчас да, хочу себе пальто нормальное. Зимние сапоги, шапку и куртку. Мне носить нечего, пока вы тут со своими трагедиями.
— Как ты можешь, Лена, — беспомощно ответила Алла Дмитриевна, привычным жестом берясь за виски, — да как ты…
— Угу, — кивнула Ленка, — мам, кроме причитаний и слов, еще ж можно что-то делать. Я хочу делать. Или ты хочешь еще одного такого Жорика? Чтоб я тоже привезла?
— Боже упаси, — быстро сказала мама.
А в школе этой весной и правда, было странно. Казалось Ленке, не так, как в предыдущие годы, хотя тогда она была младше, могла чего-то не замечать. Но все же.
Будто все вокруг подернуто невидимой паутиной. Хотя продолжали звучать лозунги и мозолить глаза плакаты с белозубыми пионерами и комсомольцами, клеймился на политинформациях загнивающий капитализм, на уроках истории все так же рассказывали о самой мощной, самой могучей стране величиной в пятую часть мира. Но в самом ее нутре, состоящем из людей и мелких событий, не тех, что показывали в программе «Время» копились и уже ползли через край, не умещаясь, вялые, привычные признаки совершенно другого. Испитые алкаши, валяющиеся на газонах, на которых никто и внимания особенно не обращал. Пустые полки в магазинах и хмурые бесконечные очереди за мятой расквашенной перемороженной рыбой. Люди из поезда, с набитыми колбасой сумками — из самой Москвы, везли сутками, пожрать дома. И это вот кошмарно унизительное, от чего Ленку всякий раз передергивало до тряски в руках — ожерелья из рулонов туалетной бумаги на шеях добытчиков. Привычное, серое и невнятное из-за этой своей привычности, потому что другого никто и не видел, не с чем сравнить, в этот год, казалось, вспухает, как дрожжи, заполняя все вокруг, до тошноты не в желудке, а прямо в сердце. И нельзя сказать, что Ленка в свои только что семнадцать, обдумывала это, но — ощущала.
Потому не особо удивлялась, что физик на уроках бывает пьяненький, что физкультурницу Виолетту Даниловну перевели из другой школы, откуда уволили за чересчур вольное поведение с учителями-мужчинами (каких-таких мужчина она в школе нашла, думала иногда Ленка, глядя на массивную с каменными боками тетку, похожу на певицу Зыкину в спортивном костюме), и что даже интересные предметы становятся вялой жвачкой, которую учителя старались скорее высказать и уйти, на пороге забывая о тех, кто остался за партами.
Самым ярким и интересным было в школе другое. Новая классная Маргоша стала красить глаза и приходила в туфлях на высоком каблуке, а Санька Андросов пересел с парты за спиной Олеси — на первую, перед самым учительским столом.
То есть, снова любовь, с юмором поняла Ленка, глядя, как смотрит на широкие Санькины плечи Олеся — прикусив накрашенную губу и прищурив голубые глаза. А он смотрел на Маргариту. А та — на него.
И когда брели с Рыбкой обратно домой, в распахнутых легких курточках, таща тяжелые ноги в надоевших старых полусапожках, спросила подругу о том, о чем та упорно молчала уже месяц.
— Оль, а помнишь, мы говорили. Ты решила Гане дать. А не сказала. Ну?
Рыбка хмыкнула и пошла чуть быстрее, прижимая локтем сумку и резко отмахивая другой рукой. Ленка тоже прибавила шагу.
— Ну?
— Я что, кричать должна на каждом углу? Про себя.
— Нет. Но мне ж сказала бы. А молчишь. Оля, если не стала, так и молодец. Просто, я жду-жду. А ты молчишь. Совсем мы становимся чужие. Прям плохо.
Оля пожала плечами. Ветер подкрался и дернул подол синей юбки, метнул его над худыми коленками. Охлопав себя по бокам, Оля ответила:
— Так выросли, Малая. Смотри, я щас уеду. Ты останешься. Или тоже уедешь куда. Потом работа, замуж. Чего тут плохого? Жизнь.
— Фу. Не хочу я такой жизни, Оль. Мы же будем писать. Друг другу. И чего сразу замуж-то. Можно поездить, места всякие посмотреть, сначала. Так много всего интересного. И заняться чем-то. Тоже интересным. Чего ты споришь?
— Я молчу.
— Я ж вижу, как именно молчишь!
И тут Оля вдруг рассердилась. Ленка даже опешила, а та, встав, резко скинула с плеча сумку, швыряя ее на траву.
— Тебя, Малая, послушать, прям не жизнь, а одни тра-ля-ля! Поездить! Интересное! Да кто тебе даст-то? Надо устроиться хорошо. Чтоб работа. Дети пойдут. Нужен стаж. И муж, так он тебе и позволит, чтоб ерундой всякой. Мелешь какую-то фигню.
— Ты что? — Ленка так разозлилась, что прокричала это в сердитое лицо Рыбки, — ты с дуба упала? Так говоришь, вроде у нас впереди каторга. Да кто заставляет? Можно и не замуж. И не работать там, где не нравится. И вообще. Это что, значит, диплом и после всю жизнь с восьми до пяти? И суббота воскресенье? Отпуск?
— Да, — удивленно ответила Оля, — а как по-другому? Ты за тунеядство хочешь загреметь? Конечно, работать. Стаж, да.
— А ты так хочешь?
— Мало ли чего я хочу. Малая, вот за этим и прут в институты учиться. Там можно нагуляться, побеситься в свое удовольствие, а дальше уже пойдет жизнь.
— Я думала, туда идут учиться, — угрюмо возразила Ленка, — и вообще, не хочу я такой жизни. Вот не хочу и все.
— Кто тебя спрашивает.
Оля подобрала сумку и снова устроила ее на плече. Пошла по тротуару, усыпанному белыми лепестками, нежными, как крошечные сердечки на открытках. Ленка пошла рядом, с тяжестью на сердце. Кажется, она поняла, почему психанула Оля Рыбка, а вот сама она понимает ли?
— Так что, мне с Ганей спать никакого резона, понимаешь, — уже спокойно продолжила Оля, — все равно дорожки наши расходятся, так зачем воду мутить? А ты что, по-другому думаешь? Ты чего, Малая, колись давай.
— Ага. Ты мне значит, заявила, что я уже почти в прошлом, и вдруг колись. Не буду.
У Ленки горели щеки и хотелось скосить глаза — посмотреть, вдруг она покраснела, как тот помидор. Потому что пока Рыбка обстоятельно плела разумные доводы насчет незачем и не стоит, ей вспомнился сон, про Валика. Как было им во сне мучительно-сладко, и хотелось там умереть, от счастья, и было совсем наплевать, что там, за провисшими палаточными стенками, какая ждет их жизнь. Может быть, Ленка какая-то ненормальная? Почему ее пугают обычные вещи, пугает эта неумолимо подступающая взрослая жизнь, такая размеренная и унылая до тошноты. И хочется кинуться во что-то сверкающее, пусть совсем краткое, но чтоб размером во весь огромный мир. Хотя совсем недавно она сама горячо отговаривала Олю от опрометчивого шага. Вот же блин, как во всем этом разобраться? Да еще в год окончания школы, когда все вокруг дергают и требуют немедленного решения. Которого у Ленки совершенно нет, и вот это она понимает очень четко.
Они встали на углу, рядом с Олиным домом. Невдалеке пышные кусты напрочь закрывали осиротевшую «серединку», а над ней старый абрикос тянул к балкону корявые ветки, рисуя по серому фону невесомые кружева цветов, таких прекрасных, апрельских. Будто там, за ними пряталось что-то такое же прекрасное, вот оно — совсем рядом, только взойди на второй этаж.
— Рыбочка, мне пора. Но я вот что хочу. Давай завтра метнемся на Змеинку, сразу после уроков? Или сачканем с последних, у нас классный час, ну его.
— А у нас физкультура.
— Во! Семки украдем тоже.
Оля улыбнулась. И Ленка тоже, внимательно глядя и кивая этой улыбке.
— А чо будет? Хотя… ага я поняла. Уже ж апрель совсем. Поедем да. Но ты мне все расскажешь, партизанка! Семки зашлем в магазин с остановки, и расскажешь, ясно?
— Да, — с облегчением ответила Ленка, — расскажу. А ты меня зарежешь. Но я все равно расскажу.
Глава 11
Это было странное место, и тройка девочек, почти уже девушек, но в беленьких школьных рубашках и темных юбках — синей широкой у Рыбки, малиновой расклешенной с глубокими карманами Ленкиной и узкой, карандашом с разрезиком сзади — викочкиной, делала старый пирс еще более странным.
Тут не было ничего, кроме воды, ржавых старых суденышек, криво и косо приткнутых к искрошенному бетону, и апрельских трав до самой далекой дороги с белым кубиком остановки. Вода гулко бродила в дырявых трюмах, хлюпала, шлепала и, проливаясь куда-то, журчала, захлебываясь и снова шлепая. А еще запахи. Морской соли и вянущих на солнце свежих водорослей — они блестели мокрой зеленью. И из степи, что начиналась у остановки и раскидывалась вдоль берега, иногда прерываясь огородами и домами, пахло летучим легким медом, там, в небольших оврагах и старых бомбовых воронках цвел дикий терен.
Бросив сумки в тени ржавого борта с облезлой надписью «Горизонт», девочки ушли на самый конец пирса, не торопясь, заглядывая в железные проулки и пещеры с рваными краями. Постояли, а вокруг мягко кидалась мелкой волной сверкающая вода. И пошли обратно, к облюбованному пригорку, уселись, подбирая юбки над голыми незагорелыми еще коленками. Жмурясь, запрокинули головы, подставляя весеннему солнцу светлые лица.
— Лепота! — Оля скинула туфли на широком каблуке, пошевелила пальцами, — пятку стерла, блин, надо было колготки не снимать.
— Или босиком, — предложила Ленка, тоже стаскивая туфли.
— Еще рано, — наставительно сказала Викочка, вытягивая руку и подгибая пальцы, — на земле сидеть можно, если в месяце нет «рр». А сейчас — апррель.
— Я же не про сидеть, — возразила Ленка, — я про ходить. А ходить можно круглый год. Закаляться. И пятки будут, как у верблюда. Очень женственно.
— Зато здоровые, — сонно поддержала ее Оля.
— Еще какие здоровые. Здоровущие!
Они лениво болтали о совершенных пустяках. А потом и вовсе замолчали, ленясь говорить. Так было вокруг хорошо, и место, одно из их личных мест, такая была у них традиция уже несколько лет, выискивать по окрестностям тайные места, в которых все-все прекрасно, и когда становится совсем тошно в местах, которые для всех, уходить в свои. Это придумала Ленка, как многое у них. Очень радовалась, что всем троим это пришлось по сердцу. Они и не говорили почти никогда о важном в своих тайных местах, им хватало того что можно вольно сидеть, ощущая закрытыми веками теплый ветерок и слушать, как поют жаворонки, а над водой кликают чайки.
Некоторые места были летними, как тот маленький пляжик под маяком, весь усыпанный красными и белыми камушками с прожилками. А были зимние — дальний закуток старого парка. Там заброшенный тир, и за ним толпа мрачных елок, и вдруг неожиданно в конце аллейки — поляна на обрыве, с которого видна вся огромная бухта.
Ленка сидела, трогая у бедра упругую молодую траву. И думала, вот совпадение, которое так радовало ее в зимнем Коктебеле. Она ищет тайные места, а мальчишка Валик умеет придумывать их. И потому что радость ее была такой сильной, такой яркой, потом стало больно, когда он не писал, потом немножко все стихло, после этого короткого письма, как будто такая передышка, и — новая надежда и новое ожидание. Но оно тянется и тянется и снова приходит боль, но уже глухая, как старый синяк. Надавишь и ноет. И хочется поберечь, не трогать, не давить и не тыкать пальцем в болящее место. Чтоб не ныло.
Может быть, это плохо, спросила она себя, может быть, если я его люблю, как сама себе призналась, и он меня любит, нужно каждый день упорно и напряженно думать. Хотеть. Тыкать в больное снова и снова, чтоб наоборот, чтобы болело, и из-за этого не уходило. Не забывалось.
Да. Подумала, лениво сердясь и почти задремывая в теплой свежести зрелого весеннего полудня, ага, а потом возненавидеть за эту постоянную боль. Черт и черт, кто поймет, как быть-то? Что делать?
— Я ссать, — возвестила Семки и зашебуршилась, вставая, и видимо, цепляясь за плечо Рыбки — та ойкнула и укоризненно что-то пробормотала.
— Кто со мной? Никто? Я скоро.
Шаги удалялись и Оля пошевелилась, удобнее усаживаясь на раскрытом старом учебнике. Босой ногой толкнула Ленку в голень.
— Чего хотела рассказать?
Ленка открыла глаза и подобрав ноги, обхватила колени руками. Покачала головой.
— Потом. Не хочу я при Семки, она снова надуется. Ты заметила, Оль, Семки все время хочет то, что у меня? Даже тряпки мои копирует.
— Гордись, чо. Хочет быть, как ты.
— Не знаю. Мне от этого как-то паршиво, будто она за мной следит постоянно. Понимаешь, не как я, хочет. А будто если такая же юбка, например, или мой парень, то она будет я. Но не будет же! Она другая.
— Глупая она, — согласилась Оля, — мелкая еще.
— Ну, — возразила Ленка, — всего на год младше, это не от возраста. Просто наверное, глупая. И вот я расскажу, и как будто она отберет. Понимаешь? Ну, мысленно. И мне от этого нехорошо.
— Фу, Малая, какая ты вся нежная. Тебе надо в психиатры пойти. Будешь изучать всякие душевные отклонения.
Ленка засмеялась, щурясь и срывая стебель пастушьей сумки с мелкими белыми цветочками.
— Хватит с меня одной Семачки. И дома еще все со всякими отклонениями. Где она там застряла?
Они вместе привстали, глядя в сторону ржавых останков и бетонных развалин. И Оля мрачно чертыхнулась, быстро натягивая туфли.
— Черт. Кажись мы влипли, Лен.
На фоне сверкания воды черные силуэты терялись, смигиваясь и расплываясь. Но было их не один и не два. Три черные фигуры, а поодаль еще одна — у самой воды.
Девочки встали, поднимая с травы книжки и пихая их в сумки. Отошли так, чтоб кусты на боку пригорка закрывали их. И притихли, стараясь разглядеть против яркого света.
— Там дорога старая, с той стороны, — быстро сказала Оля, — и ветер, не слышно, наверное, на машине подъехали. Что будем делать?
Издалека послышался смех. И говор. А голоса Викочки не слышно, видимо отвечала совсем тихо, на вопросы, задаваемые ленивыми громкими голосами. Маячили расплывчатые черные фигуры, одна явно семкина, в узкой юбке. Ленка коротко вздохнула, переглядываясь с Олей.
— Не бросать же ее там. Идем?
Они удобнее подхватили сумки и медленно вышли, направляясь к черной группе.
— Отстань! — ветерок донес звенящий Викочкин голос, — я сказала! Не трогай!
Вокруг шумела трава, металась, ложась под порывами ветра, и уже сильно слышался плеск воды и гулкие ее шлепы в разбитых старых посудинах. Сидели, казалось, такая вокруг тишина, подумала Ленка.
Они немного свернули, приближаясь, солнце сместилось в сторону, позволяя видеть фигуры парней и за ними, на краю бетонной площадки блестящую морду автомобиля. Ленка с тоской оглянулась. Белый кубик остановки так далеко — и захочешь, не добежишь, а если добежать, что толку — там пусто, в обе стороны домов нет, только через дорогу длиннющий заводской забор и за проходной пустырь, и далеко за ним маячит приземистое здание цеха эмальпосуды. Людно тут бывает три раза в день, знали девочки. Рано утром, когда в цех едет первая смена, в обед, да поздно вечером, когда вторая смена расходится по домам. Часто, возвращаясь с дискотеки, они попадали в автобус вместе с усталыми женщинами, что как раз ехали домой после смены.
— Оба-на! — один из парней отпустил Викочкину руку и шагнул навстречу, раскрывая объятия и скалясь, — какие лю-уди! Не. Какие у нас тут деффки в степи гуляют! Ленчик, привет! Оленька, здравствуй!
— Привет, Юра, — мрачно ответила Ленка внезапному Боке, с тайным облегчением осматривая его спутников — Чипера с ними не было. Зато стоял позади всех Саша Мерседес, сунув руки в карманы короткой кожаной курточки. По кукольному лицу Саши было понятно, что его ситуация не слишком радует. А двое других явно веселились, следя, как Викочка пытается отойти к подругам и преграждая ей путь.
— И чего мы тут в степи забыли, а, лапочки? — Юра подходил, нависая и пристально глядя Ленке в лицо светлыми бешеными глазами, в которых казалось ей — ничего человеческого, одна стремительная наглость.
— Совсем одни, — проблеял один из парней, его Ленка не знала, худой и вертлявый, в распахнутой клетчатой рубахе, из-под которой — изрисованная пороховыми наколками грудь, — смелые какие барышни, а?
— Грибы шукают, — заржал третий, квадратный и приземистый, как старый холодильник.
Бока повел плечом, тесня Ленку в сторону.
— Разговор есть, белая. Мне тут порассказали, блядовать ездиишь, по другим городам? А знаешь, что делаем с барышнями, которые к чужим на блядки ездиют? Которым своих мало? А?
Он спрашивал, сам себя вздергивая, переспрашивал, замолкая, будто ждал ответа. Но, не дожидаясь, щурился, снова цедя бешеным сдавленным голосом новые вопросы. На широком лбу выступила испарина, светлые брови двигались и на скулах играли желваки.
Ленка испугалась, сильно. С тоской понимая, нельзя показывать страха, но как сейчас быть и что делать, не знала.
— Юра, я по делам ездила. К родственникам. Правда.
— Угу. Чипер мне рассказал, про твои дела. Про ебарьков твоих феодосийских.
— С ума сошел! — возмутилась Ленка, и тут же уточнила поспешно, — он в смысле, с ума сошел. Там мой брат. Он пацан совсем. А Чипер тебе не сказал, что его скорая забрала, и я в больницу ездила? С ним. Он чуть не умер тогда. Ты его спроси. Он видел.
Бока повел широкими плечами и длинно сплюнул в сторону. Покачал головой.
— Пиздишь, Малая. Какой там брат, Чипер говорил, как вы с ним лизались.
Ленка качнулась, выпрямилась, крепче становясь — ее повело от ярости, и голова закружилась. Хотелось кинуться и расцарапать Боке наглую морду, но одновременно она понимала, тут же получит затрещину, полетит в траву, и хорошо, если сразу за этим не ударит ее ногой в ребра. Боку хорошо знали, и боялись, как он дерется, она сама пару раз видела.
— Это мой брат, — сказала она, сжимая кулаки в такт словам, — брат. Клянусь. И вообще.
— Нда? — раздумчиво удивился Бока, — ну ладно, если клянешься… А насчет и вообще. Это ты что сказала? Мне хочешь вякнуть?
— Юрик, — позвал из-за спин Саша Мерседес, — да хватит уже.
— Заткнись.
— Да Бока, черт, — не заткнулся Саша, — два слова. Скажу только. И время уже.
— Стоять, — велел Бока, поворачиваясь и отходя к Мерседесу.
Встал, клоня голову к плечу и внимательно слушая тихие слова. Сунул руки в карманы куртки. И вместе вдруг посмотрели на Ленку.
— Да я… — начал Бока, но Саша ступил ближе, так же тихо и быстро убеждая его в чем-то. И тот, остыв, ухмыльнулся, покивал. Выдергивая руки из карманов, позвал своих:
— Все, пацаны, двинули.
И оставшись один, повернулся к девочкам.
— Белая, подь сюда. Не ссы, скажу и поеду. Ну?
Ленка подошла, хмуро глядя на его настороженную ухмылку.
— Слушай меня, Ленчик, — Бока говорил тихо, стоя вплотную и пристально разглядывая ее лицо, будто ползал глазами по сведенным тонким бровям, носу и сжатым губам.
— Слушай. И запоминай. Мерс говорит, за тебя Кинг пишется, и Чипера ты им пугала. Так вот. Я не жадный. Гуляй пока хоть с Кингом, хоть еще с кем. Все равно будешь моя, поняла? Когда с девок вырастешь. И Кингу надоешь. А я подожду. Следить буду, все время. Ясно тебе? И если напиздела Чиперу, то далеко не убежишь, не успеешь, лапочка.
Он качнулся ближе, мягко, как большой кот, обхватил ее плечи рукой, притискивая к себе, и секунду подержав, отпустил, толкая.
— Гуляй, маленькая! И помни, что сказал.
— Фу, — сказала Оля, поправляя волосы, когда шум машины съелся шелестом ветра и плеском воды, — фу, вот достали, а? Девки, пора домой, а то вдруг еще кто наскочит на нас. Вот повезло, Лен, как хорошо, Мерс ему там наговорил чего-то. Викуся, ты что встала столбом? Бери чумодан свой, двинули.
Викочка молча повесила на плечо сумку, дернула край вязаной кофты, не попадая пуговицами в петли. Ленка пошла рядом, касаясь ее локтя своим.
— Семачки, ну нормально. Все уже. Свалили уроды. Испугалась, да?
Через десяток шагов Викочка остановилась, и Ленка остановилась тоже, с беспокойством глядя на белое, в пятнах веснушек лицо. Но голос Вики был неожиданно требовательным и сердитым.
— А что ему Мерседес рассказал?
Ленка пожала плечами. Засмеялась.
— Наверное, про Кинга. Этот его дружбан Чипер, он ко мне пристал в Феодосии, а я ему говорю, Кинг тебе яйца оторвет и на шею накрутит. Не помню, что-то такое, в общем.
— Угу. — Викочка снова пошла вперед, все быстрее, спотыкаясь и путая ноги в траве, — конечно! За нашу Малую сам Кинг пишется! А как же! И Бока туда же — маленькая! Прям все вокруг нашей Леночки.
— Семки, ты чего? — Ленке стало трудно дышать, — ты ебнулась, что ли? Ты что мелешь? Мне этот Бока нахер не всрался, я вся щас перетряслась внутри, за тебя между прочим. А ты мне скандал тут закатываешь?
— Эй, — вклинилась между ними Рыбка, топыря в стороны локти, — вы чего, девки? Нервы гуляют, да? Еще не хватало вас тут разнимать!
— Мне надоело! — закричала Викочка, размазывая накрашенные ресницы дрожащей рукой, — я досталась уже! Малая то, Малая се, Малая на дискаре зажигает, Малая уехала и там у нее танцы и всякие еще…
— Блядки, да! — заорала Ленка, дергая на плече сумку тоже дрожащей рукой, — нашла чему завидовать! Меня тут грязью льют, по-по-ливают… козлы всякие. А тебе кажется такая райская жизнь, да? Оля, да скажи ты ей! Чего толкаешься? Что за фигня?
— Молчать! — заорала Оля. И вдруг расплакалась, с размаху садясь на обочину тропки, раздувая пузырем синюю юбку.
Девочки замолчали. Встали над ней, растерянно переглядываясь. Викочка сердито шмыгала носом. Ленка шагнула в сторону, в другую, качнула сумку.
— Оль? Ну, ты чего, а? Все уже, Оль. Вот и съездили, встретили весну. Черт.
Она села рядом, толкая рыдающую Олю в бок.
— Подвинься, тут колется. Ну, Рыбочка. Ну?
Обняла Олю за плечи, выразительно глядя на Викочку. Та, помедлив, села с другой стороны, неловко вытягивая ноги под натянутой узкой юбкой. Устроила свою руку поверх Ленкиной.
— Ы-ы-ы, — попыталась сказать Рыбка, и не сумев, продолжила плакать.
— Рыбочка, — у Викуси искривились губы, — ну, не надо! Козел он, да?
Оля отчаянно закивала. И вдруг засмеялась через слезы.
— Козел, — согласилась Ленка, — у-у-у, козлы они все, и гады, и сволочи.
— К-то? — басом спросила Оля.
— Та все.
— Да, — согласилась вдруг Семачки, очень горячо, и все трое расхохотались, покачиваясь и утыкаясь лицами друг другу в плечи.
А потом еще несколько минут сидели, всхлипывая и смеясь, смотрелись в зеркальце, передавая его друг другу, оттирали со щек потеки туши дежурным олиным носовым платком. И приведя себя в порядок, помолчали.
— Так вот, — сказала Ленка, — из-за этих вот, забыли чего и шли. Вот. Короче, мы может уедем, я не знаю, а Рыбища точно свалит, уже в июле, получается. А через год и ты, Викуся, в люди подашься. Давайте пообещаем, если когда снова втроем соберемся, в городе, то сюда придем. Хоть через десять лет, или через двадцать. Все равно придем, и тут посидим. Вместо всяких там встреч выпускников.
— Только пусть без этих уродов, — пожаловалась Викочка.
— Вообще без никого, — кивнула Рыбка, — только мы трое. Все, решили?
Ленка вдруг представила, что они, как в книжках, начнут сейчас давать клятвы, резать руки — кровью скрепить, и прикусила губу, чтоб не расхохотаться, а то Викочка точно ее возненавидит. Но все обошлось и Семки в ответ просто кивнула.
— Угу. Решили.
— Отлично, — Ленка встала, отряхивая юбку.
Викочка поднялась тоже, глянула на нее.
— Лен, извини.
— Нормально.
Они пошли к шоссе, до которого еще далеко, а вокруг не было совершенно никого, и старая дорога осталась там, у пирса, а смена в цеху в самом разгаре и на остановке тоже пусто. Только ветер носился по густой траве, дергал ее вверх, потом укладывал, придавливая невидимой широкой ладонью, и тут же снова поднимал, бросаясь и катаясь. Казалось — смеялся.
— Ты можешь ходить, как запущенный сад! — заорала Рыбка, маршируя и размахивая рукой.
— А можешь все нна-аголо сбрить! — подхватила Ленка, стараясь перекричать подружку.
— И то и другое я видел не раз! — нес по степи ветер, бросая слова на траву и швыряя вверх, где весело без перерыва журчали жаворонки.
— Кого ты хотел удивить!
— Послушай, чему ты рад? — пели девочки совершенно вроде бы мальчиковую песню, будто стараясь сделаться одновременно и ими — теми самыми козлами и сволочами, чтоб не быть такими уязвимыми и беззащитными, в огромной открытой степи, — постой, оглянись назад!
— Зад-зад-зад, — Оля изобразила затихающее эхо и все втроем расхохотались.
— И ты увидишь, как вянет листопад, и вороны кружат. Там где раньше был цветущий сад…
И как ни странно, завершаясь такими мрачными словами, как раз о попытках вернуться в прошлое, где трава с цветами, апрель и его солнечный ветер, и все это уже было и вот — кончается, песня опять подняла им настроение. Кто его знает, почему, может быть, она была ненастоящей, а может, наоборот, сил в ней было достаточно, чтоб поддержать девочек на пороге их первого серьезного будущего.
Глава 12
— Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены! — гитарный перебор не слышен был за двумя плотно закрытыми дверями, но нестройные голоса легко пробивались через коридор в кухню, одолевая матовое стекло.
Ленка прислушалась и, вытерев черной корочкой с тарелки остатки жареного яйца, поднялась, встала у раковины, оттирая желтые пятна под струей холодной воды.
— Тих и печален ручей… — голоса стали громче, дверь хлопнула, кто-то засмеялся и вот быстрые шаги уже рядом с кухней.
— Милая моя! — ревел мужской голос из комнаты, — солнышко лесное! — подхватывали еще голоса.
— Ленк? Ты чего тут прячешься?
Светлана на пороге, смеясь, затягивала пояс на сбившемся шелковом халатике. Модный такой халатик — макси, до самых кожаных шлепочек-сабо.
Ленка сунула тарелку на решетку сушилки. Вытерла руки тонким полотенечком. Она такие сабо и не мечтала себе заиметь, сорок рублей на толкучке, а то и полтинник, даже просить не было резона. А у Светки, пожалуйста, и они, и макси-халат в крупные оранжевые лилии. Тут в Керчи дома носили обычно всякое старье, в котором уже на улицу не выйдешь, и покупать специальную домашнюю одежду считалось дурной тратой денег. Ну, Ленка себе шила, так что были у нее для дома смешные сатиновые шортики, оранжевые, с белыми полосками и карманом. И всякие кофточки-распашонки. Но в апреле, когда за окном почти двадцать градусов, а в квартире отключены батареи и еле-еле семнадцать, какие тут шортики. Так что Ленка ходила в спортивных штанах со штрипками и старом свитере с растянутым горлом. И как Светища не мерзнет, в своих шелках и туманах?
— Оп, — сестра качнулась, хватаясь рукой за стол, и снова засмеялась.
Ленка повернулась, опуская руки. Понятно, почему не мерзнет…
— Светка? Ты там бухаешь, что ли? Тебе ж нельзя!
— Тоже мне, бухалово, стакан ликера.
Светлана поймала Ленку за край подвернутого рукава.
— Пошли, Малая! Много не нальем, но пару глоточков можно. И с ребятами познакомлю. Прикинь, оказы-ва… казва. Тьфу, Жорика друг тут. Учился, потом ушел на заочный, живет в Керчи. И Танька там моя, с Лешей. Ну, давай.
Она подмигнула, толкая Ленку в коридор. Сказала шепотом:
— Там мальчик. Харроший мальчик, умненький. Обещали тебя показать.
— Я в цирке, что ли? — вполголоса возмутилась Ленка, цепляясь за рифленую ручку на двери в свою комнату, — да пусти, не пойду я, в штанах еще этих.
— Переодень! — удивилась Светка, и быстро пихнула Ленку в комнату, — а ну, давай-ка. Ты чего, стесняешься переодеться? Господи, какие глупости. Ты в люди идешь. Значит. Не просто можно, а не-об-хо-димо! Давай!
Она села на диван, откинулась на спинку, кладя ногу на ногу.
В коридоре ходили, топали, смеясь. Потянуло сигаретным дымом, в туалете зашумела вода. Ленка обреченно открыла шкаф, водя глазами по полкам. Вот еще дурацкие хлопоты. Пришла, а тут видите ли праздник. И в кухне не посидеть с книжкой, не пожрать борща в свое удовольствие. И что надеть, чтоб в другую комнату выйти? Нету таких у нее вещей.
— Так, — сказала старшая сестра, потеряв терпение, тыкнула наманикюренным пальцем в сторону шкафа, — это вон чернеется что? Вельветки? Натягувай. И батничек. Плевать что старый, он тебе идет. Угу. Тапки эти позорные сними. Носки надень. Угу. А где твой комбез классный? Ты мне его дай на завтра, пока я еще влезаю в нормальные вещи, мы с Жоркой в кино идем.
— Нету, — ответила Ленка, влезая в вельветовые джинсы, — я из него шорты сделала. Отрезала штанины.
— Сама? — поразилась Светка и расхохоталась, — о-о-о, узнаю брата васю! Молоток, хвалю. Смелая у меня растет сеструшенция.
В двери стукнули и тут же их открыли. Ленка, краснея, сердито выставила перед собой руки, плененные рукавами батника.
— Девочки, — сказал Жорик, оглядывая сестер и уже знакомо Ленке, но от того не менее противно шевельнув усами, в интимной понимающей ухмылке, — простите негодяя. Вас все ждут. Леночка, ты великолепна!
— Но-но! — засмеялась Светка.
— Хоть и блондинка, — поправил положение Жорик.
Снова ухмыльнулся, оглядывая застывшую Ленку, и вышел, неплотно прикрыв двери.
— Э, нет, Алексис, нет! — грозно проблеял своим высоким пронзительным голосом, — я ж сказал, ждем дамм, тададам…
— Я не пойду, — угрюмо сказала Ленка, влезая наконец в батник.
— Глупости. Обиделась, что ли? Он пошутил.
Манала я такие шутки, подумала Ленка по-дискотечному грубо, вспоминая противную ухмылочку под растрепанными усами. И промолчала.
— Ну, Малая. Если ты на шутки будешь обижаться. Тебя все засмеют. Это же культурный народ! Танюха с Алексисом художники, а Николас с Жоркой на философском. Хватит козью морду строить. Эдик там извелся весь, ждет знакомства.
Она решительно потащила Ленку за руку через коридор, втолкнула в комнату.
Там было дымно, на низком столике толпились тарелочки и фужеры, стояла на самом краю пепельница и уже, похоже, падала — на полу под ней валялись рассыпанные придавленные окурки. В старых креслах сидели, в одном длинноволосый хиповый парень в круглых очках, а на его коленях раскинулась увесистая девица в плиссированной прозрачной юбке и черных колготках. Обнимая своего философа за шею, прижимала к пуговкам дурацкой полосатой блузки.
В другом примостился Жорик, навис над гитарой, подкручивая колки и клоня набок голову в негустых русых кудрях, тенькал и замирал — прислушивался.
— Прошу! — звонко возвестила Светлана, — любить! Моя Ленка Малая, а еще — Летка-Енка. Чур, девочку не обижать, она еще маленькая и стесняется. Малая, прыгай ко мне.
Она уселась в угол дивана, скинула сабо и похлопала рядом с собой. Ленка кивнула и села, не зная, как поставить ноги и как сложить руки.
Художница Таня приподняла голову в затейливо уложенных волнах черных волос с плеча хиппового Алексиса, подчеркнуто медленно оглядела Ленку и, закатив глаза, со значением улыбнулась.
— Виноградную косточку в теплую землю зарою, — внезапно заголосил Жорик, и полосатая Таня снова подняла голову с плеча своего Алексиса.
— И лозу поцелую, — подпела хриплым баритоном, — а ты, Лена, молчишь, слов не знаешь, да? Гроздь оборвууу…
— Эдик, — крикнула Светлана, наклоняясь и принимая от стола поданный фужер, — ты где там, ну-ка, садись рядом с нами.
Рядом с Ленкой возник Эдик, жестко упакованный в джинсовый костюмчик, застегнутый под самое горло. Посмотрел на нее сверху. И деревянно сгибаясь, сел поодаль. Сказал вдруг, попав в паузу:
— Букварь.
— Что? — Светка продолжала смеяться, касаясь губами краешка фужера, и поднимая его, чтоб через алую жидкость посмотреть на гостей, — что ты сказал?
— Не слов. Буквы. Куда Окуджава. Букварь, — пояснил Эдик, краснея веснушчатым длинным лицом под темно-рыжей шапкой волос.
— Что? — Светка непонимающе смотрела на его красные уши.
Ленка встала снова. Незаметно выдохнула, чтоб голос не сорвался.
— Это он про меня, Свет, что я даже буквы не знаю. Так что мне не Окуджава ваш, а букварь нужен. Так, Эдик?
Эдик молчал, глядя перед собой и продолжая краснеть. Ленка прошла через линию взгляда и вышла, не закрыв дверей. В спину ей что-то томно сказала Татьяна, все засмеялись, и сразу же затренькала гитара, голоса снова завели нечто бодрое и нестройное.
— Ленка! Да подожди! — Светлана снова выскочила, уже босиком, видно не успела сунуть ноги в свои сабо, — ну, извини. Дурак, я ему дам чертей, сейчас прямо. А ты тоже хороша. С такими волосами кто тебя всерьез-то? Ну не дуйся. Ой, да. Я же забыла совсем, тебе письмо пришло.
Она захлопала рукой по тумбочке в прихожей. Ойкнула, с грохотом роняя тяжелый телефонный справочник. И выпрямилась, утыкаясь головой в ленкину протянутую над ней руку.
— В книжку сунула. Чтоб не терять. Держи. А я смотрю штамп, черти откуда пришло. Подружка, что ли, у тебя там?
Ленка не слыша, ушла в комнату, встала там за дверями, приваливаясь, чтоб Светка не открыла и не вошла. А та толкалась с другой стороны, видимо, не понимая, почему не открывается. И у самого плеча гудел искаженный деревянной преградой голос.
— Вот занесло, край земли. Короче, Малая, я жду, читай и приходи к нам.
— Да! — сказала Ленка звонким голосом, — Светища, иди уже. Приду, да!
Сглотнула, глядя на строчки в адресе отправителя и пустое поле, где имя. А выше — ее фамилия, Ленкина. И имя ее. И в скобках приписано (Малая), вот же черт с ушами, чертов Валик Панч, прекрасный, чудесный Валька, Валинька, ее мальчик, Ленкин любимый пацан, со смешными ушами, и витой прядкой по скуле, до самой впадинки на шее. Где все время хотелось поцеловать…
…и стала медленно отдирать приклеенный клапан.
Уже потом, когда можно было думать, Ленке казалось, она сразу поняла, что-то не так. — Отвернутый клапан был пустым. Не было мелких буковок с детскими секретиками. Но тогда она конечно, подумать об этом не успела. Поддела край сложенного листочка и вытащила, а из него выпала фотография, спланировала, как давешний самолетик Саньки Андросова, только тот сперва носом клюнул и вверх улетел, а глянцевый прямоугольник с чуть поднятыми освобожденными краями — наоборот — метнулся было, и сразу же упал на Ленкин носок. Лицами вверх.
Она и поднимать не хотела, но нагнулась и взяла в руку. И снова привалилась к двери, на этот раз просто ноги не сильно держали.
Снимок был издевательски похож на тот, так любимый Ленкой, который жил у нее в тумбочке рядом с диваном, под парой журналов, в самом низу. Она укладывалась спать, включала лампу с блином-плафоном на керамической толстой ноге. И вытаскивала фотографию. Смотрела лежа. Иногда, стесняясь, шепотом разговаривала с Валиком, так, всякие смешные мелочи говорила, что там обычно говорят, когда любят. Ерунду. Прозвища и ласковые слова. Потом брала книжку — читать, а снимок прижимала к груди поверх одеяла, не очень удобно, книгу приходилось держать одной рукой, листая пальцем. И после, когда уже закрывались глаза, Ленка поворачивалась, бережно укладывала картинку на место, закрывала ящик. Говорила тихо:
— Спокойно ночи, пацан, Валик Панч, лапочка моя, мое сердце, солнышко.
Да много чего говорила, совсем шепотом, чтоб никто не знал.
Так вот… Смотрела на фото, стараясь собраться с мыслями, а они разбегались, да еще эти песни из коридора, и смех.
Панч сидел, смеялся прямо в объектив, волосы ветром сбило, открывая ухо. И длинной своей рукой обнимал девочку, а она прижалась к его плечу и тоже смотрит на фотографа, тоже смеется. Сидит совсем рядом, а еще рукой обнимает Валика за талию, и получается, будто они вообще совсем одно. Коленки хорошо видны. Двое сидят на чем-то, брошенном на землю, и Ленка подумала, все равно это другая фотография, их видно целиком, а на ее любимой — только лица и плечи. А джинсы на нем те самые, она их хорошо помнит. На вырост штаны, великоваты, на его тощих длинных ногах. Оба смеются.
Она подумала еще, что уже думала это — про смеются. И, неловко держа в одной руке снимок, развернула листок. Ерунда какая… Да все сейчас выяснится. Может это просто так. Ну, знакомая какая барышня. Ага и он прислал. Зачем-то.
А может, это его сестра, язвительно подсказал внутренний голос и захихикал. Ага. Просто сестра. Как вот сама Ленка.
«Привет, Лена Малая. Валя меня попросил, чтоб я написала, потому что ему неудобно ну ты понимаешь да. Он меня любит а тебе сказать стесняется, чтоб ты не злилась на него. Так что я тебе сама говорю. Мы с ним давно знакомы уже три года, и сейчас опять встретились и поняли что мы друг с другом неразлучные всегда будем. Потому что бывает такая сильная любовь на всю жизнь. А если ты ему напишешь, я тебе сука приеду и все глаза выбью, у меня черный пояс карате я уже пять лет занимаюсь.
Прощай малая. С приветом Нина и Валентин.»
Ленка перечитала письмо трижды. Потом сложила его, как было в конверте. Еще раз рассмотрела смеющиеся лица. И этот, придурок малолетний, довольный, ржет, как слон. Точно такой же, как с ней. Но не с ней, а с каратисткой Ниной, тоже мне, черный пояс, знаем мы это карате, бегают с криком «кия», во всех спортзалах. Стоп. Допустим, он не знал, что эта Нина (эта его Нина, поправил внутренний голос, но Ленка отмахнулась, напряженно думая), что она написала дурацкое письмо. Да знает Ленка все эти штучки, и в лагере помнит, девчонки вечно что-то крутили с записочками, писали от тихой Надьки самому главному мальчику Руслану признание в любви, чтоб после смеяться. Такой вот детский сад. Да. Ну хорошо, допустили. Но вот снимок. И на нем они сидят. И если бы она не написала, эта Нина, то все равно, он там живет в своем городе Артеме, и у него там, пожалуйста — каратистка, с которой обнимаются и смеются. Фотографируются.
Вдруг подумала, может быть, он сам предложил этой Нине, потому что Ленка придумала, именно так сняться, сидя рядышком. И плевать ему, кто там вместо Ленки.
«А может и не плевать», снова прошипел внутренний голос, «может, вот она — его любовь, чего отмазываешь мальчика, она как раз ровесница или даже младше. Дуркуют. И им хорошо».
— Заткнись, — мрачно попросила Ленка, — голова болит.
Голова и правда, ныла, будто ее катали по земле и там пыльно. А плакать совсем не хотелось. И вообще. Совсем непонятно. А столько книжек прочитала. Что надо чувствовать? Ахнуть, заплакать. Да. После — бродить тенью безмолвной. Или рыдающей. И все будут шептаться, глядите, у Малой нещасная любовь.
— Ленк? — в двери постукали Светкины коготки, — ты достала, Малая, со своими обидами, вылазь. Мы через час уходим. Иди, хоть чуть-чуть с нами посиди.
Ленка прокашлялась.
— Сейчас.
— Что? — Светкины шаги прошлепали в сторону кухни.
— Сейчас, — крикнула Ленка, — я сейчас.
За приоткрытой форточкой голосили птицы, уже сонно. И дети кричали, смеялись и ссорились. Прекрасный апрельский вечер, кругом цветут миндали с абрикосами, такая благодать. В такой вечер нужно не дома сидеть, а идти куда-то, с парнем под ручку, радоваться. Потом целоваться. И вообще. И еще. Это Панч там сопливый со своей сопливой каратисткой — на травке сидят, коленки согнули. А тебе, Малая, пора уже вырасти, хватит девочкой прикидываться.
Кинулось в голову воспоминание, как сидела на камне, хохотала, а Панч прыгал вокруг, как дурной щенок, тряс ракушечными ожерельями. И Ленке стало невыносимо стыдно, будто она взрослая — а голопузая в детских трусах и панамке, и в руке ведерко с совочком.
— Фу, — сказала шепотом сама себе.
Кусая губу, подошла к шкафу, рванув на себя ящик с одежками. Мягко повалились к ногам кофточки и рубашки. Ленка посмотрела на кулак, в нем все еще был конверт, пережатый пополам как фантик от съеденной конфеты. Сунула в шкаф, залезая рукой по самое плечо. И затолкала сверху вещами. Схватила коттоновый комбез, который, после зимней поездки, так и лежал на полке, памятью о ее танце, подаренном Панчу на новый год. И улыбнулась. Значит, Валечка, сидишь так же, как мы с тобой сидели, а я думала — у нас все только по-нашему. И сам мне говорил, у нас все будет странное и не как у всех. Ну-ну. А сам. Значит, и у меня так же. Будет так же.
Гитара подавилась и смолкла. Алексис, прижатый увесистой художницей Таней, трепыхнулся, поднимая голову и спихивая партнершу с колен. А Эдик мучительно закашлялся, глотая дым от зажатой в руке сигаретки.
Светка из своего диванного угла захлопала, смеясь и вытягивая из-под шелкового халата босые ноги.
— А-хре-неть, Малая! Ну-ка, ну-ка, иди к сестре, гордиться буду!
Ленка прошла мимо деревянного Эдика, шоркнув по джинсовому колену тугим нейлоном колготок. И села рядом с сестрой, закидывая ногу на ногу. Легкая босоножка повисла на кончиках пальцев, и в мерцающем свете оплывающих на блюдцах огарков, нога в прозрачном нейлоне, казалось, от лохматого краешка шортиков длится куда-то в бесконечность.
Ленка тряхнула головой, пересыпая копну белокурых волос с плеча набок.
— Гера, ну, что же не поешь? Сбацай что-нибудь эдакое.
Гитара тренькнула и звук протянулся. На улице кто-то закричал сердито и заплакал ребенок.
— Например? — осторожным незнакомым голосом сказал Жорик.
Ленка пожала плечами, обняла руками колено, сбрасывая босоножку и ставя ногу на диван. Устроилась уютнее, положив на коленку подбородок. И стала смотреть на маленькое пламя свечи.
— Ой, не знаю. Только не надо вашего всякого «возьмемся за руки друзья». Светка, а помнишь, пацаны тебе пели, ночью? Мама еще корвалол себе капала.
Светлана засмеялась слегка смущенно.
— Жорик такого не знает.
— Угу. Я так и думала.
Гитара тренькнула громче и обиженней.
— Почему не знаю, — возмутился Жорик, проигрывая какое-то бодрое вступление. И запел.
— А что везете капитаны из далека далека? А везете вы бананы и ковровые шелка. Виноградное варенье, анашу и барбарис Самоцветные каменья, мандарины и маис!Пламя свечек металось, блики прыгали в глазах и на зубах, мелькали по тонкой оправе очков и бежали по гитарному грифу. А Ленка, кивая и улыбаясь, слушала, не слыша, и наконец, когда совсем стало невыносимо, поднялась, нащупывая ногой упавшую босоножку.
— Ладно. Спасибо, Гера, хорошая песня. Отдыхайте.
И пошла к двери, не зная, куда себя девать.
— Я провожу, — вскочил с дивана деревянный Эдик, затоптался под смешки остальных.
— Куда проводишь, Эдинька? — Светка махнула рукой, — в соседнюю комнату, да?
— Извини, — сказал Эдик в коридоре, голосом таким же деревянным, как он сам.
— Бывает, — отозвалась Ленка рассеянно, поправляя волосы перед зеркалом, — спасибо, что проводил.
Эдик подавился несказанными словами, еще раз покраснел, и ероша тусклые рыжие волосы, хрипло сказал.
— Погулять можно.
Ленка подумала, оглядывая в зеркале тугие короткие шортики, тонкую талию и джинсовые лямки поверх батника.
— Так и пойду, — решила, вытаскивая из угла сапожки, — ты как, не стремаешься, прогуляться с блондинкой в шортах? Ладно, шучу. Обувайся, я куртку накину.
Глава 13
На улице было сумрачно, пятнисто от фонарей, местами бело от облачного цветения миндаля, и очень шумно. Кричали детишки, смеялись взрослые, где-то играла гитара, а с другой стороны дребезжал магнитофон. Серые плиты тротуара послушно укладывались под ровные Ленкины шаги, звучали постуком каблуков. И шоркали рядом осторожные шаги Эдика.
Она шла, ровно ставя подошвы, покачивая бедрами и подняв подбородок, так что плечи сами уходили назад, расправляясь, и лопатки чувствовались при каждом шаге. А перед ней шла ее тень, такая красивая, будто это вовсе не она, не Ленка Малая, а кто-то с экрана над танцующей толпой дискотеки, кто-то космически длинноногий, с краешками шортиков на круглых бедрах и в короткой курточке до талии, и выше по плечам просвеченная светом фонаря копнища кудрявых волос.
Шаг еще шаг и еще один, и тень укорачивалась, сползая под ноги, бледнела, а на ее месте вырастала другая, тоже еще бледная, но с каждым шагом ярчала, наливаясь четкой темнотой. Показывала длинные ноги, бедра, все будто вырезанное из черной бумаги. И снова менялось.
Рядом так же шагала, превращаясь, тень Эдика. И Ленка усмехнулась, даже тень у него деревянная, вот же буратино какой.
Дорожка кончилась, тени размылись по широкой площадке. Шум дворов немного стих, а на его место пришел другой — машины и автобусы крутились на повороте, рычали у светофора и газовали снова.
— Ты в какой школе учишься? — равнодушно спросила Ленка у размытой тени.
Та дернулась, откачиваясь. И она с удивлением повернула лицо к идущему рядом парню. Он ее боится, что ли?
— Почему? В школе почему я? Ну…
Он увяз в словах и замолчал. Ленка кивнула. Перевела ему то, что не сказал толком:
— Почему я решила, что учишься? А не знаю, показалось так. Что не студент. А хотел выглядеть да? Типа институт то се.
— Я на курсы хожу, — мрачно обиделся Эдик, — поступать буду. В июне.
Ленка пожала плечами.
— Успехов.
Волной наплывал томный медовый запах и было от этого совсем паршиво. Апрель. Лучший керченский месяц. Когда лежала, держа на одеяле фотографию, прижимала ее ладонью, то как раз и мечтала, что завеются с Валькой в степь, совсем далеко, куда она все время хотела одна, но не сильно получалось. Там такие травы. И жаворонки. А еще полно цветов, они смешные, не сорвать, чтоб в вазу, типа всякие сорняки, но вся степь от них цветная, как радуга. Желтое, белое, синее, красное — любой цвет найдется. Они пройдут балочку с цветущим терном и вдруг выйдут на склон, с него видно, как трава уходит к самому песку. Это бухточка, там никого-никого, полукруг желтого песка, серые скалы по бокам. И вода — зеленая, как кошачий глаз. Никого. Только они. Потому что бухту эту Ленка придумала, специально для них, и в ней никогда никого не будет. Ленка засыпала, думая всякие мелочи, которые будут там, и это было, как будто она въехала в новый дом, светлый, большой, и ходит, придумывая, где какая мебель…
— Что?
Эдик раскашлялся в ответ, потом преодолел сам себя и хрипло повторил вопрос:
— Дискот. Дискотеччица, значит? Ну-ну…
Хотел видимо, язвительно спросить, но из-за кашля и хрипов получилось никак.
Ленка пожала плечами, наклонила голову, проходя под низкими ветками, полными цветов.
— А что?
Теперь Эдик пожал плечами. И фыркнул. Осторожно, видимо, боясь снова раскашляться.
— Слушай, — душевно сказала Ленка, беря его под согнутый локоть и отводя от кривого ствола, упадающего на тротуар, как спящий дракон в цветах.
— Ты чего ко мне прицепился, а? Про букварь стал молоть фигню. Ты же про меня ничего не знаешь, так? И сейчас, идем, смотри красота какая вокруг. А ты, кроме своих «ну-ну», ни о чем с девушкой поговорить не можешь, да? Я тебе что плохого сделала? И чего поперся тогда со мной?
Эдик дернул рукой, убирая от Ленки свой локоть. Шли дальше молча, она ждала, все так же ровно ставя каблучки. И удивлялась, оказывается, когда ей совсем фигово, то куда-то девается все стеснение, и говорит она складно, и не стремается, несмотря на презрительный Эдиков тон. Он все молчал, и она уже собралась добавить, про свою почти золотую медаль, но внутри стало кисло, и никакой охоты оправдываться перед глупым деревянным мальчишкой не было.
— Ну… — сказал Эдик. Но не продолжил.
Ленка возвела глаза к черному небу в облаках, светящихся от городского зарева.
— Ладно. Похоже, объяснить свое отношение ко мне ты не можешь. Наверное, книжек мало читал, да, Эдуард? Как же ты поступать собрался? Разве что на физкультурный факультет, там базарить не надо, кидай себе гири, или плавай. И полный герой.
— Я пойду на юридический!
— А нравится?
— Что нравится? — не понял Эдик, теперь уже сам осторожно беря Ленкин локоть, когда она прыгнула через выбоину в тротуаре.
— Как что? Профессия — нравится? Кто будешь, юрист, да? Законы всякие учить, миллион их. Некоторым, конечно, нравится… Ну, наверное.
— При чем тут. Я буду устроен хорошо. Зарплата хорошая. И блат кругом.
— Ясно. С работой твоей ясно. А что про любовь?
— Э-э… Ты о чем?
Они вышли на широкое пространство, сбоку замелькали стеклянные двери гостиницы и большие окна гастронома, а слева ехали за черным витым заборчиком машины, светя фарами.
— Ну, ты женишься ведь? Когда устроен будешь хорошо. И блат у тебя будет. И семья должна быть. Значит — любовь.
— Кто тебе сказал?
Из дверей гастронома выходили последние покупатели, и стояла за стеклом хмурая женщина с большим замком в руке.
Эдик вдруг рассмеялся. Смех у него был некрасивый, тонкий, со всхлипами, а может быть, Ленке все сейчас казалось кривым и косым.
— Ну ты даешь. Да кто тебе сказал, что любовь должна быть? Это же семья. На всю жизнь. Ну, может, не на всю, но не на полгода. Надо как раз, чтоб крепко. По-настоящему.
Он после Ленкиного дурацкого вопроса, наконец, успокоился и перестал шарахаться, приосанился и даже взял ее под руку, слегка притягивая к себе. Сказал сверху покровительственно:
— «Погребок», наверное, открыт еще. Хочешь, кофе попьем? Или мороженого в «Пингвине»? Как там Светлана сказала — Летка-Енька? Тебе подходит. Хы. Енька.
— Не Енька, а Енка, — мрачно поправила Ленка, — танец такой, финский. Папа с мамой танцевали, в молодости. Кстати, очень любили друг друга.
— И сейчас любят?
За их спинами кто-то шагал, переговариваясь, и шаги приближались. Ленка хотела пожать плечами, честно думая о Вальке, и о том, как ее отец бросил сразу троих, и свалил к какой-то Ларисе, а после вернулся, и шепот матери по телефону вспомнила, как та почти плакала своей Ирочке, повторяя, что вот дура я, какая дура, нельзя было так, но сам виноват, у него же две дочки, Ирочка! И Ленка просто уверенно соврала, чтоб не ухмылялся так свысока:
— Конечно, любят! Представь себе, уже двадцать с лишним лет любят. Ты вот лучше скажи…
Она многое хотела спросить у Эдика, например, как он относится к тому, что его брат вовсе не юрист, а художник, и его девушка Таня — тоже эдакое богемное существо. А еще, про Светку, вот они сестры, так почему Светку он явно уважает, а к Ленке относится с таким, прям, подчеркнутым презрением. Но не успела…
— Гоп-стоп! — грянул за спиной хриплый голос и сразу несколько голосов заржали, когда Эдик дернулся, бросая Ленкину руку.
— Мы подошли из-за угла!
Четверо обошли пару и встали шеренгой, загораживая дорогу.
— Привет, Малая. Гуляем, да?
Юра Бока подошел совсем близко, чуть ли не утыкаясь грудью Ленке в нос, осмотрел узкими глазами ее курточку и шорты, и перевел взгляд на совсем одеревеневшего Эдика.
— А это шо за чиполина у нашей девочки завелся?
Стоящий рядом Саша Мерседес кивнул Ленке, сказал другу вполголоса.
— Юрок, да шо ты снова. Гала ждет там.
— Подождет Гала, — отмахнулся Бока, и сунув в кармашки джинсов большие пальцы, встал вольно, чуть согнув ногу в синем коттоне.
— Юра, блин, — подал голос Валера Строган. И тоже поздоровался, — привет, Ленчик. Где свою Рыбку потеряла?
— Я не поэл? — заорал вдруг Бока, качнувшись, — я спросил. Спросил? Шо за хуй с куста?
— Юрок, ты в мусарню хочешь, да? — прошипел Мерседес, оглядываясь, — да еб твою мать, нормально шли ж. Какого…
— Заглохни, — распорядился Бока, — а ты слушай меня, Малая. Я тебе говорил? Говорил? Лазишь тут как хуй знает кто, в шортах этих? С обс… Обсоском каким-то. Я не поэл ваще шо проис-ходит тут?
— Ю-ра, — раздельно сказал Строган, беря друга за локоть, — Юрок, нас ждут. Именины блядь. Ты ж обещал. Галка ждет. Оставь детишек в покое. Пусть гуляют.
— Она? — поразился Бока, отдергивая руку и пытаясь поправить перекошенную куртку, — гуляет, она? Да у нас с ней. Мы же…
— Юра, — сказала Ленка, чувствуя ответственность за кавалера, — ну правда, иди на именины, ждут же вас. Мы просто вышли, за хлебом вот. Это одноклассник мой.
Палец Боки поднялся, качаясь перед ленкиным носом.
— Смотри, Малая. Помни, что я сказал. Пом-нишь?
— Я? Помню, конечно.
Ленке очень хотелось крикнуть, а сам-то помнишь? Насчет того, что гуляй Малая с кем хочешь, я не жадный. Но в желтом свете множества фонарей было ей видно, что Юра Бока сейчас вообще не здесь, пьян в лоскуты. В дымину, как говорили, смеясь, парни на дискаре.
— Юрик, пошли в тачку, тут нельзя стоять долго, — заискивающе попросил Мерс, — ну чего ты, правда, нас ждут. Галка аж плакала, так тебя звала же.
— Галка, — размягчено согласился Бока, — хорошая она баба, хоть и блядует, поехали, Сашок, к Галке. Ленчик! Веди себя хорошо!
— Да, Юра, — Ленка осторожно кивнула, боясь перевести дыхание.
Мерс уводил качающегося Боку, рядом торопился тот, давешний безымянный, похожий на старый холодильник. Строган отряхнул глянцевый лацкан короткой кожанки, улыбнулся, кивая.
— Нормалек, детки. Юрик про вас уже забыл, гуляйте. Ты, чиполина, смотри, чтоб Малую провел додома, ясно? Нехуй ей в таком виде вечером по улицам шариться. Пока Ленок, Ольке привет, поняла? Скажи, от Валерки. Не забудешь?
— Спасибо, Валера. Передам.
Поодаль завелась машина, еще слышны были голоса, а после мотор рыкнул, захлопали дверцы, и жигуленок Мерса уехал, светя красными огоньками.
— Знаешь, — сказала Ленка, — ну его, мороженое, давай вернемся, я домой уже хочу. Что?
Эдик отступил на шаг, отворачивая от нее длинное конопатое лицо. Оглянулся на пустынное залитое светом пространство. Вдалеке медленно шла компания, ругаясь и смеясь, а больше никого и не видно.
— Я на автобус, — сказал вдруг, прокашлялся и еще отступил, пряча за спину джинсовую руку.
— Что? — Ленка опустила руки, с удивлением глядя на ухо и напряженные плечи.
— Мне отсюда, как раз. Остановка вот. Ладно. Пока.
Он шагнул еще, но рассвирепевшая Ленка подскочила, хватая его за вялую влажную ладонь.
— Ага. А я пойду одна, по темноте? Нет уж. Обещал проводить, так доведи обратно!
— Я обещал? Я что обещал? — голос Эдика сорвался, визгнул, и прокашлявшись, Ленкин спутник проговорил чуть более внятно, — не обещал я. И вообще.
Ленка моргнула. Еще не хватало тут разреветься, посреди улицы, ага, а он свалит сейчас. И она пойдет домой, зареванная, одна, в коротких совсем шортах, и наверняка кто-то пристанет, но уже не будет рядом рассудительного Валеры Строгана.
— Ладно, не обещал. Я дура, подумала, что ты нормальный, проводишь. Но слышал, что сказал Строган? Чтоб проводил. А с ним лучше не шутить. Валера Строган на Бирже самый деловой пацан.
— Пойдем, — убитым голосом сказал Эдик.
Они развернулись и пошли обратно, в мрачном молчании, идя так, чтоб не касаться друг друга.
Какая тоска, думала Ленка, ну какая же смертельная тоска в этой вашей нормальной жизни, которая — со всех сторон. И дома, и в комнате у Светки с ее противным Жориком, который сегодня лапал ее глазами, когда переодевалась. На улицах, где куда не поверни, наткнешься на бухого вдрабадан Боку. Или таких же — там, на тропинках Кара-Дага, что шли и прицепились, просто так. И в пивнухе, где доктор Гена рассказывал всякую дрянь, которая теперь маячит совсем рядом. И этот еще…
Она искоса посмотрела на перепуганного Эдика, которых облизывал губы и нервно крутил головой, всматриваясь в черные тени за углами домов.
— Ленуся!
Снова засигналила машина, и еще раз Пашкин голос выкрикнул ее имя. Ленка остановилась, глядя вправо, на перекресток за ажурным низким заборчиком.
— Ты там оглохла, да?
Пашка топтался рядом с грузовичком, махал рукой, потом сразу двумя.
— Вот, — сказала Ленка с великим облегчением, — Эдик, мерси, что проводил, дальше я сама. Пока-пока.
И побежала к светофору, стукая каблуками и придерживая расстегнутую курточку. Пашка поймал ее, обнимая, деловито тыкнулся губами в макушку и пихнул к открытой дверце.
— Залазь. Ну как суперски, что ты бросила своего этого буратину, и выбрала меня! Я в гараж ехал, но если хочешь, давай рванем на пляж, а? На полчасика. Я такое знаю место, у-у-у, охренеешь. Ты чего ржешь? Держись, тут дорога вся в буераках.
— Буратино, — Ленка смеялась, и никак не могла остановиться, — ты почему про него? Буратино, ой я не могу, я про него целый час так думала, что он буратино.
— А не знаю. Такой тымц-тымц, идет, не гнется. Чисто деревяха такая. Ты куда все время деваешься, Ленуся? Я снова соскучился, вот же прикольно, а? За мной девок бегает сто штук, а я скучаю по Ленусе. А давай я тебя вроде как люблю? Давай?
Он смеялся, морщил короткий нос, по лицу бежали полосы и пятна света. Прыгали на стриженые темные волосы и соскальзывали, утекая на приборную доску.
— Давай, — согласилась Ленка, расстегивая молнии на сапожках и садясь на мягкое сиденье с ногами, — конечно, давай, Паш, вроде ты меня любишь, а я вроде как, тебя. Вроде бы люблю.
Впереди бежал свет фар, прыгал, и тогда Ленка тоже качалась и подпрыгивала на сиденье с неровными пружинами. Пашка мурлыкал что-то невнятное, иногда смотрел на нее сбоку, она краем глаза видела его короткий нос и темные глаза, но не поворачивалась, глядя на белые пятна света. Молчала. Мир сузился до маленькой старой кабины, отграничился от всех рычанием двигателя и пашкиной мирной песенкой. Что он там, лениво прислушалась Ленка, ну да, снова своего любимого Антонова исполняет, про зеркало.
— Мечта сбывается… — перешел к другой песне Пашка, — и не сбывается… любовь приходит к нам, порой не та-а-к… о, черт.
Машина прыгнула на ухабе и закачалась, пробираясь по разбитой грунтовке.
— Но все хорошее… не забывается… приехали, Ленуся.
Хлопнула дверца, Пашка обошел кабину и вытащил Ленку за руку. Она качнулась, поджимая ногу в расстегнутом сапожке.
— Подожди, застегну, а то свалюсь еще.
— Давай сюда.
Пашка повалился на колени, держа ее ногу, жикнул молнией. Ленка сверху смотрела на стриженую макушку и плечи, обтянутые старым рабочим свитером. Сбоку пришел ветерок, полный медового запаха. И она оглянулась, ставя ногу и держась за Пашкино плечо.
Вокруг в темноте смутно белели облака цветущего терна и чуть выше — алычи, на невидимых тонких стволиках, казалось, купы цветов плывут в темном воздухе, держа себя густым запахом. Шумело море, плеская себя на полукруг светлого песка.
Пашка поднялся, обнимая ее плечи.
— Не замерзла? У меня ватник старый. Хочешь?
— Как красиво.
Она говорила шепотом, будто запах мог испугаться и улететь, забирая с собой неясные облака лепестков. Пашка прижал ее крепче.
— Ага. Классное место. Народ на нормальных тачках не ездит, жалеют подвеску, а мой динозавр везде пролезет. Иди сюда.
Он тоже говорил негромко и голос прятался за мерный шум волн. Ленка слышала слова, но не разбирала интонаций, только руки его обнимали все крепче, и она подумала невнятно, куда же сюда, и так уже стоят совсем вплотную. По ее подбородку скользнули пальцы, поднимая лицо. А сверху было Пашкино, совсем рядом. В черных зрачках плавал свет, блики от невыключенных фар.
— Паш…
— Что? Ну, что? Ленуся…
— Подожди. Я…
Она не стала вырываться, открыла губы навстречу поцелую. И стояла, внимательно прислушиваясь к тому, что с ней. С ними. Вдохнула коротко, когда поцелуй завершился. И шагнула назад, отступая. Потому что это все было вовсе не так, совершенно не так, как там, под старой сосной, устелившей длинными иглами замусоренную полянку. Сердце стукало коротко и быстро, но не грохотало в ушах, и ноги стояли крепко, не кружилась голова.
Пашка быстро оглянулся, поворачивая руку, и Ленка подумала, а вот он у него, ватник, зачем.
— Иди сюда. Смотри, тут трава, тепло, ветра нет. Я постелю.
— Паш, не надо. Поехали домой.
Он уже бросил старую одежку и выпрямился. Ватник лежал, раскинув рукава, и над ним свешивались полные цветов ветки, пахли невыносимо сладко. Ленка свела брови, стараясь справиться с лицом, сделать так, чтоб не кривились губы. Он такой стриженый. А Валька — у него длинные волосы, вьются. Тоже темные, почти черные. И лицо поэтому кажется совсем светлым. Тут, в этих ветках, усыпанных белыми цветами, было бы оно. Такое — совсем его лицо. А другого Ленке сейчас не надо. Но…
— Блин, Ленка. Я устал уже. Я жду тебя, жду. Ну мы же взрослые совсем.
— Я… — она не знала, что сказать, а у него был такой растерянный и немного злой голос, и вокруг такая сказка, которую он — ей. А она.
Ленка снова шагнула к нему, взяла за руку, держа так, чтоб не прижимал к себе. Каблуки увязали в песке и она качнулась, становясь прочнее. В шкафу валялся конверт, смятый посередке, как старая газета. Сломанная фотография. И никому не сказать об этом, потому что никто не поймет. А самой уже невмоготу, совершенно. Хотя бы доктору Гене, выпалить все и убежать, пока не начал свои липкие разговоры. Хоть бы так.
— Я не могу! Я сейчас не могу, сегодня — нет. Ты что, ты не можешь подождать? Сейчас вот надо, да?
— Могу, — вдруг согласился Пашка, — тебя могу, Ленка. Только если оно будет. Скажи — будет. Скажи когда. Ну?
Она развела руки, подняла их и снова опустила, глядя растерянно на его серьезное в сумраке лицо.
— Число, что ли, сказать? Ну, как я могу! Паш.
— Скажи, скоро. Ну… до лета точно. Нет, — он поспешно поправился, — до мая. Например. Ты чего смеешься?
— В понедельник, — вдруг сказала Ленка, — если я решу, то в понедельник.
Пашка открыл рот. Теперь уже его руки поднялись, светлея в темноте ладонями. И опустились.
— Э-э… ну. Ты что, ты что ли серьезно? В этот понедельник?
— Да, — нетерпеливо сказала Ленка и, нагнувшись, хлопнула на колене комара, — если решу, то клянусь, в этот понедельник и получишь. Поехали, а?
— Вот черт, — пробормотал Пашка, подсаживая ее в кабину.
Ехали обратно, снова качались в такт ухабам, молчали. И он не мурлыкал песенок, обдумывая что-то. Иногда осторожно посматривал на Ленкин решительный профиль.
— А если дождь?
— Что? — удивилась она.
Пашка кашлянул, держа руки на мохнатой баранке.
— Если утром, то моих дома не будет, аж до ночи. Ты как?
— Да, — сказала Ленка, — я сачкану. Ну, на первые два схожу, и свалю потом.
— Вина взять? О, я шампанского куплю, да?
— Угу. Купи. Подожди. Я ж не решила еще, я же сказала, если решу.
— Та не скиснет.
Они вместе засмеялись. Пашка осторожно, а Ленка несколько истерически. Отсмеявшись, добавила, поправляя волосы:
— Я бы сегодня напилась. Но там сестра, начнут меня искать, потом она скандалить будет. Хотя сами сегодня гулянку устроили, но она ж за меня ответственная, пока мамы нет. А переживать ей нельзя. Наверное, лучше не рисковать.
Пашка закивал, выруливая к торцу пятиэтажки.
— Не надо рисковать, Ленуся. Да мы с тобой еще тыщу раз напьемся, как захотим. У нас целое лето впереди. Прикинь, какое лето у нас будет, а? Мы с тобой все пляжи объездим. Я тебя тут высажу, добежишь?
Потянулся, обнимая ее за шею, поцеловал в висок, жмурясь от легких прядок, раскиданных по плечам.
— Беги, я подожду. Как в подъезд, я и поеду.
Ленка быстро шла мимо опустевших лавочек, мимо цветущих кустов смородины, провожающих ее волнами запаха, отвела рукой низкую ветку старого абрикоса — всю в цветах, просто так, чтоб потрогать лепестки. Шла и думала сердито, ну вот, смотри, красивый и ласковый, и ждет тебя, и будет у вас прекрасное лето, какого ж черта тебе еще, Малая? Он тебе нравится и был раньше этого малолетнего Панча, ну и Панч все равно не денется никуда, в смысле как брат и родственник. А еще как малолетка. Ты же не замуж собралась за Пашку Санича, Малая. А так, просто. Как все.
Она повернулась и помахала рукой далекому свету фар. Приглушенно проревел мотор, свет развернулся, уехал, перестал просвечивать длинный двор. А Ленка ступила на площадку, вглядываясь в темный силуэт на лавке у подъезда. Остановилась, с нехорошей щекоткой в животе. Шагнула ближе.
— Петичка? Это ты? Привет. А…
Петичка подобрал длинные ноги, скрестил их под лавкой и качнулся вперед, цепляясь руками. Ленка ахнув, подскочила, хватая его плечи.
— Ты бухой! Сиди, свалишься же! Петь, тебе домой бы.
Она оглянулась на темные стекла кухни. Вот же черт, сейчас он станет ломиться в двери, или орать. Будет скандал. А Светке нельзя. Волноваться. А еще подерутся вдруг.
— Уже, — вдруг сообщил Петичка медленным голосом, — ужже. Нету ее.
— Ну, — неопределенно отозвалась Ленка, усаживаясь рядом и придерживая качающуюся фигуру, — ну как бы, да…
Смотрела на темные окна, думая быстро, хорошо бы Светка не выскочила, искать ее. И чего в кухне темно, неужели они до сих пор торчат в комнате, или уже спят? Перемыли посуду, или просто свалили в раковину. Надо как-то спровадить беднягу, а куда он пойдет такой бухой.
— Побежжала, — продолжил трудный рассказ Петичка, — за этим своим жж… ж…
— Подожди, как побежала? Куда?
— А я въебал, — Петичка снова качнулся и взмахнул длинными руками, — Ленка, это ты?
— Я. Черт. Кому?
— Что?
Он упорно заваливался на нее, Ленка выдохнула, стараясь выровнять тяжелого Петичку, и оглядываясь на окна.
— Ему, — сам догадался Петичка, и похвастался дальше, вытягивая перед собой кулак, — в рожжу прям. Жжопа с ручкой.
— О Господи, — слабым голосом проговорила Ленка, поняв, что поспела к шапочному разбору, — вы дрались ужжже? Черт. Уже, я хотела. И чего? Где Светка?
— Сс… — попытался Петичка, опустил голову и заплакал.
— Не надо ее, словами такими, — Ленка, наконец, выбралась из-под Петиной руки, усадила его ровнее и побежала в подъезд, рванула приоткрытую дверь.
В прихожей светила лампочка, и в комнате у Светланы горел торшер, показывая разоренный журнальный столик, окурки по полу, у дивана пару перевернутых тарелок с остатками салата — тоже по полу. И никого.
— Ссве-та! — заревел в прихожей безутешный Петичка, топая и валясь на вешалку. Заворочался, обрывая висящие там куртки и плащи, — ссука, Ссветка, сстерва ты!
— Черт, — переключилась с верхних сил на нижние Ленка, бросаясь из комнаты и снова подхватывая нескладного длинного Петичку, — не па-дай, я же не подниму тебя по-том! Стой!
Она толкала Петичку наружу, но он упирался, и вдруг заголосил, рыдая:
— Вссе очень просто! Сказки обман! Солнечный остров… скрылся в… в…
В подъезде защелкал замок на соседней двери, и Ленка быстро толкнула Петичку в свою комнату, валя его на диван.
— Да замолчи уже! Макаревич нашелся!
— Нет гор зо-ло-тых! — старался Петичка, укладываясь набок и суя под щеку ладонь.
Ленка села рядом, пихая его бедром. Положила руку на растрепанные волосы. Нагибаясь, зашептала, настороженно глядя на тусклый свет в прихожей:
— Петя, ну, Петичка, миленький, спел уже. Хватит. Ты полежи, ладно? Поспи. Я тебя укрою сейчас. Ты только молчи, хорошо? Бедный ты Петя. Бедный. Бедный ты наш Петичка.
— Ваш? — он поворочался, укладываясь, задышал ровнее, иногда всхлипывая. Такой большой, длинный, с неловко уложенными ногами в напрочь вытертых залатанных джинсах, с короткими, во все стороны торчащими светлыми волосами.
— Конечно наш, — шептала Ленка, легонько гладя его затылок, — спи, Петенька, спи.
Он и правда заснул. И Ленка убрала руку, встала, тихо ступая, вышла и плотно закрыла дверь в комнату. Нащупала в кармане ключ и вылетела, щелкая замком. Чертов Жорик, получил, значит, по башке от Петички, обиделся и удрал, а дура Светка бегает по ночному городу, уговаривая козла вернуться. Хорошо, нет родителей, и надо же как получается, именно когда и нет, столько всего наслучалось.
Она села на лавочку, боясь возвращаться, а то вдруг они убежали без ключа, вон двери бросили открытыми, раззявы. И Светку надо перехватить, рассказать ей, что Петька дрыхнет в комнате, чтоб не зашел туда невзначай ее пакостный Жорик. А то еще позвонит участковому, на него это похоже.
Соседкино окно колыхало шторой, и Ленка порадовалась тому, что Петичка сладко спит и молчит. И через четверть часа, когда она уже зевала во весь рот, не зная, как удобнее устроить гудящие от каблуков ноги, в темноте послышались голоса. Наконец-то, встрепенулась Ленка, слушая, как обиженно нудит Жорик и Светкин голос упрашивает, успокаивая.
Мрачно смотрела, как гордо идет впереди законный Светкин муж, прижимая руку к скуле, а ее сестра торопится следом, что-то мягко ему говоря и время от времени протягивая руку, пытаясь взять его за рукав.
— Там закрыто, — сказала Ленка, поднимаясь, — я заперла, вот ключ.
— Гера, — сказала Светлана, — ну подожди, давай я… надо холодное приложить.
Жорик гордо скрылся в темном подъезде. А Ленка оттеснила сестру в сторону.
— Ты можешь его сразу там уложить? Чтоб не водил обизяну? И не надо чаев там всяких, кофеев.
Светка удивленно хмыкнула, но кивнула на ходу.
— И в кухню выйдешь, ладно? — вполголоса сказала Ленка, отдавая ей ключи.
Пока сестра укладывала оскорбленного Жорика, Ленка наощупь в комнате нашла халат и быстро переоделась, под вздохи и хриплое дыхание Петички. Вышла, плотно прикрывая двери в комнату.
Светка сидела в кухне, держала обеими руками кружку, опуская к ней бледное лицо с припухшими глазами.
— Что у вас тут? — спросила Ленка, кутаясь в халат и зажигая сразу три газовых горелки, чтоб стало потеплее.
Светлана пожала плечами и подняла черные, аккуратно выщипанные брови. Хлебнула из кружки, поморщилась, прижимая руку к животу.
— Ничего.
— Угу. Рассказывай. Ничего.
— Ты чего пристала, Малая? Без тебя тошно. Этот еще. Бегает, видите ли. Обидели его.
Она поставила кружку на стол, вертела, разглядывая картинку на выпуклом боку. Ленка подождала, потом усмехнулась и сказала негромко:
— Он спит. У меня в комнате. На диване.
Тонкие брови поднялись, бледные губы приоткрылись, потом сжались и Светлана стала сильно похожа на мать. Покосилась на приоткрытую дверь.
— Ты с ума сошла? А если Герка узнает?
— А мне что? Вы сами по себе, а я — сама. Он у меня спит, Светища, я может, с ним еще любовь закручу.
Светлана пожала плечами в вязаном красном свитерке, сунула кружку на стол и встала, проводя руками по бедрам, обтянутым черными брючками.
— Да как хочешь. У меня вот — муж. Законный.
— Угу, — сказала Ленка в прямую спину.
Дверь кухни открылась и снова закрылась, мелькнуло за матовым стеклом красное пятно свитера. Ленка ждала. Пятно помаячило, качнулось влево, знакомо скрипнула дверь, Ленкина дверь. И через пару минут Светлана вернулась, сердито выключила большой свет в кухне, оставив лампочку в ванной комнате, откуда теперь неярко светила форточка, забранная кружевной занавеской. Но Ленке все равно было видно, что глаза у сестры мокрые, и губы дрожат.
— Малая, давай чай пить.
Светлана села, опуская плечи, прислонилась к стене.
— Ты смотри, стенка холодная, тебе ж нельзя, — сказала Ленка, вставая и берясь за чайник, — сейчас, да, чай будем.
Глава 14
— Саша, — сказала Маргарита Тимофеевна и прокашлялась, замявшись. Резко открыла журнал, поставив перед собой, как щит, обтянутый красным ледерином. И тут же, спохватившись, положила его на стол, обводя класс строгим взглядом. Продолжила:
— Плакаты принеси, будь добр. Там висят отдельно.
— Айн момент, Маргарита Тимофевна, — Санька поднялся и ушел в узкую дверь, по дороге дав щелбана Диме Доликову. Дима уронил обгрызанную линейку и нагнулся за ней.
Маргоша снова оглядела десятиклассников. Вместо косы волосы у нее были завернуты на лоб высокой модной ракушкой и сколоты на затылке, лежали по плечам густой гладкой волной.
— Итак, вы уже практически выпускники. Осталось два месяца до конца учебного года. Никакого нового материала давать я не буду, а мы пройдемся по экзаменационным билетам прошлых лет и в начале мая устроим как бы экзамен.
— Мало одного, — расстроился ноющий голос за Ленкиной спиной.
— Могу специально для тебя, Перебейнос, дать совершенно новую тему, — вкрадчиво посулила Маргоша, подвигая к себе стопку книг.
Все лениво засмеялись. Санька чем-то грохотал в лаборантской и когда Маргоша собралась сказать еще что-то, крикнул:
— Ой, блин! Маргарита Тимофевна, а зайдите на минутку. А то я тут…
Маргоша выразительно подвела накрашенные ресницы и поднялась, нервно одергивая трикотажную кофточку. Стоя в двери, сказала внутрь строгим голосом:
— Что там у тебя? Не можешь три плаката с крючка?
— Падает! — заорал Санька и что-то громко уронил.
Маргоша ахнула и кинулась внутрь. Класс мгновенно замолчал, все замерли, боясь пропустить. Из открытого входа сначала слышна была полная тишина, потом что-то прошелестело, женский голос быстро и невнятно проговорил фразу. И следом очень громко сказал:
— Да вот же, Андросов! Горе с тобой.
Санька вышел первым, таща рулон, свалил его на кафедру и стал развешивать на доске истрепанные графики, подклеенные по краям марлей. Маргоша вышла следом, деревянно держа руки вдоль боков. Ей ужасно хочется поправить волосы, вдруг догадалась Ленка, и кофточку. Чертов Андрос. С ума все посходили, с этой любовью. Ей стало неловко смотреть на пылающие щеки Маргоши и она опустила глаза в раскрытый учебник.
— Некоторые из вас, — Маргоша справилась с голосом и говорила уверенно, осматривая сидящих, — уже в этом году на вступительных будут сдавать историю. Им тренировочный экзамен вдвойне полезен. Поднимите руки, кто собирается в институт?
Покивала, оглядывая руки, и удивленно посмотрела на Ленку.
— Каткова. А ты что же?
Ленка пожала плечами.
— Я через год пойду.
— Лена. Так нельзя. Нужно именно сейчас, пока в голове хоть что-то осталось, поверь, через год придется все заново готовить, учить.
Ленка молчала. За окном ветер качал тополя, они яростно сверкали свежей листвой, а длинные, похожие на гусениц сережки уже все упали и лежали вдоль тротуара цветными мохнатыми горками, знала Ленка. А говорить Маргоше, что просто так снова впрягаться на пять лет, снова сидеть над учебниками, и для чего — чтоб диплом и карьера, которой Ленка совершенно не хочет, смысла не было. Никто не понимает, и Маргоша тоже не поймет. Тем более двумя словами не сказать, Ленка и сама себе толком объяснить не может, чего ей надо, так что проще всего это вот — через год поступлю.
Историчка замолчала, постукала карандашом по исцарапанной столешнице.
— Ну… конечно, могут быть и причины, я понимаю. Разные. Но поверь, Каткова, очень, очень жаль, у тебя такая светлая голова! В вашем классе ты да Олеся Приймакова куда угодно могли бы. Ну еще…
Она быстро перечислила несколько фамилий. И с вызовом добавила:
— А еще Саша Андросов. И Толик Макарченко.
Кто-то присвистнул. Еще кто-то засмеялся. Санька вскочил, прикладывая руку к груди и раскланиваясь. Сел, громыхнув партой, и преданно уставился на Маргошу.
— Да! — с силой сказала та, перекрикивая насмешливый шум, — вы, детки, путаете паршивое поведение с умом, думаете, если раздолбай, извините, то значит, в башке пусто. А на самом деле, головы у обоих отличные, вот только вряд ли оба сумеют их использовать. Так, Макарченко?
— А я чо, я ничего, — басом сказал толстый Макарченко, вытягивая в проход ноги в грязных ботинках, — я ваще может печальный демон дух изгнанья, я может ваще парю над грешною толпой.
— Землей, Макарченко, — развеселилась Маргоша, — а не толпой, эх ты, светлая неразвитая голова.
— Недоразвитая, — пропищал с задней парты Коля Бабенков.
— Сам ты недоразвитый, поймаю на перемене, — пообещал светлая голова Макарченко.
Ленка тихо порадовалась, что о ней забыли. И вообще, такое облегчение: когда решила, нафиг, никуда не поедет, успеется, то кажется, все хоть чуть-чуть встало на места. А то ночью просыпалась и лежала, глядя в потолок, считала дни и не понимала, куды бечь, за что хвататься, как Рыбка говорила. Да и никакой сейчас возможности. Денег нет.
Мама с отцом вернулись, с кучей баулов и чемоданов, и была встреча, поцелуи, как всегда, все немного скомканно. И мама такая вроде веселая, но встревоженная, а папа просто совершенно ошеломленный присутствием Жорика и уже видным Светкиным животиком под обтягивающими кофточками. А в первую же ночь Ленка вышла в туалет и услышала, как мама плачет в спальне, и отец покашливает, ничего ей не говоря. Ленка прокралась ближе, встала у двери, и снова выслушала, догадываясь там, где слова съедались темнотой, о том, что мама уже перечисляла ей, насчет долга и кредитов, и добавилось новое — про Светку и про место работы для философа Жорика. А потом мама пошла к двери, и Ленка, уже отскакивая, успела услышать горькие упреки насчет «этой твоей Ларисы, небось и за билеты, пока будет кататься по стране, тоже ты заплатишь»…
В коридор мама не вышла, щелкнул выключатель и Ленка, умывшись, вернулась к себе, легла и решила — ну их всех, она пойдет работать, утром будет уходить, потом пожрать и спать, вечером тоже куда, к Семачки или к Рыбке, если та не уедет. У нее будет зарплата, а еще отец напишет бабке, чтоб не ехала.
А еще, если мама сказала «билеты» и «кататься», то можно выяснить, долго ли Панч просидит на своем Дальнем востоке, вдруг он вернется, и тогда у Ленки будут свои деньги, она купит билет и поедет к нему. Пусть сам расскажет про каратисток и вообще. Вот тогда она и решит, что дальше делать со своей жизнью.
* * *
Оля ждала, стоя за углом, под большим старым миндальным деревом, полным бело-розовых зефирных цветов, переступала с ноги на ногу, солнце блестело на белых пластмассовых стукалках, а все плитки под ногами и вокруг засыпаны лепестками. И в волосах тоже запутались несколько, нежно-розовые среди белых прядей.
Ленка, подойдя, тронула пальцем, вытаскивая лепесток, дунула, и засмеялась.
— Красата. Люблю апрель.
— Куда? — деловито спросила Оля, и еще уточнила, — Семки?
Ленка ответила быстро, но Оля все равно пристально на нее посмотрела.
— Вы идите, а мне надо, мать просила.
— Угу…
По тону было ясно Ленке, подруга поняла, что секрет, и обиделась слегка. Но Ленка так сильно волновалась, что просто кивнула и ушла, даже не оглянулась посмотреть, сильно ли обиженное у Оли лицо. Ей надо было побежать на почту, позвонить в «Ласточку», а что она скажет про это Рыбке? И как потом объяснять. Можно, конечно, но Ленка и так волнуется, и еле заставила себя, а если еще разводить с Рыбкой всякие беседы, да видеть какое та сделает саркастическое или жалеющее лицо… да ну.
Но в телефонной будке Ленка все же растерялась, хотя очень решительно набрала номер и шепотом поспешно еще отрепетировала, что скажет.
— Але, — сказал в ухо гундосый детский голос, шмыгнул и еще раз потребовал, — ну, але?
— Веронику… здрасти… — Ленка на несколько мучительных секунд забыла отчество обворожительной Вероники, — Павловну!
— Каво? — удивился детский голос и вдруг заорал так, что она почти выронила трубку, — та щас! Иду уже!
— Доктора позовите! — повысила голос Ленка, с ужасом понимая, уже забыла, что собиралась сказать.
— Анастасия Васильевна в отпуску, — доложил гундосый голос и, чем-то загремев, отключился.
Ленка беспомощно посмотрела на серую коробку телефона. Что теперь? Снова идти к стойке и снова требовать, чтоб соединили. А зачем, если гундосый так удивился насчет Вероники Павловны. Наверное, она уволилась там. Ленка повесила трубку и медленно вышла, а ее тут же отпихнула толстая тетка с пузатой сумкой на боку, хлопнула тяжелой стеклянной дверью и сразу оттуда понеслось приглушенное «але!».
Ленка ушла к стене и села на тонконогую лавочку, обитую облезлой кожей, из-под которой торчали клочки поролона. Ковырнула пальцем желтый комок, поморщилась, стряхивая с руки. Вдруг показалось, она тонет и совсем нечем дышать. Надо за что-то схватиться, а не за что. Апрель, такой долгожданный всегда, каждый год, этой весной оказался безжалостным и неумолимо топил в цветочной пене и ярком солнце уходящую крымскую зиму. И вместе с ней размывалась, рассыпаясь на бесформенные клочки, Ленкина поездка, и еще одна, и все, что было связано с Валиком Панчем, оставляя ей только растерянность и полную невозможность понять, как быть, и что делать дальше. А через два дня понедельник. Завтра дома суета и хлопоты, мама решила, будут праздновать свадьбу (мало ли, расписались там, пусть соседи видят, что все как у людей и посидим немножко, с родственниками), в воскресенье, а до этого нужно мотаться по магазинам и помогать на кухне готовить всякие винегреты. И еще раз побежать звонить не получится, по выходным на переговорном толпы людей.
Она вытащила из кармана курточки листок с номерами телефонов. Покусала губу, раздумывая. Конечно, можно снова позвонить доктору Гене, попросить, пусть он там все узнает. Но впереди маячил понедельник, обещанный Пашке Саничу, и Ленке казалось, доктор Гена сразу поймет, что с ней и почему она торопится все уточнить.
Торопится. Может быть, она вообще слишком торопится? Ленка откинулась к холодной стене и сосредоточилась, стараясь разобраться в себе. По идее, все идет, как надо, как у всех. Светлая голова Елена Каткова заканчивает школу, и вообще не открывая билетов, может просто отдать документы в любой педвуз, туда постоянные недоборы и берут даже троечников. Прямо, приходят уговаривают, чтоб шли к ним экзамены сдавать. Ну или технический вуз, Натаха с подругами собрались ехать в какой-то на химиков-технологов металлургической промышленности, там тоже три человека на десять мест. Не то что факультет легкой промышленности по специальности «дизайн и технология пошива женской одежды», он страшно модный, пятнадцать человек на место. А всякие карьерные, типа юрфака или экономического Ленка даже не обдумывала — сразу во рту становилось кисло, и зубы начинали ныть.
Хорошо. Допустим, к маминой радости, она поедет в педвуз. И дальше, радуйся мама, три года по распределению где-то в поселковой школе, в медвежьем углу, а чтоб не было такого, можно как Светка — выскочить замуж и родить ребенка. Тогда академка, если поторопилась беременеть, и потом свободное распределение. Угу, и Жорик в нагрузку.
* * *
… Они тогда вдвоем на кухне пили чай. Вернее, сидели, глядя, как он остывает. А в комнатах спали два мужика, так смешно, наверное, было бы это в кино — в одной комнате законный Светкин Жорик, а в другой безутешный, брошенный Светкой Петичка.
— Ты его любишь? — спросила Ленка, когда чай совсем остыл, даже парок перестал подниматься, а в кухне было холодно, и локти зябли под короткими рукавами халата.
— Жорку, что ли? — уточнила Светка и потянувшись к мятой пачке сигарет, вытащила одну, закурила, пуская дым над холодной столешницей, — не смеши мои тапки, Малая.
Ленка дернулась, открывая рот. Смешно, сейчас она понимает, смешно, но оказалась совершенно не готова к такому ответу. Целый месяц честно пыталась привыкнуть к Жорика кудрявым усам, к его привычке выходить по утрам в кухню в растянутой майке и семейниках, а еще он сразу лез на ее любимое место в углу возле окна. Потому что он как бы часть ее сестры, новая часть, и надо ее выбор уважать. И вдруг — тапки…
— Мне что, — слова мешались с зыбким дымком над открытой сахарницей и мисочкой с печеньем, — ехать было в пгт Озерки? Десяток домов и сплошная уголовщина, там даже кинотеатра нет, тоже мне городского типа… поселок…
— Ну. Так тебе же год еще. Ты могла бы, ну… Через год и расписались бы. Или из-за ребенка, да? А зачем ты вообще с ним? Если не любишь? Свет, ну это же серьезно.
Светлана ткнула сигарету в пепельницу, сломав, придавила, та согнулась белым крючком с ниточкой умирающего дыма. Улыбнулась, стараясь, чтоб поциничнее, и голос такой стал, специально хриплый и вызывающий:
— А кто тебе сказал, что с ним-то?
Встала и ушла, мелькнув красным пятном за стеклом и не задерживаясь у Ленкиной двери, за которой спал Петичка.
Ленка навалилась на стол, сунула ноги на перекладину соседней табуретки и попыталась что-то понять. Если бы не ушла, можно было спросить дальше, уточнить. А так все превращается в кашу. Что не с ним? В смысле, ребенка не с ним? Выходит, это не Жорика ребенок? Вот блин. А он знает? Наверное, нет, если выходит так уверенно, чешет впалую грудь в вырезе майки и осматривает Ленку, вроде он тут хозяин. Но каша в голове оставалась и через пять минут Ленка уже сомневалась, а так ли она поняла сестру.
Потому сердито сунула чашки в раковину. И ушла в комнату, там внимательно послушала, как Петичка спит, качая над собой невидимое облако перегара. Завела будильник на пять утра, и легла в халате на бугристое раскладное кресло, завернулась в одеяло без пододеяльника.
По звонку Петичка послушно встал, все еще сильно хмельной, но совсем смирный и очень печальный. С силой растирая ладонью небритые щеки, проморгался, и кивая Ленке, обул свои растоптанные парусиновые тапки. Сказал хриплым шепотом:
— Я вчера чо, не очень там?
— Разок ты ему вдарил, по скуле, — честно доложила Ленка.
И Петичка хмыкнул, без раскаяния. Ленке сказал, и она поняла, что это не для Светки или Жорика, а именно ей:
— Извини, ладно?
Квартира настороженно молчала и была, как все квартиры в пять утра — странно неуютной, нежилой, будто все умерли в своих кроватях и никогда не встанут. Ленка помедлила в прихожей, прислушиваясь, вдруг Светлана выйдет. Но тишина продолжала быть мертвой, и она отперла, Петичка вышел, ушел, не оглядываясь. Было его ужасно жалко и одновременно очень сердито на все это вот.
Она вернулась и легла на его место, прижалась щекой к нагретой подушке и, успев подумать, что время такое унылое и мертвое — нипочем не заснуть, тут же свалилась в сон и проспала до позднего утра, опять опоздав на первый урок.
Тем утром, после ночного признания сестры, Ленка, еле продрав глаза, полезла в шкаф, на верхнюю полку и достала толстый альбом с семейными фотографиями, открыла, листая глянцевые снимки и нашла нужный, всмотрелась с надеждой. Потому что вдруг вспомнила, как бабка, ругаясь с ней, орала, гремя кастрюлями, в кого ты такая, у-у-у, китаеза нагулянная. Раньше это Ленку страшно оскорбляло, но после Светланиных слов она подумала, а вдруг правда? Тогда выходит, что у них с Валиком разные отцы? Вот бы.
Но внимательно разглядев фотографию, вздохнула, захлопывая толстую крышку. Это был общий снимок, со свадьбы троюродного брата. И в толпе нарядных людей с деревянными улыбками торчало бабкино злое лицо с поджатыми губами. А в верхнем ряду — Ленка-подросток двенадцати лет, с косой на плече, губы пухлые, а лицо так сильно похоже на бабкино, сразу ясно — одна кровь.
Так что Ленка не стала пытаться звонить в Коктебель еще раз. Встала с облезлой кожаной лавочки и вышла в яркий горячий апрель, такой сладкий и солнечный. Завтра суббота. Потом праздничное воскресенье, откуда она сбежит, чтоб не сидеть за общим столом и не слушать тосты в честь Светки и Жорика. И после придет понедельник, тот самый. Может быть, он что-то изменит в ее жизни, которая совсем будто остановилась и рассыпается.
Она шла по тенистой уже улице, прижимая к боку сумку, следила за своими отражениями в витринах. И думала еще про одну вещь, наверное, не важную, а может, как раз самую важную. Пашка привез ее в бухту, полную цветущего терна и миндаля. Там на светлый песок выплескивалась вода, ночная, а трава пахла нежно, как пахнет весенней ночью теплая, совсем новая трава. И вдруг оказалось, что это та самая, придуманная Ленкой бухточка, которая была для них с Панчем, но вот привез ее туда Пашка. Может быть, это не значит совсем ничего, мало ли на побережье Азова маленьких тайных бухт. А может быть, это тот самый знак, которого она ждет и за который можно уцепиться.
Сворачивая в пустынный переулок, ведущий к базару, она сердито усмехнулась. Вечно ты, Малая, выдумаешь себе всякой фигни, то любовь, то тайные бухты, то вот — ах, какое событие, из девочек в женщины. Обычное дело. Не ждать же до тридцати лет. И если бы еще любовь нормальная, ну можно и подождать сколько-то. А так — малолетний брат неизвестно где, неясно, когда встретятся, и как он тогда к Ленке отнесется.
Так что, вперед, Ленка-пират, и…
Глава 15
— Подожди…
Пашка вдруг встал и пошел к задернутому окну, а Ленка приподняла голову, непонимающе глядя на его голую спину и джинсы, которые он придерживал на бедрах руками. Потому что они расстегнуты, ватно подумалось ей, падают, он их уже расстегнул. Но встал и ушел, туда, где музыка, там магнитофон и Крис Норман бархатным хрипловатым голосом поет о полуночной леди. А джинсы расстегнуты, желтый свет ложится на гибкую спину, вот он наклонился, что-то там делая с кассетой, и музыка замолчала, щелкнула тугая кнопка, еле слышно шелестя лентой. Пашка выпрямился, поворачиваясь, и Ленка поспешно закрыла глаза, чтоб не видеть, как он идет обратно, поддергивая на голой талии джинсы.
Лежала, будто ей вкололи наркоз, она не знает, как это, но читала, что человек все видит и знает, но не может пошевелиться и ничего не чувствует. Наверное, сейчас наркозом ей стало собственное решение.
И вот она видит…
В желтом сумраке закрытых штор Пашкино внимательное лицо, над ней, совсем близко, и его губы на ее щеке, дыхание пахнет сигаретами, а шампанского он не купил, сказал, открывая ей двери и разводя руками, морща короткий нос:
— Прости, Ленуся, мне еще в вечернюю сегодня пахать, так что ну его.
Она кивнула, входя, и положила сумку на кресло, села на краешек рядом, стараясь не смотреть на раскиданные простыни и скомканное одеяло, подушку у самого ковра, целиком закрывающего стену. Внутри все стукало и дергалось, и на себя тоже смотреть не было возможности, потому что, и правда, сбежала после второго урока, как и обещала, и шла одна, вдумчиво проводя пальцем по теплому дереву штакетника вдоль тротуара. То есть, она была в школьной своей юбке, малиновой, расклешенной, с глубокими модными карманами, и в беленькой рубашке, с которой, спохватившись, сняла комсомольский значок, для того, чтоб меньше походить на школьницу. Но кто же носит темную юбку и белую рубашку весенним днем, неся на плече сумку с учебниками и тетрадями, конечно, только школьницы.
Так и Пашка ей сказал, улыбаясь, и выталкивая из комнаты свою старушку-псинку:
— Я думал вообще придешь в фартуке, с оборками там.
— Ага. И с галстуком, пионерским, — пошутила Ленка, следя за голосом.
Пашка немного удивился, кивнул.
Теперь юбка и рубашка лежали в кресле, горбом накрывая сумку, а Ленка какое-то время не могла думать ни о чем другом, только о том, что у нее на лямочках лифчика разные пуговки, одна — синяя, торопилась и пришила давно, еще зимой, так и носит. Но они целовались, и в этом почти не было нового, потому что с Пашкой они целовались не раз и иногда подолгу, пока Ленка не начинала отпихивать его руки, совсем уже растрепанная. Но вот он встал, и глядя на его спину: с талии сваливаются джинсы, конец ремня свисает, трогая бедро, она поняла — это было уже совсем так — бесповоротно. А тут еще и музыка замолчала почему-то. Только в кухне скреблась старая маленькая собачка, деликатно повизгивая.
Куда уже деваться, снова как в вате, подумала Ленка, открывая губы навстречу поцелую, раз уж решила. И закрыла глаза.
А через минуту открыла их, с удивлением упираясь Пашке в грудь руками.
— Пусти. Мне… Да пусти же!
— Сейчас, — шептал он, и ей стало понятно и от этого страшно, он не слышит, это «сейчас» оно — просто так, — подожди, ну вот, сей-час, да подожди же. Ну.
— Подожди, — повторяла она за ним, пытаясь вывернуться, время одновременно ускорилось и замедлилось, он что-то делал, оно никак не кончалось, но шло так быстро, что не успеть выдраться из-под жесткого тела. Наркоз, какой там наркоз, какое там ничего не чувствовать. Ей показалось, что Пашка превратился в корягу: упала на нее сверху, протыкая и распарывая жесткими обломками веток, такими жесткими, что дальше не обломить их. И она, как в ловушке, только переждать, когда коряга сама. С нее.
Она ничего больше не слышала, пораженная болью и тем, что он не отпускает, ведь она же не хочет! Уже не хочет. Потому что:
— Больно! — закричала, поняв, что думала, но вслух же нет, — пусти ты, мне больно!
Но он даже не говорил свои «сейчас», и Ленка зашарила рукой сбоку в полном отчаянии, но там, кроме мягкой подушки — ничего.
А Пашка уже лежал рядом, дышал тяжело, укладываясь и отвернув лицо, смотрел в потолок над собой. Ленка зажмурилась, не потому что не видела никогда, да видела тоже мне тайна великая — голый парень. Но эти простыни, а еще скулит Элька в коридоре, и так стыдно за свои эти крики, и еще мокро под задницей. И пахнет. И как-то все это…
А еще надо наверное что-то делать. Вставать. Говорить.
Она украдкой потянула краешек одеяла, накрывая живот и ноги.
— Черт, — сказал Пашка, ворочаясь рядом, сел, догадалась она, — слушай, простыню изгваздали всю. На диван, наверное, протекло.
Она молча язвительно ответила — а ты как хотел-то, в мой первый раз? Но вслух не смогла.
— В ванную пойдешь? — деловито спросил Пашка, и кажется, встал, послышались мягкие шаги, щелчок, тихо замурлыкал временно изгнанный Крис Норман. Ленка вдруг увиделось, чешет грудь в вырезе майки и ухмыляется, как Жорик, и она быстро открыла глаза — прогнать картинку.
Пашка стоял над магнитофоном, смотрел на нее издалека и Ленка снова подумала о дурацкой синей пуговке лифчика, она его даже не сняла, и трусы на одной ноге болтаются. Сказала хрипло:
— Иди ты. Первый.
— Не, — отказался Пашка, — щас простыню свернем, надо ее застирать. Блин, Ленуся, а я чето думал, ты мне врала. Ну думал, ты уже с кем-то отметилась, а мне просто голову крутишь.
— Убедился? — мрачно ответила Ленка, садясь и натягивая трусы. Поморщилась от липкого мокрого. Встала, опуская голову, чтоб волосы закрыли растерянное лицо.
— Простыня, — спохватился Пашка, — на, брось там в ванну, залей водой.
Ленка взяла комок с красной кляксой на боку. И вышла, косясь в сторону прихожей и подумав испуганно, а вдруг сейчас родители его, а она тут, в трусах. С простыней.
В ванной она быстро помылась, дрожащими руками набирая ледяной воды. Оглядела висящие на крючках чужие полотенца. Вытерлась краем многострадальной простыни и, положив ее в ванну, открыла кран на полную. Минуту стояла, глядя, как вода пятнает складки, потом схватила, хмуря брови, стала выполаскивать красное, отжимая неудобный край ледяными руками. Пашка постукал в двери.
— Ленуся, открывай. Ты там все? Мне надо тряпку взять, блин диван все ж выпачкали.
— Сейчас, — сказала она, торопясь и комкая мокрую простыню.
Снова бросила ее в воду. И открыла, вытирая руки краем чужого полотенца.
— О, — сказал Пашка, — отлично, ну я как раз сейчас замою там пятно, на диване, и кофе будем. Ты кофе хочешь? А пожрать?
— Я домой хочу.
— Я провожу. Только давай сперва кофе, а то у меня глаза закрываются совсем. С этими ночными забодался совсем.
Он ходил по кухне, снова в джинсах, с расстегнутой пуговицей и небрежно захлестнутым ремнем, а Ленка сидела на холодной табуретке, одетая, сидеть было неловко, будто на горке камней, подумала вдруг, и не поняла, что на нем за трусы, так закрывала глаза. И вообще, это все, что ли? Вот это, что было сейчас, а потом простыню вместе стирали в три раза дольше, чем лишались невинности, это и был тот самый решительный шаг?
— Чего смеешься? — Пашка сел напротив, заглядывая ей в глаза, и Ленке немедленно захотелось лицо тоже во что-то одеть, как будто оно голое и так нельзя.
— Я не смеюсь.
— Ну, ты не плачешь? — уточнил он, — ты как вообще, нормально?
Внизу старенькая Элька внимательно обнюхивала Ленкину голую ногу и вдруг грозно залаяла на новый запах.
— Паш, пей скорее, а? Мне, правда, надо домой.
— Уже, — Пашка вскочил, засуетился с чайником и туркой, — а зря не хочешь. Конечно, если б май, когда совсем тепло, смотаться на пляж, то се, ну в смысле не дома, но раз так случилось, чего жалеть, правда? Не жалеешь?
У него и правда было сонное, усталое лицо, и Ленка покачала головой отрицательно.
— Не жалею.
— Вот и класс, — успокоился Пашка, — я щас и Эльку заодно выведу, а то обоссыт пол в туалете.
Идя с ним вдоль дома и кивая соседским старушкам на лавочках, Ленка подумала с удивлением, она и правда, не жалеет. И не потому что понравилось, чему тут нравиться-то, сплошной кошмар и черти что, но толку жалеть, что стало, то и стало. В подъезде Пашка обнял ее, целуя в нос, потом в щеку.
— Мне пора, Ленуся, завтра увидимся, да? Я позвоню.
И тут Ленка вспомнила, важное. Встала на цыпочки, поближе к его уху. А сверху кто-то кашлял и гремел прутьями перил, видимо курил на площадке.
— Паш, я не залечу? Ты все правильно сделал же, да?
Ей не понравилось, что Пашка секунду помялся, но ответил он бодро, шекоча ухо губами и прижимая ее к себе:
— С ума сошла? Конечно, все путем, я ж в тебя не кончал.
* * *
— Лена, — нервно сказала мама, — как хорошо, ты рано, нужно перемыть посуду, Господи, вот не было печали, еще этот праздник, как мне все надоело! И ведь все на мне, все на мне.
— Я вечером.
— Как вечером? — испугалась Алла Дмитриевна, вытирая руки кухонным полотенцем, — мы не успеем ничего! А еще ужин!
— У меня голова болит, я полежу.
— Таблетка, Лена, выпей и пройдет, может. И посуду…
— Я полежу, — металлическим голосом сказал Ленка, — потом помою.
Она закрыла двери и подперла их креслом. Двери тут же громыхнули, кресло отъехало, показывая в проеме мамино лицо.
— Лена! Я не понимаю, как ты можешь? У нас такой день был. А ты!
— Дай. Мне. Полежать! — сказала Ленка, снова придвигая кресло и договаривая в узкую щель, — оставь меня на час в покое, ладно? А то повешусь нахрен.
— Вылитая Елена Гавриловна, — звонкий от обиды голос удалялся в кухню, — ну прямо один в один. За что же мне такое…
Ленка легла, плотно укрываясь одеялом, подоткнула его со всех сторон. Прислушалась к ноющей боли внизу живота, вполне терпимо, при месячных болит намного противнее. Особенно если не вспоминать, как было больно, когда он — коряга, и как она орала, просто как последняя дура. И вообще, пока мама там в обидах включила телевизор и слушает какие-то частушки с гармонью, Светка с Жориком уехали к друзьям, а папа зависает в гараже, нужно полежать в одиночестве, потому что больше негде. Если бы так не болел живот, ну вообще, если бы не это вот, что случилось, Ленка плюнула бы на всех, села в автобус, уехала на окраину, где старая крепость, и там ходила бы по апрельской траве, глядя с развалин высокой стены на пролив и медленные корабли мимо. Но там сейчас наверняка бухают всякие компании, так что тоже не фонтан. Дома лучше. Если никто не трогает.
Она закрыла глаза. Можно уйти так, лежа под одеялом. Она знает, есть такие места. Например, маленькая тайная бухта…
— Нет, — шепотом сказала она.
Нельзя в бухту. Там теперь Пашка с его расстегнутыми джинсами и стиркой простыни. А еще Валик с Ниной каратисткой. Но ничего. Есть еще дофига мест. Например, улица, мощеная круглым булыжником, блестящим на солнце. Спускается вниз, вдоль цветных заборов, увитых яркими розами. Штамбовые, кажется так называются. Над ними кованые балкончики, на беленых стенах красивых домов. Жарко, солнечно и никого нет, так хочется Ленке, чтоб никого сегодня. Только на стене сидит кот, ее кот, черный, умывается и смотрит желтыми глазами. А Ленка идет не торопясь, на ней белый костюм с узкой юбкой и большая шляпа, тоже белая. Там внизу — порт, и там стоит ее личная яхта. Она поднимется по трапу, кивнет капитану и сядет на носу под рубкой, скинув босоножки. Не будет возлежать в шезлонге, и пить всякие коктейли, это, в общем-то скучно. Лучше сидеть в тени рубки, смотреть на синюю с зеленью воду и ждать, когда молчаливая команда (угу, красивые, быстрые и совсем не мешают, делают свое) привезет ее на прекрасный остров, где все так, как ей хочется, а главное, там не нужно бояться, там все сделано для того, чтоб никто не обидел. Ленка там — белая королева. Желтого песка, синей воды и зеленых трав с яркими цветами. Белая королева лета. Королева Лета. А не девочка Летка-Енка, Ленка Малая, Лена Каток.
Она спала, укрытая до самого носа, а дверь с усилием открылась, сдвигая кресло и показывая в проеме Светланино внимательное лицо. И закрылась снова.
— Оставь ты ее, — вполголоса сказала в кухне старшая сестра матери, прерывая скорбные жалобы, — чего ты цепляешься, ну хочет, пусть спит. Тебя, мам, послушать, так тебе вообще жизнь мешает. Любая.
— Не любая, — возразила Алла Дмитриевна, — а неправильная! Я просто ума не приложу, почему у нас все так вот получается, не как надо! И ты еще тут.
— Угу, — согласилась Светлана, осторожно усаживаясь и беря полотенце, — и я тут, и папа наш тут, и бабка, и вообще, всех убить и подарить тебе, мамочка, новеньких, настоящих, правильных. Вот будет счастье!
— Я не понимаю, — Алла Дмитриевна сунула ей мокрую тарелку, — я все равно не понимаю, почему нельзя поступать правильно! Почему обязательно надо выкидывать какие-то коники! Буквально всем вокруг меня!
— А я теперь понимаю, почему батя от нас сбежал, — тяжело сказала Светлана, вытирая тарелку и ставя ее на стол, — задолбался от правильной жизни. Давай другую. Тарелку.
Глава 16
Посреди ночи Ленка проснулась, от резкого удара сердца, такого сильного, что показалось ей — кто-то грохнулся в оконное стекло. Она открыла глаза в темноту, не понимая, что и зачем, а сердце зло зачастило, доказывая, никакого стекла, это я, твое сердце…
А вдруг у него сифилис?
Она села, глядя перед собой на смутный блик стекла в книжном шкафу, потянув к шее одеяло, опустила глаза ниже. Там, уже без стекла стояли высокие книги на отдельной полке — справочники, энциклопедии. В самом углу — затрепанная популярная медицинская. Любимая мамина книжища.
Ленка слезла с дивана и, поводя рукой перед собой, дошла к шкафу, вытащила книгу и вернулась, села, снова кутаясь в одеяло и с пересохшим горлом включила настенный светильничек. Перелистала страницы.
Не очень-то ей хотелось читать написанное мелким плотным шрифтом под жирно выделенным названием, так что она медленно вела глазами по строчкам, стараясь не останавливаться и не вчитываться, но отдельные предложения сами прыгали в мозг и ввинчивались, будто у них цепкие лапки.
Инкубационный период. У Пашки мать медсестра, всю жизнь, он хвалился, если вдруг что, она сама вкатит уколов от триппера, и для Ленки это было откровением, немыслимым, как это — прийти к матери и рассказать о таком! А что такого-то, удивился тогда Пашка в ответ на ее удивление, лучше ж она меня обругает, но я буду здоров и дома, чем позориться на триппердаче и потом запись в карте, или вообще колоть себе какую дрянь. Это было правильно, но Ленка о себе знала, она скорее умрет, чем матери признается.
Так вот. Период. То есть, если, к примеру, на той неделе у Пашки был секс, с кем-то, то он может быть болен, а оно еще не видно. И даже если он пользовался резинкой (с тобой почему-то не стал, Малая, ехидно отметил внутренний голос), то вот еще написано — можно заразиться через поцелуй даже. Или любой контакт слизистых…
Слово было таким ужасным, что Ленка захлопнула книгу, унесла ее обратно на полку. И легла, в темноте глядя в потолок и раскаиваясь, что выспалась, как идиотка, теперь придется лежать и бояться, и ничем себя не отвлечь.
Но утром, как обычно бывает, страхи показались не такими уж страшными, хотя не ушли, но отступили в сторону, а еще Ленка с мрачной надеждой подумала о том, что даже в самом ужасном случае там все равно написано — безусловно излечим при своевременном обращении к врачу. И уж в таком ужасном случае она не станет упрямиться, а поедет и своевременно падет на грудь доктору Гене, скажет, спаси меня (а я больше не буду, подсказал внутренний голос, и Ленка на него обиделась, а потом рассмеялась), и он, конечно, спасет дурную Ленку.
В школу она ушла рано, даже раньше, чем надо, ей хотелось пройти одной, теми же улицами, где еще вчера она шла — совсем другая.
Сумка висела на плече, оттягивая его книгами, юбка шуршала об колготки на коленях, и ветерок лапал кожу в вороте светлой рубашки. Ленка вытянула руку, так же, как вчера, ведя пальцем по шершавым штакетинам длинного забора. С другой стороны рвалась на проволочной линейке маленькая черная собачка, хрипела, исходя лаем. Не допрыгивала, злясь. Под косматыми лапами мялись синие барвинки с пятаками сочных листьев и Ленка убрала палец, чтоб не дразнить песика. Помахала ему:
— Пока, Черныш!
И ушла дальше, продолжая внимательно слушать свое новое тело, его шаги и то, как ноет живот, неприятно, но вполне терпимо отдаваясь при каждом шаге.
За стадионом маячила школа, пора было думать об уроках и временно выбросить другое из головы, но Ленка еще спохватилась, вот же блин и блин, Пашка сегодня вечером прискачет и, конечно, начнет уговаривать ее на секс. Надо ему отказать, чтоб не обиделся, она никак сегодня не готова, и хорошо бы вообще пару дней не появлялся. Ну ладно, решила Ленка, стуча каблуками по дырчатым плитам железного мостика, под никлыми метелками тростника, придумаю что-то вечером, совру там, насчет много дел дома, такое…
А потом наступит лето, и да, она готова провести его с Пашкой, как он говорил, объездят все пляжи, и это так здорово, ехать в кабине, на бугристом сиденье, разглядывать за окном зеленые и рыжие обочины…Впереди покажется яркая синева, и они будут совсем вместе, двое, и Ленку отпустит внутри это проклятое напряжение, когда всем вокруг она чего-то должна…А еще полгода мучений, связанных с Панчем, и четыре месяца изматывающего ожидания непонятно чего. Теперь рядом будет Пашка с его внимательным взглядом и милой улыбкой. Секса Ленке совершенно не хочется, наверное, еще просто рано, надо привыкнуть. Но Пашка сильнее ее, и если рядом, то ей станет…
На углу, уже перед самым внутренним двором, по которому носились ранние первоклашки, она остановилась, пытаясь подобрать мысленные слова. Как ей станет? Наверное, защищенно. Как будто он старший брат. Не такой, с которым дерутся, и бегут жаловаться родителям, а настоящий, который всегда рядом и защитит, позаботится. Если для этого надо будет с ним спать, с Пашкой, ну ладно. Только чтоб не заразиться, и не залететь.
Заходя в гулкий холл, где шестиугольные зеркала на длинной стене провожали ее отражениями светлой копны волос, она вспомнила, как в восьмом в школу приехала большая врачебная комиссия, доктора заняли три кабинета и актовый зал, и всех с уроков вызывали по фамилиям, забирали по десять человек, и вели через пустые коридоры. На перемене маленький Колька Бабенко, торопясь и всхлипывая от возбуждения, повторял, вытирая рукой мокрые губы:
— А к девкам геникола приехал, пацаны сказали, проверять их будут, кто целка, а кто нет! Врач такой. Специальный!
— Хыто? — удивился толстый Макарченко, тесня Кольку в угол и растирая большой лапой серые волосы на колькиной макушке, — а ну повтори хыто хыто приехал?
— Пусти, — пищал Колька и, вывертываясь, повторял, — геникола, ну врач такой!
— Гинеколог, балда с ушами, — поправил его тогда Макарченко, у которого не было отца, а мама работала лаборанткой на станции переливания крови.
Девочек вызвали, с урока химии, вывели стайкой в пустой коридор, они шли следом за школьной медсестрой, шаги прыгали от стены к стене, и вдруг вместо одинаковых послушных шагов рванулся частый дробный топот. Все остановились, наталкиваясь друг на друга. И смотрели, как по коридору в сторону спортзала убегают Танька Калмыкина и Наташка Шибик.
— Господи, — утомленно сказала медсестра, качнув крутыми кудрями, блестящими лаком, — вот уже дуры, вот дуры.
Рыбка и Семачки стояли на лестнице, у высокого зеркала, очень популярного среди старшеклассниц. Семки внимательно рассматривала свою скулу, трогая пальцем красное пятнышко прыщика, а Оля, прислонясь задницей к батарее, холодно смотрела на Ленку сверху вниз.
— Привет, — Ленка стащила сумку, сунула на подоконник и встала рядом с Семачки, поправляя волосы.
— Какие люди в голивуди, — язвительно поздоровалась Оля, — куда уж нам с бедной Семачки, разве ж мы теперь нужны Ленке Малой, она нонеча не та что давеча…
— У тебя салицилка есть? — деловито спросила Викочка у Ленкиного отражения.
— В сумке, в кармане.
Викочка полезла в карман сумки и вернулась к зеркалу, усаживая поверх красного пятнышка белую точку мази из пузырька.
— Вот как весна, сразу лезет всякая дрянь. Нинка говорит, надо спать с парнями, ну пилиться, в общем. Тогда никаких прыщей не будет.
— Золотые слова, Семкисова, — грохнул за спинами язвительный голос русачки Элины Давыдовны, — а будет сразу пузо, коляска и декретный отпуск прямо из десятого класса.
Каштановый начес отразился рядом с Викочкиным красным лицом и уплыл дальше, в коридор.
— Пойдем, что ли, — скучно сказала Оля, — щас звонок уже.
— Черт, мне же еще пособия вешать! — Викочка сунула Ленке пузырек и убежала, стуча каблуками.
— Подожди, — попросила Ленка Олю, — да погодь минутку.
Звенел звонок, мимо бежали школьники, сперва густо, потом реже и вот стало пусто вокруг, захлопали на этаже двери и в учительской кто-то громко говорил, направляясь в кабинеты.
Ленка отошла от зеркала. Развела руки, поворачиваясь в одну сторону, потом в другую.
— Ну? Что видишь?
Оля пожала плечами, оглядывая знакомую рубашку с комсомольским флажком на груди, юбку с широким подолом. Старые ленкины туфли на толстой подошве, замазанные вишневым кремом.
— Еще смотри, — потребовала Ленка. И снова медленно повернулась, поднимая руки над копной волос, — ну?
Оля расширила глаза, приоткрывая рот. Щеки ее с готовностью запылали, она вообще быстро краснела и страшно из-за этого страдала.
— Подожди. Малая. Ты что, ты — да? Серьезно?
— Угу, — Ленка опустила руки, кивнула.
Оля прижала ладони к ярким щекам.
— О черт! С Пашкой, да? Или это Кинг?
— Ты что, — испугалась Ленка, — причем тут Кинг. Да, Пашка. Ну и что, я изменилась?
Оля пожала плечами, с жадностью оглядывая подругу.
— Вообще-то нисколечки. Слушай, а…
— Вот и класс. Оль, потом ладно? Из школы пойдем, я расскажу. Только Семачки не проболтайся.
— Тогда вечером, — решила Оля, хватая сумку и торопясь рядом с Ленкой, — а то мы уже договорились, после седьмого вместе в пышечную, ты с нами?
— А берете? А то ты совсем на меня обиделась.
— Ну я же не знала. Лен, а ты как…
Ленка толкнула ее локтем:
— Сказала же, потом!
— Ты как, пышки по-прежнему полюбляешь жрать? Или…
— Оля! Нет, я теперь только черную икру. И запиваю шампанским. В каб… кабриолете. В вояже. На пленэре…
— Малая, прекрати матюкаться!
Они, смеясь, разбежались в разные стороны, и Ленке вдруг захотелось плакать, всего на секундочку, так сильно она соскучилась по девочкам за этими своими переживаниями с Пашкой и дома.
А вечером Пашка не пришел. И даже не позвонил. Ленка не стала сидеть дома, вечер был такой прекрасный, весь из теплого летучего меда, и цвета тоже медового, от медленно уходящего солнца. Улицы были полны людей, гуляющих после зимы, они смеялись, водили собак на поводках, носили на руках котов и детей. И даже пьяных не было особенно видно, и на газонах никто не валялся, хотя пару таких мертвецких в день Ленка видела, отводя глаза и морщась. Они с Олей тоже ходили вокруг домов, и Ленка старалась не выпускать из поля зрения свой двор, но одновременно всякий раз сворачивала, чтоб не пройти Пашкиным двором, пока Оля не рассердилась.
— Чего круги нарезаешь? Боишься теперь пропустить, что ли?
Ленка помотала головой, пытаясь объяснить.
— Да нет же. Вернее, да, но не так. Я не жду, просто неудобно же, если он придет, а меня нету совсем. Я же хотела вежливо, чтоб не обиделся, ну насчет сегодня. И может быть, завтра. А к дому его не хочу, а то вдруг подумает, выслеживаю.
— Поздравляю, Малая, — отозвалась Оля, держа ее под руку и приноравливаясь к медленным шагам, — небось, когда просто дружили, в голову не брала. Придет — не придет, наплевать.
— Ну да, — задумалась Ленка, — он ведь по неделе не появлялся, а потом, хоба — прибегает. И нам весело. Ну ты не думай, я не собираюсь. Это я сегодня, чтоб просто ему сказать, что я не… Чего угу? Хватит язвить! И вообще. Ты меня втравила, а сама, раз и в кусты.
— Я? — поразилась Оля, останавливаясь под томно цветущим розовым миндалем, — а, ты шутишь. Фух. И вообще насчет кустов, чья бы корова…
— Угу.
— А я не смогла, Лен, — Рыбка встала на цыпочки, притягивая к лицу ветку, уткнулась лицом в цветы.
— Пчелу не съешь, — предупредила Ленка, внимательно слушая.
— Да. Точно. В общем, я не говорила, было с Колькой свидание, ну я вроде совсем собралась. Мы с ним уехали в кабак, аж в Камыше. Я боялась тебе сказать. Потому что все коряво вышло.
Они вышли на тротуар и, пройдя десяток шагов, уселись на вылощенное бревно, положенное рядом с чьей-то калиткой. Оля привалилась к ленкиному плечу, и рассказывала совсем негромко, а за их спинами деловито гремела собачья цепь за железным забором.
— Я же не просто так сейчас над тобой прикалываюсь. Короче, мы там сели. Он мне цветы. И шампанское. У него ключи были, пацан ему знакомый дал, на вечер, до утра. А я не могу же до утра, ну Колька говорит, такси возьмем, я тебя довезу, хочешь, в два часа, или в час. И мы сидим, так все красиво. А я думаю, вот трахнет он меня, и я буду, как его все. Бабы его. Стану бегать и каждую минуту считать, где Коля, а почему нету Коли. И когда уже идти, я ему сказала, та не, поехали домой.
— Ох. Он тебе башку не скрутил?
Рыбка хмыкнула, вытягивая длинные ноги и укрывая их широким синим подолом.
— Я уже бухая была, так, неслабо. А он прям с лица спал, ты говорит, что, издеваешься? А потом засмеялся и говорит, а ладно, давай тогда нажремся. Ну и мы нажрались. Как те свиноты. Я потом рыгала в кустах. А потом он рыгал. Это уже когда мы на море сидели и бутылку взяли с собой. Я испугалась, что он там в кустах свалится и заснет нафиг. Но он купаться пошел. Голый. Блин, луна светит, ветер еще, холодно прям. А Ганя как слон, рычит там и плещется. Мокрый. Потом еле джины натянул, на мокрые ноги ж. Кино, вино и домино.
— Не судьба значит. И не жалей, Оль.
— А я не жалею. Вот только он потом, когда уже в подъезд меня, то засмеялся и говорит, все равно, Рыбка, будешь моя, никуда не денешься.
— Хы. Похоже, они все это говорят. Бока мне тоже, помнишь?
— Бока уголовник. А Ганя все же не совсем потерянный. Нет?
В вопросе звучала надежда, но уже какая-то безнадежная. А Ленка, тоже вытягивая ноги в вельветках и посматривая на свой далекий подъезд, думала, вот как интересно, пропащий Ганя подсуетился насчет шампанского и даже цветов, чтоб все красиво. А ласковый Пашка рассказал, что скоро на работу и вообще, давай стирать простыню. И не поймешь, чья ситуация лучше. Еще — у Ольки любовь. А Ленка — так.
— Чего фыркаешь? — поинтересовалась Рыбка.
— Анекдот. Про зануду, помнишь? Которому проще дать, чем объяснить почему давать не хочешь. Это как раз наша с Пашкой ситуация, вдруг подумала я. Слушай, пойдем. Вдруг он там звонит, с автомата. А меня нет.
— Ну-ну, — ласково язвительно сказала Оля, поднимаясь и отряхивая юбку, — а ну посмотри, Малая, у мене рожа не в семачках?
— Нет, тетя Оля, чистая у тебе рожа.
В квартире после мягкого медового вечера было темно и изрядно холодно. А еще в комнате ругались Светлана и Жорик. Она мерно что-то говорила, не повышая голоса и Ленка, разуваясь, усмехнулась — узнаю брата васю. Светища могла своим этим мерным выговором кого угодно довести до белого каления. Жорика точно довела — из комнаты время от времени слышался его резкий пронзительный голос, почти визг, с возражениями и язвительными замечаниями. Потом голос стихал и становилось слышно, что Светища не умолкала, продолжая мерно и последовательно развивать тему.
— А где папа? — спросила Ленка, придя в кухню на запах валерьянки.
Мама сунула пузырек в буфет и села, держась рукой за сердце.
— Нет, ты скажи, — потребовала умирающим голосом, — за что мне такие муки? А если у нее вдруг случатся схватки? Или еще что? Придется вызывать скорую. Ехать. И он так кричит, слышно же соседям.
— А чего говорят? — Ленка села напротив, на любимое свое место у окна.
Подвинула к себе тяжелую пепельницу-башмак, в ней горкой лежали окурки. Папа сидел тут, курил в форточку, как полгода тому. Снова молчал и покашливал, иногда вопросительно взглядывал на Ленку, когда та сидела у стола. Наверное, ему интересно, отправила ли дочка посылку с лекарствами. Но почему не спросит сам, с возмущением и злостью думала Ленка и молчала, поклявшись себе, спросит, я все расскажу. Молчать легче всего. А пусть, наконец, поговорит с ней, с родной дочерью.
— Папа снова в гараже, — ответила мама, ставя на стол пустую кружку с резким запахом, — а эти… Светлане подруга нашла место. Воспитатель в клубе школьников. Там нужно высшее, гуманитарное. И работать с подростками. Помещение, все как надо, шахматы всякие. Шашки. Так он, он заявил, что… ох…
— Угу, я поняла. Не рви ты себе сердце, мам. Разберутся.
В комнате треснула-грохнула дверь, быстрые шаги смерили коридорчик, и входная прогремела засовом. Когда грохнула и она, в кухню пришла Светлана, обвела сидящих мрачным взглядом и, потянувшись, вытащила с дальней полочки мятую пачку сигарет.
— Светочка, — ахнула Алла Дмитриевна, — тебе нельзя! С ума сошла!
— Сойдешь тут.
Светлана выбила сигарету, взяла со стола зажигалку и ушла. Снова прогремел засов в прихожей.
«Что скажут соседи» — прочитала Ленка на скорбном лице матери.
— А ко мне никто не приходил?
— Что?
— И не звонил?
— Кто? Лена, ты еще тут, не знаю я. Не было твоей Рыбки! И Вика не приходила!
— Мам. Я просто спросила, мне никто не звонил? Точно?
— Отец точно придет сегодня пьяный, — мама поднялась, сунула на плиту чайник, — Господи, за что мне это все. И еще руки. Каждую ночь немеют так, я совсем их не чувствую. А кто брал медицинскую, Лена? Она вверх ногами стоит, и страницы смялись. Может быть, у Светочки неприятности, а она молчит, бедная девочка. Я почитала про руки. Это связано с сердцем, плохая его работа. Может быть, гипертония. Или диабет. Это такой кошмар, диабет, а вдруг у меня диабет?
— Это нервы, мам. Ты бы не хлестала свою валерьянку, а сходила к врачу. Невропатологу. Или психиатру.
— Хочешь сказать, я психически больна? — возмутилась мама, но Ленка не стала ее дослушивать. Сказала про уроки и ушла к себе. Улеглась на диван, снова встала. Перебрала пластинки и поставила одну на проигрыватель. Опять легла, уставив глаза в потолок.
— Дежурный ангел мне явился ночьюПел невыносимо печальный женский голос.
— Я не спала, я у окна сидела. Он обратил ко мне святые очи. Ну как дела, что спела, что не спела?Ленка села, сгибая колени и обнимая их руками. Уложила на коленки подбородок и повторяла слова, шепотом.
— Он крылья положил на стол устало Я крепкий кофе гостю подогрела…Там были еще слова, дальше. Но Ленку сильно волновали именно эти, первые, она видела усталого ангела, которому нужно согреть кофе, а главное, его надо утешить тем, что ты делаешь что-то, и конечно, ему станет легче. Но это ангел. Его не обманешь дипломом, полученным просто так, чтоб был. Ему нужны настоящие дела, а где такие есть? И они у каждого свои, так? К женщине, которая поет, он пришел спросить о песнях. Когда-нибудь он явится к Ленке, она согреет кофе своему дежурному ангелу и должна ему сказать — я сделала. А она совершенно не знает, что именно станет ее настоящим делом.
Песни сменяли одна другую. Задилинькал звонок и папин голос (Ленка прислушалась и сердито усмехнулась, ну да, мама права, комкает слова и виновато смеется, пил с дядей Виктором) говорил что-то, а потом заскрежетал ключ, Светлана с Жоркой, смеясь, топтались в прихожей, и заперлись у себя.
Когда пластинка кончилась, в комнате стал слышен будильник, тикал и немножко дзынькал железным гулким нутром, Ленка посмотрела на него и испугалась. Пашка не пришел совсем, и не позвонил, а вдруг с ним что-то случилось? Этот его драндулет, который разваливается на ходу. А даже если нет, то он не совсем же дурак, должен понимать, Ленке сейчас очень надо, чтоб просто сказал — Ленуся, я тут, ты как, нормально?
Она засмеялась бы и сказала, все норм, Паш, иди спать, тебе ж работать завтра. А потом давай уедем на море. Пусть даже на автобусе. Просто пойти к воде, посмотреть, как на камнях вырастает морская новая трава, такая прекрасная, цветная.
Глава 17
Штора на окне была желтая, в большие коричневые клетки, но отсюда их конечно не разглядеть, это когда Ленка лежала на разложенном диване и подняла голову, то хорошо запомнила на фоне этих клеток Пашкину фигуру, темный силуэт с подсвеченным боком, склонился над поющим Крисом Норманом. А потом он шел обратно и из темного снова становился самим собой — Пашкой. Только в расстегнутых джинсах.
Она сердито опустила край занавески и отошла от окна, села на свой диван, а Ленка напротив смотрела на нее из дальнего зеркала за графинчиками и хрустальными стканами.
Да что ж такое-то? Второй день. Вечер. Его вообще нет, если бы не говорил, я позвоню, завтра, она бы и не ждала. Обиделась бы конечно, но не стала думать всякой ерунды. Про аварии или какую драку с тяжкими телесными.
А еще у него в комнате горит свет…
Ленка покусала губу и нахмурилась. Слезы поступали к векам, тяжелили их, но вместо того, чтоб пролиться, превращались в противную щекотку в носу, от которой хотелось чихнуть, но тоже не получалось. Заплакать для Ленки всегда было большой проблемой, она и не помнит, когда ревела. Со смехом слушала мамины рассказы, как рыдала басом в коляске, совсем маленькая.
— А папа тебя возит-возит, а потом трясет коляску и ты лежишь и вместо а-а-а-а, голосишь а.а.а.а. а, в такт коляске! Но не молчишь, упрямая.
И вообще, какие слезы, и надо перестать об этом думать. Ведь правду она говорила Рыбке, бывало неделями не вспоминала о Пашке, и когда появлялся, то радовалась, как сюрпризу. А сейчас думается упорно лишь о том, что должен появиться. Обязан! Наверное, он слышит эти Ленкины мысли и никак не хочет быть обязанным. Но то неважно, слышит или нет, главное, что сама Ленка избавиться от них никак не может.
Она сидела, сунув руки под попу, медленно вела глазами по комнате, выбирая, что именно отгонит мысли о Пашке. У окна старая гладильная доска и на ней ворохом стираные рубашки. В углу письменный стол, стопка учебников, которые надо будет сдать в библиотеку. Это называлось так — бесплатные учебники, а на самом деле выдавали старые, истрепанные, с чужими, еще чернильными подрисовками на портретах. Ленка относилась к ним равнодушно и немного брезгливо, в первый раз было интересно полистать, чтоб увидеть, какие именно усы нарисовал некто покинувший школу истертому Суворову или Менделееву. А вот бедная Стеллочка даже в руки взять не могла такую книжку и вечно торчала в библиотеке, пытаясь сменять на более аккуратные экземпляры. Короче, учеба сейчас Ленку явно не отвлечет.
Дальше шли книжные полки — несколько купленных и еще высокий стеллаж, грубоватый, самодельный, папа делал когда-то. Там книги. Книги и книги. Это конечно здорово, книги, но большая часть — скучные, покупались, только потому что выкидывались в магазинах или обществе книголюбов. А нескучные давно выучены Ленкой наизусть. Старая стенка прямо напротив, в которой отражается Ленкина хмурая физиономия. Кресло, жуткий торшер на тонкой ноге, с абажуром из шелковых ленточек. Шкаф с одежками.
Снова книжный шкаф, солидный такой, похожий на церковный орган. И дверь с розовой глупой блондинкой. Дальше — Ленка на диване. Еще раз кресло. И в углу у окна, откуда она только что ушла, разозлившись смотреть на Пашкину штору, швейная машинка на тумбе с коваными ажурными боками. Из-за машинки кресло вечно завалено лоскутами и пакетами с тряпочками и нитками.
Не хотелось читать. И шить не хотелось, и вытащить начатое вязание. Ну что еще — письмо, что ли кому написать? Ленка усмехнулась, подтаскивая к себе подушку. Костроме. Привет, Вася, вот блудная, теперь уже по-настоящему блудная Ленка вспомнила о тебе, раскачалась, как ты там, служивый… Эххх, как ответит ей Вася Кострома…
Ленка вспомнила вдруг, в ящике стола лежит тетрадка, сунута далеко и исписаны в ней не первые страницы, а на всякий случай, чтоб не сразу нашла мама, несколько в серединке. Из-за Панча она стала писать. Всякие странности. Не дневник. И не письма. Но перечитывать и даже думать об этой тетрадке было паршиво, синяк на Ленкиной душе так и не прошел. И вот добавился еще один.
Телефон в коридоре задребезжал и Ленка, дернувшись, спустила ноги с дивана.
— Алло? Ирочка! Ну как хорошо, а я как раз думала…
Под мамин голос Ленка снова подобрала ноги и прижала подушку к животу. Была еще одна мысль, но она ходила там, поодаль, кругами и пока не приближалась, а Ленка, собираясь ее подумать, всякий раз отвлекалась. И сейчас тоже. А потому что мама, понизив голос, стала рассказывать Ирочке о том, что как пережить этот первый месяц по приходу, Боже мой, Боже, Ириша, ведь пока со всеми не выпьет, его же не остановишь, не ходить же следом, держать за пиджак, да, знаю, многие ходят, но я не так воспитана, ну как я буду водить на поводке взрослого мужчину!
Неподуманная мысль притихла, не подходя, а Ленку заняли сразу две, но связанные. Папа. Они ни разу не поговорили, сперва Ленка ждала, хотела пусть сам. А потом начался этот период, когда каждый день папа приходил изрядно навеселе, садился у окна, курил одну за одной беломорины, промахиваясь мимо пепельницы-башмака, моргал, щурясь на прохожих за окном и пытался маме что-то рассказывать, хватая ее за край фартука или обнимая за талию. Мама сердилась, то смеясь, а то по-настоящему и тогда кричала, гремя кастрюлями, капала себе корвалол, швыряла на стол полотенце и хлопала дверью в комнату. Только сейчас до Ленки дошло, а может быть, он знает адрес? Потому не спрашивает ее, они давно уже поговорили с Ларисой, матерью Панча, та рассказала про лекарства, и чего он станет пытать Ленку? Тогда он знает и телефон, и их планы, а еще знает, как там Валик. Про Нину-каратистку, конечно не знает, но это все Ленка выяснит и сама. Если захочет выяснять. Потому что сам Валик мог бы хоть раз позвонить! Какие-то они все, реально придурки.
Вторая мысль заставила Ленку встать и уйти к креслу. Там, под ворохом разрезанных лоскутов и сметанных будущих кофточек лежала коробка, выпирала глянцевым углом с золотыми буквами.
Ленка вздохнула и вытащила ее, вернулась на диван, открывая жесткую блестящую крышку. Поддела пальцами полупрозрачную бумагу и та зашуршала, раскрываясь и показывая. Папин подарок, привезенный Ленке из рейса. В бумажном ворошке лежали босоножки. Немыслимо, неимоверно и невероятно красивые. И странные. Вовсе без каблука, такие никто и не носит сейчас. На кожаной слоеной подошве переплетены узкие ремешки, коричневые с маслянистым вишневым блеском, прям вкусные, хоть кусай зубами. С бронзовыми пряжечками на перекрестьях. И длинными хвостиками, которые нужно захлестывать вокруг щиколотки, и на маленькой картоночке, которая лежала в коробке, нарисовано — почти до колена их можно переплести. Там были нарисованы не только сами босоножки, а девушка в хитоне, с волосами, забранными в высокую греческую прическу. И что совсем убило Ленку, когда она впервые открыла коробку — отдельно завернуты были смешные кожаные крылышки, их можно было пристегнуть кнопками по бокам. Так что не босоножки, а самые настоящие греческие сандалии. Как у Елены Прекрасной, сказал, улыбаясь, папа, когда Ленка открыла коробку и вытащила подарок. И сразу улыбаться перестал, потому что Ленка, держа в руках совершенство, сказала дрожащим голосом:
— Пап, не налезут же. На нос разве. Спасибо, конечно.
Отец кашлянул виновато, мама заговорила что-то бодрое, а Ленка убрела в комнату и села, держа в руках сандалии Елены Прекрасной, на два размера меньше, чем надо.
Потом в комнату пришла Светища, в новой кофточке из мокрого трикотажа, широкой и длинной, как платье, такая налезет даже на бабку с ее габаритами. Отобрала у безутешной Ленки одну сандалию и, повертев, деловито утешила:
— Не скавчи, Малая. Я позвоню Танюхе, у нее новые туфли на шпильке, саламандер, урвала по блату, а нога у нее детсадовская, ей велики. Может, сменяет. Или продадим, купишь себе взамен…
— Нет, — сказала Ленка, отбирая сандалик обратно, — не отдам. И не скавчу я.
— В сервант поставь, — посоветовала бессердечная Светища, — ко хрусталю. Будешь любоваться.
И ушла. А Ленка сунула коробку под тряпки и постаралась забыть, но все равно иногда доставала, будто надеялась, что, лежа в хрустящей бумаге, дивные сандалии с крыльями волшебно выросли и налезут на Ленкины ноги.
Но они оставались прекрасными и маленькими. А еще — незаменимыми. Потому что Греция страшно далеко, и папин пароход попал туда совершенно случайно, суда из Керчи не ходят в те порты.
Она погладила пальцем упругую кожу, повертела, разглядывая толстые крученые нитки, снова прочитала на картоночке гордую надпись «хэнд мейд», вздохнула и сложила красоту под крышку. Она для отца все еще десятилетняя девочка. И как с ним говорить? Да ну.
А девочкой она перестала быть давно. И вот сейчас стала женщиной.
Ленка снова подошла к окну, приблизила лицо к холодному стеклу, и злясь на себя, снова посмотрела на свет за желтой шторой. Синяя ей нравилась больше. Интересно, он дома? Или там родители? Пашка говорил, у них телевизор в комнате маленький, старый, и когда его нет, они сидят в большой, смотрят цветной телик. И чего Ленка хочет? Чтоб Пашка сидел дома, слушал музыку, валяясь на том самом диване, и знал, что через двор светится ее окно? Или чтоб его не было, а значит, он на дискотеке, танцует с кем-то медленный танец, смеется, прижимаясь и шепча на ухо. Или эта кто-то сидит на пружинистом сиденье в старой уютной кабине. Едут к морю. Туда, где цветет терн на травяном склоне. Над светлым песком.
— Фу, — шепотом сказала себе Ленка, окончательно расстроившись.
Дернула штору, отходя. Тайная мысль, идя по следам тех, которые она сейчас думала, ступая от невозможности поговорить с отцом, через неправильные сандалики для девочки, которая выросла, к мысли о том, что Ленка — женщина, пришла, наконец, и встала перед ней. Месячные. Они должны прийти через пару дней. А вдруг их не будет? А вдруг она все же залетела? Пашка не стал пользоваться резинкой, как-то все вышло быстро и скомканно, Ленка же в первый раз, а он опытный пацан, но! Когда спросила, все же замялся, не сразу ответил.
Она пошла к шкафу, вытащила многострадальную медицинскую энциклопедию, снова подперла креслом дверь, и села, листая страницы на букву «б», оттуда перешла к букве «п». А через минуту взялась за щеки, слушая, как нехорошо застучало сердце. Преванный половой акт, равнодушно рассказывали мелкие буковки, не обеспечивает стопроцентной гарантии предохранения, так как семяизвержение может частично происходить во время акта еще до полной эякуляции.
— Лена!
Ленка дернулась, захлопывая книжищу. Кресло, упираясь ножками, отъехало от двери, показывая в проеме мамино строгое лицо.
— Ты не слышишь? Там к тебе пришли. И что за моду взяла — закрываться от всех?
— Кто? — обрадованно спросила Ленка, соскакивая с дивана, поправила волосы, думая, нос, наверное, красный, черт, надо ж было пудреницу из сумки…
Но мама уже ушла в кухню, и за полуоткрытой дверью слышался ее укоризненный голос.
В прихожей стояла Викочка, переминалась, поддергивая под курткой сползающие джинсы.
— У нас телефон не работает, — сказала вместо здрасти, оглядывая Ленкино расстроенное лицо, — а я завтра на УПК весь день. На дискарь поедем, Ленк? Там завтра тематический, типа весенний бал. Наверное, прикольно.
— Да. Чего стоишь, заходи.
— Нет, — Викочка мизинцем потрогала блестящие розовые губы, — я с Валеркой, он уезжает завтра, утром. Мы с ним походим. В городе. Ну так. А завтра, давай, да?
— Хорошо.
Семки внимательно смотрела. Потом взяла Ленкин локоть.
— А выйди в подъезд? На минутку.
В подъезде было темно, снова перегорела лампочка, забранная толстой решеткой, и из входа светил далекий фонарь, блестели Викочкины глаза.
— Я спросить хотела. А вы там с Пашкой чего?
— В смысле чего чего?
— Ну… — блеск пропал, Викочка повернулась к фонарю, потом снова блеснула глазами. От нее пахло духами и сигаретой.
— Ну, вы встречаетесь, что ли, по-серьезному?
— Не знаю я, — с сердцем сказала Ленка, — вон видишь, не приходит, вообще.
— Так он, — странным голосом ответила Викочка и замолчала, будто споткнувшись. Потом спросила напряженно:
— А у вас ничего не было такого? Ну…
— Викуся, я блин вообще не понимаю, ты о чем? Спроси уже толком!
Семачки помолчала. В полумраке Ленке было совсем непонятно, какое у нее на лице выражение. Признаваться ей, что случилось с Пашкой, Ленка не хотела. Да еще и в холодном темном подъезде. На то была тысяча причин, разных. Семачки могла обидеться непонятно на что. А еще могла побежать и быстренько лишиться невинности, лишь бы от Ленки не отставать. И после им с Рыбкой придется решать Семачкины проблемы, ведь она младшая, а значит, они за нее отвечают. И еще Викуся могла трепануть своему Чекицу, а он Пашке друг. Вот незачем Пашке знать, что девочки бывает, делятся друг с другом совсем личными вещами.
Так что Ленка молчала и ждала. И напротив так же молчала Вика, поблескивая глазами.
— Ну ладно, — наконец, сказала Семачки, — если все, как раньше, пойду я. До завтра, да?
— Ой. Семачки, а вдруг я завтра не смогу. На дискарь. Я позвоню Рыбке, если не пойду, хорошо?
— А почему? Ты куда-то идешь, да? У тебя свидание?
— Да нет же! У меня дела, дома. И вообще. Тебя там ждет Валера. Викуся, ну, правда, я расскажу потом.
— Все-таки секреты, — задумчиво сказала Викочка, — ну, ладно, Ленк. Фигово это все. Мы дружили и теперь сплошные секреты.
Ленка пожала плечами.
— Я замерзла тут. Пойду. Хорошо вам погулять. Семачки?
— А?
— А… а Пашка не с вами там? Сегодня.
Ей показалось, что Викочка засмеялась и сразу же себя остановила.
— Нет.
Ленка ушла домой, думая с сердитой беспомощностью, ну и как завтра? Будешь торчать на дискаре, Малая, вроде пришла его разыскивать? А если он будет там? И подумает… Тьфу ты. Не было бабе хлопот, купила баба порося.
Глава 18
А пришел Пашка на следующий день, в аккурат, когда Ленка, тысячу раз подумав и передумав, все же надела свои вельветовые самопальные джинсики и к ним оранжевую кофточку распашонку, страшно модную, с широкими рукавами и подолом, торчащим как балетная пачка.
Кофточка к вельветкам подошла и Ленку это немного утешило. Она вышла в кухню, попить воды и там увидела Светку с бутылем. Сестра, сунув руку в горлышко, ловила тугой продолговатый помидорчик.
Ленка постояла в двери, опустила глаза на широкий подол своей обновки и ушла в комнату, села на диван, упираясь руками в пружинистую обивку. Ей снова стало страшно. И она подумала, ну бы ее, эту дискотеку с весенним балом, но оставаться дома, смотреть, как Светища ест помидоры, и думать о том, как пережить два дня до месячных, было совсем невмоготу. Так что, решила Ленка, надо ехать…
А в коридоре мама весело заговорила с кем-то, кто подилинькал входным звонком и, распахнув двери, впустила не Викочку, которая обещалась зайти, а — Пашку.
Он быстро вошел, такой красивый и свежий, блестя темными глазами, сразу же прикрыл дверь и поймал Ленку, тиская ее, привычно, как плюшевого медведя, и тыкаясь губами в светлую макушку.
— Фу, Ленуся, совсем я задолбался с этой работой, прикинь, шеф нагрузил, пойдешь, говорит в отгулы в мае, а где еще тот май, да? О, ты красивая какая сегодня. Меня ждала?
— Перестань, — испугалась Ленка, отрывая Пашкины руки от своего голого живота под широким оранжевым подолом, — с ума сошел совсем? Там мать в кухне.
— Так закрыто же, — шептал Пашка, толкая ее к дивану и насильно усаживая к себе на колени. Снова обнял под распашной кофтейкой.
— Какая правильная у тебя эта штучка. Новая да? Ты ее всегда теперь одевай, когда я приду. Ну чего ты толкаешься? Я соскучился, еду и думаю, где там моя Ленуся.
— Сейчас Семки придет. И Оля.
Пашка убрал руки, и Ленка свалилась рядом, сердито поправляя все, что под руку — кофточку, волосы, пояс вельветок.
— Ну вот, — протянул он, — а чего придут? Я думал, мы с тобой побудем.
Ленка открыла рот, не находя слов.
— Я… Да я! Ты позвонил хотя бы! Три дня уже. Мы договорились уже, что пойдем. Я же не знала, что ты. Придешь вот. Я что, думаешь, сидела тут и все это время ждала?
— А что, нет? — обиделся Пашка. И посмотрев на возмущенное ленкино лицо, рассмеялся, — да шучу, проехали. А попроси сеструху. Пусть скажет, ушла, нету. И мы с тобой посидим, на диване. Музычку послушаем, свет выключим. А, Ленуся? У меня предки дома, динозавр в гараже. А то ко мне пошли бы.
— Не могу. Я обещала.
Она замолчала, нащупывая в голове правильные слова. Как ему объяснить, что так нельзя. Не потому что ей так сильно хочется на эту дискотеку, но ждала, а молчал, и тут, значит, по первому его кивку она все бросит, да еще и наврет девочкам. Это неправильно.
А в дверь уже звонили и мамин голос мешался с девичьими голосами. Ленка вскочила, поправляя растрепанные волосы.
— Паш, давай съездим на часок? Потанцуем. В парке прогуляемся, сегодня же открытие летней. Ну и потом сюда вернемся. Мы раньше уйдем.
Вешая на плечо маленькую сумочку с кожаным клапаном, улыбнулась, представив ярко — ночной парк, цветет жимолость, пахнет, будто облако стоит, заблудиться в запахе можно. И между скал тропинки вниз, к узкому пляжику, там можно посидеть, глядя на воду и слушая музыку из летнего кинотеатра, куда переехала дискотека из клуба. А потом они медленно пойдут ночными улицами, будут болтать и смеяться. И Ленке идти со своим парнем будет совсем нестрашно, можно не торопиться, разглядывая фонари и пустые сказочные улицы…
— Нет, — сказал Пашка, вставая, — какие танцы, устал я. Давай так, я домой, пожру, телек посмотрю, а ты вернешься, забеги, а то вдруг я засну и пропущу. И мы у тебя еще посидим. Как большие, да, Ленуся?
Двери в комнату уже открывались, и Ленка, пылая щеками, кивала, улыбалась, то Оле, то маме, отступала, чтоб пропустить Пашку, а тот, сверкая улыбкой, раскланивался, махал рукой, и после небольшого столпотворения в прихожей исчез.
— Лен, — поспешно сказала Рыбка, — мы на улице подождем, давай, в темпе.
Викочка, чуть опустив голову, исподлобья переводила взгляд с Олиного лица на растерянное Ленкино.
— Да, — сказала Ленка, — да, я сейчас.
— Леночка, Паша ведь вас проводит? — строго уточнила Алла Дмитриевна, — ну как хорошо, я не буду волноваться. Но все равно, чтоб не поздно. А то папа…
На улице все трое быстро застукали каблуками, и уже за углом Оля спросила:
— Ну? И что это было вот?
И в ответ на пожатие плеч под распахнутой курточкой махнула рукой:
— Ладно, проехали.
Вечер был хорош. Но не для Ленки, которая в музыке, в движущейся толпе, в улыбках, встречах и цветных огнях не перестала мучительно прикидывать, как же ей быть. Рядом танцевала Оля, немного скованно, она — длинноногая и худорукая, была не слишком изящна, вернее, обладала прерывистой грацией куклы из веточек. Так иногда видела ее Ленка, удивляясь всплывающим странным сравнениям и быстро их забывая, нет, машинально складывая в сознание, не замечая, что с какого-то момента Оля не всегда теперь в ее глазах человек, а — кукла, связанная из тонких веток, что гнутся при движении под странными углами. Или Викочка Семки, она случалась в Ленкином сознании блестящим быстрым хомячком с карамельной густой и гладкой шерсткой, из которой — цепкие маленькие лапки с крошечным яблочком. Кому такое расскажешь, ну ладно бы кошечка или птичка, а тут — карамельный хомяк. Ленка и не рассказывала. А сейчас, невнимательно живя в толпе, состоящей в ее сознании из людей, зверей, странных созданий и неживых конструкций, она вовсе не отмечала, как видит. У Ленки были дела поважнее. Оля посматривала вопросительно, но Ленка в ответ сразу же бодро улыбалась. Не могла она поделиться с девочками тем, о чем говорили с Пашкой. Не пошел с ней, не проводит ее домой по ночным улицам, да к тому же — забеги, разбуди, чтоб мы с тобой у тебя посидели. То есть теперь уже — полежали, понимала Ленка. Унизительно. И решила, никаких «забеги». Она отпляшет свое и уйдет домой. Ляжет спать. Заодно проскочит еще один день, и завтра к вечеру можно уже прислушиваться, заноет ли живот, как то бывает перед месячными.
Домой девочки возвращались вдвоем, Викусю увлек провожаться внезапный, давно позабытый ею Валек, выскочил перед самым концом дискотеки, приглашая на танец, и Викочка, внимательно оглядев вельветовые «джордансы», те самые, с вышитыми петлями на задних карманах, и батник с перламутровыми кнопками, милостиво согласилась.
Оля молчала, думая свое, и Ленка этому тихо порадовалась, не было у нее сейчас охоты отбиваться от безапелляционных высказываний о Пашкиной хитрожопости. Так что возле опустевшей «серединки», сейчас спрятанной за полными весенних цветов абрикосовыми ветками, девочки попрощались и побежали каждая в свою сторону.
Проскочив длинный двор, Ленка не стала поднимать глаза к Пашкиному окну, решив сердито, а неважно, горит у него свет или нет его.
И уже снимала свои вельветки, когда в тихой прихожей оглушительно затрезвонил телефон. Рванулась к нему, роняя трубку и прижимая к груди неудобную пластмассовую коробку аппарата, унесла в комнату, закрывая двери.
— Але? — сказала хриплым шепотом, сама себя не слыша от стука сердца. Так громко трезвонит, сейчас выйдет мама, начнет возмущаться: конечно, кому еще звонят в полночь, если все свои уже дома и в постелях.
— Ленуся? Я зайду, да?
— Ты где?
Пашка коротко засмеялся, в трубке громыхнуло что-то железное.
— Та в будке. Вашей. Стоял, хотел как раз тебе звонить и тут хоба ты мимо, я не успел и выйти. Звоню вот.
— Уже поздно. Нельзя ко мне, ты что. Мать не спит, точно.
— Ну ты выйди. Ленуся, на минутку, в подъезд.
Ленка подумала полминуты, маясь. Завтра будет ей втык, за то, что шарится ночью, гремит ключом. Но он ее ждал. Хотя устал с работы. Стоял в будке. Наверное — бедный.
— Ладно. На чуть-чуть.
Натянула домашний свитерок и в тапочках прокралась в прихожую. Закусывая губу, открыла двери и тихо-тихо закрыла их, стараясь поворачивать ключ медленно и бесшумно.
Пашка уже топтался у батареи, дышал, шуршал курткой, протягивая к ней еле видные в темноте руки.
— Иди сюда. Ну вот, а я думаю, ну как я засну. Жалко, не топят уже, батарею. А хочешь, пойдем прогуляемся?
— Нет.
— Тогда тут постоим, — покладисто согласился Пашка, прижимая ее к себе и укрывая полами распахнутой куртки, — от тебя цветами пахнет. И куревом.
— Это Семачки. Я не курю почти.
— Только когда выпью, да, — засмеялся Пашка.
А через минуту Ленка испуганно отступила, отталкивая его руки.
— Паш, ты чего. Да перестань, ну вдруг кто, сверху.
Он тяжело дышал, и вдруг Ленке показалось, снова начнет говорить, как заведенный, это свое «сейчас» и «подожди», и совсем не услышит, что она скажет в ответ. И еще у него так много рук, они буквально везде, за спиной, под задранным подолом свитерка, и жесткие пальцы вывертывают пуговицу вельветок, дергая вниз пояс, так что сквозняк насмешливо прошелся по голой пояснице. Это было как в тех снах, когда Ленка вдруг стоит посреди людной улицы совсем голая, все останавливаются, смеются, тыкая пальцами, и она понимает с противной щекоткой в животе и ноющей болью в висках — некуда деваться, только идти через гогочущую толпу.
— Можем и стоя, — бормотал Пашка, не отпуская ее, — да погоди ты, нормально все. Сюда встань.
— Пуссти, — она вырвалась, выставила локоть, с размаху упершись им в Пашкину грудь. Он охнул, приваливаясь к батарее и опуская руки.
— Ты чего? Под дых прямо. Да что такое?
В голосе такое искреннее было удивление, что Ленка растерялась, не понимая, как объяснить. Странное дело, когда сидела дома одна, ждала, то сотня слов в голове выстраивались в нужные фразы, такие правильные — вовремя вопросительные, вовремя насмешливые или удивленные, или полные мягкого упрека. А сейчас стоят, оба тяжело дышат, и она молчит, потому что в голове сплошная каша. Будто она какая-то квочка и вместо слов одни кудкутахи.
— У меня месячные, — сказала вдруг Ленка неожиданно для себя самой, — должны быть. А нету.
Пашкино дыхание стало тише, и, помолчав, он уточнил уже совсем другим голосом:
— Когда? Должны быть когда?
Ленка всего секунду подумала. О том, что взаправду — через день. А может и через два. Но куда ж отступать.
— Вчера еще. И вот.
Замолчала, ожидая, что скажет, и тихонько радуясь, что его руки больше не лезут под свитер. Но тут же захотела, чтоб обнял и стоять так, совсем рядом, пусть дышит в макушку, держит. Сказанные слова немного испугали ее саму, она продлила их в близкое будущее, снова пугаясь и думая — а вдруг…
— Да рано еще волноваться, — бодро сказал Пашка. Не обнял, а стал хлопать себя по карманам, — черт, сигареты кончились, курить охота.
— Рано, — медленно повторила Ленка.
За стеклянной мутной прорехой кто-то прошел, потом пробежал, удаляясь, выматерился длинно и горько. Вдалеке еле слышно лаяли собаки и вдруг заорал дурной петух, верно проснулся в курятнике в частных домах. У Ленки мерзли ноги в легких домашних тапочках. Она переступила, не чувствуя пальцев, но не обращая на это внимания.
— Подожди. Волноваться. А почему? Ты же сказал, нормально все. Что ты знаешь, как.
— Знаю, — согласился Пашка, — да не бери дурного в голову, все нормально, Ленусь, у тебя курить не тут?
— Я прочитала, — похоронным голосом вспомнила Ленка, — в энциклопедии, что ну… прерванный акт, что все равно можно залететь. Если без презерватива. Если…
— Какой там акт, — рассердился Пашка, — да полминуты все было, тоже мне акт. Не шугайся ты. Ну, мало ли, у тебя что, никогда задержек не было? Прям вот день в день красные флаги, да?
— Были. Точно, были, — от его сердитого голоса Ленке стало спокойно и она выдохнула, отпуская напряжение в животе, а то оказалось, так стиснуло ее всю, будто хотела заставить все, что внутри, заработать как надо. Чтоб прямо сейчас вот…
— Фу. Я совсем уже испугалась, — она сама шагнула ближе, просунула руку под Пашкин локоть, — и замерзла. Тебе принести покурить? Я быстро.
— Дома покурю, — Пашка коротко обнял ее, поцеловал в спутанные волосы, и отпустил, поправляя на Ленке куртку, одернул ей подол.
— Беги уже спать, Ленуся. И я пойду.
— Да, — потерянно сказала Ленка, — да.
Замолчала, мысленно понукая, ну скажи, скажи, что увидимся и когда, чтоб я не спрашивала, как дурочка, снова и снова. Чтоб я могла жить, а не сидеть у окна, глядя на штору, и подпрыгивать от каждого телефонного звонка!
Но Пашка блеснул зубами и повернулся уходить. Разбитая пружина на двери проиграла гулкую музыкальную фразу, знакомую наизусть. Потянулся внутрь холодный ветерок, пахнущий таким же холодным цветочным медом.
— А когда ты придешь? — не выдержала Ленка.
Пашкины плечи поднялись и снова опустились, еле видные на поблескивающем темном стекле. А на лице не было видно ничего — все оно в тени.
— Я позвоню. Ну и или подскочу сам, когда посвободнее буду. Пока-пока.
— Я вдруг уйду. С девочками. Или дела какие, — заторопилась Ленка, шагнув за ним следом, чтоб не кричать в ночном подъезде.
— Перезвоню, — утешил ее Пашка, — спецом наменял двушек полный карман.
Дверь простонала и хлопнула. Ленка еще послушала, но за стеклом было тихо, Пашкины кроссовки — это не женские каблуки, что стукают на всю округу. И она медленно поднялась по семи ступенькам, тихонько открыла дверь в квартиру. Из кухни сочился через матовое стекло неяркий свет, это в ванной горела лампочка, чуть-чуть освещая кухню. Ленка открыла двери в ванную, стараясь не шуметь, умылась, рассматривая себя в маленьком зеркале. Наверное, Пашка решил, что она зануда. Такая как все, про которых пацаны рассказывают смеясь, что проходу не дает и таскается следом, везде. Ленка всегда тоже посмеивалась несколько свысока и думала, ну уж она-то не такая и никогда-никогда. И правда, не бегала за парнями, хотя влюбиться, как в Ганю, могла. Но не изводила звонками и разговорами, а наоборот, пряталась по углам, боясь оказаться навязчивой дурочкой.
Она повесила полотенце, прислушиваясь, кто там в кухне. Если папа, курит, то можно выйти и будто бы попить воды, то се. Вдруг получится поговорить. Но из кухни никто не кашлял, так что нет, не отец.
Вздохнула, возвращаясь к своим мыслям. Вот! Вот что хотела подумать-то, ну ладно бы она была в Пашку смертельно влюблена, тогда простительно и побегать и спрашивать, а пусть ответит. У Ленки было такое, когда ее потянуло к Валику Панчу. Она и сама испугалась тогда, незнакомым ей радостным испугом, поняв, что готова сворачивать горы, лишь бы снова приехать, снова куда-то с ним уйти. И эта поляна на остановке, да Ленка знала тогда, пусть хоть землетрясение или война, но она все равно взяла бы его за руку и утащила туда. Поцеловать.
Она строго приказала себе не думать про Панча. В белой ванной комнате, где пахло стиральным порошком и немного сыростью, и нужно выйти, а там в кухне кто-то с глазами, станет смотреть, — нельзя думать про Панча, а то она разревется, потому что гора над ее головой уже обрушилась, валит сверху всякие камни, землю и мусор, а Ленка только сейчас это поняла. И даже с папой как теперь разговаривать о Панче? С их общим родным отцом говорить о том, что она целовала брата — вот так? И если бы он не уехал черти куда, она не только бы целовала. Никакого Пашки не было бы у нее, а был бы Панч и может, даже подождать, когда он подрастет, она не сумела бы. И вовсе не потому, что она хочет секса. А потому…
— Вот черт, — шепотом сказала Ленка белой двери, захватанной возле блестящей ручки. Нужно немедленно прекратить все это думать. Не сейчас, не здесь. Хотя бы в комнате, чтоб закрыться от всех, и в одеяло с головой. Чтоб никто не увидел Ленкиного потерянного лица. И чтобы ночь, долго.
В кухне сидела Светлана, куталась в старую вязаную кофту поверх макси-халата в огненных лилиях. Вертела в пальцах помятую сигарету. Сказала шепотом:
— Посиди со мной, Малая.
Ленка кивнула и села, стараясь сделать правильное лицо. Равнодушное и заинтересованное одновременно.
— Чего рожи корчишь? — Светлана повертела сигарету и сломала ее, укладывая поверх окурков в пепельницу, — фу, воняют, надо вытряхнуть.
— Дай я.
Ленка нагнулась над мусорным ведром, нюхая воздух над перевернутой пепельницей, и с испугом ожидая, не затошнит ли.
— Петька больше не появлялся? — равнодушно спросила сестра. Чересчур равнодушно.
— Нет, — хрипло ответила Ленка, выпрямляясь и отряхивая руки, — а что?
— Да так.
У Светланы в уголках губ появились тонкие складочки и сейчас стали резче.
— А ты чего тут сидишь? — спросила Ленка, что-то уже понимая и пугаясь этого тягостного понимания, — тебе спать надо. Много.
— Успею. Мне через неделю на работу. В кадрах. Я не сказала, что с пузом, прикинь, какой кипеш начнется, через три месяца в декрет меня оформлять.
Светлана усмехнулась, суя ноги на перекладину Ленкиной табуретки и туже запахивая кофту.
— Меня это совсем не радует, но по-другому же хрен возьмут на работу. Так что вот.
— Светища… Ты в комнату не идешь, потому что его не любишь, да? Ну…
Она не хотела говорить то, что обе понимали, он там спит, Жорик-Гера с кудрявыми усами над бледной губой, и Светке надо ложиться с ним рядом, под одно одеяло, вместо этого она сидит в холодной кухне.
— Много ты понимаешь, — ответила сестра, — хотя да. Выросла уже. Пока я там по институтам шлялась, сеструха моя мелкая выросла… А помнишь, как мы с тобой под столом играли? Скатерть длинная, мы ее стягивали, чтоб темно. И помпоны. Ты их откручивала.
— Они сами!
— Ну, конечно.
— А еще ты помирала, — Ленка тихо засмеялась, сунула свои ступни на перекладину светкиного табурета, так что ноги их были почти впереплет, — ложилась, руки складывала и молчала. Я пугалась страшно.
— Дура я была. Разве можно мелких так пугать, ну сама была тоже ж мелкая. Извини.
Теперь они смеялись вместе и Ленка, глядя в мягком сумраке на лицо сестры, тонкое, с высокими скулами и короткой гладкой стрижкой, горячо пожалела ее, и снова испугалась, как тогда в детстве, подумав внезапно, а вдруг что-то случится с ней, с ее Светищей, кроме того, что уже наслучалось…
— Жорка пацан неплохой, — оборвав смех, сказала Светлана, — балованный только, у него знаешь предки какие крутые, мать в театре на северах режиссер, а батя в горной промышленности, в министерстве. Но он когда женился, поцапался с ними, ему там невесту нашли, тоже из деловых. А он не захотел. Чего ты кривишься? А, что он тогда орал, про это? Что из-за меня жизнь испортил и карьеру? Да то чисто балованность, ничего не испортил, я тут рожу, декрет оформлю и мы поедем обратно. Еще годик покантоваться. И все наладится. У него просто терпения не хватает, ну как у ребенка. А так он ничего, нормальный.
— Свет… А этот, от кого ребенок, ты его любила, да?
Сестра подняла голову, недовольно кривя лицо. Повертела пустую пепельницу и сунула ее на подоконник, прикрывая газетой.
— Фу, все равно воняет. Вот ляпнула я тебе языком, теперь ты у нас ду-умаешь. Ты Ленка вечно сильно много думаешь. А это женщине вредно. Это портит цветы ее селезенки.
— Свет, ну я серьезно.
В коридоре что-то грюкнуло и обе подняли головы, вслушиваясь. Но это с верхнего этажа через перекрытия слышно было соседское.
— А если серьезно, — с нехорошей насмешливостью в голосе сказала старшая сестра младшей, — есть такая штука, девица-Еленица, случайный залет. Как стихи звучит, да? Романс «Сслучайный залетт», музыка народная, стихи народные. Хорошо, ты у нас девочка умная, и не попадешь, как твоя сестра Светища, в хер знает что.
Ленка открыла рот и закрыла его. Краска кипела под кожей и хорошо, что свет маленький, не видно, наверняка покраснела, как помидор. Умная Ленка, ага.
— Какая я умная. Обычная.
Светка покачала стриженой головой, сплетая тонкие пальцы и рассматривая лак на ногтях, в полумраке почти черный.
— Ты умная. Только вряд ли по жизни тебе поможет, но ежели что, обращайся, опытом поделюсь. А так, ты самая умная девка из всех, кого я знаю. Да и пацаны тоже многие поглупее тебя. Ну?
Ленка подскочила на табуретке. Она немного отвлеклась, мучительно думая о том, что Светка малость опоздала с предупреждениями, и Ленка теперь лучше помрет, чем станет ее еще грузить своими дурными проблемами, которые от тупой ее головы…
— Что ну?
— Спать?
— Щас. Подожди. А Жорка, он в курсе? Или думает?..
Светка кивнула, по-прежнему не поднимая головы и глядя на руки.
— Думает. И смотри, не болтани.
— Ты что, — испугалась Ленка, — нет конечно. Никому. Ты же меня знаешь.
— Знаю. Потому и рассказала. Матери ни в жизнь не скажу.
Ленка кивнула. Да уж. Нельзя их маме знать такие вещи. Хватит с нее папиных старых грехов и светкиного внезапного брака.
— Пошли, — скомандовала шепотом сестра и поднялась, придерживая ладонью поясницу, — черт, ноет, вроде я старуха какая. Спок ноч, Еленица-полотеница.
— Спок ноч, Светища-табуретища.
— Щас как дам!
Глава 19
Так начались две недели сплошных мучений. Ленка и подумать не могла, что в небольшое количество дней может спрессоваться так много переживаний и мыслей, да каких переживаний — настоящих страданий, и при этом внешних событий почти и не происходило.
Лучше бы происходили, тоскливо думала Ленка, открывая глаза по утрам и с надеждой прислушиваясь к своему животу. Он не болит. А прошло уже не два дня, и не три, а седьмой вчера кончился. И хотя она согласилась с Пашкой, насчет того, что месячные не всегда приходят точно по расписанию, но вязкий страх рос, надувался липким пузырем и норовил Ленку в себя втянуть и там задушить, не давая вдохнуть.
Она села, потом снова легла, невнимательно слушая за стенкой мамины невнятные слова, и ее голос, полный упрека, а в ответ — папин кашель.
Лежа, откинула одеяло, ни на что, впрочем, не надеясь, подняла бедра, и стянув трусики, осмотрела их изнутри. Натянула снова и зажмурилась, изо всех сил желая снова заснуть и хорошо бы проспать весь этот день, проснуться завтра, от ноющей боли в низу живота. А она-то глупая, сердилась каждый месяц, на то, что болит, и мешают сложенные из ваты и хлопковых тряпочек прокладки, которые после приходится тайно выбрасывать, закатав в газетный тугой сверточек. Пусть бы болело.
Но вместо этого «пусть» и вместо милосердного сна снова пришла злая и страшная мысль, погружая Ленку в отчаяние. А вдруг она залетела? Что тогда? И время такое неумолимое, течет без остановок. Все, что написано было о времени в потрепанной энциклопедии, Ленка знала наизусть, и мысленно тысячи раз в день пересчитывала, когда придет тот самый двухмесячный срок, после которого даже бежать в больницу бесполезно, чтоб делать аборт. Два месяца, две недели из которых уже прошли!
… Еще можно попробовать купить те самые таблетки. У нее записаны названия. Но Ленка понимала, если бы таблетки все решали, никто на аборт не ложился бы. Да и купить их та еще проблема. Она помнит, как однажды в аптеке толстая тетка в белом халате поднялась за стеклом, нагибаясь ближе к круглому окошечку, и вдруг заорала зычным голосом на двух испуганных девочек, — одна только что тихим голосом попросила, по складам произнеся название. Кричала насчет умные сильно, задним умом. И что жалко не знаю мать, а то сказала бы, пусть вздует, как следует.
Девочки вылетели, цепляясь друг за друга и опуская лица, казалось, к самым коленям. А Оля Рыбка, положив на язык белую таблетку глюкозы, за ней и приходили по старой, детской еще привычке, прокомментировала печально:
— Я их видела уже, в центральной. Они там стояли возле шкафа, ну стеклянного того и пихались, ты иди, нет ты. Не зря боялись, видишь. Вот влипла бедная девка-то.
Влипла. Залетела. Все что угодно могла о себе вообразить Ленка, только не такое вот — тыщу раз обговоренное, обыденно-паршивое и унизительное этой как раз обыденностью. Голова ее просто ломалась от недоумения, как она вообще могла? Та самая Ленка, над которой слегка издевались дискотечные пацаны, когда Оля и Викочка, перед тем как согласиться провожаться или пойти посидеть в беседке в детском саду, обязательно смотрели на Ленку, и та кивала, или отрицательно мотала головой. Оскорбленные пацаны смеялись, сердясь, о, Малая сказала свое слово, она вам мать, что ли, чего вы на нее смотрите?
Но шуточки шутками, а ведь это выручало, хотя и было, конечно, игрой. Ленка вполне понимала, если как говорит Рыбка «вата в жопи загорится», никто из них слушаться Ленку не станет, но все равно…
И вот она сама. Залетела.
Еще неизвестно, поспешно возразила сама себе Ленка, садясь и спуская ноги к тапочкам. Сегодня физ-ра, два урока, может, побегать-попрыгать, и все внутри стронется, придет в движение, совершится.
Ленке представилась крошечная злобная яйцеклетка, сидит с торжествующей рожей, цепко держится растопыренными коготками за Ленкины внутренности. И прыгай не прыгай, будет там держаться.
Она медленно, как будто во сне состарилась, ходила по комнате, почти наощупь собирая в сумку книги и кладя на неубранную постель одежду. Не было сил отдергивать шторы, а еще нужно выйти, а в кухне светло, там родители, и, наверняка Светка, торопится на свою новую работу в отделе кадров маленького заводика «Хозбыт». И они станут на Ленку смотреть. Что-то спрашивать.
Она села на раскиданную одежду, сцепила руки на коленях. Пашка…
Пашка забежал через день после стояния у батареи, когда Ленка приврала насчет месячных. Она, конечно, встретила его с похоронным лицом, но молча, без всяких там воплей и жалоб. Сели на диване, он полез было обниматься, но вспомнил.
— Блин, у тебя ж, наверное, праздники, да?
— Нет, — немного мстительно ответила Ленка, и Пашкина рука отпустила ее плечо.
— Ну… — сказал, — ну та рано еще. Наверное. Ты не трусь, Ленуся, если что, ну, если прям реально пиздец, то я знаю одну тетку.
— Какую тетку? — холодея, спросила Ленка, незаметно для себя клонясь в сторону от Пашки, — для чего?
— Да перестань, все равно еще рано волноваться. Поняла?
Она прерывисто выдохнула, стараясь страшные слова о тетке быстро забыть. Но голос дрожал.
— А когда не рано, Паш? Ну, если задержка, то да, я дура получаюсь. А если нет, то времени же мало. Я читала, а еще рассказывали девки, что до месяца можно таблетки там. Или уколы. А потом уже только аборт. Эта тетка твоя, она в больнице работает?
— Нет. Почему в больнице. Ты не поняла, это так, ну…
— Не хочу слышать!
Ленка отодвинулась, выкручивая пуговицу на халате. И попросила:
— Слушай, ты иди, ладно? Все равно, пока оно не решится, какая с меня тебе девушка. Гулять настроения нету. А насчет секса, так мне лучше повеситься сейчас.
Пашка вздохнул и послушно встал. Ответил сочувственно, вроде Ленка лежит в больнице, вся в капельницах и еле дышит:
— Я позвоню, хорошо? Вот завтра вечером, после работы.
— Да. Конечно.
Она тоже встала, кивая и выходя в прихожую, там снова кивала в ответ на какую-то Пашкину болтовню.
На другой день Пашка не позвонил и ей стало совсем паршиво. Она сидела в комнате, под настольной лампой, методично переделав все совершенно уроки, даже те, которые давно откинула в долгий ящик, какой-то там доклад по истории, в общей тетрадке с наклеенными туда вырезками из газет и журнала «Ровесник». Дергалась на каждый в коридоре стук и движение. Очень хотелось заплакать, повалиться на диван и рыдать басом, как в детстве, шмыгая и вытирая о подушку мокрое лицо. Но слезы не шли. Да еще, вдруг он придет, а она зареванная, с красным носом и опухшими глазами. Или позвонит, а она и сказать ничего не сможет.
Она не волновалась, что мама заметит что-то, мама была занята новой Светочкиной работой, и состоялся еще один скандал с Жориком, он таки соизволил сходить ознакомиться с работой внеклассного педагога и за ужином пронзительным голосом высказал свое мнение о провинциальной педагогике и ее материальной несостоятельности. Так что за ужином были сперва язвительная пикировка, потом громыхание посуды в раковине, мамины речи в никуда, и в комнате молодых — разговор на повышенных тонах, а потом хлопнула дверь в прихожей. Ленка сидела и ждала, но нет, один раз хлопнула, а значит, Светища не побежала вытирать нос своему балованному Гере. Да и куда ей — приходила вечером, вся зеленая от токсикоза, по часу торчала в ванной, потом ужинала и снова бежала в туалет, выходя уже не зеленая, а белая. Так что до Ленки никому дела не было.
Она встала у закрытой двери, прислушиваясь к звукам в квартире. Сейчас там все разойдутся, а Жорик еще дрыхнет, тогда она выйдет, сразу все переделает — туалет, ванная, кофе с бутербродом, и из дома.
Вчера они шли из школы, втроем, Викочка рассказывала длинную историю про непутевого Валька, а Оля помалкивала, кивая в нужных местах и взглядывая на молчаливую Ленку. И придержала ее у своего дома, на углу.
— Мне тебе книжку надо отдать, зайдем на минутку?
— А я пойду, — заторопилась Семки, — мы с предками сегодня к бабушке.
— Ага.
Когда остались вдвоем, Оля завела Ленку в подъезд и потребовала:
— Так, Малая. Колись давай.
Но тут сверху на лестнице послышался страдальческий голос Олиной матери, следом загромыхал отцовский. И Рыбка, с досадой цыкнув, приказала убитой Ленке:
— Короче, завтра утром, чтоб как штык. Ясно тебе? Пока идем, все расскажешь.
С двери на Ленку смотрела нарисованная блондинка в розовом платье, сетчатых черных чулках, с огромными глазами на мультяшном круглом личике.
— Хорошо тебе, — мрачно прошептала Ленка, — у тебя никакого Пашки нет.
Так вот. Пашка ни разу и не позвонил. Не зашел. А Ленка совсем заблудилась в своем личном времени. Иногда ей казалось, прошла вечность и он, конечно, скотина, бросил ее одну с переживаниями и страхом. А после она садилась на диван и, подгибая пальцы, как маленькая, считала дни. Их выходило не так уж и много. Она никак не могла решить для себя, он что, действительно занят, работает, когда сумеет, тогда и зайдет? Или это другое? А может, она слишком мрачно воспринимает жизнь и думать об этом другом еще рано и потому смешно?
Но ведь неделя просто так, и неделя, если Ленка беременна — это совершенно разное время. И он должен это понимать!
Оля уже ждала ее, кивнув, пошла рядом, подталкивая Ленку в сторону от автовокзала.
— Деревней пойдем. Так подольше.
Ленка тоже кивнула. А еще там по утрам мало людей. Все во дворах, за заборами, белят деревьям стволы, а домам стенки, копают землю и сажают в нее всякие нужные и красивые зеленя. А на самих улицах тихо и благостно, никого, только падают лепестки с отцветающего миндаля, да все пышнее с каждым днем цветет слива, и вишенные заросли перемешивают липкую яркую зелень с нежными белыми лепестками.
Вдумчиво ступая на припорошенный лепестками тротуарчик, Ленка рассказала подруге о событиях.
— Де-ла, — сказала Оля, когда та замолчала.
— А… — собралась еще что-то сказать Оля, но махнула рукой с красными ногтями.
И дальше опять шли молча. За белеными каменными заборами, волоча гремящие цепки, ярились на них Шарики и Букеты, шли по крышам коты, крутя хвосты боевыми вензелями. Дребезжали детские велосипеды рядом с небрежно насыпанными кучами строительного песка. Дети…
Ленка отвернулась, чтоб не смотреть на детей, уткнулась взглядом в облако цветущей алычи и сильно захотела закрыть глаза совсем. Так же цвел терен, в бухте, куда ее привез Пашка, кидая на траву старый ватник. Там черт дернул Ленку за язык и она пообещала.
— Пижма, — сказала Оля, заправляя за ухо прядку волос, — мне сеструха рассказывала, надо заварить пижму сухую, очень крепкую, прям чтоб глаза вылазили, и сразу стакан выпить. Начнутся схватки, если маленький совсем срок. У тебя ж маленький? Это когда было, напомни.
Ленка вспомнила, как вертелась перед ошарашенной Рыбкой, показывая — я ни чуточки не изменилась.
— Десять дней уже. Одиннадцать сегодня. То есть, если б я не знала точного дня, то задержка у меня пять. А в книге написано, что срок считается с первого дня последней менструации, это как? Если так считать, то у меня уже месяц срока?
— Не путай меня, — возразила Рыбка, вытягивая перед собой руку с растопыренными пальцами, — откуда месяц, если ты один раз всего и десять дней назад? Значит, всего десять дней. Ну, одиннадцать. Вполне пижму попить можно, выходит. В аптеке купим сегодня.
— А она от чего вообще?
— От глистов. Надька своим спиногрызам заваривает.
— О Господи. Как жахну, так они ко мне дорогу забудут на всю жизнь.
Девочки остановились и расхохотались, Ленка нервно шмыгала и никак не могла остановиться, пока Оля не потрясла ее за плечи.
— Малая хватит, а то еще рыдать начнешь, я ж вижу. Слушай…
Они пошли дальше, а мимо по дороге проехал пыльный автобус, из открытого окошка торчали завернутые в мутный полиэтилен грабли.
— Еще мне знаешь что говорили? Йод с молоком.
— Угу. Я слышала такое.
— Стакан. Короче, пузырек йода туда. И выпить. А еще всякую траву заваривают, вроде крапиву. И пионы еще.
— Пионы не трава.
— На настойке написано прям — не принимать во время беременности, — уточнила Оля.
Ленке стало нехорошо. Она пошла медленнее, с испугом уговаривая себя — это просто так нехорошо, от разговора. Ее не тошнит, совершенно, ни капельки не тошнит. И тут же кинулась к зарослям вишенника, вцепилась в тонкий шершавый стволик, и ее вырвало утренним бутербродом с вареной колбасой.
— Дела, — Оля сунула в дрожащую руку свой носовой платочек, — блин, Малая, а вдруг ты, правда, залетела?
— Йод, — хриплым голосом сказала Ленка, комкая платок, — и пижма, сегодня сходим, ладно?
Оля покивала. А вокруг торжествующе цвела яркими красками прекрасная керченская весна, апрель, который и без того был испорчен для девочек вечным концом учебного года и неумолимо приближающимися экзаменами. А тут еще это. Такое вот.
Поздно вечером Ленка стояла в ванной, глядя на кружку, полную холодного молока. В углу грелся титан, за закрытой дверкой трещали мелкие дрова, голые ноги обжигало жарким теплом, а плечи и руки от волнения зябли, покрываясь противными мелкими мурашками. В квартире, наконец, стало тихо, Ленка вся извелась, дожидаясь, когда улягутся, да еще мама захотела вымыть голову, раз все равно топится титан и есть горячая вода, она еще уговаривала Светку, но та махнула рукой и ушла спать, заявив, что ей нельзя в такой парилке торчать. Утром вода еще теплая будет, если Летка всю на себя не повыльет, сказала старшая сестра, тогда и ополоснусь.
Потом папа долго сидел на кухне, шуршал газетой, и мама два раза выходила из спальни, в халате, из-под которого торчал кружевной подол ночнушки, тихо ругалась, пытаясь забрать у него почти пустую пачку папирос.
Ленка потеряла терпение, ушла в ванную, когда отец еще сидел в кухне, унесла бутылку с молоком под полотенцем. И теперь томилась, потому что не выйти, пока молочная бутылка по-дурацки на решетке маячит, а разводить йод и пить, все же нужно, когда все уже спят, так решила Ленка.
Наконец все утихло, даже телевизор в спальне родителей. И гитара, на которой тренькал перед сном Жорик.
Ленка переступила уставшими ногами, открыла воду, чтоб шумела посильнее, выудила из кармана халата темный пузырек и, отвинтив тугую крышечку, поднесла к кружке. Капнула несколько раз, и по белой поверхности поплыли красивые коричневые кружева с мерзким больничным запахом. Задерживая дыхание, она опрокинула пузырек, взяла двумя руками кружку, полную жижи кофейного цвета и поднесла ко рту. Жижа пахла так отвратительно, что рот сразу наполнился кислой слюной. Ленка обреченно подумала, конечно, она беременна, если на все ее теперь тошнит. И с ужасом вспомнив, что в молоке целый пузырек йода, того самого, от которого на царапинах и ранках остаются ожоги, скривилась и опрокинула кружку в раковину. От запаха кружилась голова. Вода текла, смывая коричневые пятна, и Ленка с облегчением поздравила себя с тем, что она не совсем сумасшедшая дура, а еще с тем, что есть пижма, вот ее она сейчас и заварит, вместо йодной отравы.
Но когда она, заодно быстренько приняв горячий душ, вышла, то в кухне сидел мрачный Жорик в трусах и свитере, накинутом поверх майки. Она убрела в комнату, легла, чтоб его пересидеть, вернее, перележать. И заснула.
На следующий день в школе Рыбка поймала ее на перемене, увела в дальний угол коридора.
— Слушай, ты эту пижму выкидывай нафиг, не пей.
— Почему? — у Ленки все упало внутри. Она уже мысленно видела, как выпивает стакан доброго травяного отвара, и вуаля, через пару часов приходит долгожданное нытье в животе и все переживания остаются позади.
— Та. Мы вчера с сеструхой лялякали, вечером уже, она у нас ночевала, ну и я спросила, нет, она рассказывала сама, про аборт, как делала последний. Ну и там привезли малолетку, восьмой класс, она ревет, а докторица материт ее на все корки, орала короче, ты что пила там всякую дрянь, скинуть хотела, теперь у тебя все приварилось к стенкам, попробуй отскреби. Девки ее потом спрашивали, в палате уже. В общем, она уколы делала какие-то и еще пила траву. А нифига не помогло. Все равно в женскую, ну и видишь, еще скандал, врачиха там всякого грозилась. Что сдаст ее.
— Куда сдаст?
— Откуда я знаю, — Оля повела прямыми плечиками под белой рубашкой, — может в ментовку, за криминальный аборт. В общем, Ленка, не надо пока. А что Пашка? Решил в сторонке побыть, да? Сунул, вынул и в кусты?
— Оль, ну чего ты. Работает он, без выходных.
Ленка замолчала и стала внимательно через набегающие слезы смотреть на школьный двор за стеклом. Испугалась, вдруг заплачет, но слезы постояли и ушли.
— У него мать медсестра, Лен, ты ж сама рассказывала. Какие проблемы, пусть ее попросит, чтоб тебя по блату. Проверили. Сам хвалился, она ему даже уколы сама от триппера, если что. Ты ее знаешь? Общались?
— Два раза, — Ленка вспомнила маленькую седую Пашкину маму, с круглым лицом, вежливой улыбкой и настороженным взглядом. Она еще подумала тогда, интересно, сколько девочек Пашка водил в дом, весело оря из прихожей «мам, это Ленуся (Настена, Алена, Анжелка), мы в кино, пока-пока!».
— Да. Два по минуточке. И батю один раз. Тоже сидел в кухне, газетой закрывался.
— Неважно, — решила за Пашкину мать Оля, — ты с ним уже целый учебный год хороводишься, так что имеешь право! Чего опять ржешь? Плакать надо, Малая, а ты хиханьки разводишь.
— Учебный, — нервно смеясь, выдавила Ленка, — у-учебный год. Драсти, Лизавета Петровна, мы тут по итогам учебного года немножко залетемши…
— Тю на тебя.
Оля обиделась, а Ленке впервые за почти две недели слегка полегчало. Во-первых, ну, вдруг все же она не беременна. Во-вторых и правда, если кранты, то Пашка поговорит с матерью. В-третьих не надо пить всякую дрянь. А еще — и она с нежностью посмотрела на сердитую Олю с красными щеками, — у нее есть Рыбища и она переживает, Ленка не одна. И самое радостное, еще несколько дней можно не рвать себе сердце, что время идет, а она ничего не делает. Совсем устала.
Зазвенел звонок и девочки вышли из тупичка, медленно, отводя руками бегающих понизу второклашек, двинулись по коридору, договариваясь о пустяках. И тут посреди мешанины темных юбочек и школьных брюк, светлых рубашек, пионерских галстуков и красных точек комсомольских значков возникла высокая фигура с красивым разворотом плеч. Девочки толкали друг друга, хихикая и отходя к стенкам, останавливались, чтоб подольше смотреть. А Сережа Кинг шел, слегка прищурив глаза, улыбался спокойной улыбкой, и глядел прямо на Ленку. Кивнул, улыбнувшись именно ей, и прошел, слушая физкультурника Алика, который торопился рядом, сгибаясь тоже высокой, но худой фигурой и что-то рассказывая на ходу.
— Е-мое, — сказала Оля, толкая опешившую Ленку к стене, — и чего это в нашей школе делают такие деловые пацаны? А с тобой, Малая, отдельно поздоровкался, смотри, Кочерга теперь вообще тебя сожрет. Куда его Алик потащил, на физкультуру, что ли?
Рядом возник Саня Андросов, прислонился к стене, где уже толпились одноклассники, дожидаясь дежурного с ключом от кабинета.
— Меня спроси, Рыбочка, — предложил, — я все знаю. Они в летний лагерь набирают пацанов, в секции дзю-до и карате. Алик там тоже подписался преподавать, но Кинг круче, у него черный пояс. Будут бегать босиком и орать кия-а-а-а!!!
— Андросов! — заорала русачка Элина Давыдовна и, примерившись, дала Саньке подзатыльник, — молчать! Спортсмен нашелся.
Санька ойкнул, приседая и закрываясь руками. Когда народ, толкаясь повалил в класс, ухмыльнулся девочкам своей шальной улыбкой:
— Второго — маевка. Каток, чтоб была, и вас, мадмуазель Оля, я приглашаю отдельно!
Поклонился, прикладывая к груди смуглую ладонь. Оля сделала книксен, кивнула.
— Посмотрим, чо и как. А Маргариту Тимофевну, Саша, тоже пригласишь?
Ленка умоляюще посмотрела на Олю, ну чего она, неловко как-то. Но Санька безмятежно кивнул в ответ:
— Уже, Оля, уже пригласил. Ждем-с.
Этим вечером Ленка никуда не пошла, и думать о Пашке, маясь обидами, не стала. Страхи так измотали ее, что она решила сделать перерыв, а вот просто выкинуть все из головы и сердца, на один день, все равно он — один — ничего не решает. И тихонько удивленно радуясь, что — получилось, осталась дома, затеяла в комнате уборку, раскладывая по местам учебники, книги и лоскуты, мирно копошилась, подмела пол, вытерла пыль, с удовольствием поела, говоря с папой о каких-то пустяках. И предупредив всех, что занята, готовится к экзаменам, закрылась в комнате, прошлась вдоль книжного шкафа, выбирая себе книгу. Вытащила старый истрепанный том, сто раз перечитанный роман Уилки Коллинза «Лунный камень», и поставив на проигрыватель пластинку с прелюдиями Баха, легла, высоко подняв подушку, укрылась одеялом и, вздохнув, собралась насладиться отдыхом.
Бежала глазами по строчкам, некоторые знала почти наизусть, музыка не мешая, журчала, вздыхала и умолкая, снова поднималась мелодичными шепотами. Не хватало чего-то, может быть, шоколада, подумала Ленка, вылезая из-под одеяла, и направляясь к письменному столу. Но пока голова думала одно, сделалось совсем другое. Из дальнего угла нижней полки вытащился красный бумажный пакет, а из него — уже слегка мятая по уголкам фотография, ее Ленка не вынимала с того дня, как получила нехорошее письмо с чертовых дальневосточных куличек. Она сунула пакет обратно, со снимком в руке вернулась, снова устроилась, как надо. И положила на грудь поверх одеяла снимок с двумя смеющимися лицами. Беленькая Ленка Малая, и темноволосый Валик Панч, с большим красивым ртом и прядкой волос по скуле. Прижались щеками, смотрят в объектив (их маленький Петр снимал, вспомнила Ленка, а Валечка рядом переживала, чтоб хорошо получились), такие счастливые.
Вот теперь все хорошо, решила Ленка, придерживая одной рукой снимок, а другой поставленную на одеяло книгу. Она читала, время от времени смотрела на их с Панчем улыбки. Слушала музыку и думала. Оказывается, даже то, что прошло, оно все равно потом — счастье. Даже если кажется, что никакой больше надежды. Но на самом деле, как же никакой, она есть. Оказывается, когда говорят — надежда умирает последней, это не просто слова. А еще…
Она перевернула страницу, продолжая скользить взглядом по знакомым строчкам. Еще кажется ей, что можно не только сидеть, изо всех сил отчаянно чего-то желая, а продолжать жить, и даже делая всякие глупости, продолжать надеяться. Наверное, если написать обо мне книгу, думала Ленка, вряд ли я получусь положительной героиней, и зря Светища говорит, что я умная, да полная ведь дурында, и книга получится совершенно не Ромео с Джульеттой, где двое разлученных стремятся друг к другу, а потом у них получается, или — не получается… Но зато в этой книге будут происходить вещи, всякие. Пусть это не приключения, не путешествия в дальние страны, типа романов Джека Лондона, но все-таки, там будет жизнь, а не сидение в углу, полное одного лишь ожидания.
Давай-давай, Малая, съязвил внутренний голос, расскажи себе, какая ты хорошая и все делаешь правильно, но Ленка, зевая, возразила, да сказала уже, насчет хорошей и правильной, нефиг меня путать.
Глаза совсем закрывались, и странно, но было Ленке покойно и очень хорошо. И казалось, Валик был рядом, совсем ее Панч, и все у них получится, непонятно как и когда, но — будет.
Глава 20
А потом настало утро, злое и трезвое, и вчерашняя безмятежность испарилась. Снова разглядывая свои трусы, Ленка поняла, кривя дрожащие губы, оказывается, ее надежда в первую очередь была на это утро, на то, что вчерашнее настроение пришло не просто так, оно — предчувствие хорошего. А хорошего нет. Ничего не изменилось. И не бывает задержек в две недели, и все неумолимо надвигается, свистит пролетающими минутами.
Суббота, вяло подумала Ленка, укрываясь до подбородка, сегодня она может пойти в школу, а может остаться дома, потому что там целый день занятия с отстающими, а тех, кто нормально учится, отпускают готовиться самостоятельно, пойти в центральную библиотеку, например.
Выходить в кухню и видеть обычные лица домашних было совсем невмоготу. Но в школу или в библиотеку тоже не моглось, туда такая длинная дорога, кругом люди, невыносимо совершенно…
Она откинула одеяло и быстро, пока не передумала, стала одеваться. Суббота. Он, наверняка, дома и еще никуда не успел. Что за фигня, почему она должна в одиночестве со всем этим справляться. Да пусть хотя бы посидит рядом, скажет каких-то слов. Ведь их было двое. И он целый год ее уговаривал.
Учебный, сердито усмехнулась она, быстро расчесываясь перед зеркалом на стене, учебный год, такой вот юмор.
На улице было серенько и почти дождливо, в зелени вишен орали скворцы, блестящие, будто их намазали черным маслом. Ленка, не глядя на знакомый балкон, влетела в подъезд, не переводя дыхания забежала на четвертый этаж. И встала, давя кнопку звонка и думая, что и как сказать.
Дверь была основательная, обитая черным дерматином, в гвоздиках, но звуки изнутри были слышны вполне хорошо, вот хлопнуло, зашаркали быстрые шаги. И вдруг далекий Пашкин голос крикнул:
— Пап? Если Ленка, скажи меня нет.
Ее качнуло. Во рту мгновенно пересохло, стало трудно вдохнуть, и надо было срочно сделать шаг назад, не упав на близких ступеньках, побежать вниз. Но замок уже погремел, двери раскрылись.
Пашкин отец был мужчиной высоким, с черными, как у сына, глазами. Такой же седой, как маленькая полная жена, Пашкина мама.
— А Паши нет, — длинное лицо стало честным, как у собаки, плечи поднялись вверх, разводя руки — в одной свернутая трубкой газета, — уехал на работу, с самого утра.
— Да, — сказала Ленка, — угу. Вы ему передайте, я слышала, что он сказал. Только что. Да. До свидания.
Повернулась и пошла вниз, краснея от стыда так, что казалось, уши сейчас сварятся. Как закрылась дверь, не слышала. Под руку все время попадались перила, Ленка держалась, на повороте отпускала, и черные железные прутья под деревянной плашкой тихо и коротко звенели. А потом вокруг оказалась улица, всякие на ней детишки и собаки, вот кошка прошла, отмечала Ленка, пробираясь под самой стенкой дома: было невыносимо думать, что, может быть, он вышел на балкон и смотрит на ее макушку, и плечи, и как она идет. Фраза, выкрикнутая бодрым, слегка раздраженным голосом повторялась в ушах, а перед глазами стояло длинное честное лицо в морщинах, седые брови, поднятые домиком, вот мол незадача…
Ленке стало ужасно противно, что она сказала это ему в лицо, потому что позади свое кричал Пашка, а перед ним стояла негодующая Ленка, попал батя, как кур. Не нужно было. Но чего уж.
Она вернулась к себе, закрылась, подпирая дверь креслом. Села на неубранную постель, ведя глазами по книжным полкам и пластинкам, разбросанным вокруг проигрывателя. Сидеть почему-то было неудобно, и она, морщась, поерзала, продолжая смотреть перед собой и напряженно думая, ни о чем, в голове было совершенно пусто. Так странно, а можно ли думать — ни о чем?
По-прежнему не опуская голову, стала снимать вельветки, и без всякого удивления стащила трусики с красным пятном на середке. Скомкала их в руке и ушла к шкафу, где в углу полки с бельем лежали женские припасы. Сделала все как надо, надевая чистые старые трусы, которые не жалко, и которые плотно сидят на попе. И села снова, держа в кулаке тряпочный комок и ожидая приступа радости или хотя бы облегчения. Но оно как-то никак.
— Тю на тебя, Малая, — прошептала себе.
Легла навзничь, в трусах и клетчатой рубашке, согнула коленки и стала смотреть в потолок. Конечно, радость. Все мучения позади. Обидно, что никак не получается обрадоваться по-настоящему. Папа еще этот. А Ленка даже не знает толком, как его зовут. Ну, она знает, что Виктор, потому что — Павел Викторович, а отчества не знает, Пашка их толком не знакомил, так, кричал мимоходом, пап, мы с Ленусей музычку послушаем, а пап из кухни что-то невнятное отвечал. А теперь уже и неважно. Надо привыкнуть к мысли, что с Пашкой все кончилось. Оказывается, бывает так — когда что-то началось, оно одновременно и закончилось. И в этом есть неправильность. Ведь они ничего не успели.
Потолок был неровно побелен, это мама белила, стоя на табуретке, которая стояла на кухонном столе, а Светища и Ленка держали стол с боков, чтоб не качался и смеялись, когда сверху прилетали капли на лоб и щеки. Мама пугалась и требовала, чтоб закрывали глаза, потому что известь, может обжечь.
Она, конечно, мало что понимает в жизни, думала Ленка в белый потолок, исчерченный белыми невидными разводами, но все равно так нельзя. Ведь в новом своем состоянии можно начать существовать. Как-то. По-всякому. Встречаться со своим парнем, в первую очередь. Потому что сам секс не особенно ее интересовал, скорее пугал такими вот предвиденными хлопотами и возможными опасностями, секс нужен парням, а девочки вполне без него обходятся. Но извините, эти три минуты в общей сложности, это все что нужно Пашке, этого он добивался целый год? Но Ленка больше и интереснее трех минут с трусами на одной ноге. Неужели сама по себе она нужна ему только ради трех минут первого секса?
— Фу, — шепотом сказала себе Ленка, — как-то я ничего не понимаю.
Думать это все было ужасно унизительно. И в голову стали приходить всякие народные мудрости, типа поматросил и бросил, и прочая ерунда. А потом с дурацким ликованием заиграла в голове песня из недавно посмотренного фильма, о том, что у всех — обычные дети, кастрюли-сковородки, обычная жизнь, а у нас все будет по-другому! И так далее. И Ленка, мучаясь, поняла, слова ликующей песни — это насмешка, по-другому не бывает, о том и пели. Все собираются жить по-другому, а в итоге — все обычное и как у всех. И может быть, ей легче было бы с этим смириться, если б не чортов Валик Панч, который ей сказал — у нас всегда так будет, странно и не как у всех. А после сидел с Ниной-каратисткой, которая трех слов не может написать без ошибок, обнимался, смеясь в объектив, и получается, поступил тоже, как все поступают. И сама Ленка поступила. Как все. Надо срочно позвонить…
В коридоре зазвонил телефон, и Ленка дернулась, резко садясь.
— Алло, — сказала мама, после быстрых шагов, — да, Оля, сейчас позову. А вот она…
— Але, — хриплым голосом сказала Ленка, уже беря с полки аппарат, унести в комнату, чтоб не слышали дома, — я тут.
— Малая? А давай нажремся сегодня?
Ленка убрала руку с прохладной пластмассы.
— Говори, где и когда. Семки будет?
— Нет. Она снова у бабки, вдвоем соберемся. Ну, к трем выходи, да?
— Рано, — Ленка хотела сказать, что потом идти обратно, лучше когда темно уже.
— А мы долго. Чтоб после проветриться. На старый причал поедем. А?
— Угу.
— Соври там чего. А хочешь, у меня переночуешь, если отпустят, мои, кажись, в деревню свалят.
— Поглядим.
Выдравшись из набитого автобуса, Оля выдохнула, поправляя волосы, и топыря острый локоть, с прижатой подмышкой маленькой сумочкой, устремилась куда-то в другую от приморского парка сторону.
— Там в квартале магазин, — пояснила поспевающей следом Ленке, — столовое есть и еще Фонтан бахчисарайский. Фонтан рупь сорок. Столовое — восемдесят семь. Ноль семь. Чего возьмем?
— Да ну его фонтан этот.
— Правильно. С него уссымся. Два пузыря? Нам еще трояк надо на тачку оставить, а то мало ли.
Ленка махнула рукой, смиряясь:
— Пусть два.
Это было одно из их тайных мест. Удобное, потому что идти туда через помойку, а рядом большой длинный красивый пляж, где все гуляют культурно. И в дальнем конце его, за пустырем с помойкой и забором, огораживающим заброшенный яхт-клуб, не было никого, даже бухать народ садился поближе, не углубляясь в развалы ржавья, дырявых алюминиевых тазиков и пластмассовых дверок от холодильников. Но за мусором открывалась тайная песчаная поляна, утыканная кривыми, как на японских гравюрах, черными деревцами лоха, и вокруг них — высокие пучки сизой осоки с толстыми колосьями. С правой стороны тихую прозрачную воду ограничивала насыпь валунов с искрошенными от возраста краями, а слева выдвигался у самого забора старый причал, вернее, пирс, уходил в зелень глубины ржавыми сваями. И на тайной поляне было еще одно тайное место — у начала пирса, прижимаясь к его ржавым ногам, настелена бетонная низкая платформа, с густыми решетками посредине. Там было уютно, как в странной комнате, даже мебель была — толстые кнехты с пришлепнутыми плоскими верхушками — как маленькие столики и табуреты, и почти под причалом всякие сварные конструкции из решеток и прутьев.
Оля вытащила из пакета тонкое одеялко, сложенное квадратом, деловито, уложив на решетки под причалом пару старых досочек, застелила их сверху. Повесила на торчащий крюк курточку и села, скидывая с затянутых в колготки ступней свои пластмассовые стукалки.
— Лепота!
— Тапочки дать? — поинтересовалась Ленка, усаживаясь на одеяло рядышком, — пижамку? Эээ, простити, пеньюар?
— Опять матюкаешься!
С большого пляжа слышались детские радостные вопли и взрослые сердитые, а еще смех и песни. Сверху с высоченного обрыва — еле-еле, звуки машин на шоссе за домами. А тут внизу, вдумчиво хлюпала вода, поднимаясь и опускаясь, и через рыжую густоту решеток ее было хорошо видно — такая зеленая. За яхтенным забором лаяла собака и ветер шуршал тростниками, которые заслоняли собой бетонные секции и столбы.
— Месячные пришли, — вспомнила Ленка, осторожно приваливаясь спиной к выкрошенному столбу.
— Слава Богу! — успокоилась Оля, — Пашка, наверное, счастлив, шо твой слон.
— О, да! — язвительно отозвалась Ленка, и пока Оля, стащив колготки, ходила по бетону, накрывая на кнехте стол — газетка, на ней бутылка и стаканчик, нарезанный хлеб, полоски сала, кусок купленной в магазине ливерки, яблоко, — рассказала подробности.
— Скотина, — с чувством прокомментировала Оля, суя ей стаканчик с бледным вином, — давай, не тяни, а то стакан один.
— Не знаю я, — Ленка вернула ей посудину, морщась от кислого вкуса, быстро заела выпитое куском колбасы, — скотина конечно, а теперь мне скажи, есть в природе парни, чтоб не скотины?
— Э-э-э, — задумалась Оля и рассердилась, — ты чего меня путаешь? Да, Ганя скотина, сама знаю, ну так и что теперь?
— Два скотины, — согласилась безжалостная Ленка, — я и говорю, уже два. А ты назови мне имя, чтоб не скотина? Вот чтоб ни капельки.
— Ну… — Оля подумала, и промолчала, потом снова собралась сказать и опять не стала, задумалась, явно перебирая в уме знакомых.
— Нет, ну есть же, наверняка, — сказала, наконец, не очень уверенно.
— Факты мне! — не сдавалась Ленка.
Но Оля сунула ей налитый стаканчик и временно девочки отвлеклись, потому что было совсем тепло, летали пчелы, солнце сверкало на дальней воде, а ближняя была волшебного зеленого, затененного сумраком, цвета.
— А ты? — спохватилась Ленка после длительного ленивого молчания.
Оля пожала худыми плечиками, поймала прядку, закусывая ее зубами. Согнутое колено блестело незагорелой еще кожей.
— Совсем я извелась, Ленк. Пора что-то сделать, а то чокнусь. Люблю я его. А он падла такая. Кончу школу и точно — уеду. В Сибирь куда. Или в Самарканд.
— Почему в Самарканд? А неважно. Рыбочка, а я? Я без тебя тут буду?
— Тоже поедь куда, — сказала Оля, — чего тебе тут ловить? Пашка козлина. Все остальные не лучше, а получается, хуже. Наверное. А там новая жизнь.
— О да! Найти там еще одного скотину, опять собрать чумодан и уехать снова. Искать новую жизнь.
— Ну…
Ленка встала, тоже скинув старые туфли и тонкие носки, пошла босиком, осторожно ставя отвыкшие за зиму ступни на колкую каменную крошку. Держа яблоко, села на корточки перед решеткой — полюбоваться зеленой водой внизу.
— Может и поеду. Только на следующий год. Поработать хочу. Пойду в ателье ученицей. Если успею, мастером. Направление возьму. Там же конкурс большой. Ну и заодно оденусь хоть. У Светки в августе или в сентябре родится ж кто-то, все деньги уйдут на них, а у меня пальто курям на смех. И куртка, тыща лет ей. Оль, а давай и ты тоже? Останься. Потом вместе уедем.
— И все равно я ему дам. Наверное, — заявила Оля, выпивая и отбирая у Ленки яблоко, — потому что сил нет.
— Будешь, как я.
Оля задрала подбородок, сунула Ленке огрызок, промахиваясь мимо протянутой ладони.
— Ну б… буду. И что?
— Ты что думаешь? Ты думаешь, небо там прям, в звездах да? Я же сказала вот. Три минуты, О-ля!
— Да слышала я. Нет! Не думаю. Но все равно.
Они горячо заговорили хором, путаясь в словах и повторяя их снова. Пытаясь сказать, одна о том, что оказалось, все не так, как думалось, хотя не мечтала всякие глупые мечты, а просто хотела теплого, человеческого и готова была расплатиться. Другая — о том, что сил нет терпеть нынешнее и надо как-то взорвать, изменить, поскорее, а кроме этого вот — как еще? Не вешаться же, правда!
И устав, замолчали, повернулись друг к другу и стали смеяться.
Потом Оля ходила писать, трещала в кустах, маяча там красным пятном свитерка, а Ленка стояла на краю бетонки и, грозно глядя косящими глазами, орала, топая босой ногой:
— Чего застряла? Вылазь давай. А то иду. Спасать уже!
Потом в путешествие отправилась сама Ленка, долго копошилась, ловя перекрученные трусы и оглядывая себя, а на обратной дороге застряла посреди песка, рассматривая медленно уходящее солнце, запутанное в черных ветках с мелкими, только из почек, серебряными листочками.
А когда вернулась, Оля, сидя на одеялке, беседовала с мужчиной, который стоял на платформе, сунув руки в оттопыренные карманы и сутуля плечи в каком-то распахнутом ватнике.
— Э-э? — грозно сказала Ленка, нагнулась и подняла кривой сук с обломанными ветками.
— О, — сказал в ответ незнакомец, повертывая к ней плохо видное в светлом сумраке лицо под неровно лохматыми волосами, — ишо одна, не запылилась.
Через какое-то время, видимо, не короткое, Ленка обнаружила, что держит в руках кружку, с отбитой на краю эмалью, горячую к рукам, и пытается из нее пить, а напротив Вадик, хмуря косматые брови, покрикивает, чтоб не ставила, и пила. Чай.
Вадик? Она напряженно уставилась в медное морщинистое лицо, обрамленное черными с сединой кудрями. Какой такой Вадик? И — чай…
— Пей уже! — рыкнул Вадик, и Ленка испуганно хлебнула, отставила кружку в вытянутой руке и зашипела, трогая обожженным языком горящую губу.
Слова медного Вадика стали быстрыми и невнятными, слились в бормотание, лицо ушло, а перед глазами замаячил живот в обвисшей спортивной кофте, шерстяной, с белыми на рукавах полосками — локоть тоже прошелся перед Ленкиным носом, чуть не тыкаясь в него.
— Свет запалю щас.
Ленка откинулась к стене, чуть не упав с шаткой табуретки, косящими глазами попыталась оглядеть все вокруг. Свет вроде бы уже горел, наверху — резало глаза пятно голой лампочки. А под ним падали на Ленку стены, тоже голые, в разводах старой побелки, с картинками, повешенными криво и косо, а может быть, у меня в глазах все перекосилось, догадалась Ленка, держась за стену спиной, а рукой за край табуретки.
— Рыб… Рыбка!
— Та тут твоя Рыбка.
Свет тоже перекосился, стал ярче у дальней стены и Ленка увидела — там кушетка, и на свешенном драном покрывале спит Рыбка, укрытая до самого носа каким-то ватником.
— Ты… — попыталась грозно сказать Ленка и даже встала. Из пальцев выпала тяжелая кружка, плеснула на ногу горячим.
— Тьфу ты, — Вадик кружку поднял, сунул на дощатый стол, — спит она, напилася совсем. А сами виноваты, Вадик налей-налей! Пристали, шо банный лист к жопи.
Ленка снова села, сгибая ослабевшие колени. В голове все вертелось, временами замедляясь, и тогда она видела захламленный стол, тумбочку, а еще этажерку, блестевшую деревянными шишками. Ворох тряпья на стуле в углу. Спящую Рыбку и ее босую ногу из-под какого-то вытертого пальто.
Ленке стало невыносимо жалко ее. Лежит, под тряпьем, как бродяжка. Бедная ее Оля, и Ганя у нее совершенно скотина.
— Тьфу ты, — снова сказал над ухом Вадик, — чего ревешь?
Ленка хотела ему сказать, чтоб не трогал, и вообще не подходил, и что она станет драться, и но-но-но. Но вместо этого заплакала еще горестнее. Оля была такая беззащитная, такая трогательная.
— Я обход пойду делать. До туалета может? Надо, не?
Подождал, и Ленка на всякий случай зарыдала громче, чтоб не отвечать. Вадик цыкнул, завозился где-то за краем зрения (смотреть Ленка почему-то не решалась), прошел снова перед ее лицом, открылась справа чернота, откуда пахнуло холодом. И с треском захлопнулась серая дверь с набитой наискось доской.
Ленка вскочила, роняя табуретку, кинулась через комнату, оступаясь на каких-то мисках и чурбаках, упала на колени перед кушеткой, тряся подругу за плечо.
— Оля. Рыбка! Давай скорее, да проснись же!
Оля, взмахивая руками, села, спуская босые ноги, но не открывая глаз. Сказала невнятно, наваливаясь на Ленку грудью:
— Каторый час?
— Ночь уже! Домой, Оль, пока нету его. Ну вставай же!
Она наклонилась, шаря рукой по полу, и с ликованием ухватила Рыбкины стукалки, встала, дергая подругу.
— Быстро. На улице. Там. Там ну…
Крадучись, они открыли двери и вышли, проскочили пустой двор, полный теней и пятен света от лампы над входом в белое двухэтажное здание и фонаря у ворот. И оттянув тугую створку, вывалились наружу, под яростный лай и громыхание собачьей цепки.
— На, — совала Ленка обувку, — да на же.
Та забрала, но обувать не стала, и вдвоем они торопливо углубились в дебри старых корыт и останков холодильников, высматривая еле видную тропинку.
Внутри у Ленки все тряслось, но в голове прояснилось, и глаза уже не косили, потому ее совсем испугала стоящая вокруг явно глухая ночь, ни криков, ни даже шума машин сверху, только фонари пятнами, и шумит позади морская вода. И лает собака за забором яхт-клуба, где остался ужасный Вадик с морщинистой медной рожей и, оказывается, выпитым поверх двух бутылок вина самогоном. Нами выпитым, уточнила мысленно Ленка, толкая Олю вверх по кривым ступенькам лестницы, виляющей по обрыву.
Наверху стояли тихие дома с редкими квадратиками окон, ветер шелестел черной зеленью деревьев, и за силуэтами стволом лежала желтая полоса центральной трассы.
— Едит твою налево, — сказала Оля хриплым голосом и прокашлялась, — еб твою мать, Малая, автобусы ж не ходят.
Ленка пощупала задний карман штанов, сунула в него пальцы. Удивительно! А ведь два раза штаны снимала, когда ходила поссать, точно помнит.
— Трояк, Оль. Есть!
— Ловим тачку, — решила Оля и устремилась в черные деревья, к светлой за ними полосе.
Им повезло, и машина нашлась, и шофер, получив трояк, цыкнул, как давеча Вадик, сказал язвительно:
— Если бы сам не ехал на автовокзал, стояли б дальше, туда ночью десятка, не меньше, трояк у них…
Девочки не ответили, молча сидели на заднем сиденье, и в длинном зеркале отражались два темных лица с блестящими в уличном свете глазами.
На одном из поворотов, когда уже почти приехали, Оля, приваливаясь к Ленкиному плечу, сказала трагическим шепотом:
— Моя сумка. Где сумка моя?
У Ленки заныло под ложечкой. Ее сумка висела на плече, хотя в сторожке у Вадика не было так, и не помнит, когда именно нацепила снова. А вот Олина…
— У тебя там ключи?
Оля покопалась в кармашке куртки, звякнула, помотала головой.
— Тут. А сумка?
— Приехали, — сказал шофер несколько напряженным голосом, — вылазьте давайте.
Подумаешь, гордо подумала Ленка и быстро выбралась из «Волги», пусть не боится, что они попросят его везти обратно, а после еще раз обратно.
Поднимаясь на свой пятый этаж, Оля еще пару раз спрашивала о судьбе своей сумки, и услышав Ленкин невнятный ответ, погружалась в раздумья.
Вволю наковырявшись в замке (Ленка уже примеривалась к ступеням, решив, что спать им сегодня на лестнице) Оля открыла дверь и ворвалась в пустую квартиру. Ленка вошла следом, закрывая и слыша, как подругу тошнит в туалете.
— О-о-о, — Рыбка вышла, качаясь и вытирая лицо дрожащими руками, — вот черт, я не могу. Постелить я.
— Чего?
— Спим, — ответила Рыбка и, дохромав к дивану, рухнула ничком, стряхивая с босых ног стукалки.
— Оля, — Ленка потрясла ее плечо, — а завтра? Твои когда будут?
У нее снова кружилась голова и к горлу подкатывала тошнота, а еще болел живот, надо же пойти в сортир, вспомнила она невнятно, поменять там, всякое, а то протечет же на штаны.
— Ложись уже, — простонала Оля, — вечером они. Та спи уже, Малая, вечно с тобой морока!
— Со мной?
Ленка возмущенно покачалась рядом с диваном, убрела в туалет, что-то там автоматически совершая и ведя со спящей Рыбкой гневный диалог, о том, кто кому еще морока! Вернувшись, ушла к Рыбкиной тахте, взбила подушку, одетая, укуталась в одеяло. И тоже заснула, проваливаясь в черные с желтым пятна, среди которых гремела собачья цепка, ходил Вадик, поддавая ногой мятую миску, плескала зеленая вода, расчерченная решетчатой ржавчиной.
Глава 21
На следующее утро мрачная Ленка болталась в набитом автобусе, морщась от противного вкуса во рту, клонила к плечу голову, гудящую, как пустой казан, и мысленно ругала Олю Рыбку, с сердитым раскаянием понимая, ругать нужно и себя тоже. Это ведь она развела панику и поволокла полусонную подругу из сторожки, забыв прихватить сумку, а свою-то повесила на плечо, не растерялась.
И куда они все едут, раздражалась Ленка, пытаясь удобнее встать между двумя совсем неудобными бабками, одна из которых везла пучок саженцев с царапучими ветками над мешковиной, а другая живой мешок, в котором придушенно клохтали куры. Воскресенье, ясно, что едут с базара, и конечно, по своим весенним домам с огородами, где нужно копать, сажать и разводить этих самых курей.
Больше всего Ленке хотелось вернуться домой, тихо радуясь, что мама не позвонила вечером Рыбке, и не устроила панику из-за того, что до двух ночи трубку никто не брал. Закрыться в своей комнате, съесть сразу две, нет, три таблетки анальгина и упасть, и заснуть.
Но получилось по-другому. Рано утром, часов около восьми зазвенел телефон, Оля, кашляя и стеная, прошлепала в коридор, о чем-то невнятно поговорила и вернулась в комнату, громко разбудив Ленку известием, что предки уже едут, скоро будут, и нужно срочно готовить жрать, — везут сестриных спиногрызов в гости.
— Лен, — умоляюще фокусируя на подруге косящие глаза, спохватилась Оля, — сумка, Лен! Ты поедь, забери, а? у меня же там косметичка, и блокнот, телефоны все! И кошелек там.
— Пустой все равно, — без надежды попробовала защититься Ленка, понимая, все равно придется поехать, — и еще там этот жуткий. Ну как его?
— Стасик! — Оля сморщилась, продирая щеткой волосы, — нет, Толик?
— Владик, — неуверенно сказала Ленка, сидя на тахте и стаскивая вельветки.
Оля подняла перед собой щетку:
— Вадик! Точно! А ты чего штаны снимаешь? Без штанов поедешь?
— Пузо устало. Всю ночь спала с пуговицей, посижу хоть пять минут.
— Всю ночь, — усмехнулась Оля, хватая ватку и резкими движениями протирая лицо лосьоном, — та сколько той ночи, с двух наверное, и вот, до семи, охо-хо, толком и не спамши мы, совсем себя загоняли. Жрать будешь?
Ленка содрогнулась и отказалась.
Теперь жалела, конечно. В зыбком автобусе пахло деревней, потом и куревом. Она совсем укачалась, ее тошнило, но вдруг вспомнила, а если бы не пришли месячные, точно повесилась бы, решив, что это токсикоз. И улыбнулась. Все-таки жизнь не так плоха, особенно весной, особенно когда-то что-то складывается, даже если не все.
Перед воротами яхт-клуба она встала, не решаясь дергать глухую серую створку. Оглянулась на прикрытый деревьями большой пляж. Там сверкала вода, бегали и кричали дети, мелькал мяч, лаяли собачки — воскресенье. А тут, будто вчерашний день застрял и не может выбраться из путаницы весенних веток. Тепло, сонно, вода еле плескает, и за воротами тишина. А вдруг он сменился, этот непонятный Вадик? И там еще кто-то? И вообще, вдруг сумка не там, а они потеряли ее раньше? Уронили на бетонную платформу, когда это… ну…
Ленка снова попыталась вспомнить, как они оказались внутри сторожки. Он их пригласил? Или сами напросились? С них станется… И как они пили самогон? Он их угощал? Или…
— Чего встала? — сказал за спиной мрачный голос, а за воротами резко забрехала собака, будто ее включили, и Ленка вздрогнула, не зная, куда повернуться.
Вадик вышел из-за спины, крутанул серую загогулину ручки, в щели замелькала белая косматая шерсть, загремела цепка, заглушаемая яростным и одновременно угодливым лаем.
— Тихо, Юпитер! — рыкнул Вадик и пес лег мордой на лапы, снизу преданно заглядывая в лицо и мельтеша хвостом.
Ленка открыла рот и не выдержала, расхохоталась. Вадик придержал створку, другой рукой оттаскивая псину за цепь у ошейника.
— Юпитер, — повторила она, входя, осторожно, чтоб не помять рядочки желтых нарциссов вдоль узкой кирпичной дорожки.
— Парни назвали, а так он Шарик, — пояснил Вадик, — внутрь заходь, добро твое там, в задней комнате. Я поклал, чтоб не под ногами.
Ленка неуверенно шагнула к низким ступенечкам крыльца, оглядываясь на Вадика, который что-то делал с юпитеровой цепью. Был Вадик коренаст, в серых широких штанах на коротких кривых ногах, и в старой клетчатой рубахе, под которой светили полоски тельника. Хмурое лицо с медным индейским загаром обрамляли изрядно сальные кудри, черные, сильно битые сединой, такие дурацкие, вроде был он когда-то херувимом, потом запил и состарился. А прическу сберег.
В сторожке на столе, устланном облезлой клеенкой с цветочками, стояла знакомая Ленка эмалированная кружка, и рядом открытая плоская банка с кильками. Но, к ее облегчению, никаких водочных и самогонных бутылок не было, только алюминиевый чайник с помятым боком и затейливо гнутой черной ручкой.
Вадик махнул рукой в сторону табурета и пошел, мелькая обрезанными галошами на шерстяных носках, исчез в открытой двери. Ленка помедлила и села, вытянула ноги, осматриваясь. Голова мутно трещала, и все еще подташнивало, а тут вдобавок пахло старым куревом, и еще эти кильки в банке. С томатом.
— Вот.
Мужчина вышел, неся Олину сумку за длинный ремень, сунул было Ленке, но присмотрелся, цыкнул, дергая коричневым пальцем сломанную кнопку на боковой петле.
— Пять минут погодишь если, заклепаю. У меня тут станок. Тебя звать как? А то вчера — Малая, все Малая. Оно ж не имя.
— Лена.
— А подружку? Шухарная у тебя подружка.
Он снова ушел и только голос раздавался из распахнутой двери, да через поминуты что-то стукнуло, зазвякало и загремело.
— Оля, — Ленка встала и подошла, посмотреть. А со стены на нее смотрела незнакомка, едучи в карете по заснеженным улицам, по уголкам страницы пришпиленная к стене ржавыми кнопками.
Вадик сидел согнувшись, клетки рубахи обтягивали сутулую спину, кудри свешивались на щеки и шею. Локти мерно ходили над точильным бруском, сумка была зажата между серых коленей.
— Не лезет. Сейчас подточу, чтоб дырку не ковырять лишнюю. А ты сиди пока, или хочешь если, консерва там. Чай. Хлеб в кульке.
— Спасибо. Не надо, — отказалась Ленка, тут же ужасно захотев есть, и килька так соблазнительно замаячила перед глазами, благоухая томатным соусом.
— Та иди, — приказал Вадик, жикая металлом, — а то, если надо, налью стопку, на похмел?
— Нет, — испугалась Ленка и ушла к столу. Выбрала из алюминиевого вороха вилку поприличнеее, вытерла краем старого, но вроде чистого полотенца, и вытащив из газетного кулька отрезанный кусок серого хлеба, решительно подцепила на вилку побольше мятой мелкой рыбы.
Вадик вернулся, когда она выскребала донышко банки, дожевывая второй кусок хлеба. Повертел перед Ленкой сумкой, показывая на боку новую, блестящую красной медью, самодельную кнопку. Сказал гордо:
— Все сносит, а моя работа видишь, останется. Хоть новую суму к ней пришивай. Чай будешь?
— Немножко.
Вадик плеснул из заварника, долил горячей воды, придвинул кулечек с сахаром.
— А мне надо закончить там. В двенадцать придет сменщик, будет сканудить, что я ему спать мешаю.
Ленка пила чай из эмалированной кружки, слушала, как в соседней каморке Вадик звякает, стучит и погромыхивает, что-то бормоча и иногда ругаясь. А потом, с приятной тяжестью в желудке, и с прояснившейся головой, встала и снова пошла смотреть.
Смотреть было на что. Под картинками из журнала «Огонек», которыми были уклеены и увешаны стены маленькой комнатки с голой наверху лампочкой и еще одной — на гибкой длиннющей шее, навалены были горы всякого хлама. Зонтики с растопыренными спицами, ремни, сумки, какой-то прибор на полу, с выпотрошенным нутром — рядом кучкой винтики, болтики и циферблаты. А еще станочки, машинки, точильный круг, и на столе рулончики шлифовальной бумаги, банки с гвоздями и всякой железной мелочью.
— У вас тут мастерская прям.
— Тебя, — поправил Вадик, ухмыльнувшись, — вечером, ой Вадик, ты Вадик, небось. Шебутные вы девки. Думал, милиция приедет, так орали.
Ленка неопределенно улыбнулась, лихорадочно стараясь вспомнить, а чего ж орали-то. Может, звали на помощь?
— Танцевать на столе собрались, — мимоходом разубедил ее Вадик, пускаясь в воспоминания, — подруга твоя собралась, места говорит, мне, дайте места, чайник, значит, мешает ей. Ну это когда ты купаться побежала.
Ленка закашлялась, пробормотав что-то невнятное. О ужас, она еще и купаться… Неужели купалась?
— Ну все ж решили, одной песни хватит. Так что спели мне про деревья. И концерт закончен. Ажно голова от вас разболелась.
— Про деревья, — подавленно повторила Ленка, — про клен, да?
— Про тополь, — поправил Вадик и грохнул молотком по наковаленке.
Ленка попыталась вспомнить песню про тополь и не смогла. Виновато уставилась на картинку над верстаком, на этот раз брюлловскую «Всадницу», окруженную детишками и борзыми. Опустила глаза, присматриваясь. И подошла, ухватывая кончиками пальцев блестящий вишневый уголок.
— Можно я посмотрю?
— Та тяни уже. Не свали только.
Придерживая хлам, Ленка бережно вытащила большой кусок выделанной кожи, такой упругий, мягкий и одновременно плотный. Взялась двумя руками, сгибая и снова расправляя.
— На Козлова у свояка была мастерская, ларек. А может, помнишь. Та не, ты еще под стол ходила. Он лучший сапожник был, на весь центр. Помер, царство небесное, уже пятый год как. А домишку его снесли. Он там один жил, ну где к кинотеатру идти, по правую сторону. Третий двор. А сейчас там воротищи. Склад.
— Помню, — сказала Ленка, обертывая кожу вокруг запястья, — помню, мы с папой носили туда ботинки.
Ей правда смутно помнился сидящий против света согнутый силуэт, что ее маленькую совершенно поразило — в цветной, как бабушки носят, косынке поперек лба, с хвостами на затылке. Стучал глухим молоточком, и не поднимал головы. Папа вынимал из матерчатой авоськи ботинки, показывал сбитые каблуки и истертые подошвы, дядька невнятно отзывался, не переставая колотить. И на стенках висели все те же незнакомки и всадницы, да еще, как положено — «Последний день Помпеи». Ленке ботинки были не очень интересны, а картинки она запомнила и еще этот платочек на мужской голове. И вот оказывается, он умер, этот сапожник.
— Я бы там и работал тоже, коли б не снесли. А теперь видишь, сюда таскаю. Вон добра. Зонтики. Замки всякие.
— А вы… ты и обувь можешь?
— А чего ж, — согласился Вадик, суя на верстак какую-то железку и поднимаясь с табурета, — делов-то, обувь. Колодки есть, и дратва, клей хороший. А что, туфли себе хочешь? То дорого стоит. Как вот платья вы у портних шьете. Так и обувку. Вон цех есть целый, там заказуют по меркам.
— Там не такое, — возразила Ленка.
В цеху она была. Мама для Светищи решила как-то заказать зимние сапожки, и Ленка увязалась. В унылой комнате за стеклом стояли ряды страшных черных сапог и ботов, и висели куски кожи, тоже черные, сухие даже на вид. Мама долго препиралась с невнимательной теткой, пока та не захлопнула журнал, куда всех записывала. Поднялась и сказала, тут чего вы хотите женщина, такого не было и не бывает. На витрине все модели, уж выберите и шейте.
— Модели, — возмущалась мама, таща дочерей через рынок домой, — таких моделей полный универмаг, никто не берет, кандалы кандалами. Почем щавель у вас? А редиска?
— Не туфли, — сказала Ленка, разминая такую ласковую к пальцам кожу, — сандалии, такие, с ремешочками.
Вадик пожал плечами, черно-седые брови сыграли на лбу сложный рисунок, поднимаясь, хмурясь, снова поднимаясь.
— Та шо тебе сандали? Большая уже девка.
— Не такие. А давай я привезу. Покажу.
Кожа, прильнувшая к руке, уже показывала ей пару волшебных, невероятной красоты греческих крылатых сандаликов, точно таких, как дремали в глянцевой коробке. Только эти, настоящие, сидели на ленкиных босых ступнях, охватывая щиколотки, вились по икрам вишневыми змейками.
Мужчина снова пожал плечами, ответил настороженно и неохотно, не глядя на Ленкино пылающее лицо:
— Та время где брать? Работы ж вагон. Ну, вези, покажешь.
— Когда? Ты по сменам же. Когда теперь? А если научить меня, чтоб сама, сможешь?
Ленка шагнула ближе, потом спохватилась, что все еще держит в руках лоскут и с сожалением его положила, погладила, запоминая прикосновение.
— Сутками я. Вчера днем заступил, сегодня значит, уйду и потом уже в четверг.
— Я приеду, — строго сказала Ленка, заторопилась, выскочила, хватая олину сумку, — ты смотри, я приеду в четверг, после школы, да? Привезу. Скажешь, сколько стоит. И кожа. Эта вот. Ты ее никуда не используешь, Вадик?
— Ты чего такая дерганая? — возмутился Вадик, идя рядом к выходу, — да пять лет валяется, куда я ее щас.
— Мало ли. Вдруг мне и сразу тоже кому-то еще. Так бывает. Я когда чего-то хочу, то рядом сразу начинают такое хотеть. Многие. Как-то я видно, заразительно хочу.
— Чего? На лучше, скорми кобелю, чтоб признал.
Вадик сунул ей кусок хлеба, густо намазанного маслом. Ленка засмеялась, сбежав по ступеньке и садясь на корточки рядом с Юпитером, а тот почти лег, разевая красную мокрую пасть и умильно-жарко дыша, зачавкал, роняя с клыков крошки и подхватывая их.
— Ничего. Все нормально. Спасибо, Вадик. Юпитер, ты классный псище.
Утраченную было сумку Ленка отвезла Рыбке, передала на пороге, слушая детские крики и раздраженный голос старшей Олиной сестры. И медленно ушла домой, волоча ноги, которые туда идти никак не хотели.
Комната, которую она совсем недавно боялась потерять, если уедет учиться, и которая из того своего состояния казалась такой уютной, такой ее личной комнатой-убежищем, стала пугать. Будто она сундук, набитый нехорошим хламом. Там на полке за книгами лежит смятое письмо от Валика Панча, и в нем фотография. Ленка хотела ее выбросить, но не хотела даже отодвигать книги, чтоб взять письмо. И решила выбросить пока из головы. Не слишком получалось, казалось ей, что письмо лежит не только на полке, но и в ее голове, где-то за ухом, и там мешает и давит. Но все равно это было проще, чем снова доставать конверт, а вдруг боль из ноющей станет острой.
А еще из комнаты был виден Пашкин балкон. И это было еще невыносимее. Оказывается, пока она ездила, попадая с Олей во всякие приключения, даже радовалась солнышку и смеялась тому, что лохматый Шарик оказался Юпитером, это был не конец, она только слегка отвлеклась, но вот сейчас зайдет и сразу… Все это, что было недавно. И голос Пашкиного отца, его такое честное и одновременно насквозь поспешно лживое лицо, причем Ленка вполне понимает, он не виноват, и потому вспоминать лицо еще паршивее. А за этим воспоминанием упорно маячит другое, о том, как сваливались с голой талии Пашкины джинсы, когда поднялся с корточек и пошел к ней, от закрытого шторой окна. Хуже всего было вспоминать, как она в своей комнате ложилась, специально перекладывая подушку — видеть в своем окне его окно. И ей становилось теплее, думала — там человек, которому она важна, который думает и мыслями ее бережет.
Наверное, сама виновата, думала Ленка, войдя, кивая домашним, маме, что выглянула из кухни, Светке, которая вышла из ванной, прижимая ко рту полотенце и быстро проскочила в комнату. Наверное, в высокопарных словах о любви что-то есть, а вот не любишь, нефиг давать всяким Пашкам. Но тут же возражала сама себе, сердясь, закрываясь в комнате, и под взглядом нарисованной на двери блондинки, валясь на диван и стаскивая вельветки, тоже мне, значит надеяться на тепло и участие можно только с тем, кого любишь? А другие, значит, будут на голову какать?
Это было похоже на картинку, которая ее всегда сердила и раздражала: выйдет из автобуса молодой человек и, глядя поверх выпадающих кособоких охающих бабок и пыхтящих толстух на свою личную избранницу, ждет, чтоб руку подать именно ей. Значит, если ты моя, я с тобой хороший. А с другими можно как угодно. Но это неправильно! Нельзя быть хорошим человеком наполовину!
Уже в спортивных штанах и свитере она ушла к креслу, вытащила коробку с сандаликами и села на диван, вынимая обувку из хрустящей бумаги. Надо же, кожа совсем такая. Скорее бы четверг.
Глава 22
Апрель кончался и Ленка радовалась этому. Ей было странно думать, что кто-то любит весну, как ее можно любить, если самые приятные весенние месяцы состоят из подготовки к экзаменам, школьной нервотрепки, и значит, домашней нервотрепки тоже. Лето — другое дело. Летом не нужно спешить, оно большое и все целиком твое.
И ты думала, ка-ак поездим по дальним пляжам, язвительно подсказал Ленке внутренний голос, и она усмехнулась. Да уж. Были такие планы, но лето еще не началось, а планам уже конец. Но все равно, скорее бы кончалась эта суматошная весна, и скорее бы все вокруг оставило Ленку в покое. Пашкино окно, молчание Панча, мамины громкие переживания, скандалы Светищи и Жорика, которые вспыхивали чаще и чаще, да еще папино тихое пьянство, да лучше бы орал и бил посуду, думала Ленка, страдальчески сводя брови, когда заходила в кухню, а он там сидит, промахиваясь окурком мимо пепельницы, и улыбается, то ли ей, то ли своим мыслям, моргает, как кролик.
Ей временами хотелось папу убить, так сильно она его жалела и одновременно почти ненавидела, за то, что сидит, такой слабый, и вроде бы не человек, а так — ушел в рейс, заработал денег, которые тут же улетели, и сидит, ждет следующего рейса.
Скорее бы лето. Папа уйдет в рейс. Школа кончится, можно будет ездить на море с Рыбкой и Семки. Если они не ускачут со своими… с кем-нибудь, в общем.
Стоя в автобусе, Ленка прислушалась к своим ощущениям. Они ее удивляли. Всегда боялась уходить куда-то одна. Цеплялась за Рыбку, которая сразу же устремлялась вперед и командовала прогулкой. Или брала с собой Семачки, которая, наоборот, тащилась сзади, жалуясь и тормозя, и было так удобно все делать не для себя, а для Вики. А сейчас ей подумалось, вот хорошо бы одной, совсем-совсем одной и там, где никого. Где не нужно спрашивать время, и просить «пробейте билетик» и «вы сходите, женщина?» Не нужно утром думать, с каким лицом выйти в кухню и что маме сказать, или как говорить с Жориком. И так далее.
Она ехала в сторожку к Вадику, уже в третий раз, и ей стали нравиться эти одинокие поездки. Хотя сначала Ленка попыталась уломать Рыбку, поехать вместе. Но та отказалась решительно.
— Нафига он мне? — возмутилась Оля, сидя на диване с поджатыми ногами и тараща глаз в маленькое зеркальце, — блин, тушь кончается, жалко!
— Плюнь, — посоветовала Ленка.
— Плювала, — согласилась Рыбка, но сложила губы и плюнула в открытый цилиндрик, повозила там щеточкой, — Ленк, а поставь эту вот. Ну, эту вот, та-та-та-тататата… где щелкает.
— Угу, — Ленка сползла с дивана и, прижимая к боку локтем щетку для волос, вытащила пластинку из потрепанного красного пакета с Эйфелевой башней, — только не татата, а «Воздушная кукуруза» называется.
— Та-та-тата, та-та-та, — согласилась Оля, — и чего ты наладилась к этому Вадику, он такое страшко, ужас. И старый.
— Оль. Мне надо, чтоб научил. И хорошо, что старый, я же по делу.
— Смотри, жена его приедет, она тебе расскажет, шо там по делу.
Ленка пожала плечами. Вадику было, ну, наверное, лет сорок, а может и пятьдесят, не поймешь, и еще он такой — дурацкий. Бывают дядьки вполне симпатичные, даже можно и глазки состроить, но Вадик…
Так что уже в третий раз Ленка ехала одна. Думала о вчерашнем визите Пашки.
Да, он к ней пришел. Чем удивил несказанно. Не позвонил по телефону, а просто дилинь-дилинь в дверь, и Светища прокричала из коридора:
— Летка, к тебе тут красавчик! Сосед который.
И тут же мамин голос — такой милый:
— Паша, Пашенька, здравствуй! Как мама?
Ленка так растерялась, что встала с дивана с пересохшим горлом, и застыла. А он сунул в приоткрытую дверь радостное лицо, одарил улыбкой, потом вошел, закрывая двери спиной. Ленка деревянно села, беря в руки раскрытую книгу.
— Привет, Ленуся, о, учишься, что ли?
Пашка уселся в кресло напротив, поерзал, вытягивая ноги и устраиваясь удобнее. Но через минуту вскочил и пересел на диван, отбирая у Ленки книжку.
— У нас экзамены, — хрипло ответила она, казнясь, что не получается язвительно и быстро: ты и забыл, я ж еще школьница.
— Та сдашь, — махнул рукой гость, — на второй срок не оставят. Соскучился я, Ленуся. Ты чего не приходишь ко мне?
У Ленки сам собой открылся рот. А Пашкина рука уже обнимала ее плечи, притискивая к себе. Он даже не спросит, случились ли у нее месячные! А лезет, обнимается. И она — приходить к нему? После того как обманул, через двери?
— Понимаешь, — задушевно сказал Пашка, — такой у меня характер, Ленуся, мне нужно иногда быть совсем одному. Вот совсем. И тогда я молчу, сил нет говорить. Просто ступор находит. А после думаю, а где моя Ленка? Скучал я.
Губы касались ее горящего уха, а рука, обнимая плечи, уже дотянулась к пуговицам вязаной домашней кофты, расстегивая верхнюю. И другая рука, пальцами на бедре, и не снаружи, а будто невзначай…
— У меня праздники, тогда еще, были, — сказала Ленка, убирая его руку со своей ноги, — я вообще-то к тебе шла рассказать, — приврала она для гармонии.
— Отлично, — кивнул Пашка, — ну видишь, все устроилось.
Они замолчали оба. Пашка тепло дышал рядом с ухом, и легкая прядка, выбившись из Ленкиного хвоста, щекотала шею. Но рука на плече лежала неподвижно. Ленка чутко стерегла движение, подумав — пусть пошевелит пальцами, сразу отодвинусь.
— Ленуся, — сказал он совсем близко, — Ле-ну-ся… Ну, ты что? Давай, а? Тихонько, чтоб твои не услышали. Так тебя хочу…
Ленка задержала дыхание, прислушиваясь к себе. Внутри все молчало, будто там камень. И вдруг она поняла, внезапно и остро — за десятком сантиметров бетона в кухне сидит отец. Курит, покашливая и глядя в окно. Или в газету. А она тут сейчас начнет.
— Уйди, — сказала она Пашке. И отодвинулась. Диван спел пружиной в старом нутре.
— Ты совсем-совсем меня не хочешь? — печально удивился Пашка.
— Я? — слегка невпопад удивилась Ленка, думая, он, что совсем дурак? С чего бы ей хотеть, он что для этого сделал-то?
— Ленусь…
— Подожди! — она резко пересела еще дальше, повернулась, чтоб видеть его целиком.
Новые какие-то черные джинсы в обтяжку, по швам крупно отстроченные белой ниткой. Свитер, в большую клетку, мягкий, он такие любит, дорогой, импортный. Темные волосы, стриженые. И черные, как маслины, глаза. Это пишут так — маслины, а Ленка маслин живьем никогда не видела. Ну… как темные сливы, наверное. Хотя сливы — так пишут про нос, у алкашей. Она спохватилась, что думает не то. И подняла руку, останавливая его.
— Подожди. Так мы с тобой что, еще встречаемся? То есть, я — твоя девушка, а ты мой парень?
Ей нужно было это уточнить, перед тем, как сказать Пашке — все кончилось, еще тогда. Чтоб он, дурак, это понял, если до сих пор не понимает.
Пашка улыбнулся, так печально и мудро, что ей захотелось звездануть его диванной подушкой. И встал, одергивая свитер.
— Совсем ты, Ленуся, еще дите. Ничего не поняла. Ну, так что? Нет?
— Нет, конечно, — снова удивилась Ленка, глядя на него снизу.
Пашка нагнулся и чмокнул ее в щеку.
— Тогда пока. Будь счастлива, Ленуся Малая.
Она так и не встала, сидела, глядя на пустое кресло, а в коридоре смеялась мама, передавая приветы Лизавете Павловне, и после сунула в приоткрытую дверь голову, как давеча Пашка:
— Лена, ну ты могла бы проводить гостя, это совершенно невежливо, так поступать. Как ты.
Ей захотелось сказать в ответ что-то грубое, чтоб мать поняла, и перестала укоризненно качать головой. Но Ленка промолчала.
В сторожке, где двери были распахнуты в двор, полный зеленой травы и желтых, как солнце, нарциссов, ее ждала старая кастрюлька с клеем, мотки дратвы и разрезанный на полосы и детали кусок прекрасной вишневой кожи. И Ленка, потрепав по косматой голове Юпитера-Шарика, ушла внутрь, уже привычно подхватывая серый фартук и повязывая его передником вокруг пояса. Кинула сумку на тахту, на пороге маленькой комнаты поздоровалась с Вадиком, хмурым от сильного похмелья.
— Привет! Сегодня подошвы, да?
— Вот настырная какая, — пробормотал Вадик, глотая остывший чай из эмалированной кружки, — думал, на денек тебя и хватит.
— Как на денек? — удивилась Ленка, садясь у большого стола и придвигая к себе вырезанные из кожи детальки, — уже покромсано все, куда теперь бросать?
— Хм, — Вадик, кажется, удивился в ответ, но не стал многословить. Подошел, нависая и тыкая кривым коричневым пальцем.
— Тута намажешь, пусть сохнет. И эту вот. А пока сохнет, вот тебе просечка, наметь дырки, и сиди пробивай. Ты ж вручную хотишь, так? Толстой ниткой? Угу. И воск вот он, кусок. Сюда положь, нитку дави и тяни. Чтоб вощеная стала.
Ленка кивнула. Небрежно скрутив волосы в жгут, стянула резинкой, кинула на спину, чтоб не мешали. Улыбаясь, устроила на коленках кулек с воском и стала работать.
Совсем вечером, уставшая и довольная, ехала обратно, уютно сидя у черного автобусного стекла. Вадик изрядно поднапился, но делал он это тихо. Просто ушел в переднюю комнату сторожки, там грюкал и звякал, кряхтел, сам себе произносил тост, и даже разок сам с собой поспорил. Когда в первый раз так было, она, конечно, испугалась. Ходила за ним, пытаясь уговорить, пусть потерпит пару часов, она уедет, а ему вся ночь, но Вадик нахмурил брови, налил себе в кружку вонючего самогона, тут же выхлебал и с вызовом уставился на Ленку маленькими, сразу покрасневшими глазами. Она и отстала, совсем было собралась домой, мрачно стаскивая передник. Но села начертить еще стельки для подошовок и про Вадика забыла, а он являлся в дверях, качаясь, как лунатик, подходил, тыкая кривым пальцем и дыша сивухой, говорил дельные замечания. Она кивала, отворачивая нос. А после мирно продолжали каждый свое занятие.
Так что сегодня она и волноваться не стала. Даже поработала дольше, спохватилась, а на улице совсем уже темно, быстро попрощалась и убежала по обрыву наверх, осторожно ступая по косым ступенькам старой лестницы, подвинутой зимним оползнем.
В черном стекле автобусного окна ей виделись новые сандалетки, их и правда уже можно было разглядеть, в куче вырезанных стелек и в аккуратно сложенных длинных ремешках. Хотелось сделать поскорее, но одновременно было так здорово сидеть, прилаживая тяжелую металлическую трубочку к метке, стукать сапожным молотком, четко и сильно, чтоб сразу. И видеть, как появляется ряд мелких дырочек, в которые ляжет крученая нитка, упрямая от воска. А потом Ленка сделает смешные крылышки. Вадик научит ее ставить кнопки. И можно будет сделать еще сандалеты, другие. По-новому переплести ремешки, и чтоб на щиколотке они застегивались на несколько одинаковых пряжек, их нигде не достать, но Вадик обещал сделать. Или можно вырезать их из очень плотной кожи другого цвета.
Надо все это нарисовать, решила Ленка. Пусть будет отдельный альбом, с моделями, и коробка с шаблонами. А Ленка тогда будет мастером. Малая — сапожник по сандалетам… Смешно. Но ей нравится.
На автовокзале было почти пусто, автобусы стояли темные, и у платформы один рычал, отъезжая.
Ленка внимательно оглядела лавочки, еле видные в тени козырьков. Быстро пошла мимо, радуясь пустоте, и немножко труся, что сейчас бежать одной через темный проулок вдоль забора детского сада.
— Лен? — негромкий голос из темноты остановил и Ленка завертела головой.
— Викуся? Блин, напугала. Ты чего тут одна?
Викочка ступила на свет, маня ее рукой, и тут же скрылась снова в тени. Ленка подошла, села рядом на крайнюю лавку у белого бока газетного киоска. Поднесла руку к глазам, пытаясь увидеть часы.
— Чего кукуешь? Прячешься от кого-то? Домой не идешь?
— Щас, — напряженным голосом ответила Викочка, — а подожди со мной, Лен? Минут десять, а? И пойдем вместе.
— Семачки, только если десять. Меня и так мать сожрет, я сегодня дома почти не была.
Ленка вытянула ноги, как же устали от каблуков, гудят. И сунув руку под рубашку, расстегнула пуговицу на штанах. Вдохнула, отпуская живот.
— Фу, штаны надавили. А чего ждем?
— Валек, — сказала Викочка, — а у тебя сигаретки нету? Жалко. Я бы покурила.
— Не нужно, — отмела Ленка, — в темноте видно будет, пристанут, ну и что Валек твой?
— Ну… Он сперва меня пригласил. Сегодня. А я уже собралась, а мне звонит Танюха Косая. С нашего класса которая. С прыщами.
— Угу. Знаю.
— Вот, — монотонно сказала Викочка, — звонит она мне. Какую-то фигню рассказывает. А потом говорит, а займи мне кофточку, синюю. Я удивилась, мы с ней не дружим даже, чего я ей буду. А она говорит, а то меня Валек пригласил, на свидание, сегодня, ну ты знаешь Валька, да?… Понимаешь, она специально мне позвонила, чтоб рассказать, он ее пригласил. И придумала кофточку эту. Вот падла, да?
— И что, не пришел, что ли? Вот гад, — с чувством сказала Ленка.
— Он тоже мне позвонил, — так же монотонно продолжила Викочка, — и сказал, ой, Викуся, у меня с братаном стрелка, я сегодня не могу. Бай-бай. Вот скотина, а?
— Блин, Семачки. Так ты сидишь выслеживаешь, что ли? Ну, ты шерлок холмс. Нафига? Пусть лазит со своей Косой, если такой дурак. Найдешь себе получше этого придурка.
Викочка тоже вытянула ноги, в темноте белея босоножками под отворотами джинсов. В полумраке блеснули глаза. От нее сильно пахло сладкими духами.
— Как же. Найду. Это вы у нас супер-звезды, шорты-комбезы. Парней меняешь, как перчатки, все девки в классе говорят, ну твоя Малая ваще, то у нее один, то другой. А я не такая… красивая. Мне хоть кого бы.
— Фу. Викуся, ерунду мелешь. Я бы и рада, чтоб один. Я виновата, что ли, что они все такие козлы? У тебя Валек козел, у меня вот Пашка.
— А что Пашка? — внезапно переспросила Вика и Ленке не очень понравился чересчур жадный ее интерес.
Она пожала плечами, ответила неопределенно:
— Да всякая хрень с ним. В общем, ну его. И Валька твоего, ну его. Пошли лучше домой. Завтра хочешь, метнемся на дискарь. Типа проводим апрель. Без парней, втроем. А? А второго у нас маевочка, прикинь, класс какой, утопаем аж на Азов.
— Угу. А Валек тоже припрется и будет там с Танюхой лизаться, чтоб я видела.
— Ну… — Ленка хотела снова посоветовать плюнуть, но подумала, так и слюней не хватит у бедной Семачки.
К платформе подкатил автобус, желтенький изнутри, как елочная игрушка. В окошках торчали головы редких пассажиров, и еще трое, толкаясь, взошли, рассаживаясь. Восьмерка, отметила Ленка, собираясь вставать и тянуть Семачки за собой. Но та вскочила сама. И кинулась к автобусу, к задней его двери, которая уже закрывалась, а в переднюю только что вошел, оказывается, Валек, таща за руку Таньку Косую, в короткой юбке и большой куртке с широкими плечами.
— А, — сказала Ленка, сунув руку к расстегнутой молнии на штанах и глядя, как, болтая внутри пассажиров и Семачки на задней площадке, восьмерка удаляется по освещенной фонарями дороге.
— Ну и ладно, — сердито прошептала, держа пуговицу. И замерла, когда свет фонарей перекрыли два силуэта. Большие и черные, с широкими плечами и невидимыми против света лицами.
— Это хыто это у нас тут сидит, — спел хриплый голос, от которого у нее сбилось сердце, — это котик-дискотик у нас тута сидит? Шо, Малая, снова куда собралась ехать? А автобусы ночью не ходют. Так что попала ты, Малая.
— Чипер, не шуми, там за курганом ментовка, — посоветовал второй голос, который Ленка не узнала, и рядом с ней присел на лавку тяжелый силуэт, пахнуло в ее сторону винным перегаром и куревом, на плечо легла рука.
— А мы с девочкой тихо-тихо посидим, — продолжил, обнимая и вытягивая свои ноги рядом, и она подумала ватно, тут Семачки сидела, недавно совсем. И вот…
Ужасным было все. И то, что вокруг совершенная уже ночная пустота, нет людей, только редкие фонари роняют на асфальт размытую желтизну. И то, что Чипер встал напротив, почти наступая на ее босоножки, сунул руки в карманы куртки и невидимыми на темном лице глазами следил за каждым движением. А еще рядом с киоском возникли неясные тени, прикрытые белой стенкой, и Ленка встрепенулась было, стараясь незаметно, но съежилась, когда оттуда чей-то голос какую-то пацанскую ерунду сказал ее собеседникам. Что-то насчет оставить покурить. И за киоском негромко, но уверенно засмеялись, сплевывая.
А самым ужасным было то, что пока ерзала на лавке, расстегнутые вельветки сползли с талии, теперь не вскочишь, чтоб удрать, прорываясь мимо Чипера, а надо сперва совать руки под рубашку, ловить пуговицу, застегивать молнию доверху, чтоб не потерять на бегу тесные джинсы.
Она тихо перевела дух и незаметно одной рукой дернула застежку, стараясь не шевелиться. Рука на плече прижала ее крепче.
— Погуляем, Малая? А то, что за фигня, с одними гуляешь, а с нами гребуешь?
Голос был немного знаком, но от страха Ленка никак не могла определить, где его слышала. Широкий парень, с круглой башкой, с невидимым в тени лицом.
— На хату заберем? — деловито предложил Чипер. Огрызнулся на говор за киоском, — та подожди, дай с девонькой полялякать. Да, котик? Ты мне еще должна, сучка мелкая. За свои выебоны. Думала что? Если гастроль устроила у нас, то я тебя в Керчухе не найду? Нашел. И у Юрика узнавал, он мне тебя и подарил, ясно?
Юрик. Мысли у Ленки запрыгали, спотыкаясь и цепляясь друг за друга. Глаза быстро двигались, без надежды шаря по светлым и черным пятнам платформы. Это он про Боку. Подарил. Бока ее подарил? Чиперу?
— Я, — сказала она звонким голосом, не зная еще, что скажет дальше, — я… я закричу.
— Ага, — согласился сидящий, — давай, ага.
И вдруг тонким голосом, издеваясь, выкрикнул такое, от чего у Ленки похолодела спина под рубашкой.
— Пусти! — пропищал, копируя девичий испуганный голос, — пусти, мне больно!
Ленка дернулась, нагибаясь, чтоб вырваться из его руки. Вскочила, держа рукой пояс штанов, а по другой сползала с плеча сумка на ремне, скользила по рукаву курточки. Чипер, смеясь, толкнул ее в грудь, ступая ближе. И тоже передразнил, повторяя те же слова, а Ленка, с разбухшей от непонимания головой не могла сообразить, откуда они и почему это так, так ужасно…
— Мне бо-ольно! Пусти-и! Да, курвочка? Куда собралась? А ну сидеть! Щас поедем.
От грубого толчка Ленка снова упала на лавку, сумка стукнула по колену. И почти не слыша себя, ответила хриплым голосом:
— Меня Кинг ждет. Сейчас прям. Не поеду я.
— Чего? — удивился сидящий и встал рядом с Чипером, оказался почти на голову его ниже. И Ленка вспомнила, в степи, вместе с Бокой, тот, похожий на старый холодильник, такой же приземистый и неповоротливый. Без имени.
— Гыде ждет? Не вижу! — приземистый закрутил головой, демонстрируя — ищет Кинга.
— Дома, у себя.
Парни заржали, закидывая головы. Передразнивая каждое слово, смеялись еще, чернея плечами и оттопыренными локтями.
— Ах до-ома! И де же той дом?
— Котян, — позвал голос из-за киоска, — мы к бабе Зине. Вы чо, не идете?
— Пиздуйте, — распорядился приземистый Котян, — бабе Зине скажи, пусть баллончик приханырит. Нам.
Голоса удалились. Ленка крепче повесила на плечо сумку.
— Ну? — снова принялся за нее Чипер, — вона автобус наш, сама пойдешь?
Она встала, держа на боку под курткой злополучные джинсы.
— Мне тогда нужно сказать. Сереже. Что вы меня забираете. Хочешь если, пойдем, я скажу ему. Это недалеко.
— Ой-ой-ой, — заблажил Котян, помахивая рукой, как бы приглашая ее выйти на свет, — ну-ну-ну…
Ленка ступила между парнями и пошла, неровно дыша острым, будто раскаленным воздухом. Оба преследователя пристроились по бокам, шли вальяжно, перекидываясь через ее голову ленивыми словами. А она, не чувствуя ног, с отчаянной надеждой смотрела на желтые квадратики окон в первой пятиэтажке. Свет горел и в окнах первого этажа крайнего подъезда, где дежурил участковый милиционер, но там были глухо закрыты двери, и парни благоразумно опасаясь, отжимали ее подальше от тротуара, ведущего к ступенькам.
— Заорешь, — спокойно, но с угрозой в голосе посоветовал Чипер, — мы свалим быстро, а башку тебе оторвем. Успеем.
— Чего я буду орать, — сипло возразила Ленка, стараясь, чтоб голос не дрожал, — меня Кинг ждет.
Парни снова издевательски заржали.
За углом первого дома открылся второй, за ним — угол третьего, и дерево, в облетающих белых цветах. И за ветками, что ложились на балкон, над заветной их «серединкой», мягко горели два окна. У Ленки глухо стукнуло сердце, так сильно, что она чуть не упала на подгибающихся ногах. Он дома. А вдруг не один? А вдруг вообще не откроет?
— Ну, — угрожающе начал Котян, но она перебила, указывая на темные двери в подъезд, — пришли уже. Вот.
Вместе они вошли в тихую прохладную темноту, где сверху, со второго этажа падал рассеченный тенями свет жиденькой лампы. И Ленка, закусив губу, стала подниматься по ступенькам. Кроме ее шагов других не было слышно, и она поняла — остались внизу.
Рядом с пухлой кожаной дверью коротко вдохнула и пальцем придавила круглую кнопку звонка.
Внизу стихли насмешливые голоса и наступила тишина, настороженная, полная, и в ней — Ленкин страх, надежда и подступающее отчаяние, а еще знание — они ждут там внизу, и никуда не уйдут. Никуда.
Палец снова прижал кнопку, звонок опять отозвался изнутри. И (у Ленки задрожали ноги) за ним послышались шаги.
— Кто? — сказал недовольный голос.
— Это… это я. Сережа?
— Кто там?
Внизу стояла тишина.
— Лена. Сереж, это Леник-Оленик, Малая, Ленник польского…
Она замолчала, потому что замки, лязгая, стали открываться, и одновременно внизу волной прошел шепот, шорохи, а в проеме показалась высокая фигура с глянцево блеснувшими голыми плечами. И улыбка под короткими усами. А еще голос, его голос.
— Леник, заячий хвостик! Ничего себе.
— Там, — сказала она, а Кинг уже брал ее руку, затягивая внутрь, — там внизу, они за мной.
— Стой тут, — распорядился Кинг, выходя на площадку. Перегнулся через перила.
Ленка услышала резкий и дробный топот, звон перил, хлопание двери, застонавшей разболтанной пружиной.
— Свалили, — прокомментировал Кинг и вошел, тесня ее внутрь и закрывая дверь, — ну ты чумичка, солнышко-летичко, ты кого притащила ко мне? Я даже своим не рассказываю, что у меня тут хата. Бля, Леник, где ум?
Говоря, толкал ее в комнату, она шла, поворачиваясь и всхлипывая, пытаясь на ходу что-то ему объяснить, а еще страшно вдруг боясь, он наверное, не один, он совсем почти голый, на поясе белое полотенце с ромбами.
Но в комнате, освещенной торшером, таким же ужасным, какой доживал свой век у Ленки, с таким же плафоном из шелковых ленточек, сверкала стеклами мебельная стенка, вольготно раскинулась разложенная двуспальная кровать, вся в смятых простынях и подушках. И — никого.
Сережа усадил ее на край постели. Внимательно посмотрел на отчаянное лицо и засмеялся.
— Помолчи. Кофе будем пить. Ты кофе в турке любишь? Хочешь, раздевайся, ложись, я принесу.
— Нет, — дрожащим голосом сказала Ленка, складывая на груди руки, — извини, Сережа, нет, я…
— Разувайся. Пошли в кухню. Там все расскажешь.
Глава 23
В маленькой кухне, где больше двоих и не повернешься, горел газ, двумя голубыми венчиками на стильной, с коричневой эмалью, плите, накрытой квадратной воронкой вытяжки. Садясь, Ленка мельком вспомнила мамины мечтания, вытяжка была для нее роскошью, недостижимой, потому что вечно — то Светочке пальто, то для Ленки сапоги, и путевку дают в профкоме, хоть и недорого, но деньги. Деньги-деньги…
От горящего газа было тепло, почти жарко, а еще от того, что Кинг и правда, был почти голый, полотенце перетягивало мускулистый живот с кубиками мышц, и Ленка поспешно отвела глаза, когда сел рядом на табуретку, крепко расставляя сильные ноги. На широких плечах блестели капли воды, и, проводя ладонью, Кинг засмеялся:
— Из душа вытащила. С тренировки приехал, ну думаю, побуду сегодня монахом, как положено, спорт, ужин, сон. И вдруг дзынь-дзынь, доставка на дом.
Балагуря, тянулся, не вставая, свет послушно рисовал бугры бицепсов и плавно обводил грудь, укладывал блик на широкую спину, а Кинг брал жестянку, заглядывал в турку, повернувшись, открыл воду, сунул турку на плиту.
— Мне надо домой, — скорее сказала Ленка, — ты извини, что так. Мне правда, некуда было. Пристали. Хотели увезти.
— Что за перцы?
Встал, совсем рядом, чистый, с теплой кожей, пахнущей сильным здоровым мужчиной, не так, как пахли пацаны, пропотевшие в школьных пиджаках и мятых рубашках, или эти, уличные, с крепким перегаром и сигаретной вонью от курток, поверчивал турку за длинную деревянную ручку, карауля.
— Один с Бокой шарится. А другой, я в Феодосии, случайно. Ну и вот.
— Наш пострел везде поспел, да, Оленик? Повезло тебе. Я тут пару раз в неделю ночую, у меня еще хата, две комнаты, старый фонд. А это чисто так, сменял, предки помогли. Удобно, автовокзал, толкучка. И девочки рядышком, с секретиками. Чего не приходите больше, не сидите под балконом?
Ленка замялась. Но он ответил сам.
— Из-за меня, да? То были секреты, а теперь вдруг Кинг слушает, сверху. Ну, извините, порушил идиллию.
— А. Она сама. Все равно мы уже. Ну…
Он сел, наливая в чашечки кофе. Внимательно глянул Ленке в лицо. И медля договорить, она подумала, о глазах. Думала темные совсем, а оказывается, серые. Только ресницы такие густые, что тень от них.
— Начала, говори.
Ленка опустила глаза к чашке. Взяла чайную ложечку с крученой ручкой, с радостью отмечая — дрожь проходит.
— Мы, наверное, выросли. Уже втроем, как раньше, не получается собираться. Мешает то одно, то другое. И всякие начались секреты. Даже друг от друга.
— Леник, оставайся, — вдруг предложил Кинг.
Она дернулась, стукнув ложечкой о фарфор.
— Вместе заснем, утром проснемся. Ты просыпалась когда-нибудь, голая рядом с голым мужчиной, а? Такая сонная, теплая, лохматенькая. А я тебя утром съем. Чего смеешься? Или ты меня съешь. Кинем жребий.
У него были крупные зубы, нижние не очень ровные, и поэтому он был настоящим, не как в кино. И такая улыбка…
Внутри Ленки все стало освобождаться, будто ремни отпускались, которые до того были стянуты — не вздохнуть. И это было совсем не так, как с Валиком Панчем, когда наоборот, все сжималось, и казалось, она или растает совсем или взорвется, звеня на весь космос.
«А про него не смей», вдруг сказал в голове жесткий голос, не смей про него тут. Нельзя. Это разные миры, Малая.
Но даже быстрая мысль о Панче не помешала тому, что все вдруг становилось на места, почему-то. И Кинг, который сидел и смеялся, с удовольствием разглядывая ее белые волосы облаком, и плечи под клетчатой рубашечкой, был таким — настоящим, как надо. Она подумала о широкой постели, его постели, в которой Ленка проснется, совсем свободная, от всего, и это будет их собственное королевство…
— Мне нельзя, — ответила, держа пальцы на горячей чашке, — у нас дома телефон, не работает. Мама волнуется. Побежит еще в милицию. Я бы хотела, Сережа. Но сегодня никак.
Спокойно соврав про телефон, подняла чашечку и отпила густого сладкого кофе, горячего, но не обжигающего. Как надо.
Темные брови поднялись, серые глаза снова медленно прошлись по ее лицу, и она не отвернулась, улыбаясь в ответ.
— Вот как, — протянул Кинг, тоже держа чашечку, — значит, свершилось и случилось. И кто счастливчик?
— А ты как понял?
— Легко понять, Леник. Другая стала. И я тебе вот что скажу. Из тебя такая получится женщина, ох, заяц, даже подумать страшно.
— Ага, уж ты так испугался. Всем, наверное, это говоришь.
Сережа поморщился, останавливая ее поднятой перед собой ладонью.
— А не надо этого, как у всех. Ты странная, вот и будь такой. Поняла?
Вот что, поняла Ленка. Вот откуда это, что почуяла. Тут ей можно быть такой, какая она есть.
— Сережа, я не всегда бываю странной, — она пожала плечами и засмеялась. Так было хорошо смеяться, тут с ним, — я бываю самой обыкновенной. Это ведь тоже я?
Он перестал улыбаться и посмотрел опять, очень внимательно. Ленка все же смутилась и ладошкой помахала перед своим лицом:
— У меня на носу муха? А рожа не в семачках?
— Что? А! — он расхохотался, упирая в пол босые ноги.
Они медленно шли мимо желтых окон, под ветками деревьев, а сбоку проезжали редкие машины, пробираясь к поворотам в длинные дворы. И Ленка, кивая в ответ на какие-то Кинга вопросы, старалась не вспоминать о последних десяти минутах, когда уже выпили кофе, и он ушел в комнату, вернулся, застегивая новенькие джинсы «Монтана», дорогущие, а она выдохнула, радуясь, что все так спокойно и уже домой. Встала, поправляя волосы и протягивая руку за сумкой. И тут он ее обнял, прижимая к груди, мягко, но сильно. Сказал в макушку, уверенно подталкивая в комнату, где белел из темноты угол разостланной широкой постели:
— Ну, как я тебя отпущу, а? Такую вот. Ведь сама прибежала, Леник…
Он был такой большой, по сравнению с ее ростом, голос шел сверху и еще она слышала его ухом, мягко прижатым к распахнутой коттоновой рубашке, и ее шаги путались с его шагами. Она испугалась, чутко прослеживая обостренными нервами, что сейчас можно, а чего никак нельзя, поняла — нельзя вырываться и закричать нельзя, а может ей и не хотелось. Но смутно цепляясь за мысль, есть ведь и другие способы отвертеться, попыталась.
— Сережа. У меня сейчас, вот только что. Из-за моего парня. Задержка. Да подожди, минуточку совсем. Две недели. Ну, представь.
— Испугалась, да? — голос был ближе, оказалось, они уже снова сидели там, на простынях, а торшер выключен, в окно, которое на балкон, льется неяркий белесый свет, квадратами на пол и подушку. Свет упал на ее лицо, потому что голова — на подушке, а потом стемнился, закрытый его головой над ее лицом.
— Плохо, — сказал Сережа, — бедная Леник, плохо, и у меня нет резинок, вот незадача.
Она попыталась подняться, внимательно следя за своими движениями, чтоб не дергаться резко, потому что испугалась не того, что может случиться, если она подчинится, а того, если вдруг вырвется. — Он станет другим. Таким же, как пакостно мудрый Пашка, или Бока с его ухмылочкой, Чипер с угрозами… А она останется совсем одна. Без никого. Этого она не хотела, никак не хотела и не могла ему позволить. Поднимала голову мягко, чуть отводя в сторону, положив руку на его горячий бок над ремнем джинсов.
— Не надо, — сказала шепотом, снова откидываясь под уверенным нажимом сильной руки, — Сережа, ну…
— А можно и по-другому, — ответил он, и Ленка услышала, в тишине темной комнаты, разбавленной совсем далекими звуками, лаем собак, неясным шумом автомашин, а еще телевизор где-то…, тихо, но так четко — металлический шепот молнии на его джинсах. И руки на ее плечах.
— Никакого риска, маленькая. Ну? Да не бойся, я осторожно. В первый раз, да?
Мимо проехала машина, свет проплыл, показал и уплыл дальше, свернул за угол.
— Так и сказал? — сильная ладонь сжала ее пальцы, встряхнула, — эй, о чем задумалась?
— Что? Да. Что ему нужно иногда одному. Характер…
— Поверила?
Он шел ровно, уверенно, иногда поворачивал к ней белеющее в сумраке лицо. Ленка покачала головой. Очень хотелось вытереть рот, но правая рука была у него в пальцах, а левая на ремне сумки.
— Нет.
— Правильно. Это общая отмазка, Еленик. Морду вдохновенную, ах, я такой весь непонятый, ах мне нужно одному. Если хоть раз такое сказал, гони на хуй. Поняла?
Она промолчала. И Кинг, шагая и сжимая ее пальцы, засмеялся.
— Ерунду говорю. Насчет гони. И наплевать. Знаешь почему? Я завтра в аптеку. Резинки будут. Тебе позвоню и встретимся.
— Завтра не могу, — испуганно сказала Ленка, — я и так что-то загуляла, ну не в том смысле, а…
— С мыслями надо собраться, понял. И дома побыть хорошей девочкой. Тоже понял.
Он остановился на углу, когда она тоже остановилась, поднимая к нему лицо. Почти под ногами мелькнул кот, непонятного цвета.
— В темноте все кошки серы, — пробормотала Ленка любимую их со Светищей поговорку, откуда-то из книжек выуженную несколько лет назад.
— Леник, я не Пашка твой ебанутый, кидать тебя после пяти минут первого секса не планирую. Встретимся снова, поговорим уже серьезно. О нас. И там будет видно.
Отпустил ее руку и обеими ладонями взял лицо, поворачивая к своему, опущенному к ней. Сказал, рассматривая:
— Эдакая девочка. Экая-разэкая девочка, беленькая, а глаза серьезные, и боятся. Беги, Леник. Никто тебя не обидит теперь, ясно?
Она закрыла серьезные испуганные глаза — и как разглядел в темноте, и они поцеловались. Ей было странно целоваться и стыдно, после того, что было там, в темной комнате. Но сам захотел, сейчас.
Кивнула и ушла, очень резко спиной ощущая мир, который вдруг начал вырастать и наполняться чем-то новым, странным на вкус и на ощупь, известным ей лишь по случайным неясным фразам из книг, и тайным разговорам с девчонками, которые или знали еще меньше, или болтали не о том, будто выбирая из огромного мира какие-то крошки и мелочи, рассыпанные по полу. А впереди горело кухонное окно, и там был ее прежний мир, из которого Ленка неумолимо вырастала и даже захоти остаться, уже перестал ее принимать, выталкивая из себя… Мама хвалилась, что до восемнадцати лет играла в куклы. И ничего не знала до самой свадьбы с папой. Но после Ленка узнала, были и танцы, и сумасшедшие романы, и этот ее Артур, который бегал топиться, хорошо не добежал, а у мамы осталась его фотография — весь в аксельбантах и погонах, носатый и тонкошеий, а на обороте стихи… Папа с двумя семьями, двумя женщинами, которые рожали ему детей. И Светища с круглым животом, ругается с Жориком, который выходит в кухню в семейниках — дурак дураком, и смотрит на Ленку так, что его бы тоже — подушкой по башке.
Ленка вошла в подъезд, медленно привычно считая ступеньки. Семь шагов. Получается, ее собственный мир, из которого она вырастает, съежился до размеров комнаты, вернее, до письменного стола в ней, с раскрытыми учебниками. А еще до маминого отчаянного и невыполнимого желания, чтоб все было как надо и обязательно вовремя, и ничего ничему не мешало, а иначе — катастрофа.
Поворачивая ключ, Ленка улыбнулась и, наконец, спохватившись, поспешно вытерла ладонью немного саднящие губы. С мамой сильно что-то не так. Не может быть, чтоб весь мир вокруг был одной сплошной катастрофой. За исключением Ленки, которая одна еще не успела нагрешить, так полагает мама, потому что даже любимая Светища ее подвела. Но вот незадача, теперь уже и Ленка. Мама просто этого не знает.
И не узнает, постановила Ленка, включая в прихожей свет. А вот с папой обязательно нужно поговорить. Но когда он трезвый. Пусть расскажет ей, где сейчас эти Панченки, что делают и как поживают.
Она босиком прошла коридор и заглянула в кухню. Поморщилась от сизого дыма, пластами под круглой лампой на длинном шнуре с потолка.
— Пап, ну ты как паровоз. Светка теперь пассивный курильщик, да?
— Светка ваша еще, — сердито сказал отец и стал раскладывать газету, а та шуршала и мялась, не желая складываться.
Ленка подошла, морщась, отобрала огромный лист с черными заголовками, свернула, как надо и отдала обратно. Отвернулась и быстро ушла, кусая губы и злясь. За дверями родительской спальни слышался мамин голос, и по полу змеился шнур телефона. Там — Ирочка. Слушает мамины жалобы. А за дверью рядом музыка, какой-то рок, и тоже голоса.
Ленка зашла к себе и закрыла двери. Села на диван, рассматривая себя в дальнем зеркале. Шепотом сказала отражению:
— Как будто открытый космос. Вышла и еще никуда не дошла. Без скафандра.
Ей очень хотелось есть, но нужно было подождать, когда папа уйдет, открыть окно пошире, чтоб вышел дым. И она устроилась на диване с ногами, притихла, разрешая себе подумать о том, что случилось, и о том, что никак не желает случаться.
— Валик, — сказала шепотом, глядя как в зеркале шевельнулись губы, — Ва-лик… Панч. Петрушка мой любимый, Ленкина кукла, мальчик Валик, Валентин. Ты, блин, понимаешь, что я тебя все равно люблю? Или это, потому что мне страшно?
Она говорила и говорила, уже мысленно, губы не шевелились, а карие глаза пристально смотрели в ее карие глаза, и вместо уверенного лица Кинга видели бледное, с яркой улыбкой, лицо брата, и его темные, почти черные волосы, худые плечи, и длинные руки. Но Кинг, который не появлялся перед мысленным взором, был тут и был нужен, а Ленка, ощущая это, не понимала, почему так, но не особенно и хотела понимать.
Ей было семнадцать и многое из того, что делала, и что ощущала, срабатывало на уровне инстинктов, того тайного женского, что было, оказывается, сложено в ней и только-только просыпалось, и оно — вот такое, не переделать. И то, что странная любовь к дальнему мальчишке, которую нельзя прожить так, как сейчас можно прожить отношения с другими парнями, — она продолжает ее беречь, Ленка конечно не знала. Как не понимала и того, что оберегание бывает разное. Ей казалось, что именно любовь к Валику толкает ее на какие-то нынешние шаги, по дороге, указанной доктором Геной. Становись женщиной, сказал ей Гена, и увидишь, как умрет твоя детская любовь. Потому что она насквозь придумана вами обоими.
Но пока что детская, придуманная, по его словам, та никуда не ушла. Что ж, рассудила справедливая Ленка, конечно, не ушла, потому что мне еще ни разу не стало хорошо тут, после него. С Пашкой — сплошная противная хрень, с Кингом — все только начинается, если он не врет. И может быть, она уйдет, эта любовь, когда совершится то, о чем ей думалось, и о чем в унисон сказал Кинг — двое проснутся рядом, голые, теплые и смешные, без всякого стыда и неудобствий. Красивые и сильные. Которым есть о чем поговорить и которым весело и приятно вместе. Королевство Кинга и Леты.
Она думала, не так гладко, а разрозненными картинками, отдельными фразами и словами, снова картинками. И все мысленные слова относились к Сереже Кингу, а картинки — к мальчишке Валику Панчу.
Наконец, она устала. Переоделась и ушла в кухню, чтоб поужинать и лечь спать.
В кухне сидел Жорик. Для разнообразия в синем спортивном костюме, Светкином, с ромашкой, вышитой на кармане растянутой кофты. Ухмыльнулся и стал следить, как Ленка зажигает газ под сковородой с тушеной картошкой.
— А Светища где? — отрывисто спросила Ленка, поведя плечами, будто хотела стряхнуть его пристальный взгляд.
— Спать легла. Мне Эдик все мозги проел, про тебя спрашивал.
Ленка хмыкнула, мешая картошку. Эдик был сейчас для нее как фигура, вырезанная из серой картонки — плоский и невыразительный, терялся в россыпи тетрадок. Она вспомнила вдруг о своей тайной тетради. И ей захотелось, чтоб вокруг немедленно встала глухая ночь, в которой спят совершенно все. Космическое одиночество Леты, и в нем она сможет сесть и написать что-то. Совсем непонятно что, но желание такое сильное, что чешутся кончики пальцев.
— Ты не слышишь?
— А?
Она села на холодную табуретку на узком краю стола, неудобно, но Жорик снова торчал в ее любимом углу у окна, держал на шерстяных коленях свою гитару, щипал струну, прижимая, чтоб та звучала шепотом.
— Я говорю, Сергей Матвеевич на море нас везет, второго. Сезон открывать. Алла Дмитриевна уговорила сегодня. Ты едешь?
Ленка пожала плечами. Потом вспомнила Саньку Андросова и помотала головой.
— У нас маевка, с классом. Традиция. Каждый май собираемся и на Азов. За маяк туда, в степь.
— Ну, как знаешь. Эдька спрашивал, если ты поедешь, так они тоже с нами, с паханом на машине. Отказ, значит?
Ленка кивнула.
— Ну да, — протянул Жорик. Тенькнул струной, — у девочки свои интересы. Девочка выросла и все заверте…
Ленка положила вилку.
— Чего ты ко мне пристал, а? Передай своему приличному мальчику Эдику, что он мне не нравится. Вот и все. Делов-то.
Жорик облизнул бледные губы, почесал согнутым мизинцем усы.
— Конечно. Девочкам разве нравятся приличные мальчики? Девочки любят босяков и урок, да, Леночка?
— С ними хоть не скучно, — согласилась Ленка.
Жорик бесил ее так, что хотелось изобразить не просто неприличную девочку, а девку — ошеломительно развязную, грубую, вскочить на стол и спеть похабные куплеты. В общем, чтоб зажмурился и заплакал.
Дальше молчали. Ленка убрала тарелку, налила себе чаю и ушла в комнату.
Поставила чашку под настольную лампу и выкопав тетрадь, решительно раскрыла ее, взяла ручку и стала быстро писать, не перечитывая. И то, что писала раньше, тоже не перечитала ни разу.
Глава 24
Поездки за город в семье были давней традицией. И никогда просто так, а — с поводами. Весной ехали за тюльпанами, по грунтовке, уводящей от городских улиц к дальнему побережью Азова. Летом, конечно же, купаться, выбирая любимые места и споря, — они у каждого были разными. А осенью поспевал в степном буше шиповник и боярышник, мама и дочери собирали красные ягоды в матерчатые самосшитые сумки и дома сушили на газетах. После сморщенные ягоды ссыпались в стеклянную банку и терпеливо зимовали, иногда попадали в чай, заваренный от простуды, но чаще выкидывались в мусор во время весенней генеральной уборки.
Когда Ленка была совсем еще маленькая, ездили на мотоцикле с коляской, а после уже на папиной зеленой, как молодая травка, «копейке» и поездки стали редкими, папа машину берег, и бензин экономил. Но Ленка уже выросла и не особенно переживала. Скучно ей стало ездить с родителями и неинтересно. Хотя в каждой такой поездке были моменты, ей казалось, случайные, которые тешили душу, но она глупая, не понимала, что они и есть главные для нее.
Папа ставил машину на травяной обочине, мама выбиралась, раскидывая руки и оглядываясь по сторонам. И говорила всегда одно и то же:
— А воздух, какой воздух, Лена! Надо дышать!
Слушаясь сама себя, начинала усиленно дышать, будто хотела надышаться в запас. Потом вешала на локоть сумку и уходила с Ленкой к растрепанным кустам, выискивая самый урожайный. Ленка какое-то время паслась рядом, а после переходила дальше, еще дальше, и оставалась, наконец, одна, где-нибудь на огромном покатом склоне, который катился травяными плоскостями вниз, к далеко сверкающей синей воде, полосатой у берега от белых пенок. Голоса и папин кашель волшебно стихали, будто она была совсем одна, и везде, куда хватает глаз — ни-ко-го. Так совершенно никого, что сердце сжималось от восторга. В кустах шебуршились мелкие птицы и ветер, трава под ним блестела и пригибалась, а после трепыхалась, снова вставая густой шкурой, море бесшумно от расстояния катило себя на берег, и столько вокруг было света и воздуха, столько сверкания и блеска, а еще — все это было для нее.
А потом в одиночество врезался тревожный мамин голос, она ее звала, и Ленка возвращалась. Иногда с ними ездила Рыбка, но тоже не особо любила совместных поездок. Куда прикольнее было завеяться без взрослых, пусть не очень далеко, но зато не думать над каждым словом и не вести себя чинно, как пятиклассницы-отличницы. Ленке тоже нравилось, с девочками. Но там уйти в одиночество было невозможно совсем. Ведь поехали вместе, полагала она, и чего ж убегать.
Завтрашняя маевка никакого отношения к одиночеству не имела. Хотя тоже была традиционной. Ленка была в седьмом, когда они ушла на Азов в первый раз. До них туда ходили старшеклассники, но как-то случайно и лениво, по несколько человек. А тут получилось так, что пошел почти весь класс, и из параллельных прибилось полтора десятка человек. И после целого дня на травке у весенней воды в школе было столько смеха и оживленных воспоминаний, что на девятое мая ушли на Азов больше полусотни человек, чем страшно потом гордился Санька Андросов, который все и затеял.
Через год народу было поменьше, завистники из девятого устроили свою маевочку, в тот же день, но отдельную, «за горой», и это тоже стало поводом для шуток и приколов — косые от выпитого сухого вина пацаны затеяли хождение в гости от одного гульбища к другому. И вообще было весело, кругом все орали и смеялись, пели песни, кто-то бежал купаться. И на другой день в школе Ленка удивилась, слушая рассказы и вспоминая сама — и ведь никто не утоп, и даже ничего хулиганского не произошло.
Наверное, как думала она потом, много позже, став совершенно взрослой, бывают в жизни и судьбе вещи, изначально правильные, что ли. Потому что несколько лет маевок, без взрослых, толпа школьников, не самых послушных, скорее наоборот, да еще школа в довольно криминальном городском районе. И — ни одного серьезного происшествия. Хотя никто не следил за дисциплиной, никаких даже самодеятельных лидеров не было там. Просто собирались, просто шли. Тащили с собой рюкзаки, полные бутылок сухаря, весь его выпивали. Изрядно хмельные возвращались домой в ранних сумерках. И никто не утоп, не было разбитых в драке кулаков, или чего похуже.
Так что к маевкам Ленка относилась хорошо.
Сейчас она шла мимо разукрашенной красными флагами трибуны у каменных колен монументального Ленина, машинально кричала ура, размахивая флажком на длинной палочке, и прикидывала, каких бутербродов и сколько на завтра сделать. Рядом шагала Олеся, блестели круглые сильные колени, обтянутые чулками, ветер трепал крупно завитые локоны.
— Да здравствуют советские школьники! Ура-а-а! — пророкотал мегафон.
— Ура-а-а, — заорали советские школьники, скалясь и маша флажками.
— Самые школьные школьники в мире! — добавил Санька, оглядываясь на шеренгу, и вдруг встал, а девочки, визжа, натыкались, сбивая шаг и хватая его за руки и бока.
— Андросов! — грозно закричала Элина Давыдовна.
— Ура-а-а, — завопила трибуна.
— Андросов! — попробовала она еще раз, замахиваясь на Саньку бумажной огромной гвоздикой, и послушно добавила — ура-а-а!
— Ой, я не могу, — Олеся локтем пихнула Саньку, — иди уже, чучело! Дай людям пройти.
На краю площади Ленка встала, отдавая флажок дежурному, который уже собрал охапку и поволок в сторону. И стала ждать Рыбку и Семки, разглядывая белые, красные, цветные пятна — рубашки, галстуки, флаги, связки шаров.
Оля выскочила из толпы, кивая кому-то, махнула рукой и быстро подошла, прижимая рукой синий подол широкой юбки.
— На дискарь сегодня едем? — спросила деловито, шаря глазами по шумной толпе.
— Хорошо бы, — согласилась Ленка, — у нас сегодня гости, стол то се, всякая бодяга. Так что как раз. Да где эта Семки уже? Нам еще сухарь купить, на завтра. А то пацаны наберут дряни несъедобной.
Она повернулась на Олино молчание.
— Ты ведь с нами завтра? — уточнила, глядя, как у той разгораются щеки.
Оля отвела глаза. Потом с виноватым вызовом посмотрела на подружку.
— Я не знаю. Сегодня вот вечером. На дискотеке. Ганя, может, будет. А что ты так смотришь?
— Да ничего, — рассердилась Ленка, — я хочу, конечно, чтоб ты. И Викуся. Мне с вами лучше. Там. Но если нет, ладно, куда деваться.
— Кстати про Викусю, — сказала Оля и, беря Ленкин рукав, потащила ее ближе к высоким кустам на газоне. Там валялись обертки от мороженого и сломанные цветы из гофрированной бумаги.
— Ну?
Тут оркестр слегка заглушала толстая стена старинной церкви, за углом которой девочки укрылись.
— Ты с Пашкой точно все?
Ленка фыркнула.
— Еще бы! Ты сама знаешь. А ты бы стала после такого? Ладно, короче — все, да.
Оля отряхнула чистую юбку, осмотрела свежий маникюр, поправила волосы. Наконец вздохнула и сказала:
— Семки к нему бегает. Я ее видела, два раза. Когда ходила к тете Люде, в соседний подъезд.
Ленка открыла рот и уставилась на Рыбкино пылающее лицо. А потом засмеялась.
— Да ну тебя. Бегает. Мало ли куда бегает наша Семачки. Она бы похвасталась, если что, это раз. Ну а второе, вряд ли Пашка на нее поведется.
— А если поведется?
Ленка послушно помолчала, обдумывая вопрос. И пожала плечами.
— Плевать. Мне на него плевать.
Возмутилась Олиному скептическому лицу. Та щурила глаза, переступая стукалками, прижимала к боку сумочку. Не верила.
— Оль. Я и сама удивляюсь. Обидно, конечно, что он оказался такой козел, но мне как-то по барабану. Надо Викочке, пусть бегает. Хреново только, что она такая партизанка. Вроде украла и прячется. Хотя мы тоже не все ей рассказываем, так что, имеет право.
— Ты наша справедливая, — умилилась Рыбка, — пойди, скадри Валеру Чекица, посмотришь, как Семки устроит детский визг на лужайке. А вот и она.
Ленка подумала, когда Семачки подошла, метнув на нее настороженный взгляд, Оля права, нехорошо, что Викуся шифруется. Хотя Ленка ведь не говорила Семачки, что у нее с Пашкой был секс. Да черт и черт, не пришлось даже рассказывать, что они с Пашкой встречаются, потому что все лопнуло, как пузырь. Не расцвел и отцвел, в утре пасмурных дней…
— И чего ты ржешь тихо сам себе? — Оля подхватила девочек под руки и потащила в сторону набережной, — пошли, нещастя вы мои, тетя Оля угостит вас мороженом. Так и быть, по семь копеек, плодовава-ягоднава каждой. Эх!
— Гуляй рванина! — поддержала ее Ленка, — и к избе подъезжают сваты!
* * *
А второго пошел дождь. Мелкий такой противный дождик. Ленка, взвешивая на руке увесистую сумку, топталась в прихожей, уныло препираясь с мамой.
— Какие маевки? — трагически восклицала Алла Дмитриевна, берясь руками за виски и морща лоб, — ты посмотри на погоду! Боже, как болит голова. Это давление.
— Это вчерашний мускат, — саркастично отметила Светища, выходя из ванной и запахивая неуклюжий фланелевый халат. Была она бледненькая, под темными глазами круги, и губы потрескались, будто на ветру целовалась.
— Ты не забыла, тебе завтра к врачу, — взволновалась мама, тут же забыв о погоде, — и не надо, не надо этого вот язвительного, мы очень прилично посидели. Виктор Васильич так приятно, оказывается, поет.
— Про не ходите девки замуж, ага, — засмеялась Светища, — и все мне подмигивал, моралист бородатый. Бородатый-поддатый.
Ленка уставилась на свои туфли и вытащенные из тумбы старые кеды. Туфли она убьет вконец, если пойдет в них через степь. А в кедах — мокро. Проблема…
Телефон зазвонил и сестра успела первая.
— Это меня, — сказала Ленка, топчась рядом и протягивая руку, — Олеся, да?
— Гм, — заинтересованно произнесла Светища и глянула на Ленку внимательно, — зову, тут она.
— Да? Олеся?
— Леник-Еленик, — раскатисто сказал в трубке мужской уверенный голос, — вот она, рядом, а хвостик, есть у нее хвостик?
Ленка отвернулась от наступившего в коридоре молчания, прижала трубку плотнее к уху.
— Да. Привет.
— Чего так тихо? Партизанишь, да? Леле-Ленка, я уже был в аптеке, вооружился, гм, до самых зубов. И хочу тебя увидеть, и не только увидеть.
— Я… — она лихорадочно думала, что бы такое ответить. А за ее спиной Светища охнула, и мама что-то тревожно воскликнула.
— Мам, а где у нас в кухне сода, ну и это, как его, пошли, ты мне достань.
— Светочка, — удалялся мамин голос, и Ленка с облегчением поняла — сестра деликатно увела маму, чтоб та не слушала.
— Я ухожу сейчас, — негромко сказала она голосу Кинга, — с классом. Ну у нас, мы договорились. Давно уже. Маевка.
— Где?
— Ой. Мы далеко будем. Где на Чигини поворот, и оттуда к морю, через Трехгорку.
Кинг засмеялся, вроде бы и не расстроившись.
— Знаем-знаем. Там сейчас боярышник цветет, красота. И дождь вам не мешает, понятное дело. Подвезти? Я сегодня с Димоном на тачке кручусь.
Ленка замотала головой. Там, скорее всего, будет Маргоша, глупая, попрется из-за Саньки, ну и не надо, чтоб видела, как Ленку подвозят на машине совсем взрослые парни.
— Нет. Я сама.
— Ночью вернешься?
— Не-ет, что ты. Мы после обеда уже потихоньку обратно.
— Я тебя целую, Еленик. Веди себя хорошо. Вечером позвоню.
— Я сама, — поспешно сказала Ленка, — как приду, то позвоню.
Она положила трубку и телефон тут же снова заверещал.
— Каточек, ты там готова? Через полчаса на конечной, мы там все.
— Олеся, а дождь?
— Тебе мешает?
Ленке стало весело. И правда. Ну моросит. Да и фиг с ним.
— Нет. Я буду. Выхожу!
Оля, как и ожидалось, не пошла, потому что на вчерашней дискотеке ее перехватил Колька, и танцуя, что-то ей рассказывал, уводя в дальний угол и возвращая в середину толпы. Ленка видела, как цветное лицо Рыбки хмурится, а после блестит улыбкой, и снова тускнеет, и понимала — никуда она не денется от своей любви, позвал — пойдет. А Викочка отказалась внезапно и немного странно. Вся картина сложилась у Ленки в голове позже. И она думала, изумляясь своей слепоте, ну что же я такой лопух, как не увидела раньше, не поняла и не связала.
Они курили за углом летнего кинотеатра, под стенкой уличного туалета, мимо ходили неразличимые черные тени. И Викочка методично спрашивала, чего взять с собой, и что надеть, и кто там будет.
— Да все будут, — беззаботно ответила Ленка, морщась и сминая недокуренную сигарету в пустом спичечном коробке, — фу, горькая какая. Наши все, и еще ашники, а еще Санькины какие-то пацаны, трое или четверо, что с параллельного в восьмом ушли. Сейчас в бурсе на скляном учатся. Кстати, твоего Чекица дружбаны. Андрос как-то говорил.
— Да, — замороженным голосом сказала Викочка. Помолчала, затягиваясь. И вдруг сказала, тоже суя окурок в коробок, — да я не пойду, наверное. Мать ругает. И вообще.
— Блин. Побросали меня, да? — Ленка слегка растерялась от викочкиного непостоянства, удивилась, конечно. Но тут заиграла «Машина времени» и они торопливо пошли обратно, внутри Оля и Ганя сторожили их куртки, брошенные на деревянные кресла у стены.
А потом заиграла щемящая мелодия, внезапный, давно не слышанный Ленкой «Отель Калифорния», и ей стало плохо. Так совершенно тоскливо, что она растерялась. Села в неудобное кресло, подбирая ноги, чтоб не оттоптали медленные пары, но слушать и смотреть, как лежат на плечах пацанов головы девочек с закрытыми глазами, и как сцеплены руки на талиях, чтоб прижать крепче, было совершенно невмоготу. Тогда Ленка встала, разыскала танцующую Семачки и попрощалась, чтоб уехать, пока все еще пляшут и на остановке никого.
Ехала, сидя в хвосте автобуса, глядела в черное стекло и думала, сердясь на себя и на Панча, и сколько же это будет продолжаться? Нет адреса и телефона, сейчас она уже готова ему позвонить, а нету. Нужно спрашивать у отца, значит ловить его, когда не в гараже, и чтоб не пьяный. И чтоб не было рядом мамы. И, наверное, придумать, чего соврать, а то он удивится, зачем ей новый адрес его прежней семьи. Может быть, сказать, что она снова отправит посылку, если надо. Хотя наверняка он уже отправил сам. И может быть до востребования.
Автобус качало, лязгали двери, взбирались по ступенькам редкие пассажиры, с удовольствием усаживаясь в полупустом, не то что дневные рейсы, салоне. Изредка сухо щелкал компостер, прокусывая чей-то талончик.
А Ленка ехала, на каждой остановке меняя решение. То ей казалось, на «Казакова», что нужно, необходимо разыскать Валика и написать или поговорить, выяснить все. А дальше, на «Луче», она думала, а может так и надо, и правильнее просто плыть по течению, пусть он живет там радостно и хорошо, целуется с каратисткой Ниной… Но тут подплывала халабудка остановки у Комсомольского парка и Ленка сердито думала, а вот фиг ей, этой Нине. И на «Оптике» планировала писать ему письма и складывать. Приедет Панч, она кинет ему белые исписанные листки, пусть ловит, смеется и читает без всякого порядка. А на «АТС» впадала в мрачное отчаяние и безнадежность. Так ничего и не решила, подъезжая к автовокзалу.
Около дома Кинга остановилась на секунду, посмотреть на освещенное окно кухни. Можно забежать в подъезд, взлететь на второй этаж и позвонить, привет, Король Кинг, встречай свою королеву Лету. Но внутри все молчало, а еще нужно было сделать бутерброды, а еще вдруг он там не один, и чего она без уговора полезет. И Ленка пошла дальше, прогнав мысль о том, что если бы там, на втором этаже жил Панч, никаких мыслей в ее голове не было бы. Кроме одной. Хочу туда, к нему.
Врешь, возразила сама себе, торопясь по слабо освещенному двору мимо подъездов, ой, врешь, Малая. Мучилась бы и каялась, что он брат и совсем мальчишка. Это сейчас кажется, что было бы безоблачно. Если бы да кабы.
* * *
В просторном павильоне конечной остановки все лавки были заняты, парни и девочки сидели, стояли и ходили вокруг, кто-то курил снаружи, подставляя лицо мелкой мороси, кто-то бегал, гоняясь за смеющимися барышнями. Олеся махнула рукой, выходя навстречу. В подкатанных над полукедами джинсах и полосатом свитере на высокой груди. Желтые волосы стянуты в два хулиганских хвостика.
— Пожрать взяла? Надо идти, а Санька придурок, побежал звонить своей Маргоше. Ашники свалили уже, догонять будем.
Она повернулась, маша рукой и крича звонким, хорошо поставленным пионерским голосом:
— Эй, народ! Двинули?
И все нестройной гомонящей толпой пошли от серого павильона, через серую площадь, мимо фонтана в центре чахлого скверика. А дождь, смиряясь, моросил все мельче и наконец, перестал, оставив в воздухе теплую сырость, пахнущую цветами и автобусным выхлопом.
— Проедем пару остановок, — говорила Олеся, отдавая сумку подбежавшему Саньке, — там выгрузимся и уже полем, полем. Что Андрос, кинула тебя твоя любовь? Слишком ты для нее маленький мальчик, да? Годишься только в школе поиграться, в лаборантской?
Санька, шлепая по мелким лужам растоптанными кедами, ухмыльнулся, этой своей волчьей ухмылочкой, от которой у Ленки по коже пробегали мурашки. И сейчас, идя рядом с уверенной Олесей, она вспомнила Кинга и вдруг представила себе Саньку, там, на простынях, смуглого, с тяжелыми плечами и сильной шеей, по которой состриженные, все равно видны мелкие завитки темных волос. Это было, как удар током, во рту сразу пересохло. Она споткнулась, краснея и сжимая потную руку на ремне сумки, не понимая, что это и зачем. И, улыбнувшись Олесиным подначкам, уверенно о чем-то заговорила, не слыша себя.
Санька крутился, отбегал к парням, снова возвращался. Мимоходом забрал сумку и у нее, вручил кому-то. Подсадил в автобус и навис над сиденьем, смеясь и балаболя.
А на повороте, где ребята посыпались из автобуса, и тот сразу же опустел, у начала лесополосы их ждала Маргоша. В спортивной курточке, серых джинсах, так же подкатанных над кедами. И в кепке, из-под которой по плечу тянулся хвост намокших волос.
Санька с торжеством глянул на ошарашенную Олесю. Забрав у Маргоши пакет, повесил его на другое плечо. Галантно поклонился, указывая на узкую бетонку с блестящими по ней лужами.
— Маргарита Тимофевна, просим! Азов ждет! Чигини ждут! Что там у нас еще? Баксы и Ченгулек, ой сорри, это в другой стороне.
— Саша, — нервно сказала Маргоша, кивая девочкам и идя рядом с ними, — здравствуйте, да, я очень надеюсь, что вы меня не подведете. В смысле поведения и всяких напитков. Я испекла пирог. С рыбой.
— Не-не-не, — заорал довольный Андрос, — только цветы, только песни, Маргарита Тимофевна, только маргаритки и ромашки! Сорри, не хотел… Только, э-э-э, тычинки и пестики. Ой, простите, я опять.
— Саня, — ласково сказала Олеся, — ну, правда, получишь по башке, хватит дурковать. Иди с пацанами, развилку не пропустить бы.
Она заговорила с Маргошей и Ленка снова подивилась, в который уже раз, Олесиной уверенности и дипломатичности. Санька дурак, устроил интригу, мало того, что уклонился от роли бессменного олесиного рыцаря, так еще и сумел притащить на маевку, чисто пацанское мероприятие — учительницу, пусть и совсем молодую. И кто теперь делает так, чтоб та не чувствовала себя белой вороной среди этой вольно орущей толпы? Олеся. Которая, по идее, должна бы Маргошу ненавидеть или хотя бы фыркать в ее сторону. Как Семачки, например.
Олеся не Семачки, возразила сама себе Ленка, с удовольствием шлепая по теплым лужам промокшими кедами, а ты сама, злилась бы в такой ситуации? Например, Пашка стал бы приглашать, ну… кого-нибудь. Или вот Кинг. Викочку Семки.
Ленке стало смешно. И сразу немного грустно, потому что мысли ожидаемо привели к больному, что тихонько ныло, никак не переставая — вот у Панча какая-то Нина. Радостно тебе, Малая? Смогла бы ты с Ниной общаться, как сейчас Олеся?
Олеся Саньку не любит, снова возразила мыслям Ленка, как я Кинга — не люблю. А если бы Панч. Да что за чертишо! Получается, что я ни делаю, о чем ни подумаю, все снова приводит к тому, что люблю я этого длинного худого, с большим ртом и красивыми глазами! Получается — люблю. Двойка тебе, доктор Геночка!
Мысли зашли в тупик, но дорога под упругими подошвами длилась и длилась, вокруг, впереди и позади, смеялись, кричали и бегали. И Ленка оставила мысли там, чтобы отдохнуть от них, понимая — они не изменятся. Пока что — нет. Ну и пусть побудут в глухом углу. А она пока будет идти. Вместе со всеми. Это так редко бывает, чтоб много народу и чтоб Ленке было с этим много — хорошо. И все такие — совсем свои, с ними нестрашно и не тоскливо. Как же ей повезло, с классом. Хоть и раздолбаи через одного, зато не просто толпа, а практически команда. Слово Ленке не очень нравилось, но не называть же их дружным, крепко спаянным коллективом.
Скоро будет споенный, подумала она, и развеселилась.
— Вот! — закричал над ухом Санька, — узнаю брата васю, Каток, наконец, улыбается, а то шла, решала мировые проблемы!
Глава 25
Солнце. Такое прекрасное, и так все меняет. У Ленки были свои отношения с солнцем. Комната, которую она занимала после того, как старшая сестра уехала, была северной, окно, хоть и большое, выходило в затененный двор, залитый светом поутру и ближе к закату, а днем на первом этаже всегда было сумрачно. И Ленка заметила, если по небу неспешно идут толстые облака, которые прячут свет, а после выпускают его на небесную синеву, то сама она, верша какие-то домашние дела, становится послушной облачному ритму. Вышло солнце, там, над крышей Пашкиного дома, зажгло лес антенн, кинуло вниз отсветы вымытых оконных стекол, и Ленка захлопывает книгу или бросает недошитую кофточку, идет к шкафу, вытащить свитерок или рубашку — пора выйти, прогуляться. Но тут наползает плотное облако, блики сереют, сумрак становится гуще. И Ленка, не закрывая дверочку шкафа, возвращается на диван, садится, поджимая ноги, и снова берет книгу, раскрывая и укладывая на колени. Но тут снова светлеет и снова неохота сидеть, а хочется туда, где свет и солнечный ветер.
Тут, посреди большой степи, укрытой зеленым покрывалом майской травы, такой новенькой, глянцевой, блестящей от весенней свежести, было так же, потому что над головами шли мерной чередой пузатые облака с провисшими от спрятанных дождей животами. И когда темная тень наползала на сперва идущих, а после уже сидящих на склоне ребят, то все вокруг серело, и Ленке становилось слегка тревожно. Поначалу. Потом выходило солнце, и все так ярко загоралось, что на глаза набегали слезы. А еще два стакана сухого вина, и кусок пирога с рыбой, и мятые пирожки с повидлом, жареные куски мяса в промасленной бумаге, лимонад, яблоки…
Смех вокруг, чья-то гитара за спиной. На стеблях травы — лепестки сливы, беленькие, как кукольные записочки. Шумно, весело.
Но издалека мерно ползет по травам большая темная клякса, и Ленка, держа в руке теплый граненый стакан, захватанный руками, снова начинает тревожиться, сама не понимая этого. Тень придвигается, накрывает всех и вдруг у сидящих меняются выражения лиц, позы, и становится видным то, что солнце, как ни странно, прятало.
Но после все проходит. Санька всех смешит, и так здорово кричать под гитару смешные песенки, совсем не такие, как заумные Жориковы, а эти, пацанские, которые пели еще парни, что сидели со Светищей на лавочке во дворе.
— В гавань заходили корабли, корабли!— Большие корабли из океана! — ревет Санька, скрестив ноги по-турецки и раскачиваясь, так что его широкое плечо касается плечика Маргоши, и она, смеясь, с розовыми щеками, откачивается, крутя в руках кепку, а солнце бежит по гладко стянутым в хвост длинным волосам.
— В таверне веселились моряки, моряки, — И пили за здоровье атамана!Гитару держит не Санька, а Витя Перебейнос, худой мальчик с прямыми русыми волосами, падающими косой длинной челкой. Ударив по струнам, Витя поднимает руку и пальцами резко убирает со лба волосы, закидывает назад, и обязательно улыбается Инке Шпале, а та, распустив по траве цветастую цыганскую юбку — она одна из девочек в юбке — щурит большие глаза и насмешливо отвечает Вите таким театрально томным взглядом, что он путает слова и аккорды, ругается шепотом, опуская худое лицо. А Инка смеется и шепчется с маленькой язвительной Стеллочкой.
Тень приходит снова, накрывает раскинутое старое покрывало, все в раздерганных свертках, упавших стаканах и криво стоящих бутылках. Темнеют волосы Маргоши, Санька кладет ладонь на ее бедро, а женская рука спихивает, стараясь, чтоб никто не увидел, но Ленка видит и ей снова тревожно. Потому что на лице Саньки та самая волчья ухмылочка, а рядом с Маргошей лежит пустая бутылка из-под вина, а еще парни шептались и, отвернувшись, подливали что-то из маленького аптечного пузырька.
Но тень идет дальше, глаза у молодой учительницы блестят, она смеется и уже не таясь, шлепает Саньку по руке:
— Андросов, а ну прекратил!
— В дверях стоял наездник молодой, молодой! — Глаза его как молнии сверкали!Санька прячет руки за спину, выпрямляется, грудь колесом, хлопает глазами, преданно глядя на учительницу. И та машет рукой, снова смеется.
У Ленки от пения саднит в горле, и кружится голова. Вдруг все кричат, что надо купаться, конечно, купаться! Открыть сезон. Но она качает головой, идти за горушку, топать еще полкилометра до пляжа, неохота.
У покрывала остается совсем немного народа. Санька поднимается, помогая встать Маргоше, и рассказывая что-то о цветущих сливах, ведет ее по склону, туда, где толпятся тонконогие деревца, окутанные прозрачными облаками цветов.
Ленка потянулась, оглядываясь, и переползла ближе к Олесе. Та лежала, согнув ноги и глядя в бездонную пустоту над головой, кусала ровными зубами зеленый стебелек. Золотистые волосы, с которых Олеся стащила резинки, ореолом рассыпались по уложенной на траву куртке.
— Олеся, ну зря он. Прикинь, вдруг начнет приставать? Будет фигня.
— Угу, — сказала Олеся, не отводя голубых глаз от синего неба, — начнет. Они спирта в винище налили, в ту бутылку. Дебилы. Так хорошо мы пошли, так нет, козлу этому все надо испортить.
Ленку качнуло. Она посмотрела на рощицу, где уже не видно было Саньки и Маргоши, но сверху, на склоне расположились несколько человек. Вино вдруг заворочалось у Ленки в желудке и подступило к горлу — в руках одного из сидящих блеснуло.
— У него бинокль, — хрипло сказала Ленка, — блин, или фотик? Оттуда же видно, наверное, сверху. Да?
Олеся села, резко, сердитыми движениями поправляя кофточку. Продрала пальцами волосы, закидывая их назад.
— Придурки. Ну, что делать-то?
— Пойдем, — испуганно сказала Ленка, вставая над ней, — пойдем, а? Ну нельзя же, это жопа полная, что будет.
Она думала о том, что там, среди тонких деревцев, совсем прозрачных, Санька, который как-то хвалился тем, что у него была женщина, тридцать лет, и она все умеет и любила его так, что вешаться хотела. И кто-то засмеялся, а через два дня ее увидели, после школы, она ждала, и правда, совсем взрослая, в узкой юбке, и бежевом плащике, а Санька вышел, лениво так рядом встал, они говорили, а после она скривилась, кусая губу, и хотела взять его руку. Санька лицом показал на зрителей, руки в карманы сунул и ушел, а та, в плащике, опустила голову, быстро пошла к остановке, потопталась там неуверенно, и, не поднимая головы, ушла по обочине, и ее обогнал автобус. Не остановился.
Ленке тогда ужасно было жалко и ее, и Саньку, потому что она понимала, он для Олеси выпендривается, из отчаяния. Но понимала и Олесю, ведь не любит, и сердцу не прикажешь. А сейчас, когда в снова наползающей тени картина стала складываться, подтаскивая и укладывая в себя неровные кусочки, Ленке стало вдруг страшно и Саньку жалеть расхотелось. Если он это специально, с самого начала. И если подливали в слабенькое винцо спирт. И сидят там, чтоб все увидеть, и приколоться, а еще тошнее, если хотят сфотографировать.
Олеся уже стояла рядом, спиной к тем, кто лениво валялся у покрывала, всего-то пяток человек, трое, кажется, спят. И никто ничего не заметил. Вроде бы.
— Там Олежа Грош, — негромко и зло сказала Олеся, пристально глядя на склон, — и Капитан, а еще Весло. Блин, самые уроды. Приперлись, вроде знали, что будет. А может и знали.
Она усмехнулась, поворачиваясь к Ленке.
— Понимаешь, Каточек, теперь, нафига мне Андрос с его любовью? Думаешь, если я с ним буду встречаться, он переменится? Было уже. Потому и отлуп получает.
Но Ленка не очень слушала, поглощенная другими переживаниями. А еще она сказала — Грош. Олежа Грош?
— Это Чекица дружбан. Олеся, я пойду! Моя Семки, она с Чекицем встречалась. Пока не уехал. Они все вместе тусовались. Я ему скажу, пусть перестанут. Пойдем! Мы же получается, с одной компании.
Схватила Олесину руку, таща за собой. Сердце стукало испуганно и одновременно с радостным облегчением. Сейчас она скажет Олеже, он ее точно знает, как-то все вместе сидели на лавочке, он вскочил, уступил ей место, шутил, даже поцеловал ручку, поклонился, называл дамой сердца нашего Санича.
Олеся хмыкнула и, выдернув руку, пошла рядом, сказав вполголоса:
— Ну, ты даешь, Лен…Ладно.
Тропинка петляла по некрутому, но ухабистому склону, кусты закрывали обзор, выламывались на тропу лобастые валуны в желтых лишайниках, и приходилось их обходить, оступаясь в травяных ямках. Один раз Ленка оглянулась и удивилась, ушли недалеко, а все как на ладони, вот лежат их покрывала и вокруг лениво шевелится народ, а еще толпа у самого пляжа, и горстки гуляюших, что направляются обратно — допивать-доедать, и скоро уже домой. Если все так видно, тоскливо подумалось Ленке, то этим козлам наверху, им тоже. То, что сейчас слева, закрытое тонкими деревцами и кустишками в мелкой листве.
— Саша, — сказал оттуда ломкий голос, будто совсем незнакомый, — ну не надо, сейчас не надо. За-ачем ты так, Са-ша. Санечка. Мой.
— Марго…
Ленка не стала слушать дальше, лезя быстрее и хватаясь пальцами за край камня в глубокой выемке тропы. Была бы еще пара рук — заткнуть уши, не слышать, чтоб не рисовалось перед глазами. Вот же какой козел…
Кусты кончились внезапно, и Ленка выскочила, тяжело дыша, к самым ботинкам троицы, которая сидела на камнях, будто в театре, развалясь и глазея в просвет среди прозрачных лепестков на тонких ветках.
— О! — сказала Ленка, тяжело дыша, — фу, пока к вам долезешь. Олежа, привет!
Длинный парень с невыразительным бледным лицом и серыми прямыми волосами положил на колени бинокль, с неудовольствием глядя на девочек. И улыбнулся.
— Во бля, какие люди! Приймачечка своими ножками к нам, а? Красивыми ножками. Шо, Олеська, посмареть пришла на своего Санька? Садись, отсюда хорошо видать. Как он ее.
— Мне и тут нормально, — отказалась Олеся, суя руки в кармашки джинсов.
Второй парень захихикал, и вдруг у него на коленях забормотало, пискнуло, Олесин голос повторил:
— Мне и тут нормально…
Снова писк и опять та же фраза.
Олеся подвела глаза к небу. Вздохнула, уничижительно качая головой.
— Нашли игрушку. Чисто дети.
Парень осклабился, придерживая на коленях плоскую коробку магнитофона. Попросил:
— Ну, еще чо скажи, а? Скажи, ах ты дебил, Вован. Для коллекции.
— Перебьешься, — быстро сказала Олеся.
Вован с досадой встряхнул над магнитофоном рукой с растопыренными пальцами.
— Не успел. Ладно, заткнитесь, у нас другое дело, тама вон.
— Олежа! — звонко сказала Ленка, — вы что, чокнулись тут? Дураки совсем? Это же уголовщина. Статья есть. Вы в ментовку же загремите! Если вдруг.
Вован посмотрел на нее тяжелым взглядом. Повернулся к Грошу, который снова приставил к глазам бинокль и напряженно всматривался в гущу деревьев.
— Олежка? Я не поэл, шо за хуйня? Она нам грозится шоли? Угрожает?
— Нет же! — Ленка полезла выше, обходя камни, чтоб спуститься рядом с сидящим Грошем, — почему угрожаю, ты не понял, я наоборот.
Грош отмахнулся, по-прежнему прижимая к глазам бинколь.
— Та заткнитесь уже! Там щас самый смак.
Ленка выпрямилась рядом, и быстро что-то решив (ну не отбирать же бинокль, еще надает по лицу), закричала во весь голос, спугивая воробьев и скворцов:
— Маргарита Тимофеевна! Мар-га-ри-та! Домой надо!
Под их ногами, в десятке метров вниз, полускрытые от Ленкиных глаз прозрачной кисеей цветов, замерли две переплетенные фигуры. После птичьих быстрых криков наступила маленькая тишина, разбавленная далекими криками и смехом.
Но что ответил ей Санька, и что сказала Маргарита, Ленка не услышала. Потому что услышала вдруг с колен Вована свой собственный голос. И застыла, с ледяным потом, ползущим по дрожащей под рубашкой спине.
— Пусти, — сказал испуганный Ленкин голос, и вдруг крикнул сердито и удивленно, — да пусти же! Мне больно!
И повторил снова, те же слова. И после паузы опять.
Она не сразу узнала себя. Оглянулась, чтоб наорать сердито, на придурков. И увидела три пары глаз, все на нее, с издевательскими усмешками. Открылся рот на плоской морде Вована, потекли из него повторенные слова, кривляясь:
— Пу-уусти, ах пусти, мне больно-о-о!
И все заржали, осматривая ее вельветовые джинсики, клетчатую рубашку и копну волос с запутанными в прядях сухими листочками.
Время остановилось, без всякой жалости подставляя на сухих ладонях недавнее, что из-за страха было упущено Ленкой, и вот, оказалось кусочком мозаики. Лавка на темном автовокзале, Чипер с дружками и за киоском еще парни, неопознанные. И в спину ей издевательский голос, который проблеял те же слова, а думала — показалось, и вообще выпало как-то из памяти. Пусти, кричала она Пашке Саничу, в тот понедельник, а он не отпускал, и она кричала еще, думая, может быть, он не понял. Мне больно, объясняла ему, надеясь — услышит. И перестанет.
За липкими взглядами, которые, казалось, приклеились намертво — не отскрести, прорвался к ней другой голос, серьезный и настойчивый. Он ее дергал. Нет, это рука дергает ее руку, догадалась Ленка, послушно качнувшись к Олесе, это ее рука.
— Пойдем, Лен. Та ну их. Пошли, домой уже надо.
Она спускалась, а спина, которая недавно мерзла от ледяных мурашек, сейчас пылала, будто рубашка на ней загорелась. От этих слов, что неслись вслед, умолкали и после снова догоняли ее. Пусти, кричала Ленка среди травы, цветущих сливовых деревьев и облачных медленных теней, пусти ты, мне же больно!
Она открыла рот, сказать Олесе, которая вцепилась в ее руку. Но слова пришли те самые, и Ленка перепугалась, что она сейчас скажет их Олесе, про руку. Скажет — пусти, мне же больно. И она просто выдернула свою руку. Схватила с травы раскрытую сумку. И пошла, быстро перебирая по траве влажными кедами, спотыкаясь и взмахивая руками, думая, только бы не упасть.
— Эй, — орал кто-то сверху, со склона, маша рукой и неумолимо приближаясь, — стой, как тебя, Каток, а ну стоять! Куда валишь, эй!
Ленка побежала, держа на поднятом плече сумку, та колотилась в бедро, хлестала откинутым клапаном. А впереди ничего не видно, кажется, в глазах слезы, вот еще не хватало зареветь, как маленькой, но позади топали шаги. Слышалось тяжелое дыхание.
— С-стой, сука. Весь кайф поломала и тикать? Не целочка, бегать теперь. А?
Ленка вылетела на пологий холм, поскользнулась на подсыхающей глине грунтовки. И почти не удивившись, увидела вдалеке ярко-синее пятно и фонтан брызг из-под колеса. Шагнула на обочину, взбежала на травяной пригорок и, маша рукой, изо всех сил заорала, чувствуя, как по щекам текут слезы, но уже можно, потому что он приехал. Вовремя, как раз вовремя.
— Сережа! — орала она, не поворачиваясь смотреть, что там делает ее преследователь, — Кинг! Серый! Тут я!
Машина приближалась, и голос в ее голове попытался напугать, прошептав, ну-ну, мало ли синих машин, а вдруг это…
Но водитель посигналил. И жигуленок встал на обочине, метрах в двадцати от пригорка. Распахнулась дверца, Кинг выбрался, выпрямляясь, и махнул ей рукой.
— Скачи сюда, заяц, а то ямищи, еще увязнем.
— Да, — сказала Ленка, — да, Серый. Иду.
На одном кеде развязались шнурки, волочились, и Ленка, спотыкаясь, почти потеряла обувку в дорожной грязи, но добежала, встала напротив Кинга, стараясь улыбнуться дрожащими губами. Он, прислонясь к машине, и держа руки в карманах, кивнул, но не подвинулся, чтоб пустить ее внутрь. Сказал, а серые глаза внимательно и быстро передвигались, будто ставили галочки в нужных местах, отмечая — Вован, сначала бегущий, но резко замедливший движение — встал, с вызовом ухмыляясь. Олеся поодаль на обочине, с курткой в опущенной руке. И за ее спиной — небольшая толпа любопытных ребят, из тех, кто не так пьян, чтоб заниматься только своими делами.
— Подожди, — сказал Кинг.
Ленка испугалась, кожу будто облили кипятком. Он сейчас начнет говорить, подумала она, машинально прокручивая, как это бывает обычно, обведет всех грозным взглядом, начнет требовать, и — говорить. Чтоб не трогали. А так стыдно, хоть провались или сгори на месте.
Но Кинг говорить не стал. Перед нестройной толпой в раздерганных одежках, с бутылками и сигаретами в руках, обхватил Ленкины плечи, поворачивая к себе.
— Все взяла? Сумка, да?
Она кивнула.
И тогда Кинг обнял ее обеими руками, приподнял и поцеловал в губы, мягко прижимая к себе. Все молчали, — те, кто стоял, а далеко кричали и смеялись другие, возвращаясь с моря.
Ставя Ленку на землю, Кинг улыбнулся, подтолкнул ее к заднему сиденью.
— Залезай. Ногами там не ерзай, вон грязи нахватала на лапы.
Она села, глядя в неподвижную спину водителя и круглую голову, с серыми волосами, облепившими толстую шею. Брат, вспомнила, это брат фотографа, как его, Шошана. Кажется Дима. Димон Шошан. Машина качнулась и скрипнула, Кинг сел рядом, хлопнула дверь.
— Поехали, Димчик.
Взял Ленкину руку, положил на свою ладонь и прикрыл другой ладонью. Она посмотрела быстро на спокойное лицо с мягкой улыбкой, подумав испуганно, да не такая уж и мягкая, похуже будет, чем Санькина. А Кинг, покачиваясь, прислонился к ее плечу, сказал на ухо:
— Вовремя. А мы ехали через Гагарина, и что-то я подумал, надо проверить. Теперь у нас с тобой есть пара часов. Так?
— Да, — сказала Ленка, — вовремя. Да. Они…
— Успеешь, — обнял ее плечи, прижимая к себе, почти укладывая на колени, поворочал, устраивая, и даже спросил:
— Удобно так?
— Да, — Ленка кивнула, затихая под его рукой, почти лежа щекой на его локте, закрыла глаза, и обняла Кинга, просовывая ладонь между его спиной и сиденьем. Ехать бы так и ехать, думала, покачиваясь, а его голос что-то говорил, не ей, водителю, и потому она не слушала слова, а только этот его голос, через ребра и кожу, гулко отзывающийся в ее скуле и в ухе. Ехать долго-долго, и уехать в другие места, где не придется завтра идти в школу, смотреть на Саньку и Маргошу, и других, которые слышали ее голос, все-все слышали. И теперь знают. Какая она. А еще до этого нужно будет рассказать Сереже. Когда они останутся одни, в его квартире, он туда ее и везет сейчас. Димон знает, что они едут к Кингу, и конечно, знает зачем. Но молчит, и ни разу даже не посмотрел. Но — знает. Все знают. Кроме мамы и отца. Такая вот жизнь. Новая Ленкина жизнь.
В комнате было совсем темно, и на потолке — так красиво — медленно двигались кружевные тени от веток, просвеченных фонарем. Окно было за головами, и Ленка вспомнила бабкины слова, улыбнулась.
— Что там? — сонно спросил Кинг, закидывая руку за голову. В темноте блеснули глаза.
— Баба Лена говорила, ногами к двери спать — плохая примета, только покойников так кладут.
— Мы с тобой два покойника, — согласился Кинг, зевая и потягиваясь. Растопырил пальцы на босых ногах, черных в свете из коридора, толкнул ногой Ленкину ногу, высунутую из-под одеяла. Ленка послушно уложила ступни рядом и тоже растопырила пальцы. Вдвоем засмеялись.
— Два будущих покойника, — уточнил Кинг, — а, Леник, все там будем. Устала?
Она поняла, пора вставать и уходить, но будто застыла тут, в броне одеяла, рядом с сильным мужским телом, совсем взрослым. Но вдруг он снова захочет…
— Мне пора, — садясь, потянула одеяло повыше, прикрывая грудь.
— Пора, — согласился Кинг и чмокнув ее в поясницу, вскочил, заходил по комнате, голый, большой, попадая в слабый рассеянный свет с балкона, снова исчезая в темноте, и вдруг щелчок, комнату залил желтый свет, полосатый от ленточек торшера. Ленка натянула одеяло к самому горлу, рукой нащупывая у стены сброшенную и смятую там рубашку.
— Радости тебе от нашего перепиха, ясен перец, никакой, — голос у Кинга был деловитый и свежий, будто не он только что зевал во весь рот.
И не он стонал, прижимая ее к простыням, подумала Ленка. Такой совсем другой Серый, уже не рядом.
— Но так всегда бывает, маленький заяц, ты не печалься. Труды и еще раз труды, и все получится. У нас с тобой.
Он кинул на кровать ее вельветки, сел рядом, уже в джинсах и расстегнутой рубашке. Пятерней пригладил темные волосы.
— В школу свою пойдешь завтра?
— Да, — удивленно сказала Ленка, — куда деваться-то. Не знаю, как я… Но ведь надо.
— Хочешь, подвезем? Чтоб все видели?
Она покачала головой, под одеялом влезая в трусики.
— Нет. Я сама.
— Тогда слушай, — он положил руку на ее щиколотку и, сжимая в такт словам, проговорил:
— Кого они там записали, тебе насрать, поняла? Фамилии твоей там нет, голос похож, ну мало ли похож. Но! Не вздумай оправдываться и объяснять, просто ходи и знай, что ты на всех там кладешь с прибором. Что я сейчас сказал, просто держи в голове. Ясно?
— Да. Хорошо. Спасибо тебе.
— Успеешь спасибо, а может, и не захочешь, Леник-Оленик.
У него был большой нос, наверное, это и есть римский, подумала Ленка, сидя спиной к мохнатому ковру с вельветками, брошенными на колени. Всегда нравились ей мальчики с короткими прямыми носами, чтоб такие — мальчики. У Пашки именно такой нос. А тут… И ведь все равно — красивый. Как мама тогда сказала, какой красивый мальчик.
— Слушаешь? — он повернулся лицом, внимательно глядя.
Ленка кивнула.
— Так вот. У меня нет одной женщины, Леник-Оленик, у меня их много. Я даже говорить тебе не буду, сколько именно, чтоб ты не пугалась. Если хочешь, чтоб мы с тобой дальше дружили, приятно пилились и друг другу нравились, то никаких ревностей и никаких претензий. Поняла?
Ленка помолчала, обдумывая. Очень хотелось спросить, а если нет? Если я не согласна, тогда что? Но одновременно она понимала, если совсем честно, то ей оказывается наплевать и ни капли не ревниво. Немного обидно, конечно, что она не единственная любовь прекрасного и опасного Сережи Кинга, но без всякой ревности.
— Хорошо, — согласилась она, — пусть будет много женщин. Только я не хочу с ними встречаться.
Кинг хмыкнул. Ленка выбралась из-под его руки и, сев на краешек постели, стала натягивать вельветки.
— И почему?
— Что?
— Почему ты не обиделась, маленькая?
— Я же тебя не люблю, — удивилась Ленка, встала, застегивая рубашку, — чего тогда ревновать.
— Ого, — Кинг смотрел, как она идет в коридор, к большому зеркалу, — какая-то ты не такая, Леле-Ленка. Не как все.
— Я умненькая и развитая девочка, — напомнила она от зеркала, — мне это говорят с первого класса. Сережа, а где туалетная бумага? Я писять пойду.
— За бачком, там полка.
Спуская воду, Ленка осмотрела себя в маленьком овальном зеркале над раковиной. Все вроде на местах. Хорошо, рубашка с воротником, ну надо же, взрослый Сережа Кинг поставил ей засос на шее, чисто семиклассник. Она улыбнулась. И тихонько засмеялась, взбивая волосы. Вот же какая ерунда выходит. Пашка черт, ее этим и взял, давай, Ленуся, без всякой любви с тобой повстречаемся. И теперь, когда Кинг сказал ей про своих баб. Женщин, девушек, девочек. Ей стало свободно и вполне нормально. А если бы вдруг он в нее влюбился, ну что она станет делать, с большим мужиком, совсем взрослым, который ходит следом, вздыхает и закатывает сцены ревности.
— Она уже и смеется, — удивился Кинг, натягивая мокасины, — и правильно, и молодец.
Ленка пожала плечами. Не знала, правильно ли. Может, как раз правильнее упасть в обморок, чтоб все увидели, как паршиво с ней поступили. Чтоб жалели и возмущались сволочью Пашкой Саничем. Тем более, что внутри ей ужасно тяжело. Паршиво. Просто жутко и мерзко. Но не до такой же степени, чтоб падать и биться в судорогах, рассудила Ленка, выходя из ванной. Хватит с нее мамы с ее трагическими выступлениями, а еще Светища, которая рыгает каждый час, вот уж кому паршиво. А Ленка потерпит, пока оно терпится. Тем более, вот Кинг, он с ней. И так классно ее спас, уже целых два раза.
— Тебе сколько лет? — спросила она, а Кинг одновременно спросил другое:
— Может Пашку твоего поучить жизни?
— Нет, — испугалась она, — не надо.
— Любишь его, что ли? Двадцать восемь, заяц с хвостиком.
— Двадцать восемь? — потряслась Ленка, — нет, конечно, не люблю. Ни фига себе!
Дверь хлопнула, щелкнул замок, застучали по бетонным ступеням шаги.
— Да. Вот такой я аксакал аксакалыч. А чего ж не надо?
— Саксаул. Саксаулыч. Нет, ну… Я потом скажу, ладно?
— Еще она мне дразниться будет!
Идя по темной улице, выходя в свет фонарей и снова исчезая в тени, они весело препирались, пока не засмеялись вместе. И Ленке было так здорово идти, висеть на его согнутом локте, приноравливаясь к широким шагам. А после остановиться на углу, поднимая лицо.
И он нагнулся, поцеловать. Поправил ей волосы, забирая в ладони и скручивая в жгут, кинул их за спину.
— Не стригись. Тебе идет. А в приключения больше не влезай, ясно? Хватит тебе и меня.
Глава 26
А дома никто ничего и не понял. Ленка унесла мокрые кеды в ванную, отмыла их от глины, напихала внутрь мятых газет, и сунув под табуретку, ушла к себе в комнату. Переоделась и, совершенно усталая, села на диван, моргая слипающимися глазами. Было так странно. Ужасно хотелось спать, и одновременно, под мамин голос из кухни и папино привычное покашливание, под еле слышную музыку из комнаты Светки и Жорика, темной горой валилось и придавливало то, что произошло, и было понятно, если Ленка ляжет, а она посмотрела на часики — уже десять с минутами, то нипочем не заснет, будет лежать и мучиться, перебирая картинки, лица и голоса. Думая о том, как завтра. Может и правда, не ходить? Все контрольные уже написаны, снова, как и под Новый год, учителя возятся с двоечниками, подтягивая их к тройкам, чтоб выставить из школы и вздохнуть спокойно. А остальным хлопот — что надеть на выпускной. Потом начнутся экзамены, билеты можно учить и дома. Пойти утром в поликлинику, взять Рыбку, и выпросить себе справку о простуде. Покашлять там как следует. Можно и домой вызвать, но мама начнет трагически присматриваться, ходить следом, рассказывать о важности последних недель.
Ленка медленно подтащила к себе подушку, уложила ее на колени, прижимая к животу. Попробовала сделать себя сонной. Вот как сижу, мечтала, баюкая подушку, повалиться набок, аккуратно, чтоб не расплескать сонное состояние. Упасть туда, в сон, пусть приснится хорошее. И утром не смотреть в окно, чтоб не растерять хороших снов. Это Семачки научила, так делать.
Ленка выпрямилась, испуганно глядя на свое отражение в дальнем зеркале. Семачки. Викуся несколько раз спрашивала ее, насчет Пашки. Насчет, было у них что или нет. И Ленка решила, что она боится лезть на чужую территорию. Хочет, может быть, состроить Пашке глазки, но из-за Ленки ждет. И спрашивает. Но вот Викуся услышала, что на маевке будут дружки Валеры Чекица. И сразу отказалась идти. А вдруг она знала? Про эту запись? Как вообще попала эта пленка от Пашки в компанию Вована и Гроша? Неужели Пашка такая сволочь, что сам ее отдал?
У нее вспотели руки, и Ленка вытерла их о тонкую наволочку с оборкой. Спустила ноги с дивана. Надо Викочке позвонить. Срочно. Пусть скажет. Еще нет одиннадцати, она не спит.
Но пришла мысль о том, что она станет спрашивать, и вдруг услышит ответ. После которого придется с Викусей ругаться, что ли?
У нее стало кисло во рту. Так противно, и так не хотелось, чтоб нехорошее произошло. И она решительно легла, сунула подушку под голову, и, укрываясь, зажмурила глаза. Утром. Пусть все будет утром, а пока она посчитает до тысячи. И не станет мечтать о своих тайных местах, о белых яхтах, и о бухточках с теплым песком. Потому что нельзя даже в мыслях соединять эти вещи. Казалось Ленке, если сейчас уйти туда, куда отправлялась, чтоб заснуть, она натопчет там мыслями, как подошвами, вымазанными липкой глиной. Пусть они пока подождут.
Лежа с закрытыми глазами, она позвала Панча, так сильно, что заболела голова, и мысленный голос кинулся от виска к виску, ударяя в лоб изнутри. Ну, появись же, ангел мой Валька, кричала она, сжимая зубы и кулаки, чертов Панч, любимый, такой по-прежнему любимый, несмотря на все дурные приключения. Появись. И сразу все станет по-другому!
Валик поднял к ней светлое лицо, улыбнулся, протягивая руки. Сказал неслышно, но она хорошо слышала его слова, «прыгай, давай, я поймаю». И она, смеясь, прыгнула, протягивая руки вниз, к нему. Чтобы поймал.
Сердце ахнуло и заколотилось. Валькино лицо исчезло, пропали руки, которые держали Ленку за талию. И она взмахнула своими, боясь свалиться в пропасть. Открыла глаза в темноту. За ее головой стукнуло оконное стекло, еле слышно, и чуть сильнее. Заскреблось и стукнуло опять. Будто кто-то постукивает пальцем, длинным, тонким, с насекомыми суставами. Ленка замерла, испуганно прогоняя сон, и в нем картинку со страшным пальцем. Поскребывание раздалось снова. И она села, настороженно поворачиваясь в сторону окна, задернутого шторой. Форточка, подумала, все еще в остатках сна, пугаясь снова, она открыта, чуть-чуть, а вдруг это влезет в щелку?
— Лен… — в щелку влез голос, глухой и страшно усталый, — Лен?
Ей показалось, если молчать, голос устанет так сильно, что просто исчезнет, и можно будет спать дальше, а утром рассказать Рыбке, надо же приснилась фигня… Рыбка?
Ленка вскочила, босиком побежала к окну и отвела рукой штору. Стоя на цыпочках, спросила испуганно, открывая форточку шире:
— Оль? Это ты? Ты чего там?
Но темнота молчала, и ничего не разглядеть внизу под высоким подоконником. Ленка наощупь влезла на стул, изогнулась, балансируя. Из форточки протискивался и овевал лицо свежий, но мягкий ветерок.
— Оля, что? — теперь ей видна была светлая макушка.
Рыбка молчала, и Ленке стало страшно.
— Я сейчас. Не уходи, ясно? Стой там!
Торопливо натягивая какие-то вещи, зажгла неяркую лампу на стене, глянула на часы, замерла на секунду, стрелки показали половину четвертого утра. И вовсе от этого перепуганная, с пересохшим ртом, кинулась в коридор, мягко ступая тапками, открыла двери и вышла, запирая замок. Понеслась вниз, по семи ступенькам, придержала двери, чтоб не стонали пружиной.
Оли не было под окном. За черными кустами крыжовника белела ее опущенная голова, и Ленка побежала туда, на бельевую площадку. Далекий еще рассвет чуть заметно высветлил щербатый асфальт, на его фоне чернели ряды провисших проволок, Ленка подходила, проволоки отступали со светлого, исчезали на фоне стволов, ветвей, и когда она села, явились уже тонкими линиями на фоне темного неба. Чуть более светлого. Почему-то Ленка болезненно видела их, и усаживаясь рядом с Олей, время от времени смотрела на провисшие линии, что становились все четче.
— Ты чего, Рыбища? Ночь на дворе? Ты дома была? Поругалась, что ли?
— У тебя курить есть? — сухим голосом, шелестящим, спросила Оля, но головы не подняла.
— Нет, — Ленка расстроенно похлопала себя по карманам старой длинной куртки, — чего не сказала, я бы взяла.
— Ганя меня изнасиловал, — пусто сказала Рыбка.
Ленка застыла, сжимая на коленях кулаки. Мысли запрыгали, замелькали суматошно, не умея построиться, и потому совсем неясно было, что сказать в ответ.
— Оля…
Рыбка подняла светлую голову, повернула к Ленке плохо различимое лицо.
— Подожди. Я расскажу. Сейчас.
— Да, — шепотом сказала Ленка.
Далеко-далеко кричал маневровый тепловоз, таскал вагоны в порту и там же медленно грохал кран, роняя в трюм железо. Было так тихо, что слышно, как отзывались стенки трюма, гудели длинно, и после умолкали, перекрытые новым грохотом. А поближе, но все равно далеко, мерно брехала собака, тоже гулко, но маленьким голосом, будто лаяла в стеклянную банку. А еще ближе раздался сухой Олин голос.
— Я. Мы с ним в кабак пошли. На бирже. Там еще были пацаны какие-то. Девки. Большой стол. Именины, что ли. Ну… Мы посидели, танцевали еще. Он говорит, поехали на хату. Ключи.
Она замолчала, и Ленка увидела в жиденьком свете — у Оли трясется рука, на коленке, мнет подол клетчатой юбки. Она подняла свою, чтоб положить сверху. И не решилась.
— Я не хотела. Пихаю его. Мне… я говорю. Мне домой. Уже вечер совсем. Я напилась. Мы курили там. На улице, я говорю, ну что я люблю его, сказала. Он сперва про Лильку стал говорить, а я сказала. Что я вот. Дура да?
— Нет, Оля. Вовсе нет!
— Они тачку взяли.
— Они? — Ленке стало паршиво, и она все же положила руку на олину ладонь, но та выдернула ее, суя в кармашек куртки. Засмеялась, качая головой.
— Нет. Ну, не то что ты подумала. Пацан там был. Я забыла имя. Лен, темно, я не помню лица даже. Он с девкой своей. Худая такая, мелкая. Ехали, она все время смеялась, я сижу у окна, а она с того краю, и валится, на колени прям. Кольке. Пацан этот впереди. Ржет. А она…
Сверху кто-то закашлялся, и девочки вздрогнув, замолчали. В тишине двора было хорошо слышно — ворочается на балконе, вот харкнул вниз, покряхтел, и заскрипела балконная дверь. Ленка оглянулась на тающий в палисаднике красный огонек, побыл и исчез.
— Я разозлилась, да. Сижу. А башка кружится совсем прям. Едем куда-то. Ганя… ну, что мы завезем их, значит. Домой. А потом мы все вышли. Нет. Он вышел. Сперва говорил, ты едь домой, я адрес сказал, во-диле… а я остаюсь. Бухнуть.
— Он что, тебя бросить хотел? Вот сволочь, — с силой, но вполголоса сказала Ленка.
Оля покачала головой.
— Да вряд. Это разводки, я думаю. Чтоб я психанула. Ну да, правильно посчитал. Я психанула. Не поеду, говорю. Вместе только.
— Ты сама вышла, — поняла Ленка.
— Сама. Он мне часы, сует все время руку свою. Говорит, час и поедем. А там говнищи какие-то. Дома и глина, буераки. Забор поломанный. Лен… Это на Японке где-то. Я не знаю, где.
— Оля. Не плачь. Не надо, ну пожалуйста.
Рыбка прерывисто вдохнула. Сама взяла Ленкину руку, не замечая. Сжала, справилась с дыханием, и отпустила. Ее рука повисла, белая на фоне темных клеток.
— В общем, ну так. Блатхата какая-то. Стол, мы сидели. Там еще мужик был, потом не помню, куда делся. А потом. По…потом.
Она заговорила шепотом, торопясь, и Ленка нагнулась, слушая то, что никак не хотела слышать, но не могла же ничего сделать для Рыбки и подумала быстро, я могу только слушать, и услышать все-все. Больше ничего не могу.
— Я смотрю, темно совсем. Он матрас на пол положил. А я его ударила, чтоб не лез. А он. Он меня. А в коридоре свет и там еще комната, и девка эта ржет, и они там, пилятся, слышно, скрипит все. Стали кричать. Ганя говорит ты сама ехала. Сама же хотела! Я говорю нет. Не хочу я. Ну. Чтоб не так. А он…
Собака все лаяла и лаяла. Ленка подумала, и не устает же.
— Он хоть с резинкой?
— Что?
— Презерватив. Был у него?
— А. Нет. В смысле, я не дала ему. Говорю, я порежу вены. Нож возьму. А он. Он.
Оля заплакала. Ленка молча сидела рядом, не уговаривая перестать. И не знала, как утешить.
— Штаны, — шепотом сказала Рыбка, — снял их. Ну и… заставил меня. Я… черт, стыдуха какая. Эти там орут. Двери открыты.
— Оль. Скотина он. Ну, прости, но хоть не трахнул. Прости. Слово такое. Жалко, что он гад будет теперь думать, у вас обычное такое свидание было. Он, может, не вспомнит даже. Гад и сволочь. Дебила кусок. Но все же…
— Он к ним пошел. Забрал мою рубашку. И юбку. Ушел к ним. К девке этой. Ты же, говорит, не хочешь. А будешь орать, меняться будем. Чтоб ко мне значит, пришел этот. Друг его. И я сидела. Там даже простыни не было, чтоб убежать, в ней. И двери открыты, понимаешь? Идти мимо.
— Правильно сидела, Оль. Он сука, но он же трепло, пугал наверное, но все равно. Мало ли.
Оля снова заплакала. Подняла руки, трогая мочки ушей.
— Сережки! Ленк. Он пришел, и… Он их забрал, ты понимаешь? Сережки.
Они были маленькие совсем, колечки из золота, и Ленка Олю без них и не помнила. В шестом классе поломался замочек, Оля потеряла одну, когда катались на портфелях с кургана, по траве. И часа два они ползали на коленках, нашли. Олина мама отдала в ювелирку, замочек починили. Теперь Оля Рыбка сидела на лавочке и горько плакала, трогая пальцами пустые мочки. Ленка молчала рядом. Колька Ганя, да Оля отдала бы ему все, что у нее есть, а если бы попросил, и эти сережки тоже, знала о подруге Ленка.
Плач становился все горше, Ленка обняла трясущиеся плечи, с беспокойством слушая, как вместо прерывистых всхлипов из олиного рта несется монотонный страшный вой.
— Рыбонька, ты что? Блин, тебе надо срочно успокоиться, слышишь? Истерика у тебя.
Плечи дергались, лицо перекосилось, чернел открытый рот. Ленка вскочила, усаживая подругу ровнее.
— Так. Сиди. Я за корвалолом. Сиди, поняла?
Она побежала домой, на ходу вытаскивая ключ, и так же почти на бегу, сунула, поворачивая, влетела в кухню, хватая с полочки темный пузырек. Спохватившись, загремела на сушилке чашками. Помчалась обратно, держа перед собой чашку с водой из-под крана и сжимая в кулаке пузырек. И на бегу споткнулась, когда буквально под ее рукой затрезвонил телефон. Ленка сорвала трубку, падая в ужас от громкости звонка, и от того, что сейчас вдруг скажут что-то страшное. Сказала хриплым шепотом:
— Але?
А внутри уже все рвалось к выходу. Вдруг Оля удерет? И сделает с собой что-нибудь? Она не такая, как Ленка, она однажды наглоталась таблеток, никто не знает, а Ленка знает, это страшный секрет у них был. С клятвой.
— Вы не туда попа…
Она уже хотела трубку бросить, рядом, чтоб не звонили снова, и не перебудили всех, и чтоб мама не увидела, что Ленка носится туда сюда.
— Лен? — сказал далекий голос через шум и треск, — Малая, это ты?
У Ленки ослабели ноги и она привалилась к тумбочке.
— Валик? Панч?
— Лен, подожди, я сейчас, минуту, да?
— Панч? Я не могу! Валька?
В трубке стояла тишина, шум и далекий треск и там, за треском его голос, кому-то что-то говорит, быстро и непонятно, а Ленка переминается, и кажется, растягивается, как резиновая, пытаясь одной своей стороной вытечь в полуоткрытые двери, а другой приклеиться к трубке.
— Валька, — она почти плакала, уже отрывая трубку от уха, — Панч, какой же ты дурак! Я тебя люблю, Валик Панч.
Трубка летела вниз, маленький голос оттуда сказал «Мала…», а Ленка уже кинула ее, не успев себя остановить. И вылетела из квартиры.
Помчалась по дорожке мимо скамеек, очень вовремя, хватая за рукав уходящую Олю.
— Куда собралась? Так, быстро села!
— Уйди. Не трогай меня!
— Скажите, цаца какая! Сядь!
Ленка тащила ее обратно, через кусты, усадила и, садясь рядом, сунула чашку, плеская на колени водой. Свернула колпачок, и затрясла пузырьком над чашкой.
— Пей. Оля пей. Рыбочка, давай. Молодец, хорошо.
Обняла, чувствуя под запястьем мокрые волосы и мокрую щеку. И стала укачивать, шепча всякие бессвязные мелочи.
— Все хорошо, Оль, все нормально. Хочешь, у меня поспи. Я еще тебе валерьянки там. Нет. Ну посиди еще, я тебя провожу.
— Домой, — тоскливо сказала Оля, приваливаясь к ней, — домой хочу. Спать.
— Правильно. Только поклянись мне, что ничего не сделаешь, да? Я утром приду. Хочешь в семь утра приду?
— Не-ет. Мои уедут. В девять. На огород.
— Я в девять приду. Пойдем, да?
Они снова встали. И медленно пошли по пустому двору, мимо кустов, скамеек и деревьев, мимо палисадников с тюльпанами и нарциссами, бесшумных ночных кошек. Мимо художественных мастерских под бетонным козырьком, где когда-то сидели втроем, с пьяной Викочкой Семки. Прошли забытую «серединку», над которой ронял лепестки старый абрикос, и темнели окна Сережи Кинга.
Ленка довела Олю к самой двери, и та, открыв, качнулась к ней, обняла целуя в щеку, и сразу же откачнулась, вытирая губы. Ленка досадливо рассмеялась.
— Успокойся. Чтоб ты знала, я уже с Кингом. Того на этого. Только Викусе не говори, ладно?
— Вот черт. Наш пострел, везде поспел, значит?
Ленка снова засмеялась, радуясь, что Оля шутит. Встала, упирая руки в бока и выставляя бедро. Промурлыкала роковым голосом:
— Да вот. Такая я бэд гёл, Рыбища. И ничего, видишь, не помираю. Наплюй, Олька, выживем. Ясно? Не дождутся, суки.
— Тише ты. Мать услышит.
Оля бледно улыбнулась и закрыла двери. А Ленка помчалась вниз по ступенькам, сжимая кулаки и заклиная время остановиться, а Панча — позвонить снова, когда она добежит.
Она заснула сидя, у себя на диване, держа на коленях теплую коробку телефона и положив руку на трубку. Проснулась уже утром, повела головой на затекшей шее, угрюмо посмотрела на свою руку, держащую нагретую трубку. Сползая с дивана, открыла двери и сунула аппарат на полку. Из спальни родителей слышался уже тихий разговор, а в туалете зашумела вода.
Ленка постояла еще полминуты, глядя в щелку на молчащий аппарат. Закрыла двери. Легла, подмяла подушку под щеку и заплакала, как плакала когда-то в детстве, горько и безутешно. И заснула опять, устав плакать.
Глава 27
Пальцы у Ленки совсем устали и кожа на подушечках горела. Она растопырила их, разглядывая красные пятна. Вадик был прав, конечно, когда фыркал, и называл белоручкой, не потому что ругался, а объяснил потом, у него на руках не кожа — наждак давным-давно, а Ленка все поссаживает, пока вырезает заготовки скорняжным ножом, пока шерфует края кожи, стесывая их до бумажной тонкости. И еще клей. Дома нужно будет намазать руки настойкой софоры, надо же доделать сандалетки. Такие красивые.
Ленка повертела склеенную, как слоеный пирог, подошву с хвостами ремешков. Удивительно, что она сама сумела сделать такую красоту. Впереди лето. Есть кусок чудесного зеленого ситца в красные большие розы, выйдет сарафан с широким подолом, вот с ним надеть и носить. Еще хорошо бы кожаную сумку придумать и тоже сделать.
В соседней комнате грохнуло, рассыпаясь. Вадик уныло выматерился, со двора готовно залаял Шарик-Юпитер.
— Помочь? — крикнула Ленка, не вставая с табуретки.
— Та, — отозвался Вадик и снова чем-то загрохотал.
Ленка положила почти готовый сандаль на верстак и посмотрела на часики, что лежали сбоку. Потом на здоровущую старую сумку с выпирающими кривыми боками. Газетные свертки торчали сверху, не помещаясь.
— Еще вот, — сказал Вадик, заходя с охапкой, из которой выпали на грязный пол плоскогубцы, — тут куски, наждачка хорошая. Колодки взяла?
Ленка кивнула, вставая, чтоб поднять потерю.
— Черт его, чтоб они все, — в который раз рассердился Вадик, сваливая добро в старое продавленное кресло под гарцующую на стене всадницу.
И Ленка согласно вздохнула. Их мирная рабочая жизнь внезапно закончилась. Местный институт рыбоводства вспомнил о старом яхт-клубе и теперь устраивал тут летнюю базу для студенческой практики. Увольнять Вадика и его напарника не стали, но теперь их место в крошечной сторожке рядом с воротами, а в ней помещается стол, тахта и электрический чайник. Ругаясь, Вадик собирал свои, как он выражался, бебехи, чтоб увезти их домой. А дом его находился в загородном поселке, и ездить туда пару раз в неделю у Ленки не было никакой возможности, автобус шел рано утром и через два часа уже обратно. Да Вадик и не предлагал. Завертывая подаренные инструменты в еще одну газету, Ленка вспомнила слова Рыбки, про вадикову жену. Может еще и поэтому не предлагал, понимала она. Чего она станет ездить и сидеть там, на глазах какой-то жены, принимать участие в чьей-то семейной жизни, пусть даже наблюдателем в рабочем фартуке и с молотком в руках.
Она постояла в раздумьях, вздохнула и стала набивать еще одну сумку, матерчатую. Хорошо, что впереди лето, и со всеми рабочими вопросами она все равно придет сюда, Вадик объяснит, прямо во дворе, рядом с Юпитеровой конурой. А там, глядишь, ему разрешат занять угол в сарае под мастерскую, и тогда Ленка снова станет приезжать нормально.
— Та оставила б, — сказал Вадик за спиной.
Она покачала головой. Оставить, значит все сложить, увязать и в сарай рядом с перевернутой лодкой. До лучших времен. А она хочет доделать. И где те лучшие времена…
Скорее бы, скорее бы проскочил май и кончились экзамены. Какая-то совершенно бесконечная весна. И одновременно стремительная. Через две недели по календарю лето. И — напрочь испорченный экзаменами июнь. И вообще, все уже будет по-другому, столько всего изменилось за эти полгода, даже страшно.
С двумя сумками в руках Ленка вышла в просторный двор, где вдоль бетонного забора росли кусты смородины, а под ними вовсю цвели алые тюльпаны и крупные желтые нарциссы. К ногам подбежал, весь извиваясь от счастья видеть Ленку, Шарик-Юпитер. Она поставила сумку, села на корточки, гладя острую черную морду с выразительными бровями.
— Ты прекрасный собак, лучший собак. Смотри, не забывай меня. А то народу много будет. А я привезу тебе хлеба с маслом.
Юпитер ахнул, клацая челюстями, и упал, подставляя Ленке кудлатый живот. Она засмеялась. Ну да. Масла она ему скормила, наверное, килограмм. Любитель хлеба с маслом.
За воротами рычала машина, и Вадик крякнул, идя открывать. Загремел железом. С дальнего большого пляжа долетали, мешаясь с рычанием двигателя, крики и смех.
— О! — сказал сбоку знакомый голос, и Ленка, вставая с корточек, подняла голову к высокой фигуре с растрепанной головой.
— О! Петичка? Ты тут чего?
— А ты? — Петя засмеялся, оглядывая ее светлыми глазами на вечно загорелом лице, — я инструктор буду. По парусным маломерным судам. Студентов учить.
— А я сапожник буду, — церемонно ответила Ленка, — видишь, две сумки бебехов. Нет, бебех? Добра, короче, вагон. И свой инструктор. Блин, Петя, из-за твоих студентов мне теперь все домой тащить, прикинь.
Петичка взялся длинными руками за сумки, пошел рядом с Ленкой к распахнутым воротам. Она улыбалась, глядя на коричневое лицо, облупленный нос и совсем белые брови под светлыми иголками тонких волос.
— Так оставь. Я попрячу.
— Нет. Мне работать надо. Петька, я так рада тебя видеть. Даже не думала, что так рада буду. Ты совсем пропал. Я скучаю.
— Ну что я там? Сердце только рвать. Я ж не могу прийти, в гости типа.
Они медленно шли по старой колее, рядом с ржавыми рельсами, еле видными в густой майской травище. Над цветами летали бабочки, дрожало марево, тонкое, еле видное. И вообще — рай.
— Как она?
Ленка помолчала, идя рядом и подставляя лицо яркому солнцу. Сказать ему правду? Так спросил, сразу ясно, что он Светку все еще любит. А она наворотила хрен знает чего, с этим своим Жориком, и с ребенком. Сердце рвать, сказал Петя.
— Ругаются они. Прям все время. Он такой нудный. Ужас просто.
Они встали у подножия бетонной лесенки, что извивалась, карабкаясь вверх по обрыву. Ленка взяла из петиных рук одну сумку, повесила на плечо, устраивая удобнее.
— Я б его задушила подушкой, вот честное слово. Чем так жить.
— Так любит же, его, — угрюмо вступился за Светку Петичка, — держи.
— Угу. Я не знаю. Насчет любит. Ну… наверное.
Петя сунул руки в карманы и свел выгоревшие брови, страдальчески морща лоб.
— Если бы не любила, Лен. Я б женился. Ну и ребенок, что ребенок. Пусть будет мой. Но как при живом отце?
Ленка сдавленно прокашлялась. Подошла ближе, потому что руки совсем заняты, сумками, и прижалась плечом к петиной груди. Он замялся и чуть-чуть отступил. Ленка засмеялась.
— Петь, ты совсем золотой. Знаешь, да? Я скучаю, потому что мечтала, вот бы ты и Светища. Вместе. И ты мне брат. Ну почему все нужно перекрутить, как черти шо? Сестра у меня дура. Я ее люблю и потому ругаю.
— Иди уже, — ласково сказал Петичка сверху, — иди, Малая. Не говори, что виделись, ладно? Ей когда в роддом?
— В начале осени.
— Вот и не говори. Там поглядим. Скажешь тоже, золотой. Я всю весну бухал, как идиот.
Ленка покивала и пошла вверх, кособочась под тяжестью. От ворот уже раздраженно кричали и махали Петичке руками. На повороте лесенки она остановилась и позвала:
— Петь? Ты слушай, только не женись пока. Ладно? Ну девушка там какая, я понимаю. Но не женись. И чтоб никаких детей!
Он кивнул и пошел обратно, высокий, немного нескладный и одновременно изящный, из-за роста, худобы и вечного морского загара. А Ленка поднималась, представляя себе их втроем. Белобрысого загорелого Петичку, маленькую темноволосую Светищу, похожую со своей стрижечкой на японскую куклу. И наверное, коляска, идут, смеются и толкают коляску с серьезным таким пузырем внутри, где висит ожерелье из погремушек.
Ей стало Светку ужасно жаль. Так полна солнца и радости была нарисованная картинка, что Ленка изнывала от недоуменного сердитого возмущения. Ну, правда, неужели так сложно увидеть, где счастье? И почему нужно обязательно навертеть всякой фигни и бегать от него, своего счастья по дальним углам?
Как ты сама, Малая, подсказал ей внутренний голос. Мне как раз простительно, отпарировала Ленка, мое счастье непонятно где, разок позвонило и пропало, и вообще оно мне родной брат.
Выбравшись на обрыв, бухнула на траву тяжелые сумки, встала над ними, отдышиваясь. По-прежнему сердясь, прикусила губу.
Так, Малая. Короче. Хватит маяться фигней. Посмотри на дураков вокруг. Да хоть бы и брат! Но все равно нужно, чтоб был. Чтоб вы друг у друга были!
* * *
— Нет! — сказала Алла Дмитриевна и повторила с нажимом, а после еще раз — уже с высоким звоном в голосе, — нет, и нет!
Прошла по коридору быстрым шагом и вдруг, размахнувшись, швырнула в открытую дверь своей комнаты чашку, которую несла в руках. Та закрутилась, разбрызгивая белые кляксы, и грохнулась, разлетевшись на две половинки. В чашке было молоко с медом.
Ленка хмуро посмотрела вслед. Приняв с полки в прихожей, внесла к себе вторую сумку, бухнула на пол. Из сумки немедленно выпал и стал разворачиваться рулон наждачной бумаги.
В коридоре снова послышались быстрые шаги. Алла Дмитриевна от возмущения не могла стоять на месте, почти бежала в кухню, чтоб, знала Ленка, через секунду выскочить, с оттяжкой хлопнув дверями, и промчаться мимо. Или встать в дверях.
— Почему я должна все это терпеть! — становясь в дверях, закричала на Ленку, сжимая и разжимая кулаки, — ты, неблагодарная, я не знаю даже, как назвать тебя! Ты! Мало мне в доме чужих тряпок, каких-то там денег из кармана в карман, и вдруг это! Тебе что тут? Тебе тут будка, да?
— Какая будка? — мрачно удивилась Ленка, вспомнив Шарика-Юпитера, но поняла и сказала, — а…
— Что «а»? Какие «а»? — Алла Дмитриевна огляделась, будто подыскивая, что бы еще кинуть с размаху, наткнулась глазами на медленно заваливающуюся сумку с торчащими углами мятых газет и, страдальчески кривясь, уставилась в потолок.
— Выпускной класс! Экзамены! И все, буквально все нормальные девочки едут поступать в институт! Готовятся! Чтобы дальше! Жизнь свою дальше! А ты? Неделя осталась до конца школы!
— Две недели, — хмуро сказала Ленка, подбирая с пола наждачку.
— Не смей огрызаться! Даже тетилюдын Юрка, уж на что балбес и двоечник, уже отправил документы в педагогический!
— Он не девочка.
— Что? — Алла Дмитриевна с недоумением опустила руки, — кто девочка?
— Ты сказала, все нормальные девочки. А Юрка как бы не очень девочка.
— Боже мой, что ты мелешь! При чем тут Юрка! Меня спросят, меня уже спрашивают, куда Леночка. И что я скажу? Что Леночка стала сапожником, да? Ни с того ни с сего, гвозди какие-то. Хлам и грязь, и вообще. Боже, какой стыд!
— Что ты орешь? — крикнула Ленка и пнула ногой сумку. Та упала, вываливая из себя старый молоток с ручкой, обмотанной синей проволокой, и облезлую жестяную банку с гвоздиками. Ленка швырнула поверх рулон наждачки. Встала напротив матери, и теперь они кричали вместе, не дожидаясь пауз.
— Ты хотя б раз мне сказала что хорошее! Похвалила бы за что. Спросила, чего хочу. Надоело, все надоело, уеду нафиг, и пусть с вами бабка живет!
— Светина Лерка идет в медицинский, а туда такой конкурс! Володя из тридцатой — хочет в машиностроительный, Мариванна говорила, два года с репетитором! И даже Юрка!
— Чего ты орешь, а? Чего тебе все не так? Правильно отец тебя бросил тогда! Мало ему мамаши его, так ты еще тут!
— Мало мне этих, тоже мне семья! Так ты еще тут!
— Ей рожать скоро, а ты орешь, хочешь выкидыш, да? Чего ж не волнуешься, что соседи услышат? И Жорик услышит.
— Все, все меня спрашивают, а куда Леночка? Что ты сказала? Про отца ты что только что сказала?
Алла Дмитриевна подняла руки, стискивая их на груди. И дернулась, когда под боком затрезвонил телефон. Не отводя от разъяренной Ленки яростного взгляда, крикнула в трубку:
— Да! Ах, Лену! А некогда Лене!
Трубка с треском полетела на аппарат, подпрыгнув, свалилась, повисая на спиральном шнуре. Ленка рванулась к ней, подхватила, прижимая к уху. Дрожащим голосом закричала:
— Да! Але?
Но там пикали короткие гудки. Сунув ее на полку, Ленка смерила мать взглядом.
— Я…
Та выпрямилась с вызовом. Но телефон снова зазвонил и Ленка успела.
— Да? Да…
— Леник, — вкусно сказал приятный баритон Кинга, — Леник, похоже, на взводе. Что там? И привет.
— Привет. — Ленка вдруг ужасно устала, и еще ей было стыдно, за свои слова об отце, не потому что она пожалела мать, и они не вырвались по злости, она и правда, когда вдруг Алла Дмитриевна начинала кричать что-то такое, совсем бессмысленное, думала, конечно, отец сбежал, наверное, еще и уши затыкал, убегая. А просто это было так, будто она слабая, как в песочнице, «сам такой — сама такая»…
— Это ты мне звонил, только что? — у нее еще оставалась надежда, маленькая.
— Я.
— А…
— Ты с матерью разговариваешь, — сдавленным шепотом возмутилась Алла Дмитриевна, — не смей, немедленно положи трубку!
— Щаз, — ответила Ленка, прижимая пластмассовую чашечку крепче к уху.
— Очаровательная Леле-леница, горда шляхетна полька Гелена, позвольте пригласить вас на поедание кабаньего бока, с запиванием его красным десертным вином, с последующим… Короче, Леник, в кабак поедем сегодня?
— Да. Когда выходить?
— Э-э-э… ну, скажем, к шести у меня, а поедем в восемь. Идет?
— В пять буду. Нормально?
— Вполне. Цемки Ленку в счочку.
— Пока.
Ленка положила трубку и, не глядя на мать, ушла в комнату. Закрыла двери и подперла их креслом, мрачно оглядев ручку, решила — завтра надо щеколду привинтить. В коридоре мамин страдальческий голос призывал телефонную Ирочку.
— Ирочка? Ириша… мне срочно нужно, чтоб ты зашла. Молодые гуляют, да. Светочка утром была в поликлинике, потом Георгий поехал за ней. Такой заботливый. И как они с академкой, я так волнуюсь, Ирочка. Все же оба студенты! А Сергей в гараже. Забежишь? Через час? Прекрасно. Я… Ох… ну, потом, да.
Ленка, сидя в кресле под дверью, подтащила к себе сумку и стала выкладывать прямо на пол свертки и инструменты, все крепко изношенное, потертое, совсем неподходящее к зеркалам в глубине стенки и книжным корешкам на полках. А тут еще за спиной розовая блондинка с большими удивленными глазами. И чтоб каждый гвоздик вколотить, нужно стучать молотком, и еще нужен верстак, чтоб на нем работать с ножом и клеем.
Она вытащила тугой пакет, растрепав, вынула свои новые сандалетки. На слоеной кожаной подошве, с аккуратно вклеенными ремешками. Еще нужно закрепить перекрестья кожаных шнуров, тогда можно надеть и показать, что она не просто дурочка с переулочка, приволокла домой старья замусорить комнату. Но это полдня работы, надо все приготовить, не на коленке же делать, швы на самом виду будут. А она уже согласилась ехать в кабак, это раз. А второе — обойдется мама, чтоб Ленка ей показывала. Потому что получается, вроде оправдывается, а ей совсем не за что оправдываться.
* * *
Это был маленький ресторанчик, скорее летнее кафе, столики разбежались по плиточному дворику, затененному густым виноградом на ажурных решетках. Усаживаясь, Ленка стесненно огляделась, отмечая посетителей, и спрятала под стол ноги в старых босоножках. Они вроде и ничего так себе, но тем летом отнесла их в покраску, потому что беленькие и слегка облезли. И в мастерской покрасили их в суровый серый цвет, похожий на борт подводной лодки — всякий раз сердце у Ленки переворачивалось, когда она смотрела в зеркало на мрачные серые ремешки, которые совершенно не желали сочетаться с ее уже летними самосшитыми юбками и рубашечками. Скорее бы доделать сандалики…
— Эскалоп, — Кинг вытянул под стол ноги в светлых туфлях, легонько толкнул Ленкин босоножек, — будем ли мы эскалоп, Оленик?
— А он какой? — поинтересовалась Ленка, расправляя подол полосатенькой юбки.
Кинг повел в воздухе пальцами, что-то рисуя.
— Мясной. Жареный. Или может, антрекот?
— А этот какой?
В арку, увитую сочными листьями, входила пара, девушка высокая, в белом очень коротком платьице и алых босоножках, а еще — Ленку поразило это очень сильно — на плечах лямочки от крошечного кожаного рюкзачка, такого же огненно-красного цвета. Парень с яркой улыбкой на уже загорелом лице двигал стул, наклонялся, что-то говоря. А девушка, улыбаясь в ответ, вдруг пристально оглядела Ленку. И отвернулась.
— Мясной, — своим вольным ленивым голосом ответил Кинг, — жареный.
— Все равно тогда, — отрывисто сказала Ленка, — ты ее знаешь, да?
Кинг отодвинул красную папку, откинулся на спинку тощего стула.
— Ох, дискотики, ничего от вас не скроешь. Сама от горшка два вершка, а просекла. Как думаешь, а этот ее пассажир, он понял?
Ленка украдкой посмотрела на парня, тот по-прежнему сверкал улыбкой, открывал такую же папочку, что лежала на каждом столике. Покачала головой.
— Нет. Ну мне кажется так, что нет. А она… На тебя не стала смотреть, а на меня только. А чего я ей? Она вон какая красивая. Значит, смотрела, кого ты привел.
В дальнем углу закурлыкал магнитофон, что-то такое совсем ресторанное, и Ленке захотелось, чтоб вовсе была другая музыка, а еще лучше, чтоб вообще все другое. Она снова сердито подумала, дура Светка, был бы у нее Петичка, длинный и загорелый, под парусами, и они вместе уходили бы на яхте, оба в белых шортах, а вокруг зеленая прозрачная вода… Ленка хотела бы такого себе. Такой жизни. Ну не с Петичкой, конечно.
— На море завтра метнемся, задумчивый Леник-Оленик? — Кинг сидел красиво, вполоборота, кинув через спинку стула мощную руку с полураскрытми пальцами, упирая в плитки расставленные ноги. Перед этой красуется, с рюкзачком, поняла Ленка.
— А ваша Семачки, она с кем-то сейчас лямуры крутит? Надо же Димону телку подогнать, чтоб не скучал, а я всех блядей обзвонил в записнухе, все заняты.
— Я у тебя тоже в этом списке, да? — усмехнулась Ленка.
Кинг покачал темной головой, красиво улыбнулся.
— Ты у меня в другом.
— Где супербляди?
— Нет, где шляхетны польки. И там в списке одно только имя и один телефон.
Кинг перенес руку со спинки стула на столешницу, подвинул пластмассовую вазочку с бумажным цветочком, нагнулся, чтоб говорить тихо:
— А дерзить мне не нужно, Леник, а то накажу. Возьму плетку и всю кожу с задницы спущу, сидеть не сможешь.
— Да я не дерзю, — печально сказала Ленка, — не надо спускать, я и так тебя боюсь. А с Семачки мы поругались. Наверное, уже навсегда.
Тайком она смотрела, правильно ли все сказала, и так же украдкой перевела дух, да, верно. Услышал — она его боится, и сразу злость прошла. Но в будущем, осторожнее, Ленка Малая, дала она себе мысленный подзатыльник, никогда, ни-ког-да не забывай, что это Сережа Кинг, а не просто какой-то парниша с дискотеки.
К столу, наконец, подошла официантка, вынимая из фартука растрепанный блокнотик, хмуро осмотрела Ленку и та закатила глаза, но — мысленно. Процитировала в голове фразу из мультика, очень подходящую, «шо, опять?». И загрустила, потому что это была их с Рыбкой любимая фразочка.
— Лорик, — с упреком сказал Кинг, — мы с Ленкой сидим-сидим, а ты не идешь к нам. Ждешь, когда помрем с голоду? Значит так, нам антрекот, и эскалоп, толстые и вкусные. С жареной картошкой, и много зелени. Мне — стакан сметаны, минералку. Ленке — триста грамм белого сухого и сок. Какой, Оленик? Виноградный, Лоричек.
Лорик, не глядя на него, резко чиркала в блокноте. Из-под кружевной наколки сверкали лаком взбитые начесанные каштановые пряди. Ленке стало смешно. Еще одна. Ну и Сережа, ну и Кинг. Король в курятнике.
Сравнение рассмешило ее еще сильнее, и она вперила туманный взгляд за плечо Кинга, стараясь сделать лицо поравнодушнее. Кинг договорил заказ, приобнял Лорика за круглое бедро в белом фартучке и стал говорить что-то очень тихо. Лорик клонила голову, подставляя ухо и, разок кивнув, ушла, поправляя фартук.
— А сердиться не надо, — наставительно сказал Кинг, расправляя плечи и откидываясь на стул, — мы с Лориком старые друзья, ну и я же предупреждал тебя.
— Хорошо, — послушно сказала Ленка, — не буду сердиться.
Мысленно проговаривая совсем другие реплики, впрочем, без насмешек и язвительности, просто — другие. Какие сказала бы настоящему своему, которого не надо бояться, и у которого не будет тыщи баб на каждом углу.
— Что там у вас с Семачки? Расскажи, — попросил Кинг, — пока еще принесут. А дома нам было некогда, правда, здорово, Леник? Только кончать отказалась, меня это беспокоит. Хотя, ты еще маленькая, не доросла до нормальной женской сексуальности. Так что, беспокоит, но не сильно.
Ленка опустила лицо, к щекам кинулась горячая краска. Манера Кинга говорить вперемешку о вещах обыденных и самых тайных выбивала ее из колеи, он это понимал и веселился временами. Но не обидно, и это тоже ее удивляло.
— Пашка нас записал. Я тебе говорила.
— Угу помню. Я прикидывал, себе, что ли, взять на вооружение. А после отдать на дискарь, пусть крутят. Ладно шучу, что там дальше?
— А Викочка после несколько раз спрашивала, странно так. А не говорила. Ну и потом оказалось, она знала, через Валеру Чекица. Пашка козел ему прокрутил запись. А Чекиц у него переписал втихаря. Ну и Семки слышала, как он ее крутил. А мне потом сказала, что не поняла, я это или похоже просто. И не стала рассказывать, и вместо этого накинулась на меня, вот ты с секретами, сама виновата, если бы мне сказала, то я тебе сказала бы в ответ. Сереж, да ну. Когда рассказываю, получается какая-то каша. Как будто это все ерунда. Но это же не ерунда!
Кинг покивал задумчиво, сплетая пальцы с двумя тяжелыми перстнями. Один золотой печаткой с черным агатовым квадратом, другой с гравированным в золоте вензелем. За соседним столом громко смеялся столичный парнишка, развлекая свою столичную фотомодель, а та улыбалась, трогала пальцами черные волосы на висках и посматривала, как Ленка говорит, а Кинг слушает. Магнитофон завывал про вишни в саду у дяди Вани.
— Не ерунда. Конечно. Есть такие необратимые вещи, Леник, была ты девочкой, а стала вот женщиной, де факто. Но с другой стороны, а не наплевать ли тебе на то, что случилось именно так? Не позволяй обстоятельствам себя ломать, поняла? Особенно таким, необратимым. С другими вообще справиться, как в два пальца поссать. А с этими сложнее. Но тем крепче станешь. Анекдот знаешь, про похуиста?
За Ленкиной спиной кто-то возмущенно прокашлялся. Она повернулась и сразу отвернулась снова, покраснев. Там сидел толстый дядечка, видимо с маленькой дочкой, кормил мороженым. — И сок в круглом тонком стакане.
— Не кричи, — шепотом сказала Ленка, — давай анекдот.
Из угла шла к ним Лорик, несла поднос с тарелками, засыпанными оборчатыми листьями салата.
— А правда, что вам все-все похуй? — шепотом рассказывал Кинг, наклоняя к Ленке стриженую, вкусно пахнущую лосьоном и чистыми волосами голову, — да, абсолютно все. И деньги похуй? И деньги. И машины? Угу. А бабы? Бабы, пожалуй, не похуй. А-а-а, вот видите, значит вам не похуй! Да мне похуй, что вы обо мне думаете.
Лорик сунула поднос на край стола, кисло глядя на хохочущую пару.
Воюя с ножом и вилкой, Ленка спохватилась:
— Сережа, не надо Семачки. Не хочу, чтоб она про нас знала с тобой.
— Вот блин, а я думал, подружки, расслабишься, не будешь стесняться. Уедем далеко, на дикий пляж, купнемся голые. Два пацана, две девочки. Чисто рай.
— Ты что! — перепугалась Ленка, — голые с Семки? Да никогда. Тем более, что она…
— Что она? Чего замолчала? Ну, говори.
— Да ничего.
Но Кинг отобрал у нее вилку с наколотым куском мяса, сунул себе в рот.
— Колись, а то сожру и антрекот и эскалоп, поедешь обратно голодная.
— Да она на тебя глаз положила, давно уже. Я вообще удивляюсь, что она еще не прибегала к тебе, под двери.
Ленка замолчала, глядя на довольное лицо Кинга. Тот дожевал мясо и сминая в пальцах салат, отправил в рот.
— Прибегала, — потрясенно догадалась Ленка, — черт, вот же Семки, она к тебе сама приходила, да?
— Не вибрируй. Было да. Я домой шел, она меня на лавке ждала сидела.
— О-о-о… На лавке. Как Пашку, значит, выпасала.
— Поздоровалась, плела что-то, про тебя кстати. Что ей надо передать от тебя что-то там по секрету. Мол, пойдем наверх, в квартиру, и я там расскажу. Да чего ты отморозилась так? Леник, я же тоже не мальчик. Глазки у нее хитрые. Я сказал, что у меня в спальне герла, или тут говори, или гуд бай. Ну она нос задрала, посмотрела эдак, со значением. И ушла.
— Когда? — подавленно спросила Ленка, — когда это было-то?
Кинг пожал плечами. Толкая к ней тарелку, поторопил:
— Доедай, через полчаса Димон за нами приедет. Давно. Зимой еще. Я с улицы блядей не вожу, Леник, я их сам выбираю. И приглашаю.
— Угу. Я вообще-то тоже сама к тебе прибежала. С улицы.
— Ты другое дело, — безмятежно сказал Кинг, — я тебя давно выбрал, еще мимо бегала, на дискотеку свою. У тебя такой рот, Оленик, ни один мужик спокойно мимо не пройдет. Да еще стала такая блондинка. Если бы не прибежала, я бы тебя выцепил сам. А насчет Семки не бойся, она страшненькая. Нет, не то, ну скучная у нее внешность. Правда, фигурка ничего и попка такая, хорошая толстенькая попка.
Ленка отодвинула стакан с недопитым соком. Кинг засмеялся.
— А ну допивай! За маму и за папу, и за меня тоже. Короче так, Леле-Ленка, домой мы тебя подбросим, я потом на тренировку, а завтра, чтоб все было собрано, полотенце там, всякие женские штучки, купальник можешь не брать.
— Я не хочу вчетвером, — быстро сказала Ленка, придвигая к себе сок.
— Куда же я Димона дену? — удивился Кинг, — он и так меня возит целыми днями. Ладно, отправим его в город, с поручением. А сами устроим себе праздник солнца.
Глава 28
Димон Шошан как и было обещано, довез Ленку к автовокзалу, а сам Кинг вышел раньше. Чмокнул ее в макушку, приобнял, прижимая к себе грудью. Сказал, веселясь:
— М-м-м, Ленка-конфетка… Так, заяц с хвостиком, чтоб завтра в два часа у кургана стояла.
Прошагал за угол серого дома, поводя широкими плечами в распахнутой кожаной куртке, а Ленке сразу стало неловко перед затылком Димона, который ждал молча, не поворачиваясь лицом, и, так же не повернувшись, газанул и поехал. Когда она вышла, сказав стесненно:
— Пока, Дима, — промолчал в ответ и уехал, маяча рассыпанными по плечам серыми прядями. Ленка, сворачивая в проход между пятиэтажками, вспомнила, на обратной из ресторана дороге Кинг пристал к Димону и со смаком пилил его за пренебрежение внешним видом.
— Шоша, ты что думаешь, я тебе до пенсии котиков-дискотиков стану подгонять? Не хочешь башку мыть, так хоть постригись. Завтра к Эльке заедем, делов на полчаса! Будешь Депардье, тем более он такой же толстяк, только ростом повыше.
В ответ на негодующее ворчание Димона добавлял, обнимая Ленку и притискивая к себе:
— Зато челюсть у тебя тоже, как у него, кирпич, а не челюсть. Давай, Димыч, тебе пойдет, точно. Еще и волосы покрасим, а? Элька спец, сделает из тебя человека.
Проходя под Олиным домом, Ленка выбросила из головы недавние события, задрала голову к балконам, высматривая тот, что на пятом, под самой крышей. И остановилась. Над перилами маячила светлая голова. Тонкие руки ходили над развешанным цветным бельем.
— Оль? Олька!
Рыбка свесилась, держа в руке полотенце, подумала и поманила Ленку.
— Давай, поднимайся.
По лестнице Ленка бежала так быстро, что сердце заколотилось в горле. Нырнула в приоткрытую дверь, хлопнула, щелкнув замком. Скинув босоножки, торопливо пошла в кухню, оглядываясь на закрытые двери в комнаты. Только Олина дверь была нараспашку, оттуда лился сочный электрический свет.
— Не ссо, — крикнула Рыбка из кухни, — мои в деревне ночуют, а сеструха с дитями в гостях, вернется поздно. Борщ будешь?
Ленка радостно уселась в любимый угол рядом с окном, откуда виден был автовокзал и курган, там уже горели вечерние фонари, а напротив, только протяни руку — мелькали стрижи, чертя сумеречный теплый воздух.
— Не. Я сытая. Фу, я так рада, Оль, ты прям совсем спряталась, я уже думала, приду, сяду на ступеньках и буду сидеть, пока не выйдешь. Ты что, тебя так на экзамены не пустят, времени всего-ничего. В школу не ходишь, вообще никуда не ходишь. Хоть бы по телефону со мной поговорила!
Оля села напротив, повозила ложкой в тарелке с налитым борщом.
— Ты бухала, что ли?
— Немножко, — Ленка отщипнула хлеба и смяла мякиш в комочек, покатала шарик по столу, — мы в кафешку ездили, с Кингом, пригласил вот. Я бы и не поехала, да дома скандал, прям и возвращаться не хочу. Мать снова будет губу копылить и валерьянку пить. Дверями хлопать. Нет, хлопать не будет, Светищу пожалеет. Но все равно.
Оля вытянула под стол ноги в старых спортивных штанах. Покусала тонкую губу.
— Ну… а хочешь, на дискарь метнемся? Сколько там? Полдесятого? Час поплясать успеем.
Ленка уставилась на спокойное лицо подруги, в пятнах румянца по светлой коже. Оля упорно отводила глаза в сторону, щуря ненакрашенные ресницы.
— Так. Он вернулся, да? Ты что, ты хочешь Ганю там увидеть? Оль.
— Ну и хочу, — угрюмо ответила Оля. Поднялась, беря за краешки тарелку, унесла ее в туалет, плеснула там, смывая вылитый в унитаз борщ.
Молча вымыла и села опять, на этот раз глядя Ленке в глаза.
— Он же бухой был совсем. Ты сама сказала, не помнит, наверное. Я должна с ним поговорить.
— Оля! О чем? Если не помнит, почему тогда шифровался неделю? Свалил куда-то, сидел, как мышь под полом, скотина такой. А я тебе скажу почему. Потому что боялся, ты заяву напишешь!
— Не ори! Я не верю! Не верю, что он такой!
— А сережки? Он тебя обокрал. Сперва заставил, ну поняла да, а еще издевался, после еще и обокрал. Кто прибежал ночью, плакать? Не ты, что ли?
Оля смерила возмущенную Ленку скорбным взглядом.
— Попрекаешь, да? Ну и ладно, не волнуйся, больше никогда не прибегу.
Ленка беспомощно подняла над столом руки.
— Да я не про это! Ну как тебе объяснить? Он гад такой, привык, что девки ему все прощают. Хотя я вообще не понимаю, почему. Обычный такой козлина. А ты…
— Обычный козлина, — перебила ее Оля, — чего ж ты с обычным козлиной поехала к нему на дачу, а? Целовалась там и чуть не трахнулась? Думала, я не узнаю? А он мне сразу почти рассказал. Я только молчала, потому что… молчала, в общем.
Ленка, горячо краснея, умолкла. Она уже и думать забыла о той своей влюбленности в Ганю, и о том, что и как тогда наслучалось. А Оля оказывается, все это время помнит, и обижается. И Ганя придурок, все растрепал…
— Ладно, — отрывисто сказала Рыбка, — проехали. Если не идешь со мной, я сама. Я просто думала, мы подруги, и потому позвала. Тебя вот.
— Да едем, конечно. Я просто хотела, чтоб тебе полегче, а то начнется снова. Ну, извини. Я только домой позвоню, хорошо?
В автобусе Рыбка сказала, наваливаясь на ленкино плечо при поворотах:
— Видела Санича. Бежит, как новая копейка, лыбу давит. Меня увидел, ручкой помахал. Ну, я кивнула и сторонкой.
— Я тоже его видела. Десять раз, — усмехнулась Ленка, — прикинь, Кинг предлагал ему морду набить, ну или на счетчик поставить, чтоб он заплатил деньгами. Мне. Представляешь?
— А чо не согласилась-то? Купила бы джины, у того же Кинга. Курточку-сильвер. Чего ты ржешь, Малая?
— Ой. Что-то мне совсем ржачно. Оль. Прикинь, мне значит плотит Санич, тебе Колька. Типа пенсию нам такую. За погрыз.
— За усушку и утруску.
— Утрусили нас, значит. Фу, блин, у меня тушь потечет щас!
— Ага, а мы потом хоба на толкучку, и все денежки Кингу, и он багатеет, а мы такие супер-девки. Держись, Малая, а то свалишься в проход.
Отсмеявшись, ехали молча, кончиками мизинцев бережно вытирая веки, чтоб не размазать краску. Ленка искоса тайком поглядывала на Олю и волновалась. Та, конечно, зубоскалила, как им привычно, но смеялась чересчур громко и слишком оживленно болтала, чтоб вдруг на полуслове замолчать. Чертов Ганя.
— Лен, — Оля прислонилась, задышала в ухо, — а почему тебе, считай, все равно? С Пашкой. Вы же год встречались, ну и после он поступил, как жопа с ручкой. А ты как-то ни насчет любви, или наоборот. Я думала, возненавидишь его.
Ленка пожала плечами.
— Так не люблю же, — сказала то, что говорила Сереже Кингу, — а насчет ненавидеть, ну…
— Та. Я тебя знаю, Малая. Тебе кажется, раз ты его вичеркнула, то это хуже ненависти. Ты у нас такая вот. Наказала, блин.
— Да? — Ленка поразилась, обдумывая, а автобус все ехал и ехал, не торопясь, чвякал дверями, тормозил, катая в проходе пустую бутылку, изредка хрустел зубами компостеров, и почти уже приехал к остановке рядом с деревьями старого парка. А Ленка все думала о словах подруги, которая прочитала в десять раз меньше книжек, да и соображала не так быстро, но, поди ж ты, глянула в самую суть и сумела ее рассказать.
— Да. Наверное, так. Пашке, конечно, наплевать, но я, оказывается, так и думаю, что это от меня наказание такое. Глупо, да?
Оля пожала плечами, уже не слушая. Встала, напряженно глядя в черное с желтым стекло, на черные фигуры среди желтых плоскостей света и обступившие их снова черные купы кустов и деревьев. И пошла к выходу, решительно сжимая в руке маленькую сумочку, а другой рукой поправляя широкий подол тонкой юбки. Ленка, вздыхая и предвидя нехорошее, повлеклась следом, пересчитала каблуками ступеньки, и вместе девочки двинулись желтой аллейкой среди черных и серо-зеленых деревьев к яркой, как безумное созвездие, горсти огней летнего кинотеатра, откуда привычно бумкала музыка, пряча в себе крики и смех.
На площадке у входа, купаясь в свете фонарей, стояли несколько легковушек, украшенных лентами и цветами. Вокруг толкался веселый народ, кричали и смеялись, наклоняясь к открытым окнам.
— Ого, — сказала Ленка вслед пышному белому подолу, исчезающему среди ног, присмотрелась к голым плечам в кружевной пене, таким странным среди курток, рубашек и растрепанных голов.
— А те-перь, в че-е-есть новобрачных, любимая песня жениха и невесты — «Прощальный тост»!
Ленка фыркнула от неожиданности, проталкиваясь следом за Рыбкой, и пожалела, что у той трагедия, а то бы порадовались.
Народ вокруг разобрался на пары, черные и цветные головы клонились друг к другу, а перед самой эстрадой топтался жених, держа невесту за тугие бока.
— Все-е ясно нам — пришла пора расстаться-а-а, — бархатным голосом страдал певец.
Ленка отвлеклась, разглядывая молодоженов и потеряла Рыбку. Нахмурилась, и, вставая на цыпочки, пошла в толпе, откачиваясь, когда танцующие наступали, подпевая о грустном:
— Налей вина-а! Прощальный тост до дна!
Оля нашлась у самой стены, где чернели деревянные кресла с брошенными на них куртками и редко сидящими девочками и парнями, теми, кого не пригласили. Стояла, опустив руки, и смотрела на уголок эстрады. Там, в темноте под огромной колонкой Ганя целовался с Лилькой Звездой. Свет менялся и иногда падал на них, показывая откинутую голову с висящими темными волосами, а над ней ганино смеющееся лицо — блестят зубы, волосы растрепались крупными кольцами. Будто и не было ничего, с холодеющим от ярости сердцем подумала Ленка, сжимая кулаки, будто не он толкал Рыбку на драный матрас, чтоб сидела и ждала, а сам уходил, туда, через немытый затоптанный коридор к хохочущей пьяной девице, забрав Олины вещи, чтоб никуда. И еще песня эта дурацкая…
Мой тост за то, чтоб в любви Тебе и мне повезло, Чтоб мы когда-то смогли Найти в ней свет и тепло. И чтоб в любви никогда Нас не настигла беда Как в этот вечер.Высокий женский голос проговаривал желания, будто загибал пальцы. Ленка подошла, загораживая Олю собой. Тронула за плечо.
— Пойдем. Ну пойдем же.
…Мой тост за то, чтоб тебе Не мучить больше меня, Чтоб мы друг друга теперь Ничуть ни в чем не виня, Расстались будто друзья, Хоть ими стать нам нельзя, Никак нельзя.Певица продолжала страдать, Ганя обнимал Лильку, вытаскивая ее в круг, и там закачался, открывая рот над ее плечом — подпевал.
— Да, — сказала Оля, — конечно, идем.
И они пошли, привычно отводя руками локти и плечи, откачиваясь от топчущихся пар, изгибаясь, чтоб не натыкаться в толпе на чужие тела. Музыка орала, так что Ленка репетировала про себя, вот выйдут, где потише, и она скажет, да наплюй Рыбища, ну ты сама говорила, какой из него кавалер, одни сплошные неприятности. Пусть Звезда с ним мучается, и ее вообще-то жалко, неплохая ведь девка, а вляпалась. А ты радоваться должна…
За распахнутыми воротами, за пятаком с блестящими машинами, стоял темный парк с кляксами фонарей, и в нем вдруг тихо, ветерок от моря, а еще оно шумело там, внизу вдалеке, и Ленка вдруг дернулась, сердцем и локтями, до мурашек на них, подумав о Валике Панче, о том, что если бы он, вот так, на ее глазах, то не знала бы, как и жить, и все ее умения держаться, и рассуждения насчет «вичеркивания», они годятся для Пашки Санича, или вот даже с Кингом — работают, но и у нее есть вещи, где никакой защиты, где сразу в сердце. И как тогда быть? Бедная, бедная ее Оля, главное, быть рядом, чтоб не наглоталась таблеток, или не начала резать себе вены, а то всякое бывает.
От темных кустов цветущей жимолости шел томительный запах, такой сильный, казалось, бьет в нос мягким невидимым кулаком, и не убирает, заставляя дышать только цветами, их ночной тайной навязчивой сладостью. Быстро стучали каблуки по щербатому асфальту, и их было слышно и все слышнее, а музыка удалялась.
— Я сама виновата, — отрывисто сказала Оля, опередив Ленкины утешения, — конечно, сама. Поперлась, да еще бухая.
— Оля, нет!
— Да! Там девка эта была. А я чем лучше? Бухала с ним? Бухала. Потом поехала. И там тоже. Так что…
— Нет! Ты не стала бы. Ты хотела из-за него, а если б не он, все было по-другому. Бы. Ты понимаешь? Блин, я не могу сказать, ну чтоб ты сразу поняла, О-ля! Но ты неправильно думаешь.
— Не ори.
— Не буду.
Ленка схватила подругу за локоть, оттаскивая в тень огромной пузатой туи. Поставила там и стала говорить, наугад, в сторону неровного дыхания.
— Я вот еще что думаю. Я думаю, ты и дала ему, не потому что он тебя так уж сильно заставил, а потому что ты его любишь, поняла? Потому что хотела, чтоб он с тобой был!
Оля сдавленно засмеялась.
— И чего? Думаешь, мне легче стало, да? Если бы заставил, то заставил. А так значит, я сама же!
— Может, и одежу сама ему отдала? И сережки?
Замолчали обе, дыша томным запахом, таким, что казалось, отравятся и упадут, засыпая.
— Ленк, хватит. Не могу я.
— Ладно, — буркнула Ленка.
Пошли дальше, снова под жидким светом фонарей, исчирканным черными тенями. И когда замолчали сами, стало слышно — парк полон соловьев, поют так же самозабвенно и страстно, как пахнет ночная жимолость, и вообще пора отсюда валить, поняла Ленка, какая-то уж слишком ночь, в такую или вешаться или помереть от счастья.
— Ррыбочка, — промурлыкал за спинами мужской голос, — Ррыб-ка, не беги!
Ленка схватила подругу за руку, потянула вперед, ускоряя шаги. Но та остановилась, и их руки потеряли друг друга.
— Пойдем, Оль, — попросила Ленка.
А Ганя уже подошел, вклиниваясь между ними плечом и локтем.
— Олька, я тебя кричал, от самого выхода. А ты ка-ак вчистила.
— А куда ж ты Звезду свою дел, — не выдержала Ленка, — неужто ждет сидит?
— Песню не слышали, что ли? — весело удивился Ганя, обнимая рукой неподвижные Олины плечи, — прощальный тост, котики, Вовка для меня поставил, для нас. Тридцатого мая Лилька с предками валят из города, квартиру сменяли, так что, мы с ней решили остаться друзьями. Все цивильно. Она там сейчас со Строганом зажигает. Ольчик, прогуляемся?
— Оля, поехали, — звенящим голосом попросила Ленка.
Над ними защелкал соловей, так близко, будто на плечо сел, но трое не пошевелились, глядя друг на друга.
— Оль…
— Ленк, ты иди. Мы… мы погуляем.
— Черт, — сказала Ленка, — ну как ты…
— Ревнуешь, Малая? — Ганя свернул руку кольцом, галантно предлагая Оле, и та вдела свою, отворачиваясь от Ленки.
Ленка повернулась и ушла, быстро стукая каблуками некрасивых серых босоножек, дергая полосатый подол, который при каждом шаге лепился между коленей, и вообще дурацкая юбка, и все вокруг дурацкое. Соловьи еще эти. Интересно, в Коктебеле они поют? А в городе по имени Артем? А Валька ходит там по парку? И на его руке висит Нина-каратистка, а вокруг пахнет жимолость или еще что, смородина там какая… У Рыбки Ганя, он мерзавец, но сейчас они вместе ушли в ночной парк, полный весенних темных чудес, а Валька прекраснее ангела, но вот уже полгода торчит непонятно где, и не может раскачаться и к Ленке пробиться, а ведь говорил и писал «я тебя люблю, Лена Малая». Не Ленка, а — Лена. Малая. Только он так говорил. И только с ним надо тут, в парке, где цветы. И вообще — везде.
Слева за деревьями проплыл освещенный остров летнего кинотеатра, полный музыки и голосов. Ленка шла, озираясь, чтоб не попасть в какую неприятность, мало ли кто шастает в зарослях, кусала губы, не зная, рассердиться на Олю или опечалиться за себя. Почти бежала, желая скорее оказаться дома, пусть бы родители еще не спали, и пусть папа трезвый, выйдет в кухню курить, и Ленка ему наконец расскажет, что они с Валиком подружились и ей очень-очень надо знать его адрес. Главное для нее сейчас — не передумать, не начать снова бояться, что она ему не нужна, не ждать, когда он ей позвонит, ведь звонил разок, значит и она может, просто узнать, наконец, и не мучиться.
Что ты будешь делать, Лена Малая, если узнаешь то, чего не хочешь знать? — спросил внутренний голос, такой печальный, такой мудрый, что хотелось стукнуть его кулаком промеж глаз, — что ты будешь делать, если он скажет, ну да, я звонил попрощаться…
Может и правда, не спрашивать пока? Пожить еще немного, ну хотя бы до окончания школы. Как там — контрольный срок. Дать себе контрольный срок, ну, до июля. До пятнадцатого. До двадцатого, трусливо заторговалась Ленка сама с собой, пусть до двадцатого, или даже…
И все это время можно думать — он просто мотается с матерью по всяким санаториям и никак не может. Или вообще, рраз, и скоро приедет. В Крым. Или прямо в Керчь. Она откроет двери, а он стоит, такой вот — длинненький, тощий, с плечами, как вешалка, с бледным лицом, и такой рот, такая улыбка. Или прямо сейчас, вышла из автобуса, пробежала вдоль дома, а он сидит, на лавке, темно, не сразу понятно, что это он. Ждет ее.
На асфальт ложились квадраты света, уже редкие, хотя не так и поздно, ну, одиннадцать. А окно кухни не горит, наверное, легли уже. Ленка на ходу полезла в сумочку искать ключи. И сбила шаг, вглядываясь в темноту. На скамейке кто-то сидел. Было так, будто мысли из ее головы выплеснулись наружу и собрались в неясную фигуру с вытянутыми ногами и опущенной темной (у Ленки сильно стукнуло сердце и пересохло во рту) головой.
Она медленно подошла ближе, фигура пошевелилась, засветлело поднятое лицо. От руки полетел в темноту красный огонек.
— Ленуся? А я жду-жду.
Пашка замолчал выжидательно. На лице не разглядеть, что за выражение у него. Ленка перетопталась уставшими ногами, сглотнула. Внутри стало пусто и кисло, и сильно захотелось сесть, но не рядом с Пашкой, а лучше скорее домой. Целую секунду она была уверена, что там сидит Панч. Даже успела испугаться, а как она расскажет ему про Кинга? И про того же Пашку. Но пусть бы пришлось рассказывать и каяться.
— Чего ждешь?
— Не чего, а тебя. Ленусь, я извиниться пришел.
— За что?
Пашка пошевелился, хлопнул рукой по деревянным плашкам.
— Посиди рядом, а? Минуту хоть.
Ленка подумала и села, не касаясь его, тоже вытянула уставшие ноги. Ей стало скучно и интересно одновременно.
— За то, что я так свалил, от тебя. Прости, а?
Ленка подумала, что ее бабка сказала бы «Бог простит», а значит, можно самой не прощать, откреститься. И молча пожала плечами. Потом все же сказала неохотно:
— Ну, простила. Еще что?
— Таким голосом не прощают, — наставительно возразил Пашка, — ты это просто так сказала.
— Какая разница, — Ленка пожала плечами. Она уже жалела, что села разговаривать. Но недоумение оставалось и сильно хотелось понять, да чего ж ему надо-то? Если он сейчас станет проситься в гости или позовет погулять, она рассмеется вслух, вспоминая Ганю с Рыбкой, буквально вот полчаса тому.
— Еще одна штука, Лен, — осторожно сказал Пашка, помялся, кашлянул, и продолжил, — ты когда у меня была, ну в общем, я записал, нас, на кассету… Прости.
— Я знаю, — кивнула Ленка, — слышала.
В порту грохало и гремело, далеко, за свистками маневровых тепловозов. А все соловьи остались в парке, отметила Ленка, ожидая еще каких-то Пашкиных слов, вот он скажет, и она встанет, пожелает спокойной ночи и уйдет.
— И все? — удивился Пашка, — ты вроде не злишься даже.
— Орать, что ли? — удивилась в ответ Ленка, и встала, нащупывая ключи в открытой сумочке.
— Не знаю. Но я как-то…
— Паш, ты чего хочешь? От меня? Чего пришел? Ты хочешь, что ли, снова встречаться?
— Нет!
Ответ был так поспешен, что Ленке стало неловко, вроде она сама напрашивается. И она развела руками.
— Тогда я не понимаю, совсем. Я спать иду.
Она уже уходила в подъезд, и остановилась, от осторожного вопроса в спину:
— А Кинг знает? Ну, что я… Мы…
— Не твое уже дело, — сказала наконец, к месту и вовремя. Обрадовалась этому и ушла.
Ковыряя в замке подумала с раздражением, он боится, что ли? Он правда думает, что Ленка может науськать Кинга, чтоб тот наказал Пашку, за лямурные их личные дела? Ну да, Пашка как свинья поступил, но устраивать разборки, фу и фу, противно это все.
В прихожей было темно и в кухне тоже, и Ленка подумала было проскочить к себе, там разуться и переодеться, но из спальни родителей падал в коридор свет узкой полосой.
— Лена? — тень перекрыла полосу, мама встала в дверях, — Светочку забрали в больницу, Жорик там, а папа поехал ставить машину в гараж и оттуда на вахту.
У Ленки задрожали руки. А ведь хотела позвонить домой, перед дискотекой. И не стала.
— Что-то серьезное, мам?
Алла Дмитриевна прошла мимо, зажгла свет в кухне, сунула на плиту чайник.
— Уже нет. Болел живот, мы испугались, а папа как раз на машине, повез, оказалось, вовремя, но доктор сказал, пусть остается, сразу же. И теперь на две недели. Будет лежать. Я звонила Вике. И Оле твоей.
— Мам, прости.
— Ладно уж. Чай будешь?
Она села, запахивая фланелевый халат и держа его у горла рукой с красными ногтями. Поежилась.
— Пусть газ погорит, а то холодно. Завтра надо отвезти ей кофточку, ту, длинную, там тоже плохо топят. А тапочки нельзя. Только кожаные или резиновые. Носки надо, наверное, можно шерстяные носки, да?
— Мам, не плачь, — Ленка села напротив, морщась и глядя, как мама вытирает слезы сгибом запястья, — можно шерстяные, наверное, я завтра отвезу ей, утром сразу. Потом в школу.
— За что мне это все? — спросила Алла Дмитриевна у холодной кухни и тонко свистящего чайника, — не одно, так другое.
— Мам, ну почему тебе? Я тоже ее люблю. И папа. И наверное даже ее дурацкий Жорик. Да многие лежат, на сохранении. Я утром пойду.
— А папу вызывают в рейс, — ответила мама, — думали, пойдет к осени, а вот надо сидеть и ждать, скоро уже полетят, представляешь? Получается, рожать ей без него, и значит, не сможет забрать на машине, ну и мало ли, куда надо поехать. Но с другой стороны, денег уходит много, а дальше вообще все усвистит. Так что, вот.
— Мам, я работать пойду. Не переживай, ладно?
— А поступать? — вяло возразила Алла Дмитриевна.
Ленка кивнула, беря из фаянсовой мисочки пряник:
— На тот год. А пока поработаю, и помогу Светке с дитем. Нормально все, мам! Иди спать.
— Георгий, — спохватилась Алла Дмитриевна, встала, двигая на плите чайник, — он без ключа, а скоро приедет, последние автобусы сейчас.
— Я открою. Иди, мам.
Глава 29
В школу Ленка попала ко второму уроку, вбежала, слегка задыхаясь, и быстро пошла вдоль зеркал, отражаясь в них копной светлых волос. В больнице увидеться с сестрой не получилось, не приемные часы, процедуры, так что она передала пакет с вещами и яблоками, бутылкой кефира, и ушла, думая о том, что в два часа Кинг приедет к кургану, и надо бы отказаться, потому что как ехать на море, если Светища лежит в больнице. Все же в первый раз она на сохранении, так что Ленка лучше бы посидела дома, делая там чего по хозяйству.
— Каткова, — догнал ее режущий голос, и Ленка поморщилась, останавливаясь.
Инесса Кочерга обошла ее, презрительно воздевая нарисованные бровки и кривя неровно накрашенный рот.
— А нам законы не писаны, мы, конечно же, опять ко второму уроку! Что, поздно легла вчера? На танцульках умаялась?
— У меня сестра, Инесса Михайловна, она…
Завуч развела руки в трагическом жесте и заорала, прерывая Ленку:
— Сестра! Ну-ну! Я представляю! Сестру твою! Тоже да? Такая же вот!..
Ленка повернулась и пошла дальше, довольно быстро, чтоб Кочерга не стала идти следом, не будет же она гнаться за ученицей. Та проводила Ленку криками, что гулко отдавались в пустом вестибюле. А потом прервались звонком.
После второго урока Ленка ушла от своих, разыскивая класс Оли Рыбки, и поймав за руку одну из девочек, с нехорошим предчувствием узнала, что Оля не пришла.
— Классная сказала, совсем совести нет, — доложила маленькая Наташа Карякина, моргая за стеклами некрасивых очков в коричневой толстой оправе, — сказала, будут ставить вопрос на педсовете. Насчет экзаменов. Лен, ты ей скажи, ну чего она правда. Осталось чуть-чуть.
— Да, — ответила Ленка, — скажу.
И ушла, выскочила из школьного здания, в птичий гомон и яркую зелень, в запахи цветущей вишни и алые пятна тюльпанов у беленого забора через дорогу. Посматривая на часики, свернула за угол, там за школьным тротуаром торчала на повороте телефонная будка. Ленка зашла в нагретое стеклянное нутро, сунув двушку, набрала номер. Два-десять-тридцать. Короткие гудки. И снова. Короткие гудки. На третий раз пошел длинный, трубку сразу же взяли и сердитый голос Кинга рявкнул:
— Ты заебала, сказал же, завтра!
— Сережа, — сказала Ленка, — извини. Это уже не она.
— Леник? Тьфу блин, прости. Напугал?
— Нормально. Сережа, я не могу сегодня. Мне нужно дома.
— Ты что? Из-за девки этой? Леле-ленка, перестань, ну я ж думал, ты умница.
— Я умница. И я в курсе, и вовсе не из-за нее. У меня сестра, на сохранении, а я вдруг поеду на пляж.
— Ну и что? — удивился Кинг, — там все нормально-то? Не ты же ее сохраняешь. Леник, ну как отменять? Я тренировку похерил, Димона припряг.
— Блядям отказал…
— Ты что там шепчешь?
— Ничего, — поспешно сказала Ленка, сжимая тяжелую горячую трубку, — Рыбка еще непонятно где, да блин, куча проблем, голова лопается. Ты чего смеешься?
— Я не смеюсь, — отказался Кинг, тоже слегка поспешно, и Ленка насторожилась, — короче, давай так, Димон заедет в школу и тебя заберет, чтоб побыстрее, потом на море метнемся на пару часов, и если надо, тебя после подбросим, куда там, в больницу. Все, цемки Ленку в счочку.
— Не надо, — испугалась Ленка, — не надо в школу!
Но в трубке уже пели короткие гудки.
Димон не просто заехал за ней в школу, а встав под окнами, долго посигналил, и Ленка, ругаясь про себя, быстро пошла к синему автомобилю, спиной чувствуя взгляды одноклассников. Пацаны толпились за углом школы в зарослях бирючины, курили, затаптывая окурки и отшвыривая их во вскопанную землю. Рядом с машиной Ленка не выдержала и оглянулась. Так и есть, встали перед кустарником, смотрят внимательно. А она свалила, не оставаясь на классный час.
— Назад садись, — сказал Димон в ответ на ее «привет, Дима», — нечего светить впереди.
Ленка послушно села на заднее сиденье и уставилась на соломенный затылок и короткие стриженые бачки по щекам. Посмотрела в длинное зеркало на ставшее незнакомым лицо.
— Ого! Ты все же покрасился. И стрижка. Дима, тебе идет.
Димон хмыкнул, поворачивая баранку и закидывая локоть на спинку кресла. Вывел жигуленок на дорогу.
— Правда на Депардье стал похож.
— Ну, нормально, значит.
Раскидистые тополя клонили ветки, мелькали на ветерке серебряные изнанки листьев-ладошек и летал, падал под колеса, сворачиваясь и толстея комками, легкий пух из длинных зеленых сережек. В открытые окна влетал май, такой радостный и беззаботный. Ленка смотрела на уплывающие белые стены, зеленые дерева, яркую сирень, думала, ну вот, еще месяц экзаменов, а после будет передышка, и так странно — придет следующий май и не надо будет волноваться об оценках и всяких подготовках, а просто так — из апреля можно будет войти в май, из него перейти в июнь. И жить лето, не думая о том, что наступит сентябрь, и надо будет идти в школу. Очень непривычно, и очень хочется так. Распробовать апрель и май по-настоящему, такими, какие они сами по себе.
Дома было пусто. На ленкины торопливые шаги выглянул сонный Жорик, поторчал лохматой головой в двери, глядя, как она уталкивает в матерчатую сумку полотенце, сдернутое с лески в коридоре. Сказал язвительно, оглядывая ее прошлогодний сарафанчик, очень коротенький, и кинутую поверх самопальную джинсовую курточку из вытертых лоскутов:
— На гулянки собралась? Ну-ну, пока сестра в больнице, давай.
Ленке сильно захотелось крикнуть, как мама, ее же словами — ты еще тут! Но сдержалась, ответила, суя ноги в летние раздолбанные шлепанцы:
— Там приемные часы с пяти, я приду, не волнуйся.
Кинг уже ждал возле кургана, стоял рядом с синей машинкой, поглядывая на часы, замахал рукой навстречу и сел рядом с Димоном. Ленка снова открыла заднюю дверцу, села, растерянно глядя на еще одну пассажирку — длинную вертлявую девицу в вельветовых красных джинсах, и рубашке в крупную клетку. На голове барышни красовалась кепка Димона, в кармашке топырилась пачка сигарет. Искоса поглядев на Ленку, внезапная соседка обхватила длинными руками спинку водительского сиденья и, вытягиваясь клетчатой спиной, зашептала что-то на ухо Димону, смеясь и кивая.
Машина поехала, девочек бросило вперед, девушка завизжала, Кинг повернулся, кладя руку Ленке на колено.
— Леник, знакомься, это Ниночка, пассия нашего депардье, лаборантка в гидрослужбе. Ниночек, я так сказал?
— Гидро-метео-службе, — поправила Ниночек, — очень приятно!
И снова повисла на спинке сиденья, тыкаясь лицом в ухо Димона.
Ленка кивнула, выразительно глядя на Кинга, а тот пожал плечами и, сделав виноватое лицо, погладил ее колено.
Город ехал мимо, унося свои городские приметы — остановки, полные озабоченного народа, ларечки с мороженым, вывески гастрономов и парикмахерских. Провез беленые дома окраинных улиц и их палисадники, набитые пионами, сиренью и отцветающими тюльпанами, большими, как цветные чайные чашки. Потом мимо долго плыл серый забор, а за ним серые длинные коробки цехов, и наконец, после нескольких пустырей с развалинами и недостроями, город отпустил синий автомобиль и тот поехал уже сам по себе, врываясь блестящим пятном в сильную майскую зелень на холмах и плавных подъемах, где местами белели цветущие сливы и заросли терна роняли на зеленое белые точки лепестков.
В машине ехала болтовня Ниночки, смех Кинга, и два молчания — хмурое внимательное Димона — дорога стала нехороша, с выбоинами и широкими трещинами в старом асфальте, и настороженное молчание Ленки, которая была уверена, что в дальней бухте на диком пляже они с Кингом будут вдвоем. И не то что она была против компании, но кто знает, что взбредет в голову Кингу и его молчаливому другу, а после рассказа Оли о развлечениях ее возлюбленного Коленьки Ленка предпочитала дуть на воду.
С вершины подъема жигуль понесся вниз, Ниночка засмеялась, выставляя в окно руку, а Ленка между мужских плеч и голов смотрела вниз и вперед, там распахивалось во все ее глаза море, цветом, как их синий автомобиль, и у желтой полосы песка двигались полосы пены, такие крошечные отсюда.
— Штивает, — прокричал Димон, оглядываясь на Ниночку, — эх, попрыгаем на волнах, а, детка?
— Мне страшно, — кокетливо пугалась Ниночка, — я утону!
— Мы тебе сделаем искусственное дыхание, — утешал ее Кинг, смеясь в ответ и подмигивая Ленке, — по очереди…
И Ниночка снова смеялась.
На маковке последнего над песком небольшого холма, где светила высохшей глиной разъезженная площадка, Кинг рядом с машиной обнял хмурую Ленку, покачивая, уткнул лицо в волосы, заговорил, щекоча ухо. А внизу, пятная нетронутый песок рыхлыми следами, ходил Димон, нагибался, раскидывая полосатый автомобильный чехол и вокруг бегала Ниночек, пытаясь, чтоб красиво, но увязая босыми ногами и кособоча спину. Смеялась и хватала Димона за рукав.
— Леник, ну, что ты надулась, как первоклашка. Взрослая уже девочка, а то Димыч не в курсе, что у нас с тобой секс. Чего сердитая такая? Из-за Нинки? Тебе же лучше, пусть Димыч с ней возится, а не сидит в кустах с биноклем — на нас любоваться.
— А он такой, да? — поразилась Ленка, отклоняя голову от щекотных губ.
— Все такие, — засмеялся Кинг, — короче, так. Кроме меня никто тебя не тронет, ясно? Пока сама не захочешь. Когда захочешь, попробуем и втроем и вчетвером.
— Не захочу. Пусти.
— Не пущу! Куда собралась? Еще раз говорю — никто. Не тронет. Пока сама не. Потому пользуйся, глупенькая. Ну, где еще ты можешь спокойно в компании раздеться, искупнуться, как Ева в раю, винца выпить, пока я рядом — злой-большой-могучий, нажраться не дам, покуситься не дам. Буду стеречь, и сам откусывать. А? Что там? Смеешься!
— Нет, — отказалась Ленка и, не выдержав, рассмеялась, представляя себе грозного Кинга на страже.
— Вот! — обрадовался Кинг и, отпустив, подтолкнул к тропинке, еле видной в зарослях крестовника, желтого, как тысячи солнышек, — беги вниз, я сухарика прихвачу, и догоню.
Ленка вздохнула и пошла вниз, на ходу размышляя об относительности времени. У них часа три, так договорились, и потом в городе у Кинга еще какие-то дела. Если бы вдвоем, что тех трех часов — поваляться, выкупаться, болтать. Ну и да, заниматься любовью, потому что он без этого и не поедет же. А теперь — думай, когда они кончатся, эти длинные три часа в компании Димона и веселой Ниночки.
Она вывернулась из-за куста дерезы и встала, растерянно опуская руки, в одной снятая курточка, в другой — шлепки. Ниночек лежала на покрывале навзничь, раскидав длинные волосы по согнутым локтям. А незагорелые груди торчали в небо темными пятнами сосков. Рядом сидел голый Димон, скрестив толстые ноги, нагибаясь, резал на разворошенной газете какую-то колбасу. Ниночек болтала, не открывая глаз, покачивала ногой, положенной на согнутую другую и иногда толкала Димона ступней в плечо.
Ну, хоть она в трусах, мрачно отметила Ленка, усаживаясь подальше и радуясь, что полосатый чехол необъятен, как материк. Стащила сарафанчик, поправила лямочки купального лифчика. И молча, надеясь, что не покраснела щеками, стала смотреть на сверкающее море.
— Шампанское в лилию! — заорал с тропинки Кинг, вкусно раскатывая слова, и все подняли головы, щурясь от солнца.
— В шампанское — лилию! — Кинг поднял руки, сверкнуло зеленое бутылочное стекло, — ее целомудрием святеет оно! О, как сказал, да?
— Миньон с эскамильо!
Договаривая стихи, топал уже по песку, и упал рядом с Ленкой на колени, ставя бутылки на покрывало. Ни плавок, ни трусов на нем тоже не было. Ниночек повернулась, облокачиваясь и с интересом разглядывая мощную поджарую фигуру, пресс и белую рядом с легким загаром задницу.
— Блин, — шепотом сказала Ленка, — вы достали, перцами своими. Она теперь все глаза об тебя смылит, а мне куда деваться?
— А ты снимай свой сиськодержатель, — безмятежно предложил Кинг, укладываясь рядом и кусая ее за бедро, — и нормально позагораем. Снимешь?
Ленка быстро оглядела раскинутое покрывало, пустынный пляж, скалы на краю бухточки. Димона с куском колбасы в руке. Ниночку с темными сосками, такими назойливо яркими, что казалось, она смотрит ими, а не глазами.
— Сниму, — ответила, — если пообещаешь, что не будешь ко мне приставать тут, с сексом. При них.
— Вы чего там шепчетесь, — недовольно окликнул Димон, — ползите сюда, у нас жратва, у вас винище.
— Жестокая! — возопил Кинг, садясь и вздымая руки, — о-о-о, жестокая королева ледяных земель, хозяйка айсбергов и белых ведмедей! Я всем расскажу, что ты…
— Сережа! Перестань!
— Что ты! Ты!..
— Серый!
— Если ты немедленно, я сказал «немедленно» меня не поцелуешь! Сюда. Нет, сюда. Сюда, вот!
— Обойдешься, — сказала Ленка, ловя его голову и целуя в скулу, — еще чего, фу, гадость какая.
— Нет у меня гадостей, — оскорбился Кинг, снова валясь на покрывало, — у меня одни прекрасности.
— Сережа, — кокетливо позвала Ниночка, — давай я поцелую, я могу. Везде.
— Нет, — отказался Кинг, открывая глаз и взглядывая на Ленку, — нельзя и не хочу, я занят, перезвоните попозже, у меня дипломатические переговоры о покорении дикого севера.
Ниночка слега надулась и, отворачиваясь, стала занимать беседой Димона.
— Ты болтун, оказывается, — засмеялась Ленка.
— Меня легко выключить, я молчу когда мне чешут спину. Вот тут. И тут тоже.
Ленка нагнулась, а Кинг поспешно вытянулся, бросая на покрывало руки и закрывая глаза. Упала на них тень — Димон пришел за бутылкой и шевелясь где-то сбоку, Ленка старалась не смотреть на него, выложил нарезанные бутерброды.
— Баш на баш, от нашего стола вашему, — и ушел, прижимая бутылку к боку.
И все оказалось намного лучше, чем думалось Ленке. Никто никому не мешал, нагреваясь, уходили купаться, разок девочки выкупались вдвоем, а в другой раз Кинг утащил Ленку на дальний меляк и там заставил снять плавки, намотал их себе на запястье, и вместе, голые, долго плавали и ныряли, смеясь, пока не нахлебались воды. А после Сережа послушно ждал, чтоб Ленка натянула свои маленькие мокрые, чисто символические плавочки — выйти в них из воды и снова устроиться на своем углу бескрайнего покрывала. Белое легкое вино покачивало горизонт, ребята не пили вовсе, и Кинг время от времени хохотал, когда Ленка, кося глазами, подозрительно следила за тем, куда встает и что собрался делать. И он, к ее радости и горячей благодарности, не делал ничего, что могло испортить поездку. Даже на авансы Ниночки не отвечал, отделываясь шуточками, не обидными, но очень ясными — отшивал, заодно объясняя, почему отшивает. Вот моя женщина, было прописано в каждой шуточке, она со мной, а я с ней.
Обратно ехали уставшие от морской воды и солнца, Кинг переместился на заднее сиденье, и пока Ниночка вертелась на переднем, поправляя длинные волосы и болтая с Димоном, сидел, уложив Ленку головой на свои колени, вернее, ухом на ладонь, защищая от внезапной тряски, а другой рукой придерживал ее плечо. Лоскутная курточка укрывала короткий подол сарафана и Ленка, прикрыв глаза, почти дремала, иногда приподнималась, посмотреть, где едут. Но Кинг укладывал ее снова.
— Лежи. Не завезем, не обманем.
— Мне к Рыбке, там, ну на углу.
— Ясно.
— Я оттуда сама.
Над ее головой Кинг что-то говорил Димону, или Ниночке, потому что та в ответ смеялась, и Ленка думала, качаясь, может, это она звонила Кингу? Хотя он рявкнул — завтра. А Ниночка вот она — сегодня. Хотя мало ли насчет чего, может, «завтра» — это значит, у них завтра свидание.
Еще она думала, что же чувствует от своих догадок, даже не совсем догадок, ведь ему точно звонила какая-то. И радуясь, что не ревнует, снова закрывала глаза. Ехать, куда везут, позволяя широкой ладони придерживать голову, а другой руке поправлять уползающую с бедра куртку, было приятно. Очень приятно. Он такой сильный. И так правильно поступает, во всех этих мелочах, таких понятных женщинам, даже когда они совсем еще девочки. А парни вечно в них прокалываются, хотя мелочи такие простые. Ленка секретно улыбнулась, поерзав на коленях, чтоб лечь удобнее, обхватила Кинга рукой и зацепила палец под кожаный ремень джинсов. Глупые, совсем глупые парни. Не понимают, что секретное оружие совсем простое, выучи десяток правил, которые работают. И все девчонки будут твои.
Машина поворачивала, Ленка пыталась догадаться, где. Открывала глаза, видела кусочек окна и в нем голубое небо, вдруг — серый угол дома или мелькнувшую ветку. И снова закрывала, думая — я совсем не здесь, эти места — не отсюда, мы едем куда-то…
— Проснись, инфанта, — голос звучал сверху, будто падал на щеку, и хотелось провести пальцами, чтоб его потрогать, — почти приехали, проснись, северный оленик.
Она села, заваливаясь на Кинга, а тот смеялся, обнимая рукой ее плечи и быстро целуя в щеку.
— Беги. Я позвоню, завтра. Нет, завтра занят, короче, как только, так сразу. И снова устроим праздник голых жоп. Идет?
— Сережа, ну вот ты какой!
Жигуль встал, дверца открылась, Ленка выбралась, таща сумку за перекрученные ручки. Кинг улыбался, блестя крупными зубами.
— Зато сразу проснулась, так? Ладно, специально для ледяных инфант: устроим праздник майской обнаженки!
— Пока.
Ленка помахала рукой всем, кто внутри, и ушла, тоже улыбаясь. Ну, такой болтун, и видно, что ему приятно болтать именно с ней, вон Ниночка на каждую шутку сперва морщит лоб, соображая, потом начинает смеяться зазывно, и сразу ясно — ничего не поняла.
Часики показывали половину шестого, и Ленка побежала вверх, торопясь по зашорканным ступеням. Просто узнать, что там Рыбища, потом домой за пакетом и быстро в больницу, ну, это всего минут двадцать скорым шагом, успеет.
На ее звонок за дверью громыхнуло и Ленка обрадовалась, топчась и поправляя курточку, кто-то дома, хорошо бы Оля. И застыла, всматриваясь в неясный силуэт в полутемной прихожей.
— Заходи, — бросила Оля и, как обычно, отвернулась, уходя в кухню.
Ленка на ходу скинула шлепки, торопясь следом и рассматривая Рыбкины волосы.
— Ох. Ты…
Оля села и независимо задрала остренький подбородок, скрестила руки на цветном фланелевом халатике.
— Да! Теперь такая буду.
Но тут же поправила новую стрижку, короткую, открывающую длинную шею, и волосы — русые, почти каштановые, темненькие — спросила тревожно:
— Ну, как мне?
Ленке совсем не понравилось, но она поспешно ответила, садясь напротив:
— Нормально, ой, хорошо, да. Непривычно только.
— Врешь. Да и ладно.
Они помолчали. Оля, бросив руки на стол, сплетала и расплетала пальцы, внимательно разглядывая их, солнце светило сбоку, и ее лицо было темным, почти неразличимым. Оставался голос, но Оля молчала.
— Ты из-за него, да? Оль. Ну, ты же знала, какой он.
— А ты где была? — отрывисто спросила Рыбка, сцепив пальцы.
— На море, — покаялась Ленка, — да ну, фигня все это. Наверное, надо мне завязывать с Кингом.
— Почему это? Наглеет?
— Нет. Не в этом дело. Оль, мне нужно в больницу бежать, прикинь, Светища попала, на сохранении, ничего, сказали, серьезного, но нужно смотаться. Я ж пришла узнать, ты как. А ты меня пытаешь. Ганя-то как?
Оля повернулась к окну, вернее, отвернулась от Ленки, и свет обрисовал новый профиль: из-за коротких, будто прилипших к вискам волос, олин носик вытянулся, делаясь острее. И эта тонкая шея, как у жирафчика, маясь жалостью, подумала Ленка, нужно, чтоб они отросли и легли пышнее, будет нормально. Наверное.
— А что Ганя. В своем репертуаре. Стал меня за жопу хватать, ой, я соскучился, хуемое. Я ему говорю, Коль, сережки верни. И он такой хоба… молчит. Я смотрю, а он не помнит. Ленк, ваще не помнит, чего было. Я говорю, ты забрал… смеялся. И он снова, как заржет, и стал, ну точно дурачок, плетет фигню, та я специально, чтоб ты не ушла. Я говорю, ну вот видишь, я не ушла. Вернешь? И он мне: та я потерял. Фу. В общем, я повернулась, пошла, а он за мной, и тут его Лилька. Ты помнишь, сказал, мы попрощались.
— Да помню, — сердито кивнула Ленка.
— Под ручку его зацепила, мне кивает и такая — а ты сказал Оле, пригласил? Я думаю, чо сказал, куда пригласил. А она, ну что же ты, Ника, прикинь, она его Никой называет, и мне — мы заявление подали, когда я приеду, через месяц, будем свадьбу. Делать.
— С ним? — поразилась Ленка, поводя под грубой джинсовкой сгоревшими на солнце плечами, — она совсем дура? Какой из Гани муж?
— Ну, — не согласилась Оля, но воздержалась от споров. Покусала губу и продолжила решительно, — короче, я уезжаю. В понедельник.
Ленка, уже приподнимаясь, быстро глянула на часы, и не успев разглядеть время, снова бухнулась на прохладный табурет.
— Чего? Ты с дуба упала? А экзамены? Ну, хрен с выпускным, но аттестат! Оля, не глупи.
— Да я с дому выйти боюсь, такая стыдуха, — закричала Оля, нагибаясь над столом, — как я пойду? Со мной такое, мне лазить там, а все смотрят!
— А как я хожу? Уроды вообще пленку крутили, со мной, а я хожу!
Ленка тоже кричала, вскочив и стоя над олиной темной макушкой.
— У тебя Кинг. Отмажет от всего. И подпишется за тебя.
— Угу. И глаза всем выдерет, чтоб не смотрели. Ты что думаешь, мне надо, чтоб он за мной ходил и морды бил? И у него тыща телок, чтоб ты знала. А я тыща первая.
Оля подняла белое лицо с пятнами на скулах. Сказала уже спокойнее:
— В егеря пойду. Ну, обходчики, в лесу. Вот, — и двинула к Ленке книжицу в десять листочков, с тусклой картинкой на мягкой обложке.
Ленка пихнула брошюру обратно.
— Еще не легче. Обходчик Рыбаченко. Да там в лесах на сто верст никого. Набежит какой урка, и все, кранты тебе.
— Там ружье! У меня будет. Тут пишут вот, в Суздале набор в лесное училище.
— О-ля! В общем так, я убегаю, а завтра мы с тобой все решим. В школе. Ты поняла, человек с ружьем? В школе!
— Ладно, — ворчала Оля, шлепая за сердитой Ленкой в прихожую, — чего вопишь, я ж не глухая, ну завтра, хорошо. А ты чего с Семки, совсем горшки побила?
Ленка усмехнулась, суя ноги в шлепки.
— Это она со мной горшки побила. Чего я буду бегать? А вы завтра собрались куда-то?
Оля пожала прямыми плечами, дернула нитку на полуоторванном кармане.
— В том и дело, что нет. Она мне позвонила и спрашивает, а Малая завтра что делает? Я говорю, так звякни ей и спроси. Она что-то непонятное сказала и трубку повесила.
— Мириться хочет наша Семки, — кивнула Ленка, — ну и нормально, а то я соскучилась уже. Олька, не смей хандрить. Цемки Олю в счочку. Все, я побежала.
Домой Ленка ворвалась, еле успев открыть ключом двери, и сразу кинулась в туалет, стискивая ноги, содрала с себя трусики и повалилась на унитаз. Еле успела, обрадовалась, переводя дыхание и вслушиваясь в приглушенное треньканье гитары. А Жорик, похоже, так весь день дома и провалялся, пока Светища его не гоняет по хозяйству.
В коридор они вышли вместе, и Жорик, держа гитару за гриф, ухмыльнулся, разглядывая встрепанную Ленку в одном шлепке. Она снова ждала язвительных подначек, но сказал только:
— Алла Дмитриевна уехала в аптеку, просила купить молока.
— Меня просила? — уточнила Ленка, скрываясь в комнате и там на ходу сдирая с себя сарафанчик с мятым подолом.
— Ну не меня же, — удивился в коридоре Жорик.
Через пять минут Ленка выскочила, уже в своей полосатой юбке и белом батнике, перешитом из мальчиковой школьной рубашки. На Жорика натолкнулась почти в дверях своей комнаты и с удивлением отступила от его живота в растянутой майке. И чего топчется, пройти не дает. Быстро осмотрела себя в зеркале, хватая щетку и продирая спутанные ветром волосы. Отражение Жорика маячило за ее плечом.
— Может, ты купишь? — спросила у отражения Ленка, — а то когда я обратно еще, придется в центральный бежать.
— Я занят, — быстро ответил Жорик, — надо было раньше приходить, тогда все и успела бы. А завтра я утром к Светке.
Ленка почти задохнулась от возмущения, но спорить не стала. Повернулась, смерить придурка презрительным взглядом, но он уже скрылся в комнате и снова затренькал. Прокашлялся и запел, вибрируя пронзительным голосом, с нажимом повторяя некоторые слова:
— Всем нашим встречам Разлуки увы… ууу-выыы, сужденыыыы Тих и пе-чален… пе-ча! лен ручей У янтарной сосны!Ленка рядом с вешалкой дождалась нужного аккорда и с треском захлопнула входную дверь, выскакивая в подъезд.
Глава 30
В окно залетал тополиный пух, щекотал кожу, а то прилипал к ресницам, и Ленка моргала, пальцами осторожно снимая щекотные паутинки. Светища ежилась, запахивая воротник халата и, наконец, сказала решительно:
— А ну его, пойдем в кусты.
Они проскочили за спинами посетителей мимо стола, за которым сидела тетка в белом халате и торчащей косынке, и вышли на крылечко с тремя обкрошенными ступеньками. Вечернее солнце текло медленным светом, заливало двор и газон, и путалось в густой зелени высокой сирени, утыканной одинаковыми фиолетовыми гроздьями.
Сестра решительно прошаркала большущими кожаными тапками прямо на газонную травку, обогнула куст и оттуда позвала вполголоса. Ленка шагнула следом, оглядываясь, села рядом на теплую бетонную плиту, а сирень висела над головами, трогая волосы кистями цветов, и пахла. Летали вокруг пчелы и мельтешили бабочки, маша крыльями так, будто всплескивали белыми ладошками.
— Долго не будем, — сказала Светища, ерзая на картонке, — тебе надо билеты учить, такое-всякое. Где была? Нос обгорел.
— Да? — испугалась Ленка, трогая пальцем нос, — вот блин, теперь красный будет. На маяке загорали.
— С кем?
— Неважно, — слегка разозлилась Ленка, — я к тебе пришла, это ты мне должна говорить, чего тут, как кормят, кто храпит.
— Чего? — Светка удивилась, но тут же рассмеялась, — а, в палате. Нормальные девочки. Тане сорок уже, третья беременность, прикинь, старшая дочка, потом близнецы — девки. Хочет сына. А Лида, ой ты не видела Лиду, худая как спичка, а впереди живот, точно — мяч за пазухой. А тебя спрашиваю, чтоб не оказалась, как я. Если не хочешь говорить, с кем куда мотаешься, твое дело, но чтоб секс — с резинками, поняла?
— Говорила уже, — кивнула Ленка, — ты сама как? А то девочки какие-то за сорок, я тут еще. А ты?
— Нормально. Всю жопу истыкали. Летка, да не кривись, ну полежу немножко, вернусь, ты уже экзамены будешь сдавать.
— Не напоминай, а? Ненавижу. Скорее бы.
— Сдашь. Нормально.
Они замолчали. Ленка, сидя рядом, ждала, что сестра спросит, про мужа, как он там. Мысленно репетировала бодрые и осторожные слова, насчет — нормально.
— Интересно, как там Петька, — сказала Светища совсем поперек ее мыслей и Ленка вздрогнула, загораясь надеждой. Ответила, отмахиваясь от пчелы:
— Прекрасно. Крутой, как Эверест, командует студентами. Инструктор.
— Погоди, а ты откуда…
— А красивый какой! Май, а он весь в загаре, прям, Тур Хейердал, уж на что я не люблю всяких блондинов, но Петичка, ну просто…
Светища встала, не дожидаясь конца фразы. Дернула пояс халата, затягивая выше талии.
— Пора мне, ужин скоро.
Ленка замолчала и тоже поднялась. Пошла следом. С крыльца уходили посетители, оглядываясь и маша руками, а лицами к ним стояли на газоне новоиспеченные отцы — молодые и не очень, рядом с ними бабушки и другие близкие родственники, кричали, надсаживая глотки, краснея щеками, и всматриваясь каждый в свое окно. Оттуда им кричали тоже. И когда Ленка попрощалась с сестрой, и пошла на тротуар, то увидела и их — женщин в окнах, с подушками, положенными на подоконники, чтоб не простудить грудь. Осенью так будет маячить Светища. Которая не спросила про своего Жорку, ну, завтра он явится сам.
Через пару дней Ленка и Кинг лежали в его спальне, раскидав по сбитым простыням руки и ноги, отдыхали, остывая. Только что звонил телефон в коридоре, и Кинг вышел, голый, с блестящими от пота плечами и спиной. Снял трубку и после говорил вполголоса, а Ленка, разглядывая потолок с дурацкой люстрой, старалась не прислушиваться к тому, назовет ли имя, а если нет, то будет ли понятно, с женщиной говорит или с мужчиной. Если поймать каждое слово, наверное, несложно угадать, лениво думала Ленка, радуясь тому, что можно просто так лежать, не укрываться и не дергаться от того, что кто-то ходит в коридоре, а еще можно встать и пойти, вот как лежала, так и пойти в туалет или на кухню… Отвлеклась, строго одернула она себя и повернулась на живот, легла, подперев подбородок кулаками. Так вот, если прислушиваться, и угадать, то что дальше? Она не каменная, и получается интересная, хлопотная вещь. Чем больше ей нравится то, что они тут делают, тем ревнивее знать, что в эту постель ложатся другие. И ревность какая-то странная, ведь любви тут нет, это точно. И нравится ей даже не секс, потому что кончать с Кингом не всегда получается. А если получается, то Ленка никогда ему не скажет, что точно так же она кончала сама, устроив руку под одеялом и думая про свое очередное увлечение — мальчик с картинки в модном журнале или какой литературный герой, а то мимолетные знакомцы, что менялись в ее мыслях как листочки в календаре. Он умный, но обидится. Она уже поняла, такие вещи обижают мужчин — куда девается ум.
Кинг хлопнул дверями кухни, потом пощелкал выключателями, и ушел в ванную, встал там над унитазом. Дверь не закрыл, улыбнулась Ленка, слушая. Вот как ни странно, это ей и нравилось больше всего. Что можно быть — голыми. Она что, такая развратная? Но вспомнить ту же Ниночку, к примеру, которая, глядя на Сережу, начинала сопеть, и трогать себя руками, проводить по груди, и щурить глаза, облизывая губы языком. Ленка такого не делает, еще и потому, что она такого не чувствует. Но двое неодетых, когда она лежит, а мужчина сидит рядом, положив ногу на ногу, говорит о чем-то, а после встает, идет к балкону, задернуть штору. И тут она встает, подходит к нему, постоять на глазах у неба и деревьев, просто так, без одежд. Это почему-то нравится ей очень сильно. Но нельзя влюбляться, спохватилась Ленка, ни в коем случае, в него — нельзя. Потому что он все время чужой, а еще, такие, как Сережа Кинг — они живут другую жизнь, опасную и не для обычных людей.
— Леник, — сказал он, появляясь в дверном проеме, — лови.
Ленка ойкнула, поймав холодное яблоко, прижала его к груди. Кинг сел рядом, ероша ладонью короткие волосы, потер шею, крепко проводя по плечу.
— Пора, да? — Ленка примеривалась, с какой стороны куснуть яблоко, светлое, с розовым бочком.
— А ты еще хочешь? — он поднял ее ногу и уложил к себе на колени, обхватил щиколотку, — тонко, смотри, с запасом, — показал ей, приподнимая плененную ногу.
Ленка засмеялась.
— Не знаю. Нет, не хочу, но полежать если. Я тебе почешу спину, хочешь?
Кинг немедленно отпустил ногу и упал рядом, раскидывая руки. Ленка села, склоняясь над широкой спиной, провела пальцем по выпуклым мышцам от талии к плечам.
— Красиво. Ты красивый. Красивый Кинг. Король Серджио.
— Мы красивые, — лениво поправил Кинг, — голые красивые. Только секса ты со мной не очень-то хочешь.
— Ты красивый. Я нет, — возразила Ленка, укладывая обе ладони, прижимая, повела ими по теплой гладкой коже, — ты знаешь, какой на ощупь красивый? Можно гладить целый день. И тут. И вот тут.
— А тут зря, но давай еще.
— Почему зря? — Ленка наклонялась, концы волос падали на голую спину, щекоча, потом отклонялась, и на их место снова ложились ладони, потом — кончики пальцев.
— А-а-а-а, — сказал Кинг, нашаривая ее бедро, — по кочану, а то не понимаешь. Ты что делаешь, а? Ты, ледяная принцесса, северный Леник-оленик, ты что со мной делаешь? Некрасивая, говоришь? Я зеркало заказал, в мебельном. На потолок. Видишь дырки? Повешу, посмотришь, на некрасивую. Дай ногу. И эту. О, черт!
Ленка вдруг стала куклой, совсем без своих движений, но быстрой и гибкой, потому что он был намного сильнее ее. И больше. Делал так, чтоб она двигалась, и она мягчала, поддаваясь, чутко слушая всеми суставами, кожей, где и в какую сторону нужно согласиться с его пальцами, на секунду раньше, чем он надавит, приказывая движением. И движения, сперва медленные, убыстрялись, как танец, который Ленка увидела, со стороны, будто в том самом зеркале, и двое правда, были удивительно красивы. Прекрасны. На широком диване, который никогда не складывался и, наверное, никогда не стоял без простыней и подушек.
— Опять не кончила, — сказал Кинг с упреком, когда снова лежали смирно, почти не размыкаясь, переплетя ноги.
Потянулся за часами, которые валялись на полу, рядом с джинсами, и Ленка засмеялась — на белой заднице пламенел отпечаток ковра россыпью красных точек.
— Прибегай ночевать, Леник, — Кинг надел часы, щелкнул застежкой браслета, — не сегодня, ну скажем, в пятницу, а? Хочу с тобой поспать всю ночь, храпеть, придавить к стенке, чтоб утром жаловалась. Потом яичницу сделаем. Хочешь, вина возьму, напою как поросенка, а ты мне истерику закатишь среди ночи. Пьяную. Чего смеешься? Нет, я не понял, я тут горы златые, а она хихикает.
— Сережа, в тебя влюбиться можно, только за это вот, как ты болтаешь.
Кинг встал, голый, в часах на руке, погладил живот.
— А еще у меня кубики, видишь? — похвастался и сам рассмеялся тоже, — подъем, Леник, пора мне бежать.
Ленка села, убирая за спину волосы. Воспоминание о телефонном разговоре пришло, даже какие-то фразы припомнились, а думала, не услышала ни слова.
— Сегодня, — сказала, как прыгнула в воду с высоты, — сегодня приду, а потом не могу уже. Прийти?
Протянула руку за трусиками. Медлила взять, внимательно ожидая, как ответит. Кинг не замялся ни на секунду, покачал головой, суя ногу в штанину.
— Нет, котик-бормотик, сегодня дела. Ну, будут еще у нас ночи. Давай, в темпе.
Одеваясь, Ленка ругала себя, пока он там снова плескал водой в ванной и звякал чем-то. Проверила, называется, а вдруг перезвонит этой, с которой говорил («вечерком сегодня, лап, ну отлично, жду»), и поменяет планы. Из-за Ленки. Не поменял.
Уже в подъезде, дожидаясь, когда закроет два замка на двери, она вдруг спросила:
— А с Ниночкой ты спал?
Повернулась на его молчание, добавила, обращаясь к широкой спине в синей коттоновой куртке:
— Спал. Я ж вижу, спал. Это она придет, да? Вечерком, лап.
Кинг сунул ключи в нагрудный карман, пошел рядом, застегивая его на пуговицу. Шаги шуршали и постукивали одновременно. Это потому что пыльно, подумала Ленка и задержала дыхание. В квадратном окошке над лестничным пролетом и, правда, кружились бесчисленные пылинки.
Перед выходом, который казался открыткой с нарисованными по краям ветками сирени — белой и фиолетовой, Кинг взял ее локоть, потянул, ставя рядом. Сказал сверху слегка раздраженным голосом:
— Я Нинку знаю уже год. Тебе дальше говорить?
— Не надо, — Ленка хотела выдернуть локоть из его пальцев, но не стала.
— Димон только сейчас на человека стал похож, а так на него западали одни поблядухи, на машине покататься. Всех телок попилиться я ему подгонял. И Нинку тоже. Для друга не жалко.
— Подарил, значит. Насовсем? Или напрокат?
Она закрыла глаза, испугавшись собственных слов, но тут же открыла их снова, боясь, вдруг что случится. Прилетит затрещина… или локоть вот.
Но он отпустил ее руку, от неожиданности Ленка качнулась и снова встала прямо.
— Леник, будешь много язвить, я тебе врежу. Будь умницей, не порть, что имеешь. Так, сейчас постой, я выйду, а ты через пару минут. Ясно?
На ее кивок улыбнулся, прижал к себе и отпустил. Скрылся в рамке, увитой сиреневыми кистями. Сверху мимо неподвижной Ленки прохромала грузная тетка, заполнила собой проем и ушла, кыская и вертя седой головой.
Ленка постояла еще минуту и вышла следом, снова увидев себя со стороны. В рамке весенней зелени, с пылающими щеками, будто Кинг уже сделал то, что пообещал. Врезал. Наверное, это шутка такая. Не мог же он говорить серьезно. Многие орут, сердясь, «убью», но не убивают же. Но на сердце было тоскливо, и щеки горели, причем одна пылала сильнее, как от удара.
«А сама виновата» пришел в голову наставительный мамин голос, она всегда так говорила, сколько Ленка помнит себя, и ведь правда, во всем и всегда можно свою вину найти. А сейчас виновата вообще кругом, со всех сторон. Вместо того, чтоб школа-экзамены-поступать. И знать, какой жизненный путь и прочее. — Она прыгнула в койку, сперва к Пашке, потом почти сразу к Сереге, и вот уже на море были, считай, вчетвером голые. Конечно, сама виновата, чего теперь плакать и жаловаться.
Шла стремительно, почти бежала, досадуя на яркий весенний день, который блистал вовсю, хотя солнце клонилось к закату. И сворачивая за угол дома, наткнулась на Викочку Семки. Та от неожиданности шарахнулась в сторону. В другой раз Ленка бы обрадовалась, а потом рассердилась, схватила Семачки за рукав, обругать за капризы, утащить на лавку в кустах — пусть рассказывает свои новости. Но сейчас было не до того, и Ленка, не обратив внимания на свекольный румянец, заливающий конопатое личико, кивнула:
— Викуся, я… мне надо срочно.
И проскочила мимо, уже почти бегом.
— Лена, — мамин голос не поспевал за ее шагами, и по коридору мимо ванной от кухни поднимался сквозняк, колыхая штору из магнитофонной ленты на двери в Ленкину комнату.
— Где тебя носит? Ну, все я должна делать сама! Светочке выписали рецепт, возьми, и попроси, наверное, Пашу, пусть повезет тебя в ту аптеку, в Камыше, где склад, мне Ирочка сказала, там может быть. А Георгий ушел за молоком, утром никто из вас не мог купить молока, да?
Ленточки снова взметнулись, пытаясь догнать Аллу Дмитриевну, шурша, повисли. Ленка отвела их рукой, открывая двери. Ага, Пашу, попросить…
— Мам, а почему папа не поедет? Зачем эта машина, если она все время в гараже?
Алла Дмитриевна резко остановилась, дернула рукой, стряхивая с плеча ленты.
— Он снова что-то там в ней разобрал. В этой своей машине. А сделать обратно не успеет. Ты видишь, что творится? Завтра наш папа уходит в рейс.
Ленка в одном шлепке встала столбом, растерянно глядя на маму.
— Как в рейс? Уже?
Та махнула рукой и снова ушла в кухню, загремела там, перекрикивая кастрюли:
— Короткий. Месяц всего, по Черному морю. Ну вот скажи, оно ему надо? Видите ли, кто-то там не может пойти, видите ли, его попросили. На замену. А то что дочка в больнице? И вообще.
Ленка разулась и ушла к себе. Стоя за дверями, чтоб мама не распахнула их внезапно, содрала трусики, принюхиваясь к резкому, но быстро исчезающему запаху, надела свежие. Скомкав в руке снятые, вышла и быстро заперлась в ванной, сунула комочек под кран и стала намыливать, слушая мамины возгласы. Постирав, повесила на карнизик, пряча за клеенчатую занавеску с вылинявшими дельфинами. Выходя, наказала себе строго, таскать в сумке запасные. В маленьком пакетике. Как в том романе, где героиня говорит, а я снятые снова уже не надеваю. Только свежие. Правда мама все равно совершенно ничего не замечает, даже смешно. Паша. Она даже не поняла, что Паша сто лет не появлялся и не звонил.
Ленка ушла в кухню, налила себе молока в кружку и села, вытягивая под стол ноги. Коленки немного пекло, подпалила морским солнцем.
— И хлеба, Лена! Боже мой, я забыла сказать Георгию про булочки, а Светочка просила.
— Да куплю я. Сейчас пойду.
Мама влетела в кухню и села напротив. Поправила волосы.
— Леночка, ну раз так сложилось, то и хорошо, что ты не уедешь. Бабка написала письмо. Она совсем собралась сюда, представляешь? Я уговорила папу, чтоб позвонил. Завтра. Закажем разговор. И я сама! Я сама ей скажу, что Светочке и Георгию нужна комната, что ты устраиваешься на работу. Ты уже думала, куда ты пойдешь? Я сама возьму и скажу ей!
— В ателье, — сказала Ленка, допивая молоко, — ученицей мастера.
— Лена… — Алла Дмитриевна растерянно огляделась, будто желая спросить совета у вазочки с конфетами, деревянной хлебницы, кастрюлек на самодельной полке, — ну… а там как? Ох, ладно, потом поговорим. Хорошо, что Светочке будут платить декретные.
— Хорошо бы Жорик пошел работать, — подсказала Ленка, суя кружку в мойку.
Мама выразительно закатила глаза и вздохнула.
Поздно вечером Ленка валялась в постели, рассеянно листая толстую, затрепанную донельзя книжку Джека Лондона. Она всегда брала ее, когда нужно было отвлечься, и историю двух братьев, влюбленных в одну и ту же девушку знала наизусть, и вот перечитывала снова, вдруг обнаруживая сходство с тем, что происходит в ее собственной жизни, потому что в книге один из братьев думал, что любимая — ему родная сестра, и мучился из-за этого, конечно. В десятый раз пробегая глазами знакомые строчки, не видя, но слыша их мысленно, Ленка вздохнула. Да она все ситуации теперь примеряет на себя. И на Валика Панча, который постоянно маячит в ее голове фоном всему. И хоть это смешно, но оказывается, каждую ситуацию, даже, как любила говорить Рыбка — «почем яблоки в Тамбове», — можно примерить, чуть-чуть подогнать и она подойдет.
Хотелось спать, но Ленке нужно было дождаться отца, она дала себе слово, боясь, что он уедет внезапно, когда она в школе. Слово поговорить с ним наедине. О Вальке. Имеет же она право, в конце-концов, рассердилась Ленка, откидывая одеяло и суя ноги в тапочки. Она покупала то лекарство, хотя так и не сказала отцу, про бабку и что пришлось покупать. Но все равно, возилась, по его поручению. Да и не боится она спросить, папу точно не боится. Скорее не знает, что именно надо делать дальше. Личные события последних двух месяцев будто схватили ее за шиворот и куда-то перетащили, швырнули в другое состояние. И она теперь, как две Ленки. Одна — та самая, нежно и горячо влюбленная в красивого (такого красивого, снова вспомнила Ленка и сердце привычно закололо) мальчика, который еще даже не бреется. И другая Ленка, которой хорошо и естественно валяться голой на простынях, пахнущих горячей кожей двоих. С мужчиной старше на десять лет, и она с ним почти на равных, он смеется ее шуткам, слушает и говорит с ней. Она сейчас — его женщина.
Сидя на постели, Ленка прислушалась к себе, выравнивая внутренние весы и задержав дыхание, чтоб точнее показали — что же перевесит? Что для нее настоящее, а что — пустяк, временное? Если доктор Гена был прав, то Кинг, с его серыми, затененными густыми ресницами глазами, уверенной улыбкой и кубиками на твердом животе, он — настоящее. А Валька — просто романтическое воспоминание, и лучше мальчишку не дергать, пусть там влюбляется, смеется, гуляет с девочкой. Вспоминая.
Весы качнулись в одну сторону, в другую. И застыли ровно. Ленка сердито встала и прошлепала в угол, где были свалены вещи из мастерской Вадика. Она не успевала их разобрать, и мама уже раз десять с торжествующим видом качала головой, вот мол, так и думала: принесла, побросала…
Присела на корточки, вытаскивая сверток с недоделанными сандаликами. Мама права, надо закончить работу. Хотя маме будет приятно как раз другое — если Ленка бросит их валяться, а она скажет, ну я же говорила!
И, держа в руках атласно блестящие подошовки, Ленка вдруг упала в воспоминание, которое ни разу не додумывала до конца, одно из тех нескольких, посчитанных, затолканных в дальний угол памяти, чтоб не резали душу.
Сидела на корточках, в трусах и майке, положив на колени руки с сандалями, по полу распустился длинный ремешок. Смотрела в стену, оклеенную блеклыми обоями в синие и белые цветики. Там, за невнятным орнаментом уходила к небу рыжая степь, полная высокой травы с наклоненными в одну сторону верхушками. Над степью шли валким ходом тяжелые облака, белые, но с темными, полными дождей животами. Солнце ныряло в просветах, пряталось, забирая цвета, а после выходило, и трава становилась такого золотого цвета, что удивлялись глаза.
Они шли медленно, глядя по сторонам, болтали и смеялись. Это был целиком их день, удрали оба, набрав в сумку наспех сделанных бутербродов, а еще там был пакет с Валькиными таблетками и бутылка с водой.
Сумку несли по очереди, шли далеко, за Хамелеон, на песок Тихой бухты. Ленка рассказывала, что горы, конечно, красивые, а вот таких бухт, поросших по границе песка деревцами лоха, круглых, радостных, в окрестностях Керчи много, и пусть только Панч приедет, она его потаскает везде-везде.
Это было почти в самом начале, еще до того, как она призналась себе честно, и тогда у нее внутри тоже были весы, но на чашках лежали другие вещи, на обеих был Валька, но по-разному. Только ленкин брат. Или — не только брат… Она не следила за теми весами, просто временами удивлялась, что там у нее прыгает вверх и вниз.
Потом устали, оба, сумка тянула вниз, плечо ныло. Ленка понесла ее совсем чуть-чуть и снова отдала Валику.
— Держи, а то у меня рука отваливается.
— У меня тоже, — обиделся он, неохотно беря сумку.
Это был первый раз, когда Валик обиделся, и Ленка тут же отметила настроение. Поспешила мысленно его оправдать, ведь совсем мальчишка и конечно, устал.
— Посидим? — она огляделась, передернула плечами. С моря дул настойчивый ветерок.
— В три уже день кончится. Некогда сидеть.
Он пошел вперед, не оглядываясь, высокий, с опущенными плечами, на голову наброшен капюшон и сбоку ветер треплет черные пряди, а лица не видно. Ленка заторопилась следом, подвернула ногу и села с размаху, растерянно глядя вслед. Крикнула, ветер отнес голос в сторону, Валик продолжал идти, клонясь плечом, оттянутым злополучной сумкой.
Она нахмурилась, прикусывая нижнюю губу, встала резко, хотя очень хотелось упрямо сидеть, пока он не повернется, чтоб ахнул, подбежал. А она вся такая томная, подумала Ленка дальше и фыркнула, сердясь и одновременно смеясь над собой. Пошла быстрее и заорала на ходу, уже совсем рассердившись:
— Да подожди, ты, экскаватор шагающий!
Панч встал, не поворачиваясь. Ленка подошла и дернула с его плеча сумку.
— Давай. Отдохнула уже. Посидела.
— Не дам! — он согнул локоть, прижимая ремень.
Ленка дернула сильнее. Тогда Панч повернулся, очень быстро. И пару минут они пыхтели, почти дерясь, выдирая сумку друг у друга, красные, злые и оба недоумевающие.
— Да от-дай же! — Ленка дернула, как следует, щелкнула, не выдержав, пряжка, ремень распался на два хвоста.
Нагибаясь, чтоб поднять, вместе, они столкнулись, как это бывает в кино, когда ах, и вдруг внезапный поцелуй, Ленка даже полсекунды его ждала. Но поняла, что тут не кино, а как-то все по-другому.
Несколько мгновений стояли, сцепившись, полные непонятной злости, смотрели глаза в глаза, почти с ненавистью, тяжело дыша и тесня грудью друг друга. А потом Валик шагнул назад, опуская голову. И Ленка отступила, а между ними лежала помятая сумка, раскинув ремень.
Это было так непонятно, что оба промолчали, и просто медленно пошли дальше, а через пять минут осторожных переглядываний стали фыркать, давиться смешками и, наконец, отсмеявшись, снова стали собой, заговорили свободно и легко, толкались в плечо, хватались за руки. И так и не стали выяснять, какая зимняя муха покусала обоих.
Новая Ленка, Ленка после Кинга, сидела в комнате, за окном которой дремала майская ночь, полная запахов и далекого соловьиного пения, и думала, что кажется, может быть, она вдруг поняла, кого увидела там. Валик Панч, тонкий высокий мальчишка, он вырастет, станет мужчиной, и когда придет его время лечь в постель с кем-то (конечно, печально понимала она сейчас, не с ней), он будет там, на простынях, отличаться от себя — мальчика. И она не знает, каким он будет. Никогда не узнает. Может быть, сильным, может, ласковым, или — капризным. Но не мальчишкой, которого она успела узнать. Как через матовое стекло несколько мгновений она видела что-то, не принадлежащее уже его детству. Но не разглядела.
И только сейчас, поняв это, она вдруг испытала не тоску по Вальке и не влюбленность, а острое и злое чувство потери, о которой говорят — никогда.
— Нет, — сказала она шепотом, пристально глядя на сине-белый рисунок, — не хочу так. Хочу разглядеть. И еще, чтоб мой. Для меня.
В коридоре осторожно загремел ключ, поворачиваясь. Ленка положила на пол сандалики и вскочила, хватая с кресла халат. На ходу затягивая пояс, открыла дверь. Включила свет в прихожей.
Отец вошел, щурясь и нашаривая рукой выключатель. Качнулся, хлопая рукой по стене.
— Вот блин, — прошептала Ленка, опуская руки, сказала чуть громче, с тоской в дрожащем голосе, — да не тыкай, я включила уже! Тапки дать?
— Да? — удивился Сергей Матвеевич и послушно убрал руку, сунул на тумбу пакет, в котором звякнуло, кивнул, сковыривая с ног туфли, — дай. Да я сам. Сейчас вот сам.
— Уж конечно, — Ленка нагнулась, выуживая из-под тумбочки шлепанцы, толкнула их к отцовским носкам, — держи. Чай будешь?
— Не буду чай, — отказался отец, — какой чай, ночь кругом.
— Пап, не ори. Разбудишь маму.
— Тссс, — отец приложил палец к губам, покивал.
— Енка, тсс, маму не надо. Чай не надо. А вот колбаски бы. Есть там колбаска?
Он пошел в кухню, стукая по стенке пакетом, там свалился на табурет, пытаясь спрятать свою ношу под стол у ноги, но тыкал неловко, и в конце-концов поднял, укладывая на колени.
Ленка морщась, быстро глянула на растрепанные волосы и моргающие глаза, на блуждающую улыбку. Села напротив.
— Пакет отдай, — сказала вполголоса, — тогда и будет тебе колбаска.
— Еще чего. Я сам. Тогда сам. Иди спать. Чего ты вообще? — спохватился Сергей Матвеевич, — ты чего не спишь? Командуешь тут.
— Что у тебя там? Пиво? Ах, водка. Пап, ты совсем уже? Ты ночью, один, собрался водку пить?
— Командовать тут! — попытался быть грозным отец, но получилось плохо, и он опустил голову, ковыряя полиэтиленовые ручки.
— Вот так, — пожаловался, со слезой в голосе, — растишь вас, растишь, и колбасы. Никто не принесет колбасы. Отцу. Родному, между прочим, отцу!
За Ленкиной спиной негромко хлопнула дверь, и она передернулась, кривясь. Зашлепали тапки, щелкнул выключатель.
— Гера! — обрадовался Сергей Матвеевич, — а вот, а ты говоришь, один собрался! Вот Геор-гий, мой зять, дочери моей муж, значит, он… сейчас мы с ним. Гера!
В туалете зашумела вода, Жорик вышел и через Ленкину голову интеллигентно отказался, зевнув.
— Мне рано вставать, уж извините, Сергей Матвеич.
— Господи, — с отчаянием сказала Ленка, — позоришься тут. А я ждала, как дура. Давай кофе, пап? Мне спросить тебя нужно.
— Спроси, — согласился отец, выпутывая из пакета ополовиненную бутылку и водружая на стол, — там еще огурцы. Помидорки.
Ленка схватила бутылку, вскочила, пылая щеками.
— Вылью нафиг! Вот точно вылью сейчас, в раковину! Алкаш чортов! Ты еле сидишь, куда тебе помидорчики!
— Лена! — за спиной послышались быстрые шаги, к запаху перегара примешался аромат ночного крема, мамина рука нырнула рядом, схватила бутылку, отнимая у Ленки.
— Сережа, погоди, не кричи. А ты иди спать, чего ты тут бесишься?
— Мам, вы чокнулись, да? Я еще и виновата?
— Спокойно! Папа выпьет совсем немножко. Вот эту рюмочку, да, Сережа? И спать.
— Что мне той рюмочки, — презрительно удивился отец, поднимаясь и снова валясь на табуретку, — огурцы!
Алла Дмитриевна засуетилась у стола, наливая в рюмочку водки, двигая ближе хлебницу, страдальчески сводя брови и иногда взглядывая на Ленку сурово и одновременно виновато.
— Только одну, — продолжила торг, — да принеси ты отцу колбасы, а то совсем захмелеет же, — рассердилась на дочь, говоря с привычной интонацией «ты еще тут».
— Сама принесешь, если спаиваешь его, — мстительно сказала Ленка и ушла, стремительно влетела в комнату, с оттяжкой, с наслаждением треснув дверью.
Свалилась на постель, кусая губы и глядя в темноту сухими глазами.
Глава 31
Желтый шифон был прозрачным, как девчачьи нейлоновые банты, те, что обычно белые, с четкой полоской по краю. Ленке такие заплетали в косы, когда она была маленькая. Мама плела и Светища тоже. Ленка страшно не любила, когда ее расчесывала мама, заранее зажмуривалась и кривила рот, стискивая на коленях кулаки — мама всегда торопилась и немилосердно драла длинные пушистые ленкины волосы большой расческой, а потом заплетала туго, так что болели виски. Светка занималась ее головой гораздо реже, но всегда что-то придумывала, то косичку-колосок, а то сорок тонких косичек, которые под мамины сердитые причитания пришлось расплетать в четыре руки, и Ленка опоздала в школу, во второй класс, а мама на работу. И — банты. Такие большие, что мотылялись, стукая по спине мягкими комками. Если случалось драться с пацанами или там прокатиться десяток раз на портфеле по заросшему травой склону, банты не выдерживали и Ленка приходила домой с одной косой, по-утреннему подвязанной калачом, а другая спускалась на черный фартук, криво-косо затянутая прозрачной лентой. Мама закатывала глаза и ругалась, ставила в пример Светищу.
Ленка повернулась, пытаясь в длинном зеркале разглядеть, хорошо ли платье село на спине. Подвигала локтями, свела и расправила лопатки. Вздохнула. В одиночку ей не справиться. Подхватила прозрачный подол с висящими нитками и осторожно выдвинулась в коридор, взяла трубку. Набирая номер, разглядывала себя уже в зеркале на стене прихожей.
Из комнаты вышел Жорик, оглянулся, что-то договаривая Светище. И уставился на Ленку, ухмыляясь. Она встала боком, прикрываясь локтем.
— У нас тут стриптиз-шоу? — глаза Жорика ползали по желтому широкому подолу, — это что, теперь такие платья на выпускной? Где мои семнадцать лет, я бы тряхнул стариной.
— Отзынь от ребенка, — Светища вышла, слегка неуклюже, расправляя на боках оранжевую кофточку-распашонку, ту самую, что Ленка смастерила себе на дискотеку. И вот пригодилась, с широкими брюками, на почти уже шестимесячный светкин живот.
Сестра потеснила Ленку, тоже глядя в зеркало, и резкими, как у матери движениями, подкрашивая губы помадой. Покусала их, подмигнула отражениям.
— Ключи взял? А под платьем будет чехол, чтоб ты знал, никакого стрип и никаких шоу.
— Пусть лучше бантики, — засмеялся Жорик, звеня ключами, — как на последнем звонке. Эх, как вы тут…
— Пошли, старец без Сусанны! — Светища пихнула его в живот, выталкивая из квартиры, — маму дождись, Малая, она скоро будет. А то мы ее ключи забрали.
— Хорошо, — кивнула Ленка с облегчением. Шуточки Жорика ей изрядно надоели. Было обидно за сестру, которая осторожно ходила, животом вперед, и по утрам блевала в туалете, вся зеленая, с потресканными серыми губами. И вообще выглядела не очень. А он, чем дальше, тем болтливее, и шутки все ниже плинтуса. Как специально, чтоб Светку позлить. Может быть, Ленка зря напрягается? Может, это все просто так?
— Але? Здрасти, тетя Вера. А Оля дома?
— Мала-мала… — за спиной Ленки в зеркале отразилась Светка, дернула локоть, сказала в свободное ухо, — ты на него не злись, у нас секса нет почти, вот ему крышу и сносит, привык, чучело.
— А? — растерянно сказала Ленка, не понимая, кого слушать, — как уехала? Куда? Подождите… Светк, погоди, тут Рыбка, ой, Оля тут. А когда вернется? Что значит совсем?
— Ладно, я ушла, опаздываем. Вечером расскажешь, да?
— Да.
В замке загремел ключ. Ленка притиснула трубку к уху.
— Да подождите! Я приду сейчас. А когда? Хорошо, попозже. Да. До свидания.
Она опустила руку, с недоумением глядя в зеркало. Ленка с копнищей мелко завитых светлых волос, падающих на прозрачные плечи желтого платья, с таким же недоумением смотрела из сумрачной зеркальной глубины. Диск снова зажужжал под пальцем, сухим от портновского мелка.
— Викуся? Фу, как хорошо, что ты дома. Ты знаешь, что Рыбка уехала? Мать говорит, совсем. А вот так. Я сама офигела. Мы с ней вчера говорили, по телефону, а виделись, да, позавчера виделись. А ты? Кого не берем? Тебя? Семачки, ты с дуба упала? Я тебе сколько раз звонила, ты хоть разок с нами пошла? Ты хотя бы для разнообразия сама звякнула. У нас экзамены на носу, я же не могу у твоей двери дежурить. Да не кричи на меня, Вика! Ты что?
Ленка отвела трубку от уха, снова ошарашенно глядя в зеркало, но тут же прижала ее снова — вдруг посреди воплей Викочка скажет хоть что-то полезное. За спиной требовательно затрещал звонок. Ленка дернулась, держа рукой платье, которое расползалось на боку.
— Викуся, ладно, короче, ты там валерьянки, что ли. Я приду попозже, ладно? Пока!
Мама вошла, таща в обеих руках авоськи, бухнулась на пуфик у стены, вытягивая ноги и бросая поклажу. С плеча поползла лаковая сумочка.
— Лена, возьми продукты. В гастрономе давали кур, по рубль шестьдесят. Как я устала. Хорошо, Коля Ласкин с нами шел, встал тоже и мне отдал своих курочек. И так нас насмешил, там бабок целый хвост, а он подходит, ну, ты знаешь ведь нашего Ласкина, в костюме, при галстуке. Очочки поправил и бабкам «кто последний за курьми?». Они даже расступились, одна ему отвечает «я за курьми последняя»… Ты что, ты в этом собралась на выпускной? Оно же прозрачное совсем, Лена?
— Мам, ты за кого меня принимаешь? За бабку из очереди такую вот? Чехол будет, так положено, это же классика.
— Не кричи на меня, — обиделась Алла Дмитриевна, обмахиваясь газетой, — откуда я знаю ваши нынешние моды, вы и в трусах побежите, дай вам волю. А ты чего такая сердитая? Положи пока в холодильник. И там огурцы, кажется, были, врач сказал, Светочке надо побольше свежих овощей. Салатик сделай, я купила масла на базаре, с маслозавода, свежее, семечкой пахнет. А где мои тапки?
Ленка ушла в комнату, сняла прозрачное платье, натянула домашнюю футболку и спортивные старые штаны. Села на диван, под мамину монотонную болтовню пытаясь обдумать новости. Вот так номер. Оля Рыбка уехала. А экзамены? И как она могла, ничего не сказала, даже не намекнула! Ну, да, у нее травма, психологическая, ей тяжело, но Ленка же готова была помочь, и помогала, да чуть не дежурила возле дома, и все бросала, когда Рыбке надо, бежала слушать и утешать.
Было такое ощущение, что Рыбка ее предала и бросила. Ленка одернула себя, нельзя так думать, а нужно думать, что той тяжело. Так тяжело, что вообще никто не нужен и помочь не может. А это значит, что нужно бы ее найти и все же попытаться опять поддержать, пусть даже она будет плеваться и Ленку ненавидеть. Ну, с Олей вроде, понятно, но Семачки какая муха укусила?
Ленка вспомнила скандальный, дрожащий от злости, и какой-то поспешный Викочкин голос. Она даже сказать ей ничего не дала, сходу начала какими-то упреками бросаться. Буря на солнце, что ли? Может и Ленке пора сойти с ума, и тоже начать кидаться на людей. Или рвануть по улицам в прозрачном желтом платье. Без чехла.
— Лена, — сказала, стоя в дверях, Алла Дмитриевна. Строгим голосом сказала.
— Нам с тобой надо поговорить. Пока мы одни. Потому что никакого терпения у меня уже нет.
Ленка подвела глаза к потолку, и немного боясь, стала перебирать в голове свои грехи, — а вдруг маме кто-то наболтал, что она бегает к Кингу? Это ж совсем рядом, могли и увидеть, хотя они стараются шифроваться, никогда не выходят и не заходят вместе. Димон подхватывает ее с другой стороны автовокзала, если едут выкупаться или в кафешку в Камыше. И в самой машине Ленка никогда впереди не сидит, Сережа ей сразу сказал об этом.
— Вперед, Леник, не просись и не дуйся. У меня врагов немеряно, не нужно, чтоб твою мордочку в этой тачке видели, поняла? Целее будешь.
В кухне Алла Дмитриевна села так же, как в коридоре, вытянув ноги и обессиленно прислоняясь к стене. Пожаловалась, прижимая ко лбу руку с алыми ногтями:
— Безумно болит голова, просто ужас, какая боль. Я думаю, может быть у меня что-то…
«С головой», хотела подсказать Ленка, но благоразумно промолчала. Получилось бы смешно, но ляпни такое, мама обидится еще сильнее.
— Я хотела поговорить о папе. Эти твои замашки, как у жандарма, схватить, вылить, ругаешь его. Никакого уважения к старшим! А он твой отец! И кормит всю семью, между прочим.
— То есть, пусть пьет свою водку? — Ленка и хотела бы говорить спокойно, но не смогла. Потому что и правда, совсем не понимала, и подумала мельком, вот и хорошо, вот сейчас все и выясним. Раз серьезный разговор.
— Нет, конечно! Пить — это ужасно. Но не тебе его упрекать! А уж тем более распускать руки. И язык.
— Хорошо, — согласилась Ленка, — я поняла. Твои действия?
— Что?
— Я говорю, похоже, папа у нас уже алкоголик. Что ты собираешься делать дальше?
— Лена, — растерялась мама, — да как ты можешь. Такие вещи. Про отца!
— Мам. Ты хотела говорить? Мы говорим. Он когда пришел из рейса? И сколько дней он был трезвый? Не считала? А жаль, надо было посчитать.
Алла Дмитриевна выпрямилась и пристально оглядела дочь. Закатила глаза, прикрывая лоб ладонью. Ленка вздохнула, смиряясь. Похоже, разговор окончен и начинается театр.
— Боже мой. Кого мы вырастили. Посчитать! Родного отца, так вот! Тоже мне, бухгалтер. Это садизм какой-то!
— Мама! — Ленка вскочила, хватая полотенце с крючка, смяла его, крутя в руках, — да ты что мелешь сейчас? Ты по утрам его пилишь, потом он сбегает в свой гараж, возвращается под газом. И ты ему наливаешь, ах, еще рюмочку, маленькую. Сама! Это чтоб скорее заснул и не водил тут абизяну, да? А утром опять двадцать пять! И так всю жизнь? Да если бы ты серьезно хотела, чтоб не пил, ты бы делала что-то! А помнишь, ты плакала, не можешь больше? Что умрешь. Плакала, мам! И я рядом рыдала, мелкая, знаешь, как мне было страшно? Что ты вдруг умрешь!
— Какие глупости!
— Ну можно же что-то сделать! К врачу пойти. Или, ну я не знаю! Скажи ему, что уходишь! Разведитесь, черт! Разве это жизнь?
— Как разведитесь? — испугалась Алла Дмитриевна, — а кто же будет вас кормить?
Ленка застыла, и после паузы горько рассмеялась.
— Ах вот в чем дело. Деньги, да? Ты живешь с ним из-за денег только? Скажи мне. Да?
— Ты… ты с ума сошла? Ты в чем меня обвиняешь?
Они замолчали. Ленка тяжело дыша, ждала, стискивая полотенце, чтоб не тряслись руки. Ну, пусть она скажет, пусть. Про любовь. Или еще что. Про без отца…
— Эти сидят, скоро трое, а Георгий все не торопится работу искать. Ты со своими капризами, поступать не поеду, швея-самоучка. И вам отец плохой? Ты за квартиру будешь платить, да? А продукты на пятерых ты будешь покупать? Подаркам из рейса, небось, радуешься!
— А что мне, плеваться на них? Он вез. Старался.
Алла Дмитриевна победно подняла палец.
— Вот видишь! Я об этом и говорю.
— А я не об этом! Ты не понимаешь, что ли?
— Вырастешь, встанешь на ноги, замуж выйдешь. Дети… Тогда и учи жить, своего мужа. А я посмотрю. Взрослая жизнь, Лена, это тебе не школа с уроками. Взрослая жизнь это трудно и одни сплошные проблемы. Ты куриц положила в морозилку?
— А я хочу, чтоб радости. Были. Настоящие! Что?
— Мало ли, чего ты хочешь. Одну надо вынуть. На бульон. Ты куда?
Ленка, ничего не видя, выскочила из кухни и, хлопнув дверью в комнате, встала, прижимаясь спиной изнутри. Сто раз уже эти разговоры. И сто раз она обещала себе не дергаться, не принимать близко к сердцу. Потому что мама в них так же, как в скандалах с папой. Ей главное выдать свой номер, галочку поставить, и — до следующего раза. А Ленке всякий раз кажется, они вместе смогут что-то решить. Чтоб мама наконец перестала каждый день громко страдать, рассказывать о том, как ей тяжело, и о том, какая тяжкая и ужасная штука — жизнь. Прям, хоть удавись, она ведь уже почти началась у Ленки, через месяц аттестат и выпускной. И вперед, к проблемам и горестям.
Вечером, когда солнце, похожее на золотое пасхальное яйцо, висело над вершинами холмов за пустырем, Ленка пообщалась еще с одной мамой.
— А и не знаю, Лена, что и будет-то, что ж она, я говорю, разве же можно, Оля, а она молчит и молчит, с отцом вот орали друг другу, а я плакала…
Ленка незаметно вздохнула и, держа на лице внимательное сочувствие, переступила с ноги на ногу. Тетя Вера, моргая невидными ресницами, мяла в больших руках полотенце, то разворачивалось засаленным хвостом, и, подхватив, руки снова комкали его, отскребая с кромки что-то налипшее.
— Я ей говорю, Оля…
Ленка кашлянула, снова переступила с ноги на ногу, и, решаясь, прервала причитания.
— Тетя Вера, извините, так она где? За аттестатом приедет хоть? А экзамены? Она что, пойдет где-то снова в десятый класс?
— Господь с тобой! — испугалась тетя Вера, складывая полотенце квадратиком и прижимая к фартуку, тоже изрядно засаленному, — а посдает она, в Степном, там сестры училися, и она в первый да второй класс тама ходила. Директором наша кума, школа же маленькая, ну так документы вот позабирает, сказала — сама, мне велела не ходить. Там и посдаст, а то как же снова десятый, нет.
— Когда?
— А? — тетя Вера перестала моргать, нахмурила серые бровки на лбу с тонкими морщинами. Короткие вопросы выбивали ее из колеи.
— Теть Вера, мне пора уже, время, она когда за документами приедет?
— В понедельник, Леночка, и заночует. Велела, чтоб я никому. Но вы же всю дорогу вместе, так я… А может, ты ей скажешь, а? Чего коники выкидывает, а вдруг усе же не положено так? Это ж бумаги!
— Конечно, скажу. Спасибо, теть Вера.
Вниз Ленка летела, дробно перестукивая подошвами и на бегу еле касаясь пальцами деревянных перил. Было обидно, на этот раз по-настоящему. Оля велела никому не говорить о своем коротком визите. Значит, она придет в пустую школу, где, если нет консультаций и экзаменов, никто ее не увидит, побежит в учительскую, подпишет там всякое, и испарится, думая, что Ленка так ничего и не узнала. И еще интересно, сердито думала Ленка, выскакивая из темного подъезда в ленивый вечерний свет, такой густой, что кажется, нужно отводить его руками от лица, она не подумала, что Ленка волнуясь, все равно придет выяснять? Если не подумала, то, наверное, сама тоже не пришла бы? Допустим, сама Ленка взбесилась и свалила куда-то, внезапно. «В город Артем» подсказал ехидно внутренний голос. И что, Оля не пришла бы домой, требовать ответа у Аллы Дмитриевны, а просто жила бы дальше? Бы да бы. Если бы да кабы. Но все равно обидно, обижалась Ленка, подходя к «серединке», напрочь теперь закрытой старым абрикосом, зарослями бирючины и жасмина.
В желтом прекрасном свете, сочно рисующем яркие кусты сирени, раскидистые кроны серебристых тополей с ватными сережками, далеко впереди нарисовался силуэт Викочки, в неизменных джинсах и летней кофточке, просвеченной так, что были видны тонкие руки под пышными рукавчиками.
— О! — удивляясь, что не заметила подругу раньше, Ленка ускорила шаг, — Викуся! Подожди!
Догнала и, цепляя ту под локоть, пошла рядом, сбоку заглядывая в напряженное конопатое личико с жирно накрашенными ресницами.
А приближаясь к углу своей пятиэтажки, Ленка отпустила локоть, и викочкина рука повисла, отстраняясь. Дальше шли рядом, не касаясь друг друга, и Ленка молчала, растерянно собирая мысли. Новости про Олю казались ей такими важными, но когда начала говорить, то Семачкино ответное молчание и неохотные короткие реплики сделали разговор, вроде бы, ни о чем. Идя мимо лавочки у первого подъезда, на которой сидели, сложив руки на животе, дежурные бабушки, к лавочке у второго подъезда, облепленной девочками с куклами и мальчиками над брошенными на асфальт велосипедами, Ленка понимала, если бы Викуся попала в тон, как было раньше, выслушала с эмоциями, получилась бы правда, которую не надо объяснять, она и так есть. Но Викочка молчала, пару раз кивнула, пожала плечами, разок выразительно фыркнула, и Ленка умолкла тоже, почти покраснев от стыда за свои ахи и восклицания, а потом на этот стыд рассердившись.
— Ну, документы она же заберет? — уточнила Викочка, останавливаясь у раздолбанного велосипеда, что лежал, свернув руль и топыря потертые колеса, — год не пропал у нее?
— Заберет, мать сказала, — неохотно согласилась Ленка.
Викочка пожала плечами в полупрозрачный горошек.
— Тогда нормально все.
Ленка промолчала. Кивнула, поворачиваясь уходить.
— Малая, — негромко окликнула ее Семачки.
Она отошла от велика и стояла на ступеньках, уперев руку в джинсовое бедро, смотрела сверху вниз и на конопатом личике плавало странное выражение — смесь испуга и высокомерия, будто она собралась сказать что-то совсем обидное и готовилась убежать.
— А ты как хотела? Думала, всю жизнь за ручки держаться? Школа бай-бай, дальше каждый за себя. Каждая.
— Ну… — Ленка пожала плечами. Разговор был не для вечернего двора, полного детей, кошек и бабушек, криков и трезвона. И вообще, нужен ли этот разговор, если Семачки говорит такое и так уверенно.
— Я думала, на дискарь с тобой смотаемся, — сказала совсем другое, хотя уже вовсе не хотела ехать туда с Викочкой, — сегодня как раз, а то потом билеты, все такое.
Теперь уже плечами пожала Семачки. Постояла еще и молча канула в черный проем. Через пару шагов там засветила тусклая лампочка — Вика на ходу ткнула в кнопку, зажигая свет на лестнице.
Ленка медленно шла мимо скамеек, детей, кустов сирени, отягощенных цветущими гроздьями, а дома была страдальчески взволнованная мама и Светища с токсикозом, а еще Жорка с липким взглядом и кудрявыми усами. Был — не был папа, который поспешно уехал, но остался в неприятном разговоре с мамой. Еще — опять учить билеты, а думала, вместе с Олей завеются куда на дальний пляж, валяться на песке, вслух читать друг другу вопросы, смеясь и мало что из них запоминая.
Дома все так и было. Из кухни выразительно гремела посудой мама, и Ленка, уходя в комнату, снова подивилась, вот умеет же — греметь кастрюлей с упреком, или пройти мимо комнаты недовольной походкой… За дверями Светкиной комнаты невнятно гудела музыка, временами ее перекрывал сначала раздраженный голос сестры, а его подхватывал, парируя, такой же недовольный голос Жорика.
Ленка в приоткрытую дверь цапнула телефон и села на диван, устраивая его на коленях. Набрала наизусть выученный номер. Слушая гудки, смотрела, как обычно делала, на свое отражение в дальнем зеркале, заставленном флаконами и вазочками. Там, на одной полке лежала в углу пачка фотографий, подумала Ленка, нахмурилась и мысль эту из головы прогнала, чтоб не стало еще паршивее.
— Алло? Сережа? Ой…
— Але? — отрывисто сказал мужской, не сразу узнанный чужой голос, — щас.
— Дима? — догадалась Ленка, — это Лена, Малая.
— Щас, — повторил Димон. За его ответами слышался смех Кинга, какие-то стуки, видимо, хлопала балконная дверь.
— Где мой Леник-Оленик, Ленник короля Серджио, плененный и отобранный у польского короля! Чего звонишь не вовремя? Случилось что?
— Сережа. Привет. Извини, да. А ты можешь…
Она замолчала. Он там слушал, доброжелательно, но без особого интереса. Надо же, а Кинг умеет молчать тоже с выражением, поняла Ленка и мельком подумала, может быть, она такая сама? Слишком много чувствует. Но додумывать не стала, пока молчание в трубке было спокойным и доброжелательным.
— Ты можешь сделать так, чтоб мне сейчас стало хорошо? Ой. Ты понимаешь, я не про то. А вот просто. В целом. В общем.
— Сплин замучил? Причины есть?
— Да так. Ну….
Он молчал в ответ. Ленка, глядя на далекую себя через набегающие слезы, собралась уже попрощаться и трубку положить…
— Через час у кургана. Форма одежды, какая хочешь. Дома наври там чего, день рождения, поздно вернешься, папа подружкин довезет. Такое.
— Хорошо. Спасибо.
— Пока не за что. Цемки Ленку.
Подумав, Ленка натянула тонкие колготки, выудила из шкафа обрезанные джинсовые шорты, влезла, устраивая поверх клетчатой рубашечки лямки джинсового топика. Подкрасилась, повесив на плечо сумочку, дождалась затишья в коридоре и вышла, сунула голову в двери родительской спальни. Сказала быстро:
— Мам, я к Оле, мы с ней на день рождения. Меня проводят, я в полдвенадцатого буду точно, ключ взяла.
И под восклицания «Лена, подожди, ты почему не сказала…», выскочила из квартиры, пробежала мимо окон, цокая каблуками. Под взглядами бабулек, которыми те провожали ноги, поблескивающие под короткими джинсовыми шортинами, клетчатые короткие рукава, и облако светлых волос, закрывающее плечи и лопатки, пошла мимо Викочкиного подъезда, за угол, мимо спрятанной «серединки», в проход, полный вечного сквозняка, через дорогу с редкими машинами. К горбатому кургану, поросшему майской плотной травой.
Глава 32
Июнь стал для Ленки странным месяцем, собранным из двух совершенно разных частей. Как фотография на особо контрастной бумаге, которую Ленка покупала иногда, чтоб после печати обычных снимков попробовать сделать что-то еще. И знакомые лица, места и картинки превращались в резкие грани и линии, соединяясь так, что становилось больно глазам. Но в жизни эта разница состояла не только из переходов света и тени, а еще из звуков, настроений, запахов…
На одном полюсе — гулкие шаги по пустым школьным коридорам, непривычно полупустые и тихие классы, за каждой партой — одна склоненная голова, и у доски негромкий голос, который никто не слушает, все заняты — каждый своим билетом. Солнечный свет в окна, такой яркий, пахнущий меловой пылью и от этого безнадежный, будто он попал внутрь и никогда больше не выберется наружу. Туда, где шелестят тополя и плывут по небесной синеве кучерявые тугие облачка.
И на другом полюсе — тот же солнечный свет, но просоленный радостным морским ветром, сверкает на большой плоской воде, такой синей, такой без краев. Горячий песок, липнущий к потному животу и локтям, а раскрытый учебник так яростно белеет страницами, что буквы еле видны. И когда глаза совсем устают, Ленка поднимается, отряхивая живот, а Кинг поворачивается на спину, хватая ее щиколотку и, смеясь, роняет на себя сверху, чтоб сгрести в охапку и унести к воде.
Иногда, стоя перед высокими дверями аудитории в небольшой толпе взволнованных одноклассников, Ленка вспоминала, как именно вчера спешно доучивала билеты. Ей становилось смешно, а щеки горели, и она незаметно оглядывала ребят и учителей, боясь, что заметят. Воспоминания нужно было спешно прогнать, чтоб не споткнуться о них у доски, пересказывая то, что пару дней назад она говорила морю и ветру, потом кричала, смеясь, потому что никто не услышит, кроме Кинга, а Димон приедет позже, забрать их — уже коричневых от летнего солнца.
Впрочем, сдала она все хорошо, кое-что себе на удивление даже лучше, чем ожидала, и, выдохнув с облегчением, принялась спешно доделывать платье к выпускному, с грустью думая о том, что вот и готовились бы вместе с Рыбкой. И вместе пошли.
У желтого платья была широчайшая юбка, и шелковый чехол делал ее еще шире. Когда-то в розовом детстве Ленка мечтала о заграничном платьице — сплошь прозрачный нейлон и торчащие оборки на кукольном подоле. Такие везли своим дочкам все городские загранщики, и платьица отличались только цветом. И папа привез ей такое. Оно оказалось жестким, как мочалка для мытья посуды, высокий воротник немилосердно натирал шею, а подмышками резало. Ленка выросла из него через несколько месяцев, и платье передарили племяннице.
А это желтенькое было прекрасным. И шелк на подкладку Ленка выбирала сама, сминая в кулаке края рулонов, что назывались смешно — штуками. Слушала, как ткань отзовется в ладони. Видела мысленно, что шелковый сарафанчик можно будет носить и отдельно, летом. Придумывала к нему маленькую бархатную сумочку, и ленту на шею, тоже бархатную, с кошачьим бантиком сбоку, чтоб — весело и немножко маскарадно. А потом начинала мечтать, что поработав год в ателье, займется придумыванием своей собственной коллекции одежды, конечно, в ней будут всякие вечерние платья, а еще — одежда для отдыха у моря. О мечтах никому не рассказывала, потому что профессия модельера внезапно стала очень модной, и о своих коллекциях рассказывали все. А Ленка не любила, как все.
К платью сестра отдала ей свои выходные босоножки, которые берегла, после выхода снова укладывая в коробку, в облако шуршащей бумаги. Предупредила, сидя на диване и глядя, как Ленка осторожно застегивает крошечные пряжечки:
— Угробишь, убью. Я за них сто рублей отдала, считай месячная зарплата.
Ленка взялась за прозрачный подол, развела руки, поднимая края юбки, и стала похожей на бабочку с желтыми крыльями. Оглянулась на сверточек в старом кресле. С сандаликами платье стало бы совершенно волшебным. Но они не успели доделаться, а еще никто не идет на бал в сандалетах, даже красивых. Нужны шпильки, и чем выше, тем лучше. Все каблуки всех туфелек старшеклассницы давно перемеряли линейками и все три класса знали, самые высокие шпильки носит Танька Лагутина из десятого «В», — двенадцать сантиметров! Если у нее такие каблуки каждый день, думала Ленка, поворачиваясь перед сестрой и зеркалом, то какие же она наденет на выпускной…
— Красата-красата, — одобрила Светища, и без перехода спросила, — так не решила, куда поступать будешь?
— Свет…
— Я знаю, что не сейчас. Ладно, я понимаю, так складывается, из-за нас, да. Но на следующий?
Ленке стало уныло. По рассказам сестры она примерно знала, что снова учеба, снова преподаватели, снова экзамены, и значит, она снова будет у всех в подчинении. А так хочется жить, чтоб никто не висел над душой, ни учителя, ни мама. И почему все вокруг повторяют, что ах студенческое время самое лучшее, а после начнется суровая настоящая жизнь. Получается, пять лет в институте для всех это просто отсрочка, чтоб не начинать эту самую жизнь. В этом было что-то неправильное, но что именно, Ленка не могла понять до конца, вернее, ленилась думать, после месяца билетов и экзаменов.
— Светк, отстань, а? Думать не хочу, хочу совсем-совсем не думать. Пока что.
— Имеешь право, — согласилась сестра, усаживаясь удобнее и держа ладони под животом, — аттестат четыре с половиной, молодец, нормально.
— Ага. Был бы трояк, оставили бы в покое. А из-за этого среднего балла я всем чего-то должна. Так, хватит. Ты мне скажи лучше, лямки не перекрутились на спине?
Она выгнулась, поднимая волосы к затылку.
— Все класс, — утешила ее сестра, — жалко, батя не приедет, сразу уйдет в моря.
Ленка опустила руки. Волосы рассыпались по плечам, закрывая лопатки.
— Как не приедет? У него же когда, через неделю как раз рейс кончается! Я думала, июль он дома.
— Индюк тоже думал, — рассеянно отозвалась Светища, — там звонят, кажется? Откроешь? А то мне вставать лень. Жорка должен вернуться.
— Да.
Через минуту Ленка снова вошла, прикрывая за собой дверь. Села рядом, расправляя подол.
— Команду забирает другой пароход, не полетят, а пойдут морем, — объяснила Светища, — так что не успевает он, мать поедет проводить, вместе с другими тетками, на пару дней буквально, вот перед твоим танцевалищем-бухалищем. А что, хочешь с ней двинуть, в Севастополь?
— Нет, — быстро ответила Ленка, — с ней не хочу. Блин. Мне подумать надо.
Светка встала, смеясь и хватаясь за поясницу.
— Думай. Надумаешь, делись секретами. А то развела тут ЦРУ с КГБ.
— Нет у меня секретов, — испугалась Ленка.
— Угу, — согласилась сестра, глядя на нее темными, как у матери глазами, — совсем-совсем нету, но про Петьку ты мне новости рассказывала, так?
— А, про него, — успокоилась Ленка, осторожно вылезая из прозрачного шифона, — что? Ты чего смеешься? Вот черт.
— Спалилась, — пропела Светища и ушла, общаться с законным мужем.
Ленка села на диван, уставилась на свое дальнее отражение, привычно не замечая его. Как всегда, потащила подушку, укладывая на колени, и скинула — жарко. Вот так номер. Она даже немного успокоилась, поняв, что разговор с отцом откладывается. Но будет. А пока она сдаст экзамены, получит аттестат, отгуляет выпускной. И разберется, что же у нее происходит с Кингом. Такая вот программа-минимум на первый месяц лета. Мама обозвала ее бухгалтером. Как обругала. И верно, как-то все чересчур получается посчитано, а, наверное, так нельзя, особенно с чувствами. Какая-то она рыба, а не человек. Назначила себе — сперва разобраться со школой, а уж потом с Кингом, и после этого с Валиком Панчем. Разве когда любят, то могут так все выстроить по порядку?
… Вот Рыбка. Она любит по-настоящему, даже бросила нафиг школу, уехала в другую, чтоб не рвать себе сердце тут. И не из-за того, что Ганя вроде бы ее изнасиловал, фигушки, а из-за того, что и после всего он не остался с ней! А женится на своей Лильке.
Ленка подобрала ноги и обняла руками голые колени, уткнула в них подбородок. Все бежит так быстро, только что, кажется, был новый год и уже лето, жара, а она спит с Кингом, взрослым совсем мужчиной, и ей это начинает нравиться, ну, ее телу нравится то, что они делают, но сама Ленка не очень-то влюблена, хотя старается изо всех сил.
— Я стараюсь? — удивленно, шепотом, спросила она у отражения.
Снова захотелось чертыхнуться, но не стала, замолчала совсем, выстраивая мысли. Не просто бегает к соседу, а старается. Снова все закручено вокруг Панча, она старается сделать так, чтоб он — брат. Пусть у него будут девушки, а у нее свои какие-то парни, даже совсем по-взрослому. Но чтоб все равно они оставались вместе, как брат и сестра. И папа очень вовремя ушел в короткий рейс, так она думала и успокоилась, что месяц ей не нужно решаться на разговор с ним. А теперь месяц превратился в полгода, и как она с ним поговорит? Как узнает о Вальке?
— Вот черт, — все-таки выругалась Ленка, не слыша себя, а сама уже вскочила, кидаясь к шкафу и вороша там одежки, — вот же черт! Севастополь? Так. Касса… и еще узнать, когда… Свет? Светкин!
В криво застегнутом сарафане выскочила, нагнулась, нашаривая под тумбочкой свои шлепки.
— Закрой, а? Иди сюда.
Она потеснила удивленную сестру под вешалку, в темноту.
— Когда? Когда мама собралась ехать?
— В пятницу, вроде, — ответила Светка, держа на отлете ковшик с молоком, — да не толкайся, вылью же, — ты чего вскинулась, партизанка? Они уходят, кажись, в среду. Или в четверг. А тетки будут там на выходных. Ты чего, Мала-мала? Он же всю жизнь так, а-а-а, ты не помнишь, мелкая была, мама даже в Кениг ездила, на поезде. Работа у него такая. Хлеба купи! Черного, поняла?
— Да! — Ленка уже выскочила в яркое солнце.
Она быстро шла к автовокзалу, встряхивая головой, волосы рассыпались, горяча шею, в руке крепко зажат кошелек с парой бумажек и горстью мелочи. Мысли метались в голове в такт шагам, и никак не хотели остановиться, чтоб Ленка сумела увидеть их все. То думала о цене билета, и хватит ли ее денег, то пыталась сообразить, когда же лучше. Получается, надо поехать так, чтоб мама уже там побыла и вернулась, то есть в воскресенье она вернется. И расскажет, где его там искать, ну, Ленка аккуратно спросит. Значит, утром в понедельник надо поехать. Можно во вторник. А вдруг они уже будут готовиться к отходу и она не найдет отца? Нет, лучше в понедельник.
Возле дома Кинга она замедлила шаги, и решительно свернула к угловому подъезду, стуча пластмассовыми каблуками, взбежала на второй этаж и быстро, чтоб не передумать, надавила кнопку звонка. Подождала, прислушиваясь к невнятной музыке из-за пухлой двери. Придавила кнопку снова.
— Кто? — недовольно спросил знакомый голос, глазок затемнился.
Она улыбнулась, помахав ладонью перед внимательным стеклышком. И старательно продолжила улыбаться, когда Сережа приоткрыл двери, почти голый, с накрученным на бедра полотенцем.
— Так, Леник, а позвонить не могла?
Она замотала головой, отступая на шаг:
— Прости. Я не… Я на минутку совсем. Сережа, извини. А ты не можешь выйти?
Кинг хмыкнул, опуская голову и оглядывая свой голый живот и короткое полотенце.
— Я подожду, — поспешно сказала Ленка, — ну, давай я внизу подожду…
— Так, — снова сказал он, беря ее руку и втаскивая в прихожую, — на кухню иди, и — тихо, ясно? Я сейчас.
Ленка скинула шлепки и босиком осторожно прошла в кухню, пылая щеками, села на холодный табурет. Кажется, она сильно сглупила. Совсем не надо было. А надо было сразу в кассу.
Из комнаты слышался невнятный говор, потом голоса стали громче, Кинг с раздражением что-то рявкнул. Ленка поежилась, комкая на коленях кошелек. Прошлепали в коридоре шаги, и он вошел, в джинсах, расстегнутых на голом животе. Плотно закрыл дверь с матовым стеклом. Сел напротив, кладя на стол большие руки.
— Ну?
— Извини, — снова покаянно сказала Ленка, — ты не займешь мне пятерку? До вечера. Мне в кассу, срочно, а то вдруг не будет потом, а не у кого больше. Я вечером возьму, ну дома. Верну.
Кинг с интересом посмотрел на ее взволнованное лицо. Улыбаясь, полез в задний карман и вытащил синюю бумажку, положил на стол.
— Торопишься?
— Спасибо! Сережа, я верну, правда.
— Разберемся. Ты не ответила, выпускница. Торопишься сейчас-то?
— Да. Я же сказала, мне билет надо. А что?
— А когда купишь? Может заскочишь? К нам?
— Что? — Ленка переспросила, уже понимая немножко, чего он хочет, и думая, как бы отказаться поделикатнее. Вот же влипла. У него там женщина. Девчонка какая, и он зовет Ленку тоже. Чтоб он был один, а их двое. Он ей рассказывал, и убеждал, что надо попробовать. Смеялся, когда она поспешно переводила разговор на другое, снова рассказывал, и по его словам ничего не было в этом такого. Но как-то Ленка пыталась представить себе и никак не могла. Ведь потом они могут встретиться в городе. С этой второй. И вообще им придется как-то общаться дальше. Совсем непонятно как.
Она быстро положила пятерку в кошелек и поднялась, извинительно улыбаясь.
— У меня сегодня совсем нет времени. И потом, ну мы же говорили, про это. Я не хочу.
В коридоре протопали шаги, явно не женские, вдруг поняла Ленка, кто-то кашлянул и слышно — сплюнул, послышались всякие мокрые звуки, может быть, течет вода из крана, а может и не вода, не из крана.
Кинг расхохотался, снизу глядя на ее растерянное лицо.
— Серый! Ну, ты чего застрял? — голосом Димона сказал за стеклом расплывчатый силуэт.
— Иди. Приду сейчас.
Кинг поднялся, поддернул за пояс джинсы. И Ленка вдруг вспомнила с неприятным сосущим ощущением под ложечкой — так же на талии у Пашки топырились джинсы, такие же дорогие фирменные. В тот самый день.
Закрывая за ней двери, Кинг еще раз позвал негромко:
— Надумаешь, забегай, мы тут до вечера. Звякни коротко, разок. Повеселимся. Два на два.
Ленка пробормотала что-то и побежала вниз, сжимая в руке кошелек.
О том, что билет она взяла на понедельник, а возвращаться придется в среду, и что вторник — день ее выпускного, Ленка сообразила дома, и то не сразу. Пока мама взволнованно собиралась, раздавая поручения и страдая от заранее выдуманных страхов, Ленка пыталась как-то выяснить, где отец, куда мама отправится с автовокзала в совершенно неизвестном Ленке Севастополе, но та и сама ничего не знала толком. Хорошо ей, нервно думала Ленка, стоя у плиты над булькающей овсянкой для Светищи, они там все вместе соберутся, жены загранщиков, и вместе поедут в порт, и там все узнают на проходной — вместе. А Ленке придется самой.
Может, не ехать, мелькало в голове, но далеко и так тихо, что она, считай, и не слышала собственных страхов, вернее, они все переместились туда, на севастопольский автовокзал, где нужно будет самой все узнавать, и после ехать…
И мама уехала, а Ленка осталась ждать понедельника, почти ничего вокруг не замечая от волнения. Пока Светища не заговорила о вечере, о платье и босоножках, о том, с кем Ленка будет танцевать…
— Ой, — сказала Ленка, кладя на тарелку обкусанный огурец, — о-о-о… елки-палки…
— Что такое? — заинтересовалась вдогонку сестра, забирая огурец себе, но не встала.
Ленка вытащила из вазы в шкафу сложенные билеты и села, рассматривая. В потной тесной очереди она простояла долго и когда ее затолкали к окошечку кассы, уже наслушалась криков и жалоб, и какая-то тетка перед ней, отваливаясь от толпы с билетами в руке, объявила радостно:
— Обратный тоже взяла, чтоб там не колдышаться.
Перепуганная толпой Ленка прямо на квадратном блюдце в окошке пересчитала наличность и хриплым голосом потребовала себе обратный тоже. Нашелся всего один — на среду. И еще два — на пятницу. Так что выбора не было все равно.
Может не ехать, снова прошелестел в голове тихий голос, и Ленка, складывая билеты обратно в вазочку, подумала о темных Валика волосах и прядке, которая все время сваливается на худую скулу. Нервно улыбнулась, закрывая дверцу шкафа. Как же не ехать. Обязательно надо ехать, и как только отец скажет, где Валик, срочно ему написать, а еще лучше позвонить.
Было так, будто Панч оказался совсем рядом, вот-вот откроется дверь и войдет, или телефон затрезвонит, и в трубке его голос. От этого становилось спокойно и хорошо, а страхи отступали, потому что билет — вот он, а значит, Ленка сделала шаг, перестала болтаться в подвешенном состоянии, ожидая непонятно чего.
Это ощущение не ушло и в понедельник. Она ехала в сумрачном автобусе, зашторенном бордовыми потрепанными занавесками, за которыми ярился летний день, блестящий и горячий, как таз для варенья. А с мамой поговорить Ленка не успела, потому что та в это же время ехала обратно, тоже утром понедельника, не сумев взять билет на воскресный рейс.
Так они ехали навстречу друг другу и, наверное, где-то на середине пути, думала Ленка, куняя и тут же вскидывая тяжелую от недосыпа голову, мы встретимся и разойдемся, мама поедет домой, а Ленка в новые приключения.
Глава 33
В Севастополе все получилось намного удачнее, чем рисовали поспешные Ленкины страхи, которые кинулись на нее в конце поездки. Придерживая на плече самодельную сумку из беленой мешковины с черным трафаретным черепом и английскими буквами на боку, Ленка почти вывалилась из горячего автобуса на белый от зноя автовокзал. Растерянно оглядываясь, куда-то повлеклась вместе с неровной толпой, с ней же оказалась на остановке и у кого-то что-то спросив, погрузилась в тесный автобус, который, казалось, сейчас треснет и с лязгом развалится, высыпая из себя шумных и потных людей.
На нужной остановке с трудом выдралась из автобусной спрессованной толпы и, найдя проходную, вошла, становясь у грубо покрашенной железной вертушки. Сказала здрасти, и объяснила вахтеру, что и кого ей нужно. Тот вздел клочкастые брови, оглядывая Ленкин измятый сарафанчик и спутанные волосы, ругаться не стал, а сказал одобрительно:
— На внучку мою похожа. Тока моя красившее будет, потолще.
Ленка согласно кивнула, и он, дергая плечом в линялой клетчатой рубашке, стал набирать номер на массивном висячем телефоне, потом они вместе ждали, потом Ленка подсказывала, а он орал, хмуря брови, повторяя за ней фамилию…
— Матвеевич! Да! Кат-ков… Еще повторить? Да шо ж вы… Катков Сергей Матвеевич. На «Профессор Лунин» идет команда. Где? Куда? Хорошо. Даю. Да тут она!
Ленка поймала сунутую в руки большую неудобную трубку. Прокашлявшись, сказала:
— Але?
— Летка? — сильно удивился далекий папин голос, потом что-то затрещало и запищало, потом он снова прорезался, заканчивая неуслышанное ею слово:
— …йду. Поняла?
— Да. Нет! Пап, что ты сказал?
— Тута жди, — подсказал вахтер, прижимая к уху второй наушник, — вон в тенечке посиди, в кустах лавки. Придет он скоро.
Ленка отдала ему трубку и ушла на лавку в кусты, села там, вытягивая ноги и крепясь — очень хотелось писать, а спрашивать про туалет у вахтера было стеснительно.
Папа пришел, когда она уже устала ждать, и заодно боялась встать, так сильно приспичило, но увидев, как мелькнул у турникета и, оглядываясь, встал на ступенях, вскочила, торопясь навстречу недоуменно-сердитому, очень взволнованному лицу под растрепавшимися темными волосами.
— Что? — он обхватил ее плечи, повертывая к себе, — дома что? Со Светланой? Или — мама? Ты чего тут, Енка?
— Нет, — быстро ответила она, — нормально, пап. Все в порядке. Я сама. К тебе.
— У вас что, экскурсия? Ты удрала?
— Что? — Ленка полминуты смотрела в его загорелое лицо, потом поняла и подумав, кивнула, топчась, — да, точно, экскурсия. Пап, я в туалет хочу. А еще поговорить надо. Пойдем, а? Да, я до утра могу, да.
Она переминалась, совала ему в руку свой паспорт, и сама уже толкала его к ступенькам.
Внутри, где все сверкало тяжким предвечерним светом, лязгало и грохотало, шли быстро, Ленка еле успевала, и спотыкаясь, немного сердилась на то, что отец молчит. Правда, шум вокруг такой, что пришлось бы кричать, а еще ей не нравилось выражение его лица. Да, приехала неожиданно. Но она же дочь. И совсем уже взрослая. А вдруг я просто решила увидеться с отцом, думала возмущенная Ленка, мне что, на это нужны сто пятьдесят разрешений? Мог бы и порадоваться.
У дальнего причала, заросшего вдоль блестящих рельсов беленькими ромашками и желтыми нитками повилики, отец остановился у серого борта маленького облезлого кораблика.
— Вон гальюн, видишь, за деревьями? Беленый домик. Давай сумку, я тут подожду.
Потом они поднимались по узкому трапу, отец поздоровался с сонным вахтенным, и пройдя по белым палубным доскам, вместе спустились в тесное нутро, где было тихо и совершенно никого. Прошли узким коридорчиком, освещенным редкими зарешеченными лампочками. Сухо щелкнул необычной формы ключик, медленно отошла дверь с полукруглыми закраинами.
— Заходи.
Ленка протиснулась следом, приложилась бедром о край металлической раковины, наклоняя голову, чтоб не треснуться о бортик койки, уселась на крошечный диванчик под иллюминатором.
Отец остался стоять в дверях. Помялся, и задирая манжет старой рубашки, посмотрел на часы:
— Слушай, у меня сейчас вахта, потом, ну, ребята там собираются, ты не думай, все официально, а то я бы не пошел. Совсем нет сейчас времени. Ты, правда, на ночь? Никто тебя там не хватится?
— Никто, — немного мстительно ответила Ленка, скидывая босоножки, — я всем сказала, что к папе, попрощаться перед рейсом. А это что, на нем и пойдете?
— Нет, — отец засмеялся, стряхивая манжет на место, — на этом мы в Черном море болтались, месяц. Это моя каюта. Моя и Семеныча, ну он уже переселился. А пароход встал на ремонт. Завтра бригада начнет заниматься чисткой и покраской. Летка, понимаешь, я тебя на «Такиль» повести не могу, я же там не один в каюте…
— Мне тут нравится, — быстро ответила Ленка, — ты иди, если торопишься, а потом придешь. Совсем вечером придешь же?
Она хотела напомнить, насчет поговорить, но вспомнился недавний какой-то фильм, где родители первое, что думали, ах, дочка беременная! И пока не стала. Все равно топчется и на часы смотрит.
— Приду, обязательно приду. Только у меня вахта ночью. Летка, я побежал. Ты есть хочешь? Вот ключ, на вахте спросишь, где стоит «Такиль», подойдешь. Я скажу Петровне, чтоб покормила. Ясно? Ты поняла?
Последние слова кричал уже из коридора, они гулко пролетели в приоткрытую дверь, и Ленка, босиком прошлепав, высунула голову, отвечая вслед шагам по железному трапу:
— Поняла! Не волнуйся!
Прикрыла дверь и вернулась на диванчик, улеглась, раскидывая ноги и руки, вывернула голову так, чтоб удобнее смотреть на край иллюминатора и здоровущие железные болты, которые его держали. Вздохнула от удовольствия. Вот здорово. Она совсем одна, в настоящей каюте, и пока есть неохота, можно никуда не идти, пусть папа делает там свои дела и возвращается совсем ночью, а она отдохнет от народа, от маминых волнений, Светкиных ссор с Жориком и от его сальных взглядов. Да от всего.
Вахтенный, мимо которого Ленка невнимательно проскочила в первый раз, оказался сильно пожилым дядечкой с крепко битой сединой головой, в старой рубахе и промасленных до черных пятен штанах. Когда она, сжимая в руке ключик, нерешительно вылезла на палубу и остановилась поодаль, не зная, как обратиться, сложил газету и, кивнув, спросил:
— Сало ешь?
— Что? — не сразу поняла Ленка, хотя вышла именно спросить, как пройти на «Такиль» к Петровне-кормилице, — а, да, ем сало.
— Тогда вот, — дядечка нагнулся, натягивая рубаху на спине, пошарил в темноте под какой-то тумбочкой или столиком, и вытащил большой газетный сверток, разворошил, открывая скудному электрическому свету нарезанный серый хлеб, шмат влажно блестящего сала и пару вареных яиц.
— Тоня собрала, а куда мне столько, на вот.
— Спасибо, — Ленка приняла тарелку с хлебом и ломтиками сала, по которой каталось яйцо.
— Соль вот. Кружку неси, у меня чай, в термосе, с шиповником.
Ленка благодарно кивнула и пошла обратно, вниз по еле заметно качающимся ступенечкам крутого трапа. В каюте горела включенная ею настольная лампа, вернее, настенный выпуклый светильничек над маленьким пластиковым столом-откидушкой. Тарелка удобно встала там, а кружка нашлась на крючке у раковины, в которой не было воды — Ленка проверила.
Наливая парящий чай с кисловатым запахом шиповника, замасленный дядечка просвещал внимательную Ленку:
— Приспичит если, побеги на берег, вон за деревьями сортир, а тут воды уже нет, и завтра отключат питание, бригада придет, борта чистить от краски. Визгу будет, как заскребут машинкой, уже не поночуешь. А чего ж батя не взял в каюту?
— У него там Семеныч, — вступилась за отца Ленка, держа железную кружку через тряпку, чтоб не обжечь руку.
— Угу, — неопределенно отозвался непоименованный вахтенный, — то так, по двое их там. Ладно, иди поешь. Потом если чего надо, я тут до восьми утра.
В каюте Ленка поставила кружку рядом с тарелкой, из сумки вытащила полпачки печенья, вытерла каким-то найденным в ящике под койкой полотенцем найденную на полочке вилку и села с ногами на кожаный диванчик, умащиваясь поудобнее. Ей было тут хорошо и очень спокойно, так хорошо, что цепляя сало и зажевывая его хлебом, она мысленно пожелала, да пусть бы и папа пришел попозже, совсем уже ночью, чтоб она еще побыла совсем одна. Кружка сильно нагрелась, а чай в ней остыл, так смешно, кружка горячее чая, думала Ленка, осторожно прихлебывая и слушая, как за приоткрытым иллюминатором на других причалах лязгает и грохает, а когда стихает, то слышно — внизу под бортом хлюпает вода.
Убирая за уши волосы, Ленка ела, запивала, вытирала пальцы кинутым на колени полотенцем и пыталась вспомнить, а когда же она оставалась одна, так чтоб совсем-совсем, а не так — мама ушла в магазин и скоро вернется. Или бабка через коридор смотрит бубнящий телевизор, плюясь и высказываясь в пространство.
Потом Ленка еще повалялась и даже немножко подремала, слушая сквозь дремоту, не прозвучат ли за дверями шаги. Потом проснулась, проверила время. Расчесав волосы, заплела толстую косу, рассмотрела себя в круглом зеркале над раковиной, вздохнула и распустила снова, стянула в хвост. И прихватив посуду, отправилась к трапу, спросить, где же стоит этот «Такиль», с которого никак не идет к ней папа, хотя уже почти одиннадцать вечера. А еще снова хотелось в туалет.
Вахтенный оказался Василием Вячеславовичем, и представившись наконец, Ленке, он и сам сказал тьфу, утомясь отчеством и стал просто — дядей Васей. Ленка предпочла более благородный вариант:
— Дядя Василий, я схожу на «Такиль», а после мы с папой вместе придем, он меня проводит.
— Ну, я тут, — согласился страж сонного, совсем пустого без Ленки кораблика, и уселся удобнее, вытягивая ноги из чернильной темноты в полосу желтого света.
А Ленка медленно пошла туда, куда он показал ей — за двумя следующими причалами искать третий, который закрывали рифленые крыши складов, но над которым маячила ажурная башня подъемного крана.
«Такиль» оказался ненамного больше пустого ленкиного прибежища и был таким же облезлым, в серых пятнах по грязно-белым бортам. Основная разница была в другом: на палубе, в рубке и прочих надстройках кругом горели яркие лампы, шевелился народ, у трапа рычали два грузовика, и было много криков и раздраженной ругани.
Ленка встала сбоку, прижимая локтем сумку, в которой пудреница и паспорт, а остальное она оставила в каюте, которую мысленно называя «своей», и следя глазами за трапом, слегка испугалась, уныло прикидывая, к кому тут подходить и у кого спрашивать. Он и правда сильно занят, вот что творится перед отходом судна в рейс, с раскаянием подумала Ленка. И чуть не упала — мимо, обругав ее, протопала фигура с ящиком у живота.
— С-стоишь тут, раззява…
Сзади слышались еще шаги, потому Ленка выдохнула и решительно полезла по трапу вслед за ящиком. Затопталась рядом с вахтенным, не зная, где лучше встать, чтоб на нее никто не натыкался.
— Чего? — заорал молодой парень, обращаясь к массивной телефонной трубке, — да! — и повернулся, не меняя тона, — я говорю, чего встала? Ищешь кого?
На Ленкины торопливые объяснения загремел и зажужжал, дергая какие-то на телефоне рычажки. Крикнул уже про нее:
— К третьему с «Лунина» тут пришли. Барышня какая-то. Ага, Катков. Она? Каткова она. Да пошел ты…
Парень начал слово и оборвал, а Ленка отвернулась, разглядывая внизу погрузчики и рабочих.
— Распишись, — парень сунул ей раскрытый журнал, — щас Алик тебя проведет.
Ленка еле успела чиркнуть ручкой, как из двери высунулся, вероятно, Алик — нашел ее глазами и замахал рукой, уже исчезая снова. Она загремела следом по трапу, дергая плечом, с которого сползала сумка. На площадке Алик повернулся, показывая грязной рукой, куда спрыгнуть. Осклабился, сверкая зубами на темном лице, чумазом, как у шахтера.
— Телефончик дашь? Я в душ схожу, стану красивый.
Ленка улыбнулась, идя следом по коридору с высоко поднятыми закраинами полукруглых дверей. Верхний шум утих, и шаги стали хорошо слышны, а еще навстречу плыл радостный ресторанный шум — звенели вилки, слышался смех, звон стекла, и кто-то раскатисто проговаривал слова, видимо, произнося тост.
— Банкет, — сказал Алик, — отходная, ужин, чисто комсостав с двух пароходов. Начальство… Батя твой там. Ну, должен быть, в каюте нету.
Сзади их догнал раздраженный вопль, и Алик, прервав себя на полуслове, вдруг метнулся обратно, обдавая Ленку запахом масла, бензина и свежего винного перегара.
— Да иду я!
Ленка поглядела вслед и дальше пошла сама, навстречу рассеянному праздничному шуму и яркому пятну света из открытой толстой двери, мысленно репетируя улыбку, и как позовет отца, чтоб узнать, когда же он освободится. Шла медленно, и все замедляла шаги, боясь, а вдруг он там, как бывало дома, уже заваливается на стол, часто моргая и улыбаясь, и как тогда при всех разговаривать с ним, будут смотреть, а он…
У двери встала, чуть сбоку, укрываясь в негустой тени. И заглянула, стараясь, чтоб ее не было видно тем, кто сидел за столами, накрытыми ослепительно белыми скатертями.
Отца увидела сразу, но не узнала. Сглотнула, всматриваясь и приоткрывая от удивления рот. Он стоял, держа в руке хрустальный бокал, звенел по нему вилкой, улыбаясь, ждал, когда стихнет говор. И стал говорить что-то, чего Ленка не услышала, занятая разглядыванием. Он был очень красив, в свежей рубашке с короткими рукавами, с погонами, блестящими на плечах, с темными, зачесанными назад со лба влажными волосами. Все лица были повернуты к нему, все умолкли, внимательно слушая, и вдруг засмеялись, кивая, и он засмеялся, такой — совсем молодой, но совершенно Ленке незнакомый, получается. Только на снимках, казалось ей, видела она его таким, ну да, подумала мельком, снимки все — из прошлого, она думала — он был. А он, оказывается, есть. Сейчас есть. И вокруг сидят люди, внимательно слушают, после аплодируют, уважительно смеясь. У Ленки защипало в глазах от любви к нему и от гордости, а прочее она пока загнала подальше, все эти недоуменные вопросы, которые еще придется обдумать, — почему он тут совершенно другой? Такой — настоящий. А кто же тогда дома, тот, что сидит в кухне у окна, курит промахиваясь окурком мимо пепельницы… Но это все потом, а сейчас надо шагнуть внутрь, в яркий свет, пройти пустое пространство на глазах у сидящих мужчин в белых парадных рубашках, и кивая всем, подойти и сказать — папа…
Она не успела. Все уже ставили пустые бокалы, и переговариваясь, звенели вилками, стучали ножами, дергали из подставочек салфетки, и отец сел, что-то рассказывая соседу — толстому одышливому дядьке с красным лицом, когда мимо Ленки быстро прошла и, не задерживаясь, шагнула внутрь женщина, ни на кого не глядя, миновала пустое пространство, оказалась прямо перед столом и сказала звенящим голосом:
— Сережа!
Ленка задохнулась, качнулась, отступая, и замерла, глядя, как ее отец поднимается навстречу, обходя толстяка, берет женщину за руку и ведет обратно, а та, поднимая к нему отчаянное лицо, говорит что-то быстро и уже негромко.
Сейчас они выйдут, подумала Ленка, и наткнутся, на меня, я тут стою вот. А он не знает. Что я тут. Думал, я буду там сидеть. Одна.
Надо было повернуться и убежать, но не могла и понимала — не успеет все равно, да и как это — бегать еще, будто заяц какой-то. И ноги все равно не двигаются.
Шум был равномерным, обычный шум праздничного ужина, когда все еще голодны и едят, а говорить и смеяться будут потом. Ленка стояла, уставившись на сложную дверь, на какие-то на ней рычаги и винты. А из проема никто не вышел, но зато совсем рядом, за краем послышались голоса. Они встали там, поняла Ленка, рядом со мной, и не видят.
— Лариса, — сказал отцовский голос, — да погоди, может просто…
Ленка вздрогнула, услышав имя.
— Что просто? Нет. Он же сказал, Валечка сказал, позвонит, и вот нет, а сейчас Надя мне говорит, не приехал! С ним что-то случилось. Я знаю!
Свет из кают-компании потускнел, двое вышли, отец держал женщину под локоть, но она все равно споткнулась о высокий порог и он обнял ее за талию.
— Зачем я его послушалась, — с отчаянием сказала Лариса, выпрямляясь и держась за отцовскую руку, а он через ее плечо уже смотрел на Ленку.
— Зачем? Сказал, поможет Ниночке, я тебе говорила, девочка у него там, в Артеме, сказал, что уже взрослый, так просил, чтоб — сам. Какой он взрослый! И что теперь, Сережа?
Отец молчал и Лариса замолчала тоже, повернулась. Стояли перед Ленкой — держась за руки, как школьники. Лариса не очень внимательно смотрела, как на помеху, которая мешает, отвлекает от собственного горя.
— Летка, — сказал отец. Кашлянул и вдруг сразу стал похож на себя, того — кухонного.
— Да ладно, — хрипло сказала Ленка, мало что видя из-за наплывающих слез и сердясь на себя за эти слезы, — решайте там свои проблемы. Молодожены… Интересно, пап, а когда мама приезжала, ты как делал, чтоб друг друга не нашли? Ну, не видели чтоб. Тоже в пустую каюту поселил, да? И бегал туда сюда? А все над ней смеялись, да? Эти твои.
— Сережа, — очнувшись, испуганно сказала Лариса. И отпустила его руку, будто та раскалилась.
— Ага, — кивнула Ленка, — он Сережа, а я — Елена Сергеевна Каткова. А вы я так понимаю, Лариса Панченко. Как бы тоже Каткова. Почти.
— Летка, прекрати, — хмуро сказал отец.
Таща за руку Ларису, он попытался взять Ленкину руку, но та дернулась, отскакивая.
— Да идите вы! С вашими ниночками!
Она быстро пошла по коридору, но ярость была такой сильной, что нельзя уходить, иначе взрыв, и головой об серый борт. Так что она повернулась и снова подошла, кинула презрительно, оглядывая обоих:
— Тоже мне ро-ди-те-ли! Больного пацана присмотреть не можете, потеряли.
Теперь можно было уйти. Ленка повернулась и пошла, потом побежала, слыша за спиной отцовский голос, произносящий ее имя, он догонял ее раз и еще раз, но она побежала быстрее и он умолк. Остался там, с Ларисой и ее проблемами.
Глава 34
Голос отца был громким и очень сердитым, во всяком случае, так слышалось Ленке через спутанные ветки жимолости, усыпанной неясными белыми цветочками. Он всегда, если сердился, называл ее обычным именем, а не Летой и не Енкой, вот и сейчас:
— Лена! — послышалось за кустами, не очень близко, и после грохот крана перекрыл отцовский голос.
Ленка сдвинулась в самый конец лавочки, где жимолость вольготно раскинула ветки по облезлым деревяшкам, и замерла, отклоняя голову от бликов света — рядом с сортиром качался на столбе тусклый фонарь. Она понимала, что поступает совершенно глупо, но ничего с собой поделать не могла, полная ярости. Мысль о том, что нужно смотреть отцу в глаза, разговаривать с ним, а еще рядом будет топтаться эта Лариса, с которой мысленно Ленка давно примирилась, все же она — мать Валика, и никак не думала, что в реальности ее так пристукнет, до невыносимости. Именно невыносимо дальше быть тут, с ними, без всяких мыслей о том, почему так. Подумать она успеет потом, решила Ленка, а пока надо просто — подальше. Спрятаться.
Через просветы в черных ветках ей виден был борт и кусочек трапа, серые фигуры рядом, а когда умолкал кран на соседнем причале, то и обрывки голосов доносились — резкий раздраженный отца и невнятный виноватый дяди Василия, так и слышно, как разводит руками.
Она уцепилась пальцами за щербатые доски и опуская голову, усмехнулась, как оскалилась. Приехала. Прилетела, можно сказать. Узнать о бедном несчастном Валиньке, любимом братишке, который, как там сказала мама Лариса, остался помогать Ниночке? У него же там девочка, сказала Лариса, ну ты знаешь, Ниночка. Ах и ох…
У трапа произошло перемещение, свет мигнул, а ветки качались и видно было плохо, но Ленка увидела — пусто. Ушел. Она не встала, выжидая, почти спокойная.
Хорошо, что она не совсем взбесилась, не до полного идиотизма. Прибежав к трапу, пока отец там разбирался со своей Ларисой, Ленка взлетела вверх, и тяжело дыша, предупредила вахтенного:
— Дядя Василий, я сейчас уйду, ненадолго, потом вернусь. Папе скажете, не надо меня ждать, пусть идет на свою вахту.
— Ну так, а…
— Не надо ждать, — оборвала звенящим голосом, спустилась снова, увидела издалека знакомую фигуру — через пятна света и черные тени сюда, к причалу, и рванула за туалетный домик, что так удачно прятался в густом кустарнике и старых деревьях.
Она тихонько обошла весь островок зелени, видно, когда-то была тут зона отдыха или какая контора — недалеко стоял домик служебного вида, но с перекладиной через запертую дверь. И среди понатыканных лавочек нашла одну, укрытую в густой жимолости совершенно, туда и забралась, села, слушая, и выжидая, когда отцу надоест стоять на палубе рядом с дядей Василием. Отец стоял долго, ей показалось, целую вечность. Сначала ушел в каюту, потом снова вышел к трапу, ей не было видно, но когда они оба спустились, она услышала голос. И еще с полчаса, наверное, отец обходил причал, ангары с рифлеными железными стенками, и по зарослям прошелся, крича в раскрытые двери вонючего туалета. А Ленка, набычив голову, сидела, глядя перед собой и упрямо скривив губы. Умерла бы, но не вышла.
Если бы взялся на завтра билет, думала с отчаянием, то утром рано-рано ушла бы и, пока-пока, уехала домой. Но билет куплен, придется торчать тут еще целый день, и целую ночь, да еще как сказал вахтенный, придут уже ремонтировать суденышко, а значит нужно тащиться к отцу на «Такиль», и даже если уехала эта Лариса, то общаться с отцом. А что он ей скажет?
Она снова представила, как это было, когда приехала мама. Наверное, жила у отца в каюте, а Лариса шастала рядом, может быть, поселилась в номере гостиницы для моряков. А он, ее отец, врал матери, зная, что она уедет, а эта — останется. И тут хоба — явилась Ленка и попортила все планы.
На эти мысли упорно накладывалась другая, про Ниночку, ту самую, с которой все получается и началось, не врала девочка-каратистка, они там с ним встречались.
«А ты — крутила с Кингом, Малая»…
Но Ленка тряхнула головой, не желая соглашаться. Крутила, да. После того, как узнала. Ему, значит, можно, а ей нельзя? И потом как можно так долго молчать? Да если бы она знала, куда позвонить, уже тыщу раз позвонила бы, не стала бы в позу становиться, и спросила бы, пусть скажет сам! Но воспоминание о бедном Васе Костроме, который писал ей письма, а Ленке был совсем, получается, не нужен, и потому она забывала ответить, и не хотела отвечать, или откладывала, пока не забывала снова, это воспоминание приходило, чтоб показать ей — он там, наверное, точно так же. Забывает позвонить Ленке, откладывает, чтоб забыть.
И получались два обмана, один обман ее отца, другой — Валика. Это давило до боли в затылке. И сердце ныло. Хотелось что-нибудь разбить. Или убежать и напиться, а еще кинуться танцевать и познакомиться с кем, чтоб восхищался, чтоб Валик понял, Ленка в тыщу раз лучше его каратистки, но шиш тебе, Панч, уже не твоя.
Она выбралась из кустов, морща нос от сложного запаха — цветы перемешивали сладкий аромат с резкой вонью из туалета, и еще запах угольной пыли и ржавых железок. Пошла обратно, к пароходику, на его борту, освещенном расплывчатым светом фонарей, белела пуговица иллюминатора — единственная со светом внутри.
— Пришла… — вахтенный не поднялся.
Убирая ноги, чтоб Ленка прошла, добавил обвиняюще:
— Отход у них завтра, с утра будут бегать, не до тебя. Отец ждал тут. Сказал, чтоб пришла сама, он на вахте, ночью.
— Хорошо, — ответила Ленка.
— Пойдешь? — спросил в спину.
— Нет, — ответила она, не оборачиваясь.
Спустилась вниз, прошла пустым коридором и отперла дверь, оглядела внутренность крошечной каютки с койками в два этажа. Села снова на диванчик под иллюминатором. Нехотя взяла со столика листок бумаги с карандашными строчками.
«Летка, не глупи. Позвони мне с вахты, Василий наберет. И приходи, до 12 дня можем поговорить, потом уже все. Папа».
— Ага, — сказала вполголоса угрюмо, — щас вот.
Легла, подтягивая к животу ноги и глядя на полукруг света, бликующий на крашеном ободе круглого окошка. Что же ей делать? Завтра у них отход, а ей нужно потом где-то переночевать, и вообще все так тоскливо, что лучше об этом совершенно не думать.
Она закрыла глаза и вдруг заснула. Во сне было ей очень грустно и одновременно светло, так сладко, что она заплакала, куда-то идя, проводя рукой по каким-то мягким лепесткам, веткам, что-то рассказывая через слезы, и зная — ее слушают, слышат, и кивают, понимая. Ее тут любят.
Просыпаясь, выплывала из сна, жалея, что сейчас все забудется, уже забывается, и кто там шел рядом с ней, слушал, трогая рукой ее пальцы? Кто-то совсем близкий, такой — самый нужный. Но кто это был?
— Спишь все? — голос шел через решеточки понизу двери, замолкал, в дверь постукивали. Потом стал громче:
— Ну ты и спишь, королевна, проспишь ведь все!
Ленка открыла глаза. Блики на иллюминаторе стали яркими, по светлому потолку бежали, обрезаясь, солнечные сетки. Она села, моргая. Сказала хриплым голосом:
— Встаю уже.
— Ага, — согласился вахтенный, — я через полчаса сменяюсь, бригада скоро будет. Беги, давай на «Такиль», уходят же скоро. Ну и завтрак там тоже.
Толком не проснувшись, она умылась — дядя Василий выдал ей полкружки воды, быстро привела себя в порядок перед зеркалом в каюте, и все больше мрачнея, попрощалась и ушла к зарослям, где торчал белеными стенками сортир. А уже оттуда медленно двинулась к «Такилю», раздумывая, как сложится день и прощание с папой.
На «Такиле» никто ее не ждал. Кругом все бегали, быстро ходили, несли по трапу какие-то коробки и ящики, кричали, нагибаясь с борта, и им кричали в ответ снизу. Ленка встала сбоку, где якорная цепь, вываливаясь из круглой мощной дыры, упадала вниз, провисая над суетливой водой в мазутных пятнах. Переминаясь, поправляла на плече сумку, и хмурясь, загадывала, глядя на часы, вот полчаса постою и уйду нафиг, а звать не буду. И спрашивать не буду.
— Летка? — голос упал сверху, там маячила черная на ярком солнечном фоне голова, — пришла? Стой там, я сейчас.
Через несколько минут уже шел к ней, быстро, взмахивая рукой под коротким рукавом форменной рубашки. Ленка вдруг представила себе, что она его жена, через час они на полгода расстаются. И когда же все выяснить, как следует поругаться, обидеться, и после помириться? Или что, все выкинуть, забыть и просто нормально попрощаться, будто и не было ничего?
— Я уж боялся, надуешься на всю жизнь, ну ты что? — отец обхватил ее плечи, и сразу отпустил, видно, почувствовал, какие они каменные.
— Ты не должна так. Ты ведь не знаешь ничего.
— Знаю. Больше знаю, чем думаешь.
— Матвеич! — заорали сверху.
И отец, запрокидывая голову, крикнул в ответ, так что Ленка вздрогнула:
— Да иду уже!
— Летка, — заговорил уже с ней, поднимая руку и глядя на часы, — пора мне, ну вот же как. Я же не знал, что приедешь. Сама приехала, совсем ты выросла. Я… ты молодец, что приехала.
На каждое его слово у Ленки был готов язвительный ответ, и от того, что внутренний голос проговаривал эти ответы, она растерялась и просто молчала. Чтоб не закричать, упрекая и горько издеваясь. Ага, молодец. Приехала. И — увидела.
— Я тебе письмо написал. Вот. Бери.
Он совал ей в руку сложенный вдвое конверт, накрепко заклеенный и захватанный пальцами.
— Не надо, — с тоской сказал она, — убери, я не буду! Читать.
— Некогда мне, пора уже. Возьми. Дома прочитай, ладно? Не хочешь если. Летка моя Енка.
Он снова обхватил ее плечи. Неловко попытался поцеловать в щеку. А она увидела, там, между штабелей ящиков, еще далеко, но быстро идет женская фигура, ветер дергает юбку, край пиджака и короткие русые волосы. Ленка дернула головой, отступая.
— Да. Прочитаю, да пусти уже. Мне. На автовокзал мне. Надо.
— Билет есть?
Лариса вертела головой, не видя их. Встала у трапа, ловя кого-то за рукав и спрашивая.
— На завтра, — сипло ответила Ленка, ужасно себя жалея. В руке комкала жесткий конверт.
— Так… Пойди там в диспетчерскую. Спроси Анну Петровну. Запомнила? Это стармеха нашего жена. Она тебе поменяет билет. Нормально так?
Ленка кивнула.
— Вон стоит твоя. Ищет.
Отец быстро оглянулся. И снова посмотрел на Ленку, на ее потерянное лицо и дрожащие губы.
— Прочтешь, я написал там. Пожалуйста. Пока, Летка-Енка. Привезу тебе ананас. Ты всегда любила. Хочешь? Да иду я!
Ленка кивнула и пошла, обходя штабель с другой стороны, чтоб Лариса не увидела ее. Наверное, умнее было бы прям на нее выскочить, думала Ленка, спотыкаясь и ускоряя шаги, пусть видит, но ужасно не хотелось таких умностей, вообще хотелось поскорее отсюда. И никакого Севастополя не надо, а надо на автовокзал, вдруг получится уехать сегодня, и вечером быть дома. Там тоже не фонтан, ну что-то придумается. Можно, все же, отправиться на выпускной. Хотя тоже совершенно не хочется.
Небо, уже по-летнему бледное, затеняли толпы маленьких облачков и крутилась сбоку низкая серая туча с белоснежной горбушкой, угрожая, выползала с закатной стороны, но никак не могла достичь середины — солнце плавило и растаскивало плотные комья, они светлели и исчезали, а кудрявые мелкие, похожие на смешных толстых овечек, оставались. От них на рельсах, асфальте, штабелях, горах угля крутились такие же толстенькие круглые тени. Ленка моргала, пробираясь какими-то закоулками, ушибая локти о неровные пирамиды то ящиков, то старых шпал, вкусно воняющих креозотом. Наконец поняла — заблудилась и придется спрашивать, как найти проходную. Шмыгнула, вытирая глаза тыльной стороной ладони и пошла в обход контейнера, обшитого яркими цинковыми полосками и изукрашенного красными надписями.
Ступила на узкий, непонятно куда ведущий тротуарчик. Оглянулась, разыскивая кран на причале, где стоял «Такиль». И ойкнула, налетев на кого-то. Ступила назад, от женской фигуры — широкая юбка, серый пиджак в талию, короткие волосы, кинутые ветром на одну сторону.
Сердце, щекотнув, упало в желудок, рот пересох. Так неожиданно, до полной растерянности, так — врасплох. Лариса стояла напротив, с растерянным лицом, обе руки опущены, в одной чемоданчик, в другой сумка. И ветер лепит волосы в глаза, а руки заняты, не убрать.
Ленка успела подумать, наверно, у меня точно такое же лицо, совсем глупое. А больше ничего не подумала, только услышала собственный хриплый голос:
— Нашелся?
— Что? — Лариса повела плечами — пиджак перекосился и съезжал с одного плеча, а поставить чемодан на вытоптанную траву она, наверное, не додумалась.
— Сын. Ваш.
— Да… — у нее перестал дрожать голос, лицо разгладилось, посветлело, будто тучки утащили свои тени, и солнце засветило уверенно, устойчиво:
— Я и шла сказать па… Сергею Матвеевичу. Я позвонила опять, он, оказывается, заехал к товарищу, и оттуда уже домой, через три дня. Или четыре. Такое счастье.
— Хорошо.
Ленка повернулась и снова ушла за контейнер, пошла обратно, еле волоча гудящие ноги, ругая себя за глупое поведение и одновременно радуясь, что с чертовым Валиком все в порядке.
— Вот и все, Малая, — сказала вполголоса наставительно, — вот, и, все… живи уже дальше.
На автовокзале все сложилось очень хорошо, никакой Анны Петровны Ленка найти не сумела, кругом были толпы летнего народа, груженые сумками и чемоданами, орущие на орущих детей и ругающие кассиров, шоферов и диспетчеров. Но когда ее затолкали в угол к диспетчерской и она, спросив, рассказала, что ей поменять билет, он тут же кому-то понадобился, Ленку взяла на буксир огромная тетка с громким голосом, протащила куда надо и сама все сделала. Через десять минут Ленка внезапно оказалась в автобусе, сжимая в потной руке новый билетик и ощупывая почти забытую в толчее сумку — на месте.
Автобус ехал, трясся, подпрыгивал, лязгал дверями, везя Ленку через выгорающую степь к Симферополю, останавливался, кого-то выпускал, а других принимал в душное нутро. А она, сидя у пыльного окна, мрачно смотрела на бегущую ленту пейзажа. И маялась тем, что не смогла нормально попрощаться с отцом. Полгода, его не будет снова полгода, а Ленка и поехала ведь не к нему, а узнать про Валика, и психанула там, если честно, не из-за Ларисы и их отношений, а опять — услышав про Ниночку-каратистку. И вот он ушел в рейс. Все вышло — сикось-накось и наперекосяк. На дне косметички, сложенное в тугую четвертушку, лежало письмо. Ленка решила, распечатывать его не будет. И так все паршиво, а тут еще читать, как он начнет оправдываться и молоть всякую чушь про «вырастешь поймешь»…
Лучше она напишет ему сама, решила Ленка дальше, а то вечно руки не доходили, нормальное письмо написать, только бегали с Рыбкой отправлять телеграммы, считали, на сколько трехкопеечных слов хватит мелочи.
Дома усталую Ленку встретила сестра, открыла и, придерживая на груди халат, ушла в туалет, закричала оттуда:
— Нагулялась? Не тремти, я тебя прикрыла, как договорились. Мать думает, ты завтра только.
Зашумев водой, вышла, прижимая ко рту руку. Передернулась на пороге кухни, где Ленка, стоя, делала себе бутерброд с баклажанной икрой. Отворачиваясь от стола, не видеть, как шлепается ложка с коричневой массой на серый хлеб, рассказала, усаживаясь у стены:
— Меня снова на сохранение. Наверное, завтра с утра залягу. Две недели. Забодали уже. А ты чего, родной сестре не расскажешь, куда тебя носило с ночевкой? А чего раньше вернулась? Сестре вдруг посоветует чего хорошего?
— Сестре, я потом расскажу, ладно? — попросила Ленка через хлеб и икру.
Светлана кивнула.
— Ладно. Пусть потом. Но пока мать думает, что у тебя экскурсия, и пока Жорки нету, его на рыбалку взяли, сестре тебе советует догулять свой кусок свободы. Мать вернется совсем вечером, а у вас все же выпускной. Можешь завеяться с ночевкой, ну вы все равно там рассветы всякие встречать рванете.
Обе посмотрели на часы, тикающие на стенке. Ленка удивилась, доедая бутерброд, такой уже долгий день, и в нем столько всего, а на самом деле семь часов вечера?
— Там с пяти начало, — попробовала возразить.
Светища покачала головой, снова стягивая на груди атласный халат:
— Плевать. Они с пяти, а ты явишься королевой — самая свежая, вся такая таинственная…
Ленка хмыкнула. Слишком уж свежей, да еще королевой она себя не ощущала. Но оставаться дома и мучиться мыслями про Валика и его девочку — совсем тошно. Да что за черт, рассердилась она на себя, уходя в комнату переодеваться, я уже совсем взрослая, у меня секс, у меня — мужчина. Крутой, между прочим, и красивый. И ему — двадцать восемь лет! А я дергаюсь из-за пацана пятнадцатилетнего! Скажи кому, засмеют же.
Разложив на диване прозрачное платье и шелковый сарафанчик, Ленка вытащила бережно хранимые кружевные трусики, импортные, купленные на толкучке специально под это платье, устроила их рядом с платьем и, замотавшись в большое полотенце, отправилась в ванную. Сейчас она свирепо жалела, что так и не решилась признаться Рыбке о том, как закрутилось у них с Валиком, а ведь раза три была совсем готова рассказать. Но побоялась Олиных безапелляционных высказываний и вот теперь мучается одна. Совсем паршиво в одиночку, думала Ленка, вспенивая на голове шампунь, вот про Рыбкины горести и радости я все знаю, а от нее, получается, шифровалась. Выходит, я не могу на нее обижаться, за то, что секретно исчезла из школы? Сама поступаю точно так же…
— Мала-мала, — Светкин голос пробился через шум воды, — вылазь, к телефону тебя. Кто? Хороший такой баритон. Давай мухой, а то вместо тебя все скажу!
— Да, — сказала Ленка, придерживая падающее полотенце, — привет, Сереж. Да не знаю. Вообще не хотела. Ну решила, ладно. Пойду. Что?
— Правильно решила, — одобрил в трубке голос Кинга, — а мне как раз сегодня туда и надо. Приедем, я тебя заберу, идет? В одиннадцать примерно. Ночь вместе догуляем.
— Во-от! — одобрительно закивала Светища, когда Ленка распахнула двери в комнату, аккуратно ставя ноги в босоножках на шпильках, — это я понимаю, это ты выросла очень даже ничего существо.
— А платье?
Ленка подхватила широкий подол, медленно подняла прозрачными крыльями, изгибаясь и красиво ставя ноги в сестриных босоножках.
— Платье супер. Я тебе тушь свою дам. Резинки надо?
— Какие? А, — испугалась Ленка, — да нет, ты чего. Не надо.
— Сам покупает? Ну, молодец, чего уж.
— Светища, перестань!
— Ой, нежные мы какие. Ладно, давай фен, я тебе на башке красату наведу. А этот твой с баритоном, он кто? Любишь его?
— Нет, — призналась Ленка, осторожно пожимая плечами, по которым сестра под гудение фена раскладывала завитые локоны, — только не надо мне моралей читать, хорошо?
— У меня мораль одна, Мала-мала, и ты ее знаешь. Чтоб резинки — были.
Когда Ленка была совсем готова, сестра покрутила ее, оглядывая. И улыбаясь, пихнула к дверям, суя в руку сложенную бумажку.
— Пятерка тебе, на гульки и таксо. Иди уже.
— Не хочу, — расстроилась Ленка, — одна, как дура. Попрусь сейчас на автобус. В платье.
— Ой! Забыла сказать, тебе звонила твоя Оля, спрашивала, пойдешь ли. Ну, а я думала, ты в загуле, нет, говорю, ее и в городе нету, уехала. Так что она расстроилась и трубку положила.
— Как… что… — Ленка пыталась сообразить, а сестра выталкивала ее, договаривая в спину:
— Там и увидишь. А что звонить, ее дома давно уже нету, наверное, часа в четыре это было. Малая, иди уже, черт! И не надо автобус, сразу на тачку, два рубля отдай, довезет, как принцессу!
Глава 35
Как принцессу… Принцесса Лета… — крутилось у Ленки в голове, пока она сидела рядом с шофером на продавленном кожаном сиденье разболтанной Волги, а в окна лился желтый, почти уже закатный свет.
Она держалась за эти слова, повторяя их про себя, будто они поручень в тряском автобусе, где все зыбко, кидает из стороны в сторону, и каждый невидимый ухаб под колесами отзывается рывком и ударом, а за стеклами проносятся картинки, быстро меняясь и не успевая сделаться миром… Вот только что — высокая труба в белые с красным полосы, а уже стволы деревьев старого парка, и следом — фрагменты детской площадки. Скорость — это хорошо и иногда нужно, чтоб взвизгнуть и зажмуриться, но все чаще Ленка ловила себя на том, что ей нужен какой-то ее собственный мир, настоящий, целый, а пока вокруг почему-то все рваное, все — не ее.
Машина тормознула, снова дернулась, набирая скорость, шофер замурлыкал, поглядывая на Ленку, но та смотрела перед собой, совсем не желая разговаривать, хотя знала, если он начнет, она вежливо поддержит, даже пошутит и посмеется…
Вот когда она сидела в углу захламленной комнаты Вадика, в пустом, наполовину заброшенном яхт-клубе, мерно работала толстой иглой, пальцы горели, а шея и плечи ныли от напряжения, вот тогда, как ни странно, мир становился целым. А еще, вдруг вспомнила она, удобнее устраивая ноги на шпильках и расправляя на коленях подол, вот! В спортзале старой феодосийской школы, на низкой скамеечке, прижимаясь плечом к распахнутой куртке Панча и держа его руку. Там плавно слетело на нее это удивительное ощущение, что все собралось, все встало на свои места и запело, сверкая и улыбаясь. Потому что все сделалось — верным.
Но вокруг говорят другое. Она едет на выпускной, там одноклассники, у каждого намеченная или назначенная дорога, отличники в институты, троечники в училище, Танька Ломачкина — через пять месяцев в роддом, и все ее жалеют, сломала себе жизнь, не пошла в бурсу, а сразу замуж.
Мысли разбегаются, как дурные тараканы, мрачно думала Ленка, вытаскивая из кошелька приготовленные бумажки. Тоже мне, принцесса Лета… с обувными колодками на старом кресле и с мечтами о младшем брате, наполовину родном.
Наверное, эти мысли пришли, потому что сейчас тоже спортзал и танцы почти на всю ночь. Только под утро приедет автобус, выпускников повезут на морвокзал, там катер, на нем — встречать рассвет.
— Прям принцесса, — сказал шофер, и Ленка вздрогнула от неожиданности.
Рассмеялась, вылезая из жаркого автомобильного нутра. Поправила на плече сумочку и, попрощавшись, отправилась по квадратным большим плиткам ко входу, украшенному шариками и лентами. Оттуда вопили динамики — дежурную песню каждого выпускного.
— Когда уйдем со школьного двора, — тосковал мелодичный юношеский голос, — под звуки нестареющего вальса-а-а…
— Учитель нас проводит до угла… И вновь назад и вновь ему пора…
Мимо проскакивали нарядные уже бывшие школьники и школьницы, Ленке махали, и она махала в ответ, кивнула в заросли туек, откуда хриплым басом что-то заорал Андросов, вышагивая на свет и манерно поправляя бабочку на крахмальной рубашке.
Песня была сама по себе, а происходящее — происходило само по себе, видела Ленка, и не особенно задумывалась над этим. Мало ли что там снимают в кино, про плачущих учителей и притихших выпускников. А жизнь вот она — ругань из темных туй, где явно пьют что-то сильно крепче шампанского, и еще — танцы, и гулять всю ночь, как взрослые, да никто особенно и не думал, что нынче выпускной, разве что повод сшить или купить нарядное платье…
Кто-то подхватил Ленку под локоть, и она утонула в аромате французских духов.
— Като-очек, все пропустила! — Олеся цокала рядом, смеялась, встряхивая соломенными мелко завитыми волосами, — Алик коньяку притаранил, мы в раздевалке квасили.
— Ты Олю не видела? Рыбку.
— Видела твою Рыбку, — согласилась Олеся, качнувшись, — за ней тут парниша бегал, ну этот, с техникума, такой ничего себе мальчик, блондин-бляндин. Он, кажется, поет.
Ленка остановилась, оттаскивая Олесю от орущего динамика.
— Ганя? А он что тут? Вот же блин. Испортит Ольке весь выпускной.
— Та. Тоже мне, праздник. Но нажремся отлично. Короче, Ленка, через десять минут, чтоб в раздевалку, пняла? Я тебе там сныкала в бутылке. Иду!
Она кому-то кричала, а сама тащила Ленку через вестибюль, по лестнице, забыв отпустить, иногда останавливалась, снова грозно предупреждая:
— Поняла, да? Чтоб через десять минут!..
И в конце коридора перед спортзалом расхохоталась, отпуская ленкин локоть:
— А-а! Пришли!
— Я пойду Рыбку поищу, — попросилась Ленка, заглядывая в ярко освещенный спортзал. Там были накрыты длинные столы, над ними качались шарики и спускалась с потолка мишура, бродили и сидели смеющиеся люди, и родители кое-какие мелькали — много народу. Ленка успела заметить Инку Шпалу, которую провальсировал мимо физик Кочка, расправляя плечи и пылая свекольным румянцем на выбритых щеках.
— Штрафную, — возразила Олеся, — два глотка. И тащи свою Рыбку, она классная девка.
Ленка молча повлеклась следом, улыбаясь и кивая во все стороны. Вдруг снова стало совсем тоскливо. Еще сегодня утром она стояла у рельсов, на них падали маленькими головами ромашки, а женщина с короткими русыми волосами рассказывала, что Валик скоро домой. И добавила — такое счастье.
Как хорошо, что их раздевалка немножко не такая и Ленке не надо подниматься узкой лесенкой на внутренний второй этаж. А вообще, кругом эти сплошные похожие школы, и теперь даже по школьному коридору идти — страшно, что в любой момент вдруг налетит воспоминание. Как шли по тихой пустой школе в Коктебеле. Или как лежал там, в Феодосии, а она плакала, стоя над ним на коленках.
Это что, это все было в ее, Ленкиной жизни? Наверное, можно написать роман, подумала Ленка, принимая из рук Олеси фигурную бутылку с коричневой прозрачной жидкостью, наверное, если суметь, то это будет хороший роман, такой совсем настоящий, про то, как внутри все становится больше, чем снаружи. Но и снаружи, если все перечислить и перевспоминать, оказывается, так было много. И еще к этому роману можно приписать счастливый конец. Совершенно непонятно какой.
В полутемную раздевалку кто-то заскакивал, смеясь, гремели стульями и скамейками, передвигая их. Один раз послышался голос Алика, Ленка опустила бутылку, пряча, но Олеся засмеялась. И следом раздался манерно капризный голос Стеллочки:
— Саша, вот лишний стул.
— Саша? — шепотом удивилась Ленка, а Алик-Саша возник рядом, протягивая руку и отбирая у Ленки бутылку.
— Уф, забодался я мебель таскать, чин-чин, девочки?
И быстро глотнув, снова исчез, таща стулья за голосом Стеллочки.
— Не кот начхал, — сказала Олеся, взбивая волосы и поводя плечиками в розовом крепдешине, — школа гудбай, теперь можно лямуры крутить, с кем захочешь. Даже с Аликом, сорри, с Сашкой.
У Ленки плавно закружилась голова. Она хлебнула еще раз и отдала бутылку Олесе.
— Да, — вспомнила та, — со скляного пацанва пришла, их не пускают, но к десяти точно пролезут, когда все уже нажрутся. Там с ними этот, с биржи. Юра кажется. Тебя спрашивал.
— Вот черт… — Ленка схватилась за протянутую бутылку и снова хлебнула, — еще не хватало.
— От нас далеко не отходи, — предупредила Олеся, уже слегка невнятно, и отобрала у Ленки бутылку, — мотай, я сныкаю.
В дверях снова закрутились люди, через смех слышался сильный голос Саньки Андросова, иногда его захлестывала музыка, а после он снова раскатывался, уговаривая кого-то.
Ленка и Олеся отошли к стеллажам, пропуская нескольких человек, но Санька, быстро поворачиваясь, вытолкал лишних, повернулся, скалясь белыми зубами на смуглом, сумрачно загорелом лице:
— Каточек явилась. А я думал, совсем на нас наплевала.
— Я уезжала, — возразила Ленка, с трудом справляясь со словом, — уезж-жж-з… я у папы была.
Санька вел, обхватив за плечи, учительницу Маргариту, а та медленно переступала каблуками, держась за него и улыбаясь девочкам.
— Вот ты сволочь, Андрос, — вполголоса сказала Олеся.
— Да пошла ты. Она сама. Отлежится щас.
Санька увел Маргошу в угол, позвал оттуда, грохоча лавочкой, которую подтаскивал к стене:
— Вы это, покараульте, чтоб пока не лезли никто.
— Тьфу ты, — сказала Олеся и толкнула Ленку к выходу, — иди, Каточек, я изнутри закроюсь. Придете, постукайтесь. И воды. Газировки принесите пару бутылок!
На длинных столах с уже мятыми и пятнистыми скатертями, рядом с оливье, салатиками, блюдами с пюре и жареной курятиной, стояли вазы с клубникой и черешнями, Ленка, проходя, хватала, пробуя, но не садилась, глазами разыскивая Олю, а еще боясь увидеть Юру Боку, и чего ради он ее спрашивал, совсем этого не надо…
Все мелькало, толкалось, кричало и шумело, не умолкая и не стихая, даже когда возникала новая, медленная мелодия и часть людей разбиралась по парам, топчась на свободной половине зала. Стеллочка схватила Ленкин подол, усаживая рядом и ручкой веля Алику — он послушно налил в высокий фужер шампанского и Ленка послушно его выпила. Плюхнулась рядом Инка, расставляя длиннющие ноги и обмахивая широким подолом горящее лицо.
— Ах, душно! Дайте мне атмосфэры!
И через минуту вскочила, чуть не перевернув лавку со всеми, кто на ней сидел, унеслась в танце. Ленка вдруг тоже танцевала, смеялась, с удивлением обнаруживая перед собой меняющиеся лица парней, то из своего класса, то из параллельных. Потом, наконец, оказалась вместе с Рыбкой у дверочки в раздевалку и обе они в четыре кулака сосредоточенно стучались, пока хохочущий Санька не затолкал обеих внутрь. Усадил, вручая Рыбке стакан, а Ленке отказав наставительно:
— А некоторым в прозрачных платьях хватит уже.
— В желтых которые? — уточнила Ленка, валясь на подругу, — а то тут некоторые зеленые, красивые такие…
— В зеленых можно как раз, — разрешил Санька и умчался в угол, где что-то быстро и испуганно заговорила Маргоша.
— Ну, — грозно сказала Ленка, попробовала сказать еще и засмеялась. Махнула рукой и сказала другое:
— О-ля. Я тебя люблю. Еще Вальку люблю, но он скотина. Так что ты у меня только вот. А ты любишь Ганю. Да? Своего коз…
— …ла, — подсказала Рыбка, составляя коленки и бережно раскладывая на них изумрудный блестящий подол, — люблю. Пошел он нахер. Знаешь, чего пришел? А-а-а-а, не знаешь. А я да. Уже да. Вот.
— И чего? — заинтересовалась Ленка, по-прежнему прижимаясь к Олиному боку и хватая ту за руку, — не уходи. Блин, щас отпущу и ты хоба, и свалишь да? Ты балда с ушами. А Семки? Она же совсем не Рыбка.
— Ты помолчишь?
— Я? — Ленка задумалась и кивнула.
— Спать хочет, — скорбно сказала Оля, — ну не сволочь?
Ленка подумала, не очень понимая, почему сволочь, а что спать — нельзя что ли хотеть.
— А-а-а! — с тобой да? Так и тыж. Хотела же! Блин вас не поймешь, то ты…
— Свадьба у него, в июле, — прервала ее Рыбка, — а он ко мне пришел, договариваться. Чтоб все равно спать. Чтоб я любовница.
Ленка не ответила, потому что задохнулась от возмущения. Хотела саркастически рассмеяться, но это было чересчур сложно, и она просто закачала головой, ударяясь ухом о рыбкино плечо.
— Блин, — сказал из угла Санька, — девки, тащите ведро.
— Саша, — сказала Маргоша высоким голосом, — о-о-о, Са-ша!
— Марго, подожди. Вон в углу!
Оля кинулась в угол, мелькая подолом, унесла страдающей Маргарите красное пластиковое ведро. И вернувшись, подняла Ленку с лавки.
— Пошли. А то еще выносить заставит.
— Чего это, — возмутилась было Ленка, и послушно повлеклась следом, смеясь на ходу.
Но в зале среди танцующих не забывала оглядываться, чтоб не напороться на Юру Боку.
Потом они выходили покурить и у Ленки снова закололо сердце, так было похоже на ту ночную школу: яркие окна с музыкой, белая стенка, отделенная черными деревьями от тротуара и дороги. Хмель выветрился. Вокруг колыхались темные ветки и когда в шуме за стенами наступала пауза, становились слышны летние сверчки. Ночные.
Вот лето, думала Ленка, держа горячий окурок так, чтоб искра не упала на подол, вот оно пришло, а мне кататься с Кингом и Димоном, и наверное кому-то это очень понравилось бы. На машине, куда захотели, туда поехали. А еще ресторанчики пару раз в неделю, и кофе попить в кафешках. И получается, Ленка в свои семнадцать уже спокойно листает меню, заказывает официантке, правда, девчонки хвастаются, что парни покупают им вещи, одежду, всякие подарки. Но у Кинга много женщин. Вряд ли он раскошелится, да и черт с ним. И вообще, начала думать — другое. Это вот: совсем пришло лето. И она думала, что будет лето Леты. Мечтала. Но получается, с Кингом не то лето. Похожее, но не то.
— Лен, — сказала Рыбка скованным голосом, — вон он идет. Я наверное, уйду. Не буду я до утра. Рассвет еще этот. Ничего, что я уйду?
Ленка ужасно обрадовалась тому, что Оля спрашивает ее. И с нежностью посмотрела на пятнистое от теней лицо подруги. У Рыбки темно-русые волосы были забраны в высокую ракушку, утыканную шпильками с гранеными головками, и от прически рассыпались во все стороны мелкие искры.
— Иди, Рыбочка. Только смотри, чтоб он тебя не обидел, хорошо? А то я скажу Кингу, и он его убьет.
— Ну тебя, Малая, — с облегчением огрызнулась Оля, нервно поправляя прическу узкой рукой.
— Должен же Кинг на что-то сгодиться? — оправдалась Ленка, — а вообще я тоже скоро убегу, он заедет, в… — она посмотрела на часики, перебирая пальцами по металлической браслетке, — а вот уже через полчаса должен быть. И отлично, а то я забодалась уже плясать. Ты мне позвонишь утром? Ну ладно, днем. Ты позвони.
— Стой уже, — ласково сказала Оля, — проветряйся, в смысле, проветривайся. Лен, ты скажешь нашим, что я ушла? Ну, чтоб не искали.
— Иди уже, — махнула рукой Ленка.
Она постояла еще немного, соображая, курить ли вторую сигарету, и понимая, что развезет ее, если выкурит. Возвращаться в большой зал, жаркий от почти двух сотен взрослых подвыпивших людей не хотелось, а вокруг тоже было непонятно — бегали среди деревьев тени, кто-то приглушенно смеялся, кто-то плакал, а кого-то тошнило. И вообще хотелось уже оказаться далеко, успеть ухватить кусочек этой ночи там, где она настоящая — с морской сонной водой и пением сверчков, вот там и можно было бы рассвет, но чтоб не замерзнуть утром, нужно лежать, обнявшись, и проснуться вместе, в тепле друг друга.
Кто-то рядом плачет, с досадой подумала Ленка, подняла руку, вытирая мокрую щеку, вот блин, это я реву, напилась, что ли. И — одна. На руке блеснули часы, она повернула запястье к свету, рассматривая плывущие цифры. И осторожно, чтоб не смазать тушь, кончиками пальцев вытерев мокрые веки, побрела в зал, предупреждать Олиных учителей, что выпускница Рыбаченко уехала домой. И своих, что выпускница Каткова тоже не останется на катер, а то еще решат, что утопла.
Бока подкараулил ее на выходе, когда уже свернула с освещенной площадки, срезая путь к повороту дороги, где должен был встать димоновский жигуленок. Схватил за руку, крутанул, притягивая к себе. И обнимая, заговорил в макушку, притискивая ленкину грудь к распахнутой рубахе.
— А вот наша маленькая беленькая… куда собралась? Я тебя кругом искал. Что, Малая, можно поздравить, да? Теперь дашь Юрчику?
— С ума сошел? — возмутилась Ленка, пытаясь отпихнуть сильные руки, — Юра, ты чего? Ты же говорил, помнишь? Сказал, гуляй, Ленка. Я думала…
— Да чхал я, что ты думала. Слишком сильно загуляла. Я тебе говорил, моя будешь? Это помнишь?
Посмеиваясь и одновременно быстро оглядываясь, толкал ее в заросли, ближе к стене, и одной рукой сильно прижимая к себе, другой задирал юбку, путаясь в двух подолах. Пальцы скользнули по бедру, полезли выше, цепляя нежную кружевную резинку трусиков.
— Пусти! — Ленка рвалась, выставляя локти, и спина уже ударилась о стену, проехала по ней, цепляясь тонким шифоном. В голове никак не укладывалось то, что так стремительно происходило, казалось, да ерунда, сейчас дернуться посильнее и он отпустит, обязательно отпустит.
— Юра! Юрка, да прекрати.
— Какой я тебе Юрка, сука… заткнись. Попишу морду, только вякни.
Она знала, у Боки есть нож, а еще знала, сидел он как раз за то, что порезал девчонке лицо, и та конечно написала заявление, его посадили на три года, но лежала в больнице, зашивали щеку, об этом много говорили.
Бока был пьян, и припугнуть его тем, что скоро появится Кинг, Ленка не решалась. Любое неверное слов или жест и он поднимет нож, она уже знала, что вытащил, потому что убрал руку с ее трусов, продолжая прижимать к себе другой рукой.
— Юрочка, — шепотом сказала она, — подожди, мне надо сказать там, что ухожу. Я с тобой пойду. До утра. Хочешь?
Бока молчал, еле заметно покачиваясь, она не могла понять, слышит ли он. Пошевелилась осторожно. В пятнах света блеснуло лезвие, и Ленка даже не испугалась, настолько это было нереальным. Вот нож, которым он меня порежет, подумалось ей почти равнодушно.
— Подождешь? Я быстро. И вернусь.
— Откуда я знаю, — возразил Бока голосом таким ясным, что Ленка поняла — он смертельно пьян, как те зомби в страшных книжках.
Она обняла Боку, просовывая руки под его локтями, привстала на цыпочки и поцеловала в губы. Бока качнулся, встал твердо, обнял ее, прижимая к себе и запрокидывая ее голову. Скотина, подумала Ленка ватно, послушно поддаваясь поцелую, откидывая голову и одновременно прижимаясь под его руками все теснее — как он хотел — скотина, хорошо целуется, понятно, почему девки к нему…
— Иди, — сказал Бока, толкая ее на свет, — я тут. Жду. Смари, Малая…
— Конечно, — тоскливо согласилась Ленка, отступая, и сдерживаясь, чтоб не вытереть губы рукой у него на глазах, — ты что, конечно, приду.
И побежала внутрь, спотыкаясь на шпильках, а перед глазами черная фигура Боки оплывала, усаживаясь на корточки у стены — так, чтоб видеть вход в здание школы.
Что же делать? Она быстро шла по коридору, невнимательно кивая встречным, шарила глазами по шумным людям. И наконец, увидев над головами темную макушку, побежала туда. Санька стоял в толпе ребят, держа в руке мятую пачку с торчащими из нее сигаретами. Одна медленно выскользнула, падая под ноги.
— Сань, вот хорошо, я тебя нашла, слушай…
Она потащила его за рукав к стене, Санька, ухмыляясь, послушался, встал, опираясь плечом и скрещивая ноги.
— Рассказывай, Малая.
Ленка, торопясь, рассказала ему о Боке. О том, что ей нужно уйти, просто пройти мимо, чтоб он ее не поймал.
— Ты скажи ребятам, Сань, вы меня просто проведите, к остановке, а там я сама, меня уже там ждут, наверное. Он не полезет, когда много людей. Не станет.
Санька молчал, крепко проводя по выбритому подбородку смуглой рукой, совсем взрослым мужским жестом. И уже после, когда Ленка вспоминала, когда уже разрешила себе вспоминать то, что произошло за несколько минут в ярком квадрате света, обрамленном черными деревьями под июньским звездным небом, и то, что было перед этим, она поняла, — все было в Санькином взгляде и жестах. Но он ухмыльнулся и прикрыл это сказанными словами.
— Куда ж тебя денешь… Пошли, Каточек.
Ленка торопливо шла по коридору, с благодарностью глядя в широкую спину, обтянутую белой рубашкой, стильной, с гранеными запонками на твердых манжетах. А за ней шли еще парни, переговаривались, посмеиваясь, кто-то вынимал на ходу сигарету, кто-то спрашивал вполголоса о выпивке.
Вместе и высыпались из распахнутых стеклянных дверей, неровно шагая и сталкиваясь, двинулись к темноте, отчерченной за кустарником светлой под фонарями дорогой.
— Эй, Малая!
Бока, не торопясь, поднялся с корточек. Вышел на свет, сунув большие пальцы в кармашки джинсов, оглядел негустую толпу. У стены, там где ждал, маячили три темных силуэта, но не вышли за ним — стоял один.
И под тяжелым взглядом провожатые Ленки как растворились в теплом ночном воздухе, один ее шаг, другой, поворот головы и ищущий взгляд, а вокруг уже никого, и на краю света не торопясь исчезает согнутый локоть в белом крахмальном рукаве.
— Сань, — шепотом сказала Ленка вслед темноте, а громче побоялась, отступая и неловко подламывая ногу на высоком неустойчивом каблуке.
Бока смотрел на нее, ухмылялся, не вынимая рук из карманов. И ничего не делал. Только сказал с ласковой угрозой:
— За это получишь пизды сейчас. Притащила своих, да? А ну сама подошла. Быстро.
Ленка застыла, глядя то на его широкое лицо, желтое от уличного электричества, то изо всех сил всматриваясь в темноту за его плечом. Знать бы, что Кинг уже приехал, машина стоит и сидят там, ждут. Она бы закричала. Но зубчато чернели кусты, никто не проезжал и никакого шевеления не было. Ночь.
А хуже всего было знать, те, кто бросил ее, никуда не ушли, Ленка слышала их спиной, с которой будто сняли кожу. Их осторожное шевеление в темноте за границей света, их жадные настороженные взгляды. Кто-то кашлянул сдавленно. Чиркнула-щелкнула зажигалка. Ленку затошнило от напряжения, взгляд Боки приказывал, но шагнуть к нему она не могла, и не хотела, а еще где-то внутри кипела холодная беспомощная, но одновременно насмешливая злость, шептала, издеваясь «тоже мне удав, сверлит глазами»…
Стояла молча. И Бока подошел сам. Очень быстро, в три плавных шага оказался совсем рядом. А сбоку сердито закричал девичий голос, такой громкий, что Ленку швырнуло на колени, сердце встретилось с чем-то твердым и больно пропустило удар, и еще один, заставив Ленку задохнуться.
— Какого хуя вы тут? — орала Олеся, врезаясь в толпу парней и пихая их кулаками и локтями, — де Каток? Вы чо, вам ментов, что ли, позвать?
«Она меня не видит?» невнятно удивилась Ленка, опираясь руками о теплые гладкие плиты — ладони сразу стали пыльными. «Я же на самом свету»…
Заболели колени, и она, толкнувшись руками, медленно поднялась, проводя пыльными ладонями по шифоновым бокам платья. Качнулась, с сухим всхлипом вбирая в легкие воздух.
— Заткнись, зубатая, — лениво посоветовал Бока, поворачиваясь уходить и снова суя руки в карманы.
А со стороны кустарника зашумел двигатель, закивал по дороге свет фар, рыкнув, коротко просигналила машина.
— За мной, — хрипло сказала Ленка Олесе, которая крепко держала ее за пыльную руку, — приехали, за мной.
— Может, в сортир вернешься? — озабоченно сказала Олеся, — платье замоешь? Подол вывозила весь. Блядь, как я пересрала из-за этого Боки.
Ленка покачала головой, медленно шагая к дороге.
— Нет. Я не вернусь уже. Сюда.
Они все еще стояли, ее бывшие одноклассники, в темноте, откуда так хорошо было видно — Ленку на коленях, Боку над ней. И ни единого слова, оттуда, из темноты. Пока не закричала Олеся.
— Я потому и орала там, как дура. Типа ищу тебя.
— Я поняла.
Ленка встала у линии кустарника, забрала у Олеси свою руку, будто чужую. Улыбнулась криво. В уличном свете Олесины глаза казались серыми, а не голубыми, блестела на губах заново наведенная помада.
— Сильно ударил? Со мной там девки, вон стоят, ну чтоб орать, если вдруг.
— Нормально. Спасибо.
Кивнув, Ленка шагнула за ветвистую преграду по тротуару, будто перешла границу. Идя к машине, отряхнула ладони, на ходу поправила подол и непослушными пальцами ощупала ребра и грудь. Бока ударил не сильно, только чтоб сбить с ног. Ничего не болело. Только было невыносимо стыдно. И, берясь за приоткрытую дверцу, усаживаясь и расправляя измятый подол, только сейчас Ленка поняла, вот он был — ее выпускной, а не просто вечеринка с танцами, которую можно повторить, если она не получилась. Был. И был — вот такой.
— Привет, — сказала она с заднего сиденья темной голове Кинга, его блестящим глазам и блестящей улыбке.
Глава 36
— Нарядная Леник, — довольно говорил Кинг, — желтенькая, как бабочка. А это что за кобылка с тобой цокала? Едем, Димыч. Эдакая, с отменной попочкой. Познакомишь потом. Как в школу пойдешь, ой, да ты уже не пойдешь в школу! Выросла Ленка.
Он болтал, смеялся, машину покачивало, и Ленка покачивалась на заднем сиденье. Думала урывками, может, сказать ему? Был бы он ее мужчина, наверное, сказала бы. Заплакала от жалости к себе, наябедничала на злого Боку. Но вот сидит Кинг и не видит, что с ней не все в порядке.
— С тобой все в порядке там?
— А? — Ленка замотала головой, — нормально. Устала только.
— Скоро заляжем, я сам весь день дела ворочал. Выпить хочешь? Или пожрать чего? План такой, сейчас на море, скупнемся при луне. Потом домой в койку. Утром двинешь домой, свежая, умытая. Скажешь там — та всю ночь песни пели, вальсы танцевали. Идет?
Ленка подумала, там в темноте — море. Над ним мохнатые низкие звезды. И вода такая свежая, после всех этих… А потом квартира Кинга, где не будет Светки с расспросами, мамы с претензиями — почему удрала внезапно в поездку, почему не позвала на выпускной. Хотя Ленка знала — мама все равно не пойдет, сто раз отказалась заранее, но обидится, потому что надо было в сто первый пригласить. С реверансом и декламацией. А еще у Кинга можно будет застирать и погладить измятое платье. И получится, как будто ничего и не произошло. А еще, если ему рассказать, то значит это — было…
— Хорошо, — кивнула Ленка, — поехали купаться.
Ей стало все равно куда ехать, и так славно, что она сидит одна на заднем сиденье, Кинг вполголоса о чем-то говорит с Димоном, смеется иногда, и почти не поворачивается. А послушная машина увозит ее все дальше. От школы, от резкой границы желтого света на серых плитах и черной темноты, держащей в себе ночные кусты и деревья. А дальше, про людей, Ленка думать не хотела. Только знала, завтра или послезавтра она позвонит Олесе, просто так, для того, чтоб Олеся осталась в ее новой, уже взрослой жизни.
Приехали быстро и Ленка, очнувшись, выбралась, переступая босыми ногами по прохладному песку. Кинг обнял сзади, покачал, сцепив на ее животе руки. Сказал, шевеля губами волосы на макушке:
— Димон метнется за своей барышней, так что можешь раздеться, купнуться.
Пляжик был совсем маленький, окруженный с обеих сторон глухими заборами лодочных гаражей — с одной стороны на фоне жиденького фонаря клубилась колючая проволока над бетонными блоками. С другой глухо и сонно взлаивала за такими же блоками собака. А за спинами, где сейчас удалялся рокот машины, подступал к шоссе старый полузаброшенный парк. Днем, знала Ленка об этом пляжике, помогая Кингу стащить с себя платье, днем тут бурьяны выше плеч, под этими заборами, сейчас их не видно, и кажется — совсем-совсем другое место…
Он держал ее на руках в воде, плавно поворачивался, Ленка откидывалась, чтоб намокли волосы. Хорошо бы окунуться с головой, думала она, и рот открыть, и стать русалкой, но это все несерьезно, потому что дома Светища, и мама, а потом папа вернется из рейса, нельзя с ними так. Пусть даже Ленка совсем потерянная и никуда не годящая, но придется жить, и потом, она же не обязана им докладывать, что у нее в жизни наступила полная жопа, можно пока их поберечь, пусть думают, что все более-менее в порядке.
Они вместе нырнули, потом Ленка нырнула одна, и еще раз дальше и глубже, выныривая в черной воде, не видя даже своих рук.
— Пойдем на берег, Леле-Ленка, — Кинг отфыркался, встряхнулся, с плеч и локтей с журчанием потекла вода, — устал я сегодня, мерзну.
— Иди. Я сплаваю. — она отвернулась, вытягивая руки в черное, такое прохладно-ласковое…
— Не утопни, дельфин.
— Хорошо.
Она плыла в темноту, пока совсем не устала. А с берега под рычание мотора замигали фары, Кинг заорал озабоченно:
— Давай назад, ты там где?
Откликнувшись, Ленка медленно, мерно взмахивая руками, поплыла обратно. Ночное море играло с ней, толкая под локти, но плавно задерживая ступни и щиколотки в холодеющей глубине. Ленка знала, нельзя опускать ноги, нужно просто плыть и плыть, не стараясь нащупать пальцами дно. И доплыла нормально. Пошла по ровному, убитому прибоем песочку, выходя из воды в ночной воздух и ощущая его мокрой кожей. Машина неясно светлела на фоне черных деревьев, силуэт Кинга шевелился рядом, маячило на плечах белое — наверное, полотенце.
Хорошо, подумала Ленка, идя по сухому песку, а то надевать на мокрое снова трусы и сарафан противно…
И застыла, когда фары ярко вспыхнули, освещая пляжик и ее — голую на фоне черной воды. Секунда смигнулась, Ленка упала на колени, обхватывая себя руками, опуская голову так, что волосы перетекли, свешиваясь к песку, и закрыли ее целиком.
Что-то сердито сказал Кинг. Свет ушел, оставив кромешную темноту.
— Вставай, Леник, он больше не будет. Димон, ну ты ишак.
Под недовольное бормотание Димона Ленка встала, подошла, отбирая у Кинга полотенце, и крепко вытершись, взяла с песка трусики, лежащие на сложенном платье, надела. Встряхнув сарафан, влезла в него, изогнувшись, застегнула молнию.
— Чего злишься, — добродушно сказал Кинг, — ну посветил, так ты классная такая, Афродита керченская. Жаль, сама не видела, как идешь по песку.
— Тут же город. Мало ли кто едет, дорога рядом, — сердито ответила Ленка. Ее бесило то, что внутри незнакомая, как сказал Кинг «барышня Димона», а Димон устроил цирк, демонстрируя ей голую Ленку.
Дернула дверцу и с размаху села на заднее сиденье, рядом с молчащей девушкой — короткая стрижечка, белая юбка и белая майка.
— Здрасти…
В салоне зажегся маленький свет. Девушка кивнула, поворачиваясь и держа руки на коленях, где сумочка.
— Привет, Малая.
— Семки? Викуся?
Ленка выпрямилась, поднимая брови и не зная, что сказать. На водительском сиденье довольно гмыкнул Димон.
Ехали обратно молча, Ленка тягостно готовилась заговорить, потом отступала, не придумав, потому что, казалось, все будет слышно, и непонятно, о чем говорить с Викочкой, если рядом парни. А потом злилась на Викусю, которая молчала, поглядывая в окно, вроде Ленки тут и нету. Почему я должна придумывать выход из дурацкой ситуации, думала Ленка, расправляя мятый подол, ведь не я же ее затеяла… Но тут же обрывочно прикидывала, что нужно сказать, чтоб прервать натянутую тишину.
Впереди уже мелькали огни автовокзала. Ленка подумала с облегчением, ну и ладно, все равно почти приехали, буду молчать, а выйдем с Кингом, скажу, пока-пока Семачки… И пусть себе едут.
У подъезда Димон заехал колесами на тротуар. Машина умолкла, погасли фары, как закрылись глаза.
— Ну, — поторопил, выбираясь, Кинг, — на выход.
Мелькнула в салоне белая юбка, хлопнула дверь. Ленка вылезла с другой стороны, глядя, как уверенно уходит в желтый прямоугольник света напряженная викочкина фигура. Становясь там, на свету, Семачки повернулась, окликая:
— Сережа! Ты где там?
Ленка обошла машину, встала в тени дерева, опуская руку с сумочкой и переводя взгляд на высокую фигуру Кинга. Димон остался у багажника, что-то там доставая и хлопая металлом.
— Так вот что, — сказала Ленка вполголоса, — вот блин. А я… Так это она тебе звонила, да? Ну, когда я у тебя.
Мгновенно вспомнилось, мешаясь в голове, это вот — сколько раз шла мимо пятиэтажек и удивлялась, впереди медленно идет Семачки, откуда взялась… Вот откуда взялась.
— Леник, ты разборки, что ли, устраиваешь? — голос Кинга был полон благодушного удивления, — я не понял, в чем дело-то?
— Сережа, — снова окликнула Викуся, никак не уходя внутрь, и в ее голосе уже немножко звенело — всякое. Торжество послышалось Ленке и еще интонации, какие были у Стеллочки, когда та преувеличенно капризно командовала вчерашним учителем.
Кинг не ответил, подошел к Ленке, обхватывая плечи, прижал к себе, стал говорить в макушку своим тоже слегка капризным, мальчиковым голосом, каким иногда упрашивал ее остаться. Или — станцевать ему, пока валяется на постели, голый, разбросав сильные ноги.
— Оленик, не порти веселье, а? У тебя же сегодня праздник. Посидим, вместе. Димычу некуда сегодня, пусть остаются. Нам с тобой кровать, им — диван раскинем. Весело. Ну, ты чего, ну, ну? Такая девочка, такая у меня девочка, лучше всех, ни у кого такой… и вдруг, такое.
— Им? — уточнила Ленка, стараясь, чтоб голос не был издевательским, — им значит, диван? Пока мы с тобой на кровати? Сереж…
Она никак не могла сказать вслух, эй, ты не понимаешь, она же моя подруга, как можно, чтоб в одной комнате, слушать друг друга, и знать, чем занимаются в темноте. Или в полумраке. Как можно не понимать, это все равно как с сестрой… А еще Кинг спал с Викусей, совершенно теперь понятно.
— Да, — удивился Кинг, — диван. Им. А ты хочешь поменяться? Ну, так я не против.
— Что?
Викуся, наконец, скрылась в подъезде, сильно стуча каблуками по лестнице. А Ленка поняла, что именно Кинг имел в виду. И ступила обратно, ближе к теплой машине.
— Я не пойду.
Она хотела сказать, что уходит домой, и даже оглянулась, сжимая в руке сумочку, приготовилась ступить на еле видный тротуарчик в зарослях бирючины, — он вел к следующему дому через бельевую площадку, на которой призрачно металась забытая простыня.
— Решила с Димоном, — кивнул Кинг и повернулся, уходя следом за Викочкой, — как покатаетесь, звоните, мы без вас засыпать не будем.
— Поехали? — вопросительно возник рядом Димон, снова распахивая дверцу со стороны водителя.
— Да, — звенящим голосом согласилась Ленка, — поехали, Дим, открывай.
— Леник, — голос Кинга достал Ленку через опущенное стекло, — вы недолго, хорошо?
И уплыл назад, остался в черной бирючине, заслоненный медленными взмахами простыни.
— Куда едем? — Димон вывернул на дорогу, ведущую вдоль торцовых стен пятиэтажек. На Ленкин подол легла его рука, сжала через тонкую ткань колено.
— Тут сверни, — попросила Ленка, — за тем углом, где дерево.
Поменяла позу, чтоб мужская рука убралась с колена.
— Твой же, вроде, дом, — удивился Димон, сворачивая на подъездную дорогу и резко тормозя, — ты чего?
— Я… — она открыла дверцу, не дожидаясь, когда машина совсем остановится, выскочила, дергая зацепившийся подол, рванула на себя ремешок сумочки, — извини. Я домой.
— Блядь, — сказал Димон, выскакивая с другой стороны машины, — какого хера? А чего тогда сказала Серому? Про нас? Обманула, выходит?
Ленка торопливо обошла машину, становясь почти вплотную, подняла лицо к недовольной еле видной физиономии.
— Димочка, ну прости, у меня, мне в сортир надо, просто кошмар и ужас, я еле сидела уже там, в машине. Я…
Она перетопталась с ноги на ногу, прижала руку ко рту, прервав сама себя и застонав как можно натуральнее.
— Нажралась да? — недовольно и сочувственно уточнил Димон.
— Если бы. Траванулась там чем-то. Рыбой, наверное. О-о-о… Дима, у меня такое было, снова до утра на горшке просижу.
Она хотела резко повернуться и побежать, но секунду помедлила, давая ему возможность кивнуть, смиряясь с неудачей.
— Ладно, — Димон кивнул, берясь за открытую дверцу, беги уже, чудо в перьях. Я за сигаретами, и к ним тогда. Посветить?
— А? — уже стуча каблуками по тротуару вдоль пустых скамеек и черных кустов в палисадниках, Ленка кивнула на бегу, — да, да, спасибо. Посвети.
Включились фары. Ленкина тень быстро шла впереди нее, такая странная, окруженная ярким и низким светом, а вокруг — сплошная темнота, полная ветвей, листьев, запаха цветов и дальнего моря.
У подъезда Ленка повернулась, махнула рукой, и фары погасли. Переводя дыхание, она уже медленнее обогнула куст крыжовника, который вольно раскинулся в стороны и вверх.
И встала, настороженно глядя на темную фигуру на темной скамейке, еле видную после яркого света в глазах. Сделала шаг, другой, стараясь не отходить от куста и готовясь быстрее проскочить мимо, ныряя в открытую дверь подъезда.
— Лен? — сказал темный силуэт.
И тут у Ленки упало сердце, скакнуло в путаницу колючих ветвей и замерло там.
— Малая… Лен…
— Валя, — ответила она шепотом, качнувшись вперед, повела рукой по темному воздуху.
Он видел ее, когда шла, конечно, видел, а еще наверняка слышал, как они с Димоном стояли, и Ленка быстро и горячо говорила, подходя вплотную, почти прижимаясь. Сидел тут и видел. А еще у нее был выпускной и там ее ударил Бока, а все смотрели, и после она шла по песку, голая в свете фар. И чуть было не осталась в квартире у Кинга, до самого утра. А он бы тут сидел… Ждал ее. Но оказалось сейчас, что неважно вообще все, кроме последнего, насчет — ждал бы. Ужасаясь тому, что почти произошло, она сказала еще, совсем шепотом, уже шагнув к скамейке, к темной высокой фигуре, стоящей там.
— Валинька.
Почему-то не Валик и не Панч. Совсем другое. О нем.
У него на рубашке были железные пуговицы, одна давила Ленка в щеку. А за ними слышалось его сердце и еще тихий хрип, где-то в легких, при каждом вдохе.
— Лен, — сказал он сверху и одновременно изнутри, там, где щека и пуговица. Обнял сильнее, сцепляя на ее талии руки.
Она хотела сказать, про сердце, пошутить. Что его на месте, а ее — осталось в крыжовнике. Но это было длинно, и неважно. Потому сказала совсем коротко, оторвав лицо от пуговицы и кармашка, поднимая его, наконец, чтоб увидеть в сумраке его белеющие скулы и черные волосы. И глаза.
— Пойдем.
Валик кивнул. Ленка, переступив каблуками, оторвалась, но тут же обхватила его вокруг пояса рукой, прижалась, уводя от скамейки.
— Мы уходим?
— Да. Подожди, хорошо?
Он снова кивнул. И засмеялся.
Ленка вздохнула, мелко ступая, пошла, никак не убирая руку с ремня на джинсах. Подумала успокоенно о том, что в кошельке есть деньги, и даже отец выдал ей целых десять рублей, пятерка из них тоже лежит в кошельке. Если не ходят автобусы, можно уехать на такси. Даже и лучше на такси. Там темно и они будут сидеть рядом.
В узком зеркальце Ленка видела глаза водителя и как он смотрит, то на дорогу, то на них. Она тоже время от времени поворачивалась, чтоб увидеть Панча, и он поворачивался к ней. В плывущем мягком свете глаза казались совсем темными, а лицо меняло выражения. Его руки держали ее ладонь. Запястьем Ленка ощущала шершавую ткань на его колене. Вдруг машину тряхнуло, и у нее все заныло внутри, все стало неудобным — поворот кисти, его пальцы на ее пальцах, поза с напряженной спиной и занывшая шея. А еще заболела улыбка, будто она приклеена и клей высыхает, стягивая кожу.
По бледному лицу мальчика прошла косая тень, мелькнула поверх нее другая. Он чуть наклонился, приближая лицо.
— Что с тобой? — улыбнулся, бережно приподнимая ее ладонь, чтоб не встряхивало вместе с рывками машины.
И все прошло. Оказалось, смутно поняла Ленка, ей страшно. Что он, сидя на лавке, слушая, понял, она — другая. И не улыбнется ей. Но он улыбнулся, и с безмерным облегчением пришел новый приступа страха, уже о скором будущем. Он просто мало знает, шептал ей страх, ну что он там видел… А скажи ему про Кинга, и про Пашку Санича. И поглядишь, выдержит ли его улыбка. Или не говори, и все время бойся, что скажет кто-то еще.
— Малая, — сказал в ухо теплый голос, — Ма-ла-я, Ле-на. Ты не забыла, что я тебя люблю?
«Он не знает», страх вплетал свой шепот в тихий голос, не давая Ленке ответить. Она не могла соврать, улыбкой, шутками, какими-то пустяками, ей казалось, начни сейчас говорить — о выпускном, или о погоде, черт, все это толкнет ее на другую дорогу, которая не ее. И не даст после вернуться.
— Валинька, — сказала она, приваливаясь к его плечу и закрывая глаза, — Валька, давай там, ладно? Не здесь.
— Не напимшись и молодцы, — внезапно вклинился шофер, — а то я сегодня уже вез. Девки две. Были б мои, я б их. Хорошо успел к обочине, да черенькая подружку выпнула с машины. Гуляют. Весь город гуляет, вон бродят…
Мимо медленно летели подкрашенные фонарями деревья — серые в желтом, утекали в пространства между стволами и углами домов улицы и тротуары. И да, глубокая ночь, а будто странный день, серый с желтым и черным — то тут, то там группки нарядных ребят, яркие платья и изжелта-белые рубашки, распахнутые пиджаки. Крики и смех.
Ленка отвернулась, сберегая в глазах темноту того длинного участка дороги, что шел между городскими районами, и прятал в себе ставок в рамочке тростников, лоскуты степи, огородики с дачками. Там было мягко, бережно, и не было яркого света. Который покажет мятое платье с зацепками на подоле, мокрые волосы, высохшие проволочными прядками. Лицо, которое должно что-то выражать, что-то без вранья. И это так страшно. Но хорошо, что свет проплывает мимо, и скоро кончится.
— Приехали? — вопросительно сказал шофер, тормозя и плавно разворачивая машину на освещенном пятачке перед заколоченным клубом.
Ленка вытащила мятые бумажки, клонясь к затененному стеклу, отдала, сколько сказал. И вышла, с облегчением ступая в густую черную тень огромного платана. Позади Валик хлопнул дверцей. Машина зарычала погромче и после тише — уехала.
— Лен, — он очутился рядом, в темноте, рука прошлась по плечу и локтю, нащупывая Ленкину ладонь.
— Лестница, — сказала Ленка, — там, вдоль стены нам, и там лестница.
Потянула, и не сумела шагнуть, потому что он не пустил, обнял, прижимая, и уже лицом нашел ее лицо, больно стукнул по носу подбородком, а руки были заняты, и потому она подняла лицо, подставляя губы.
— Думал, чокнусь, — шептал Валик, и снова молчал, потому что целовались, — все едем и едем… а ты молчишь, я думал…
Ленка закрывала глаза, прижималась к нему, и между ними совсем не было расстояния, никакого. Не было междугородних автобусов, трассы, не было школьных коридоров и стен, медсестры и котов с Петром и Валечкой, не было железной дороги до города Артема, и не было проходной в Севастополе, не было мамы, и отца, и еще мамы по имени Лариса с ее счастьем от Валика. Не было даже темного молчаливого воздуха в салоне автомобиля, да что там, не было между ними даже спокойной темноты старого платана, — она стояла вокруг, обнимая и укрывая. У Ленки заболела грудь, и она, отрываясь от губ мальчика, чтоб вдохнуть и тут же снова найти их рядом, в темноте, подумала мельком, болит, потому что нужно еще ближе, а тут пока что нельзя.
— Пойдем, — шепот был еле слышным, таял в листве, опускался вниз, где слабели ленкины ноги, сгибаясь в коленях, — пойдем, Валинька, пой-дем.
Они пошли медленно, не расцепляясь, путая шаги. Молчали, останавливались, чтоб поцеловаться еще и еще. И лишь на лестнице, перекосившей бетонные ступени на крутом глинистом склоне, Валик оставил Ленке только руку, пройдя вперед и нащупывая ногой, куда ступить.
Она хотела сказать, давай я, я лучше знаю. Но он уверенно и бережно спускался, ждал, когда она спрыгнет и перешагнет, и она не стала ничего говорить, просто послушно шла следом.
Потом, уже внизу, вокруг них шуршали высокие, под самое небо тростники. Дорога принимала шаги, возвращая их негромким эхом. И впереди уже раздавался лай, яснел звон цепи рядом с решетчатыми воротами.
Подойдя вплотную, Ленка присела на корточки, не отпуская руки Панча. Позвала вполголоса:
— Шарик, ну ты чего? Не узнал? Иди сюда, Юпитер.
Погладила через прутья косматую башку, встала, вглядываясь в приоткрытую дверь сторожки.
— Если там Вадик, мы попросимся, там лодочный сарай, — сказала шепотом, — а если другой сторож, я знаю, где дырка в заборе. Но Вадик было бы лучше…
На черном столбе клонился вниз решетчатый колокольчик лампы, фонарь будто разглядывал их, а еще — длинную немного нескладную фигуру на ступеньках сторожки. В ночном свете казалось — совсем чужую. И только, когда человек подошел к воротам, Ленка удивилась:
— Петичка? Ты?
— О, — сказал Петичка, — а ты чего тут вдруг? Выпускной догуливаешь? Купаться приехали?
Кивнул Валику, уже отпирая замок на воротах.
— Выпускной, — согласилась Ленка, — ну да. Правильно. А ты?..
— Та мужики попросили. Я за них дежурю иногда, а че мне нравится. Один, как робинзон. Вы, что ли, двое? Хорошо. Больше я б не пустил. Чай будете?
Он снова запер и шел впереди, уже к большому корпусу, оглядывался, спрашивая, и снова отворачивался, так что Ленка отвечала в широкую, чуть сутулую спину, обтянутую старой белой майкой с дырой на боку.
— Двое. Чай? Ой. Валь, ты голодный же. Да?
— Колбаса есть, — похвастался Петичка со ступеней, — ну масло там, хлеб черный. Винчик, кстати, есть, могу налить по стакашку. Портвешок. И я с вами квакну.
Вошел, говоря изнутри, оттуда вспыхнул свет, и Ленка встала, не поднимаясь по ступеням. Отпустила руку Панча.
— Постой, хорошо? Я быстро.
Петичка поднял коричневое лицо, улыбнулся, ножом отпихивая на край газеты нарезанный хлеб.
— Да ты уже купалась, я погляжу. А чего пацана оставила?
— Извини. Давай потом. Да? Ну, утром. А времени сколько?
Она сама поглядела на свои часики, а до того не хотела смотреть совсем.
— Два часа. Петь. Дай мне бутылку, а? И пожрать. И одеяло. Ты когда уходишь?
— Ясно, — Петичка опустил к столу светлые на загаре, чуть раскосые глаза, подумал и стал нарезать колбасу, отпихивая кружки к хлебным ломтям, — я спросить же хотел…
— Вот я про это. Я не хочу так, чтоб ла-ла-ла. А время.
— Та понял я, понял. Вот, в газете жратва. Иди, я щас одеяло, и ключ возьму. В обед уезжаю. Вас побудить?
— А? Ну…
Ленка уже была в дверях, ей снова хотелось уйти туда, где нет света, но из комнаты смотрел Петичка, и глаза были такие — светлые, будто от них все видно, а не из-за лампочки. И она сердито одернула себя, вот же трусиха, еще в истерике забейся тут. Кивнула:
— Если заснем, разбуди, обязательно. Петь, спасибо.
Он гремел висячим замком, повесив старое одеяло Валику на протянутые руки. Открыв дощатые двери, отдал Ленке початую бутылку и граненый стакан.
— Себе налил, выпью за ваше здоровье. Гуляйте, в-общем. Орать не надо, ну и купаться если, знаешь где вылезти.
— Да.
Дверь хлопнула, в сарае наступила кромешная тишина, наполненная двойным дыханием. Ленка кашлянула и сказала сипло:
— Давай руку. Тут набросано всего.
Медленно ведя Панча к дальней стене, где стояла на каких-то подпорках перевернутая пузатая лодка, спохватилась, мучительно краснея в темноте:
— Ты не думай, я сюда никого, вообще. Это мы когда мастерскую убирали. Ну в общем… я тут складывала…
— Я не думаю, — удивился Валик, — даже и думать не думал. Не убейся. Чего смеешься?
— Мне папа орал, когда я на качелях, мелкая. Убьешься! Ой.
— Что? Нога?
— Нет. Ну про отца. Прости.
— Фу. Малая, с тобой поседеешь. Мы когда придем-то? Ведешь, как в Африку пешком.
— Зато есть куда, — обиделась Ленка, нашупывая рукой пузатые ребристые доски, — какой нежный, скажите, пожалуйста.
— Я не нежный. Я с тобой лежать хочу. На одеяле.
Ленка замолчала, задохнувшись от сердца, что прыгнуло и закупорило горло. А голова сказала ей внятно, вот, Малая, у вас с мальчиком сейчас будет секс, такой же, как у тебя с Кингом, а мальчишка не знает, что ты уже…
— Стели, — сказала она, рукой подводя его руку к закраине борта, — у меня зажигалка, надо?
— Не. Я немножко вижу.
В просторном ангаре, забитом неудобно лежащим хламом, свет бродил на самом краю зрения, будто в прятки играл, и Ленка, стоя у лодки, слышала и приклеивала к звуками неясные отблески. Вот зашуршало мягко, а потом посуше, жестче, и еле видно обрисовалась согнутая спина, локти, уходящие в темноту, плечо — Ленка знала, прошлось под гнутым деревом борта. А потом звякнуло, и — шелест. Зажегся точкой блик на стеклянном боку винной бутылки. Совсем издалека тихо плеснуло. Вокруг смутно белеющей лодки рассеянный свет нарисовал тонкие линии щелей в стенке. За ней, знала Ленка, бетонный забор, выломанный в одной секции, и она забрана сеткой-рабицей с дырой сбоку. Туда можно пролезть, если купаться…
— Все, — сказал из нижней темноты Панч, — иди сюда.
— Да, — ответила Ленка без голоса, скидывая с босых ступней босоножки.
Повела рукой, из темноты навстречу явилась другая, теплая и настойчивая, взялась, потянула вниз, сгибая движением Ленкины колени.
Она плавно садилась, почти валясь, но удерживаясь, чтоб не упасть на него, а вдруг стукнется там, где рядом с одеялом, она знала, сложены длинно старые весла, укутанные толстым брезентом, и другое, всякое.
И пропадая в темноте, успела подумать о том, что в первый раз его руки не просто будут держать, или обнимать ее, как в танце. А сделают что-то…
Глава 37
В большом ангаре ничего не было слышно, кроме них — совсем тихих, и все, что звучало, оставалось под длинным пузатым шатром старой лодки, находило ее границы и возвращалось обратно, преодолевая невидимый теплый воздух. Дыхание, шепот, кашель, и то, как они шевелились, меняя позы, чтоб сидя на старом одеяле, раздеть друг друга. Они целовались, с трудом отрывая губы от губ, чтоб провести между лицами согнутые руки с ленкиным на них платьем, снова приклеивались друг к другу, ей было неудобно сидеть, с поджатой затекшей ногой, ее пришлось выпрямить, и теплая рука поддержала ее под спину. А другая скользнула сверху, укладывая. Его лица почти не было видно, вот и хорошо, подумала Ленка, вытягиваясь, значит, и он не видит моего. Целовались лежа, а за стеной лениво гремела цепь, иногда звякала миска и Шарик-Юпитер протяжно, совсем по-человечески вздыхал. А потом у кого-то из них забурчало в животе, и оба остановились, заворочались смущенно, Валик сказал в ухо:
— Это Шарик. Конечно же.
Смех изменил настроение, и они, встряхиваясь, как после купания, сели снова, в темноте касаясь друг друга, но избегая мест, которые впервые были раздеты.
— Тебе надо поесть, — сказала Ленка, повернулась, нашаривая сверток.
— Потом.
— Суп с котом, — возразила она, вытаскивая влажную колбасу и крошащийся хлеб, — держи.
— А ты?
— А мне надо выпить. Где тут у нас…
— Мне тоже, — он уже кусал, было слышно. Потом жевал, мерно, Ленка подумала о нем «теленок». И почти захлебнулась от нежности.
— Тебе шиш. Ты маленький, — она губами нашла горлышко и запрокинула бутылку, глотая.
Нужно хорошо выпить, думала, слушая, как вино протекает по горлу, стягивая его и после горяча, проваливаясь в желудок, но одновременно развеиваясь внутри, как в обратную сторону идущий мелкий дождь.
— Лен, — Валик на ощупь вернул ей обкусанный бутерброд и отобрал бутылку, — извини, конечно, но мы тут оба взрослые. Сейчас. Ты понимаешь, да?
Ленка дожевала хлеб, который стал вдруг совсем сухим, как летняя глина, снова отобрала у него бутылку — запить. И через кружение головы испугалась, замерев. Конечно, он взрослый, если насчет секса, а с чего она взяла-то, что он одуванчик совсем? Да Ниночка наверняка его давно всему научила. Но ты, Малая, не имеешь права сказать, ничего. Потому что ты сама вот… Но как ужасно это знать!
— Напилась? — заботливо спросил Панч, снова отбирая бутылку.
— Чего это? — обиделась Ленка, но остыла, поняв, — а, ты насчет, ага ну да. Слушай, я спросить хотела.
У нее перестала кружиться голова, вдруг стало весело и все можно, и вообще — одной рукой лодку перевернуть, ногой раскидать ангар, чтоб все время — море. Их море.
— Давай.
— Что?
Бутылка звякнув, укатилась от голых ног.
— Спроси…
Ленка сгибалась, чтоб удобнее было обхватить его подмышками, прижаться, чтоб наконец между ними вообще ничего, совсем и совершенно ничего. Какие вопросы…
— Не хочу. Валь. Валька.
— Лен.
— Еще скажи.
— Малая. Ле-на, Ма-ла-я.
— Ты пахнешь.
— Что?
— Молчи.
Ей казалось, она все делает сама, но пока она делала, его руки успевали быстрее. Или одновременно. И она совершенно улетала от того, какая у него кожа, как можно пальцем потрогать ребра на согнутом боку, а ниже прохладно, там где задница, наверное, белая рядом с линией загара. И такая кожа, гладкая такая.
— У тебя такая кожа, — ее голос почему-то был голосом Панча, и она удивилась, потребовала от себя объяснений, — что? Я что говорю?
— Это я говорю, — поправил ее Панч.
И это, один голос на двоих, произносящий одни и те же мысли, а еще запах и касания, и все вокруг, это все было таким, таким совсем другим, настолько другим, что Ленка наконец засмеялась, по-настоящему. Не шуткам и не от смущения, а ликующим смехом, вместо которого можно сказать «да»! утверждая правильность того, что происходит. Все, что было до этого, оказалось враньем доктора Гены. И было нужно для того, чтоб Ленка поняла об этом вранье и теперь знала. А может быть, он не врал, а просто сам никогда-никогда так? Бедный, подумала о нем Ленка и выкинула из головы, снова смеясь этим новым смехом, в котором был Валька, его лицо над ней и его руки, вполне умелые, и ее это никак не смущало, да ее вообще ничего теперь не могло смутить, потому он — это он, и может быть внутри самого себя каким угодно. Хорошо бы он понял обо мне то же самое, еще подумала Ленка и крикнула, множа эхо под старой лодкой, у стен и под крышей из алюминиевых полос. Панч услышал и замер, но она, выгибаясь, чтоб быть совсем в нем, дернула на себя, заставляя.
— Да, — сказала уверенно, — ну, давай, черт, мой Панч, Валик ты, от машинки Валик, ну-ну-ну, давай же, о, и еще, совсем чтобы, да и да и да…
Она никогда так раньше. И не знала что может так, но тело двигалось, говоря в унисон с голосом, а голос слышал его движения и затихал — не мешать, а потом снова становился громче. И новый крик улетел в темноту, когда он свалился на нее, дыша тяжело и неровно, упал, мокрый, притискивая к байковому одеялу вдруг тяжелым мягким телом.
Не было тишины, потому что гремело сердце, а рядом, когда Ленка пошевелилась, и Валик сполз, устраиваясь поближе, и она прижала ухо к его ребрам, билось его — стучало неровно.
— Какое счастье, — сказала Ленка, плохо слыша себя из-за грохота двух сердец, — Валинька мой, прекрасный, офигительный, мой ангел, какое счастье.
— Ты плачешь? Лен, ты чего? Маленькая Малая… ну…
— Утро, — невнятно пожаловалась Ленка, цепляясь за него и горько жалея себя. И его тоже, но себя больше. Он еще неизвестно любит ли, а она — она всех расшвыряет, лишь бы он. С ней.
— Темно еще.
— А скоро… — у нее кривились губы, и обнимая его, она заплакала, испуганно и безнадежно. Но прерывисто дыша между всхлипами, ждала, что скажет. Боялась спросить сама.
— Лен. Два дня есть у меня. Дальше могу еще наврать матери, хотя конечно, долдон я, она переживает. И потом, я рядом же буду. Эй? Лен?
Она уже спала, напрочь сморенная длиннейшим днем и стаканом густого портвейна, крепко обняв его подмышками и обхватив голыми ногами, — сразу же после слов о том, что не уедет сегодня.
Панч осторожно расцепил свои руки и провел ладонью по ее спине, закусил губу, опуская руку ниже. И замер, прижимая лицом пряди светлых волос, а руками охватив ее попу.
Засыпал сам, потом открывал глаза в темноту, напоминая себе о сказанных ею словах, о нем самом, о том, какой он, оказывается — для Ленки. И оттуда уходя мыслями в близкое горячее прошлое, совсем близкое, в котором она крикнула и стала говорить-говорить, и вдруг умолкала. Наверное, боялась сказать не вовремя, а на самом деле он просто помирал от каждого ее бессвязно сказанного слова, и пусть бы болтала и болтала, сама не понимая, что говорит…
Подумал, улыбаясь в щекотные пряди, лежи теперь, Панч, держи. И не спи, разве ж заснешь. И заснул, стискивая голые колени, чтоб Ленке удобнее было обнимать их ногами.
Над плавно изогнутым длинным пляжем, отделенным от многоэтажек и двухэтажных домов высоким обрывом с бетонными лестницами, лежала ночь, казалось, такая же длинная, толстый черный змей с бархатным животом. И бархат ночи приглушал звуки, иногда пропуская их внезапными россыпями. Смех и крики — кто-то спускался купаться, а дальше — драка, с возгласами и милицейский свисток. И снова ночь наваливалась, мягко придавливая собой вечернее время, и оно сплющивалось, умолкая.
Ленка проснулась резко, от мысли, что оба они умерли. Раскрыла глаза, тут же снова зажмуривая их, чтоб не увидеть солнечных полос в щелях стен и крыши. Но не было ничего, вокруг стояла ночная темнота, и она, обнимая спящего мальчика, прислушалась к ней, удивляясь. Казалось, спала целую вечность, и в отчаянии была готова услышать лай Шарика, мужские шаги, голоса. Понять — они лежат голые, безжалостным днем, который наступил и отберет их друг у друга, ведь надо думать, куда идти и где будет Валик, и знать — он скоро уедет…
Он спал, все так же обнимая ее руками, а ее ноги обнимали его колени. Дышал тихо. Ленка прислушалась, стараясь не вертеть головой, и не услышала знакомого мерного хрипа. А ночь не думала кончаться и Ленка, чуть успокоившись, притихла, расслабляясь и осторожно меняя позу. Ей по-прежнему было страшно, но кое-что про эти страхи она знала. Страхи ночи, те самые, которыми изводила себя мама, рассказывая телефонной Ирочке с горестной гордостью:
— Проснусь в два часа, и все, до утра, лежу, мучаюсь, думаю…
Ленка однажды увидела картинку в статье, в журнале «Наука и Жизнь», о том, что ночные мысли это — гиря, прикованная к ноге. Ходишь по кругу, таская ее за собой, и ничего не меняется, хоть удумайся насмерть. Но мама ленкиным и научным объяснениям не поверила. А Ленка сто раз убеждалась в их правильности, просыпаясь ночами. Они менялись, эти ночные унылые мысли, но да, никогда ни к чему не приводили.
Сейчас их интересовал Валик. И то, что случилось. Брат, мерно билось в голове, эхом ударам сердца, он твой брат… и вы с ним. Спали, занимались сексом. И кажется (тут Ленка испуганно прислушалась к себе) ты уже думаешь, Малая, как он проснется и вы снова сделаете это. А еще секс был без презерватива. У тебя удачные дни, но вспомни, что Светища рассказывала про удачные дни. На самом деле, да и пусть бы ребенок (тут Ленка закрыла глаза, увидеть совсем маленького Панча, с темными смешными кудряшками и толстыми кулачками, в одном почему-то ложка, и сама себя испугавшись, тихо истаяла от нежности), но это будет ребенок от собственного брата! А как говорить об этом всем? Маме. Двум матерям. Отцу. И все посторонние будут перемывать кости им с Валькой, да то и ладно бы, но родители, им ходить мимо соседей, на которых Ленка плевала всегда, но мама-то не плюет. Имеет ли право Ленка так подводить мать и отца? А мама Панча? Она четырнадцать лет бьется, как рыба об лед, и тут такое…
Ленка поймала себя на том, что в третий раз думает о матери Валика. Вот так и есть, это те самые бесполезные ночные мысли, ходят по кругу. Их надо прогнать сном, но если она заснет, ночь кончится…
Она не засыпала, но почему-то каждый раз, когда открывала глаза, к тому что вокруг, прибавлялось еще что-то, и было тоскливо от неумолимости времени, но увлекательно наблюдать за этими переменами. Сонной Ленке казалось, что они лежат на дне великанского стакана, вокруг возносятся прозрачные стены, а сверху кто-то огромный по капле вливает в стакан, полный ночной темноты, как черного чая, — другое. Дальний шум моторной лодки. Шелест предутреннего ветерка. Раскачанный проходящим по каналу кораблем прибой, корабль ушел, а волны добрались до песка. И вот, вслед каплям звуков — изменение света, вещи, выступающие из темноты, и те самые тонкие полоски меж досок — становятся светлее и ярче.
А он спит. Ленка пошевелилась, в очередной раз открывая глаза. В уши кинулся птичий беспорядочный гомон. Утро. Все же пришло. А это значит, он скоро проснется. Ее брат, младший, которому даже пятнадцати нет, а еще — ее любимый Панч, длинный, как чортишо, с длинными руками и тонкой талией, с шеей, по которой темные спутанные пряди волос. Стали длиннее. Не стрижет.
Она вздохнула, прогоняя ночные мысли, которые стремительно выцветали, становясь слабыми и еле видными. Стала думать другое, бестолковое и важное. Гори оно огнем, вообще все, пока есть у них эти два дня. Когда их придет будить Петичка, что-нибудь придумается, а до того у них куча времени, наверное целых еще шесть часов!
Ленке показалось, что Панч перестал дышать и она сама замерла, не дыша. Мальчик пошевелился, укладывая голову удобнее на ее плечо. Где-то там, ниже, где бедра, был теплым, таким, совсем тепленьким, и хотелось прижаться, чтоб совсем-совсем близко.
— Если я сейчас не встану, будем лежать на мокром одеяле, — сказал Панч в Ленкино ухо, и она от неожиданности рассмеялась, почти всхлипывая и обнимая его.
— Там в углу доска отломана. Пролезешь? И у забора кусты. Я отвернусь, если ты…
— Тебе можно, Малая, — разрешил Панч, выпутываясь из ее рук, ног и волос.
Сел рядом, в полумраке деревянного шатра, продрал руками черные кольца волос и на четвереньках выбрался с одеяла в ангар. Переминаясь, сунул ноги в растоптанные кроссовки. Сказал сверху, отрезанный выше коленей краем борта:
— А будешь так смеяться, вернусь и все тебе откусю. Или откушу да?
— Пооткусюю, — сказала Ленка вдогонку и сама быстро встала на четвереньки — смотреть, как в углу голый Панч пытается протиснуться в узкую яркую щель, к голосящим в кустах воробьям.
Пока его не было, она быстро выкопала в сумочке пудру, промакнула нос и щеки, осмотрела зубы, проводя по ним языком, глаза, с которых вечернее море смыло тушь, и быстро спрятала пудреницу обратно. Натянула трусики. И вылезла навстречу вернувшимся ногам с развязанными шнурками.
— На, — сказал Панч, стряхивая кроссовки, — не ломай ноги на каблуках.
Ленка, смеясь, ушлепала в угол, стараясь не наступать на шнурки.
Вернулась, снова влезла под лодку, немного стесняясь смотреть, как он сидит, скрестив по-турецки длинные ноги и кинув на них руки с опущенными кистями. Села рядом, подбирая под попу ноги и наклоняя голову, чтоб растопыренными пальцами распутать волосы. Такой красивый, подумала испуганно, блин, он такой красивый. Был там без меня. Кажется, еще красивее стал, а растет, и вдруг станет еще красивее… Как вот с ним, с таким… И такой спокойный. Все умеет. Руками. Ну, много умеет. Давно уже наверное…
— Ты такая красивая, — голос Панча был хриплым, и в нем звучало почти отчаяние, — мне что делать-то? Как мне с тобой?
— Что? — Ленка опустила руки, — ты что говоришь? Ты мои мысли читаешь. Вот сейчас думала.
— Про себя?
— Что? — но сразу поняла и засмеялась, встряхивая головой, — а-а-а, как тринадцатый, да? Чертенок из мультика: кого надо любить? Ее! Валинька…
Смех снова вытащил их из неловкости, Ленка взяла его руки, потянула к себе, а он нагибался, трогая губами ее лицо. И оба замолчали, падая друг в друга и выбросив из голов вообще все. Не думая. Не слушая, как за стеной гремит цепью Шарик-Юпитер, орут над крышей скворцы, а сбоку попискивают ласточки, неутомимо улетая и возращаясь. Как топает, напевая и чем-то грохоча Петичка. И далеко кто-то кричит, усталым, еще ночным голосом, возвращаясь с праздничного купания в безжалостное утро.
— Черт, — сказала Ленка, лежа на спине и глядя в щелястую крышу, — о-о-о, черт ты с ушами, Валька, я…
Она хотела сказать, что никогда так раньше, и испугалась.
— Я тебя люблю, Маленькая Малая.
— Я люблю тебя, Валик Панч.
Было так насладительно говорить эти слова, что Ленке снова стало горячо, она нахмурилась, стесняясь, и поспешно сказала снова:
— Люблю. И люблю и еще раз люблю.
— Да. Я сказать хотел, что ты самая лучшая. Но это не так. Ты просто вот одна. Понимаешь, да?
Его горячее бедро прижималось к ее бедру, и оттуда, где кожа плотно к коже, сбегала вниз щекотная капелька пота. Ленка подняла руку, поведя в нагретом воздухе, бережно уложила ладонь, накрывая низ живота Панча, как прижала птицу.
— Ты весь самый лучший. А ты откуда так умеешь? Я думала. Прости. Думала, да. Что тебе же четырнадцать. Ну, конечно, девочки там…
— Стой, маленькая. Не было у меня секса. Ни с кем.
— Да ладно, — не поверила Ленка, поворачиваясь набок и глядя на спокойный профиль с приоткрытыми губами, — ты вон как. Как будто сто раз уже.
— Ни разу. Я так, потому что это ты. Наверное. Я не знаю. Но я тебя не стремаюсь совсем. Вообще. Ты меня смотри не разлюби, когда я буду ходить поссать, ну и всякое такое. Скажешь, зачем мне такой. Опять ржешь?
— Я думала ты всегда такой. Завидовала. Я вечно всего стесняюсь. Вот думаю, скажут, дурочка какая-то, ляпнула, или ржет непонятно с чего.
— Я думал, ты такая. Смелая всегда. Сама приехала. Одна. И вообще.
— Валик. Это только с тобой.
Ленка села, убирая руку, чтоб удобнее жестикулировать. Панч потянулся прикрыться своей, но она немного сердито убрала и ее:
— Пусть будет. Это твое, я хочу видеть. Слушай. Это еще когда мы спали, в раздевалке. Ты спал. А я сидела и подумала, ой блин. Все, я тогда уже попалась. И как я могла бояться? А вдруг я буду бояться, а ты куда-то денешься. К каратистке своей! Подожди! И когда сидели, на дискотеке, ты мою руку держал, понимаешь, я когда с тобой, то все вокруг — правильно! И не проходит это! Вчера, выпускной этот, я расскажу после. Ну, может быть. Все неправильно! Нет тебя и все кривое! А потом ты. И мы вот с тобой, спим, по-настоящему. Секс. И мне снова — правильно. Сильнее и сильнее! Были бы деньги у меня, я поехала бы к тебе в твой дурацкий Артем. Несмотря на всех твоих каратисток.
— Лен. Погоди. Я люблю тебя. Это первое. Ну и теперь — да что за каратистки? Ты чего их вспоминаешь все время?
Он сел, ловя ее руки, и обнял, прижал к себе. И не дожидаясь ответа, поцеловал, а Ленка поцеловала его в ответ, закрывая глаза и улетая от того, что он совсем рядом, отчаянно голый, совершенно голый, и значит, он совсем ее Панч, а она совсем его Малая.
— Хочешь… — он отрывался и тут же снова целовал ее, не успевая договорить, — ну, хочешь, я тебе… имя… придумаю имя.
— Нет.
— Что?
— Не надо. Хочу, чтоб одно, наше, пусть Малая.
— Я потом тебе сто штук. Триста. Шестьдесят…
— Что?
— Каждый день чтоб.
— Валька-поэт. От меня вам…
— Балалайка, да. Ты про этих не сказала. Каратисток.
— А…
Ленка, наконец, оторвалась от его губ, повалилась навзничь, держа его руку и укладывая себе на грудь. Потом убрала ее.
— Нет. А то я снова тебя стану целовать. Я расскажу.
Там, снаружи, разгорался день, торопился сделаться жарким, полным солнца и голосов, и в ангаре теплело, свет приходил, покачивая пылинки, рисовал на земляном полу кружки и полоски. Мерно гремела собачья цепь, звук приближался и удалялся, пока Шарик не улегся, видимо в тень деревянной стены, и вздыхая, стал клацать зубами, наводя порядок в косматой шерсти. Петички не было слышно.
Валик слушал Ленку, беря ее руку и поднося к губам, и тогда она умолкала, теряя слова, потом находила их снова, складывая в чуткую память теплое дыхание на своих пальцах и ладони. И тепло его груди, стук сердца, когда оторвал от губ и уложил на себя, прижимая. Заговорил и голос прошел под ее ладонью, вибрируя.
— А я думаю, чего ты на письма мои не отвечаешь. Я пять штук послал. Все с обратным адресом, ну уже когда поселили нормально. Ждал. Ответа ждал, а нет и нет. Ниночка…
Ленку возмутило, что он умолк и это вот прежнее — Ниночка. Какая она Ниночка после того, что наделала. Но письма?
— Подожди. Ты почтой посылал? Я не получила, Валька, ни одного. Только это вот, где фото, вы сидите. Счастливые такие. Как мы с тобой. Только я конечно, никакая не каратистка.
Валик кашлянул. Глядел на ее суровое лицо темными глазами на бледном лице с худыми скулами. И у Ленки закололо сердце, снова от того, что — такой красивый и она совершенно ничего не может сделать, чтоб как-то уберечься. Если он ее бросит. Разлюбит. Или уедет. Что делать-то?
— Там школа, санаторная, она за городом. В лесу. Ниночка письма собирала, чтоб два раза в неделю отдавать — машина шла в город.
— Так она? Вот блин. Она твои, значит, не отправляла! Валь. О-о-о, ну, слов нет у меня. Какая же…
— Подожди…
— Что подожди? А тебе и приятно, да? Все вокруг тебя, и Малая тут ждет, а там девочки-ниночки, а ты и рад! Ну, не знал, но сейчас, чего подожди-то? Она такую подляну тебе, а ты ее — Ни-и-ночка…
Ленке нужно было, чтоб срочно возмутился, ахнул, понял, какая же его тамошняя подружка оказалась сволочь и негодяйка. А значит, тайно подумала Ленка, пусть знает, лучше меня нет никого и любить его никто не будет, как я.
— Лен, она не ходит. Ноги у нее не ходят.
— А карате? — уже сказав, поняла, что сморозила глупость, и замолчала, краснея.
Валик снова потащил ее руку к лицу, поцеловал, тепло дыша.
— Фотографии эти, мы на поляны ездили, ну, пикник школьный. Такое. Я Ниночку таскал, и ребята таскали, там горки, на коляске никак. Потом фотографировались, я ее бухнул на траву и сели отдохнуть. Не удержал, она свалилась, я говорю, у тебя синяки теперь, наверное, будут, на заднице. Она смеется, а, говорит, плевала я на синяки, все равно не чувствую их. Ты чего шмыгаешь? Ты перестань. Ну, я кому сказал? Лен, ну я же приехал! Между прочим, как ты, сам приехал. Наврал матери, что как раз остался Ниночке помочь, с экзаменом. А сам рванул к тебе, ты ведь молчала, как рыба. Думаю, ну, я хоть буду знать.
Ленка слушала его слова, и память ворочалась, будто стукаясь локтями, так неудобно и больно, показывая ей собственную злость и потерянность. И это вот, что с Пашкой, а потом с Кингом, чего, конечно, не было бы, получи она хоть маленькую записку от Панча! Если бы знала, что он приедет после учебного года, летом, да пусть хоть осенью. Он ничего не спросил, про то, что она не девственница, а она ничего не говорила ему, вообще не говорила про это. А сама тут же разбежалась спрашивать. И он ответил. Конечно, можно промолчать, а если спросит, соврать ему, что она, ну… что все случилось еще до того, как они познакомились. Потому что иначе получается совсем чудовищно. Он ее ждал там, а она от одного дурацкого письма, про которое ведь и понимала, что Ниночка половину наверняка наврала, уже — ах так, и побежала к Саничу на диванчик. Тоже мне, Анжелика в любви! Не могла полгода потерпеть. Нет, нельзя ему говорить, совершенно нельзя. Но тогда получается, у них будет все, как у всех. Через вранье.
— Валя. Валинька. Я такая дура. Я сейчас скажу, одну вещь. Важную. Но ты мне пообещай, что ты меня не бросишь.
— Господи, Лен, ты правда, что-то такое говоришь, глупое. Ну как я тебя брошу?
Он сел рядом, обнимая ее плечи и лицом распихивая волосы, чтоб найти ухо. Куснул за мочку. Сказал тепло и щекотно дыша:
— Два дня с голой Малой. Да я чокнусь от такого счастья. Ты совсем не понимаешь, да, как я тебя люблю, и еще как я думал, вот приеду, и вдруг мы поцелуемся. По-настоящему. Приехал, а тут такое! Да я уже, наверное, чокнулся. А ты мне снишься.
— Да, — мрачно ответила Ленка, — в кошмаре.
И подумала с отчаянием, ну как я ему скажу? Но надо сказать.
— Мала! — голос Петички раздался будто совсем рядом, в ангаре, и оба вздрогнули, откачиваясь друг от друга, но Панч, улыбаясь, сразу же снова облапил Ленку длинными руками, прижал изо всех сил, укладывая голову ухом между ее лопаток.
— Да, Петь. Мы не спим.
— Жрать идите. Я через час уже меняюсь.
Голос притих, продолжая говорить что-то невнятное строгое, что-то про миску и блох, и Шарик внимательно повизгивал в ответ, соглашаясь.
— Пора одеваться, — с облегчением сказала Ленка, не шевелясь, и прижимаясь крепче, — поедим, потом купаться. Мне еще нужно домой заехать, и придумать еще, где ты будешь. Или у тебя есть где?
— Неа. На лавке заночую, на вокзале.
— Тю на тебя. Разберемся. Пусти меня уже. Нет, не пускай. Лучше еще поцелуй.
— Сюда?
— И сюда еще. Сто раз. А я потом тебя, когда поплаваем…
Глава 38
На ухабах автобус подбрасывало, Ленка крепче вцеплялась пальцами в теплый поручень, а Валик прижимался к ней, и его руки лежали поверх ее рук. Она смотрела в пыльное стекло, улыбаясь деревьям, полосе стриженого кустарника, людям на тротуарах. Ежилась, наклоняя голову к плечу, — Панч нагибался, целуя ее шею под рассыпанными волосами.
Ленка сперва сидела, на самом крайнем сиденье, которое отвернуто от всех и смотрит на заднюю площадку автобуса. Но Панч стоял за поручнем, и получается, напротив, а в стекло били яркие солнечные лучи, и Ленка со страхом вспомнила, что тушь с глаз смылась, ведь плавала и ныряла. И еще нос, наверняка блестит. Когда на остановке зашла женщина с плачущей девочкой на руках, Ленка поспешно уступила ей место и протиснулась в самый дальний округлый угол, встала там спиной ко всем, радостно чувствуя: Валик прижался, обнимая ее плечи и укладывая руки поверх ее ладоней. И стало совсем хорошо. Далеко ехать, целых полчаса, можно пока не думать, а просто улыбаться, потому что он тут, рядом. И еще вспоминать, с горячей краской под кожей о том, как лежали недавно совсем…
Когда ели, помалкивая и переглядываясь, Петичка, сворачивая в газету яичную скорлупу и кожуру с вареных картошек, сказал Валику:
— Так тут побудь, я с Вадзей поговорю, а Малая пусть домой съездит. Через пару часов вернется, и купайтесь на здоровье.
Ленка беспокойно поглядела на Валика, а он, покачав лохматой головой, улыбнулся ей, отвечая Петичке:
— Та не. Я тоже поеду. Потом вместе обратно.
И у нее отлегло от сердца. А то — целых два часа отдельно от Панча.
— Я там погуляю, вокруг, — сказал Панч ей в ухо и оба засмеялись — автобус тряхнуло, зубы мальчика клацнули.
— Откусишь! Я быстро. Переоденусь только. И возьму нам поесть чего. Ты в автовокзале сиди через полчаса, ладно? Под пальмой.
— Я на пальме буду.
На залитом пыльным зноем автовокзале Ленка повела Панча к стеклянному входу, показывая, где сидеть. Высокая пальма свешивала из-под самого потолка перистые огромные листья, такие сухие, несмотря на темно-зеленый цвет, что казалось их вырезали из бумаги. На мраморной стенке белели круглые часы и, сверив время, Ленка потащила Панча обратно — к узкому проходу между пятиэтажек, заодно поднимая лицо и всматриваясь в Рыбкин балкон.
— Там моя подруга живет, я вас познакомлю. Оля Рыбка. Она хорошая, только быстрая очень, я за ней не всегда успеваю. А сейчас не знаю даже, она дома или нет, и вообще, позвонить бы, но потом позвоню. Блин.
— Что? — он шел рядом, держал Ленкину руку, иногда крепче сжимая пальцы. И ей было хорошо-хорошо. И немножко печально. А еще сердито.
— Да Ниночка твоя. Если бы мы писали друг другу, Валь, ты обо мне знал, ну всякое. Про мою Олю, например. Да вообще. А так.
— Я теперь буду звонить. И писать тоже. А еще я буду приезжать. К тебе. Я же сказал, да? Этот год мы снова в Коктебеле, и наверное, школу я там закончу. Маме сказал. Даже если уедет она, я останусь. Надоело мотаться. Ну и еще я не хочу далеко. От тебя.
Ленке снова стало совсем хорошо, и она заулыбалась так, что заболели скулы. Сжала пальцы мальчика, а он остановился, повертывая ее к себе и прижимая.
— Подожди, — она отступила, нахмурившись, снова улыбнулась, — а вот фиг всем. Иди сюда.
Медленно выходя из поцелуя, качнулась, засмеялась виновато, хватаясь за бок Панча.
— Я как пьяная с тобой. Скажут, вот это выпускной у девочки…
Из узкого прохода между домами задувал крепкий сквозняк, взметывал желтый прозрачный подол. Шевелил черные волосы Панча. Мальчик нагнулся, находя под светлыми прядями Ленкино ухо:
— Лен… А под лодку получится залезть? Ну днем, сейчас прям?
— Фу ты какой! Вряд ли. Там же сторож. Я подумаю, пока дома.
— Фу ты какая.
— Молчи, ты!
Топтались, смеясь и толкая друг друга, чтоб сразу прижаться, обнимаясь. И Ленка не сразу увидела Викочку. Та обошла их, разглядывая, встала за спиной Панча, как раз перед Ленкиным лицом. Поправила на плече ремешок полосатой пляжной сумки. Переступила белыми босоножками.
— Привет, Малая.
Ленка выпуталась из рук Валика. Внутри тоскливо заныло от выражения Викочкиного лица и странного тона. И еще от воспоминаний, о самом начале длинной ночи, полной всякого.
— Привет, Викуся.
— Как выпускной? А то ты вечером не рассказала, — Викочка огладила бок белой коттоновой юбки, сунула пальцы в кармашек, — тебя Кинг искал. Велел передать, чтоб позвонила ему обязательно. Сказал, свалила с Димоном, нехорошо.
Викочка внимательно оглядела Панча, перевела взгляд на хмурое Ленкино лицо. Не дожидаясь ответа, кивнула:
— Ладно. Пойду. Я ему скажу, что видела тебя. Чао, бамбины.
Напряженная фигурка в белой юбке и прозрачной блузке горошками удалялась, четко стукали каблуки, метался солнечный блик по карамельной гладкой стрижечке. Ленка молча стояла, совершенно не понимая, надо ли сейчас что-то сказать или сделать. Абсолютно все казалось неправильным. И молчание, и если что-то сказать Панчу, сердито ругая подлую Семачки, или догнать и накричать на нее… Все оборачивалось Ленкиной виной. Хоть упади на землю и разбейся, чтоб дальше не слышать и не видеть ничего.
— Пойдем, Лен, — Панч взял ее руку, и Ленка еле сдержалась, чтоб не выдернуть свою, потому что все стало не так, как было несколько минут назад.
Но его пальцы держали крепко. Сказал сверху:
— Ты мне про Ниночку говорила. Про письмо. Ну я понял, бывает такое. Вот твоя Викуся сейчас, как Ниночка.
Ленка прикусила губу, страдальчески сводя брови и опуская лицо. Пошла рядом с Панчем. Он не понимает. А она трусливо молчит, чтоб не понимал дальше. Ниночка соврала напрочь, а Викуся сказала про Ленку чистую правду. Такая вот разница.
На углу своего дома остановилась, отпуская руку мальчика.
— Ну вот. Тут живем. Жалко там сестра и мама, может, дома, а то я бы тебе показала комнату свою. Но сейчас лучше не надо.
— Хорошо, что показала дом, — Панч улыбался так, будто он старше и ему надо Ленку успокоить, — беги, а я пройдусь и под пальму. На пальму, то есть. Буду кидаться сверху финиками. И кокосами.
— Валинька, — жалобно ответила Ленка, поднимаясь на цыпочки, поближе к внимательному лицу, — Валька, черт, ты только никуда не денься, ладно? Пожалуйста. Я тебе после расскажу вообще все. Но ты, главное, не исчезни. Сейчас.
— Куда я от тебя, Маленькая Малая? — Панч засмеялся, снова, как взрослый, который утешает ребенка. Тронул Ленкино плечо, — я буду тебя ждать, ты там скорее, ладно?
Сам повернулся и пошел обратно, сунув руки в карманы и поднимая одно плечо, на котором висела старая кожаная сумка.
Ленка коротко выдохнула, побежала вдоль палисадников, торопливо кивая скамеечным бабушкам и обходя мелких детишек. Выбросив из головы виноватые мысли, думала о насущном. Надо умыться. И почистить зубы. А еще что бы такое надеть, чтоб красиво и удобно. И купальник еще. Полотенце. А как же ночевать? Где? И еще надо чего-то снова наврать маме насчет, где она будет ночью. Рыбка. Надо ей позвонить.
Дома было непривычно тихо. На скрежет ключа из комнаты вышел Жорик, подтягивая на животе синие треники, и Ленка поморщилась их обвисшим коленям и некрасивой складке на мотне.
— Привет. А где все?
Она скинула босоножки и унесла их в ванную, закрылась на крючок, сдирая с себя трусики и суя их в корзину с бельем. Сунула босоножки на табурет, спохватившись, выскочила в кухню, набрать воды в чайник.
Жорик сидел у окна, поставив босую ногу на соседний стул и выбивая из пачки сигарету. Прикурил, разглядывая Ленку.
— Алла Дмитриевна на работе. На пенсию они там кого-то провожают. Просила, чтоб ты купила кефира. И лука с морковкой.
— Ой. Гера, ну сходи ты. Мне бежать надо.
Чайник загремел по плите, зашипел и расцвел синим цветком газ, облизывая подчерненное донце.
— Я не могу, — отказался Жорик, затягиваясь и складывая рот буквой о, зафыркал, пуская дым кольцами, — уф… мне надо вещи еще сложить. Светланка после обеда, наверное, в больницу. Жду, когда позвонит из гинекологии.
Ленка молча ушла в коридор, набрала Олин номер. Послушала длинные гудки и сунула трубку на место. Ступила назад и дернулась от неожиданности, налетев на мягкое, живое. Жорик, наваливаясь грудью в белой майке, протянул руку к полке, беря оттуда расческу. Встал рядом, не глядя на Ленку, а внимательно — в зеркало, проводя расческой по длинным русым кудрям.
Пропел отражению, шевеля свежепостриженными усами:
— Совсем загуляла сестричка, да? Выпускной, школа нафиг и понеслось. Аж глазки стали другие. Целовалась небось до утра. Да?
Ленка мрачно глянула на сладкое лицо, розовые, как у младенца, губы, и отвернулась, ушла в комнату, закрывая дверь перед носом Жорика. Изгибаясь, содрала с себя надоевшее измятое платье. И держа его скомканное перед собой, кинулась к двери, которая вдруг открывалась.
— Ты чего лезешь?
— Я? — удивился за дверью Жорик, — спросить хотел, про кефир. Ты пойдешь в магазин или как?
— Или как! — рявкнула Ленка, кинула платье на диван и влезла в халат, стягивая пояс, снова вышла, спасать ноющий чайник.
Жорик наконец ушел в комнату, тренькал там струнами, иногда выпевая несколько слов. А Ленка стремительно вымыла голову, поплескала на себя остатками теплой воды и убежала в комнату одеваться, по пути снова набрав номер и выслушав унылые длинные гудки. Она уже начала волноваться, что там с Рыбкой, и сердилась, боясь, а вдруг и правда, случилось, и тогда как быть с Валиком?
В коридоре перед зеркалом попудрила нос, быстро подкрасила ресницы, покидала в полотняную сумку с черепом всякие нужные мелочи. И протягивая руку в телефону, вздрогнула — он зазвонил.
— Але? Рыбочка? Ну слава Богу! А я тут дергаюсь уже. У тебя все норм? Ганя там тебя не обидел? А проводил?
— Нормально, — отрывисто сказал Олин голос, — ты зайдешь? Сейчас вот.
— Ой, я не могу. Мне срочно бежать. Давай утром, а? Завтра. Нет, лучше после обеда.
— Как хочешь, — голос отдалился и потускнел.
— И вот еще, — Ленка заторопилась, увидев время на настенных часах. Пряча трубку в руке, сказала, поднося губы к самой чашечке:
— Рыбочка, а твои сегодня не на огороде?
— Нет. У сеструхи. В деревне.
— И вечером тоже? Оль, а можно я, ну там, в халабудке?
После паузы далекий олин голос ответил:
— Та иди. Ключ знаешь где. Слушай, Лен…
— Ой, вот спасибо тебе! Я побежала, Оль, я завтра тебе. Пока!
Ленка сунула трубку на телефон. Повесила на плечо сумку, поправила лямочки сарафана. Подойдя к комнате сестры, сказала громко:
— Гера, скажи маме, я может, сегодня останусь, у девочки там. У Инны. Постараюсь вечером позвонить, но пусть не волнуется, если что.
— Ах любовь, ах любовь, — насмешливо отозвался голос Жорика и гитарный перебор, — золотая лестница, золотая лестница без пе-рил!
Ветер был белым и совершенно горячим, носил по жаркому воздуху тонкую пыль и порошил ею темное, черное — делал таким же светлым, как он сам.
Ленка и Панч до раннего вечера валялись на пляже, перебираясь с места на место, народу было полно, все вокруг было шумным, кусочно-лоскутным, и хотелось прибраться, расставляя людей по полкам, как сувенирные статуэтки.
А потом Ленка, посмотрев на часы и посмеявшись умоляющему выражению на лице Валика, скомандовала, пальцами расправляя спутанные ветром и морской водой волосы:
— Ну вот, можно ехать. Когда светло, с соседних огородов все видно.
Они шли мимо ставка с тихим зеркалом темной воды, оберегаемой высокими тростниками, мимо квадратов земли с грядками зелени и помидорными кустами. Около жиденького проволочного забора Ленка внимательно осмотрелась, а вокруг над ними, пикируя вниз, метались стрижи, и отперев ржавую калитку из кроватной спинки, независимо направилась к шиферной халабудке по виляющей дорожке, вымощенной битой тротуарной плиткой. Панч переминался за кустом шиповника, усыпанным крупными белыми цветами — делал вид, что стоит совсем отдельно, просто так. И в доказательство внимательно смотрел в другую сторону, будто кого-то ждал.
В ямке под стеной Ленка нащупала ключ на кольце, отомкнула висячий замок и нырнула внутрь, в душный полумрак, где земляной пол, шаткий стол, покрытый клеенкой, и вдоль стенки — узкая кушетка, застеленная старым покрывалом. Поставив на пол сумку, села на кушетку, сложив на коленях руки. Сердце стучало и во рту пересохло. Будто вообще все в первый раз, удивилась она, радуясь своему волнению и одновременно боясь, а вдруг кто увидит, как Панч идет через огород к приоткрытой двери. Увидит и закричит грозно, что у Рыбаченок на участке лазят всякие посторонние.
Дверь скрипнула и в домике стало совсем темно. Ленка сглотнула пересохшим горлом. В сумке бутылка лимонада, мельком вспомнила, напряженно глядя и слушая темноту. Но тут же забыла про лимонад. Валик совсем незаметно сел рядом, и Ленка вздрогнула от неожиданности — теплые руки осторожно снимали с ее горящих плеч лямочки сарафана.
— Лен, — сказал он, у самого ее уха, — Лена. Малая. Можно?
— Да, — поспешно сказала она в темноту, поворачиваясь и поводя плечами, чтоб стряхнуть лямочки, — да, Валька, мой любимый, мой прекрасный, да-да-да. Я тебя люблю, Валик Панч.
— Я люблю тебя.
Теперь, когда знала, что у него она первая, то ей казалось, это заметно, по его осторожным, не всегда верным движениям, по тому, как останавливается, будто спрашивая руками, можно ли так, или вот так, а после вдруг делает что-то немножко резко, в такт своему участившемуся дыханию. И она, повертываясь, откидываясь и сдвигаясь, помогала ему, направляла руки, не думая о том, что ее опыт может расстроить и вдруг нужно притвориться, что не умеет, не знает как. Но притворяться с ним она ни разу не пробовала, и как с теми мыслями о правде, которую надо будет сказать ему, Ленка внезапно была уверена, что этого никак нельзя. С ним нельзя, невозможно, и опасно. Потому что тогда исчезнет это ощущение правильности того, что происходит, а ее держало только оно. Да еще горячая любовь к Панчу. Такая со всех сторон неправильная…
— Тише, — шепнула испуганно, ища рукой его невидимое лицо, — тише… да, да!
Пальцы наткнулись на раскрытый рот, отдернулись, когда со стоном прикусил и тут же снова раскрыл, боясь сделать ей больно. Дышал тяжело, с хрипом, валясь на нее и цепляясь руками, чтоб не свалиться с узкой кушетки. И затих, вздрагивая.
У стены под кушеткой заририкал сверчок. И издалека сильно орали лягушки в ставке, уже совсем ночные.
— А ты? — шепотом спросил Панч, — ну, чтоб тебе тоже. Чего ты смеешься?
— Мне хорошо.
— Точно?
— Глупый. Мне знаешь, как хорошо, потому что тебе хорошо?
— Ну… — он подумал, прижимаясь и дыша Ленке в шею, а рукой накрыв ее грудь под расстегнутыми пуговками сарафана, признался, — нет, не знаю. Теперь вот знаю. Если ты не врешь.
— Валинька, я тебе врать никогда не буду. Это ужасно. Потому что… Ну есть всякие даже мелочи, которые говорить не надо, например. А я их все равно скажу, потому что нельзя тебе врать.
— Тогда знаю.
— Что?
— Что тебе хорошо.
— А, — Ленка тихонько засмеялась.
Повернулась на бок, чтоб прижаться теснее. Панч обхватил ее рукой и уложил на ее бедро согнутую коленку. Задышал ровно, будто засыпая. Ленка лежала, глядя открытыми глазами в мерцающую темноту. Вот так, вместе спать, выбирать позы, чтоб обоим было удобно, это сложно, рука затекает, или ногу надо думать, куда деть, но такое счастье. Вместе покрутиться, и наконец заснуть, зная, что утром вместе проснутся. Так вот надо.
Снаружи послышались шаги, и через мягкую дрему Ленка прислушалась, еще не понимая, что это.
— Василич! — густо сказал мужской, явно хмельной голос, затрещали кусты, — та еб жеж! Василич, ты шо там, ты ушел что ли?
Ленка резко села, нашаривая скинутый сарафан, потянула на плечи скрученные лямки. Валик уже молча стоял рядом, шуршал одеждой, задевая рукой Ленкино бедро.
— Елки, — дрожащим шепотом сказала она, нащупывая под кушеткой сумку, — отец, Рыбкин. Что же нам…
— Василич! — голос кружил за стеной, удалялся и вдруг слышался с другой стороны.
— Та тут я, — отозвался невидимый Василич откуда-то издалека, и шаги с голосом удалились снова, рассказывая:
— А я удочку твою привез. Верка в деревне осталась, с девками, а я плюнул, там шо, ни рыбалки, ничего же.
— Ты б лучше пузырь привез, а не удочку, — наставительно произнес Василич.
Ленка взяла руку Панча и наощупь потащила к закрытой двери. Тихо громыхнул под ногами какой-то котелок, укатываясь под стол. Ленка стиснула зубы, чувствуя, как по спине сбегает к пояснице мелкая противная дрожь. Дверь мягко подалась, скрипнула. Но голоса говорили свое, смеялись вдалеке, перебивая друг друга, и двое выскользнули в ночную уже темноту, прокрались вдоль стены к зарослям ежевики, смутно белеющей звездочками цветов. От беседующих теперь их отгораживал домишко. Ленка удержала Панча за руку, чтоб не полез в самую гущу. Пройдя шагов пять, нашла еле заметный просвет — тропку в соседний огород. Ежевика цеплялась колючками за подол, неохотно отпуская. И закачалась под ногами провисшая проволока.
Рыбкин отец и Василич все еще рассуждали о рыбалке и радовались тому, что вместе с удочкой был привезен и пузырь, а ребята уже быстро шли по грунтовке, освещенной бледным лунным светом, к ожерелью фонарей на шоссе.
— Я думала уписяюсь со страха, — Ленка дрожащей рукой нащупывала сумку на боку, — мы ничего не забыли там?
— Носки, — ответил Панч, шаркая кроссовками, — мои.
— Черт, — она рассмеялась, всхлипывая, — блин и блин, я там трусы оставила, на кушетке.
— Вот радости будет утром. И дверь же открыта.
— Ладно. Подумает, что кто-то пролез, просто так, чужие.
— Так ты без трусов, Малая!
— Тише ты!
Панч засмеялся, обнимая ее и останавливая на дороге. Поцеловал в сердитое лицо, и Ленка не выдержав, тоже засмеялась.
— Никто. Меня никто не увидит. А ты зато как чортишо, в ботах на босу ногу.
— Я модный.
На шоссе качались далекие огоньки и Ленка, отпихивая Панча, показала на них:
— Автобус. Если побежим, успеем, а то совсем редко ходят.
— А мы куда теперь?
Они уже мчались рядом, Панч тащил в руке отобранную у Ленки сумку и прижимал локтем свою, что болталась на плече. Сверху смотрела луна, наклоняя неровное лицо с вогнутым профилем. Орали лягушки.
— Ко мне, — решительно сказала Ленка, — нафиг всех. Я тебя тихо проведу. И будем вместе спать.
Глава 39
Кухня в трехкомнатной квартире панельной пятиэтажки была так мала, что два человека умещались в ней с комфортом, если сидели и пили чай, например, или обедали, а если обоим приспичило встать за кружкой или ложкой, то сразу же путались локти и спины. «Боже мой», трагически восклицала мама, становясь в угол и прижимая к себе холодную кастрюлю, по дороге к плите, если папа пробирался к любимому месту у подоконника, «а что же делают эти, у которых четыре комнаты и народу живет в два раза больше, а кухонька точь такая?». На что папа, посмеиваясь, предполагал, что они по сменам туда заходят, как в столовку на пароходах.
Ленка стояла у плиты, прижимаясь к длинной ручке духовки и топыря локти, чтоб не опалить рукавчики халата, а за ее спиной мама резала лимон на небольшом столике, и сестра Светища сидела, вытянув ноги в середину кухни — пила чай. В коридоре чем-то громыхал Жорик.
Внутри под халатом у Ленки все тряслось и ныло. Как то бывает, назло, все вдруг не просто оказались дома, и даже Светка приехала ночевать из своей больницы, но всем вдруг понадобилось быть в кухне, коридоре, ванной, а на улице, на дальней скамейке, где площадка для белья, кусты смородины, и ночные ежи, — сидел Валик, терпеливо ждал, когда Ленка три раза включит свет у себя в комнате, чтоб он подошел, и она тихо откроет входную дверь, впустить его.
Когда расходились на углу дома, Ленка вполголоса рассказала, что и где, и Валик, отпуская ее руку, ответил деловито:
— Ага. Заодно кусты найду погуще, чтоб у вас там не мелькать.
— Где мелькать? — удивилась Ленка, поняла и смешалась, неловко смеясь, — да ну тебя!
Теперь у нее не хватало терпения дождаться, когда же все наконец, угомонятся и разойдутся по комнатам. И бедный Валька там, сидит в кустах, ждет. Думали — быстро. Но вот уже полчаса Ленка делает вид, что у нее в кухне куча дел, надеясь, что маме и Светке надоест стукаться спинами и спотыкаться друг об друга.
Наконец Светка поднялась, сунула Ленке чашку с мятым ломтиком лимона.
— Ушла спать. Вымой для сестре кружку, Малая.
— Хватит коверкать язык, — машинально отреагировала Алла Дмитриевна, усаживаясь на освобожденную табуретку, — и что за привычка с этими прозвищами.
— Спокноки, — ответила из коридора Светка и уже невнятно, но сердито заговорила с Жориком.
Ленка обреченно подвигала на плите закипающий ковшик, подумала о часах в виде большой дурацкой кружки в синие горохи. Там было без пятнадцати двенадцать, еще когда вода не кипела!
— Лена, — торжественно сказала за спиной мама, — нам нужно с тобой поговорить.
— Сейчас прямо?
— Да! Я тебя почти не вижу! Что это такое вообще, какие-то поездки, прогулки, ну ладно, выпускной, но у меня такое ощущение…
— Мам, это только ощущение. И потом, мы же с тобой уже все обговорили. Сто раз.
Ленка выключила газ и села, стараясь не оглядываться на открытое окно, затянутое от комаров куском старого тюля. Алла Дмитриевна строго смотрела на хмурое лицо дочери. Подняла руки, пощупала железочки бигуди и стала осторожно выпутывать их из темных волос, складывая в карман халата.
— Ты не поехала поступать, — сказала обвиняюще, позвякивая алюминиевыми трубочками.
Ленка закатила глаза.
— Ты хоть понимаешь, для пенсии тебе необходим стаж! Непрерывный! А это значит, что чем раньше ты заведешь себе трудовую книжку…
— Мам, ты чего, какая пенсия! Я месяц назад закончила школу.
— Да! — Алла Дмитриевна подняла палец, — именно! Закончила. И пора начинать думать о пенсии.
Ленка собралась, как то уже бывало, возмутиться, теперь что, встала утром и хоба — думай о пенсии… и язвительно поинтересоваться, а насчет модели гроба и какие венки на кладбище, тоже пора начинать думать? Но в темном дворе ждал Валик.
— Мам, — сказала она, сдвигая на место пузыречки с перцами и солью, — у меня трудовая есть, и между прочим, даже стажа немного накапало. Я же каждое лето работала, с четырнадцати.
— Ну, — с сомнением отозвалась мама, осторожно взбивая темные волосы, закрученные крупными кольцами, — я думала, он ненастоящий. Ну что там, месяц, или два.
— Настоящий. Нормально. С августа я в ателье ученицей, уже договорилась. А сейчас спать иду. Ты чего сама не спишь? Уже бы легла и спала давно, ты в десять спишь уже.
— Мне же надо было с тобой поговорить серьезно!
Ленка покивала, с самым серьезным видом. А внутри какая-то часть ее готова была швырнуть кружку через всю кухню.
— Поговорили. Я поняла. И хорошо. И спасибо. И спать.
— Ты издеваешься, да?
— Нет, — сказала Ленка звенящим голосом и поднялась с табуретки. В конце-концов можно вылезти в окно и просидеть с Панчем до утра на скамейке. И пошли они все.
— Спокойной ночи, — устало сказала Алла Дмитриевна и ушла, превратившись в смутное пятно за рифленым матовым стеклом. Ленка притихла, слушая, как открылась и закрылась дверь родительской спальни. И стала смотреть на часы, подгоняя минутную стрелку.
Через десять минут она тихо ушла в комнату и три раза щелкнула выключателем. В коридоре, не включая света в прихожей, прокралась к самой двери, взялась за петлю засова, слушая одновременно звуки за своей спиной, в квартире, и что там происходит на лестнице. Вот пропела пружина на двери подъезда. Ленка припала глазом к мутноватому окошечку, а сердце загрохотало, заглушая вообще все звуки. В круглом изогнутом пространстве прошли неясные тени, застукали шаги наверх. Не он. Кто-то из соседей. Да что за…
Но тут же глазок затенился, в нем перестало показывать дверь напротив, и Ленка поняла — пришел и стоит, совсем близко. Плавно отжала петлю, засов тихим рывком дернулся. Панч ступил внутрь, прижимаясь в тесноте, и Ленка под его локтем как-то умудрилась закрыть засовчик обратно, и оттеснила мальчика через коридор к своей комнате, втолкнула, закрывая двери. Побежала на цыпочках обратно — запереть еще и замок.
И вернулась, не включая света, встала в комнате, спиной прижимая дверь. Выдохнула наконец, ничего не слыша через грохот сердца. Обхватила руками Валика, который появился в темноте, тоже обнимая ее. Долго-долго стояли, не говоря слов, и вообще без всяких звуков, совершенно тихо, целовались так, будто оторвись друг от друга — умрут. У Ленки подгибались ноги, она испуганно переступала, обмякая и снова выпрямляясь, а то вдруг с грохотом на пол — думала невнятно, и снова прижималась к Панчу, так что перехватывало дыхание.
Через долгое время, такое стремительное, пришло совсем другое, наполняя ее медом, который вдруг отяжелил живот, и Ленка подумала, цепляясь за плечи мальчика, вот черт, я сейчас кончу… Но сладость размылась, утекая в кончики пальцев, через колени и локти. И Ленка, будто стакан или бокал с зыбкими стенками, такой — совсем полный, под самые края, стояла, покачиваясь, а халат был, где же он был, подол поднят, и вдруг ей стало неловко, она поняла, что лицо, и дыхание, оно там внизу, на бедре, и под ее ладонью, опущенной вниз, его волосы, подумалось быстро, будто пес, моя рука на башке…
Она ступила от двери, руками ощупывая его плечи, попадая пальцами на скулы и уши. Наклонилась.
— Валинька, — шепот был еле слышен ей самой, таял в темноте, утекал к неясному потолку, — давай ляжем. Пойдем.
Он кивнул под ее рукой. Ленка, осторожно ведя его через темноту, вдруг почти захлебнулась от мысли, что они сейчас лягут. Вместе. Не на брезент, укрытый колючим одеялом, и не на старую кушетку в чужом дачном домишке, а в постель, застеленную простынями, с двумя подушками, будут лежать там — голые. Вместе. Как надо.
— Подожди, — шепнула в ухо, клонясь к нему, уже лежащему на диване, — я быстро.
На цыпочках ушла в ванную, быстро помылась, набирая воду в ладонь и прижимая к себе полотенце. На всякий случай выполоскала рот, глядя в зеркало на свое горящее лицо и совсем темные, ночные глаза. И заторопилась обратно, ударенная мыслью, вдруг мама решит еще чего сказать, откроет двери в ее комнату…
Потому в постель почти упала, свалилась, обхватывая руками горячие бока, и укладывая лицо под его волосы, к шее. За ребрами билось сердце, путало сдвоенные удары. За приоткрытым окном орал кот, очень грозно, и следом вступил второй, а после шипели змеями и вдруг понеслись, шелестя листвой и ветками.
— Двери, — голос Панча был слышен прямо в ухе и тут же заглушался грохотом сердца, а еще сладостью, которая поднималась, растекаясь и заставляя колени подергиваться, поджимая пальцы на босых ногах.
— Там… кресло там. Задвинула.
— Умная маленькая Малая…
Они уже были совсем вместе, влипая друг в друга так плотно, что Ленке хотелось кричать, орать от того, что невозможно проплестись насквозь, и виделись в голове две грудных клетки, ребра, как прутья корзины, прошедшие друг через друга — не разобрать, где чьи. И Валик остановился, прижимаясь к ней горячим животом, снова уткнулся в шею, ища губами ухо.
— Лен. А тебе можно? Ну так, без всего?
— Да. Последний сегодня день. Живот болел.
— Что?
Она тихо засмеялась, притискивая его к себе и отпуская, и снова притискивая.
— Потом. Можно, Валька, можно.
— Я…
Он больше не успел ничего сказать, был занят. И она была занята. И пока тела двигались, найдя в нутре дивана какую-то тайную, до этого спящую пружину, теперь она ритмично попискивала, — в голове Ленки вертелись, вспыхивая, белые круги и черные треугольники, пролетали радуги, наискосок и стоймя, проливалась над ними вода, белая, летела сверкающими брызгами во все стороны. И Ленка, прикусывая губу и закрывая глаза, а после распахивая их, собирала все, что умела, все, чему было научено ее тело в постели Сережи Кинга, чтоб отдать сейчас мальчику, у которого она — первая. Чтоб успеть с ним, потому что он быстрый, а она медленнее, но сейчас хочет бежать рядом, оторваться от земли вместе и вместе улететь, ахнув о землю все, что мешает. И пусть кто угодно сейчас зайдет, мама или Светка. Плевать.
Мокрые, они лежали совершенно неподвижно, впереплет ногами, обхватив друг друга руками очень сильно. Где-то далеко скучно и мерно лаяла собака, а еще слышно было, как свистят маневровые тепловозы на развязке у портовых ворот.
— Ахха, — Валик выдохнул, пошевелился. И засмеялся — Ленка еще крепче обхватила его, с наслаждением ощущая, как сильно напрягаются ее руки, прижимая. А зато коленки дрожат.
— Что?
— Коленки… — слово не получилось сразу и она засмеялась тоже, — Валинь-ка мой. Колен-ки. Трясутся. Ой.
— Ты моя маленькая Малая.
— Ты мой прекрасный Панч. Самый красивый. Самый любимый. Один такой. Нет таких больше.
— Болтушка.
— Сам дурак.
— Я люблю тебя. Я очень сильно люблю тебя. Леночка. Моя Леночка.
— Мой. Ты навсегда мой. Понял? Убью.
— Чего?
Она, наконец, отпустила его, роняя совсем затекшую руку, но другой нашла его пальцы и сжала, повертываясь, чтоб лежать на спине, но лицом к нему, видеть в темноте, как блестят глаза.
— Если влюбишься в кого-то, я тебя убью, — объяснила серьезно.
И он серьезно покивал головой, шурша смятой подушкой.
— Понял. Но я не влюблюсь. Я тебя навсегда люблю. На всю жизнь.
— Я тоже.
— Ты чего смеешься? — он лег на бок, провел пальцами по ее боку и бедру, тронул щеку, убирая волосы.
— Ты когда пришел в первый раз, я подумала, ох нифига себе, дылда, кого это сторож приволок. Вот думаю, щас закроют меня в этой халабуде, а где же мой дурацкий мелкий брат, ходит там где-то. А это ты!
— А я иду и вижу, такая барышня сидит, ой-ей. Волосы по плечам, прям как в кино. Пальто какое-то длинное. Мне показалось, тебе лет двадцать, такая взрослая совсем. А потом ты про собаку. Это вы мне? И говоришь, ойй…
— Черт, я и забыла.
Они смеялись, утыкаясь друг в друга, умолкали, шептались, перебирая подробности. Трогали друг друга и молча слушали, как отзываются прикосновения. Снова тихо рассказывали о том, какие они, — какие были сначала, когда совсем еще не знали друг друга, и какими стали, становясь все ближе. И это было таким счастьем: что все непонятности кончились, и они теперь принадлежат — Валик Ленке, а она ему.
А потом он замолчал совсем по-другому, и Ленка поняла его молчание, мягко легла навзничь, притягивая его руку. Охрипшим, немного виноватым голосом он спросил:
— Можно? Это ничего, что я вот…
— Глупый ты Валька. Любимый мой Панч. Конечно, можно.
Она не кончила в этот раз, с невероятным удивлением и восхищением улетая вслед за ним, гордясь тем, что это она, Ленка Малая делает так, что ее мальчик летает, так высоко, так прекрасно. И оказалось, это такое наслаждение ей, и такая разница с тем, что происходило в постели Кинга, где были его руки, которые все знали, и умели, и делали, и она после кончала, а он был доволен, как сытый кот, и полагал, наверное, как доктор Гена, что это и есть секс, и всякие его вершины. И держа в руках своего Панча, такого мокрого, счастливого, совсем без сил, такого любимого, Ленка пожалела и Кинга тоже, подумала, да наверное, никто и никогда так. Только мы. Я и Валька.
— Ты спишь совсем, — она трогала губами его скулу, умиляясь тому, какая та мокрая, потому что он только что выгибался, как в судороге, и она сделала это с ним, — не хочешь в туалет? Я посторожу.
— Не. А нормально, если мы заснем?
— Конечно, — соврала Ленка, — я схожу и после снова кресло задвину.
Она тихо вышла в коридор, плотно закрывая двери. В окне кухни светило осторожное серенькое утро. Ленка заторопилась, чтоб успеть лечь, пока в комнате темно и ночь укрывает их.
И, выходя из туалета, натолкнулась на Жорика. Он стоял, держа руку на выключателе. Так тихо подошел, совсем неслышно…
Ленка вздрогнула, шагнула в сторону, ожидая — он тоже сделает шаг, чтоб разминуться. Но он все стоял, блестя в полумраке глазами. И вдруг улыбнулся. Сказал шепотом, отступая, чтоб она прошла:
— Диваном скрипим, сестричка. Ну-ну.
— Ты не проснулся, что ли? Иди спать, — Ленка разозлилась так, что даже не смогла испугаться. Хотела схватить его за резинку обвисших трусов, притянуть к себе, прошептать в ухо, ну скриплю, а тебе завидно да?
Но отвернулась, и узко открывая двери, протиснулась в комнату, подперла двери креслом, подергала, проверяя.
— Нормально? — шепотом спросил Панч, обнимая ее рукой и прижимая к себе.
— Да, — она с готовностью прижалась, закрыла глаза, улетая от его тела, от живота и коленок, от ступней там внизу, — спи, мой Валька, а я тебя люблю.
— Я тебя люблю, Маленькая Малая.
— Такое счастье…
За окном, за его полосатыми оранжевыми шторами светлело утро, по капле, и казалось, это писки стрижей, которые становились все гуще, из одиноких ночных — ожерельями тоненьких звуков — вытаскивают свет. Ленке, когда она закрывала глаза, виделись тонкие нитки с разными бусинами, легкие, крутились и замирали, попискивали, умолкая. Открывая глаза, вместо унизанных ниток видела наискось смятую подушку, смутно белеющую, и по ней — темные волосы в беспорядке, профиль и выставленное плечо, с которого сползла простыня. Вытягивала шею, получше разглядеть, и, сонная, закрывала глаза, чтоб на веках видеть профиль с тонким носом и полуоткрытыми губами. Затихала, слушая дыхание, и снова перед закрытыми глазами качались нитки с бусинами, а через них летело перо, серое, упругое, резало сонный воздух, вкусно звуча, будто просекало плотную и легкую воду. Горлицы, думала Ленка, снова открывая глаза, а они неумолимо закрывались, проснулись горлицы, а скоро и воробьи, и тогда совсем-совсем утро…
Это беспокоило, но не могло вытащить ее из сна совсем, только крутило его, как веслом воду, сон становился странным, мешаясь с прожитым днем и страхами о будущем, которое приближалось.
«Сегодня он уедет»…
Она сердито зажмурилась, стараясь не спать, и прижалась локтем и бедром к Валику, бережно, чтобы не разбудить. Пальцами ноги тронула его ступню. Уедет… До этого надо как-то пережить утро, да пусть бы оно не наступало вовсе, но ведь наступит, и нужно дождаться, чтоб мама ушла на работу, а Светка с Жориком уехали в больницу. Тогда проще, быстро перекусить, умыться, в туалет, ну что там еще. И выйти, на автовокзал, там сидеть уже под высокой пальмой на деревянной скамеечке квадратом, в самом дальнем углу. Слушать объявления и смотреть, как мимо проходят люди. Потом Ленка останется одна. Но Панч будет совсем рядом, три часа на автобусе, это намного ближе, чем Ялта и Севастополь, всего три часа. И если невмоготу или еще что, Ленка всегда сможет купить билеты и махнуть в Коктебель. Но лучше бы он не уезжал. А ночь — не кончалась.
Проснулась она от того, что Валик целовал ее в щеку, потом — очень бережно, в уголок рта. Ленка сморщила нос от щекотного касания, улыбнулась и тут же нахмурилась, а сердце заныло, смиряясь. За окном не просто утро, а день в полном разгаре, и оранжевая штора пылала, будто ее подожгли.
Ленка села, натягивая простыню до самых плеч, испуганно прислушалась к шагам и шуму в коридоре. Валик сидел рядом, в белой футболке и семейных трусах в клетку, уперев руки между согнутых острых коленей. Волосы свешивались, рассыпаясь по плечам, очень яркие на белом.
— Сколько времени? — Ленка спросонья никак не могла сообразить, кто там громыхает в кухне и льет воду в ванной.
— Одиннадцать, — Валик пальцем отвел ей волосы со скулы, — нормально, у меня билет на полвторого.
— Проспала. Вот же. Мама на работу, к восьми, а мы тут как сурки. А вдруг бы зашла? А вдруг заходила?
Панч покачал лохматой головой.
— Не заходила. Мы бы услышали.
— А вдруг молча ушла, а потом как начнет…
— Лен.
Ленка покаянно кивнула, нашаривая под простыней трусики. За окном трещали воробьи и громко переговаривались соседские бабки.
— Да. Не буду больше, а то я как она. Ты чего меня не разбудил, Панч? У нас времени и так мало! А кто там ходит? Светка не поехала, что ли, в больницу?
— Поет басом. В смысле козлетоном. В ванной.
— Вот черт. Это Жорик отвез ее и вернулся. Если бы проснулись раньше, успели бы нормально выйти. И поесть.
Валик придвинулся, обнимая ее поверх локтей. Ленка виновато улыбнулась, осторожно убирая его руки. Внутри нехорошо и беспокойно ныло. И никак не хотелось с таким нытьем целоваться и делать всякие ночные ласковые вещи.
— Валинька, извини. Надо собраться как-то. Выйти. Не могу я сейчас.
— Глупая Малая, чего извиняешься. Я ж хотел просто, чтоб ты успокоилась. Ничего, что я просто так?
— Что? — не поняла поглощенная раскаянием Ленка, — слушай, ты не сердись, ладно? Ну что я сейчас…
— А ты на меня. Что я, ну что ты хотела может, чтоб мы…
Они замолчали вместе, глядя друг на друга, и внезапно повалились навстречу, обнимаясь, тыкаясь лицами в плечи и сдавленно смеясь. Замолчали, когда хлопнула в коридоре дверь и шаги стихли перед Ленкиной комнатой.
— Младшенькая, — голос Жорика был таким же вкрадчивым и понимающим, как при ночном разговоре, — ты там что, собралась весь день провести? На диванчике.
— Ты что хотел? — звонким сердитым голосом спросила Ленка, — я скоро выйду.
— Ко мне через часок парни придут. С ними Эдик, между прочим. Тебя хотел увидеть. Так что, когда выйдете…
Жорик выдержал паузу и продолжил:
— …выйдете, то загляни, хоть поздороваться с парнишкой.
— Я скоро выйду, — раздельно повторила Ленка.
Молча вскочила, на цыпочках подбежала к креслу, подпирающему дверную ручку. И придерживая его, чтоб Жорик по своему обыкновению, не сунулся внутрь, показала Валику жестом — одевайся.
Потом поставила его на свое место, и летая по комнате, быстро и тихо убрала постель, запихала в шкаф разбросанное белье и вещи, сунула Валику в руку его кожаную сумку на ремне. Поцеловав, сказала, касаясь губами уха:
— Я сейчас входную открою. И к гаду этому зайду. А ты быстро на улицу, да? За угол. Я туда выйду.
— Я тебя люблю, Малая.
— Ты мой Валька.
Жорик сидел на разобранной постели, среди смятых подушек, наклонив голову, тренькал струнами, прислушиваясь и подкручивая колки. Поднял лицо навстречу Ленкиному гневному взгляду, ухмыльнулся, кладя гитару на простыню.
— Ты бы хоть постель заправил, — она вошла, закрывая двери и встала, спиной к ним, слушая, что там, в коридоре, — блин, и чего Светка в тебе нашла, вообще не понимаю.
— Ого, какие мы нервные, — пропел Жорик, ползая глазами по сарафанчику и растрепанным волосам, — а сама-то, лапочка!
— Ах да, — Ленка сделала вид, что внезапно вспомнила что-то, — пойдем, мне одну вещь надо тебе…
Распахнула двери, пропуская его вперед и подтолкнула мимо тумбочки с телефоном, в свою, раскрытую настежь. Жорик вошел, быстро и разочарованно оглядывая покрывало, кинутое поверх постельного белья, раскрытый шкаф и Ленкины вещички на кресле.
— Так, — она продолжала его толкать, к столу у окна, поставила там, выдергивая ящик с наваленными в нем тетрадками, карандашами и прочей мелочевкой. Пошарила в глубине, вытащила тугую пачку с глянцевой картинкой.
— Сегодня пойдешь к Светище, отдай, она просила. Карты. Ах да, еще подожди…
Быстро пересекла комнату, оставив Жорика заинтересованно разглядывать выдвинутый ящик, в коридоре метнулась в прихожую и бесшумно заперла входную дверь. Вернулась, неся в руке прихваченную с вешалки старую косынку.
— Вот еще. Тоже возьми.
— А сама? Некогда к сестре сходить, да? — огрызнулся недовольный Жорик.
Ленка с ненавистью посмотрела на сердитое лицо и сложенные в гримасу розовые губы. И что Светка правда, возится с ним? Погнала бы с треском. Вернулась к Петичке. Ну почему все вокруг такие дураки? Просто жуть берет!
— Не хочешь, сама отнесу. Завтра. Так и скажу ей, что ты отказался. Что у тебя — парни…
— Ладно, давай.
За угол дома Ленка свернула уже почти бегом, огляделась, высматривая. И пошла медленнее, растерянно оглядываясь по сторонам. С белесого неба палило солнце, такое, немного дикое, ходили вокруг него горы кучевых облаков, валко меняя форму. За крышами и деревьями еле слышно погромыхивал гром, налетал ветерок, влажный и неожиданно зябкий, но никакой прохлады не приносил, а будто лепил на лоб и щеки душный пластырь. Где же Валька? Ушел сам на автовокзал, не стал ждать тут, у домов?
— Лен, — позвал ее знакомый голос, — сюда иди, я тут.
Ленка встала, облизывая пересохшие губы. За буйной бирючиной с глянцевыми жесткими листочками, под кривым развесистым абрикосом маячила черноволосая голова. Панч помахал ей, и она ступила на узкую короткую тропку, продралась через кусты к такой знакомой трубе, обшитой рваными кусками серого толя, перехваченного проволочными кольцами.
— Смотри, как, — Валик похлопал рукой по картонке, настеленной на трубу, — наверное, тут сидят, прячутся. Повезло нам, сейчас никого, и тенек. Давай тут посидим, у нас еще два часа целых.
Ленка испуганно подняла глаза к спрятанному в ветках балкону Кинга, и быстро их отвела. Ей казалось, Панч сразу поймет, куда она смотрит и зачем.
— Не надо. Пойдем. Тут алкаши.
— Ты простыла? Чего голос хриплый?
— Пойдем, Валь.
По дороге они купили в киоске пирожков с ливером, две бутылки лимонада, и еще свернули в вокзальный туалет, страшно вонючий и замусоренный.
И наконец, сели туда, куда и думалось Ленке ночью. Спинами к большому залу ожидания, на дальний угол квадратной лавки, окружающей пальму и кустики олеандра, натыканные вокруг лохматого ствола. Поставили на лавку пакет с пирожками и медленно ели, запивая сладкой пузырчатой водичкой, мгновенно выступающей бисерным потом на лбу и верхней губе.
— Лен, — сказал Панч, вытирая руки подсунутым носовым платком, — там у тебя, я видел на кресле, сандалии такие, с кожаными хвостиками. И крылышки. Так здорово. Это какой-то костюм, да? Вот на тебя посмотреть бы.
— Не успела я. Там еще пряжки нужны, надо пришивать.
Валик внимательно смотрел сбоку. Поднял бутылку, но пить не стал, повертел на колене.
— Ты их сама сделала? — уточнил.
Ленка пожала плечами.
— Угу. Только не сделала еще. Мама права. Как-то я ничего до конца.
— Совсем сама? Или только, ну там, пряжки всякие.
— Сама. Но видишь, бросила, валяются. Ты чего замолчал?
Теперь она смотрела на его тонкий профиль, беспокойно слушала знакомое, с мерным хрипом дыхание. Вот повернулся, совсем серьезный и глаза такие глубокие, темные.
— Ты сделаешь. Обязательно. Я про другое подумал сейчас. Лен. Мы же друг друга совсем не знаем. Я не знал, что ты умеешь такое вот. Совсем настоящее. Ну шьешь, ты говорила, да. И фотографии. Но это такое, в общем обычное, правда ты хорошо делаешь, но все равно. А тут, вдруг.
— Сапожник, — уныло сказала Ленка, — ты прям, как мама. Стыдно, моя дочь и вдруг сапожник. Я виновата, что ли, если мне это нравится? Ты меня не пугай, Валь. Ну вот. Теперь смеешься.
Панч сунул ей бутылку с водой.
— Пей. Взяла испугалась. Глупая какая. Я наоборот, я офигел просто. Не знал. Теперь знаю. Еще, наверное, тыща всяких штук есть, которые у тебя твои личные. И все я собираюсь узнать.
Ленка выдохнула. И тоже засмеялась. Черт знает что. Вот это она влипла, с Валькой Панчем. Он только немножко стал серьезным, а она уже в панике. Уже думает, что с ним, что он думает про нее, про Ленку Малую. Это все, конечно, от любви. Теперь что, все время так бояться? Да и ладно, решила Ленка, глядя на худую щеку и чувствуя, как глаза затягивает прозрачная пленочка слез, и пусть, главное — я его так люблю, что сердце может разорваться.
— А я ничего такого не могу, — сказал Панч, — прикинь, ничего. Такой вот я обыкновенный. Что?
— Валинька. Ты мой ангел. Понимаешь, это оказалось не слово, а по-настоящему. Ангелам не нужны странности. Они сами такие — сказочные. Ты не понимаешь просто, какой же ты.
Она подумала еще, надеясь найти слова, но не сумела, а только вспомнила из совсем далекого детства беленькую маленькую старушку, в крошечной комнате, куда мама приводила ее, «побыть с бабушкой Тоней», пока они сидели в гостях у дальней родни. И Ленка тихо сидела на скамеечке перед старинным огромным зеркалом, на столике перед ним толпился волшебный мир фарфоровых статуэток — собачки размером с грецкий орех, кошечки еще меньше, бледные дамы с румяными кавалерами, балерины в фарфоровых пачках с поднятыми над блестящими головками лебедиными руками, лошади с каретой… А над зеркалом, в высокой вышине, как над поставленным стоймя тихим вытянутым озером, висела картина, где по мосту бежали дети, а в левом углу круглились черные клубки туч, но над мостиком и над головами бегущих детей склонялся мальчик в золотом венке и с большими белыми крыльями, яркими на синеве ясного неба.
— Вот вы со сестричкой своей, — выпевая слова, говорила маленькая бабушка Тоня, показывая вверх поблескивающей спицей, — бегите по мостику, а над головушками бедными — андел. Спасает.
Ленка послушно кивала и снова занималась котиками и щенками, тихонько думая о том, что вовсе и не похожи, тем более, один из бегущих — точно пацан, а не сестричка. И андел, с высоты своих пяти лет, она уже знала, называется — ангел, и их не бывает.
— Оказалось, вот он ты.
— Что?
Ленка махнула рукой, стесняясь мыслей и внезапных слез, да что за ерунда, ну он же рядом будет совсем!
— Ничего, Валька. Ты главное, смотри там, не смей болеть и перерастай срочно свою астму. А то, вдруг тебя снова в какой-то Артем за пять тыщ километров. Со мной что будет?
— Внимание пассажирам с билетами на тринадцать тридцать, Керчь-Феодосия, — невнятно заговорило под высоким потолком и над пальмой заметались ласточки, — начинается посадка, третья платформа. Внимание…
Глава 40
Оказалось, недоделанные вещи временами — это очень хорошо. Сандалики с непришитыми пряжками спасли Ленку от необходимости плакать, она это случайно поняла. Когда наутро проснулась, после сна, в котором была рыбой, и не умела нырнуть, и выплыть к солнцу за серебряной пленкой воды не могла, стала задыхаться, напрягая жабры, села в постели, сглатывая, морщась и хватая себя за виски ладонями… Огляделась и поняла, что дышать по-прежнему нечем, его нет, уехал, надо как-то жить дальше, и дело не в том, что нет воздуха, она умрет без Валика Панча, не тургеневская барышня и не рыба из сна, не умрет. Но жизнь стала, как та вода во сне — нет дна и нет верха, и в стороны одна сверкающая равнодушная муть. И надо бы плыть, а некуда, да и незачем. В висках давило, а глаза были мокрыми, и Ленка испугалась, что теперь так и будет, один взгляд или одна мысль, и сразу слезы. Но наискосок от дивана в ворохе вещей на продавленном старом кресле лежали новые сандалии, блестел ремешок, упадая к полу, будто его натерли вишневым соком. И Ленка, поправляя волосы, поняла, их надо обязательно доделать. Это не просто. Много всяких мелочей: подобрать пряжечки, то есть пройти по магазинам, и скорее всего их там нет, а значит надо заглянуть в комиссионные, там бывают старые вещи, совсем за копейки, а еще поехать к Вадику, а еще к дяде Виктору попроситься в гараж, перебрать мелкий хлам в деревянных ящиках. В далеком детсадовском детстве любимым занятием Ленки было рыться в тех пыльных ящиках, вытаскивая болты, шурупы, всякие скобочки, ржавые замки, крючки с наверченными на них медными проволоками. Раскладывать, рассматривая. А дядя Виктор с папой сидели у входа, наливая из трехлитровой банки пиво в мутные захватанные стаканы, чистили вяленую рыбу и смеялись, что-то рассказывая. Мама после сердилась, выкидывая из карманов Ленкиных платьев тяжелые ржавые подарки.
Потом их надо почистить, и чтоб не железные, а то испортят кожу, так Вадик сказал. Сделать правильные дырочки, подобрать хорошие нитки, толстые и нужного цвета. Их надо вощить, Вадик ей подарил кусок настоящего воска, тяжелый, полупрозрачный, с глубокой бороздкой, в которую надо вкладывать нитку и таскать туда-сюда.
И не торопясь, двумя большими иглами, втыкая их навстречу друг другу и затягивая каждый стежок, пришить, а после аккуратно простучать маленьким молотком с круглым бойком, который не оставляет на коже следов.
Вытирая глаза, Ленка обрадовалась количеству работы. Успокоилась, даже немного испуганная, а вдруг не успеет за неделю. Они договорились, что Валик позвонит, когда она дома, и расскажет, что у него и как. Может быть, получится поехать к нему, пока еще не сходила в ателье, как обещала маме.
Расчесав волосы, Ленка осмотрела припухшие глаза, провела руками по бокам и бедрам. Решила, нужно срочно похудеть, и обрадовалась, что появилось еще одно важное дело, которое требует времени. Неделя пролетит. Если поставить себе цель доделать сандали и скинуть два кило. А после, если понадобится, она придумает что-то еще.
Обдумывая все, уже набирала номер. Есть еще Рыбка, ей надо обязательно рассказать про Семачки, посоветоваться. Конечно, Викочка не ясельный ребенок, и уже сама решает свои дела, но все же зря она бегает к Кингу, мозгов у нее не сильно много, и вдруг он ее обидит. Викочка в разговорах с подругами часто с презрительным видом помалкивала, а после авторитетным тоном высказывала, с точки зрения Ленки и Оли, кромешную чушь, типа народного «бьет, значит, любит», «тот не мужчина, что в дом не несет». Они привыкли над семачкиными мировоззрениями подшучивать, но сейчас Ленке стало зябко, когда она вспомнила пристальный Викочкин взгляд, и каким тоном та разговаривала в последний раз.
Так что, нужно Рыбке все рассказать, снова решила Ленка, прижимая трубку к уху.
— Рыбища? Как хорошо, что ты дома. Я сейчас забегу, да? У меня новостей куча, разные все. Упадешь, в общем.
Замолчала, с беспокойством прислушиваясь к непривычной тишине в трубке.
— Оль? Ты где там?
— Але, — снова сказала трубка. Совсем равнодушным голосом.
— Ты там чего? Ну, я зайду?
— Как хочешь.
Ленка выслушала короткие гудки. Положила трубку, глядя сквозь Жорика, который вышел из комнаты, приглаживая ладонью тщательно расчесанные кудри. Над ленкиной головой осмотрел в зеркале малиновую рубашку с вышитыми надписями на карманах и клапанчиках, отряхнул вельветовые «джордансы» — за ними три воскресенья Светка и Жорик ходили на толкучку, пытаясь сторговать нужный размер по более-менее нормальной цене.
— Бай-бай, бэби! — открыл входную дверь и испарился, щелкая по ступеням деревянными сабо.
У Рыбкиной двери, обитой зеленым дерматином, Ленка надавила кнопку звонка и прислушалась. Внутри стояла тишина, и хотя летом это бывало часто — родители мотались на огород, оттуда к старшим сестрам в деревню, помогать вести хозяйство, у Ленки вдруг закололо сердце.
— Заходи, — отрывисто сказала Оля и ушла в кухню, мягко шлепая по полу растоптанными самодельными шлепками на войлоке. Ленка скинула босоножки и вошла следом, глядя на остренький нос и впалые скулы — Оля села в углу и уставилась в окно, где чертили воздух быстрые ласточки, попискивая и сверкая белыми животами.
— У тебя случилось что? Ты чего такая?
Ленка села напротив, упираясь спиной в плиту, поерзала — черные круглые ручки давили на позвоночник.
— А тебе не все равно? — равнодушно ответила Оля, не поворачиваясь. В руках вертела спичечный коробок, он еле слышно громыхал в сухом нутре остатками спичек.
— Нет, — Ленка тоже положила руки на стол. Прогнала желание отобрать коробок. И тот треснул, развалился в олиных пальцах. У Ленки пересохло во рту. Она совсем забыла про Олины дела с Ганей. А ведь он пошел ее провожать, и хотя Рыбка сказала, что все нормально, но вдруг соврала?
— Оль, у меня новости. Всякие. Я с тобой посоветоваться хотела. Ну, прости, что я так. Мне правда, надо было срочно, и самой. Что случилось?
Оля пожала плечами, на это раз жестом повторив — тебе не все равно, Малая? Но сказала другое, обвиняющим тоном.
— Я тут сидела. Три дня. Думала, ты позвонишь. А ты.
— Так я и хотела, тебе, — заторопилась Ленка. И рассердилась. Громко потребовала, сметая со стола обломки коробка в ладонь, — хватит уже, говори!
— Ганю забрали, — ровным голосом сказала Рыбка, — в ментовку.
Ленка с сердитым облегчением пожала плечами.
— А то в первый раз, да? Ты сама что мне говорила, а? Про него. И правильно говорила! Ну, мать его снова отмажет, отсидит свои пятнадцать суток, а может и их не будет. Если мать…
— Ты не поняла. Его за изнасилование взяли. Это пятнадцать лет.
Оля, наконец, повернулась. У нее было совсем белое лицо, очень усталое, будто ей стукнуло тридцать, она совсем взрослая, и жизнь — сплошные несчастья. А еще, будто не спала целую неделю. Ленке стало страшно. На несколько нехороших секунд она вдруг оказалась на той стороне стола, сидела, сплетая пальцы, так что они онемели, и сильно болело сердце, совсем пустое, без крови. А еще оказалась в непонятной, неясной, потому что знала о такой понаслышке, тюремной камере, где серые крашеные стены, железная дверь, и жесткая койка, а главное — оттуда не выпускают, и хоть умри, придется сидеть срок, мотать, или, что там еще говорят зэки. С ними сидеть, с зэками. Ее качнуло и, кладя руки на стол, Ленка еле справилась с тошнотой, прогоняя из головы картинки и ощущения.
— Молчишь, — сказала Оля. И замолчала сама.
— Оль, — потерянно догадалась Ленка, а по спине поползли мурашки, — погоди, так это вы с ним? Когда выпускной? Он тебя? Так и пусть, ну скотина же! А ты…
— Та хватит. Не я. Не я! Другая девка! Ты понимаешь? У тебя курить есть?
— Нету. Какая другая?
Оля вскочила, скидывая шлепанцы. Ленка заторопилась следом, путаясь в чужой обуви, сунула ноги в босоножки. Побежала вниз по ступенькам, не отводя взгляда от русой макушки и разлетающихся прядей.
На улице Оля пошла так же быстро, привычно отмахивая шаги согнутой рукой с острым локтем. Ветер взметнул волосы, залепил скулы и глаза.
Из магазина вышли с пачкой сигарет, утолканной в Ленкину сумочку, и газетным свертком — в нем пряталась бутылка столового вина.
— Может, пирожок какой, — попыталась воззвать к благоразумию подруги Ленка, но та лишь махнула рукой, летя вдоль пятиэтажек к знакомым кустам бирючины. Продралась через кустарник и села, поставив ноги на ломаный деревянный ящик. Нетерпеливо похлопала рядом по вытертой картонке.
— Не боись, Кинг с дружком своим свалили, я видела их тачку, недавно, у кургана. С девками какими-то. На море, наверное.
Ленка села рядом. Оля снова повернула к ней бледное лицо с большими тусклыми глазами. Подставила пластмассовую чашечку, дежурную, которую таскали на дискотеку, чтоб не хлестать сухарь из горла.
— Откроешь?
Ленка кивнула, сражаясь с полиэтиленовой пробкой маникюрными ножничками. Налила в подрагивающую чашку вина с кислым сильным запахом. Дождалась, когда Оля выхлебает, и налила себе, поставила бутылку на землю.
— Лен, — сигарета в Олиной руке сильно дрожала, и она положила ее на подол цветастого сарафана, — понимаешь, мы обратно шли, и под руку. Он говорил так, по умному говорил, пора браться за ум… что в техникуме восстановится, и после в институт собрался идти. Ругал там пацанов, вот говорит, всю себе жизнь просрут, водкой и ганжой. Я говорит, не такой. Налей еще. Ага.
Она подняла лицо к балкону Кинга, усмехнулась, тряхнула волосами. Выпила в два больших глотка.
— Стояли в подъезде. Он мне руки целовал. Сказал, дурак я был, с Лилькой этой, я ее не люблю, говорит. У нее предки богатые, мать его запилила, чтоб женился, ну и сам тоже. Молчи, я сама знаю, видела, как он с ней. Но и я ж с ним, Лен. Я тоже мозги ему парила, как та стерва. Вот он мне назло. Конечно.
— Оль…
— Да помолчи. Пожалуйста. Я могу сказать сейчас. Потому что уже все равно, понимаешь? Я же ему поверила и думала про все. По-человечески. Как два человека вроде мы. А на другой день, уже вечером… Мне Натаха позвонила. Короче, еще раньше, Ганя ездил на пансионат, с пацанами. Прикинь, Бока там, и его компания. Почти все сидели. Ну и они лазили там, снимали баб. Гуляли. Бухали толпой. Ганя с двумя какими-то приезжими катался на лодке. Их катал. Короче докатался.
Оля размахнулась и кинула сломанную сигарету в кусты, выковыряла из пачки другую. Ленка отобрала, прикурив, отдала ей снова. Над глянцевыми листочками поплыл щекочущий глотку дымок.
— Она заяву написала аж через неделю. Или больше. Я не знаю, так можно или нет, побои сняла, бланш под глазом, ноги все в синяках, трусы порвал ей, и платье. Ножом порезал руку.
— Черт, — Ленке стало тошно. Она испугалась, уже мысленно видя себя в лодке, сверху — тяжелое тело, и холодный злой нож у самой кожи. Напряглась, прогоняя чужие ощущения.
— В общем, менты домой пришли, его повязали. И еще двух пацанов. Но те на берегу, в домике вповалку. Их отпустили, они не помнят ничего, но их видели, что они там лазили, орали песни, потом спать легли, все гамузом. А этот придурок повеселился и потом один уехал, значит. Девка проспалась, ну, наверное, тоже сперва не помнила ничего. Вместе пили. И что теперь?
— Оль…
— Я спрашиваю, мне что теперь? — Оля почти кричала, сунула сигарету ко рту, скривилась и кинула, давя подошвой, — черт, да что за черт. Понимаешь, мне даже не сильно и жалко, сейчас, я злая очень, потом может и пожалею. Но он скотина какой, прикинь. Он жениться собрался. На Лильке. И мне заливал мозги. А сам в это же время бухал и лез к бабам! И был не просто дурак, а полный скотина. А мне — ой, я в институт! Ой, Олькин, давай уедем вместе! В Кениг. Поступим, будем студенты. Понимаешь, как будто он человек. Ну, я не могу объяснить. Не могу!
— Я понимаю. — Ленка подумала, что именно это беспокоило ее по отношению к Викочке. Та собиралась с Кингом крутить, будто он просто обычный человек, будто с ним можно по-человечески. И скажи ей, что нельзя, она не поверит. Оля поверила Кольке Гане. А он все равно на той стороне. Где если говоришь «нет», тебе показывают нож. Рвут платье. И все равно берут свое. И толку, что он теперь сядет, но две нормальные девчонки, даже три, ну напилась, согласилась кататься, тоже мне великое преступление, так вот, три девчонки оказались вместе с ним на той стороне. Где зэки, тюрьмы, суды. Потому что сам он — урод.
— Да я разве спорю… — Оля закурила еще одну сигарету, и Ленка поняла, что говорит вслух, горячо, не очень ровно, но похоже, ее Рыбка поняла, о чем.
— Не спорю. И не думай, я не побегу на крыльях, тьфу, не полечу передачки ему носить. Потому что если бы у него хоть что-то в его блядских глазах светило, хоть какой стыд! А не было! Да хоть бы молчал, сволочь, не лез мне целовать руки! Тоже мне мушкетер нашелся. Герцог гандон! Ненавижу.
— Ты сильно ругаешь. Оль. Сейчас ругаешь, а потом передумаешь, да? И всю жизнь себе испортишь.
Оля усмехнулась, уже сама наливая себе в чашку вино.
— Зорик приходил. Звонил сперва, бекал там что-то. Выяснял, что я знаю. А мне ж Натаха уже. Ну я говорю, приходи, расскажешь. Так он знаешь мне что проплел? Ты если любишь, ты теперь его ждать должна! Вот говорит вам проверка, тебе и Лильке. Кто, значит, больше любит, тот с Ганей останется.
— Чего? — Ленка возмутилась и покачнулась, цепляясь за Олину руку, — а может ему в рот плюнуть, ты не спросила? Тоже мне, психолог недорезанный.
— Спросила, конечно. Ты меня совсем за дуру держишь? Так и спросила, может, мне его Ганечке еще ноги мыть и юшку пить? Да пошел он, козлина дебильная!
Ленка с нежностью смотрела на пылающие щеки и сощуренные глаза.
— Рыбочка… я тебя люблю. Вот это мне проверка, поняла? Я думала, ты как раз и будешь, Гане. Ноги. А ты герой. И молодец. Вот ты бы мою маму научила. А то вечно, ой Лена, мне снова сказала соседка, что ты должна то и это! А ну быстро делай!
— Малая, причем тут соседка? Ты напилась, что ли? Не жрала с утра?
— Нет. Я тебе позвонила. Не евши.
— У меня борщ, — решила Оля, вставая и нервно отряхивая бока, — пошли обратно.
— Сядь, — Ленка потянула цветастый подол, — сядь и давай поклянемся, Рыбочка, что никакие Зорики нас на понт не возьмут! И никакие Гани!
— И никакие Кинги, Малая, — добавила Оля, валясь рядом и вытягивая ноги, — а то знаю я тебя. Меня на понт, а тебя на жалость. Ах, он бедный, ах, простудил яйцы, надо срочно ухаживать.
— Оля, что ты мелешь? Какие яйцы?
— Такие! Да если мужики поймут, что можно задохликом прикинуться и ты сразу спасать побежишь, таблетками кормить и горчичники ставить, так они тебе всю шею просидят! Думаешь, Кинг не врубает, что ты у нас такая сестра милосердия?
— Я? — Ленка покраснела, чувствуя, как горят уши и щеки, — вот блин, я и не думала.
— А ты думай, — Оля помахала тонким пальцем, — ду-май! И я буду. И клянусь, что Ганя меня не раскрутит, и Зорик засранец. А ты поклянись, что Кинг! Ты чего ржешь? Не, у меня горе, а она снова!
Ленка умолкла, вытирая выступающую слезу. Она совсем было собралась рассказать Рыбке про Валика Панча. У которого астма. И которому она таскала в сумке таблетки и бутылку с водой — запивать. Придется рассказать потом. Тем более, Олины проблемы куда трагичнее, а Ленке еще, оказывается, повезло. Валик не просто человек, он ее ангел, и даже если случится с ними двумя какой-то кошмар, то она твердо знает — ему будет верить, всегда и во всем.
* * *
Кинг позвонил Ленке еще через день. Она работала и время от времени переругивалась с мамой, стараясь не очень злиться. Алла Дмитриевна полагала, что если дочь сидит дома, тихо ковыряясь за столом с обрезками кожи, шилом и нитками, то самое время ей вынести мусор, замочить белье и подмести, наконец, комнаты, перебрать захламленные книжные полки и много чего еще.
Устав спорить, Ленка поднялась, стряхивая с коленей обрезки и нитки, вышла в коридор, намереваясь позвонить Рыбке. И телефон сам зазвонил под ее рукой.
— Леник, — вкусным баритоном выжидательно сказал Кинг в ответ на ее обрадованное «але», обращенное к Рыбке, — о, мой ленник польского короля, горда шляхетна пропаща полька. Ты чего замолчала-то? Не скучаешь?
— Я… — Ленка замолчала, собираясь с мыслями. Как ни странно, Кинг совершенно вылетел у нее из головы, и после разговора с Рыбкой она ни разу не вспомнила о нем, вернее, подумала мельком с облегчением, оказывается, он крутит там с новыми девицами, вот и отлично.
— Ты, ты, — согласился голос в трубке, — короче, маленькая, ноги в руки, вечер нынче наш. Море, мидии, мангал, шашлычок, купание при луне, все по-взрослому. Пора начинать большую жизнь.
— Сережа, я не могу. Извини.
— Я украл тебя с выпускного, — Кинг явно не очень ее слушал, и не собирался слушать, так ей показалось, — а значит, я твой провожатый во взрослую жизнь, котик-дискотик. Кстати, можем сперва зарулить на биржу, попляшете, оторветесь. В шесть у кургана, поняла? С Димоном едет Томочка, ага, ты не знаешь Томочку, познакомитесь, охеренная красотка, баскетболистка, ноги по километру каждая, прикинь, она почти с меня ростом.
— Сережа. Я не могу. — Ленка, понижая голос, закрыла трубку ладонью, — ну ты понимаешь, на море я не могу сейчас.
— Кому мешают твои праздники? — удивился Кинг, — в первый раз, что ли, замужем? Кроме обычного секса есть еще всякие приятные извращения. И ты их умеешь. Что замолчала? О, майн готт, я сказал и кое-что испытал, вспоминая. Ты на меня так действуешь, цени.
В его голосе Ленка слышала то, чего и боялась. Викочка рассказала, про то, как они стояли с Панчем, обнимались на виду у людей и солнца. Кинг знает. И потому такой тон, вроде он ей приказывает. А раньше не приходилось, получается, она ему никогда не отказывала…
Мысли крутились обрывками, кололи острыми уголками. Было стыдно и страшно, а еще противно слышать, как уверен в себе. И снова страшно, потому что в голосе была ленивая угроза. Может, я ее выдумала, понадеялась Ленка, перехватывая трубку влажными пальцами и прижимая к животу коробку телефона. Унеся в комнату, закрыла двери и села на диван, нещадно ругая себя за то, что ни разу не подумала, что именно будет говорить, если Кинг позвонит.
— Сережа, — сказала вполголоса, слушая мамины шаги в коридоре, — я правда, не могу. Сейчас не могу. Ну, давай через три дня, нет, четыре, я позвоню и расскажу, у меня тут, в общем, это не телефонный разговор.
— Деточка, у меня к тебе тоже не телефонный разговор, не одна ты такая вся загадочная. И лучше давай нарядись и прибеги, а то мы подъедем к дому, Томочку к тебе зашлем. Она правда с утра бухает, и кроме матерных слов все другие забыла, зато шортики — вся попка наружу, и маечка без лифчика. Бабки на лавках будут очень рады, а мама твоя обрадуется, я уверен.
— Я не поеду на море, — холодея спиной, ответила Ленка, — но если у тебя разговор, я приду. Пожалуйста, пообещай, что мы поговорим, и я обратно. Ну правда, сегодня никак, Сережа. Не могу.
— Прогресс, — одобрил Кинг, и крикнул в сторону неясных возгласов и смеха где-то там у себя, — а ну тише, не мешайте мне ворковать с приличной нормальной девушкой! Нажрались, бляди, так ведите себя нормально. Короче так, я тебе не заливаю, базар есть, и серьезный. И твоего сопляка он тоже касается, между прочим. Если не поедешь, мотай к пяти на Еременко в парк, где киоск с мороженым и столики. Побеседуем. Бай.
Он бросил трубку, а Ленка продолжала сидеть, глядя в дальнее зеркало стенки, в котором отражалось ее бледное лицо и темные глаза, а еще — рядочки хрустальных стаканов, и всякая застекольная мелочь, а еще — дальняя штора и какие-то кусочки комнаты, кривые и неясные. Все вперемешку, как те две жизни, что существовали отдельно, вот уже целый год, и вдруг стали сближаться, и ей было страшно, что все смешается и разломится, превращаясь в такие же рваные непонятные куски.
Надевая широкую белую юбку с карманами и белую маечку, сшитую из мужской майки самого большого размера, что был в универмаге, Ленка взяла щетку, расчесалась, по-прежнему пристально разглядывая себя в зеркале. Рыбка, меняя свою жизнь, перестала выбеливать волосы и стала снова прежней Рыбкой, с русой пушистой башкой. А Ленка вот она, в зеркале, загорелые плечи укрыты белокурыми кольцами длинных волос. Наверное, чтоб изменить жизнь, ей тоже нужно покраситься в себя прежнюю. Может быть, постричься. Наверное, так будет правильно, а еще — легче. И на улице перестанут свистеть вслед, и кричать «ах, девушка, давайте знакомиться!»…
— Угу, — шепотом не согласилась с мыслями Ленка, — растолстеть, носить очки с пластырем, как Танька из девятого «А», и чтоб зубы черные и кривые. Тогда совсем просто.
Сказала, чтоб доказать себе, это тоже не выход. Блондинкой она стала в подарок Валику Панчу. И пусть так и будет, прорвемся. Наверное. Может быть. Скорее бы уже все позади…
Глава 41
Пластиковый столик хромал на одну тонкую железную ногу и потому качался, заваливаясь, алюминиевые вазочки с мороженым дергались, и Кинг подхватывал свою, придвигая ближе. Черпал ложечкой, проделывая в темном вязком сиропе белые ямы и провалы, отправлял в рот, аккуратно облизывая, наслаждался. Светлые брюки натянулись на сильных расставленных коленях, одной ногой постукивал о плитки тротуара.
Ленка сидела напротив, держа в руках ложечку. Смотрела на политую сиропом сладкую горку.
— Чего застыла? — Кинг положил свою ложку и, вытерев рот платком, скомкал его, бросая на стол, поднял высокий стакан с бледно-золотистой жидкостью, — чин-чин, маленькая.
Отпил глоток и снова принялся за мороженое, перемежая его с ленивыми словами, будто каждым словом наступал Ленке на голову подошвой летней сетчатой туфли.
— Страшного ничего нет, мы же с тобой резинками пользовались, но сама понимаешь, бывает так, что резинки те до фени. Поцелуйчики-хуйчики-минетики, такое. Так что завтра пробегись до триппер-дачи, там можно без карточки на прием попасть. Не была там ни разу? Вот и потеряешь еще одну девственность.
Он хохотнул собственной шутке. Повел широкими плечами под цветной рубашкой с распахнутым воротом. Блеснула тонкая цепка на загорелой шее. Посерьезнел, нахмуривая темные красивые брови.
— Думаешь, мне эта байда нравится? Впереди еще лета кусок, гуляй вовсю, а кто знает, может, придется уколы в жопу сандалить. Ну, у меня сестричка есть знакомая, мы с ней тем летом пилились, разок она меня колола. Не было ничего, но подстраховался, а то мало ли, перейдет в хроническое, буду до пенсии французский насморк лечить. Знаешь, что такое французский насморк, Еленик?
— Нет, — без голоса ответила Ленка, сжимая в пальцах чистую ложечку. Ее подташнивало, смотреть на мороженое сил не было, хотелось закрыть глаза и умереть на месте.
— Он же гонорея, он же триппер, трипак и трипперок. Подцепить легче легкого, даже через полотенце на пляже, так что не смотри на меня, как Ленин на буржуазию, да и нормальный риск при частом сексе, особенно при многих партнерах. Что ты сказала?
— Не мои же партнеры, — чуть громче повторила Ленка свой шепот.
— А то ты не знала, — удивился Кинг, снова отпивая из бокала лимонад, — я тебе сразу сказал, у меня женщин много, и я отказываться от них не собираюсь, из-за тебя. Это ты у нас закрутила романчик и сразу решила с базара свалить. Нехорошо, Леник, я так о тебе заботился. Ну ладно, сердечные дела на потом оставим. Сейчас решим медицинские.
Он поставил стакан и развалился на стуле, вытягивая ноги. Провел рукой по брюкам, похлопал себя по молнии, дернул за пряжку ремня. Засмеялся.
— Мнительный стал. Как Димон мне сказал, про эту телку, так у меня в момент все зачесалось, теперь в сортире, когда ссу, глаз не свожу со своего хуя.
— Сережа, не надо. Услышат же.
За спиной у Ленки кричали дети, и грозно высказывалась толстая мамаша, периодически попадая в поле зрения и снова уходя к зарослям боярышника.
— Пусть слышат. Умнее будут, как вырастут. Значит так, придешь завтра к девяти, тебя посмотрят. Мазок сдашь. На другой день придешь за результатом, скажут, куда, окошечко там есть, если все нормально, бумажку выдадут. Если чего найдут, то бумажки не будет, ясно? Попросят пройти в кабинет, к врачу. Ты не иди. Сразу звони мне, или зайди сама. Бицилин у меня закуплен, лежит в холодильнике, я тебя сам уколю. Димона проколю тоже, ну, а если что, научу, будешь у меня еще одной медсестричкой. Ах да, фамилию не вздумай называть настоящую, придумай там какую попроще. Иванова-петрова. И адрес. А то могут и приехать, повяжут, на глазах у всех твоих бабок-соседок, то-то им радости. Вичке своей сама скажешь?
— Что?
Кинг ухмыльнулся, внимательно разглядывая потерянное Ленкино лицо и дрожащие серые губы.
— Подружке скажешь? Или мне говорить? Ладно, я разберусь. Надо было вас всех согнать, на инструктаж типа. Ну, а клопу своему ты уж сама. Или вы с ним только поцелуйчиками обходитесь? Тогда смотри, взасос не лижитесь, ну и винишка тебе нельзя будет, и водку тоже. Пока уколы. Сумеешь, наври чего малолетке, он тебе поверит, ты ж у нас хорошая девочка, отличница, домашняя курочка. Или правду скажи. Вот и проверка на вшивость, бросит он тебя или нет.
Ленка встала, качнулась, хватаясь за край стола. Тот визгнул ножками, с готовностью накреняясь.
— Я… мне надо. Я пойду.
— Иди, — согласился Кинг, вытирая руки платком, — я твое мороженое съем, да? Вкусное тут у них, люблю сюда приходить. И девоньки работают симпатичные.
Ленка пошла, нащупывая подошвами тротуар, который, казалось ей, качался так же, как хромой столик, только вместо вазочек на нем она, того и гляди поедет куда-то на край и свалится.
— Леник-Оленик, — окликнул ее Кинг озабоченным голосом, — кстати, совсем мы с тобой забыли, про долг. Подумай там, когда и как. И скажешь. Я не тороплю, но обещала же.
Ленка сжала ремешок сумки, который вдруг стал резать плечо. Кивнула и пошла чуть быстрее, молясь, чтоб получилось свернуть, там где высокая изгородь из темных стриженых туй закроет от нее мощеную площадку, железный киоск и столики на солнце. Злой кусок мира, который маячил за спиной, и грозил, как рваным листом железа, рассечь и развалить все, что вокруг.
Солнце благостно сияло, ездили машины, кричали дети, на углу толпились дядьки, в очереди к пивному ларьку, а дальше стояла желтая бочка с квасом, куда они с Олей бегали с бидоном, купить сразу три литра, и сидеть потом на балконе, запивая колючим холодным квасом вяленую до деревянной твердости рыбу, что висела над головами связками. Нормальная радостная летняя жизнь, куда Ленке теперь не было ходу. Ей — кабинет врача на позорной триппер-даче, про которую вполголоса рассказывал Санька Андросов, хвалясь перед одноклассниками во время перекуров. А еще клясть себя за то, что совершенно забыла о долге. Двести рублей, взятые у Кинга на лекарство для Валика Панча. Их обещала подарить Ленке сестра, когда вернется из стройотряда, но вместо этого приехала беременная, с ленивым неудельным Жоркой, который ни хрена не зарабатывает, и сами они перебиваются с копейки на копейку, кормясь на деньги родителей.
Какая же я дура, думала Ленка, пытаясь собрать мысли, что мельтешили в голове, тоже мне, сапожник, сандалики, поступать или нет. Надо было устроиться уборщицей в детский районный клуб или мыть подъезды, как Эличка из параллельного, которую все жалели, вот родители-алкаши, и девочке приходится подрабатывать, чтоб было чего пожрать. Семьдесят рублей в месяц. Три месяца поработать, по вечерам или рано утром, да если бы знала, что так, но из-за отношений с Кингом почему-то решилось ей, что долг прощен, ведь они же занимались сексом, и он ни разу не напомнил. А чего ради ему напоминать, ведь это она должна. Спят или нет, надо было думать, как заработать, чтоб отдать и не попадать в такую жопу, в какой она сейчас…
И тут же, переходя под светофором, она с ужасом вспоминала, что завтра ей надо идти к врачу, и это совершенный кошмар. А вдруг там встретится какой знакомый. В коридоре у кабинета. Или работает кто. Город маленький, нарваться случайно можно на кого угодно, где не ждешь. А еще страшно то, что из-за всего этого она не может убежать от Кинга, если вдруг бумажку не выдадут, придется идти к нему, чтоб делать эти жуткие уколы. И еще — Валька…
Она встала на углу под балконами Рыбкиного дома, отворачиваясь от прохожих, будто хотела спрятаться от всех. Нельзя, к Оле нельзя, у той свои проблемы, куда ей еще Ленкины. И с Викочкой тоже все, не вызовешь ее, чтоб поделиться и может быть расплакаться, жалуясь на жизнь. Ленка вдруг болезненно ярко увидела, как загорятся семачкины глаза злобой и одновременно торжеством, и та скажет, это ты виновата Малая, втянула меня, потому что я всего лишь делала то, что делаешь ты, а вы всегда с Рыбкой говорили, что я еще мелкая, и слушайся старших, Викочка Семки. Вот и послушалась.
— Блин, — горестно прошептала сама себе Ленка, опуская голову и резко вытирая пальцами мокрый краешек глаза.
Кажется, она поняла, почему некоторые глотают таблетки или режут себе вены. Вот прямо сейчас пусть бы вообще все исчезло, все-превсе, ни памяти, ни жизни, ни взглядов и вопросов. Но Валька. Он будет ждать ее звонка, сидеть в кабинете у главврача, обворожительной Вероники, та знает про Ленку и радовалась ей, разговаривала, доверяла, как хорошей, взрослой девочке. Они вместе будут ждать. А еще мама. И отец в рейсе. И пусть они делают всякие глупости, но разве можно так, чтоб мама ходила в черном платке, а папа получил радиограмму, про нее.
— Блин, — повторила она с тоской, выходя снова на дорогу, ведущую к дому.
Она не может ничего с собой сделать. Но и рассказать Панчу про это все тоже нельзя. Вероника говорила, ему нельзя сильно волноваться. А как в глаза смотреть? И зачем они так точно договорились, чтоб позвонил. Если она не ответит, он станет волноваться. А как говорить с ним? Без перерыва врать? А уж насчет глупостей теперь молчи, Малая, в тряпочку, сама наделала таких, что хоть умри.
— Нельзя реветь, Малая, — повторяла она себе в такт шагам, — нельзя, нельзя, нельзя…
Мама с мусорным ведром стояла у соседней лавочки, Ленка махнула ей рукой, поспешно ныряя в свой подъезд. Вошла в тихую квартиру, оглядываясь и прислушиваясь. И очнулась, когда в телефонной трубке, прижатой к уху, мужской голос повторил с раздражением:
— Алло? Да говорите, вас не слышно.
Ленка быстро прижала пальцем рычаг, скомкала бумажку с номером. Телефон зазвонил снова, равнодушный голос телефонистки сказал:
— Феодосия, разговор одна минута.
— Да, — ответила Ленка, — спасибо.
Утром она открыла глаза, усталые, будто засыпанные песком, снова закрыла, но как и всю ночь, перед закрытыми глазами возник кабинет и белые ширмы, закрывающие кресло гинеколога, а еще коробки со шприцами, бледное лицо Викочки, ухмылка Кинга, и затылок Димона на месте водителя. Ленка села в постели, сгибая ноющую спину. Болело все, плечи, руки и ноги, а еще вдруг зачесалось и запекло там, в трусиках, и она в ужасе стиснула коленки, уговаривая себя, показалось, это все мнительность, как у мамы, которая примеряла на себя все болячки по очереди. В кухне звенела посуда и лилась вода, потом зашипело на сковородке, мамин голос негромко, с вежливым раздражением что-то проговорил, а ему ответил сонный голос Жорика, совсем равнодушный.
Ленка снова легла, зажмуриваясь. Хотелось накрыться одеялом с головой и замереть, или умереть вовсе, только бы не выходить под взгляды, не вступать в утренний разговор, и потом идти солнечными улицами туда, в переулок, где рыжий двухэтажный дом с табличкой, забранной стеклянной панелькой. В голове сочный голос Кинга произнес из вчерашнего «с мылом не намывайся, как встала, так и пошла, ясно тебе?». И эти его указания делали так, будто все уже решено, не надо ждать результатов, будто Ленка уже безнадежно больна, и ведь у них с Валиком был секс, и что же теперь? Как? Как говорить ему?
— Лена, — сказал у самой двери мамин голос, — я ухожу, ты уже встала?
— Я скоро, мам, — сипло ответила Ленка, стараясь, чтоб голос был сонным, — встаю уже.
Часы на книжной полке показывали половину восьмого, еще десять минут и мама уйдет, как всегда торопясь и чертыхаясь в прихожей, роняя расческу и двигая в углу обувь.
Нужно взять с собой Рыбку, решила Ленка, натягивая одеяло до подбородка, пусть просто посидит рядом, а одна я не смогу туда.
— Уехала Оля, — скорбно сказала тетя Вера, щипая край засаленного передника, — велела тебе передать, вот, держи.
Ленка приняла из мокрой руки помятый конверт, плотно заклеенный, без надписей, с удивлением снова посмотрела на большое плоское лицо и моргающие светлые глазки в невидных серых ресницах.
— В деревню, теть Вера? А когда вернется?
В голове уже крутилось трусливое облегчение, ну что же, придется дождаться Рыбку и тогда уже…
— Навовсе уехала, Леночка, уж так сидела и молчала, а потом собралась в минуту. В Белгород, в техникум, тама экзаменов не надо, сказала так. Я растерялася, думали с папой, она с Надей годик побудет, поможет с дитями, а она видишь, то вроде хотела, а потом взяла и передумала. Вчера вот как раз. Вечером уже. Одно с ней горе, такая нравная, старшие попроще.
— Мне не позвонила даже, — потерянно сказала Ленка, не слушая собеседницу, и тетя Вера с готовностью закивала, снова теребя краешек передника:
— Не позвонила. Я говорю, ты что ж молчки, а подруги твои чего ж? Лена и Вика, то все втроем, все вместе, а тут пырх хвостом и все.
— Дюже вумная выросла! — за широкой спиной Олиной матери маленький дядя Валера не был виден, но она сжалась, сразу же берясь за дверную ручку.
— Ну то так, Валера, и ладно тебе. Ты, Лена, иди, вот письмо я тебе отдала.
У кургана Ленка распечатала конверт, просто так, без всякой надежды. Прочитала строчки, написанные круглым и крупным Олиным почерком. Всего-то пара строк.
«Лен, я тебе позвоню потом. Сил никаких нет, ходить тут и все такое, я как разберусь с общагой и что там еще то позвоню. Или напишу. Викочке тоже передай приветы, пусть ведет себя хорошо. Оля».
Листок бумаги сложился в восемь раз, Ленка попыталась сложить еще, но тугой квадратик раскрывался, и она сунула его в карман сарафана, огляделась, пытаясь себя отчаянно уговорить, что все будет нормально. Ну и что, что мир разваливается на глазах, как раз это означает — в нем хоть какая-то мелочь должна остаться хорошей, для надежды. «Только это не мелочь вовсе» сочувственно подсказал внутренний голос, но Ленка тряхнула головой, не желая слушать. Нет. Не может быть все плохо. Ерунда! Резинки, и не так часто она с Кингом. Нужно просто скорее пойти, сдать мазок и завтра снова наступит нормальная, такая, оказывается, прекрасная и счастливая жизнь, со всеми ее проблемами и хлопотами. Именно — счастливая.
В переулке на склоне, где темные деревья софор с резными перьями листьев закрывали двухэтажное здание с синей табличкой «Кожвендиспансер», было безлюдно, но Ленка не смогла и обрадоваться этому, просто вошла скорым шагом в почти ночную с яркого света темноту маленького холла и резко нагнулась к освещенному окошку регистратуры.
— Мне… на прием. К врачу.
Замолчала, молясь, чтоб накрахмаленная медсестра не стала задавать всякие вопросы, а за спиной кто-то мягко ходил, вдалеке кашляли, и вдруг кто-то засмеялся, таким свободным обычным смехом, что какая-то часть в Ленке, не занятая разговором с сестрой, бледно удивилась, ну надо же, как смеется, будто не тут.
— Карта есть?
— Нет.
— Второй кабинет, — не поднимая головы от журнала с расчерченными графами, исписанными шариковой ручкой, ответила крахмальная девушка и поправила под краем косынки темные кудряшки.
Ленка отступила и, подняв голову, независимо и деловито пошла по коридору, в котором полумрак и пустота, и никого на разнокалиберных стульях у стен, только дальнее яркое окно закрывали два силуэта, видно, там стояли те, со смехом. Перед медной двойкой с лебединой шеей, что красовалась на высокой старой двери, сбила шаг и сглотнула. Дернула на себя дверь. Спохватившись, стукнула костяшками в звонкое дерево.
— Входите, — скучно произнес мужской голос.
Мужчина был очень толст, оплывал на стуле перед письменным столом, как огромный огарок, халат, весь в складках, задирался над коленями в серых брюках, белая шапочка торчала набекрень, открывая черные с сединой мелкие кудри. Лениво повиснув на спинке стула, он вытер короткие пальцы платком, сунул его в карман.
— Да? — выжидательно сказал тонким голосом, разглядывая ленкин сарафанчик и пальцы на ремешке сумочки.
— Мне. Мне надо мазок. Сдать.
— Снимай.
— Что? — не поняла Ленка, ерзнув руками по бокам сарафана.
— Платье свое снимай, и туда. К окну.
За окном свешивались те же резные листья, в них суетились воробьи, трещали и чирикали. Ленка повесила снятый сарафан на спинку стула и, поведя плечами, подошла к окну. Встала, закусив губу. Толстяк поднялся, сунув руки в карманы халата, встал ближе, глядя на ее грудь над чашечками белого лифчика, на шею.
— Повернись, спиной к свету. Угу.
И вдруг крикнул в полуоткрытую дверь:
— Татьяна Пална! Танюша! Посмотри девочку. И оформи.
Кивнул Ленке, снова усаживаясь. Стул протяжно заскрипел. Ленка непослушными руками взяла сарафан, посмотрела на доктора с вопросом, но тот опустил голову над развернутой газетой и нацелил ручку в клеточки кроссворда. Тогда Ленка снова влезла в сарафан и, дергая головой — волосы запутались в лямочке, взяла сумочку и вошла в соседний кабинет, встала на пороге.
— Заходи, — пропела полная женщина, тоже в халате, с крашеными темными волосами, заколотыми в узел, — садись сюда вот. Фамилия твоя, имя отчество, адрес.
Она с интересом разглядывала Ленку, и той стало неловко, какой-то чересчур пристальный взгляд после ленивого равнодушия толстяка.
— Петрова, — ответила Ленка, на ходу в панике забывая затверженную по пути сюда ложь, Нина Петрова, э-э-э, Сергеевна.
— Адрес, — подсказала врачиха, быстро записывая.
— Кирова. Два. Квартира…
Женщина бросила ручку поверх раскрытой карты в два тонких листка.
— Нет там дома.
— Что? — Ленка покраснела, смешавшись, руки задрожали на пуговицах сарафана.
— Нет, говорю, на Кирова в доме два квартир, как вы мне надоели, врушки малолетние! Кирова два — это центральная почта! Ладно. Снимай трусы, бери там салфетку, стели.
— Платье снимать?
— Подол задери повыше.
Ленка с тяжелой краской на скулах, неловко, путаясь пальцами в клеенчатом кармане на боку гинекологического кресла, вытащила салфетку, криво постелила ее, и влезла, укладывая ноги на холодный металл. Зажмурила глаза, слушая шаги, сердитые вздохи и звяканье инструментов.
— Не дергайся, — прикрикнула тетка, ловко орудуя холодным зеркалом, лежи тихо, дай посмотрю.
Ленка закрыла глаза и замерла, отрешаясь. Где-то там, внизу, ниже ее живота, в теле ворочалось холодное железо, такое чужое, очень неприятно, но терпеть можно, прикинула Ленка, тем более, у гинеколога она пару раз была и не в первый же раз зеркало. Сейчас тетка его вытащит и до завтра можно будет выкинуть из головы, забыть, будет еще почти целый день жизни, там, за окном, где софоры, воробьи и беззаботные люди, которым не надо сдавать никаких мазков… которым…
— Э, дорогуша, — врезался в уши озабоченный и одновременно устало-равнодушный голос, — да у тебя тут эрозия, похоже, на шейке, или еще что.
— Что, — прошептала Ленка, мгновенно леденея спиной.
— Петр Леонидович, — прокричала в сторону двери врачиха, снова пошевелив в Ленке зеркалом, — ты заснул там, что ли?
Подождала несколько секунд и наконец, выдернула из Ленки металлическую трубку, звякнула ею о столик на дрожащих ножках.
— Вставай, одевайся.
Звонко ударила вода в донце умывальника, и пока Ленка натягивала трусики, Татьяна Пална, оглядев в круглом зеркальце черные с малиновым бликом кудри, вытерла маленькие, как у ребенка, руки, и вернулась к столу, села там спиной к Ленке. Что-то чиркая в карте, сказала:
— Мазки будут готовы завтра, но домой не пойдешь. Вот тебе направление в корпус, останешься, не нравится мне твое влагалище, утром посмотрит тебя врач, уже с результатами. Если что найдет, сдашь кровь, из пальца, из вены, отлежишь, как положено, с курсом уколов, через две недели все сдашь повторно, если результаты нормальные, отпустим домой.
В Ленке все, ухнув, упало вниз, даже не в пятки, а будто ноги ее — черная дыра, в нее улетело и сердце, и голова, стало нечем дышать и нечем думать, вот совершенно. Без единого слова она стояла босиком на ребристом коврике, не успев застегнуть пуговицы на груди, и смотрела, как шевелятся на круглом белом лице нарисованные пухлые губы.
— Если гонорея или люэс, — губы изгибались и складывались, раскрывались, выпуская в светлый полумрак кабинета слова, — перечислишь всех половых партнеров, и не морочь меня с адресами, это для вашей же пользы. Ах, да, тебе нужны тапочки, полотенце, зубная щетка-паста. Халат. Телефон дома есть? Звони, пусть кто принесет, сегодня. Пятая палата, лечебный корпус вендиспансера. Звони, давай!
Ленка мертвыми шагами приблизилась к столу и взяла с горбатого телефона тяжелую трубку. Положила палец на дырчатую пластмассу диска.
— Что? — врачиха посмотрела на часики с золотой браслеткой, вздохнула, поправляя волосы.
— Гудка нет, — сказала Ленка, держа трубку у щеки.
— Как нет? — женщина отобрала трубку и прижала к уху, постукала по рычагу, крутанула диск, — странно, никогда такого. И правда, молчит.
Снова нетерпеливый взгляд на часики, и на молча стоящую рядом Ленку.
— Сарафан сама шила, что ли? — внезапно спросила, с прежним интересом оглядывая лямочки, драпировку на груди и карманы с такими же складочками.
— Да.
— Умеешь. Ладно. Иди сейчас вниз, на улице на углу автомат, позвонишь оттуда. Сюда вернешься за карточкой и сразу в палату. Поняла? Нина Сергеевна.
Ленка молча взяла сумочку, пересекла пустой кабинет толстяка, где на столе лежал недописанный кроссворд и брошенный поверх карандаш. Вышла в сумрачный коридор, все такой же странно пустой и тихий, как будто это кошмар и все ей снится. В залитом светом окошке регистратуры сидела равнодушная медсестра, и никакого дела ей не было до Ленки, которая, отводя глаза, прошла к выходу и споткнулась на пороге, оглушенная ярким днем, полным трескучего шума, шелеста и солнечных пятен.
Мимо телефонной будки на углу Ленка промчалась без остановки, перебежала дорогу по еле видной полосатой зебре перехода и остановилась на другой стороне за густой живой изгородью. Убедилась, что погони нет, и за ней не мчится толстяк в оплывшем складчатом халате, или черно-малиновая Татьяна Пална, или отряд милиции со свистками, всхлипнула и пошла в сторону центра, торопясь, сжимая ремешок сумочки и почти не видя ничего из-за внезапно набегающих слез.
Навстречу шли какие-то люди, по одному и парами, женщина в соломенной шляпе монотонно ругала покорного мужчину с парой авосек, проехал, нещадно дребезжа звонком и колесами, мальчик на велике. Тройка парней обогнала Ленку, один что-то сказал глумливое и другие с готовностью засмеялись, разглядывая.
И через два перекрестка она, почти не удивившись, увидела уверенную фигуру Кинга, а рядом с ним девушку в бежевом платье-сафари, с длинными прямыми волосами, рассыпанными по загорелым плечам. Скорым шагом подошла ближе, встала, преграждая дорогу.
— Надо поговорить, — сказала сухим голосом, с натянутой в нем ноткой, очень громко.
Кинг перестал улыбаться, кивнул спутнице, и та, с интересом глядя на Ленку, отошла в сторону, встала там послушно, но делая вид, что ей просто — посмотреться в зеркало, подвести накрашенные губы.
— Случилось что, Леник? — заботливо спросил Кинг, беря ее руку и оттаскивая к пятнистому платану, в его живую тень.
— Да, — сорванным голосом сказала та, — еще бы, конечно, случилось. Чуть не забрали меня. На твою триппер-дачу. Куда сказал пойти.
Кинг быстро оглянулся на девушку-сафари, кивнул той, улыбнувшись, и толкнул Ленку еще ближе к стволу.
— Чего орешь? Тише не можешь говорить?
— Не могу!
Но все же понизив голос, Ленка быстро пересказала ему все, что случилось, останавливаясь, чтоб справиться со слезами.
— Дела, — задумчиво ответил Кинг, когда она замолчала, — ну не трясись, все нормально будет. Мазки же сдала? Сдала. Вот завтра и узнаешь, что там.
— Я не пойду. Туда не пойду больше.
— Здрасте пожалуйста! А кто пойдет? Я, что ли?
— Ты и иди.
Кинг оглядел ее отчаянное лицо и дрожащие губы. Ласково посоветовал:
— Не зарывайся, подруга. Еще мне истерик твоих не хватало на улице среди дня. Ладно. Беги домой, я что-нибудь придумаю. А не придумаю, сходишь и заберешь свою справку. Что? Не слышу.
— А я и не говорю, — угрюмо ответила Ленка.
— И славно. Еще ржать будем, все вместе. Потом. И скажи спасибо, за выходные, сиди пока что в хате, я позвоню. Ясно тебе?
Дождался, когда она кивнула, и отошел, окликнул спутницу, вальяжно подхватил под руку. Двинулся дальше, наклоняясь к смеющемуся личику и говоря какие-то галантности. Та пару раз оглянулась на застывшую в тени Ленку, а после перестала, кивая шуткам и расцветая улыбками.
Глава 42
Лето для радости. Всегда так было, сколько Ленка помнила годы в школе, когда лета начинаешь ждать сразу после нового года, потому что вся весна — учить билеты к экзаменам, и никакой апрель и май не в радость, ну разве что надеть, наконец, летнюю форму, юбку с блузкой, после надоевшего коричневого платья с дурацким черным передником… А потом наступал июнь, полный солнца, света, играющего бликами на синей и зеленой морской воде, полный яркого горячего песка и темной, значительной зелени акаций, что переносили любую жару. Как и девочки, южанки, умеющие с самой сильной жарой ужиться мирно, не падая в обморок на раскаленной улице и не пережидая кипящие зноем полдни в сумрачных от плотных штор комнатах. А еще июнь был полон счастливой бесконечности. Когда еще будет тот август, до него целая вечность, и ее можно провести, как положено, не откладывая летние радости, как то делали утомленные заботами взрослые.
И вот первый июнь без неумолимого школьного сентября, который маячил бы за августом. И он уже прошел. И оказался для Ленки полным нехороших забот, рвущих сердце и голову.
Но был Валька, попыталась напомнить себе Ленка, запершись в ванной и в десятый раз умывая тепловатой водой горящее лицо. Но тут же скривилась, дрожа мокрыми губами. Невозможно было его вспоминать, никак не становились эти воспоминания рядом с теми проблемами, что набросились сейчас на нее. Она снова подставила руки под тонкую струю воды и снова окунула в ладони лицо. Казалось, если думать о Панче, пока она еще ничего не знает про анализы, он услышит ее мысли и будто выпачкается в них.
«А он мне так верил. А я… Скотина я последняя… идиотка. Слов просто нет».
В кухне гремел чашками Жорик, что-то напевал, повышая голос и раскатывая его снова в низы, повторял фразы, слушая сам себя. Потом замолчал, притих, видно, слушал уже Ленку. И позвал, проходя мимо ванной в комнату:
— Эй, бейба, ты к сестре сегодня собираешься или снова вся в делах-делишках?
Ленка прикрутила кран, взяла с крючка полотенце.
— Завтра. Скажи, я приду завтра.
Вытершись, стала ждать, чтоб не столкнуться с Жориком в коридоре. Потом тихо ушла к себе и повалилась на диван, утыкая лицо в полосатую подушку. Может быть, позвонить Семачки? Ведь столько дружили, ну не совсем же она стерва, много раз выручали друг друга, когда были втроем. И не только поплакаться Ленке надо, и чтоб поддержала. Новый Кинг, о существовании которого Ленка знала заранее, теоретически, и вот увидела наяву, пугал ее так, что надо было предупредить Викусю, пусть даже она Ленку пошлет на хрен. Сначала выслушает, а после пусть посылает, решила Ленка, вставая и глядя на часы. Круглый будильник, тикая, показывал, что пока она торчала в ванной, пока до этого переодевалась и медленно ходила по комнате, собираясь с мыслями, а после валялась без сил, уже прошло время обеда, и начался еле заметный летний вечер, до него далеко, но солнце уже сделало воздух золотым.
Вот и похудею, усмехнулась Ленка мысли о пропущенном обеде. И снова скривилась, как от зубной боли. Послезавтра Валик будет ей звонить. А сандалики так и валяются, даже ремешок так же висит, подметая хвостиком пол. Такие были планы. Солнечные, летние. Радостные. Нет, нужно звонить Семачки, хоть какое-то дело, а то можно чокнуться и сдохнуть.
Телефон снова зазвонил в такт мысленному решению, и Ленка опять дернулась, испугавшись.
— Аллоу, — вальяжно пропел козлетон Жорика, — н-да, миледи дома, а кто ее… Да ладно, зову уже. Малая, тебя.
Голос стал обиженным, и после хлопнула дверь.
Ленка взяла трубку, сказала осторожно:
— Да?
И прикусила губу, услышав голос Кинга.
— Леник? Ты там как? Тоску пасешь? Короче, утром прибегай, ну скажем, к десяти, есть дело. Не боись, вечером Димон тебя домой подбросит. А шортики твои прекрасные живы? С лямочками? Их надевай.
— Я… — Ленка замолчала, нещадно ругая себя за то, что снова растерялась. Она боялась Кинга, просто боялась, но одновременно злилась на него. Пока говорил там, думала с сердитым и немного брезгливым недоумением, как он не понимает своей тупой мужской башкой, что если бы чуть больше заботы, внимания, поддельной ласки, то она относилась бы к нему по-другому, по-человечески, держась на остатках веры в то, что он привязан к ней, что она все-таки ему нравится.
— Я не могу, — мрачно ответила она, — не приду.
— Тогда Димон за тобой заедет, — бодро сообщил Кинг и закричал в сторону, — Томка, сердце мое, не жри ты водку с двух рук, тоже мне, поручик Ржевский! Купальник можешь брать, а можешь нет, все равно пляж дикий, у Ларочки там недалеко дачка, места — упасть и не встать, одни красоты. Может, фотоаппарат прихватишь?
— Поломался.
— Ну и ладно. Короче, жди Димчика. Ах да. Викусю позовешь?
Ленка молчала, услышав в голосе издевку. Кинг хохотнул в ответ на молчание.
— Ну, как знаешь, принцесса. Врозь, так врозь.
Ленка забрала телефон в комнату и повалилась на диван, решительно набирая номер Семачки.
Через десять минут они шли по району, удаляясь от пятиэтажек в переулочек, обставленный белеными частными домиками. Викочка молчала, сунув руки в кармашки джинсовой юбки и искоса поглядывая на Ленку. Та, рассказав о Рыбке и ее письме, замолчала тоже, обдумывая, как бы заговорить о Кинге.
— И все? — спросила Семачки, пиная ногой мятый кем-то потерянный мячик, тот прыгнул и укатился под розовые кусты с пониклыми от жары цветами.
— Нет. Я хотела. С тобой. Короче, Вика, ты меня выслушай, ладно? А там сама решай.
Семачки кивнула, качнув гладкими карамельными прядками вдоль конопатых скул. Ленка выдохнула и проговорила все сразу.
— Я понимаю, это может глупо, что я тебе сейчас. Но ты к Кингу правда, не лезь. Не потому что я сама хочу с ним, веришь, совсем не хочу, а просто, у них, у всех, кто там с ним, совести нет, ни на грамм. Он и меня и тебя утопит, как тех котят, и не поморщится даже. Ну что ты улыбаешься? Думаешь, ты его захомутать сможешь? Чем? Не сможешь, Викуся! А если попробуешь, он тебя просто сожрет. И после не вспомнит. Что была. У него таких как мы девок полный город. Я знаю, что ты с ним спишь. Да если бы ты и я. А кроме нас знаешь, сколько у него телок? Он мне хвалился, у него летний режим, сколько клюнут, столько и трахает! И есть в сто раз красивее, чем ты и я! Чего молчишь?
Викочка улыбнулась, показывая мелкие зубы, заправила прядку за ухо. Снова сунула руки в тесные кармашки.
— Ты, Малая, стала такая смешная. Как закрутила наверное, с малолеткой этим. Влюбленные всегда дураки. Ахаешь, охаешь. А с мужиками надо по-хитрому. И не влюбляться. Ты что думаешь, я Кинга твоего люблю? Ни граммки. Но мне такой мужик, может, никогда больше и не засветит, в жизни. Так что я собираюсь на нем и попробовать.
— Что? — поразилась Ленка, глядя на профиль и упрямо выставленный маленький подбородок, — попробовать? На нем? Он тебе, что ли, подопытный кролик? Ты вообще меня слушала или нет? А насчет триппер-дачи вы с ним уже говорили? Это как бы проба номер один, да?
— Подумаешь, — Викуся пожала острыми плечиками под любимой блузкой в горошек, — у меня там, между прочим, сеструха троюродная работает, медсестрой на практике. Я у нее все анализы сдала, проверилась. Нормально все.
— А я? — глупо, совсем по-детски спросила Ленка, пораженная тем, что ее трагедия для Викочки всего лишь «подумаешь».
— А все, Малая, — поучительно ответила Викочка, — теперь каждый сам за себя, не школа, уроки-переменки, танцы-дискотеки, вот началась жизнь, и кто как в ней может, так и устраивается.
— Ладно. Ну хорошо, ладно. Но ты мне скажи, что это — устраивается? Как ты собираешься с Кингом — устроиться? Не пойму я что-то. Ты с ним любовь хочешь крутить? А толку?
Семачки отошла к беленому забору, аккуратно села на низкую, вылощенную от старости деревянную лавку. Ленка встала напротив, но тень от нее падала на уверенное викочкино лицо и она тоже села, боком, чтоб лучше видеть загадочную усмешку, что скривила бледные губы в розовой помаде.
— Ты, Лен, точно какая-то чумная. Вот смотри, ты сколько с ним вошкаешься, ездишь катаешься, в рестораны он тебя водил, так? Мороженое ели всякое, пили вино с коктейлями. У него вообще-то денег немеряно. Это раз. А еще родители богатые, и есть дача, в три этажа. И мать его мотается в Прибалтику, не просто так, а у них там тоже квартира. Да пусть гуляет с кем хочет, Сережа ее любимый, пока холостой, ну…
— Подожди. Ты замуж, что ли, за него собралась? — пораженно догадалась Ленка, и, глядя на торжествующее викочкино лицо, засмеялась, с удивлением и неловкостью, — да ты чего, Семачки? У него была уже жена, и дочка есть, он рассказывал. И сказал, что больше не купится, ни единого разу.
— Ну-ну, он сказал, а ты и поверила. И вообще, если каждый сам за себя, я тебе больше говорить ничего не буду. И без толку. Ты, Малая, точно, по жизни неудельная. Никогда на нужное не смотришь, потому и вляпываешься постоянно. А еще учить лезешь.
— Я не лезу! Я хотела предупредить просто! Не веришь, не надо, но я сказала!
— А хочешь, поспорим, — вдруг предложила Викочка, вытягивая стройную ногу и рассматривая плетеные ремешки вокруг ступни, — что ну скажем, в сентябре, мы с ним заявление подадим, в загс.
— Офигеть, — Ленка покачала головой, — не буду я спорить. Ты хоть подумала, да как вы с ним будете жить, даже если? Хотя я ни на грош не верю.
— Боишься, что обгоню тебя, да? — покивала Викочка гладкой блестящей головой, — ясен пень, понимаю. Это тебя он использует, как прости меня, непонятно кого, а я совсем другое. Поглядишь.
Ленка встала, с горячей краской под кожей, которая, казалось, заливала даже глаза.
— Кстати, насчет кто кого и как. Он тебе просил сказать. Завтра поездочка, на дикий пляж, у какой-то там Ларочки дача, она его приглашает. А он — тебя и меня. Одинаково. Нас с тобой, понимаешь? Обеих. И сказал это мне. А не тебе, невеста.
— Подумаешь, — звонким от злости, но неуверенным голосом сказала Викочка в спину уходящей Ленке, — наверняка не так сказал. Ты специально! И вообще. И пусть, пока еще может. Гульнуть.
Она еще что-то говорила, сердито и быстро, но Ленка, морщась, пошла скорее. Было ужасно обидно, из-за этой троюродной сестры, которая могла, оказывается, взять за руку, провести где-то сбоку, чтоб все нормально, и так же после сказать о результатах. И наверняка там все в порядке, если Викочка уже проверилась и не врет, и все у нее нормально. А Ленке теперь думать, как выручать из клиники эту дурацкую справку, чтоб уже не волноваться хотя бы из-за нее. Так все странно. Выходит, их дружба длилась только потому, что они ходили в одну школу? А когда школа кончилась, то значит и все?
* * *
Дача Ларочки оказалась далеко от города, на мысу под маяком, у самого выхода в Азовское море. Когда жигуленок Димона, порыкивая, съехал на грунтовку, Ленку подбросило на переднем сиденье, и она взялась потной рукой за поручень, тоскливо оглядывая слепленные стенками лодочные гаражи, возле которых стояли машины и бегали дети, шлепая мокрыми ногами. Димон усмехнулся, сказал примиряюще:
— Да ладно тебе, ну Кинг придумает чего.
Она промолчала. Димон говорил о том, что произошло утром, когда приехал за ней, и сначала повез к поликлинике, в тот самый переулок, где Ленке надо было навестить злополучное окошечко, забрать справку с результатами анализов, если конечно, справка там есть.
Поставил машину в тени густой софоры. И выжидательно посмотрев, заглушил мотор. Ленка вышла, на непослушных ногах обреченно двинулась ко входу. И тут навстречу ей, хлопнув высокой дверью, явилась та самая врачиха, от которой она сбежала. Отвернувшись, что-то говорила еще одной женщине, а та кивала, прижимая к белому халату кипу каких-то бумаг.
Ленка зайцем отпрыгнула, с пересохшим ртом, и быстро помчалась обратно, прыгнула на сиденье, захлопывая двери.
— Ну? — сказал Димон, встряхивая соломенными волосами и поправляя воротник голубой коттоновой рубашки.
— Я не могу. А вдруг она меня сейчас… сюда.
— Сиди уже. Фамилию скажи.
Ленка с ужасом попыталась вспомнить, какую же вчера она выдумала себе фамилию. Петрова? Или Сидорова?
— Петрова. Нина Петрова! Сергеевна…
Димон вышел, еще раз оглядел себя в окне, провел пятерней по волосам и скрылся за высокими старыми дверями. Ненадолго. Через несколько минут двери открылись снова, и поворачиваясь туда, внутрь, так что Ленке через переднее стекло, залитое пятнистым от теней светом, была видна голубая спина и белые джинсы, проорал внутрь:
— Да пошла ты, корова блядь, сидишь там дрочишь.
Рявкнула пружина, треснулась о косяк дверь. Хлопнула дверь в машине.
— Поехали, — мрачно сказал спаситель, поворачивая ключ с блестящим брелоком, — заебали, проститутки, тоже мне, люди в белых халатах.
Мимо проносились столбы, деревья и люди, медленно крутили себя знакомые улицы, проехало квадратное здание автовокзала.
— Я говорю, справку дайте, сестра вчера была. А она мне, ах сестра, та самая, которую Татьяна хер не помню как, искала после обеда? А пусть сама придет, и зайдет к врачу. Я говорю, ты чего морду строишь козью? А она мне…
— Дима, погоди. Так она есть, справка? Или нет? — у Ленки похолодели и поджались пальцы ног в старых босоножках.
Димон пожал толстыми плечами, обтянутыми вытертой джинсой.
— А хер проссышь, я не понял. Да ты не думай, я ж не сразу ее, матом. Сперва культурно попросил. А она звезду с себя строит. Великая начальница, тоже мне. Я спросил, есть или нет? Чисто, чтоб сказала. А она губы поджала, шо куриную гузку. Сука. Ну, я так и сказал.
— Вот спасибо, — с отчаянием прокомментировала Ленка, — и что мне теперь?
Машина уже вырулила из жилых кварталов и неслась вдоль желтых кусков степи, которые вклинивались пустырями между городскими районами. Ленка смотрела вперед, кусая губу и ничего толком не видя. Так было страшно и казалось, да что угодно уже пусть скажут, лишь бы сказали, а тут все не просто затянулось, а вообще, как теперь и куда?
— Серега придумает, — в первый раз тогда уверенно сказал ей Димон, проезжая под свешенными ветвями старых акаций, как в зеленом туннеле, и снова выруливая на солнце, — та не боись, у него наверняка еще где концы есть.
Ленка промолчала в ответ.
И то же самое он повторил, когда проехали улочку лодочных гаражей, по грунтовке одолели рыжий холм, спустились, и в маленькой бухте открылись разнокалиберные дома, опоясанные высокими заборами.
— Там гуляем, — показал подбородком в светлой щетине Димон.
На самый край бухты, где отдельно высился солидный трехэтажный домина, недостроенный, с провалами черных окон на втором и третьем этажах.
— Круто строятся. Смотри, даже пляж у них типа свой. Прям, капиталисты.
С дороги, которая спускалась по склону холма, было видно, что в залитом бетоном дворе рядом с полосатым навесом вьется дымок над кирпичным очагом, и качается диванчик на цепках, Ленка такое только во французском кино и видела. Димон, ухмыляясь, посигналил, фигура с коричневыми плечами выпрямилась, маша им рукой, а качели закачались сильнее, показывая вытянутые женские ножки и руки на цепях.
— Она к предкам приехала, на каникулы, а они тут полгода всего, папашку поставили на заводе стройматериалов директором, перевели с какой-то жопы северной. Ну, ясно, юга, он сразу тут квартирку, то се. Нормально так упакована телка.
— Серега, значит, глаз на нее положил, — Ленка тоскливо оглянулась, прикидывая, сколько же отсюда добираться, если на автобус, до конечной наверное час пешком.
Димон снова ухмыльнулся, поведя плечами. Машину качало на рытвинах, полных засохшей глины, видно во время дождей кусками сползал обрыв.
— Дим, да мне все равно, вообще-то. Я только не пойму, если он закрутил с этой Ларочкой, нормально упакованной, с богатыми предками, я ему зачем? Не понимаю. Ну и отдыхал бы себе. А мне к сестре надо было, она на сохранении лежит. Ну чего я тут?
— Э-э-э, — с недоумением ответил Димон, искоса взглядывая на Ленку и снова на дорогу — уже разворачивал машину в тени высокого кирпичного забора, — вот блин, ты маленькая, что ли? Не врубаешь?
— Нет, — честно ответила Ленка, сидя в умолкнувшей машине, — слушай, а может, ты меня лучше отвези обратно, а? Или просто на остановку. В поселок.
Димон помолчал, потирая толстое колено, обтянутое белым, изрядно уже посеревшим коттоном. Покачал головой.
— Не могу. Серега сказал, привезти. Ну и потом, тебе ж надо, насчет врачей там. Поговори с ним. Да не ссы, обойдется все. Еще ржать будешь, рассказывать девкам своим.
Ленка передернулась. И вздохнув, поправила лямочки сарафана. Шорты, заказанные Кингом, она не стала надевать. Взяла с колен сумку, в которой полотенце и купальник, косметичка и кошелек с трояком. Помедлив, повернулась, просительно улыбаясь собеседнику.
— Димочка. Ну давай тогда так. Я поговорю. С Кингом. И если что, пожалуйста, подкинешь меня? Тихонько просто отвези, по-быстрому. А им скажешь, что психанула и ушла. Пешком.
Широкое лицо с блестящими щеками, покрытыми тоже блестящей соломенной щетиной поплыло в усмешке. Димон кивнул, перенес руку со своего колена на ленкино и похлопал ободряюще:
— Не ссы, Ленчик. Прорвемся. Я тебя не брошу.
— Спасибо тебе.
Кинг шел навстречу, улыбался празднично, разводя сильные загорелые руки.
— Леник, котик-дискотик, приехала, радость моя! Ну иди сюда, иди целоваться. Ларочка, котенок, иди знакомиться! Вот Ленка-дискотеччица, супер-блондиночка, смотри, у нас какая пара — Димыч франуз, и Леник полярный медведик.
— Привет, — Ленка скованно отступила, и Кинг отпустил ее, улыбаясь с заботой.
Ларочка оказалась той самой девушкой в модном платье-сафари, которую Кинг вел в городе под руку. Ленке она улыбнулась, как хорошей знакомой и сразу же начала что-то беззаботное рассказывать, смеясь и постоянно оглядываясь на Кинга, светя ему радостными темными глазами в накрашенных ресницах. Она была в купальнике, ослепительной красоты бикини в леопардовые пятнышки и поверх него наверченном прозрачном покрывале. Парео, вспомнила Ленка, неловко поводя плечами с падающими лямками сарафана, в истрепанном каталоге, который приносила на уроки Олеся, были такие же прозрачные штуки, в них девушки-фотомодели сидела за столиками летних кафе, осененных перистыми листьями пальм, и пили коктейли через трубочки.
— Пойдем, — Ларочка подхватила Ленку под руку, — я покажу, где вещи и переодеться, а мальчики пока пусть занимаются тут. Шашлыком. Сережа сказал, тут рыбаки и можно у них купить обалденной рыбы. Я ему говорю, у нас форель, и горбуша, а Сережа смеется. Сказал какая-то, лоса, или как там. Лосики, что ли. А еще краснюк. Это красная рыба, да? Смешно как называется, краснюк.
— Глосики, — ответила Ленка, увлекаясь следом по ступенькам в просторную комнату, полную каких-то соломенных кресел и длинных диванов без спинок, а вместо стены — огромное окно с раскрытыми створками.
— Это камбала такая, называется глосики, мелкая.
Ларочка остановилась, удивленно хлопая длинными ресницами, округлила глаза, блестящие как темные каштаны.
— В первый раз слышу, мелкая камбала. У вас тут интересно. Я раньше только в Ялту ездила, с мамой, и всякие лагеря, типа Артека, по Южному берегу. А тут все другое. Снимай сарафан, вот тут положи. Купальник надевай. Тебе крем дать?
— Какой крем? — Ленка встала за кресло, чтоб ее не было видно в открытое окно.
— Защитный, — удивилась Ларочка, — хотя да, ты уже загорелая такая, но все равно, будем же весь день на солнце. А еще у нас катер. Сережа сказал, умеет. Я ведь маме сказала, что поехала с девочками, в гости. А папа в командировке.
Она засмеялась, блестя глазами и оглядываясь на распахнутое окно, где время от времени высокая фигура Кинга появлялась и через несколько шагов исчезала на другой стороне двора. И все повторяла через каждое слово «Сережа». Сережа то и Сережа это…
Как я говорю про Валика, печально подумала Ленка, завязывая на спине веревочки лифчика, она так про Кинга, она совсем в него влюбилась. И поэтому ее жалко. Но хорошо, что так. Может быть, Кинг тоже влюбится и все у них будет нормально, и Ленке не придется с ним объясняться насчет отношений.
— Ой, — спохватилась Ларочка, замахала тонкой рукой в каких-то ажурных браслетиках, — пойдем наверх, я тебе покажу, где моя будет комната, когда доделают дом, и заберем оттуда магнитофон, шнур в окно бросим, чтоб музыка. А ты где учишься? В Керчи или куда уехала?
— Я… — Ленка шла следом, ступая по пыльной бетонной крошке на ступенях, трогала рукой такие же пыльные перила, — я закончила вот. Поступать буду в следующем.
— Я на экономическом учусь, — щебетала Ларочка, мелькая светлыми пятками под колыханием прозрачной ткани, — в Питере, ну в Ленинграде. Второй курс. А ты значит, младше меня. Сережа сказал, соседка. Что вы с ним с детства знакомы почти. Вот, наверное, прикольно, ты в магазин, а он на велике, такой уже парень, да? А ты мимо — девочка, косички. Ты носила косички? У тебя волосы такие красивые. У меня тоже вьются, но я выпрямляю, чтоб как индианка. Мне нравится. Только нужно загореть, а придумала, пока там жарится все, мы с тобой спрячемся за домом, там шезлонги, и позагораем голые, хочешь?
— Я не знаю, — Ленка вошла в комнату на третьем этаже, ошеломленно оглядываясь на кирпичные стены, увешанные картинками и чеканками, на скамейку вдоль стены, и подушки на ней, и снова — окно, от самого пола, и за ним длинная плоскость балкона, с ажурной черной решеткой.
— Правда, будет хорошо? — Ларочка вышла на балкон, облокотилась, заглядывая вниз, и конечно же, окликнула Кинга, просто так, помахала рукой и засмеялась.
— Я папе сказала, что хочу на самом верху, а он спорил, потому что первый этаж и второй с отоплением, и еще будет камин, большой, а у меня получается, только летом. Ну и что, зато как все видно, и корабли. Смотри, красота какая, они будто летают, да?
Ленка встала в дверном проеме. Пришла тоска и устроилась рядом с ней, как черная тень, угловатая, с колючими локтями. Ларочка была, похоже, просто хорошей девочкой, очень симпатичной, хотя не самой великой красавицей, — пока болтала, Ленка успела ее тайком рассмотреть, немного ревниво, и отметила слишком крупные зубы и россыпь мелких прыщиков на широких скулах. Но так хорошо улыбалась, и так по-доброму общалась с Ленкой, ни капли не задаваясь, а могла бы, вон какой домина, и катер, и всякие модные тряпки…
— Очень красиво, — сказала Ленка и Ларочка засветилась улыбкой, толкнула ее горячим от солнца плечом.
— Смотри, Сережа нам машет, смешной такой, с шампуром. Пойдем, там все готово уже. И вино хорошее, я у папы стибрила три бутылки, и еще коньяк, ну это мальчики привезли. Если напьемся, то заночуем, да?
Она уже бежала вниз, зеленый подол летел следом и Ленка не стала возражать, да пусть думает. Сейчас они выпьют, она поговорит с Кингом и потом Димон ее увезет. И хорошо. Правда, дальше совсем непонятно, что, но отсюда надо тихонько смыться.
Выходя на солнце, она с удивлением поняла, что теперь ее тревожит еще и Ларочка, уж очень та была влюблена, а вдруг она совсем не знает, какой Кинг козел, и получается, вляпается так же, как вляпалась Ленка. Что там говорила Рыбка про сестру милосердия? Выходит, так оно и есть! Девчонка совсем незнакомая, а Ленка уже готова нянчиться с ней, спасать. Себя бы лучше спасала и головой думала.
Садясь в податливое плетеное кресло на мягчайшую полотняную подушку Ленка вдруг поняла, что она ужасно устала. От мыслей, страхов, от всех событий последних нескольких дней, от мрачных предчувствий и воображаемых бесконечных последствий своих дурацких поступков и вообще… Впереди сплошной туман и смотреть туда не стало сил.
Потому она послушно приняла высокий бокал, до краев налитый вином, таким холодным, что он, покрытый испариной, выскальзывал из пальцев, и выглотала половину сразу, а после медленно допила, кивая и улыбаясь в ответ на болтовню Ларочки.
Глава 43
Темнота была такой полной, что казалось, все вокруг плоское, как черная бумага, и Ленка боялась вытянуть руку, чтоб не уткнуться пальцами в это сушеное страшное, совсем черное, на котором сбоку выше ее лица были нарисованы какие-то белесые точки.
Приваливаясь спиной к чему-то ужасно неудобному, что собирало складками на спине сарафан, она обхватила руками коленки и сильно закусила нижнюю губу, закрывая глаза, чтоб нарисованные по черной бумаге пятна не качались, а то приходила злая тошнота. И было очень страшно.
Пятна становились больше, прыгали и крутились. И наконец, заполнили Ленке глаза, она удивилась, дрожа, они ведь закрыты, так сильно, что болят веки. В уши полез, громыхая и кусаясь, крик, она не поняла, что кричат и кто, но вдруг голос резко ударил совсем рядом, одновременно дергая локти и плечи.
— Тут она! Та блядь же…
Ленка тоже закричала, валясь на бок и стараясь вывернуться и уползти, но локти сошлись за спиной, неудобно, она рвалась, скалясь и поворачивая лицо, дергала головой, пытаясь что-нибудь разглядеть через спутанную сетку волос, но там был только слепящий свет, шум и черные тени поперек, двигались.
— Ты чего? — заорал кто-то снова в самое ухо, — вот жеж, да хватит!
Ноги повисли, не находя земли, колено толкалось во что-то твердое, царапалось, но боли не было, совсем. И наконец, Ленка устала, внезапно, будто ее выключили. Обмякла и, роняя на плечо голову, заплакала в голос, подвывая и давясь слезами.
— Фу, — сказал голос в ухо, — соплями измацала, епт же.
Ленка снова дернулась, шмыгая, сумела ответить, хрипло, срываясь голосом в писк:
— Сама. Я сама. Уйди!
Ее поставили, она взмахнула руками, цепляясь и оседая на слабых коленях. Через свет приблизилась чья-то черная голова, голос Кинга сказал с раздраженной заботой:
— Оклемалась? Ну, ты заяц, Леник-Оленик. Какого черта побежала? Еле нашли, в такой темноте.
— Время. Сколько? Времени?
Ее затрясло, когда, водя по сторонам глазами, цепляя взглядом машину с яркими фарами и темноту вокруг, а из темноты мирный плеск воды, поняла — это ночь. Нет фонарей, и рядом море, а дома ее ждут, она не попала к Светище, и там мама не знает, куда она делась.
— Двенадцать, — голос Димона прозвучал из распахнутой дверцы, — блин, всю рубашку мне. Какого нажралась, спрашивается.
— Не скавчи, Димчик, ну с кем не бывает.
— Домой. Мне надо домой. Я хочу домой.
Она снова заплакала и тут же перестала, потому что нужно было срочно что-то решать, а слезы мешают. И еще очень сильно тошнит. Дернувшись из рук Кинга, она отступила, босыми ногами по сухим комкам глины на обочине, оперлась рукой о бетонный забор, нагибаясь. И ее вырвало под ноги, брызгая на пальцы теплой жижей.
— Живая? — спросил от машины Кинг, — тебя там подержать, несчастье?
— Не надо, — Ленка покачивалась, вытирая рот тыльной стороной ладони, — домой, мне домой.
— Ага, — Кинг засмеялся, — куда тебе домой, ты погляди на себя. Всех там перепугаешь, до смерти. В угол поставят. На гречку. Сладкого не дадут. Поехали. Выспишься, утром кофейку, пожрешь чего, почистишься. И тогда поедешь.
Ленка затрясла головой. Он не понимает. Мама там наверняка уже обзвонила милицию, больницы и морг, она всегда так говорит, когда Ленка опаздывает — «я уже все больницы обзвонила! Искала тебя!». И до утра будет сидеть в кухне, плакать, звонить. Ленка на этот раз прекрасно ее понимает.
— Мать будет искать, да? Садись, сейчас придумаем чего. Садись, сказал!
В его голосе уже не было заботы, одно раздражение и злость. Ленка оторвалась от забора и подошла, села боком на заднее сиденье, выпрямилась, сводя глаза, а они разъезжались, кося в разные стороны.
Кинг помолчал, стоя рядом, задрал голову, покачиваясь на носках.
— Небо какое, а? В городе такого нету. Ты, ихтиандр недоделанный, ты чего с катера в воду прыгнула? А если бы потонула? Тоже мне, великий ныряльщик.
— Я? — Ленка в ужасе попыталась вспомнить, но даже кусков и отрывков не было, вообще ничего, кроме мокрого бокала с красной лужицей на донышке. Такого холодного, что немели пальцы. Всего один бокал. Нет… Не один.
Память медленно ворочалась, просыпаясь, крутилась, лениво показывая. Рюмочка с желтым, а еще Димон, улыбаясь крупными неровными зубами, крутит на горлышке бутылки с блестящей импортной этикеткой пробку. И после наливает что-то белое, злое вкусом. А Ленка смеется, подставляя почему-то фарфоровую чашечку.
— Так, — решил Кинг, подталкивая ее в машину и захлопывая дверцу, сам уселся вперед, повернулся, — берем Ларочку, и гоним на гаражи, у сторожа там телефон. Позвонишь, Ларочка скажет, что ты в гостях, у подружки. Ясно? Как маму зовут? Алла Дмитриевна? Отлично. Не ссы, Леник, все будет путем.
— Я в город не поеду щас, — словно проснулся недовольный Димон, — еще менты остановят, ну и бензина на раз вернуться.
— Именно, — кивнул Кинг, — так что сиди, Малая. Сейчас отмажем тебя.
Через пятнадцать минут они стояли в сторожке, толпясь у захламленного подоконника, Ленка держала в потной руке трубку. В распахнутой двери сторож, низенький и квадратный, подпирал косяк, дымя папиросой наружу и отмахивая рукой комаров, слушал, ухмыляясь.
— Какая еще девочка? — кричала из трубки мама, — ты совсем с ума сошла, да? Мало мне Светочки, дите лежит там, ждет, когда ты ей, передачку, а ты хвостом вертанула. И не подумала, как я тут? Да я все больницы уже!..
— Это Инна, мам, — хрипло сказала Ленка, краснея, — наша Инночка Кротова, она уезжает скоро, насовсем. Ну так получилось, извини.
— Дай, — шепотом сказала Ларочка, отнимая у Ленки трубку, — алло? Алла Дмитриевна, ну простите, так вышло. Я сама в шоке. Такое легкое вино, наше домашнее, из винограда, слабенькое, и выпили немного совсем. И как заснули! Маму? А она ушла на дежурство. В ночь. Вот папа, я ему сейчас.
Ленка отступила, поникая головой, Кинг перехватил трубку.
— Алла Дмитриевна? — в голосе Кинга появились вальяжные, совсем взрослые нотки, — да, да. Ну что вы! Я бы отвез, да мой жигуль в ремонте, куда отпускать девчонок ночью. Не волнуйтесь. Да. Да. Спокойной ночи. Сейчас я Леночку.
— Лена, — дрожащим, но уже спокойным голосом проговорила мама, — ну почему сразу не сказать, что все хорошо, что там у вас взрослые, и вы дома. Я могу теперь спокойно лечь. И смотри, постарайся вернуться утром, а не под вечер. А то я тебя знаю.
Обратно доехали быстро, прыгая по колдобинам под сдавленную ругань Димона. Ленка сидела в углу у самой дверцы, молчала, отчаянно пытаясь восстановить события, и тайком щупала сарафан на бедре, отыскивая под ним завязки купальника, а те никак не находились. Иногда ее толкала коленка Кинга, он сидел, отвернувшись, шепотом что-то рассказывал Ларочке, та смеялась на переднем сиденье, зевала, звеня ключами. У ворот выскочил, помогая открыть тяжелые створки. Скомандовал:
— Начнем веселиться по-взрослому. Димон, загоняй своего коня. Ларочка, ты как? Выспалась немножко? Ленке кофе и коньячка, чтоб выздоровела окончательно.
Мокрый купальник висел на веранде, свесив еле видные в полумраке шнурки завязок, и Ленка снова тоскливо захотела домой, куда до утра никак уже не попасть. Ларочка, улыбаясь, прошла мимо, трогая ее локоть.
— Пойдем, я тебе дам парео, а сарафан надо тоже повесить, пусть проветривается. Ну, тебя развезло, я испугалась прямо. Когда вы с Димоном кинулись голые купаться, думала, а вдруг потонете. Или ты потонешь. Ты ныряла прям так глубоко. Сережа волновался. За тебя. Снимай сарафан. Я думала, поспим немного, час-два, а тут Сережа прибегает, кричит, Ленка сбежала! И они поехали. Хорошо ты недалеко. Вот, держи. Тут надо завернуть, тогда не упадет. Иди сюда.
Она подвела Ленку к зеркалу, сбоку светила тусклая лампочка, торчала из стены, голая. Ленка, глядя на свои плечи и затянутую полупрозрачной синей тканью грудь, снова попыталась вспомнить: купалась, голая, с Димоном. Какой кошмар. А что еще было? Пока ее купальник сушился на веранде? Может, убежала совсем не просто так? Спросить у Ларочки? Или не позориться, признаваясь, что не помнит?
Ларочкино отражение в зеркале потянулось, закидывая над головой голые руки, колыхнулась затянутая на груди зеленая прозрачная ткань, показывая темные соски.
— Было та-ак здорово! Я тоже поднапилась, Сережа меня на руках унес наверх, уложил, поцеловал, как маленькую, в щеку, говорит, спи малыш. А вы с Димоном там ругались внизу. Ты сперва смеялась, потом стала кричать на него. Потом снова смеялись. И Сережа там с вами смеялся, а я уже засыпала совсем. Хотела к вам спуститься. Но спала-а-а. Ты как? Отошла немножко? Не тошнит?
— Нет, — голос был хриплым, и Ленка прокашлялась, повторила, — нет, нормально.
Ларочка кивнула, поправляя волосы.
— Тогда пойдем, мальчики сосиски жарят, на очаге. Посидим, поболтаем. Такое небо, звезды. В городе такого нет.
Качели-диванчик поскрипывали, натянутая цепь холодила руку толстыми уверенными звеньями. Ленка сидела, держась, а в другой руке — кружка, до половины налитая черным горячим кофе. Ларочка толкалась ногой, и диванчик плавно уезжал назад, кружка наклонялась. Ленка подносила ее ко рту, прихлебывая. В кофе был еще и коньяк, немного, Кинг плеснул, показывая, мол, совсем чуть-чуть. И теперь, как ни странно, тошнота прошла, осталась лишь тяжесть в висках, но и она уходила с каждым глотком. Вместо нее наплывала из верхней, над огнем, темноты, полной небесных звезд, тихая и покорная грусть. Вот настала суббота, думала Ленка. Отпивала глоток сладкого, ласково плывущего по языку напитка. И сегодня ей будет звонить Валька. Валик Панч, ее ангел, а она не сумела. С самого начала не сумела стать маленькой Малой для своего ангела, которого сама нашла, сама полюбила, и сама заставила быть не только братом. Назначила своим ангелом, и будто этим пообещала ему, что они навсегда вместе. Но вместо этого пустилась во все тяжкие, так пишут в книгах. Тяжкие… И каждый поступок уносит ее дальше и дальше от смешного и прекрасного пацана, которому она в подметки не годится. И началось все с того, что она не поверила ему. Не выдержала. А поверила сперва козлу доктору Гене, потом Пашке Саничу, потом Кингу. Когда спохватилась, пыталась что-то повернуть, притвориться, что ничего нет. Не было. Но выходит, что так нельзя. Не получается. А получается совсем другое, — она делает шаг, и снова куда-то в грязь, еще шаг и увязает все глубже.
— Там есть даже гостиницы специальные. Каждый номер, типа такой, как в театре. Заходишь, а там типа автобус, и телки стоят. Можно встать сзади, потереться спиной там, ну и дальше хуе-мое. Ларочка, сорри… В другом канаты, веревки всякие. Типа привел миледи и вяжешь ее, как окорок. Крюки всякие, чтоб подвесить. Фотографа можно заказать, типа фото с медового месяца. Не проститутки, а чисто для всех такое.
— Вот это японцы, — Кинг засмеялся, поворошил в очаге, искры бросились вверх, прикидываясь звездами, но стали гаснуть, не долетев, — где ж ты насмотрелся такого, Димчик?
— Думаешь, вру? — обиделся тот, кусая горячую сосиску, — черт, язык спалил, это у Шошана кореш в рейс пошел, привез журнальчик, там такое, опизденеть. Кореш английский знает, переводил нам под картинками. Ну и без перевода там все круто.
— И много у него таких журнальчиков? Продать не хочет? Ты нас сведи, я с ним побазарю. Вяжут девочек, как докторскую колбасу? Я бы попробовал.
— Сережа!
— Шучу, котеночек, шучу, Ларочка, но когда мы с тобой распишемся, я у Димона такую инструкцию попетаю. Тогда согласишься?
— Сережа! А между прочим, у меня тоже такие журналы есть. Я нашла, где папка прячет. Только там никакие не медовые молодожены, а другое. Смотреть страшно.
Ларочка засмеялась. Кинг встал, подошел, придерживая чашки, налил девочкам коньяку. Кивнул Ленке, с заботой следя, как она покорно выпила, опуская пустую чашку на колени. Сунул в руку вилку с наколотой сосиской.
— И далеко? А вдруг здесь? Ты смеешься. А-а-а, я понял, они тут! Ну-ка, рассказывай. Будем смотреть.
Ларочка смеялась все громче, повторяла, вертясь на руках Кинга и обнимая его за шею:
— Пусти! Ну, Сережа, ну, какой ты! Пусти. Щекотно! Они там, в комнате. Я сама пойду. Хорошо, не урони только.
Диванчик на цепях проскрипел и остановился. Ленка подняла голову, сжимая в руках пустую чашку. Димон стоял напротив, закрывая угасающие блики в очаге. Смутно светила распахнутая рубашка и над ней выше — светлые спутанные волосы.
— Ленчик, — нагнулся, дыша коньяком и сигаретами, положил руку ей на колено, — лапочка, нам с тобой тоже пора. Пошли, детка, в постельку, нам еще поспать надо успеть, а не только поебаться.
— С тобой? — ошеломленно спросила Ленка, спихивая его руку и подбирая ноги плотнее к краю диванчика.
Настало молчание, в котором из дома слышался Ларочкин смех и невнятный уверенный баритон Кинга.
— Вот блядь, — Димон выпрямился, взлохматил волосы и снова нагнулся, на этот раз крепко беря Ленкины плечи, — я хуею, Малая, с тебя. А с кем? С дядей Васей, что ли?
— Пусти! Я кричать. Я закричу сейчас!
— Ага! — Димон навалился сильнее, обхватывая ее, пыхтя, зарычал в ухо, стаскивая с качающегося дивана, — ты заебала мозги крутить. А кто меня лапал, в воде, а? Кто жопой сверкал, ныряльщица хуева? Ты вообще почему ехала? Со мной? Я тебя вез! Потом нянчил, когда рыгала тут и в истерике билась. Еще ездил, машину бил по буеракам. А ты динамишь, значит? А ну встала быстро! Пошла в дом, я кому сказал!
За его спиной тускло светили остатки костра в кокетливом очаге, аккуратно выложенном из ровных оранжевых кирпичей, и неяркий свет очерчивал плотную фигуру, ссутуленные плечи, над которыми — острые тени лохматых волос. А лица не стало видно совсем, только взблескивали при каждом фразе глаза и зубы, будто зверь — скалится, обнажая десны.
Зверь… Ленка отчаянно собирала скачущие мысли, но времени не было, совсем. Закричать? Рвануться. А было, только что было. А что еще…
Она опустила лицо, закрыла его руками. Перестала глядеть на то, что маячило перед ней в темноте, закрывая мир и звезды. И замерла, не говоря ничего.
— Ну? — с угрозой сказал Димон, встряхивая ее плечи.
— Сейчас, — медленно ответила она, — Димочка, сейчас. Подожди.
— Ну… — он отпустил ее, свешивая руки.
Откуда-то с другого края бухточки пиликала негромкая музыка, и время от времени бархатным невнятным голосом что-то вещал диктор.
Ленка убрала руки, ясно взглядывая в темноту, обрисованную светом.
— Я же. Я его люблю, понимаешь? Дурака этого. Вот и дура полная, кинулась, приехала. А он.
— Мн-э… — Димон выпрямился.
Ленка помолчала, с ужасом ожидая, что раскричится, или снова начнет дергать ее за плечи, хотела добавить еще чего-то, но по какому-то женскому наитию молчала, сидя каменно и неподвижно. С кем-то другим, да с тем же Кингом, этот разговор был бы смешным и жалким, беспомощным. Но не зря же она ездила с Димоном в машине десятки раз, слушая его пошлые грубости, такие намеренно вызывающие.
— Погодь. Лен. Ну я думал, ты просто. С нами.
Ленка скорбно усмехнулась, обхватывая свои плечи, будто замерзла.
— Дим. Целый год мы знакомы. Ты же сто раз со мной общался. Скажи, я просто? Вот подумай, ты же умный, я блин гордилась всю дорогу, что с тобой знакома, что у меня такой друг.
— Да? — Димон явно приятно удивился.
— Конечно! Если бы чисто-просто встречаться, койка там, а у нас не было ничего, потому я могу, про тебя… — Ленка поняла, что сейчас запутается и сразу перескочила на другое, — умный, — повторила с нажимом.
И снова спросила:
— Разве было похоже, чтоб я, как другие вот?
— Нет, — задумчиво согласился Димон, — меня знаешь, сколько раз за яйца хватали, Серега с тачки, а она такая вся, Димочка, Димочка… такие все, — тут же поправился он, переводя единственное число во множественное.
— Да, — кивала Ленка в такт, не особенно веря в его рассказ, — еще бы, конечно, да. Ну вот, а я нет. А тут. Если бы Сережа с Ларочкой, как со всеми. Но ты сам видишь…
Диванчик тяжко заскрипел, подаваясь назад. Димон поворочался, удобнее садясь и толкая землю ногой.
— Я честно думал, что ты поехала со мной жеж. Типа мы вместе, хуе-мое, в больничку ж поехали, чтоб выручить тебя.
Ленка вздохнула. Диванчик качался, задумчиво, и ей сбоку виден был картофельный нос и большой подбородок в светлой щетине, а после все исчезало в тени. Потом вместо носа выплыло повернутое к Ленке широкое лицо.
— Ну я тебе вот что скажу. На самом деле Серый ее не любит, видала, как она прикинута вся? Он ржет, женюсь, Ларочка. Может и женится. Но чтоб она была одна у него, та то вряд. Но я тебе ничего не говорил, ясно?
Ленка закивала с готовностью. Ее подташнивало от напряжения и от выпитого коньяка, но радовало то, что серьезная опасность отступила, и теперь нужно просто стараться, чтоб Димона не кинуло в душевные разговоры, которые могут закончиться снова приставаниями. Но он, вроде бы, не в лоскуты пьян, а значит, пока Ленка говорит, она с ним справится.
— Он к тебе тоже. Ну не так, как с блядями всякими, — благородно сообщил Димон, — базар то одно, сказать, бывает, скажет. Но все равно.
— Поспать бы, — пожаловалась Ленка, — совсем я устала. И грустно. Понимаешь, да?
— Слушай, — после паузы оживился Димон, — я вот чо… короче, а давай приколемся, типа ты все же моя телка, стала. Пусть Серый поревнует. Я тебе зуб даю, он разозлится, если увидит, что у нас все чики-пики и тебе понравилось. А?
Ленка помолчала, обдумывая. Ее измученной голове план Димона понравился. Оказывается, Кинг пригласил ее для своего дружка, специально, возьми, значит, Боже, что мне негоже. Противно и бесит. Сам носит Ларочку на руках и сейчас там спит с ней в комнате, увешанной дурацкими картиночками, с балконом на море. А Ленку бросил, чтоб легла с его водилой, внизу. Больше ведь негде. Действительно, она полная дура. Но раз так, пусть и получит, что хотел.
— Дим, но ты мне пообещай, что не станешь. Приставать. Мне совсем плохо. Понимаешь?
— Дурак я, что ли, — слегка обиделся Димон, — ну чо, я ж человек. Можно и по-человечески, иногда.
— Спасибо тебе. Правда, спасибо.
Он сполз с качелей, подавая Ленке руку, помог подняться. И повел в дом, уже увлекаясь мыслью, об их общей интриге. Зашептал, в полумраке водя рукой и нащупывая дорогу к широкой тахте, приткнувшейся у стены.
— Короче, завалимся, типа устали, дрыхнем. Пусть поглядит. Утром ты смотри, ну там разок поцелуемся, чтоб видел. Вот поглядишь, обозлится.
«Ой ли» подумала Ленка, валясь на тахту и устраиваясь с внешней ее стороны, ну ладно, и правда, поглядим, заодно и узнаешь, Ленка Малая, кто ты была для великолепного Сережи Кинга. Заревнует, сам захотел. А если обрадуется, то снова хорошо, значит, с Димоном секретно договорятся, ах, не вышло, пока-пока, мальчики, у вас своя жизнь, а у меня своя.
— Ленчик, — невидимый у стены Димон нашарил ее руку, сжал, проводя пальцем по запястью, — а может ну его, так хорошо лежим.
— Димочка, ты ж обещал. Давай спать.
— Ладно, — неожиданно мирно согласился тот и через несколько секунд захрапел, переглатывая и ударив Ленку по плечу уже спящей, непослушной рукой. Она отодвинулась на самый край, туже стягивая на груди тонкое покрывало, закрыла глаза, желая, чтоб утро наступило скорее, и боясь его, наполненного безжалостным дневным светом — надо будет смотреть на всех, а еще ехать, и после говорить с мамой. И оглохнуть, когда к вечеру зазвонит телефон, потому что куда ей теперь, с ангелом Валькой, после ночи на Ларочкиной даче с двумя мужчинами, с одним был секс, а с другим она спит в одной постели.
Мысль о Панче была такой острой, что у Ленки закончилось дыхание, несколько мгновений она лежала, раскрывая рот, как рыба, и после устала так, будто плакала несколько дней, и внутри все стало пустым, выплаканным до синяков на душе. С этой пустотой она приготовилась ждать утра, глядя в высокий белый потолок широко раскрытыми глазами, и заснула, сведя брови и скривив губы в болезненной гримаске.
Глава 44
Ленке снилась бухта, полная розовых ракушек, их выносила на гальку сверкающая вода. Они с Панчем бегали, оскальзываясь на круглых вертких камушках, собирали разбитые морем пузатенькие раковины с ажурными дырами на алых блестящих бочках. А потом поднимали вверх руки, свешивая с пальцев ожерелья ажурных раковин, смеялись, когда те звенели, ударяясь друг о друга. По лицу Панча бежали нежные алые блики, и он был таким красивым, с черной витой прядкой, что свешивалась вдоль скулы, змейкой ложась на шею.
Ленка смеялась, потому что они вместе, и никогда не расстанутся, и он так хорошо и вольно дышит, без всяких злых хрипов, а даже если что и будет, она обязательно позаботится о своем Вальке, ведь обворожительная Вероника научила ее, и как хорошо, что доктор Гена тогда позвонил и все узнал. Пусть позвонит еще, расскажет Веронике, что Ленка хорошая, просто немного запуталась, Вероника, конечно, поймет, и передаст послание Панчу, чтоб он просто чуть-чуть подождал, не обижался и не расстраивался.
Солнце сверкало на сверкающей воде, летали от раковинных ожерелий нежные блики, прыгая по круглым камешкам. И все оказалось просто, все решилось, и Ленка, смеясь, почти плакала от облегчения и счастья. Как хорошо, что все позади.
С моря пришел, становясь все громче, треск лодочного мотора, перебился шагами и громкими голосами. И Ленка, открывая глаза, выпала из сна, неумолимо и быстро, скривилась, отчаянно желая остаться там, не просыпаясь в пришедшее утро. Но шаги звучали совсем рядом, казалось, это уверенно ходит солнце, стукая безжалостными лучами, чтоб доказать — ночь прошла, наступил новый день. А сон остался в ночи, и цепляй его пальцами или хватай руками, тоже утекает в прошлое.
— Ого, — в голосе над ее головой было удивление и показалось или нет, раздраженная досада, — нормально вы спелись, сладкая парочка. Ну что, валяться будете, или выйдете с нами кофе пить? Димон! Димон, епт, я с тобой говорю!
Ленка открыла глаза, натягивая к подбородку сбитую простыню. Посмотрела на Кинга поверх руки Димона, которая лежала на ее груди. Моргнула, боясь поворачиваться, чтоб увидеть, как там ее новоиспеченный кавалер. Димон кашлянул, пробормотал что-то, резко убирая руку, повернулся и сел, тряся головой. Посмотрел на Ленку мутными, совсем еще сонными глазами и бухнулся снова, навзничь.
— Придем, — пообещал хриплым голосом, — вы там это. Чайник там. А мы щас.
— Ну-ну, — с неопределенным выражением ответил Кинг, и ушел, сильно ступая по деревянным половицам. В утреннем пустом дворе закричал вверх:
— Ларочка, сердце мое, давай вниз мухой. А то мне одному тут скучно.
В бухте каталась моторка, выла и умолкала, после снова взревывала, и оттуда слышался женский смех и мужские голоса. Что-то щебетала Ларочка, спускаясь по лестнице и выходя мимо распахнутых дверей сразу во двор.
Ленка повернулась, натыкаясь взглядом на блестящие светлые глаза, которые следили за ней.
— Не ссы, — шепотом сказал Димон, — щас Серый еще заглянет, точно. Я его вижу, ходит там. О!
Он придвинулся, облапив Ленку поверх простыни, навалился, тыкаясь губами куда-то в шею. Она напряглась, незаметно удерживая тяжелое тело, чтоб не придавливал грудь.
— Может, хватит уже кувыркаться? — в голосе Кинга, который встал в распахнутых дверях, уже явно звучало раздражение, — я вам кухарка, что ли? Молодожены, едит твою. Леник, ты бы умылась, а то после вчерашнего…
Ленка села. И свирепея от злости, светленько улыбнулась, обнимая Димона за толстую шею.
— Встаем, Сережа. Сейчас выйдем.
Через час ехали обратно, Ленка сидела впереди, Димон насвистывал, поворачивался, подмигивая ей и скалясь, иногда хватал за шею, пригибая к себе Ленкину голову. И тогда с заднего сиденья раздавался недовольный голос Кинга, с советами смотреть на дорогу, а не заниматься херней. Ларочка, ойкая, щебетала и смеялась. Ленка не оглядывалась, кивала, поправляя волосы. И недоумевала, новая подружка Кинга совсем не понимает, что происходит? И как ей утренний прекрасный Сережа, который ведет себя будто какая-то старая грымза, неужто нравится?
— Серый, — спросил Димон, уже проезжая городскими улицами, — вас с Лориком где высадить? У твоей хаты?
Он еще говорил, а Кинг уже перебил, отвечая:
— Ларочку завезем, прости, котенок, у меня куча дел сегодня. Нас с Леником выкинешь у домов, ясно?
— А мы… — начал было Димон, но Кинг снова перебил, повторив уже сказанное.
Ленка слушала с удивленной злостью. Вот значит, как. Сперва он ее зазывает подружкой для своего Димчика, а когда они прикинулись, что все у них хорошо, бесится, не скрывая этого. А еще говорят, что бабы склочные и ехидные, а вот куды там, благородные мужики, да хуже любых истеричных барышень.
У дома Кинга Ленка вылезла из машины, кивнула, собираясь уходить, но Кинг жестом остановил ее. Сунулся в машину, вполголоса что-то говоря, и после Димон, хмуря светлые брови, кивнул и уехал, дергая машину без всякой надобности.
— Зайдем, — бросил Кинг Ленке, направляясь к подъезду.
— Нет, — сказала она в широкую спину.
Кинг медленно повернулся, поднял брови, разыгрывая высокомерное удивление.
— Я не понял, Леник? Что за херня?
Ленка пожала плечами. Тоже сделала удивленное лицо.
— Я же теперь, как бы девушка Димы. Разве нет?
— Да ну? — Кинг сунул большие пальцы в кармашки джинсов, покачался с носков на пятки, ухмыльнулся, рассматривая ее, — как-то слишком быстро ты, того на этого. Променяла меня, в смысле.
— Ты сам захотел, — Ленка постаралась говорить ровным голосом, следя, чтоб не дрогнул от злости и обиды, — я пойду, у меня тоже дела.
— Ко мне пойдем, — решил Кинг, поворачиваясь и делая шаг в подъезд.
Из кустов вышел кот, облезлый и гордый, воздел хвост, и, пройдя между ними, скрылся в густой листве.
— Зачем? — Ленка на самом деле удивилась, а еще была слишком уставшей, чтоб думать, просто стояла, не двигаясь.
Через секунду Кинг оказался рядом, взял цепко за руку, сдавливая запястье, сильно потянул за собой. Темные брови сошлись на переносице, а ноздри горбатого крупного носа раздувались.
И вдруг позади них раздался знакомый голос.
— Сережа! — Викочка Семки возникла, обойдя Ленку, встала перед Кингом, будто он тут один.
— Сережа! А я звонила тебе, звонила. У меня разговор, важный. Ты же обещал, помнишь?
Ленка осторожно высвободила руку. Шагнула в сторону и пошла, все быстрее, а за спиной негромко что-то говорила бывшая подружка, и Кинг нехотя отвечал.
Двери ей открыла сестра, придерживая рукой живот, кивнула:
— Нагулялась, Мала-мала? Мать тут весь корвалол выглотала, полночи, говорят, торчала у телефона. Сейчас взяла Жорку за шкирку, на базар потащила. Жрать будешь?
Пошла в кухню, выгибая спину, и стараясь не переваливаться. Гремя посудой, закричала оттуда, пока Ленка, запершись в ванной, стягивала трусы и мятый сарафан, открывала кран, плеская в лицо холодной водой.
— Я тут овсянки себе сварила, блин, захекалась уже, Иван Петрович сказал, ой, тошнить будет до четырех месяцев, наврал, подлец, у меня уже пузо до носа, а все равно рыгаю по пять раз на день. Устала. Тебя где носило вообще? Не хочешь сестре рассказать? Вдруг сестре чего посоветует, полезного?
— Ты уже себе насоветовала, — пробормотала Ленка, выходя и промакивая полотенцем лицо.
— Что ты там?
— Ничего. Давай свою овсянку.
Сели напротив друг друга, с одинаковыми тарелками, полными белесой каши. Светища с отвращением покрутила ложкой, подняла, капая тяжелыми каплями.
— Сахару, что ли всандалить. Или соли? Варенья?
— Угу. Все сразу. Ой, — Ленка прижала руку ко рту, встала, быстро уходя в ванную.
— Похмеляться не дам, — крикнула вдогонку Светища, — а то алкашом станешь.
А потом, посреди их ленивой перепалки зазвонил телефон, и Ленка уронила ложку на стол, стуча сердцем глухо и сильно.
— Чего сидишь? — Светища поворочалась, вытягивая ноги, — я что ли, побегу?
— Не надо, — Ленка сидела неподвижно, глядя на вязкую кашу, такую противную, — не ходи.
Сестра кивнула, качнулись косые темные пряди на худых скулах.
— Ясно. Ну ты, короче, если надо будет, расскажешь, поняла?
Ленка молчала. Телефон все звонил, умолкал и снова начинал трезвонить. Светища медленно ела кашу, иногда взглядывая на младшую сестру, и снова черпала ложкой густую комковатую жижу. Потом все же поднялась, тяжело ступая, пошла из кухни.
— Сил нет никаких. Что сказать-то?
— Меня нет, — звонким дрожащим голосом ответила Ленка. Дождалась, когда Светища скажет в трубку, встала и ушла к себе в комнату, повалилась ничком на диван, таща под щеку подушку. И застыла, глядя одним глазом на угол шкафа.
Дверь скрипнула. После молчания Светища сказала над ней:
— Похоже, серьезно все. Ты точно решила? Уверена, что так вот?
— Свет. Уйди. Пожалуйста.
— Ушла. Но только скажи, точно-точно?
— Да, — подушка мешала и она повернулась на бок, повторила, все так же глядя на угол шкафа, — да, и еще раз да.
Ленка осталась одна и попробовала заплакать. Но слезы не шли, кружилась голова, во рту пересыхало, в желудке стояла тошнотная тяжесть. Так и надо, мрачно думала Ленка, слушая, как затекает нога и не поворачиваясь, пусть болит. Так и надо, тошнит, похмелье, чтоб не забыла, Малая, какая же ты оказалась сука. Он звонит, а ты лежишь тут, после пьянки с мужиками.
В коридоре заговорила мама, перебивая недовольного Жорика, потом вклинился Светкин голос. Обо мне, ватно поняла Ленка, через наплывающую головную боль, это они обо мне, и Светища не пускает мать, сюда. Чтоб подождала, и не дергала меня. Оказалось, нормальная сестра, получше, чем когда была Ленка совсем сопливая и сильно обижалась на Светкины подначки, даже ревела.
Но мама все же вошла, сказала очень громко, с упреком и раздражением:
— Ты долго валяться собираешься? Господи, ну за что мне наказание такое? Тебя к телефону, в пятый раз уже. Может, наконец, проснешься?
Ленка резко села, уставилась на часы, тикающие на полке. Как это — шесть часов вечера? Только что было двенадцать…
— Я спала?
Мама выразительно фыркнула и, не закрывая дверей, сказала в трубку:
— Сергей? Она сейчас подойдет, да. Подождите. Спала она.
Какой Сергей, ошеломленно, ничего со сна не понимая, подумала Ленка, моргая. Сергей…
— Тебя Сережа. Говорит, важное дело. Хороший такой голос, вежливый. Да иди уже ответь человеку!
Мама снова стояла рядом, говорила негромко, встряхивая Ленку за плечо. И та, радуясь, что это не Панч, послушно встала, покачиваясь, вышла в коридор, беря трубку и прикладывая к горящему уху.
— Алло?
— Леник? — Кинг был добродушен и вежлив, — котик, сердце мое, ну не надо психовать. Ты там проснулась? А то мама уже волнуется, что ты заболела.
— Да, — невпопад ответила Ленка, — привет. Ну да. Что?
— Ты не забыла, у нас с тобой кроме всех этих лямур-тужур есть другие дела? Важные. Их надо порешать.
Он про деньги, тоскливо поняла Ленка, конечно, он про…
— Я тут звякнул сестричке знакомой, чтоб через пару дней тебя провела. Куда надо. Ну ты поняла, да? Мне только нужно, чтоб ты заскочила, перед этим. Ленник-Оленик, я же за тебя несу ответственность, да пусть мы слегка поругались, но я мужчина или как? Или что?
— Кто, — мрачно ответила Ленка, — не что в смысле.
— Верно! Скажи, что ты на меня не злишься. А я скажу, что я на тебя не злюсь. И что мы все решим, как два умных, прекрасных, замечательных, обаятельных, очаровательных, умных, ах да, сказал уже, человека, в-общем. Зайдешь, да? И дальше сама думай, как жить.
— Хорошо. Угу.
— Отлично, — удовлетворился Кинг, — скажем, в среду, ну я позвоню еще, пока Леник, целую в попку.
На следующее утро все разошлись, оставив Ленку наедине с мрачными мыслями. Жорик повез Светищу на последнюю ее неделю сохранения, собираясь, они вполголоса переругивались в коридоре, уже привычно и без особенных эмоций. А мама, гремя и чертыхаясь, убежала на работу.
Ленка долго валялась, рассматривая потолок с тонкими трещинками вокруг розетки люстры. Потом встала, и не умываясь, сделала себе кофе, снова вернулась в комнату.
Вытащила из ниши в шкафу стопку пластинок и стала крутить одну за другой, выбирая самые тоскливые и печальные песни. Скучала по Рыбке, сердилась на Викочку, вынимала их потрепанных конвертов знакомую музыку, такую — из недавнего общего прошлого.
— Там где клен шумит, — голосил певец Рыбкину любимую, — над речной водой! Говорили мы о любви с тобо-ой.
Ленка сердито убрала рычажок, сунула пластинку на ковер, взяла другую.
— Ах любовь, ты любовь, — затоковал Антонов, и она скривилась, вспоминая Пашку, которого сто лет не видела, девчонки говорили, уехал куда-то на заработки, на севера, ну и черт с ним.
Наконец, нашла самую сейчас нужную, поставила и застыла, обхватив руками колени и мрачно глядя перед собой.
— Я знаю теперь, — рассказывал тоскливый мужской голос, — я знаю теперь об одном! Путь многих потерь, мне близок теперь. И знаком…
В коридоре хлопнула дверь, и после шагов и шорохов к Ленке просунулась голова Жорика, сверкнули очки в тонкой оправе.
— Грустишь, бейба? Зайди, я тебе показать хотел.
Ленка удивилась. Оставила пластинку петь дальше. И вышла, мельком в зеркале увидев лохматую светлую башку и поникшие плечи под ситцевым домашним халатом.
Жорик сидел на тахте, непривычно аккуратно застеленной, с брошенными по ней цветными подушками. Поманил рукой, кладя рядом неизменную гитару. И уложил на острые колени толстый альбом, раскрывая его на странице с глянцевыми квадратиками фотоснимков.
— Садись. А то Светища не успела тебе показать, как мы там жили-поживали.
Ленка подошла, села недалеко, наклоняясь, чтоб тень от головы не заслоняла серых листов. От Жорика пахло одеколоном и немного потом, хорошо, что не носками, подумала она, разглядывая незнакомые фотографии.
— Это в аудитории, мутно, а вот она, на столе сидит. И я там, сзади.
— Угу.
Светка была такая, как всегда, тоненькая, в узких, сильно расклешенных джинсиках, в кофточке со шнурованным вырезом. Темные волосы гладко расчесаны, как у японской девушки в глянцевом календаре. Смеется, упираясь в стол тонкими руками, а ногами наверное болтает, одна смазана в тени стола. Жорик маячит сзади, с лицом в тени, а вокруг него несколько девочек, одна протянула руку, поправляя ему волосы, другая держит гитару в опущенной руке.
…
— Карусели. В парке. Мороженое ели, у нее потом горло болело, злилась, а наорать не могла, хрипела. Лупила меня подушкой. Я к ним в гости пришел, потом, ну не один, с ребятами. Сперва на улице пели. Серенаду. А вот, на этом.
Тонкий палец уперся в другой снимок. Там — тротуар между густого крыжовника, и посредине Жорик, стоит на колене, рот открыт, глаза скошены. Гитара, конечно же.
…
Дальше — они в обнимку, Светка впереди, вокруг ее плеч руки Жорика. Смеются вместе.
…
— О. А это на буряке. Грязища была. И холод. Девчонки, как те немцы под Москвой, замотались кто во что. Потом бегали за нами, отобрать фотографии.
Но Светища и тут была миленькая, закутанная в какой-то платок с кистями, которые торчали вокруг лица лепестками серого подсолнуха. Сердитая, наверное, от холода, с надутыми смешными щеками. В руке блестящее, тоже серое ведро.
Ленка сидела, в ярком заоконном солнце разглядывала куски жизни, которая была так далеко от нее, она совсем ее не знала, только по редким звонкам сестры, и ее слова не становились для Ленки реальностью, так, просто слова в телефонной трубке. А она там, оказывается, жила, поняла Ленка, и что-то думала, влюблялась, переживала. Носила какие-то вещи, говорила с подружками и ребятами, а еще, похоже, не просто так привезла она сюда своего Жорку. Он на снимках оказался совсем не такой, каким стал тут, в трениках или дурацких семейниках, с усами и кудрявыми длинными патлами. А может быть, Ленка не очень и хотела его увидеть?..
Ей стало немного стыдно. Потому, когда Жорка поднялся и вернулся, неся в руках бутылку с темной этикеткой, она кивнула, и приняла из его рук бокал наполовину налитый багровым вином. Жорик сел рядом, чуть ближе, поерзал, толкая ее локтем.
— Извини. Не разлила? Вот конфеты, шоколадные. Светке нельзя сейчас, лежат, пылятся. Я когда ехал, она мне говорила, у меня младшая сестрица. Я и думал, такая, сопливая вредная, маленькая. Извини. А ты вот…
— Что я? — напряженно поинтересовалась Ленка, отпивая глоток и беря из коробки мягкую конфету.
— Личность, — уважительно ответил Жорик, — совсем большая уже. И с характером. Матери вашей тяжело, две такие барышни. Хоть в крепость вас запирай. Светланка уже, считай, в крепости, с коляской теперь будет. А за тобой — глаз да глаз. Так говорят?
Он что-то болтал, смеялся. Ленка кивала, тоже смеялась, слушая о вечеринках и о том, как провожал Светищу через весь город, и после возвращался, пешком. Думала, кажется, такое было в кино. Наверное, оно все время повторяется, у всех. Кроме них с Валиком.
Нас, подумала она. Слово «нас» было болезненным, и Ленка поспешно отпила еще вина, посмотрела на часы, стильный будильник в виде треугольника с блестящими гранями. Жорик перехватил ее взгляд.
— Мама нескоро придет, она сказала, после работы сходят к бывшей сотруднице. День рождения у нее. Сказала, будет к девяти. Да расслабься ты. Посидим в кои-то веки как нормальные родственники. Ты заметила, мы с тобой ни разу с глазу на глаз не говорили? И вообще не говорили. Что ты любишь, например.
— Я? — Ленка удивилась. Ей стало немного стыдно. Он прав. Она его сразу в штыки, и постоянно маячил он, когда кто-то еще был рядом, или она сама отворачивалась, говоря по телефону. Он, конечно, вредный, задевал ее своими подколочками, но еще неизвестно, как сама Ленка вела бы себя, если бы пришлось уехать из своего города, поселиться в чужой семье, а там, допустим, младший брат или старший, глядит волком, общается односложно. Да и какое право она имеет судить Жорика, если сама вот. Болтается, как непонятно кто, учиться не поехала, с работой неясности, а в личной жизни вообще накрутила такого, хоть вешайся.
— Налей мне еще, — попросила хрипло, сама подставляя бокал.
Жорик сунул ей еще одну конфету, забрал бокал, снова пустой, и плеснул еще вина. Пока Ленка держала его, устроив на колене, потянулся, включил магнитофон. Оттуда понеслись томные вздохи, прерываемые французскими словами. Мужской голос проговаривал слова, ему вторил женский, высокий, как будто девочка выпевала взрослые слова. И к мелодии, которая в паузе между словами наполнилась стонами и вздохами, присоединился хрипловатый голос рядом с Ленкой, она с удивлением повернулась, разглядывая полузакрытые глаза и небольшой ровный нос, покрасневший от выпитого. Получалось у Жорика хорошо, и он, подмигнув, толкнул ее плечом, покачиваясь в такт.
— Je t'aime je t'aime Oh oui je t'aime — Moi non plus — Oh mon amour Tu es la vague, moi l'île nue…
— Жэтем, жэтем, — повторяла Ленка незнакомое слово, внутри все сжималось, мягко и тоскливо, а голова кружилась, и было так хорошо, что полно впереди времени, можно плыть по течению, сидя, почти лежа, с подушками под усталой спиной, и голова запрокинута, так что в глаза входит солнце, которое наполнило заоконное пространство жарким летним светом, но тут жара не страшна. Вокруг солнца — зеленые ветви гибискуса и акации, рамкой, будто солнце решило сфотографироваться на память. И как же здорово, что Жорик оказался совсем нормальным парнем, теперь Ленке стыдно за то, что она так его невзлюбила, надо ему об этом сказать. Хотя Петичка тоже прекрасный, но он сильно бухает, разве же Светке нужен такой, совсем керченский пацан, с керченскими заморочками, она вон какая, ее сестра, как японочка с импортного календаря. Скорее бы она родила свою малявочку, и Ленка будет катать ей коляску и вообще дружить с ними, всеми тремя. И с Петичкой.
Поднимая тяжелую голову, она попыталась рассказать Жорику о своих планах, но голова не хотела подниматься, а только сваливалась с подушки набок. И это было хорошо, потому что она стала совсем пустой и в ней перестала крутиться мысль про Валика Панча, который уже звонил Ленке, и наверняка будет звонить еще, а она даже не может сказать ему, чтоб перестал. Потому что это ведь значит…
Но что это значит, Ленка затруднилась объяснить, напоминая себе, что ее голова пуста, и этим нужно пользоваться, дать ей отдохнуть, чтоб не сойти с ума, а уже с завтрашнего дня она совершенно точно начнет новую жизнь, ужасную, невыносимую, но придется. Не болтаться же дальше, ожидая непонятно чего.
С пустой головой, полной неясных теней и медленной музыки, Ленка закрыла глаза, с тихой благодарностью Жорику, за то, что сидит рядом, за то, что оказался мирным и хорошим, таким — другом, почти братом.
Перед закрытыми глазами проплыл, свесив лямочки, ее мокрый купальник, и она вспомнила, что было ночью, и утром, открыла глаза, морщась и нащупывая пуговицы халатика на груди. Расстегнутые. Села, моргая и с нарастающей паникой дрожащими пальцами стягивая распахнутый на коленках халат. Комната была пуста, желтое солнце лило за спиной мягкий и густой свет, чуть слышно пищало что-то в магнитофоне, щелкало, дергая остановленную кассету. У Ленки бухнуло сердце, во рту пересохло, она повернула голову, которая сильно кружилась. Что-то показывали часы на полке, медленно открылась дверь, в нее вошел Жорик, и натыкаясь на Ленкин взгляд вдруг быстро отвел глаза, а губы под усами сложились в усмешку, такую — непонятную.
— Я что? Я заснула? — голос был хриплым, и Ленка прокашлялась, сжимая колени и натягивая на них подол.
В голове все вертелось, тыкаясь в виски острыми краешками догадок, но она не желала их думать, держась глазами за длинную сутулую фигуру. Вот подошел к полке, поправил на ней стопку журналов, потом подвинул часы, и все отворачивался, пряча лицо.
— Гера, — сказала Ленка, — я что? Мы что тут?
— Ой, — недовольно отозвался Жорик, дернул худым плечом, — Малая, только не надо этого вот, прикидываться не надо, ладно? Ах, я не помню ничего.
— Чего не помню? Чего не помню, ты? Скотина! Чего я не помню?
Она закричала, вскакивая, и замолчала, ударенная острой головной болью. Качнулась, спотыкаясь о сброшенные тапочки, но устояла, поднимая подбородок и кусая губу, чтоб боль была в ней, и оставила в покое голову.
— Заснула! Да! — Жорик тоже крикнул в ответ, повернулся, опуская руки. В вельветовых джинсах, в той самой рубашке с вышитыми кармашками. Смерил Ленку презрительным взглядом. И сказал уже нормальным голосом, осторожным, будто нащупывал им что-то в потемках:
— Да. Выпила и как закемарила. Я тебе, Лена-Лена, а ты дрыхнешь, без задних ног. Ну я пошел, посуду вымыл там.
— У меня халат, — потерянно сказала Ленка, водя руками по пуговицам, — расстегнут, почему он?
— Откуда я знаю? — Жорик схватил сумку, стал засовывать в нее какие-то мелочи, журнал с завернутыми страницами, пару кассет, — мне к Кольке пора, я обещал, отнести. Ты дома будешь? Такое впечатление, что тебе неделю спать не давали, отрубаешься на ходу. Шла бы выспалась, что ли.
Встал у двери, переминаясь. Ленка прошла мимо, сторонясь и пытаясь выловить в голове хоть какие-то воспоминания. В комнате сняла с крутящейся до сих пор пластинки рычажок, уложила на подставочку, щелкнула тумблером. Проигрыватель с облегчением перестал шипеть и потрескивать. В коридоре хлопнула входная дверь, загремел, поворачиваясь, ключ.
— Вот блин, — беспомощно прошептала Ленка, прислоняясь к холодной полировке мебельной стенки.
Было страшно думать о том, что в соседней комнате что-то было, и она снова не помнит. Перед этим выпила три бокала вина, получается, почти сама выжрала бутылку? И Жорик, сидел рядом, заботливый такой, наливал ей, совал конфетку. Скотина. Ну да. А сама? И что вообще делается?
У нее было ощущение, что Кинг поставил на ней какое-то клеймо, и его всем видно. Вдруг пришло воспоминание, как выпал в феврале снег, очень много, а потом случилось февральское окно, совсем теплый, очень солнечный денек, и они втроем сбежали с уроков, поехали в старый парк и там, постелив на мягкие сугробы свои зимние пальтишки, легли вповалку, подставляя лица тихому яркому солнцу. Рыбка, Семки и Малая. Валялись, ели конфетки — морские камушки, изюм в разноцветной глазури. Рассказывали друг другу о своих собственных приключениях, которые были у всех троих, то есть просто вспоминали их вслух, хохотали, и удивлялись тому, как им удавалось из таких ситуаций выпутаться живыми и невредимыми. Про гараж, да. Они тогда вспомнили, как ездили на гаражи и там праздновали день рождения Строгана, была куча дискотечного народа, кто-то подрался у задней стены снаружи, кто-то пел диким голосом на крыше, топая и гремя цинком и шифером. А они втроем благополучно явились, танцевали со всеми, пили сухое вино, бегали писять в дальний конец гаражей, где плескала за маленьким причалом ленивая зимняя вода. А после ушли, разгоряченные, с блестящими глазами и пылающими щеками, отбившись от всех ухажеров и еле успев на последний автобус. Насмеявшись, Рыбка тогда подытожила воспоминания торжественным голосом:
— Вы только не ржите, девки, щас правду скажу. Мы еще в девушках гуляем, потому и проскакиваем мимо всяких жоп.
— Наша девственность нас бережет, ура и ура, — подхватила Ленка, укладывая ногу на ногу и черпая горстью почти теплый, как мягкое мороженое, снежок.
— Да, — обиделась Рыбка, — чтоб ты знала, Малая, так и есть. А когда трахнемся, лафа кончится. Мне сеструха говорила.
Они тогда вместе расхохотались, но сейчас, после общения с Жориком Ленка подумала, наверное, Рыбкина сеструха права, потому что все ужасно сильно изменилось. И ведь назад не вернешь, нужно привыкать и как-то учиться жить свою новую жизнь.
Снова пришли испуганные мысли о поликлинике, о неполученных результатах, и голову заломило так, что заныли зубы. Вот черт, в ужасе подумала Ленка, а вдруг этот скотина… И ведь, только сейчас она поняла, никому нельзя сказать. Про это. До альбома, в котором есть их фотография, стоят, обнимаясь, такие оба счастливые, Ленка может быть устроила бы грандиозный скандал, потому что ее сестра достойна хорошего мужа, а не этого, этого вот, гаденыша Жорика. Но как можно ей это говорить, если она, кажется, всерьез его любит?
— Господи, — прошептала неверующая атеистка Ленка, снова садясь на колючий палас, не зная, что там дальше, да и не хотела дальше, просто повторяла привычное с детства, что говорили, не задумываясь, вперемешку с чертыханиями, — Господи, Господи…
В квартире стояла благостная летняя тишина, такая сонная, что крики детей и лай собачек слышались, будто из коробки с ватой. Жужжала одинокая муха, пролезшая через натянутую на окне марлю. Зазвонил телефон, Ленка сжала кулаки, притискивая их к груди. И осталась сидеть, зажмуриваясь.
Когда, наконец, звонок кончился, через целую вечность, встала, нашарила на полке растрепанный блокнот, вытащила из него сложенный вырванный листочек. В коридоре устроила его на полке, и, останавливаясь, набрала межгород, выслушала треск, писки и длинные далекие гудки.
— Алло? Феодосия? Травмпункт? А Геннадия Ивановича можно? Он на смене? Да, я подожду.
Муха прожужжала, удаляясь в сторону маминой комнаты. Ленка посмотрела на себя в зеркало и с отвращением отвернулась, отводя глаза.
— Да? Геннадий Ива… Гена? Это Малая. Лена Малая, из Керчи. Да. Ну вот. Короче, мне нужна твоя помощь. Очень. И поговорить. Можно я приеду? Гена, а можно, туда, в ту квартиру, на несколько дней? Хорошо. Нет, не звони мне. Я сама. Лучше утром, только пораньше. Чтоб я завтра уже. Поехала. Да нормально. Живая, говорю ведь с тобой. Я расскажу. Все. Пока.
Она положила трубку. В ушах все еще звучал густой, уверенный докторский голос. Он ей обрадовался. Думала, насторожится, ведь тогда обругал, вот, сказал, прибежишь за помощью. Она тогда поклялась, что не прибежит. Но пришлось. Но он не стал ругать, или напоминать. Просто обрадовался.
Ленка ушла в комнату, огляделась, собираясь с мыслями. Решительно подошла к креслу, дернула из-под вороха вишневый сандаль, оглядела с раскаянием, как будто он забытая и некормленая зверушка. Уселась за стол, располагая перед собой обувку, и вытащила из ящика коробку с дратвой иголками и тяжелым куском воска.
Конечно, Гена тоже козел, как все они козлы, но во-первых, похоже, что Ленка лучшего не заслуживает, а второе — она постарается с ним справиться. А если и он начнет ей наливать вина, и говорить прекрасные слова, она это вино выльет ему на башку. Потом. Когда порешают ленкины неотложные дела, из-за которых она не может начать жить.
Глава 45
Утром Ленка сидела в кухне, крутила в руках чашку, пристально глядя, как внутри заверчивается темная поблескивающая жидкость. Мама стояла спиной к ней, раздраженно дергая на плите сковородку с яичницей. Обжегшись, зашипела сквозь зубы, тряся рукой. Ленка встала, вытащила из шкафчика пакетик с комком ваты и флакон с аптечным маслом от ожогов.
— Не надо, — мама сунула руку под кран, повернулась, меряя дочь негодующим взглядом.
— Я совершенно ничего не понимаю, Лена! Почему так срочно? А раньше ты не могла сказать, про эти самые курсы? Решила, если школа позади, можешь скакать, будто какая-то блоха, разъезжать туда-сюда…
— Я сама не знала, мам. И потом, я же не на всю жизнь уезжаю, нужно просто все выяснить, это несколько дней. Да я, может, сразу вернусь. Тут рядом.
— А деньги? Снова все на мне! А еще столько всего покупать, к роддому, я просто в ужасе, ночью проснусь…
«И думаю, думаю» мысленно продолжила Ленка, впрочем, без раздражения, а покаянно. Она сейчас постоянно ощущала себя виноватой, и это делало ее усталой, как после тяжелой работы. Но сейчас надо звонить доктору Гене, и может быть ехать прямо сегодня, так что мама должна знать, чтоб не волновалась зря.
— Мам. Ну Светка же уехала, давно, и ничего. А мне что, привязаться на цепь, что ли? Я же недалеко совсем. Два часа автобусом.
Алла Дмитриевна горько усмехнулась, качая головой, темные волосы рассыпались по плечам светлого платья.
— Хорошенькое ничего.
— Все выходят замуж, мам. Ты бы сама волновалась, если б она до тридцати торчала в девках.
— Что за выражения! — возмутилась Алла Дмитриевна.
И Ленка незаметно перевела дыхание. Если мама начала цепляться к мелочам, значит, в главном уже смирилась.
На стол встала тарелка с желтыми кляксами в белой окантовке. Рядом вторая.
— Ешь, — Алла Дмитриевна села сама, подцепила вилкой кусочек яичницы, — сколько тебе надо с собой? Боже, снова занимать до получки.
— Чуть-чуть, — поспешно сказала Ленка, терзая пережаренную яичницу, — на билеты, и еще ну там, на пару дней, поесть только.
— А жить?
— Общага, мам. Это училище, медицинское.
Алла Дмитриевна положила вилку и ошеломленно уставилась на дочь. Ленка опустила глаза в тарелку, внимательно тыкая мешанину желтого с белым.
— Странно. В первый раз слышу, чтоб тебя это интересовало. Нет, конечно, медик в семье — это очень неплохо, но ты и вдруг медицина. Мы с папой были уверены, что ты выберешь что-то такое, — она неопределенно покрутила вилкой в воздухе, — что-то… журналистика, например. Или искусство. Ну, или это свое швейное, ты же хотела в ателье? Передумала?
— Там не только медсестры, мам, — вдохновенно врала на ходу Ленка, — там эти, ну с документами, ведение документации, работа в регистратуре, лаборанты. Главное, там сразу практика, и может быть сразу и зарплата. Почему не попытаться?
— Ладно, — Алла Дмитриевна задумалась, — десять рублей тебе хватит? Если на три дня, к примеру? С билетами?
— Да, мам. Очень даже.
Ленка обрадованно доедала яичницу, прикидывая. Она уже посчитала и билеты, и что на еду в день ей хватит пары рублей — с головой. А поселить доктор Гена обещал, в той самой квартире. Теперь нужно ему позвонить, как только мама убежит на работу, и можно идти за билетом.
Мельком Ленка подумала, трех дней многовато, но с другой стороны, вдруг не все делается быстро, и было еще кое-что, о чем она старалась не думать совершенно, но от себя не всегда спрячешься. Там, совсем рядом, полчаса на автобусе, Коктебель. Там Валик. А вдруг получится поехать, и увидеть его.
В комнате она вытащила сумку и, слушая, как мама бегает по коридору, торопясь на работу, стала запихивать в нее запасные трусики, выстиранный сарафан, кофточку и крем от комаров. Села рядом с сумкой на диван, держа в руках те самые джинсовые шортики. Она не скажет Валику, что приехала. Просто увидит его издалека. И уедет обратно. Нельзя ей к нему. А еще хорошо бы увидеть его с девочкой, за руку там, или — целуются. Тогда можно обидеться на всю жизнь, разозлиться, ну и успокоиться, что у него все будет в порядке. В самом деле, не умрет же он без Ленки Малой! Да, она оказалась совершенно недостойной своего прекрасного брата. И она сама это как-то переживет, не кисейная барышня. Если хватило дурости так себя вести, то и получать за это наказание от жизни тоже придется. Но Вальку ужасно жаль, он же, наверняка, надеется. Все еще.
А может, все же увидитесь, прошептал внутренний голос, и ты ему скажешь… что все, все, конец, вам нельзя вместе… а он в ответ…
Заткнись, посоветовала голосу Ленка, ты нарочно так говоришь, чтоб была надежда, он поймет и простит. И все будет хорошо. Не будет!
— Ага, Лена-Елена, — обрадовался в трубке уверенный голос, — а я уж решил, передумала, не станешь звонить. Ну?
— Звоню вот, — вполголоса сказала Ленка, сидя на своем диване, — не передумала.
— Тогда так. Я сегодня и завтра с летними гостями. Одних провожать, а других встретить и сразу отправить в пансионат. Давай в пятницу. Бери билет, на утро, и сразу дуй ко мне, адрес помнишь? Как обещал, поселю под крышей, на пару дней. Потом у меня ночная, захочешь, на работе посидишь. И насчет выходных в клинике не волнуйся, для своих все в любой день работает. Ну, ждать тебя?
— Да, — слегка уныло ответила Ленка, а внутри все вращалось и кипело, нехотя замедляясь, вот… теперь нужно думать, как дожить до пятницы.
Но на столе лежали сандалики, на самом виду. И Ленка, уложив в сумку шорты, поставила ее в угол под вешалку, села, включая настольную лампу. Склонилась над кожаными ремешками, и через какое-то время с удивлением поняла, что все потихоньку отступило, все, кроме мерной работы, которая требует полного внимания, чтоб не проткнуть палец иглой и не рассечь кожу на ладони острейшим ножом-косяком. Протягивая вощеную нитку в аккуратные дырочки, поддергивая две встречных петли, чтоб легли идеально ровно, Ленка усмехнулась. Может быть, она правда — сапожник? Бедная мама. Искусство, журналистика… Еще и отца приплела. Мы с папой. Интересно, что на самом деле думает о Ленкином будущем отец, если думает, конечно.
Письмо, вспомнила Ленка, он же оставил ей, а она все никак не прочитает. Почему-то совершенно не хотелось открывать измятый конверт, который так и лежал на полке, засунутый среди книг рядом с паспортом. Ну, что там может быть написано, думала Ленка, такая тоска, наверняка, слушайся маму, Летка, да я тебе привезу ананасов банку. Ну, может еще, прости, что так все вышло, с этой Ларисой. Нет, не то настроение, чтоб читать. Ленке, которая привыкла к отцовскому молчанию, и к его болтовне после выпитого, казалось, если там какие-то рассуждения, попытки с ней поговорить, то он будто голый, сплошное неудобие и нельзя — видеть его таким. Пусть уж, как раньше. Сидит, смотрит в окно. Молчит. Правда, в Севастополе она увидела отца, который ее удивил, но это случилось быстро, и было недолго, а еще примешивалась к Ленкиному удивлению грустная ревность, ведь такой он не дома. Не для семьи. А для других, которые никак с его семьей не связаны.
Мысли ее стали сердитыми, и длинная игла, промахиваясь мимо дырочки, ужалила мякоть пальца, очень больно. Ленка дернулась, суя его в рот. Подумала с удивлением, не в первый раз такое. Стоит подумать что-то вредное, грустное или сердитое, и ее тут же находит укол иглы, ссадина от удара молотком, или порез от неверного движения ножа.
В коридоре ходил Жорик, иногда мурлыкал что-то. Хлопал дверями, перемещаясь из комнаты в кухню, сливал воду в туалете. Вопреки обычному, не становился за ленкиной дверью, чтоб съязвить. И ее это очень беспокоило. Если бы ничего не было, вчера, наверное, вел бы себя, как привык с ней. Очень хорошо, что поездка решена, Гена ей поможет, обязательно. И пока все не решится, она оттуда домой не уедет.
Принятое решение ее успокоило. Работы с сандалями на два дня хватит, прикинула Ленка, а письмо заберу с собой.
В среду, как обещал, Сережа Кинг не позвонил. А позвонил в четверг утром. И Ленка покорно подошла к телефону, все еще надеясь, что ситуация с посещением диспансера как-то уладится. А еще, подумала она, прижимая к уху трубку, за ней долг, все равно придется как-то это утрясти. И было еще одно, третье. Что скажет он о выдуманных отношениях Ленки и Димона? В глубине души Ленка надеялась, что сумела уесть великолепного Сережу Кинга. Ругала себя за эти мысли, потому что за такие же ругала Викочку Семки, но ничего поделать с собой не могла. Ужасно обидно было понимать, что для Кинга она просто очередная девочка с дискотеки, котик-дискотик, как он говорил, смеясь. Конечно, ей, проникновенным голосом говорил и другое, но за полгода знакомства Ленка узнала Кинга достаточно хорошо, и часто слышала, как таким же проникновенным голосом он отвешивает телефонные комплименты очередной дурочке. А та верит. И несмотря на знание, верила ему и Ленка, пусть не целиком, но маленькая надежда все же была. Ведь помог. Их знакомство началось с того, что он ей помог. Хотя потом узнала, расчетлив и деньгами не раскидывается.
— Привет, маленькая ледяная принцесса, — голос Кинга был снова так беспечен и спокоен, что Ленке захотелось сказать что-нибудь, эдакое, пусть изменится.
Но она воздержалась. Просто поздоровалась в ответ и стояла молча, ожидая продолжения. Было прекрасно знать, что в кармашке сумки уже лежит билет на автобус, и завтра она уедет, а Кинг и знать не будет.
— Лето в разгаре, а тобой можно морозить лимонад, ну что молчишь?
— Я слушаю.
— Слушаешь и слышишь? Отлично. Тогда слушай. Есть у меня для тебя сюрприз. Специальный. Тебе понравится. Зайдешь?
Ленка молчала, думая, как быть. Нельзя идти к нему домой. У нее был Валька и теперь никаких кингов быть не может. Она тряхнула головой, испуганно подумав о Жорике, но мысль эта была липкой, болезненной, и продлевалась туда, к сестре Светище, и к ее нынешнему состоянию, что делало ее невыносимой, потому думать ее нельзя. Так вот, больше — никого. Никаких кингов, никаких димонов. Никаких забеганий в гости. В квартиру, где постоянно разобрана широкая тахта, закиданная подушками и смятыми простынями. Но сказать это прямо значит нарваться на неприятности. Очень большие. Но как-то же надо сказать. Или попытаться потихоньку уйти в сторону, пусть развлекается с Ларочкой и выясняет отношения с Семки.
— Понятно, заходить ты ко мне не собираешься, — как ни странно, голос Кинга не изменился.
Ленка потихоньку, с надеждой, перевела дыхание. А может она зря так трусит? Не совсем же он чудовище, ну да, бабник, но если, к обиде Ленки, у него баб, по рыбкиному выражению, шо грязи, то что ему с одной несчастной Малой, выкинул и забыл.
— Тогда встретимся на нейтральной территории, — бодро продолжил Кинг, и стало слышно, как он заворочался, потягиваясь, и зевнул, сладко, — часов допустим, в семь, на ленте, рядом с «Морозкой», треснем по молочному коктейлю. Винища не предлагаю, хватит с тебя Ларочкиной дачки, повеселила. Ну и денежный вопрос обсудим.
— Сереж, мне вечером надо дома. Ну, тут дела… всякие…
— Будешь, ледышка, к девяти будешь, идет?
— Хорошо. Но только в городе будем, да? Чтоб никуда не ехать.
— Не поедем, — заверил Кинг, — да я и Димчика по делам отправил, а то думаю, еще полезет к тебе свидание назначать, у-у-у, донжуан задрипанный. Чуть не отобрал у меня маленького Леника! Ладно, шучу. Просто прогуляемся, вдвоем. Сто лет не ходил с девушкой по городу, летом. Ностальжи, прям. Предвкушаю.
— До вечера, — попрощалась Ленка.
В пять часов она надела вытащенный из сумки сарафан в крупные розы — красные по зеленым листьям. Подумав, сунула ноги в новенькие сандалики, залезла на табуретку, выпрямилась, разглядывая переплетенные по щиколоткам ремешки. Красиво. В кресле лежали кожаные смешные крылышки, но их пристегивать Ленка не стала. Подумала грустно, если бы Рыбка тут с ней, то нацепила бы, и шла по городу, держа подружку под локоть, чтоб не бояться удивленных и насмешливых взглядов.
Спрыгнула с табурета, подошла, беря крылышки в руки. Если без Рыбки, то когда-нибудь она пройдет по городу в крылатых сандаликах, а рядом будет идти Валик Панч, и вместе они будут смеяться.
Хмурясь мечтам, вытащила сумку и засунула туда крылышки, на самое дно. Пусть будут. Мало ли. И взяв авоську с продуктами для сестры, вышла в тихий, томный вечер, полный стрижей и желтого солнца над розовыми кустами.
Кинг ждал ее на углу нарядного двухэтажного дома с верандой, обнесенной перилами с белыми пузатыми столбиками. Стоял, прислонясь плечом к пятнистому стволу платана, сунув большие пальцы за широкий кожаный ремень с щегольской заграничной пряжкой. Затененное густой зеленью лицо украшали зеркальные очки-капли, а ворот цветной рубашки был расстегнут на одну лишнюю пуговку. Не так, чтоб до пупа, но видна мощная грудь в дымке темных волос. Впереди Ленки две девушки замедлили шаги и стали смеяться очень громко, подталкивая друг друга локтями и что-то восклицая. Ленка грустно узнала в них себя и Рыбку.
Кинг благожелательно осмотрел барышень и широко улыбнулся, поднимая в приветствии сильную руку.
— Леник! Радость моя!
Девушки молча оглянулись, с явной завистью меряя Ленку глазами.
Вдвоем встали в небольшую очередь, к серым трясущимся автоматам за прилавком, где командовала хмурая тетка в белом переднике и косынке. Выслушав, сунула куда-то в глубину большой алюминиевый стакан, и машина послушно затряслась быстрее, разбрызгивая мелкие белые капли. Кинг, приняв два высоких стакана, полных пышной молочной пенки, вышел на веранду и, подав один Ленке, расположился у перил, прикусывая зубами трубочку.
— Красота! Еще бы клубники сюда, ледяной, или вишенок, да, Леник?
Ленка тянула холодный сладкий напиток, положив на перила сумку, в которую после визита к сестре утолкала пустую авоську.
— Еще будешь? Или потолстеть боишься? Ладно, допьем, прогуляемся, побазарим. А давай на гору поднимемся? Давно была наверху?
— В школе еще. Урок мужества, такое всякое.
Напившись, они медленно прошли к лестнице и стали подниматься, останавливаясь на просторных площадках и глядя на город, который оставался внизу и открывался все шире глазам.
— Хорошо, — говорил Кинг, придерживая Ленкин локоть, — смотри, вон на морвокзале катер, мы с тобой на косу ни разу не поехали. А там классно. Была?
— Была. Там у папы с работы пансионат, мы по путевке были.
— Вот керчанка, везде была. И не удивишь тебя. Ну что, не устала? Последние сто ступенек.
Он отставил локти и быстро пошел вверх, мерно работая коленями в светлой джинсе. Ленка шла рядом, мелькали под широким подолом новые сандалетки. Кинг с интересом посмотрел, зацепил ленкин подол, поднимая выше.
— Ого, какую урвала себе обувку. Батя привез?
— Ну… Да, привез, — Ленка вспомнила другую пару, маленькую, которая осталась дома в нарядной коробке.
А в больничном дворе, когда пришла к сестре, та тоже сразу увидела, осмотрела со всех сторон, кивнула.
— Отлично, Мала-мала! Жалко Танюха уехала, она бы купила, те мелкие.
— За сколько? — с надеждой спросила у сестры Ленка, но та покачала темной головой:
— Да уехала же. Но думаю, за стольник бы взяла.
Стольник, думала Ленка, одолевая последние ступеньки и становясь рядом с Кингом над городом, где уже зажигались в светлых сумерках первые фонари, и тогда достать еще один, и она бы рассчиталась с долгом.
— Вот что я хотел сказать, — задушевно проговорил Кинг, глядя на город, — я готов тебя простить, за Димыча, вернее, за твои выбрыки последние, и если порешаем все мирно, и продолжим отношения, то тьфу на долг, что мы, чужие друг другу? А с Димоном перепихнись, ну разок в неделю давай парню, чтоб счастлив был, я не против, он свой человек. И будет у нас все путем, Леник-Оленик. Завтра с утреца прибегай ко мне, как раз и он приедет, поваляемся, я потом к Ларочке двину, вам могу ключи оставить.
Ленка смотрела на бледные пятна фонарей. Над ухом зудели комары, кидался в разные стороны свежий ветерок, сдувал кровопийц, но тут же налетали другие. По спине ее гулял липкий сквозняк, и во рту пересыхало, сладость от выпитого коктейля превращалась в кислоту.
— Что молчишь? — бархатно спросил Кинг, — не можешь утром, придешь к обеду.
— Я не приду.
Позади них говорили люди, проходили дальше, становились на самом краю, над городом, показывали руками вниз и вдаль.
— Ожидал. Понимаешь, Ленусик, у каждого дискотика случается такое. Ах, любовь. Мальчики ровеснички. Соплячата. И куда девается вся благодарность? Я вошкался с тобой столько времени. Я даже не собираюсь тебя наказывать за то, что ты так подло поступила со мной. Не встревай. Викуся мне очень подробно описала, как вы там друг друга за лобки щупали, тащились от того, что все на вас глядят. Буквально у моего дома. Ты понимаешь, что за одно это я мог бы тебя на толпу пустить, чтоб тебе пизду порвали за один вечер? Рот закрой, не шуми, стоим, мирно беседуем, поняла? Я спрашиваю, ты поняла или нет?
— Поняла, — хрипло сказала Ленка.
Дома в сумке лежал билет, на завтрашнее утро. Пусть он говорит, что хочет. Завтра она уедет. И может быть не вернется.
— Умница. Я всегда знал, что умница, а то бы и не заводился с тобой, не люблю идиоток.
«Как же, не любишь» с беспомощной яростью думала Ленка, вспоминая Ларочку или ту же Семки. Но сейчас главное не возражать, просто дождаться, когда надоест выпендриваться.
— Ты вспомни. Вспомни, родная, с чего началось все! Я тебя где подобрал? Прибежала к фотографу, инвалиду чокнутому, свои сиськи-письки на фото заснять. Так? Я тебя от позора спас, да он бы твоими снимками торговал, вся босота дрочила бы на твою голую жопу. Если бы не я. Потом дал бабла. Так? Потом жила, как хотела. Ты даже ко мне не всегда приходила, ах Сережа, не могу сегодня, ах, мама, ах дома. Я хоть раз что сказал? Нет. Все было мирно. Так нет, тебе понадобилось лизаться с каким-то фраером у меня под балконом. Чтоб вся Керчь на моей голове рога искала?
— Сережа…
— Подожди, Леник, я скажу все, потом решу, слушать тебя или нет.
Больше всего Ленку пугало то, что голос его не менялся. Не звучала в нем обида или злость, Кинг просто задушевно перечислял ее проступки, как такой добрый папа, и не хочет наказывать, но надо наказать…
— Я тогда решил, ладно. Если Ленику мало моего хуя, пусть ебется на два фронта. Есть Димон, получается нормальная шведская семья. Он давно на тебя глаз положил, просил меня да почти сразу, чтоб я тебя отдал, но я берег. Потому что уважал, девонька. Реально, уважал, такой вот я дурак. Даже в том, что мы сейчас со справками этими бегаем, ты виновата, в итоге. Потому что не полез бы Димон на ту прошмандовку, были бы чистые.
— Ты же сказал, это вы. Ты с ней.
Кинг небрежно отмахнулся, снова сунул руку в кармашек джинсов.
— Мало ли сказал. Было так, как я сейчас говорю. И точка. Короче, думал я насчет двух вариантов. Или ты остаешься со мной, как и раньше. Или с нами. Я, ты и Димон. Пожалуй, второй вариант честнее. И чтоб знала, что я не шкурник какой, повторяю, долг прощу. Но никаких выебонов больше не потерплю, поняла? Так что завтра вымойся, надухарись, нарядись, и ко мне. И послезавтра утречком Димка тебя отвезет в Камыш, в третью больницу, я позвоню, сам добазарюсь. Оно же, Леник, когда свое, его надо беречь. Буду беречь.
«Нельзя», ватно думала Ленка, нельзя ему сейчас ничего говорить, надо кивнуть. И пусть завтра ждет.
Кинг наконец замолчал. Поднимая руку, посмотрел на часы, бледно светящие зелеными цифрами по кругу.
— Комары жрут, сволочи. И тебе надо выспаться, котик-дискотик. Сегодня еще помечтай про своего недоебка прыщавого, а уж завтра…
— Я его люблю, — с отчаянием сказала Ленка, делая шаг в сторону, — люблю, и не брошу. Я не приду завтра, Сережа, ну так вот. Получилось. Не могу я.
Замолчала, ожидая крика, ругани или угроз. Но Кинг стоял, не двигаясь, и в полумраке не разглядеть, что выражало красивое породистое лицо.
— Я пойду, — Ленка сделала еще один шаг, к лестнице, по которой они поднялись.
Руки Кинга разошлись и снова опустились.
— Ну что с тобой сделаешь. Такие вот вы упрямые глупые девочки. Иди уже.
Ленка ступила на бетонную ступеньку. Еще на одну. Закусила губу и полетела вниз, боясь оглянуться. Навстречу ей медленно поднимались редкие гуляющие, иногда кто-то обгонял, спеша вниз, пробегали орущие дети, следом испуганно вскрикивали матери.
Поглощенная собой, Ленка почти не заметила группку парней, черными пятнами под фонарем с низко опущенной шеей. Вернее, заметила, но не поняла, что они перестали лениво перекидываться словами, глядя на нее. И резко дернулась, вырывая руку из чьих-то цепких пальцев.
— Стоять, — посоветовал низкий прокуренный голос, — не ломись, как чума, Малая.
— Я, — Ленка дернулась сильнее, но вдруг изо всех сил ударилась лицом о пуговицы на джинсовой рубахе, а плечи свело от обхвативших их рук.
— Тише, ти-ше, — лениво попросил голос, тиская ее и смеясь, когда трепыхалась, — а ну стоять, сказал!
— Юра? — у Ленки подгибались ноги, и сердце заколотилось быстро-быстро, — Юра, пусти.
— Щаз, — ответил Бока, — вот прям щаз. А то что?
— Ничего!
Вокруг заржали парни, подходя ближе.
— Во! — согласился Бока над ее головой, прижимая Ленкино лицо к рубахе, — точно шо ничего. Была ты Кинговой поблядухой, а щас ты ничья. А шо значит? Значит, будешь наша! Я тебя год жду, Малая.
Он отпустил ее голову, и Ленка откинулась, упираясь руками в его грудь, отвернулась. Увидела Кинга, который медленно спускался там, где она недавно бежала. Посмотрел равнодушно, и прошел мимо, мелькая светлыми в полумраке джинсами.
— Сережа! Сережа!! — она закричала, а вокруг продолжали смеяться, гыгыкали, подходя ближе.
Кинг остановился, будто раздумывая. Резко повернулся и подошел, быстро и мягко, внимательно оглядывая толпу.
— Юрик, привет.
Через чужие локти протянулась рука, Бока ослабил хватку, протянул навстречу свою, встряхнув в рукопожатии.
— Что за дела, Юрок? Ты бы пустил девочку.
— А надо, что ли? — вокруг все замолчали и Ленке, через напряженный звон в ушах были слышны интонации, спрятанные в обычных словах. Недовольная настороженная Боки. И ленивая, с мягкой угрозой, Кинга.
— Я своим добром не кидаюсь, Юрок. Мы тут гуляли, с Леником. Вместе.
— Ну… если вместе, — Бока с нажимом сказал последнее слово, — та пусть идет, я ж ничего.
Кинг взял Ленкину руку, кивнул и пошел вниз, а Ленка, стараясь не спотыкаться, шла следом, на ступеньку выше. За их спинами невнятно и недовольно заговорили, рявкнул Бока, раздраженным и одновременно шальным, будто смеющимся голосом. И снова все притихли, пока кто-то не выкрикнул, что-то смешное, и тишина сменилась ржанием.
Ленка ждала, сейчас Кинг начнет вещать, своим бархатным лицемерным голосом, насчет куда ж ты без меня, вот видишь, как оно без меня… Но он молчал, и шел быстрее, на следующей площадке, которую пересекала неширокая автомобильная дорога, опоясывающая склон, сказал отрывисто:
— Домой вместе пойдем. Они сейчас все за тобой двинут.
— Откуда они…
— Помолчи. В кабак завернем сейчас, надо пару слов сказать, нужному кенту. Посидишь в углу, за моим столиком.
— Что… — от ужаса Ленка мало что понимала, в его словах, — да. Конечно, хорошо.
Кинг свернул, таща ее по дороге, к яркому пятну света, громыхающему музыкой и смехом. Мимо них медленно ехали машины, навстречу шли редкие отгулявшие, качаясь и держа друг друга. Там, за густыми кустами торчала плоская крыша летнего ресторана «Митридат», где, по разговорам, собирались самые крутые, обговаривать дела и делишки. Каменюжники, здоровенные быковатые парни с мощными плечами и толстыми шеями. Они работали в карьерах, «ломали камушек», то есть резали строительный известняк. И фарца, базарные спекулянты тоже сидели тут, сверкая кольцами-печатками, импортными шмотками и нарядными спутницами с белоснежными русалочьими волосами по плечам, или такими же, но воронова крыла, тоже прямыми и блестящими. Девушек поили и кормили, танцевали, иногда, оставив за столиками, шли разбираться с «хачиками», грузинами, которые просаживали в Митридате выручку за привезенные фрукты и орехи.
— Тут сиди, — отрывисто велел Кинг, в паузе громкой песни от яркого угла, где старался ансамбль, блестя гитарами и барабанами.
Ленка свалилась на круглый стул, дрожащими руками нащупывая свою сумку, про которую в суматохе забыла. Широкая спина Кинга скрылась за танцующими парами, потом его темная голова мелькнула по диагонали в другом конце зала, накрытого светлым тентом, из-под которого по краям лезла внутрь ночная зелень.
Сбоку вынырнула официантка, выжидательно приготовив блокнот, но Ленка молча отвела глаза, и та, омахнув скатерть, исчезла, явилась снова уже у соседнего столика и склонилась, слушая, что ревет ей в ухо хмельной толстяк в расстегнутом костюме.
— Стучат колеса где-то Стучат колеса где-то…Без всякого вступления заголосил певец, качаясь на фоне блестящих барабанов, и вокруг Ленки выросли фигуры, тоже качаясь и закрывая обзор. Мимо проплывали распахнутые пиджаки и мятые рубашки, локти, сомкнутые ладони, бедра, обтянутые гипюром и бархатом. Она оглянулась беспомощно, все больше паникуя — одна, с мятой сумкой на коленях, перед пустым столом с салфетками в пластмассовом конверте и пепельницей граненого стекла. За спинами и головами не видно было Кинга. А вдруг он ушел? Бросил ее тут, выбирайся, Малая, сама, как сумеешь.
Столик оказался в дальнем углу, притулился у ажурной кирпичной ограды, за которой стояла сейчас кромешная темнота, полная скрипа ночных сверчков и запаха трав. Как прошли через весь зал, пересекая его по диагонали, Ленка и не помнила сейчас. В голове крутились рассказы о кабаке, таком — не простом, не как те, куда приходят отпраздновать день рождения или поплясать с получки. Чужие в Митридат не ходят, так говорили. И простые сюда не пойдут. А еще, широко раскрывая темные, с масляной поволокой глаза, рассказывала Натаха Гнатенко, в Митридате работали проститутки. Ленка морщилась, смеясь и не веря, ну какие могут быть в Керчи проститутки, но Натаха, понижая голос, клялась, добавляя подробностей.
— Не слышала, тем летом, одна трусила хачей? Мужик ее скадрит и в кусты, там же кругом кусты, лето, чо, а она потом, ой, я пописять. Пиджак его надевает, и уходит. А в кармане пиджака — деньги!
— Подожди, — махала рукой Ленка, останавливая рассказ, — не поняла, вот так прям сидела и ждала, мужика? И менты не трогали, значит? Сидит если одна.
— А они платят ментам, — не сдавалась Натаха, тыкая окурком в консервную банку на подоконнике.
— Пиджак. Прям вот у всех мужиков там деньги, в кармане. И лето, какие пиджаки.
— Малая, ты прям совсем малая, — Натаха прикуривала другую, втягивая смуглые щеки, выдыхала дымок, а сверху, из дискотечного зала рвалась и захлопывалась музыка с криками и смехом, — бухие они уже в жопу, деньги суют, куда попало. А она, прикинь, такая вся, голая, в трусах, я пиджачок твой накину. Я пописять. И он такой ждет-ждет, а она фуххх и на тачку.
— Голая, — подхватывала Ленка, — в трусах, и на тачку.
— Шофер тоже купленный, с ее банды, — кивала Натаха.
Тогда Ленке совершенно не верилось в такие рассказы, но слушать их было весело. А сейчас, сидя за пустым столиком, в одиночестве, она сама ощущала себя голой, под заинтересованными нетрезвыми взглядами.
Песня умолкла, так же внезапно, будто певца ударили. И в зале стало светлее, вместо близких спин — панорамой — столики с цветными гуляющими, пятачок танцпола, через который бегали официантки, и на краю угасал мужчина, в пиджаке коробом, его держала, обхватив руками, пьяная дама с прической набок. А между Ленкой и Кингом, который присел за стол к нескольким мужчинам, не было никого, и потому она его сразу увидела. И того, с кем говорил, увидела тоже. Потому что, слушая Кинга, он смотрел прямо на нее, протянув через дымный уже усталый свет жесткую линию взгляда. На светлой скатерти лежали руки, большие, с подобранными, как птичьи когти, пальцами. Под закатанным рукавом белой рубашки бугрился бицепс, расписанный синей татуировкой. И блестел мутный блик на бритой, припорошенной отрастающей щетиной, большой голове, посаженной на короткую толстую шею. Больше Ленка ничего не увидела, только ухмылку, посланную ей в ответ на испуганный взгляд. Губы раздвинулись, блеснув желтым, ярким, золото, поняла Ленка, у него полный рот золотых зубов. И сразу отвела глаза, стала смотреть на музыкантов, с напряженным вниманием, ощущая пристальный мужской взгляд, как тяжелое липкое насекомое.
Но через несколько мгновений посмотрела опять. Мужчина по-прежнему слушал Кинга, тот улыбался, плавно поводя над столом руками, а потом сказал что-то и они вместе повернулись, разглядывая Ленку. Музыки не было. Но собеседник Кинга встал, уже не слушая его, отодвинул стул, и пошел через зал, держа Ленку тяжелым взглядом. Темное лицо, бритая голова. Пороховая тюремная татуировка. Опущенные кулаки.
Ленка, умирая от ужаса, встала тоже, сжимая полотняную сумку. Сделала шаг навстречу в густеющей толпе жаждущих танцевать. И под начинающуюся музыку свернула, пошла вдоль стены, стараясь не бежать, и не натыкаться на стулья, которые отодвигались, выпуская танцоров. Кирпичный заборчик казался бесконечным, и Ленка, меряя взглядом его высоту, захотела взобраться, прыгнуть на другую сторону, исчезнуть в темноте. Но побоялась, мгновенно представив, как подворачивается нога, и они находят ее в кустах, беспомощную. И еще — карабкаться на виду у толпы, задирая ногу, и наваливаясь животом на кирпичи…
Она пошла быстрее, толкнула женщину в жестком блестящем платье, обошла, тыкаясь локтем, мужчину в пропотевшей нейлоновой рубахе. И огибая кадку с олеандром, выскочила на площадку, где блестели в свете фонарей несколько автомобилей с шашечками.
— Едем? — крикнул без особой охоты один из шоферов.
Ленка молча свернула в темноту, на обочину дороги. Побежала, шлепая плотными подошовками, на бегу испуганно радуясь, что не нацепила босоножки с каблуками, на которых фиг удерешь. Издалека видя людей, темными еще силуэтами, сворачивала, обходя подальше, и снова почти бежала, летела, прижимая к боку сумку. За площадью светила остановка, и к ней приближался автобус, вихляясь кормой, но Ленке нельзя было туда, там стояли, смеялись, может быть, там Бока и его пацаны. Так что она свернула еще ближе к черным кустам бирючины, и пошла там, в почти полной темноте, сдерживая дыхание и прокрадываясь мимо гуляющих.
Не по Ленте, билось в голове, там свет, лучше по Кирова. Дальше — Милицейский. На лету она затосковала, приближаясь к старому переулку, огибающему спящий закрытый базар, — там торчали развалины старых домов, с редкими фонарями, там по ночам бухали и дрались бомжи, надо как-то пробежать, и после уже автовокзал, там проще, светло, автобусы, и еще милицейский пункт в первой пятиэтажке, двери открыты всю ночь и рядом стоят люди в форме. А дальше уже мимо домов, по своему району, мимо «серединки», там Ленка знает, где кто сидит вечером, в парке, на собачьей площадке под ивами, и у художественных мастерских в полуподвале ее дома. Главное, проскочить переулок с развалинами.
Сглатывая пересохшим горлом, пронеслась мимо темных полуразрушенных домов, которые перемежались с запертыми железными воротами. Быстро миновала автовокзал, с облегчением косясь на яркий свет опорного пункта милиции. И нырнула в проход между пятиэтажек, оставляя по правую руку Рыбкин осиротевший дом. Пошла медленнее, глубоко дыша и внимательно вглядываясь в темные провалы между кустов на обочине дороги. Сбоку послышались быстрые уверенные шаги.
— Леник, — сказал Кинг, появляясь из темноты и крепко хватая ее руку, — быстро бегаешь, лапочка.
— Пусти, — Ленка дернулась, закрутилась, пытаясь вытащить руку из его железных пальцев.
Но Кинг обхватил ее, сжимая так, что заболели ребра.
— Куда? Набегалась. Хорошо, я тачку сразу взял. Куда же, думаю, мой Леник поскачет, конечно, домой, к мамочке. Не дергайся, ну. Не ссы, я один.
Он уже вел ее к подъезду, толкал перед собой, не отпуская, и вполголоса говорил сверху, над светлой макушкой.
— Чего рвешься? Договорим, отпущу домой. Ясно? Не зли меня, я что, пацан, за тобой бегать, на тачку бабки бросать? Сказал, не зли!
И он выругался так грязно, что Ленка совсем испугалась. Пошла рядом, молча, в пыльный подъезд с тусклой лампочкой, стояла рядом, пока, крепко держа ее руку, отпирал двери. Встала в маленькой прихожей, а Кинг, заперев дверь и накинув цепочку, толкнул ее в комнату, вошел сам, сдирая цветную рубашку и кидая ее на тахту. Сел, с размаху, под тяжелым телом визгнула пружина. Похлопал рядом по смятой простыне.
— Садись, заяц-побегаец. Ну? И чего рванула? Расскажешь?
— Ты, — дрожащим голосом ответила Ленка, стоя поодаль, — мужик этот. Зачем?
— Какой мужик, — фальшиво удивился Кинг, — а, Васята, что ли? Да я свои дела там решал. Ты при чем?
— Я видела. Вы смотрели.
— О-о-о! Видела она. Смотрели! Ну спросил, что за русалочка со мной, за моим столом. Я сказал, моя девонька, чистая. Не из таких.
Кинг засмеялся, неприятно обнажая десны. Откинулся, опираясь на руки.
— Предлагал за тебя бабок. Немало. Любит чистых. Девочек любит, молоденьких. Бляди, говорит, потасканные надоели. А я…
— Ты что, — Ленка мысленно останавливала себя, но сама же себя и не слушалась, ужасаясь тому, что говорит, и зачем, — ты меня продал, да? Зэку этому. Ты кивал. И он пошел, ко мне. Ты специально меня привел туда? А Бока? Ты знал, да? Что они там, что они меня.
— Ой. Прям, все вокруг тебя вертится, — Кинг продолжал улыбаться, но руки его напряглись, глаза сузились, не отлипая от Ленкиного отчаянного лица.
— Я думала, ты человек. А ты. Скотина ты, ты, ты урод, Сережа. Видеть тебя не могу. Гад. Сволочь ты. Выпусти меня.
— Что? — он встал, медленно, казалось, вырастая и головой заслоняя люстру, так что в комнате потемнело. За открытым окном орали коты, шелестя ветками в кустах. И дальше привычно брехали собаки.
— Ты. Сука малолетняя. Ты кого сейчас назвала? Да я тебя. Сам сейчас. А после будешь сидеть тут, пока я Васяту приведу. И Боку с парнями.
— У себя на хате бардак устроишь? На своей постели? Побрезгуешь. Ты же тоже любишь, чтоб чистенько все!
Ленка кричала, голос звенел так, что у нее самой закладывало уши. Глаза жгло от слез, по щекам, казалось, текли огненные дорожки.
— Заткнись! Истерик мне тут еще!
В два шага оказался рядом, поднялась над ленкиной головой рука.
— Нет! — закричала она изо всех сил, рыдая и падая на колени от удара по скуле, — не заткну-сь. Кричать… Я буду кри…
Голова дернулась от второго удара и Ленка перестала говорить, опустила лицо в трясущиеся ладони и заплакала, навзрыд, судорожно всхлипывая. По правой руке текло липкое, теплое, она повернула ее тыльной стороной, вытирая губу и щеку.
— Блядь, — с отвращением сказал сверху Кинг, — блядь, разбил костяшки. Ни хуя себе. У тебя зубы целы? А ну.
Жесткие пальцы подняли ее подбородок, рука взяла за плечо.
— Не крутись! Губа разбита. Кровищи-то. Вставай. Умыться надо.
Он поднял ее за плечи, потащил в ванную.
— Пусти, — проплакала Ленка.
— Та пойдешь щас, — огрызнулся Кинг, — кровь надо остановить, ты мне всю хату загадишь кровищей. Ну? Успокоилась?
Нагибая ее над раковиной, набирал в ладонь холодную воду, плескал, сгибался сам, разглядывая, а Ленка закрывала глаза — не видеть его лица. Внутри все тряслось, слезы стояли в горле, хотелось выть, упав на кафель, но Ленка боялась, что ударит еще, разобьет лицо в кашу.
Кинг сдернул с крючка полотенце. Пошарил на полке, доставая белый рулончик и какие-то пузырьки. Намочил кусок ваты.
— Перекись. Короче, пластырем залепим, сейчас. Утром иди в травму, ясно? Швы надо накладывать, а то дальше будешь ходить с порванной губой. Не вздумай в ментовку бежать, у меня там все свои, вернут, тогда уже точно Васька тебя получит, подарю, блядь. Без всяких бабок.
Говоря, он аккуратно отрезал полоски, клеил их поверх клочка ваты на Ленкиной скуле.
— Ну. Нормально. Пятен нет, домой дойдешь. Матери что скажешь? Короче, скажи, наебнулась на лестнице, ударилась о перила. А нефиг пасть раскрывать, когда ходишь.
Он ухмыльнулся шутке, промакивая ваткой разбитые костяшки на правом кулаке.
— Кино. В первый раз так, вмочил бабе и себе же руку разъебал. Реально кино с тобой, Леник-Оленик. Ладно, пошли, провожу. А то еще кто зацепит по пьяни.
У своего подъезда Ленка повернулась и молча ушла, сама открыла дверь, тихо проскочила в свою комнату, слушая, что там мама, из спальни которой пробивался свет. Ахнув от вовремя пришедшей мысли, стащила сандалии, босиком пробежала в ванную, заперлась, села на краешек, открывая кран с водой. Успела — мама вышла, встала за дверями ванной.
— Лена? Все нормально? Ты хоть собралась? Завтра тебе ехать!
— Да, мам. Иди спать. Я голову помою.
— Леночка, тебя разбудить? Я в полвосьмого убегаю.
— Нет, — поспешно ответила Ленка, прижимая пальцем пластырь, — я сама. Мне только к половине десятого.
— Будильник. Поставь будильник. И если утром не встанешь, пока я дома, обязательно позвони, оттуда. Поняла? Сразу же, Лена!
— Да, мам.
Глава 46
Когда старый автобус встряхивало на ухабах и поворотах, Ленка, морщась, придерживала на щеке пластырь. И каждый раз с удивлением думала о том, как ее удачно пронесло, утром мама не успела зайти к ней в комнату, пока она еще спала, не увидела заклеенную щеку. Конечно, мрачно поправляла сама себя Ленка, лучше бы повезло раньше, и Кинг не врезал бы ей кулаком, но сама виновата, открыла рот, обозвала его последними словами. И тут, получается, ей тоже повезло, ведь мог запросто избить и все свои угрозы не откладывать на будущее. Повезло, что он не знал про отъезд. Повезло, что мама торопилась на работу.
Увидел Жорик, когда Ленка, проснувшись от треска будильника, подхватилась, моргая и держа неудобную повязку. Вышла в коридор, запахивая халатик, и наткнулась на него, выходящего из кухни.
— Ого, — заинтересованно проговорил Жорик, разглядывая, — это что ж у нас такое?
— Ничего, — огрызнулась Ленка, запираясь в ванной.
В голосе Жорика слышалось облегчение, будто он понимал, что сам отошел на второй план, у Малой и без него куча проблем.
— Сестре передать что? — насмешливо спросил через дверь, перестав насвистывать.
Ленка промолчала, бережно вытирая лицо полотенцем. А потом вышла, распахивая белую дверь настежь. Зашла в кухню, сунула на плиту теплый чайник, загремев донцем по решеткам.
— Передай. Мои приветы и пожелания, чтоб все было лучше. Чем у меня. Это раз. И второе. Если мне будут звонить, кто угодно, то я уехала. Нет меня. Понял? Совсем нет, и когда вернусь, не знаешь.
— Да понял, понял, — неохотно кивнул Жорик, отводя глаза от Ленкиного пылающего яростью лица, — ты чего, как бешеная?
— Ничего, — с угрозой ответила она, беря в руку хлебный нож, страшноватый, тяжелый, — пока — ничего.
Жорик перестал ухмыляться и скрылся в комнате, а Ленка усмехнулась, перекашивая лицо. Надо было еще на пол харкнуть и выматериться, подумала вслед. Пусть гадает, с кем она связалась.
Автобус ехал знакомой, давно выученной дорогой, проезжая поселки и деревни, каждую Ленка помнила, по путешествиям с отцом. Сначала на мотоцикле с коляской, тогда он и мама были моложе, веселые и легкие на подъем, потом — на машине, после долгих уговоров, и препирательств насчет дефицитного бензина, а еще надо было улучить время, чтоб не после папиных гаражных посиделок с друзьями, а еще — его постоянные рейсы.
Горностаевка, бывший Мариенталь. Кривые заборы, сухая трава в огородах, беленые домики. Октябрьское. Ленинское, с бетонной стелой на обочине, на которой каменные птичницы, снопы, и корзины с куриными яйцами. Два часа дороги. Не так мало, чтоб раз и приехала, но и не так много, чтоб успеть, как следует подумать. А подумать надо было. Похоже, никто не подумает вместе с Ленкой над тем, как ей быть. В самом близком будущем, и в том, которое маячит подальше. Тяжело быть с этими проблемами одной, даже стремительная Рыбка с ее высказываниями, что ни в дугу, н и в красную армию, помогла бы. Ленка хотя бы выговорилась вслух. Даже вредная Семки, с которой можно поспорить, тоже говоря вслух какие-то вещи. А так — совсем одна.
Лучше этого не думать вовсе, решила Ленка, глядя на просторную сверкающую воду за пыльным стеклом и широкой полосой пляжа, а то потекут слезы, еще не хватало. Вечером она останется одна, как сказал доктор Гена, под крышей, в незнакомой квартире, конечно, неуютной, совсем чужой, там можно закрыться и пореветь всласть.
— Ого, — сказал доктор Гена словами Жорика, спустившись во двор со своим волосатым Кокошей и встав напротив Ленки.
— Привет, — она кивнула, на всякий случай пальцем придерживая повязку, — надо зашить. Сказали.
— Молчи уже. Сейчас ко мне зайдем. Нет никого, жена с сыном уехали в отпуск.
Они помолчали, дожидаясь, когда Кокоша набегается по плиточным серым дорожкам, мотыляя ушами-варежками. Потом Гена отошел с ним к кустам, и после вернулся, таща пса на поводке. Отряхнул полосатую, как тельняшка, футболку, заправленную в серые мятые брюки.
— Ну?
В квартире подтащил кресло к окну и, погнав Ленку вымыть руки, усадил, сильными пальцами запрокидывая ей голову и снимая кусачий пластырь.
— Терпи. Ого. Ладно, потом расскажешь. Не шевелись, пожалуйста.
Под его рукой зазвенели на медицинском подносике невидимые инструменты, резко запахло спиртом, и еще чем-то сильно аптечным. Ленка уставилась в потолок, сжимая пальцами деревянные подлокотники. В поле зрения вплывала мужская голова, щека в сизой невидимой щетине, внимательный светлый глаз и черная бровь над ним, нахмуренная, с торчащими поперек седыми волосками. Потом близко маячил профиль и после — заросшая черным волосом шея с двумя резкими складками.
— Молодец, терпеливая. Так не больно? Рот открывается?
— Да, — попробовала Ленка, закрыла рот и после снова осторожно открыла, проверяя.
— Улыбаться не надо, поживи сегодня так, с серьезным лицом.
Он отвернулся, натягивая лопатками выношенный полосатый трикотаж, снова позвякал, складывая и закрывая блестящий контейнер. Встал, оглядывая Ленку, будто только что сам ее сшил целиком, как тряпичную куклу.
— Хорошо. Я тебе два бантика поставил, увидишь в зеркале. Очень миленько, надо было еще нитки цветные взять и крестиком, крестиком. Шучу.
— Я поняла, — Ленка тоже встала, одергивая сарафан, потрогала пальцем колючие кончики ниток.
— Денька четыре поносишь, потом вытащу. Шрам останется, кстати. Но молодец, что сразу ко мне, а то остался бы некрасивый. А так будет маленький, очень пикантно. Ты вроде и не расстроилась, из-за шрама?
Ленка пожала плечами. И правда, ей почему-то все равно, раз уж маленький, пусть будет, черт с ним.
— Можно я в туалет?
— Само собой. В зеркало там посмотрись, в ванной, — крикнул вдогонку, ворочая кресло на место.
Из зеркала на Ленку смотрела серьезная физиономия с припухшей скулой и белыми нитками, торчащими вдоль красной полосы шрама. Она поправила волосы, вздохнула и вышла, села в то самое кресло, где когда-то сидела, держа в руках фужер с шампанским. Или вином каким-то. Не запомнила.
— Может, вермута, Лена-Елена? — вклинился в ее воспоминания голос хозяина, — нет? А кофе? В кухню пойдем, я сварю, хочешь?
— Гена, а можно туда, где я ночевать буду? Сейчас вот.
Она поняла, что сумеет ему рассказать, вернее, попросить, о том, за чем приехала. Но после вчерашнего напряжения наплывало такое сонное равнодушие и усталость, что Ленка боялась заснуть в кресле.
— Вино не брать? — уточнил Гена, сунул бутылку обратно в сервант, где между стеклами торчали две фотографии. Молодая женщина в спортивной куртке, сидит на корточках и перед ней маленький мальчик с черными нахмуренными бровями. И тот же мальчик отдельно, под елкой, в чепчике с заячьими ушами и в белых варежках, держит пластмассовую морковку.
На пятом этаже уходили к запертому люку черные арматурины пожарной лестницы, и дверь в квартиру была всего одна, а вместо другой — металлическая, с лепестком стали на замочной скважине.
— Бытовка какая-то там, чердак, что ли, — сказал Гена, отпирая квартиру, — угловой подъезд, на крышу тут лазят, к антеннам. Замок на люке висит, видишь? Так что, будешь робинзон, в гордом поднебесном одиночестве.
В крошечной однушке Ленка ничего не успела разглядеть, прошла в комнату, села на длинный, явно очень старый диван, крытый цветным плюшевым ковриком, и сказала Гене, который остановился у косяка, сложив на груди руки:
— Мне провериться надо. На венерические. Мазок там. Кровь, наверное, еще. Да. И еще на беременность. Если можно. Если нельзя, ты мне скажи, Ген, куда обратиться, чтоб быстро, ну конечно, чтоб домой не сообщили. Если…
У нее все же прервался голос, Ленка закусила губу, нитки натянули горящую кожу.
— Так, — сказал доктор Гена, — не реви только. Черт. Черт и черт. Тебя изнасиловали, да?
— Что? — она не сразу поняла, почему так решил, и покраснела, горячо и тяжко, так что ослабели ноги. Это из-за беременности он так. А она думала про Вальку, это ведь с ним они были два раза. Нет, какие два, четыре наверное. Или…
— Потом скажешь. Если захочешь. Короче. Через час выйдешь и сама доедешь ко мне, в травму. Я уже там буду. Сегодня все и сдашь. Гинеколог тебя завтра утром посмотрит. У меня кореш там, Витька. Получше всех баб-гинекологинь, не переживай.
Он ступил в коридор, и там снова выругался, гремя замком.
— Вот же черт! Лена, иди покажу, как дверь запирать.
Через час Ленка спустилась во двор, прошла мимо лохматых кустов и песочницы, задрала голову, минуя лавочку, на которой замолчали трескучие, как воробьи, старушки, елозя по ней любопытными взглядами. И поехала на автобусе в поликлинику.
Позже она никак не могла толком вспомнить, куда водил ее доктор Гена, и кто там встречал ее. Все было будто во сне и под водой одновременно. Она шла следом белыми коридорами, неся в руке карту в два тонких листка, здоровалась с кем-то, кивала, лежала, глядя в потолок, и подставляла руку, глядя на красный столбик в стеклянной трубочке. Из-под воды слышался медленный голос, шутил не с ней, и не она отвечала, посмеиваясь, а после уже спрашивали ее, какая-то пожилая женщина, глядела сочувственно через очки в тонкой оправе и называла ее почему-то «Геночкой» и просила передавать приветы маме. За спиной снова отвечал Гена, а женщина, кивая, что-то писала, и клеила на стеклышки и пробирки, которые Гена забрал с собой, галантно раскланявшись в дверях.
— Пончики?
Ленка подумала и кивнула, вспоминая, как сахарная пудра обсыпала ей пальцы. И после молча сидели в той самой столовке, Гена кусал от пухлого бочка, жевал, иногда с юмором страдальчески морща лоб, когда Ленка отщипывала горячее мягкое тесто и совала себе, в здоровый уголок рта. Себе он взял кофе, а Ленке, помахав перед носом пальцем, купил стакан яблочного сока, а потом сбегал к стойке и, с кем-то просяще поговорив, торжественно принес пару соломинок.
— Ты пока молчи. Я тебя буду развлекать. Скучными рассказами.
Он прихлебывал кофе, вытирал со лба испарину, в кафешке было полутемно и очень жарко.
— С Женькой у нас проблемы, давно уже. Раньше она разок в году к родителям ездила, в отпуск, на недельку. А теперь Митяя подмышку и каждые выходные там. Они в Симферополе живут, ее предки. Ну и вот отпуск, давно планировали, втроем поехать по путевке от профсоюза, в Карелию. Экскурсии, потом неделя в домике на озере. Митяй ждал, календарь завел себе, чтоб листки отрывать. А неделю тому она мне — там комары. И холодно. Снова его с собой и в Симферополь. Я позвонил, Ольга Васильевна мне говорит, да были всего пару дней, потом уехали, под Ялту, к бабушке, значит, в поселке она там. Да ладно, тебе я думаю, не особо это интересно.
Ленка щипала пончик, смотрела на задумчивое лицо, тянула сок через трубочку. Вот интересно, он сам на работе крутил с этой своей… да, Анжелочкой. И думает, что жена должна сидеть дома? А вдруг она узнала, и поэтому? Лучше его не спрашивать, он сегодня помогал, да что бы Ленка без него делала дальше.
— Я конечно, и сам не святой, — словно услышал ее мысли Гена, — но Женька меня моложе на десять лет, а у меня кризис, не смейся, среднего, выходит возраста, молодись — не молодись, время не обманешь. И теперь, я будто на распутье. Вроде и страшно, а ну жена уйдет, заберет сына, бросит меня, дурака. А с другой стороны, вот тебе свобода, козлина, пользуйся, пока она там с Митькой по пляжам ялтинским гуляет.
Он поставил на пластик пустой стакан с серыми пенками на стенках. Раскинул руки и произнес густо, с выражением:
— Что теперь тебе твоя постылая свобода, страх познавший Дон Жуан?— Ты понимаешь, ребенок? Постылая. Я к ней рвался, я ее тайком пользовал, а теперь свобода эта — постылая. Извини, я понимаю, тебе не до меня сейчас. Но тебе лучше молчать, а я если буду молчать, выходят прям похороны, извини.
Ленка махнула рукой. У нее трещала голова, наверное, от тошнотного автобуса, и сильно болела губа под нитками. А еще было неприятно сидеть, после врачебного кабинета, где зеркала и палочки с ватками.
— Нормально. Говори, да. Я просто не могу же ответить. Толком.
— Молчи уже. Домой придем, расскажешь, где и чего тебя угораздило.
На следующее утро Ленку разбудил телефонный звонок и она, с ледяным потом вдоль спины, села, натягивая до шеи негнущееся покрывало к квадратики и ромбики. Кинг, мелькнула испуганная мысль, это он звонит, и мама сейчас поднимет трубку.
Звонки трещали один за другим, а Ленка, сидя, оглядывала чужую комнату, самодельные стеллажи, полные книг, фотографии в рамках по стенам, криво висящие шторы в крупные блеклые розы. Наконец, встала, нащупывая босой ногой колючий половичок. Прошла к столу, придвинутому к самому окну. Нерешительно взяла трубку и молча прижала ее к уху. Скривилась и поспешно переложила в другую руку, прижимая к здоровой щеке.
— Лена-Елена? Горазда ты спать. Я уже на работе, давай умывайся, бутерброд какой съешь, или яичницу, и дуй ко мне. До обеда надо попасть к Витьке, он ждет.
— Да, — ответила она, задрожав коленками и опираясь на стол, — спасибо, да. Сейчас я приеду.
— Двери закрой, не забудь. И газ выключи.
Ленка кивнула коротким гудкам. В кухне напилась воды из чайника, ушла в ванную, прихватив свежие трусики, и там, тоскливо сводя брови, помылась, ужасно боясь предстоящего визита к доктору Витьке.
Но все обошлось. Витька оказался маленьким, круглым мужчиной с мягкими теплыми ручками, совсем игрушечными и с рыжей щеточкой усов на румяном лице. Именем Виктор Андреевич. Нежно улыбаясь Ленке, вроде она ему самый родной человек, заговорил с Геной о рыбалке, потом замолчал, придя за белую ширму. И удобно усевшись, натянул тонкие перчатки. Положил одну руку Ленке на голый живот.
— Месячные последние когда? Угу. Хорошо. А секс когда был? Ясно. Ну…
Ленка ждала, сжав зубы и стуча сердцем.
— Ничего страшного я у тебя, милая, не нашел, — бодро признался, стягивая перчатки, — нестрашного впрочем, тоже. В смысле, матка не увеличена, вряд ли ты беременна, на всякий пожарный придешь через недельку, но живи пока что спокойно и радуйся.
— Все нормально? — недоверчиво спросила Ленка, сползая с кресла, — совсем все?
— А что-то надо? — удивился Виктор Андреич, усаживаясь за стол и размашисто что-то куда-то записывая.
— Ну… мне сказала там. Доктор. Что ей не нравится. Шейка. Хотела меня положить.
— Вот же хабалки! — внезапно рассердился маленький доктор, — не нравится ей! У тебя там пятнышко, эрозия может начинается, и то еле-еле заметно. Свою бы дочку она положила, так шустро. Генка, ты девочке результаты отдал или нет?
Ленку качнуло рядом с креслом, она вцепилась в блестящий рычаг.
— А уже есть?
— Только взял вот, — кивнул от двери доктор Гена, — пока Витька тебя смотрел. Ну, красотка, с тебя шампанское. Все у тебя в порядке. Тоже начнешь уточнять? В надежде, что мы упустили чего?
— Я… нет. Не начну. Спасибо.
В голове у Ленки вдруг образовалась пустота, такая — звенящая. И в нее начали входить, победно сверкая и устраиваясь, крики летних стрижей за окном, белые складки занавески, рыжие усики Виктора Андреича, такие милые. И улыбка доктора Гены, его руки в карманах серых брюк, распахнутый халат.
— Пончики? — сказал Гена.
Она закивала, улыбаясь на одну сторону рта. Мужчины посмотрели на косую улыбку и рассмеялись хором.
— Деточка, я бы конечно, тебе сказал, чтоб была умницей, дальше. Но во-первых, ты на меня с прибором положишь, а во-вторых, идите к пончикам, пусть Генка тебе мозги крутит, нотациями. Он у нас болтун, вот и пусть.
— Пончики, — сказала Ленка, — конечно, Гена, пончики. Ой, болит как нитка, ну не нитка, а там…
— Молчи. А то снова придется шить.
Глава 47
Когда Ленка была маленькой, бабка гостила у них часто и подолгу. И после очередного скандала мама в спальне, дрожащими руками капая в рюмочку корвалол, восклицала горестно:
— Что угодно, вот только бы не было ее! Какая прекрасная у нас была бы жизнь!
Маленькой Ленке тогда представлялось, что вся их жизнь была неумолимо связана с Еленой Гавриловной, которую ей приходилось называть ласково — бабушка Лена. Мама то с ужасом ждала ее приезда, то считала дни до праздничной даты, когда, наконец, бабушка пожелает уехать домой. Елена Гавриловна, кстати, любила менять свои желания, и по нескольку раз сдавала уже взятый билет, иногда возвращаясь с вокзала вместе с громоздким старым чемоданом. В квартире снова пахло корвалолом, с треском хлопали двери, и слышались тяжкие, как поступь командора бабкины шаги.
Ленка за маму очень переживала, ненавидела бабку вдвойне, и лежа в постели, страстно мечтала об исполнении маминого желания, так расплывчато — вот бы ее просто не было, да и все. И тогда, была уверена Ленка, наступит прекрасная, светлая, полная радости жизнь.
Став старше, она стала подозревать, что светлая мамина жизнь откладывается не только из-за бабки — всегда находились коварные, прилипчивые проблемы, которые никак не желали решаться, а вот, когда они исчезнут, то она и настанет, эта светлая, радостная и так далее-далее.
Ленка стала задумываться и о размытости желаний, ну как это — была проблема и вдруг хлоп, исчезла сама собой. И к шестнадцати годам, войдя в возраст непререкаемой мудрости, в котором яснее ясного, как же глупы взрослые, Ленка поняла истину, даже две. Проблемы будут всегда, поняла Ленка, вынужденно согласившись с мамой, что жизнь штука нелегкая и в целом невеселая. И нечего ждать, когда же они сами собой растворятся, их надо решать, а то так и будут копиться и висеть над головой.
Первая истина оптимизма не прибавляла, но второй Ленка не боялась. Наоборот, возможность что-то сделать, найти решение, и тем самым обрести надежду на изменение будущего, успокаивали. Все решаемо, полагала обретшая свет истины Ленка, нужно только как следует подумать и обязательно хорошо постараться.
Тогда ей еще предстояло столкнуться с вещами, которые упорно не хотели решаться ее человеческими силами. Но вот они пришли и встали, будто посмеиваясь над ее решимостью и попытками. Брат Валька, младший прекрасный братишка, которого она полюбила, совсем не как сестра. И все попытки решить проблему, мысленные и те, что требовали каких-то действий, — или уводили Ленку в тупик, или отвергались ей, как невыносимые. В самом деле, расстаться и не видеться больше никогда-никогда, это ведь тоже решение, но разве оно ей нужно? И разве она сможет? Ха-ха и еше раз ха, он приехал в Керчь, нашел Ленку, и все благоразумие ухнуло в пропасть, расшиблось на ликующие и сверкающие клочки. А теперь она приехала избавляться от своих неприятностей, то есть снова решать свои проблемы, не куда-нибудь, а как можно ближе к Вальке.
А куда мне еще-то? — сердито спросила себя Ленка и повернулась спиной к комнате, уставилась на цветной косматый плюш на горбатом диване. Доктор Гена именно тут, и больница тут, не ехать же к черту на кулички к Светище, допустим, в общагу. И, вообще, собиралась подумать вовсе о другом, укорила она себя, лежа на затекающей руке и ленясь снова поворачиваться. А о том, что великое облегчение как-то быстро растаяло, уступив место напряженным, не очень веселым и даже испуганным мыслям. Хорошо… Она здорова. И не беременна. Какое счастье. Нет, правда, счастье! И даже губу Гена зашил, не пришлось позориться, гуляя в Керчи мимо соседок, а еще слушать мамины возгласы и причитания. И даже радость все еще с Ленкой. Но рядом с радостью это вот — а что теперь? Где брать двести рублей, чтоб Кинг от нее отстал. И отстанет ли? Как ехать обратно, если нет этих денег? И что делать там, даже вернув ему долг? Ходить каждый день в ателье, сидеть там за машинкой, в ученицах… Это и неплохо, но что кроме этого?
Ленка повернулась, сбивая ногами покрывало, и стала смотреть в потолок, осторожно трогая пальцем колючие кончики ниток. А вот и главная ее проблема, пришла и уходит не желает. Все у нее чисто. Физически. Кроме того, что это все с ней — было. И Вальке придется это узнать, потому что он слишком замечательный для мелких и больших обманов, таких, как он, обманывать нельзя. Ей — точно. Если она его любит. Получается, проблема не решена, она осталась, да еще выросла, стала тяжелой, как свинцовая плашка. Узнал бы случайно, когда Ленка была не в себе, в слезах, убита, рыдала, боялась. Но все позади и надо набраться смелости все сказать самой. И это будет ее решение.
А потом он ее бросит. И Ленка уедет — казниться, что не сумела просто хитренько промолчать.
Затрещал телефон и Ленка, вздохнув, села, сгибая голые колени. Это Гена звонит, он собирался вывести ее на вечернюю прогулку, так, поболтать, показать центр и набережную, полную огней и гуляющего курортного народа. Ленка ему рассказала, коротко и не очень охотно, без подробностей, о том, что встречалась с парнем, оказался скотиной, но впрочем, сама виновата, вляпалась, лезла головой в петлю, вот и получила… О деньгах и про Вальку рассказывать не стала.
Они тогда с Геной сидели в парке, на скамейке, в плывущей от ветерка пятнистой тени, он слушал молча, потом цыкнул, сказал задумчиво:
— Дела, Лена-Елена…
Попытался положить руку ей на плечо, а Ленка дернулась, отклоняясь, и вот тут он выругался, хлопая себя по колену:
— Черт, вот же черт. Как он тебя, ребенок. Ну, прости. Лезть я к тебе не буду, обещаю. Так что, не подпрыгивай каждый раз.
Помолчал и к удивлению Ленки добавил:
— Это ведь и моя вина в какой-то степени. Лялякал, соловьем разливался, учил жизни. Половой. Дурак дураком.
Ленка как раз перед этим хотела ему язвительно напомнить, но воздержалась. А он вот — сам. Может быть, из-за того, что в семье серьезные проблемы и ему тоже придется их как-то решать, теперь он видит людей вокруг по-другому, думала Ленка, кидая нахальным воробьям крошки. А может, он так испугался ее рассеченной губы и всего, что с ней произошло. Да сама Ленка так не была напугана.
Телефон замолчал, потом затрещал снова. Ему тоже плохо, подумала Ленка, сползая с дивана, и похоже, совсем некому рассказать, наверное с анжелочками не те отношения. Ленка ничем не может его отблагодарить, но выслушать может. Так что свинство это — не брать трубку.
Она подошла к столу, осторожно прижала трубку к здоровой скуле. И уже говоря «алло», уткнулась глазами в блеклую фотографию между двух книжных полок. Там, на ней, сидели и стояли какие-то меховые люди, с орнаментом по широким подолам одежд, с почти одинаковыми лицами под шапками и капюшонами с длинными ушами. Сбоку толпились низенькие олени, кажется, слышался постук кружевных рогов над серыми спинами, а в центре кадра сидел, держа руку на голове собаки с пристальными светлыми глазами, большой мужчина, и глаза у него тоже были совсем светлые, вцепились в Ленку, как две стрелы.
— Что? — не расслышала она, не имея сил отвести взгляд от снимка, — извини, я тут. Да. Хорошо. Я выйду через полчаса, да.
Через пару часов, когда наелись мороженого, устали ходить среди шумного народа и сели, на крупную гальку, а за спиной почухивали и фыркали поезда, осторожно протаскивая вагоны прямо над городским пляжем, Гена замолчал, выдохшись. И Ленка спросила:
— А эта квартира, где я. Она вообще чья?
— А. Я все ждал, когда спросишь. Это друг мой, зовут Миша. Михаил Финке. В школе прозвище было, конечно, Финка, хотя мирный всегда был. Потому что сильный, как медведь. В экспедиции сейчас.
— Там фотография, — сказала Ленка, глядя, как по темной воде бегут огненные змейки света, — с оленями. И какие-то чукчи. Там он? Это где?
— Не там. Сейчас на Соловки уехал. Знаешь, на Севере, Соловецкие острова, Белое море. Монастыри. Он эколог и геодезист. Хотя учился на журналиста. Понравился? Ну да, такой Тур Хейердал, женщины таких любят.
В голосе его прозвучала ревность, впрочем, какая-то ненастоящая. После паузы, видимо, ожидая новых вопросов, но Ленка молчала, сказал еще:
— Всегда был чудной. Как стал гонять по всему Союзу. Ладно бы по работе, вернее, работал, но если что не по нем, увольнялся, устраивался абы кем. То сторожем, то рабочим в заповедник. А через год глядишь, уже смотритель на городище музейном, потом копает в экспедиции. Трудовая книжка толстая, как энциклопедия. Жена, конечно, ушла, забрала дочку, уехали, да уже лет десять тому. Он на нашей соседке женился, вместе росли.
— Почему же ушла? — спросила очарованная Ленка, — неинтересно разве? С таким человеком.
— На одном интересе, Лена, не уедешь далеко. Женщине нужна стабильность. Зарплата в дом. Всякие там починки-ремонты, с детьми погулять, да с собакой. Огород. Дача. А Мишка дома бывает три месяца в году, и денег у него особенных не водится, что заработал, может спустить на путешествие. Рвануть на Байкал. Или куда-то в Кушку. Там, говорит, самая южная точка огромной страны. Хочу посмотреть. Нет, прикинь, просто, чтоб посмотреть самую южную точку, он билет берет за немалые деньги, и едет. Пару лет тому сидели мы с ним, вспоминали молодость, я коньячку принес, Мишка какой-то не местной рыбы вяленой достал из холодильника. Выпили, я ему говорю, ну, коли хочешь мир посмотреть, есть же способы, кроме как в Болгарию по путевке. Например, моряк загранплавания. Или, а нет, в летчики уже ему поздно. Кто там еще? Дипломат? Так он мне знаешь, что ответил? Хочу, говорит, выйти на вокзале и, если понравилось, остаться. На месяц. Или на год. А моряк существо подневольное, да и другие то же самое. Так что, смеется, повезло нам, Генка, страна у нас огромная, за всю жизнь не обсмотришь.
— У нас джунглей нет, — печально возразила Ленка, — и всяких африканских саванн с носорогами тоже нет. А я бы хотела. Амазонка там. Кения.
— Угу, — неопределенно отозвался доктор Гена, — ну да. Там на стеллаже сбоку, рядом с выключателем, полка, с тетрадями. Покопайся. Думаю, тебе интересно будет. Только учти, если решишь пешком в Африку, я не виноват, все буду валить на Мишку Финку.
— Вали, — засмеялась Ленка, — вали, Ген. Ты знаешь, что ты хороший?
— А ты уже смеешься. Не болит? Еще денек и вытащим твои нитки. Домой поедешь?
Они шли под черными, уже совсем ночными деревьями, выходили в кукольный, ненастоящий свет фонарей и снова исчезали в самой настоящей южной темноте, пахнущей лепестками цветов и усталой зеленью.
— Деньги, — сказала Ленка, — вот я сейчас защищала твоего Мишку, а мне самой нужны деньги, хоть умри. Я двести рублей должна.
— Ого! Так это он тебя по скуле приласкал? Молчишь, значит он. У таких скотов нельзя занимать, но ясно, ты не знала. А у меня нету, Женька все выгребла перед отпуском, теперь когда еще получу. Да и сумма такая, не смогу я.
— Ты что, — испугалась Ленка, — я не прошу вовсе.
— Зато я оправдываюсь, — усмехнулся Гена, — это закон жизни, милая. Если кому помогал, то после чувствуешь за человека ответственность. А тебе срочно надо отдать?
Ленка пожала плечами. Потянулась, сорвать на ходу прохладный листок с ветки старой софоры. На плечи посыпались мелкие цветки.
— Не было такого разговора, насчет когда. Вернусь, наверное, будет. Я с мамой говорила, она рассказывала, ой, тебе тут Сережа уже сто раз звонил, спрашивал, когда же будешь. Я же ей наврала, что уехала на курсы. Перед училищем медицинским.
— Оставайся, — вдруг предложил Гена, беря ее руку — они пересекали дорогу по полосатой разметке, — Мишки еще полгода не будет, а я тебя санитаркой устрою, в соседний корпус. Там роддом и еще травматология. Санитарки вечно с пузами устраиваются, два месяца полы помоют, и в декрет. Ты там будешь нарасхват, без живота, ну, а мы не скажем никому, что ты тоже только до осени. А что? Квартира есть, пожрать тебе — копейки. И я картофана подкину, с яйцами. Зарплатка небольшая, зато вся твоя будет, девяносто рублей с подработками. За июль и август заначишь полтораста, и я добавлю полтишку.
Ленка вежливо вытащила свою ладонь из его жестких пальцев. Они уже входили в пустой и тихий двор, полный деревянных качелей и старых деревьев. Сердце у нее екнуло. Вот оно — решение самой тягостной проблемы. И как нравилось Ленке, оно требует терпения и старания, то есть, от нее все зависит. А два месяца пролетят, если в работе. Но страшно. Все чужое и люди чужие, будут проверять, как работает, правильно ли помыла пол.
— А у тебя нельзя? Я бы помогала.
— В травме? А тоже будешь, на подработке, полставки. Загрузим так, забудешь все свои страдания и метания, домой — и в койку.
Еще тетради, подумала Ленка, поднимаясь следом за Геной по лестнице, он сказал, на полке, тетради странного Мишки Финке с пристальными светлыми глазами. Там, наверное, много всего, если ему сорок лет и он всю жизнь мотается по своим путешествиям.
— Да, — ответила, сама пугаясь своей решительности, — я остаюсь. Завтра приду оформляться. У меня паспорт и трудовая с собой, и даже аттестат.
— Послезавтра, — кивнул Гена, отпирая дверь, — нитки вытащим, чтоб отдел кадров не сплетничал, и я тебя отведу. Зайдешь, на чай? Приставать не буду, говорил же.
— Я помню. Нет, Гена, я спать уже. Спокойной ночи.
Гена кивнул, и стоя в дверях, смотрел, как Ленка поднимается, тихо ставя подошвы на ступеньки.
Он снова стал таким, думала Ленка, входя в маленькую квартирку, которая за три дня стала привычной, таким, как сначала — красивым. Только по-другому.
Она подошла к полке, убедиться, что верно запомнила слова, возле выключателя, самая крайняя. Потрогала неровную кипу старых тетрадей с выпадающими обтрепанными листками. Там еще были альбомы, и просто пакеты, набитые снимками, красные крафтовые пакеты из-под фотобумаги.
Ленка не стала их открывать, и не достала ни одной тетради. Ушла на кухню, вытащила из холодильника бутылку молока, налила себе, и заедая печеньем, выпила стакан. Умылась в ванной, по-новому разглядывая помазок и металлический станочек в отдельном стакане, странный, неровный кусок мыла, полупрозрачный, с тонкими лепестками в янтарной толще. И раковину на полке перед зеркалом: в ней лежали мелкие цветные камушки. Почистила зубы, и тогда уже, расстелив на диване простыню и покрывало, выровняла подушку, вернулась к полке и вытащила стопку тетрадок, с самого низа, обычных, школьных, в сиреневых и голубых обложечках с линейками для надписывания. Вместо фамилии и класса там были шариковой ручкой выведены цифры через тире. 1970-72. 1974-75. А еще слитным, как рябь на воде почерком, названия. Архангельск. Чукотка.
Ленка, прижимая к себе тетрадки, тронула рукой те, что на полке, выровнять, и на ногу ей, больно стукнув, упал тяжелый ключ, заблестел витушкой-кренделем. Она нагнулась, подняла и, повертев, вернула на место.
За окном изредка вскрикивали стрижи, летний ночной ветерок шумел в тополях, прикидываясь сильным и холодным, а Ленка лежала, с открытой перед глазами тетрадкой, неудобно повернув голову, чтоб не заслонять свет настольной лампы за своей макушкой. Медленно листала, выхватывая фразы из начала и середины, почти из конца тетради. Разбирала плывущую вязь непривычного почерка. И хмурилась, не зная, разочаровываться ли совсем.
«…а вдруг это я, сказала моя спутница, а я просто кинул ему монетку, пятак, зная что все равно пропьет, вон магазин рядом, скоро открывается. Но она, цветущая, как то пишут в легендах, миндаль, амигдала, или — лепесток яблони, вдруг увидела в нем себя, почему? Что общего? Я мог спросить, но думать и догадываться мне показалось интереснее. А утром оказалось, сошла с поезда пока я спал. И значит спрашивать некого. Остались догадки, варианты, и среди них, может быть, верный. Но никогда я не узнаю, какой именно. Если не встречу ее снова. А вдруг встречу не ее, а такого вот, в засаленной кофте, в драных штанах, с глазами, полными старческой слезы, и голова трясется, стоит вокруг запах перегара. И теперь, на каждой станции, буду думать, бросая им свои пятаки, обреченные на пропивание, а вдруг это — она?»
…«оконные стекла ловят закатный свет и становятся оранжево-огненными, и так везде. Я могу быть тут и не тут, а они горят, а вдруг за ними горят те, кто живут там? Может быть, на закате нужно ходить и стучаться в двери, спрашивая, что именно сгорает сегодня? И хорошо, если это не люди, а то, что они надумали, или натревожили для себя, оно — пусть горит»
…
«Ильинична носит косынки. У нее волосы цвета свежего снега, а на них всегда цветная косынка, и надо было спросить, когда повязала впервые. Ведь была девушкой, носила косу, вот еще вопрос — какого цвета? Над этажеркой висит рамка, в ней десяток фотографий, все старые, ч-белые, у девушек и молодух там серые косы и серый под шляпками перманент. Не брюнетка, да. Хотел спросить, не успел. Теперь придется спрашивать себя, точно ли я отправился по своему пути? Почему с первых же шагов что-то все время остается невыясненным, что-то важное именно мне? Может быть это знак. Но как отказаться, если завтра новое. Снова и снова».
У Ленки слипались глаза, и она закрыла тетрадь, уложила ее на пол рядом с диваном. Вздохнула. И правда, ждала, после портрета Миши Финки, историй о его приключениях, о том, какая экзотика встречалась у него на пути во всяких там местах и уголках. А тут…
Ей приснилась старая женщина с толстой белой косой. Улыбнулась Ленке, складывая снятую с головы косынку в кармашек платья. Коса вдруг стала цветом, как те на закате окна, горела нестерпимо и прекрасно, и старая женщина с каждой секундой становилась моложе и прекраснее. И Ленка, умирая от восхищения, испугалась, за незнакомку, а вдруг это она, подумала во сне, укладываясь набок и суя ладони под скулу, где подживал маленький шрамик, там, на вокзальном углу, рядом с вонючей урной, в засаленном тряпье, с рукой, протянутой к прохожим, вдруг это она — там? И почему?
Глава 48
«А жена Николая, Павла Никитична, женщина большая, мощная, с сильными руками и тяжелым подбородком, странно видеть, как у него разглаживаются резкие складки вдоль щек и на лбу, когда вспоминает о ней, мимоходом, я вижу, только чтоб сказать имя. Было странно, пока не показал мне фотографию среди старых бумаг. Свадебный снимок, и я дурак, чуть не спросил, глядя на высокую, тонкую, как змея, чернобровую женщину с резким взглядом, а это, Коля, с тобой кто? Высокие женщины теряют фигуру, набирая мощи в грудь и плечи, полнеют руками, и только он видит в своей Павле ту самую, до восторга великолепную. Но мне повезло. Я видел, как сидели на берегу маленького озерца, там круглые подушки мха, усыпанные шариками клюквы, словно разбрызгана кем-то кровь. Павла держала на коленях голову мужа, рука в его волосах, что-то говорила и пела, после смеялись. И видно было, с ней ему хорошо. А чего же еще. Как все просто».
У Ленки замерзла опущенная на пол нога, и она, повертевшись на табурете, поменяла ноги, подобрала холодную, опуская вниз другую, нашарила пальцами тапок, огромный, плюшевый. Отхлебнула остывшего чаю и перевернула страницу.
«Иван. Все время один, и молчит. А когда нет никого, изредка говорит вслух, негромко, обращаясь к низеньким травам и корявым кустикам. Руками не трогает, и вообще нет в этом никакой дурацкой сентиментальности, какую любят показывать кинематографисты, когда высоко дышит у героя грудь и глаза блестят тайными слезами. Просто видно, что с воздухом, травой и птицами ему проще, чем с людьми. За молчание и неловкую вечную улыбку в бригаде слывет дурачком, но ценится за трудолюбие и терпеливость. Алан Маршалл, из любимого, молчун под эвкалиптами, перечитать, а то и название не помню, но идея верна и прекрасна, зачем слова там, где можно без них».
Ленка положила раскрытую тетрадь на стол, подальше от чашки и масленки с ножом на краешке. Суя ноги в тапки, быстро ушла в комнату, встала у стеллажа, сосредоточенно перебирая красные пакеты. Вот, и год указан, и место. Чукотка. Она высыпала на стол у окна кипу снимков, переворачивая, читала надписи и найдя, вернулась в кухню, снова села, держа перед собой два. На одном стоял низенький, темнолицый мужчина с глазами-щелками, в руке лопатка, другая держит ремень обвислой сумки с чем-то тяжелым внутри. И подпись на обороте «Иван». И двое, тоже темнолицые, непроницаемо узкоглазые, с серьезно поджатыми губами, глядят на фотографа. Женщина выше почти на голову, громоздкая в ситцевом платье и какой-то тесной жакетке. А на мужчине штаны и свободная рубаха, ворот открыт и видна тощая жилистая шея. Николай и Павла.
Смирно сидя, уложив подбородок на колено, Ленка попыталась представить себе тонкую красивую Павлу, наверное, она была как шемаханская царица, со своими узкими глазами на смуглом лице. И наверное, Николай думал, за что мне счастье такое, такая вот краса. Теперь красота ушла. А счастье осталось с ними. Так написал Миша Финка, про них, а не про оленей и про то, едят ли сырое мясо, отхватывая его от куска острейшим ножом. Ленка вздохнула, кладя снимки на тетрадь. Это было интересно и неинтересно одновременно. Вернее, она никак не могла разобраться. Слету кидалась, все еще в надежде вычитать в записках что-то такое, приключенческое. Как в истрепанной ею толстой книге про Кению, где журналист описывал местные обычаи и одежды, такие странные. Но тут не было этого. И все равно было интересно. Иногда она сердилась на отсутствующего хозяина, за то, что напрочь отказывает своим героям в экзотике, и странности в них видит не местные, а такие, которые могут быть где угодно. Но переворачивала страницу и читала дальше. Медленно, не всегда разбирая почерк.
За спиной урчал холодильник, старый, с царапинами по белой краске. Ленка зевнула, убирая нож. Закрыла масленку, складывая в деревянную хлебницу нарезанные куски. Пора спать, ее смена начинается в семь утра, к восьми нужно помыть палаты в послеродовом отделении и уйти стирать клеенчатые пеленки, которые накопились после ночной смены двух родзалов. Клеенки были выпачканы кровью и какашками, в роддоме это никого не смущало, и Ленку перестало смущать тоже, после первой недели работы. Но она все равно тихо радовалась, что в самих родзалах своя санитарка, и не приходится убирать там столы и мыть заляпанный пол. А еще ей понравилось, что на санитарок, оказывается, никто в больницах не смотрит. Ни медсестры, ни врачи. Самые незначительные, в белых тугих халатах с завязками на спине, и в низко повязанных косынках, никто толком даже имен их не знал, и Ленка думала, да кто угодно на ее месте может быть, косынку на лоб, и подумают, да это та, вчерашняя… И покажут пальцем, где еще подмести, чего еще убрать. У медсестер были свои посиделки, чайник на сестринском дежурном пункте, врачи вообще — почти небожители. А санитарки бегали курить на улицу, за угол корпуса, где лежали забросанные хламом огромные тепловые трубы, и пили чай в закутке рядом с хлорной комнатой, там стояла табуретка, и лежал в тумбочке кипятильник. И то, если вольготно сядешь, обязательно набежит кто из врачей или стервозная старшая сестра, возмущаясь, что вокруг грязь, а тывидители…
Так вот, Ленку это вполне устраивало. Работы было полно, она была тяжелой, а общения ей хватало в палатах, где плакали, смеялись, молчали или спорили женщины. В другие дни — в «травме», где лежали ходячие больные, и Ленка помогала дядькам и парням на костылях дойти до туалета, смеясь их комплиментам и признаниям в любви.
А по вечерам — тетради с записями, множество фотографий, и — книги. Их было так много, что сначала Ленка даже не стала разглядывать, хотя обычно, приходя в новое место, где-то в гостях, сразу шла к книжному шкафу, в надежде, а вдруг увидит что замечательное, дефицитное, и выпросит почитать. Но в записях Миши упоминания о книгах были, как о людях, как о его собственных друзьях, часто без всяких пояснений, просто рассказывает он себе о человеке, о его жизни и его мире, и вдруг рядом, в одно слово, после тире или в скобках, или с восклицательным знаком: Бернс, Достоевский, Блейк…
На первой же фамилии Ленка встала с дивана и пошла вдоль стеллажей, припоминая — видела, глазом зацепила черные витые буквы на корешке. И после, читая, уже сама выискивала фамилии, откапывала нужную книгу, оказалось, они почти все были тут, на самодельных полках. Читала. Совсем по-новому и те вещи, которые скучно вдалбливали на школьных уроках. Иногда откладывала книгу, сердито жмурясь, закрывала усталые глаза, уставая и думать. Потому что вот он Достоевский, целая полка, толстенные романы, и где там найти истеричного алкаша прозвищем Алтайка, который так прижился у вокзального магазинчика, что местные сам магазин называют «у Алтайки».
Чтение занимало время, возвращаясь с работы, Ленка почти каждый вечер укладывалась на диван после ужина, устраивала гудящие ноги на плюшевой подушке и читала до полуночи, чтоб потом каменным сном заснуть до треска будильника.
«Мы так много не позволяем себе, самых простых вещей, относя их почему-то к вещам сложным. Слово „хочу“ кем-то диктаторски записано в неправильные, вредные, а скорее-то во вредящие слова. И каждый из нас слышал в детстве язвительное — мало ли чего ты хочешь. Разучаясь исполнять собственные желания, мы разучаемся и желать. А это уже страшно. Наверное. Нет, именно страшно».
Ленка не сильно поняла, как слова о потере желаний связаны были с тем разговором, но когда она в очередной раз позвонила маме, мысленно репетируя очередное успокаивающее вранье, то неожиданно для себя сказала:
— Мам, тут вообще-то курсов никаких нет, но я осталась поработать. Доктор знакомый устроил меня санитаркой, в больницу. Когда Светке рожать, я приеду уже.
— Как санитаркой, — потрясенным голосом после паузы выговорила мама, — как? Лена! С какой стати вдруг?
— Да так. Мне нужны деньги.
— Боже мой… — в трубке встала растерянная тишина, — деньги, — добавила мама с отвращением, — ну, как это, деньги. Санитарка. Это же уборщица, да? Только в халате.
— Ага. А еще посуровее. Потому что судна всякие, ну кровь иногда, и постельное грязное менять.
— О боже… — голос у мамы совсем ослабел.
— Да ладно тебе, — попробовала успокоить ее Ленка, — зато я теперь знаю, как с роженицами обращаться, и с родильницами. Ты мам, в курсе, чем роженицы отличаются от родильниц? Наша Светища, например…
— Лена, прекрати издеваться! То ты сапожником затеяла, теперь еще лучше! Поехала бы в институт, получала нормальную стипендию!
— Ага, двадцать рублей.
— Да! А тебе нужно больше? Ты собираешься всю дорогу в подручных всяких ошиваться?
— Нет, мам. Мне сейчас нужны деньги, чтоб долг отдать. А на будущее у меня большие планы. Только не сразу. Когда пойму, что мне надо.
— Долг, какой еще долг?
— Мам, извини. Я не могу сказать, но ты не волнуйся, хорошо? Я справлюсь. Целуй там Светку. Как у нее?
— Вы обе меня загоните в гроб, — решительно сказала Алла Дмитриевна, — о-бе! И ты и твоя ненормальная сестрица. Представь, она выгнала Георгия. Явилась из больницы, что-то они там выясняли, даже и не очень громко, а потом я говорю, что же твой муж не выходит к ужину, а она мне — объелся груш. Муж. В смысле.
— За что? — у Ленки стало кисло во рту. Вдруг Жорик что-то вякнул про их посиделки? С него станется, болтливый, как базарная тетка. А Светище нельзя волноваться. И вообще, вся эта история…
— За Таню. Помнишь, друзья у них, его сокурсник и его девушка. Ну, такая крупная, полосатая в кружевах? Что-то там с ней. И что теперь? Ей рожать в сентябре, осталось времени с гулькин нос, а она мужа, выгнала! Да за что мне такое…
Ленка хотела напомнить ей, о том, что был когда-то изгнан их отец, и завел другую семью, а после вернулся, те еще были страсти. Но промолчала, чтоб не расстраивать маму. Пусть пошумит, рассудила, тайком зевая в сторону и уже соскучившись по словам Миши Финки, может быть, выговорится, будет лучше спать. А Жорик, получается, отметился и с полосатой Таней, вот же козел из козлов.
— Выгнала и молодец. Передай, что молодец, я ее люблю.
…
Время бежало удивительно быстро, и так же быстро Ленка привыкла ко всему, что теперь ее окружало. Был выбранный ею магазин, недалеко от больницы, где она покупала печенье и сливочное масло, хлеб, а молоко и кефир брала в магазине возле дома. Гена, как обещал, принес картошку в нейлоновой сетке, и несколько дефицитных лимонов, Ленка порезала один с сахаром и по вечерам таскала из банки кружок за кружком, морщась от наслаждения, когда через сладость била по языку лимонная свежая кислота. Новая территория была для нее, как угодья для зверя, изучена, размечена тропинками, освоена от утренней пробежки к автобусу до усталого возвращения через уже сумрачный город, — обычно она шла пешком, радуясь, что жара иссякла. С доктором Геной они виделись на работе, Ленка дежурила в травмпункте в его смены, и там почти не говорили, загруженные работой. Казалось, за белыми дверями не летний город, а какая-то беспрерывная война, они открывались, впуская стонущих, плачущих или испуганно матерящихся людей, с поломанными руками, вывихами, с ранами на голове, с пальцами, прижимающими поврежденный глаз. Гена быстро ходил, усаживая и укладывая, кидал распоряжения, сестра ловко оказывалась там, где нужно, а Ленка не всегда успевала и тогда он раздраженно коротко рявкал, держа на весу руки в окровавленных перчатках.
Иногда в редкие пустые минуты выходил наружу, хлопая себя по карману испачканного халата, садился на бетонный бортик у автомобильной площадки, где разворачивались кормой ко входу белые машины скорой помощи, вытягивал ноги, курил. Ленка сидела рядом, тоже вытянув ноги, смотрела перед собой. Почти не разговаривали, слишком уставшие для болтовни.
— В кино тебя, что ли, повести, — смеялся Гена, сминая в консервной банке окурок, — свидание назначить, спросить как дела, Лена-Елена, как жизнь…
— А я тебе расскажу, — смеялась Ленка, — про сегодняшнего, с уксусным ожогом.
— Молчи, а то снова пельменей захочу, провонял уксусом весь кабинет.
— Фу! Ну тебя…
За решетчатыми воротами мелькала белая машина, и Гена вставал, одергивая халат.
— Подъем, красотка. За работу.
Через четыре недели Ленка вышла из серого здания, где на втором этаже в окошечке кассы рядом с бухгалтерией ей выдали новеньких хрустящих бумажек. Сидя в парке на лавочке, пересчитала, аккуратно разглаживая, и поражаясь количеству. Аванс был совсем невелик, но Ленка растянула его надолго, азартно экономя на еде, и теперь у нее в руках были, страшно подумать, семьдесят рублей, которые можно было смело положить в тайный кармашек сумки и не трогать, потому что через неделю будет еще раз аванс. Гена не соврал, к сентябрю будет у нее сто сорок рублей, и добавить еще шестьдесят казалось Ленке сейчас делом совершенно плевым. Она отдаст Кингу долг и наступит свобода.
Ленка сложила деньги квадратиком, потом, казнясь, вытащила пятерку, снова пересчитала — шестьдесят пять, и отправилась в магазин за большим пирожным-корзинкой с зефирными лебедями в кремовых волнах. И еще — лимонаду, и грушевой воды дюшес, а еще — полкило шоколадных конфет. И все. Ах, да, еще тетради с записками Миши. Они не надоедали ей, а становились все интереснее.
Дома Ленка медленно вымылась, разведя в тазу теплой воды, нагретой в чайнике. Замоталась в полотенце и ушла в комнату, где на расчищенном от бумаг столе устроила себе маленький пир с купленными сластями. Удивительно, но одиночество тоже не надоедало ей, хотя раньше никуда она одна не ходила, всегда договариваясь или с Рыбкой, или вызванивая Семачки. А сейчас даже домой звонила совсем редко, и с доктором Геной почти не виделась.
На столе, рядом с сахарницей и тарелкой с пирожным лежал пакет с фотографиями, на этот раз Ленка выбрала свежих, датированных прошлым годом. И отпивая холодного лимонада, бережно высыпала скользкую кипу. Принялась рассматривать, улыбаясь и долго держа каждый снимок. Кое-что о хозяине квартиры она уже поняла, и потому не торопилась откладывать в сторону снимки, где только кусок борта, старое дерево в прожилках, обрезанная краем кадра лопасть весла. И за бортом — темная вода с русалочьими прядями подводной травы. На другом фото — серый песок, близко к глазу четко видны песчинки, дальше все размыто и среди марева — чей-то силуэт, тоже размытый, не в фокусе, на фоне блеска воды. Море. Или озеро. Не разберешь. Но на песке тонкий кустик травы с белыми цветиками.
— Пристальное внимание к деталям, — проговорила вполголоса фразу из тетради, которая была там сама по себе, без пояснений и раздумий, — пристальное. Внимание. К деталям.
И ей показалось, она взлетает. Летит над песком, над травой и блеском воды, над тем силуэтом, непонятно, женским или детским, но неважно, потому что детали вот они, ближе, у самого глаза. И кустик травы так же важен, как размытое вдали человеческое. Или — важнее.
Это было уже не Мишино, поняла она с холодком по влажной спине, это ее собственные мысли, такие, будто совсем бесполезные, но поднимающие вверх и отправляющие в полет.
Если оно такое с виду бесполезное, почему оно меняет меня?
Ленка медленно кусала от сладкого, запивала сладким, беря еще снимок и еще один.
Вот я вижу россыпь ягод на сухих ветках, это же боярышник, тыщу раз видела, когда мама уговорит отца поехать на Азов, где кустарники подходят к самым пляжикам, конечно же по делу — за боярышником и шиповником. Собирали, потом варили какие-то компоты, не очень вкусные. А оказывается можно было просто увидеть, как висят на ветках, круглые и продолговатые, с точкой блика на бочке.
Конечно, и тяжелая работа меняет меня, думала Ленка, но не только она. И слова в тетрадях, и снимки сильнее тяжелой работы.
Зазвонил телефон. Ленка неохотно положила на стол фотографию. Она обещала Гене, что сегодня вечером выйдут, погуляют по набережной, в честь первой ленкиной зарплаты покатаются на катере.
— Алло? — сказала, стараясь, чтоб голос был приветливым, — Гена? Ты чего молчишь?
В трубке стояла тишина, что-то потрескивало, а после кто-то кашлянул, как перед неловким разговором, сказал густо, с вопросительной интонацией:
— Э-э-э… квартира Михаила Финке? Я туда попал?
— Блин, — шепотом в сторону испугалась Ленка, — ой, нет, простите, ну да. Она. В смысле, его квартира.
— Можно его? В смысле, Мишу, Финке который.
В голосе ей послышалось тайное веселье, но Ленка была слишком занята своей неловкостью, чтоб осознать и обдумать.
— А нету. Уехал он. Извините.
— Совсем не за что, — великодушно разрешил голос, — Геннадио передавайте привет.
— Передам.
— До связи.
— До свидания, — растерянно попрощалась Ленка.
Положила трубку и нервно откусила от развернутой конфеты. Фигня какая вышла. Неясно, что человек и подумал, о том, с кем это он говорил.
Ей стало вдруг тоскливо, потому что звонок выдернул ее из покоя, давая понять, квартира все-таки чужая, это чужой дом, и в него звонят чужие ей люди, а она все же не совсем авантюристка, которая прекрасно себя чувствует, где угодно. Вот с Валиком было хорошо везде.
Вдруг очень резко и очень больно ей представилось, что он рядом, приехал, и ему она показывает фотографии, сидят на диване, Панч обнимает ее за талию своей длинной рукой, дышит в шею, щекоча волосы, и Ленка, сердясь, смеется, убирает прядки, путая свои светлые и его черные. Нынешнее одиночество — это очень хорошо, но быть с Панчем в тысячу раз правильнее и важнее.
— Гена, — сказала она, набрав номер, — ты там не спишь еще совсем? Устал, да? А хотели же погулять.
— Думал, сама позвонишь, тогда и пойдем, — у Гены и правда был сонный голос, и Ленка, слегка виноватясь, тут же уговорилась о времени.
И пошла одеваться, поглядывая на часы.
Немного пройдясь по набережной, они снова сидели на гальке, на постеленном старом коврике, смотрели на дрожащие змейки огней. Гена купался и сейчас, вытершись, натягивал брюки, фыркая и тряся головой. Расправил футболку, шлепнул на локте комара.
— Я с тобой прям в монахи записался. Странная штука жизнь. А могли бы, вроде бы. Шучу, конечно. Если бы сама захотела…
— Ген, ну ты женат, а все равно. Значит, все, кто захочет, всем ты, ну разрешаешь, да? Ладно, пусть не всем, а тем, кто посимпатичнее. Получается какая-то ерунда.
— Почему ерунда, — обиделся Гена, — нормальная жизнь-праздник, пока молоды, то-се.
— Что-то тебе этот праздник не сильно и праздник, — сердито сказала Ленка.
Гена лег навзничь, закидывая руки за голову, уставился в небо, полное мелких звезд.
— Не нуди, а то завтра заставлю полы мыть в коридоре.
— Да я и так помою. Работа такая.
— А ты почему молчишь, о своем брате? Думаешь, я забыл? Или ты сама о нем забыла?
— Не забыла, — ответила Ленка и замолчала.
Мимо ходили люди, смеясь и подворачивая на гальке ноги. Кто-то хмельной громко купался, плеща призрачные брызги и разбивая собой огненные змейки света. Ленка опустила голову. Было ужасно тоскливо, и понятно, что расскажи она, Гена все равно помочь ничем не сможет, он уже все ей сказал тогда, о незаконности. О безвыходности.
— Виделась с ним? Что молчишь? Дел ты накрутила, я знаю. И скажу тебе, хорошо, что не успела с пацаном переспать, совсем была бы фигня.
Подождал ответа и сел, ероша волосы и ладонью вытирая скулу.
— Та-ак. Переспала все же? Я правильно понял твое унылое молчанье? И что дальше?
— Откуда я знаю, что дальше, — с отчаянием сказала Ленка, — вот ты бы мне и сказал. Ты старше. Должен быть умнее. Наверное.
Гена усмехнулся, поворачиваясь к ней невидным в темноте лицом.
— Я уже тебе насоветовал, с умом. Да. Знаешь, говорят, утро вечера. Надо спать идти. А если что надумаю, скажу…Ну как же ты. Переспала. С братом. Пацаном совсем.
— Тебе привет передали, — поспешно прервала его Ленка, — звонил кто-то, я думала ты, а там мужик какой-то. Спросил Мишу Финке.
— Гм. Дальше.
— А что дальше. Я говорю, уехал. А он мне — привет Геннадию.
— Кому? Как назвал меня?
Ленка удивилась. Но вспоминая, кивнула, отряхивая руку от мелких камушков:
— Геннадио. Так сказал. Привет Геннадио.
— Ох, Мишка.
Гена встал. Ленка тоже поднялась, поднимая коврик и отдавая его Гене, а он, складывая, хмыкал, что-то обдумывая.
— Подожди. Чего это «ох, Мишка». Это он звонил, да? Это был Финке?
— Держи, я обуюсь.
Ленка держала сложенный коврик, а Гена прыгал, пихая ногу в сандаль. Потопал, отряхивая бока.
— Пошли. Ага, хозяин позвонил и на тебя, гостью, нарвался. Сделикатничал, не стал признаваться. Узнаю брата Мишу. Чего молчишь?
Ленка шла рядом, приводя мысли в порядок. Тот самый Миша Финке, который своими записками выдернул ее из одной жизни и показал другую. Не просто показал, а каким-то непонятным образом уже заставил ее измениться, и жить ее, эту другую жизнь.
— Он еще будет звонить? — они снова шли под цветущими ночными софорами, а те пахли растертой зеленью и слабо — свежим летучим медом.
— Не боись, вряд ли, — успокоил Гена, широко шагая и держа подмышкой свернутый коврик, — а вернется, я ему объясню. Если привет передал, то понял, что ты из-за меня там, у него. И понимает, что это важно и по-другому нельзя было.
— Ты и других там селил? Ну, анжелочек. Своих.
— Кого? А-а-а, — Гена засмеялся, — нет, дорогая блонди, не те у нас с Мишкой отношения, баб я к нему не вожу, хотя хата пустая. Для Мишки эта квартирка немножко как храм, я его уважаю, и для меня значит, тоже. И потом, водить туда мимо Женьки с Митяем, по лестнице, ну, не совсем же я урод. Ты — совсем другое дело. Я к тебе еще и поэтому не пристаю, в других местах некогда, а у Мишки — нельзя. Не позвонит. Не волнуйся.
В тихой квартире Ленка прошлась у стеллажей, разглядывая редкие снимки, засунутые меж стекол и прикнопленные к обоям. Всего четыре штуки, но на каждом хозяин квартиры. Стоит на песке, опираясь на лопату, лицо совсем черное от солнца, только зубы блестят и глаза в тени козырька. Сидит в лодке, подняв лицо к фотографу, улыбается, ужасно бородатый, в военной куртке и под ней полоски тельника. Еще в тени сосен, стволы высокие, как мачты, режут вдоль высокую фигуру, виден локоть и плечо, нога в сапоге, а за руку держится совсем маленькая девочка, бледненькая, серьезная, с корзиной, укутанной полотном. И на краю кадра глядит на них молодая женщина, профиль размытый, по щеке тонкие пряди волос из-под косынки. И тот, который Ленка увидела первым — с собакой и молчаливой толпой узкоглазых людей, она уже знала, сверяясь с тетрадями и надписями на обороте — стойбище эвенков, Саяны.
— Ты позвони, пожалуйста, — вполголоса попросила Мишу, глядя в светлые пристальные глаза на красивом взрослом лице со складками вдоль щек, — тебе я расскажу. Ты, наверное, один можешь знать, что мне делать, если я не могу без него. Позвони, ну, на этой неделе. А если нет, то я сама поеду, к Вальке. Расскажу ему все. Дальше просто будем вместе. Понимаешь? Пусть все хоть взорвись.
Глава 49
«Павлик. Имя ему очень подходит, он худой и беленький, с короткими волосами, а нос прямой, с мелкими веснушками. У Павлика слабые кости, вечно попадает в травму с переломами, лежал две недели с рукой в гипсе от самого плеча. Завтра на выписку. Нужно прийти попрощаться, пожелать ничего не ломать».
Ленка перечитала написанное, выдрала листок и смяла его. Такая ерунда. Хотелось написать так, как пишет Миша Финке, а получилось непонятно что, в котором совсем нет Павлика, его тихой улыбки и глаз, которые постоянно глядят куда-то в сторону. Ленка всегда кивала и улыбалась ему, а он хмурился в ответ, сводя светлые брови. Будто ему неприятно. И она уходила в другую палату, досадуя, с ощущением, что наткнулась на стенку там, где должна быть дверь.
Миша, как и сказал доктор Гена, больше не звонил, и ей было немного стыдно за свою горячую просьбу, высказанную шепотом. А еще снова пришли сомнения, именно после обращения к далекому хозяину квартиры. Пообещала, что поедет к Панчу, и уже прошла эта неделя, а Ленка боится. Ужасно хочет, тоскует, но — боится менять что-то в наступившем и уже привычном равновесии. Работа, дорога обратно, маленькая квартира, чтение и слова Миши, редкие прогулки с Геной, к которому на днях возвращается жена и сын. Скоро выходной, полчаса в автобусе, и все изменится.
— Так сильно ты, Малая, любишь, да? — язвительно спросила сама себя, умываясь и глядя в зеркало, запотевшее по краям, — так сильно, что боишься порушить все это, которое все равно не твое же!
Сегодня она работала в «травме», подменяла санитарку в отпуске. Снова палаты, ведро с водой, швабра и тряпка. Но вместо женщин, с животами горой или с младенцами на руках, — мужчины в гипсе, на кроватях под металлическими рамами. Душный воздух в палатах, запах курева, пота, и другого, мужского. Взгляды, равнодушные или веселые, иногда тоскливые. Костыли, прислоненные к спинкам кровати, падали с грохотом, если неловко толкнешь шваброй, и в палате раздавалась ругань или смех. Ленка уже перестала вздрагивать и смеялась в ответ, возя шваброй под кроватями, отодвигая в сторону растоптанные тапки.
Павлик лежал в третьей палате. И Ленка войдя, заранее улыбнулась, нашаривая в кармане нарядную шоколадину в золотой фольге. Он, конечно, снова насупится, вроде как обидится подарку, но Ленка уже приносила ему конфеты, и знала — он их любит.
На месте Павлика лежал небритый дядька с ногой, поднятой к облезлой раме, мрачно смотрел в далекое окно, куда снаружи заглядывали тополя, дрожа серебряными изнанками листьев. Из шести коек три пустовали, разобранные, со смятыми одеялами и раскрытыми пакетами на тумбочках. В углу лежал дядя Василий, с белой толстой ногой вдоль кровати, а лицо закрыто газетой. Рядом на соседней койке сидел старичок Петр Петрович, мелкий, бережно согнутый над загипсованной рукой, с головой в седых клочках неровно стриженых волос, а с ним, проминая пружинную сетку — его большая жена в черном крепдешиновом платье с белыми крапками. И у стенки, направо от входа, там и лежал Павлик, удобно, в углу, чуть больше уюта, чем у прочих. Теперь вот небритый дядька.
— А где?.. — спросила Ленка, оглядываясь, — здрасти, Петр Петрович, как вы, дядя Вася?
— Жениха ищешь? — старичок засмеялся, но тут же умолк, сокрушенно качая головой, а его большая жена охнула, берясь за свекольные щеки.
Дядя Василий за газетой мрачно матернулся. Сказал, складывая:
— Чудило малолетнее. Некому зад надрать. За ним утром приехали, спецально. Машину прислали. Повезть в хорошую клинику, обследоваться. А он уперся, не поеду и все. Придурь у пацана. Аж закричал, руками за коровать вцепился.
— Погоди, Вася, — каркнул Петр Петрович и закашлялся, торопясь продолжить и маша сухой ручкой, той, что не в гипсе, — я скажу, кх, я!
Выпрямился, выглядывая из-за жены, а та моргала, становясь похожей на Рыбкину мать, такая же большая и робкая перед маленьким мужем.
— Егойная болячка эта, в той клинике как раз ее лечут. Но далеко, ажно ехать надо, из Крыма, на Кубани там, в станице клиника. Для таких. Машиной. Машину мамка его достала, по блату наверно, ну в общем, раненько за ним, сыночек, быстрее давай собирайся. А он вот…
— Не поеду и все, — с удовольствием вклинился Василий, скребя ногтем по фольговой крышечке на кефире, — его тада под руки, а патома доктор и сказал, что вывернулся с машины, упал. В общем, была у пацана рука, стала у пацана нога. А ложить негде уже. Койка видишь, занятая. Два дня ему ночевать значит, в коридоре. Ну не дурак? И машина зря проездила, и денег мать зря заплотила. Небось.
— А где? — подавленно спросила Ленка, — где в коридоре? Я шла, не видела.
— Та внизу, где травмопункт, — Василий тыкнул пальцем в пол.
— Вы блядь поспать дадите или нет? — мрачно осведомился небритый, скрипя пружинами, медленно, со стоном, повернулся, цепляясь руками за одеяло, и затих, уткнув лицо в угол подушки.
Ленка нагнулась, подняла ведро с водой и поставила его поближе к кровати, прислонила рядом швабру.
— Я сейчас. Пусть постоит. Я скоро.
— Погодь, Ленушка, — дядя Василий заворочался, двигая на тумбочке открытый кефир, — до горшка доведи, раз все равно идешь. Вчера Танька полы намывала там, наплескала луж, я костылем заскользил, херакнулся, чуть не упал головой в унитаз. Чертов гипс.
Он руками бережно свалил на пол тяжелую ногу. Ленка присела, натягивая поверх сбитого носка тапок. Помогла встать, подала костыли. И пошла рядом, придерживая один костыль.
— Иди, — разрешил дядя Василий в туалете, воняющем хлоркой, — нормально, справлюсь.
Ленка вышла, и побежала к лестнице.
Павлик лежал на каталке, в узком тупичке, освещенном зарешеченной лампочкой. Ленке был виден затылок, светлый, стриженый, и острое плечо под сползающей простыней. Рядом стоял медицинский столик, подрагивал стаканом с водой, когда мимо быстро ходили белые халаты.
— Паша, — негромко сказала Ленка, становясь рядом и трогая плечо, — ты как? Ты чего это? Спишь?
— Нет, — мрачно пробубнил мальчик, сильнее наклоняя голову. Худое плечо дернулось под ленкиной ладонью, — засну скоро. Они мне укол вкатили.
— Болит нога? — под простыней был виден большой желвак там, где колено.
— А ты как думаешь?
— Никак, — рассердилась Ленка, подвигая облезлый табурет и усаживаясь, — ты чего мне все время грубишь? Тоже мне, герой нашелся. Чего из машины выпрыгивал? Мне тут рассказали. О подвигах.
Павлик заворочался, лежа навзничь, перекатил голову, все так же не глядя на Ленку, уставился в потолок, облицованный сопливым голубеньким кафелем. Сказал мрачно, с издевкой:
— А то ты не знаешь, да?
— Чего не знаю? — Ленка искренне удивилась, наклоняясь к сердитому лицу, — лежи тихо. Болит ведь.
Мальчик, наконец, оторвал взгляд от кафеля и посмотрел на Ленку. Такими же светлыми глазами, как у Миши Финке на фотографиях, и так же пристально, не уводя в сторону и не пряча.
— Я тебя люблю.
Глаза закрылись. По конопатым щекам поползла краска, заливая скулы, виски и лоб, покрытый испариной.
— Я тебя каждый день смотрел, в окне, ждал, когда ты через двор. А сначала не понял даже, что это ты. Ну… ты там не в халате же. Платка нет. Волосы такие. Ты когда второй раз пришла. Это четверг был. Вышла с палаты и сняла, этот свой. Перевязать. Одеть. Я тогда понял, дурак я, что по двору утром, то ты шла. А ты мне потом. Конфеты. Как в детском саду, да? Мне между прочим, семнадцать скоро будет. В январе. Я просто худой такой, из-за остеогенеза.
— Глупости, Паш. Я приносила, потому что сама их люблю. Хотя мне уже семнадцать. Я шоколад всю жизнь любить буду, даже взрослая. Даже старушкой. Ну, ты чего? Теперь вот два дня тебе валяться, как в пещере какой. И шумно тут. Люди ходят. А поехал бы, там все новое, говорят, хорошая клиника.
Говорила, стараясь не торопиться, но чтоб он не стал снова, о любви. Но мальчик перебил, открывая глаза, странного, голубого с коричневым, оттенка:
— Я не мог, пока ты не пришла. И вообще, я не хочу, там, где тебя не будет. Я же сказал. Я тебя люблю. Лена.
— Ну… — Ленка не знала что сказать. Рука, лежащая на его плече, затекла, в пальцах пульсировала кровь. Хотелось убрать ее, но обидится, и было ужасно его жаль. Хрустальные дети, так сказал о нем Гена, их называют так, хрустальные, или хрупкие дети.
— А ты меня жалеешь, да?
— Вовсе нет, — но соврав, Ленка тихо на себя рассердилась, и тут же поправилась вслух, — жалею, да. Имею право. Я женщина, мы должны жалеть мужчин.
— Лучше бы ты меня любила, — глухо сказал Павлик, — хоть немножко. Хоть самую капельку. Я бы нормально тогда уехал.
— А я и люблю. Зря я конфеты тебе таскаю? Никому, только тебе. И не капельку.
Он тяжело дышал, плечо под ладонью подергивалось. Скоро заснет, поняла Ленка, надо еще немножко посидеть с ним.
— Очень больно, — виновато сказал мальчик, — не засыпается никак, от боли. Ждать надо. Ты посидишь? Со мной?
— Конечно.
Застонав, он повернул голову, вытащил руку из-под простыни.
— А ты можешь? Этот вот. Платок.
— Снять? — Ленка увидела его кивок. И стащила косынку, сунула пальцы в светлые пряди, растрепывая их по плечам пышным облаком. Улыбнулась его восхищенному взгляду.
— Такая красивая, — Павлик неглубоко и быстро дышал, руки лежали поверх простыни, пальцы сжимались и разжимались, — ты меня поцелуй, Лен, один раз. Я больше не буду. Просить. Только по-взрослому.
Его голос стал еле слышным, и Ленка нагнулась, рассыпая по его плечам свои волосы.
— Меня никто ж еще.
— Я тебе ничего не сломаю? — она убрала пряди, чтоб не мешали. Взяла руками его лицо, удобнее поворачивая к своему, — а то мало ли. Ну извини, шучу.
Это был очень нежный и очень бережный поцелуй, долгий-долгий. От Павлика пахло зубной пастой и слабо, но резко — лекарствами, а еще какой-то травой, наверное, это мама приносит ему всякие целебные отвары, думала Ленка, отрываясь от его губ, а он делал вдох и снова тянулся к ее лицу. И она послушно подставляла свои губы, целуя его второй раз. И третий. На третьем поцелуе он заснул, укладывая голову на подушку и приоткрыв рот, задышал спокойнее. Ленка выпрямилась, ее рука была крепко взята горячими пальцами. Она попыталась вытащить ладонь, но Павлик сжал руку сильнее, и она побоялась. Села удобнее, поворачиваясь к проему в общий, ярко освещенный коридор. И увидела Панча.
Он стоял, совсем рядом, в пяти шагах, прислонясь к стене, и смотрел, как Ленка сидит, держа руку в руке спящего мальчика. Которого только что целовала, долго, нежно, три раза подряд.
Ленку дернуло, будто кто-то с размаху огрел ее по спине. Она беспомощно смотрела на серьезное лицо, бледное, с худыми скулами, с черными волосами, что ложились вдоль шеи, спускаясь на плечо. Пошевелила губами, снова пытаясь вытащить руку, но Павлик сжал крепче, притискивая к груди.
— Валя! — гулко прозвучал в коридоре женский голос, — Валя, ты что застрял, пора, опоздаем же.
— Валя, — шепотом повторила Ленка, пытаясь увидеть Панча через стремительно набегающие слезы. Моргнула, открывая рот, чтоб сказать громче. Но Панч кивнул, повернулся и исчез за кафельной стенкой. Через мгновение его голос послышался вместе с быстрыми удаляющимися шагами:
— Иду, Вероника Пална, я тут.
— Скорее, — торопила сердитая Вероника, — давай бегом.
Каждое слово отдавалось у Ленки в груди, так резко, что казалось, Павлик услышит и проснется. Но он лежал неподвижно, все так же держа ее ладонь крепко прижатой к своим ребрам. Таким хрупким, стеклянным.
Миша Финке позвонил этим же вечером. Ленка сняла трубку на первом звонке, будто ждала его, и сердито сказала, вытирая другой рукой мокрые глаза:
— Алло. Миша, это вы?
— Гм. Я, — отозвался густой мужской голос, — а…
— Меня Лена зовут. Геннадий, то есть Геннадио ваш, он сказал, вы поймете. Не обидитесь. Потому что мне правда, очень надо было. По-серьезному.
— Хорошо. Лена.
— Так вот. Я тут читала, вы пишете. Миша, я можно на ты, потому что мы с Геной давно на ты уже. Вот. Я подумала, что человек, такой человек, ну я после расскажу, что подумала. Я насчет совета. Понимаешь, я все равно его люблю, хоть все перевернись. Не Гену, нет. Вальку Панча. Он мне брат. По отцу. И куча всего наслучалась. Я сама виновата, полезла, куда не надо. А сразу к нему я не могла, потому что сама виновата. Так что я решила работать, и когда долг отдам, то и поеду. А теперь он меня увидел, с Павликом этим! Я не могла не поцеловать, он же хрустальный! Ты знаешь, да? Хрустальные дети, у них кости ломаются всю дорогу. Я целый день просидела рядом, меня, наверное, уволят теперь, и наплевать. Завтра мне в родильном работать, но я потом вернусь, к Павлику, и может ночью тоже. А Панч взял и ушел, ни слова не сказал даже! Конечно, он там ждет, что я приеду, это же близко. Или позвоню. Может, он сам звонит мне домой сейчас, а меня нет. И вообще, ему сказали наверное уже, что я тут месяц. Больше месяца! Конечно, он обиделся. Что я не еду. Я ведь ему обещала. И говорила, что люблю. А сама не брала трубку! Миша!
— Да?
— Что мне делать теперь? Я не могу поехать раньше. Павлика увозят послезавтра. Не реву я. Я так. Немножко. Подожди.
Ленка убрала от уха трубку, вытерла нос платком, шмыгая и подвывая. И снова сердито закричала туда, в нагретую дыханием черную чашечку:
— Гена думал, чего-то умное мне скажет, а сам в кусты, а что, а утро вечера. И больше никто. Только вот ты, потому что я читала, я твои тетради прочитала, не все. Там непонятно есть, но много прочитала. И фотографии. И хорошо, что ты понимаешь. Что делать. Я тоже так и решила. В общем, если любовь, настоящая, то все сложится, как надо. Если Панч не понял, и не появится, я послезавтра поеду, как только Павлика заберет машина. Спасибо тебе. Я вот знала, что кроме тебя, мне никто. Ты прав. Мне сейчас кажется, что все ебнулось, что нужно срочно, туда, все объяснить. А оно не может. Ебнуться. Если настоящее все. Это же не книжка какая, где ах, увидел, не понял, и на двадцать лет поругались. Правда же?
— Конечно, — согласился внимательный Миша.
— Вот, — сказала Ленка и расплакалась, на этот раз от облегчения, — вот, я знала. Спасибо тебе. Миша, ты самый умный, я таких вообще никогда. Привет Геннадио я передам. Пока. Еще спасибо.
— А…
Но Ленка уже положила трубку. Ушла в ванную, умылась, шмыгая, вытерла горящее лицо полотенцем. В комнате свалилась на диван, свернулась, поджимая коленки к груди. И заснула, с нахмуренными бровями и выдвинутым подбородком.
Утром в субботу Ленка ехала в автобусе, таком, до щекотки под ложечкой уже знакомом. Она была тут осенью, проезжая холмы предгорий, нежного бежевого оттенка, золоченого солнцем. Была зимой, когда у скал, что вырывались из травяных бугров, светили снеговые пятна. И вот — лето. Те же самые места, но битком набитые яркими летними цветами по огромным заплатам сочно-зеленой травы. Если бы Ленка не волновалась так сильно, то обязательно удивилась бы. В Керчи вся трава уже выгорела на солнце, волнистая от курганов степь стала рыжей, до рези в глазах желтой под бледной синевой неба. А тут, совсем, казалось бы, недалеко, все сочное, зеленое. Но Ленке было не до сравнений. Она стояла в круглом углу задней площадки, стиснутая женщинами в смятых цветных сарафанах, мужчинами в перекошенных шортах разной длины. Отклоняла лицо от детских рук — кого-то родители держали на руках, и старалась ни на кого не наступить — кто-то там, на уровне взрослых коленок, вел свою самостоятельную детскую жизнь. Голова звенела от возгласов, детских криков, смеха и разговоров. Мысли мелькали, Ленка, спохватываясь, пыталась придумать, что скажет. Тут же память кидала ей, как мячи, обрывки воспоминаний, перемешанными картинками. Глаза Панча, его рука, и надкусанный пирожок на рваной газете, лист пальмы перед глазами, и вдруг — гребень Хамелеона, сиреневые крокусы, выбежавшие на грунтовку, такие нежные среди начала крымской зимы. И снова, глядя на плывущие над перекошенными чужими плечами цветочные поляны и зеленя, Ленка пыталась придумать слова, повторяя их, будто готовилась к экзамену.
«Валинька… я сказать должна. Все-превсе. Тебе. Потому что… А Кинг, понимаешь, это из-за того, что мы с тобой…»
И прикусывала губу, гоня слова, которые все оказывались неверными, дурацкими, будто она оправдывается, защищая то, чему оправдания нет. На все эти слова она сама находила возражения, и их в ее голове произносил Панч, опуская голову, а после взглядывая на Ленку. Таким взглядом, как в больничном коридоре. Серьезно, так серьезно смотрел, что ей становилось страшно.
Хватаясь за поручень, она поспешно думала о прошлом, было уже такое состояние, когда Валик приехал в Керчь, и они ехали в такси, через желтый от фонарей, черный город с серыми деревами, тени бродили по его лицу, и Ленка страшно испугалась, прочитывая на нем приговор себе и своим дурацким поступкам. А потом он улыбнулся, помнила она. Это было таким счастьем, и оно длилось целых два дня, наполненных событиями. Но память не желала останавливаться на хорошем и напоминала Ленке, что после этого было другое. Она сама не подходила к телефону, да еще просила сестру врать, и ее Светища поступила так же, как отец Пашки Санича, который стоял в дверях, с честным, насквозь лживым напряженным лицом, выгораживая сына.
Как же все странно. Или нет, ужасно. Каждый шаг, каждый поступок неумолимо возвращается, но уже поворачиваясь другой стороной, и Ленка была обижена, а потом — обижает сама. Была обманута, а через время — обманывает. Будто жизнь все время то наказывает, то награждает. От этого можно просто свихнуться, беспомощно подумала Ленка, и стуча сердцем, стала пробираться ближе к выходу, потому что за пыльными стеклами развернулись горы, засинела вода в еще далекой, но такой огромной бухте. И люди вокруг загомонили, перемещаясь, толкаясь, подхватывая вещи и наступая друг другу на ноги.
Вот остановка, где ее ждал Панч, сидел на больших камнях. Она тогда покрасила волосы, ему в подарок. А вот начались густые сосны, и линия разноцветных заборов, с врезанными в них воротами, украшенными табличками. А вот и остановка, и за ней клонит плоскости ветвей огромная старая сосна. У самого ее ствола, помнила Ленка, выбираясь и дергая зажатую спинами и боками сумку, густо насыпаны желтые иглы, ковром, и есть впадина, куда они встали. Целоваться. Он может и не думал, а она взяла его руку и увела. Сама. А теперь вот. Времени прошло так немного, если смотреть по календарю, а сколько всего после этого Ленка накрутила. И тоже — сама.
«Вот сама и расхлебываешь, Малая, это справедливо».
И еще одно угнетало Ленку после короткой поездки, полной тягостных и трусливых мыслей. Для Валика это время было совсем другим. Наверняка в нем не было стольких событий, а если были какие-то, то они, как бы это сказать… они более нормальные, ну школа, процедуры, переезд из одного города в другой. Переживания из-за Ленкиного молчания. Но не с разбегу во взрослую жизнь, как она. Из-за этого Ленка чувствовала себя еще более виноватой. Как будто они живут вместе, он например, читает, поднял голову, а ее нет, тихонько прокралась в коридор, выскочила, как сказала бы мама — усвистала куда-то. Ничего не сказав. А он остался ждать ее. По-честному, волнуясь и глядя в темное окно, набирая дежурные телефонные номера. А она там, видите ли, жизнь живет.
Автобус поехал дальше, выгрузив порцию возбужденных предстоящим отдыхом, морем и горами, людей, а другую забрал с собой, увозя за Кара-Даг, к Лисьей бухте и еще дальше.
Ленка повесила сумку на плечо, оглянулась отчаянно, будто разыскивая кого-то, кто мог поддержать. И улыбнулась горько. Получается, она все время искала чьей-то поддержки. Пашка, Кинг, Оля Рыбка, сестра, и даже ее гадкий Жорка. А после все поворачивалось так, что приходится самой. Думать, решать, куда-то ехать и что-то делать.
Неправда, возразила она себе, помог доктор Гена, так неожиданно сильно. А еще — Миша Финке. Его тетради, слова, снимки, и разговор с ним по телефону.
— Иди уже, Малая, — сказала себе. И пошла вдоль веселых заборов с детскими на них картинками — парусами, пионерами, неловко нарисованными пейзажами.
Сандалики с крылышками четко ступали по тротуару, колыхался над икрами подол сарафанчика, зеленого, в красные розы. И с каждым шагом страх уходил, а на его место приходило нетерпеливое, такое знакомое Ленке ожидание. Сейчас она его увидит. Валика Панча, своего ангела-брата. И пусть потом что угодно, но главное, он тут, и через десять минут они встанут напротив и будут смотреть, и разговаривать.
Глава 50
— Леночка, — главврач Вероника Павловна, кажется, даже не удивилась, идя навстречу по пустому глянцевому от свежей краски коридору. Халат распахнут, показывая какое-то с невнятным рисунком летнее платье, оборка на вырезе смялась, вылезая цветными комочками поверх белого воротника. Из растрепанного седого пучка волос выпала шпилька, на которую Вероника сразу же наступила, не замечая. Схватила Ленкину руку, крепко, прижимая к своему крепдешиновому животу.
— Как хорошо. Ему сейчас мама звонить будет, снова. Ты не волнуйся, я сама поговорю. Ты главное, вспоминай, вы куда ходили, с ним? Когда только вдвоем.
Она, не переставая говорить, развернула Ленку и повела в дальний конец коридора, к лестнице.
— Здравствуйте, Вероника Павловна, — сказала Ленка заготовленную фразу, поспевая рядом, с неловко вывернутой рукой, по-прежнему прижатой к расстегнутому халату. И, резко испугавшись, остановилась.
— Что? Он что? Вы про Вальку? А…
— Пойдем, Леночка, некогда.
Бежали вместе, по широким плоским ступеням, крылатые сандалии шлепали по гладкому камню, проскальзывая. А сверху, из раскрытых дверей кабинета дребезжал звонок.
— Але, — закричал кто-то невидимый, с детским голосом, — ага, а щас она, а вона бежит! Вероника Пална! Вам звонят.
Вероника, наконец, отпустила Ленкину руку, но тут же схватила ее за плечо.
— Не уходи. Поняла? Не вздумай даже!
А после ее голос послышался уже из кабинета. Ленка вошла, встала у рядочка стульев, натыканных у белой стены. Голос врача Вероники изменился. Будто не она только что, задыхаясь, бежала по лестнице, и рука на ленкиной ладони заметно дрожала.
— Лариса Ивановна? Да, да конечно. Ну что вы. Как маленькая, право слово. Так. Послушайте, что я скажу, а после подумайте, надо ли волноваться. Вот и славно.
Она повернулась от стола, взглядом показала Ленке, чтоб та села. И Ленка села, стискивая ремень сумки.
— Во-первых, Валечка давно уже самостоятельный мальчик. И я его прекрасно понимаю. Столько лет под неусыпным наблюдением, любому мальчишке это надоест до чертиков. А Валя — вы заметили, как он вырос за полгода? Совсем ведь взрослый, серьезный и ответственный парень. Поверьте мне, Лариса, не пропадают такие парни просто так, в маленьком поселке, где все на виду. Уехал? А даже если уехал. Ну и? Помнится, в июне, была такая же ситуация, она прекрасно разрешилась. Если бы он нынче не оставил записку, я волновалась бы, как и вы. Но я вам читала, написано четко и внятно. Вернется через пару дней. А прошел всего-то один! Да, его почерком. Ну, что мы можем с ними сделать? Поверьте, ни вы, ни я, ни еще кто. Когда вырастают. Лариса, давайте сделаем так. Если сегодня к вечеру он не появится, я сама вам позвоню. Нет, лучше завтра рано утром. И вы приедете. Тут недалеко, да может он, вообще, появится дома, у вас, и будете смеяться над своей паникой. А когда приедете, если вдруг… То мы вместе все спокойно решим. Не вздумайте! Договорились? Вот и ладно. Поверьте, он не станет нас зря волновать, другой бы усвистал без всякой записки. До свидания. Да.
Вероника аккуратно положила трубку. Подняла голову, подхватывая рукой седые прядки и тыкая другой шпильки в прическу.
— Ну? Чего встала, иди сюда, вот садись.
Ленка подошла, села на стул рядом с огромным полированным столом, засыпанным бумагами и журналами в серых обложках.
— Он правда? Записку?
Вероника кивнула, подвинула к ней раскрытый журнал с какими-то записями мелким аккуратным почерком. Поверх написанного лежал листок, и на нем крупно, те самые слова, которые она диктовала в трубку.
«Вероника Павловна, мне надо уехать. На два дня, наверное. Вы не волнуйтесь, пожалуйста. И маме не говорите. Валентин Панч».
— Ну? — требовательно и устало спросила у Ленки, складывая записку по сгибам, — и что мне с вами делать? Снять бы штаны, да надрать жопу, так вырос уже, я и не догоню. Не хотела матери, как и просил, так она как почуяла, позвонила, чтоб к телефону. А наворотить ей вранья? Дальше будет еще хуже, если не дай Бог что.
«Я бы соврала, чтоб не волновалась» подумала Ленка, опуская голову. Но вдруг поняла, нет, уже нет. Вероника права, первая ложь потянет за собой другую, а дальше все запутается.
— Это из-за меня. Что же делать? Я виновата.
— Ты-то причем? Та-ак. Ну-ка, рассказывай.
Она сложила руки на столе, переплетая пальцы. Очки в металлической тонкой оправе строго блеснули стеклами. Ленка подняла голову, чтоб смотреть в глаза. И рассказала про Павлика, про три поцелуя, про Вальку, который стоял и все видел.
— И вас я слышала. Вы его позвали. И он… ушел. А я не могла раньше, потому что Павлик. Ну, я сказала же.
— А, — с облегчением сказала главврач, — ерунда какая, Леночка, Валя умный парень, неужто не поймет, что с твоей стороны это был нормальный акт милосердия. Ты напротив, молодец, что помогла мальчику. Нет. Если удрал, то конечно, не из-за твоих невинных поцелуев с больным мальчишкой. Вот же…
Она задумалась, но Ленка звонким голосом продолжила:
— Но до этого. Мы должны были. А я не брала трубку. Он звонил, я обещала. А сказала сестре, чтоб наврала, Валику, что меня нет. Понимаете? Я обещала. А после обманула его. И он меня увидел, через месяц уже. В больнице этой! Конечно…
— Стой! — Вероника расцепила пальцы и подняла ладонь, — в другой раз поведаешь, а может, и слушать не буду. Ваши страсти. Сейчас другое важно.
— Как не будете? — Ленка удивилась. Их страсти. Да тут дело жизни и смерти. А она!
— Снова скажу. Вспоминай, где ходили, где сидели. Где от меня прятались. Если у вас такая любовь, и если он знает, что дома тебя нет, и не махнул в твою Керчь, тебя искать. Значит, он тут. Где-то. Там, где вы были, вместе. Ты понимаешь?
Она взяла шариковую ручку и придвинула к себе блокнот.
— Диктуй. Сейчас каникулы, народу в школе — по пальцам, но все равно. Куда-то ребята сбегают, куда-то сама сходишь. И я. Вы же зимой да осенью весь поселок облазили, и все окрестности.
— Хамелеон, — сказала Ленка, — там перед ним овраг, и Мертвая бухта. Мы там были, несколько раз.
— Мертвая, — ручка постукала по написанному, — там сейчас туристы, палаток сто штук. Хотя, может и там. Дальше?
— Еще старый пирс, крайний, у заповедника. Там будочка была. Мы там Новый год.
— Угу. Когда шампанским поили Посейдона?
У Ленки сбилось дыхание. Господи, как было прекрасно! Вот бы все повернуть. Но тогда, может быть, не было бы Керчи, шатра из перевернутой старой лодки. Халабудки на Рыбкином огороде. Поцелуев в Ленкиной комнате, и не только поцелуев…
— Еще?
Ленка, падая в прошлое и возвращаясь обратно, хриплым голосом перечислила все места, где они бродили. Где сидели, глядя на море, или валялись, рассматривая облака над горизонтом. И замолчала.
Вероника встала, поправляя оборку на вырезе. Еще раз перечитала листочек.
— Ну, вы бродяги. Времени у нас полдня, вот было бы славно найти паршивца. Чтоб матери позвонил.
— Подождите, — сказала Ленка, тоже вставая, — я вспомнила. Еще одно место. Я сбегаю. Сначала.
— Сумку можешь тут оставить. Есть не хочешь? Может, перекусишь быстро?
Ленка покачала головой, нетерпеливо поворачиваясь к выходу.
— Ты про его тайные бухты? — догадалась Вероника, и тоже покачала головой, улыбнулась грустно, — забываю, вы же совсем еще дети. Там, Леночка, нынче туристов — не протолкнуться, группы идут одна за другой, по тропе вдоль берега, и выше. Заповедник, экскурсии. Да там ни кусочка сейчас пустого нет, везде люди. Не осень ведь, и не зима.
— Они же тайные, — с вызовом сказала Ленка, вешая сумку на спинку стула, — вы сами тогда кивали, что Валя — может. Что он не как все.
— Кивала. Я всегда его поддерживаю, да всех вас, маленькие. Чтоб выросли не бездушными сухарями. И сказки в этом помогают.
Они замолчали, стоя друг перед другом. А потом Вероника посмотрела на часы.
— Беги. Через пару часов, если не вернешься сюда, пошлю ребят, и сторожа, на поиски Вальки. Может, где слоняется среди туристов. Сумка твоя тут, так что…
— Да, — ответила Ленка, уже сбегая по лестнице, а сердце уверенно стукало, соглашаясь с ней, конечно, да. Единственное место, куда он мог уйти, если остался в поселке. Маленькая бухта, куда ведет узкая тропка, петляя среди серых, кривых как в сказке, камней, окруженных кривыми и странными, как в сказке, деревьями. Такая тайная, что никто кроме Вальки, не знает туда дороги. А Ленка знает, они были там вместе.
Места, где Ленка и Панч были вместе, и они принадлежали только им, да еще котам, которых кормили младшие, оказались битком набитыми летним народом. Ленка шла, огибая праздных мужчин и женщин, медленно ленивых, и потому неудобных, в небрежных летних одеждах, вокруг бегали дети, быстрые, несмотря на сверкающую жару, и от скорости этой тоже неудобные для Ленки. Все мешало ей, и сердце стучало теперь уже от нетерпения, потому что Вероника сказала — два часа, пара часов у Ленки, чтобы найти Панча самой. Но даже дорога вместо намеченных десятка минут заняла больше времени.
Ничего, думала Ленка, надо просто миновать толпу, и пойти вверх, по знакомой тропе, окруженной кудрявыми кустами и серыми валунами, над которыми вырвался в небо хребет Кара-Дага — казалось, клонится, рассматривая ее.
— Билет, — сказал кто-то над самым ухом. Ленка вздрогнула, остановилась и ее тут же затолкали, доброжелательно обходя и спихивая на обочину к забору с провисшими проволоками.
— Девушка, — требовательно добавили сзади, — вы с группой? Проходите, пожалуйста.
Ленка замялась, но ее снова толкнули, направляя, и она оказалась в строю летних людей, за широкой спиной в пятнах пота. Где-то впереди монотонно вещал экскурсовод, таким усталым и одновременно бодрым голосом, что непонятно — мужчина или женщина. Что-то о ханах, невестах, о каменных коронах и драконах, такое, истертое повторениями, и никому толком не интересное, так что все спотыкались, глядя по сторонам и переговариваясь. Вытирали пот платками, скидывали на плечи шляпы из синтетической соломки, и те болтались на плетеных шнурках. Вот голос скомандовал, вытянутая змейкой толпа послушно посторонилась, пропуская встречных, таких же потных и радостных, с платками на шевелюрах и лысинах, и шляпы, шляпы из синтетики.
Ленка нахмурилась, пытаясь рассмотреть за караваном туристов сверкающее море, скалы и уходящие к ним тропинки. И свернула резко, руками распихивая ленивые горячие тела.
Голоса чуть утихли, Ленка спускалась, с надеждой узнавая окрестности. Вот высокая скала, одним краем тыкается в воду, вдоль нее неровные ступени в глине, прикрытые зеленью и желтыми круглыми листьями. Она оглянулась, убедилась, что никто ей не кричит, и пошла быстрее, хватаясь за ветки и проскальзывая. Облизала сухие губы, прыгая на крупную цветную щебенку. Почти упала, и выпрямилась, с разочарованием оглядывая каменистый пляжик, по которому слонялись группки людей с фотоаппаратами. Их было человек тридцать, кто-то бродил по воде, другие, присев на корточки, перебирали неудобные каменные осколки, показывая друг другу. На уступе скалы девушка, изгибаясь, смеялась, складывая над головой руки.
Ленка повернулась и полезла обратно, цепляясь за ветки, ставшие неудобными, колючими. Небо маячило перьями облаков, солнце над черным хребтом сверкало до рези в глазах. Группа туристов уходила, оставив Ленку на относительно пустом пространстве, а издали неумолимо приближалась еще одна толпа. И вокруг шум. Крики, смех, мегафонный говор, грохот лодочных моторов с воды.
Она встала, растерянно оглядываясь. То, что казалось совсем простым, стало вдруг сложным. Долго идти к следующей бухте, и не видно, вдруг в ней тоже народ. Непонятно, где искать тропку, спуститься ли ниже, теряя время, или идти дальше, и спускаться там.
Теперь ее нет, этой бухты, сказал в голове ясный голос, а ты не верила. Ее не видели художники, не просто не разглядели, а не слышали Панча, который кричал им в полный голос, смеясь и размахивая длинными руками. И знаешь, почему? Потому что она появляется, для него. И для тех, кто с ним, кого он хочет взять с собой. Не для тебя, Малая. Если ты не можешь в нее попасть.
Я могу…
Ленка быстро шла по натоптанной общей тропе, кусая губу и сжимая кулаки. Конечно, могу, просто надо сосредоточиться и внимательно оглядеться. Она обязательно будет!
Но сердце билось уже по-другому, медленно и устало, говоря, что ее уверенность исчезает, а на ее место приходит другая. В том, что Панч там, куда ей больше нет хода. Нельзя пускать в сердце эту унылую уверенность, знала Ленка, но как уберечься от уныния, не знала. Ничего не поможет, думала она, ни-че-го.
Стоять на широкой тропе, ожидая когда пройдет очередной караван туристов, стало вовсе невмоготу, Ленка вздохнула и полезла выше по склону, треща кустами и подворачивая ноги. Встала на покатой полянке, внимательно осматривая сверху белые пятна тропы, серые и коричневые камни, зелень и желтизну, синие куртинки дикого льна. Где-то рядом исчезающее пах чабрец, прямо у ног. Хотелось плакать, и одновременно было страшно, что придется уходить. Или — бродить, без всякой надежды. В голове возникали какие-то варианты, и тут же поспешно отвергались, такой детский сад, думала она, в ответ на всякое — помолиться, захотеть сильно-сильно, срочно придумать волшебное слово, зарыдать, или крикнуть, множа горное эхо.
Да что же я такая… Вот другая бы!..
Не будет больше сказок, Мала-Мала, поняла для себя Ленка, нагибаясь — сорвать сушеных листиков чабреца. А вариантов осталось всего два. Или вернуться, чтоб снова отправиться на поиски, на этот раз вместе со всеми, с ребятами, Вероникой и сторожем.
Или…
Проверю еще пару бухт, решила Ленка, осторожно спускаясь на надоевшую туристскую тропу. Ну, или три бухты, а может, четыре, часы на руке, да и чего торопиться, через час Вероника все равно отправит ребят на поиски, так что времени у Ленки вагон, можно идти и идти, просто так, пока солнце не скатится за вырезанные вершины гор.
Вальку она увидела буквально сразу после того, как сделала шаг в глубину заповедника. Он сидел на выступе скалы, длинной и прямой, как стол, нет, скорее, как грубое лезвие топора, которым пытались рассечь воду, и он увяз в ней, ровно и навсегда. Маленькая сгорбленная фигурка на самом краю, согнуты глянцевые коленки, и по коричневым плечам — черные волосы. Такой Маугли, но без волков и вообще, совершенно один, думала Ленка, поспешно спрыгивая, скользя, хватаясь, нащупывая ногой, цепляясь за ветки, снова прыгая. И сейчас ей казалось, по-другому и не могло случиться, как это, она не увидит тропинки, не найдет бухты. Да вот же она. И вот ее Панч.
— Валик! — голос запрыгал, будто он один из осколков скалы, звонкий и крепкий.
— Панч! Я тут!
Она махала уже снизу, торопясь через круглые и острые камни, вдоль яркой воды с белой сверкающей каймой пенки. Поднимала голову, напряженно, до слезы, всматриваясь и хмурясь, но тут же улыбаясь. Фигурка стала совсем черной на фоне светлого неба, и не видно было, смотрит ли. И если да, то как?
Ленке захотелось подвернуть ногу, сесть с размаху, вскрикнуть, чтоб пошевелился. Чтоб знал, нужно спуститься и помочь. Но вместо этого она встала в черной тени скалы, с поднятым к мальчику лицом.
— Валька!
Черный силуэт пошевелился. Поднялась рука, взмахивая ладонью.
— Там стой. Я сейчас спущусь.
Слезы делали мир размытым, дрожащим. Вода смешивалась с вершинами, перетекая в бледную небесную синеву, и по синему, исчезая в черных тенях, приближалась такая же черная против света фигура с волосами, рассыпанными по плечам.
Ленка моргнула, напряженно глядя и сжимая кулаки. Ей было необходимо знать, что он не просто рядом, а улыбается ей. Панч повернулся, становясь почти напротив, солнце высветило загорелое лицо с темными глазами. И сжатые губы. Он был серьезен. И это напугало ее, разворачивая в голове все накопленные страхи. Конечно, кругом виновата, и он имеет полное право стоять рядом без улыбки, глядеть так, будто она совсем чужая. Сейчас скажет, иди туда, откуда пришла, в свою жизнь, куда не захотела меня пускать.
— Валя, — сказала она, собираясь промолчать, и может быть, улыбнуться, сказать о мамином звонке, и уйти. Чтоб больше не мешать ему жить. Вот сейчас, помахать рукой и отступить.
— Валинька. Я все объясню. Ты только. Пожалуйста. Я расскажу. Чтоб ты понял. Да?
Говоря не очень связно, уже понимала, никуда не уйдет, еще чего, взять уйти, эдак красиво. Не выйдет. Пусть узнает все, и пусть знает, что Ленка его любит. Так вот вышло.
Панч поднял тонкую руку, поворачиваясь к сверканию воды.
— Потом. Пошли скорее. Залезешь?
— Куда? — она почти бежала следом, не успевая за быстрыми шагами. Галька гремела, шумела вода, разбиваясь о круглые камни, сверху, с тропы, исступленно звонко пилили цикады, будто терли жестяными боками старые тазы, стараясь, чтоб погромче.
— Подошвы не скользят? Я босиком.
— Нет. Они… нет, нормально.
Он лез вверх по грубым, черным и рыжим валунам, и наклоняясь, подал ей руку. Ленка схватилась и закрыла глаза, сжимая его пальцы. Испуганно открыла снова, ушибаясь голым коленом, и боясь, что Панч заругает ее — неловкую.
— Тихо. Не свались. Сюда ногу.
Он втащил ее на высокий уступ, тот, на котором сидел, когда Ленка увидела его. Сел, не отпуская ее руки. Она почти свалилась рядом, подламывая ногу, повозилась, усаживаясь и по-прежнему крепко держа горячие пальцы. Сердце стукало, повторяя одно и то же. О том, что оказывается, никаких нет непоняток, никаких препятствий, и если надо, она все расскажет, и будет ходить следом, упрашивая понять, и не развернется уйти, чтоб побежал догонять, потому что ей страшно, а вдруг не побежит. Оказывается, вот оно как, если любишь, какая там гордость, какое там — сам должен понять.
— Смотри, — голос прервал беспорядочные мысли, — справа. Видишь?
Ленка поспешно уставилась на край воды, хмурясь от желания сразу увидеть. И повернулась на его смех.
— Что?
— Справа. Лен, я сказал же — справа. Скорее смотри.
Ленка поняла, снова перепутала право и лево, с ней такое бывало, часто. И чтоб никто не знал, на уроках военной подготовки она скрещивала пальцы на правой руке, боясь неправильно повернуться.
В сверкающей воде мелькали острые плавники, выкручивались блестящие мокрым глянцем тела, серые и совсем черные, показывали плоские раздвоенные хвосты и снова исчезали. А потом появлялись ближе, и еще ближе, так что был виден скругленный нос и блик на горошине глаза.
— Дельфины. Как много!
— Супер, правда? Там, где все, они далеко плавают. И не такими стаями. А в бухте много. Потому что тут рыба. Вчера я считал, почти сорок штук приходило. Наверное, нельзя их штуками.
— Сорок человек? — предположила Ленка, держась за его руку, — морских человек.
— Сорок пловцов. Да? Лен. Я спросить хотел, когда увидел тебя там, в больнице.
Ленка застыла с кривой улыбкой, не чувствуя своих пальцев, стиснутых на руке Панча.
— А вдруг ты меня, как щенка, ну болеет, жалко. Вдруг ты из-за этого. Со мной.
Его вопрос был так поперек ее мысленных мучений, что она не сразу нашлась с ответом. Молчала, растерянная. Но испугалась, вдруг не успеет, и заговорила, мучаясь тем, что хочется сказать быстро и понятно, а получается не очень.
— Ерунда какая. Ты из-за Павлика? Ой, ну да, пацан этот, у него сломана рука была. Валька, но он же не ты вовсе. Просто жалко его. А тебя нет. Фу, не так, просто, я же люблю тебя, понимаешь?
— А его пожалела просто?
Он по-прежнему смотрел на дельфинов, а те, заполнив воду веселыми круглыми телами, крутились, исчезая и появляясь. Ленка замотала головой, обращаясь к профилю, с тонким носом и ухом, полускрытым черными прядями, проволочными от того, что были мокрыми и высохли на солнце.
— Да. Его просто. Потому что надо было. И тебя я жалею. Но я тебя люблю. Там тебе мама звонит, Вероника хочет послать всех, чтоб искали. Тебе нужно пойти, Валь. Я тебя люблю. Ты можешь быть больной совсем или здоровый, я тебя все равно люблю, и не знала даже, что так. Сильно. Я криво говорю сейчас, но надо, чтоб понял. Ты посмотри на меня. Сейчас прямо. Пожалуйста.
Он уже смотрел в отчаянное лицо, и на темном загаре блеснули зубы. Кивнул и засмеялся. Потер руками голые коленки.
— Знаешь, я когда звонил, сперва испугался. Ну, что у тебя там что-то. Но у сестры голос такой, нормальный голос. Я подумал, да блин, я много чего думал. И злился. Ну и думал, тебе надоело просто. Это же такое все — редко можем видеться, да? А тебе надо, может, в кино там. Погулять вечером, чтоб мороженое. Поехать куда. Помнишь, мы говорили. Ну и после, когда увидел в больнице, я вообще не понял, что думать. Потому ушел. Лен, я ведь тебя там видел уже. И тоже с ним. Ты шла впереди, а я не понял, вот дурак, да? Халат там, косынка. Думаю, идет, как Лена Малая. А ты свернула в палату. Я заглянул. Ты как раз сидела рядом, говорила, вы в окно смотрели вместе. Нет. Ты в окно. А он на тебя. Ну, я понимаю, как он смотрел.
— Ты. Ты почему не зашел? Если видел меня?
Она встала, сжимая кулаки. Валик серьезно смотрел снизу, обхватив руками колени.
— Да, — сказала Ленка, мгновенно остывая, — да, я поняла. Один раз увидел, а после снова, и опять с ним. А я не звонила. И вообще врала. Прости. Я тебе все расскажу. Только сейчас надо скорее, обратно. Чтоб мама твоя.
— Лен. Ты мою маму сейчас жалеешь, да?
— Конечно, — удивилась Ленка, — прикинь, как она там. Ты с ней поговори, а потом уже мы. Поговорим. И ты меня сразу разлюбишь. Ты что смеешься? Я ведь серьезно.
— Пошли, — Валик встал, поддернул линялые старые шорты, — не прыгай, я руку дам тебе. Свалишься, еще сломаешь чего. И мне надо будет тебя жалеть.
Ленка спускалась, держась за его пальцы и дрожа ногами. На гальке качнулась, Валик обхватил ее плечи и прижал к себе, под ярким дневным солнцем. Тыкнулся в губы своими, горячими и шершавыми. И отпустил, становясь рядом.
— Не хочешь. Извини.
— Да нет же! Валь. Давай я все расскажу, да? И ты еще сам не захочешь!
Глава 51
Над морем вставала луна. Такая багровая, мутная, будто ее только что вытащили из чаши, полной крови. Красиво и очень тревожно.
В костре треснула ветка, рассыпала веерами огненные брызги. И в ярчающем свете живого огня решетка стала черной, резкой, зашипели, плюясь и свистя, уложенные на нее ракушки.
Валик, поддевая веткой одну, подтащил ближе к краю закопченной решетки.
— Готово. Горячо только, я сниму, остынет.
Ленка сидела, чуть клонясь к его плечу, кивала послушно, думая только об одном, пусть разберется с ракушками и снова обнимет рукой ее плечи. Ей было страшно. Вдруг она продолжит рассказ, и его рука ослабеет, осторожно отпуская, исчезнет, и больше он не положит ее на ленкино плечо.
— Тебе ведь не завтра обратно?
— Что?
Она смотрела в его спину, согнутую к гальке, так что свет падал на ребра и локоть.
— А. Да. Завтра воскресенье. Мне в понедельник надо, только очень рано. К семи уже на работе чтоб.
— Я с тобой поеду.
— Что?
Валик отряхнул руки и выпрямился, сел снова совсем близко и обнял ее плечи, прижимая к себе. Ленка закрыла глаза.
— Рассказывай дальше.
— Ты правда поедешь?
Он кивнул.
— Вероника ж сказала, нормально. Если, конечно, ты меня не выгонишь, на вокзале спать. Шучу. Я ей наврал, что мне есть там, у друга. Ну есть, но он умотал с родителями, так что на самом деле нету.
Ленка вздохнула. И продолжила рассказывать.
Луна поднималась выше, светлела, кладя на воду огромную белую заплату, а от нее к середине маленькой бухты бежала серебряная дорожка. И почти белая, луна уже не пугала. Казалось, чем дальше идет время ночи, тем мягче становится все вокруг, засыпая. И может быть, все не так и страшно. Панч ее обнял. Хотя о Пашке она уже рассказала, коротко, мучаясь стыдом за то, что приходится все это говорить словами. А так не хотелось, чтоб решил — выгораживает себя, говоря о других гадости.
К белой луне, воцаренной в небе, усыпанном некрупными в ее свете звездами, пришло время Кинга. Красивого и сильного, для которого Ленкины горести и заботы были всего лишь глупостями, которые мешали. Или же помогали привязать к себе. Именно так она не говорила. Просто рассказывала по порядку, радуясь, что в темноте не видно ее лица. И лица Панча.
Но его рука лежала на ее плече. И не исчезала.
Луна стала маленькой, как полукруглая лампа, белый матовый плафон, изъеденный пылью. И Ленка, оставив Кинга в машине толстого Димона, рассказала о докторе Гене, о визите в клинику и о том, что говорил ей по телефону Миша Финке. Вернее, о чем он молчал, как она, рассказывая, со стыдом поняла. Одновременно с мишиным внимательным голосом в ночи появился и Павлик, мальчик с хрустальными костями, которые, неизвестно, станут ли крепче, когда он минует один возраст и уйдет в другой. А если не станут, то он умрет, и знает это. Так же, как знает о себе Панч, который несколько раз умирал, а потом возвращался.
— Вот, — сказала она в темноту, и оказалось, голос стал хриплым, горло саднило. Устала говорить, и вообще устала, будто мешки грузила, так смеялись дома.
— Лен? А теперь мне можно с тобой поцеловаться?
Она снова растерялась. Он смеется над ней? Или ему вообще все равно, что было, а просто охота целоваться с девушкой, блондинкой, вслед которой цокают рыночные торговцы и свистят пацаны?
— Мне совсем не все равно. Что ты рассказала мне. Но я все жду и жду, если ты меня любишь, Малая, да блин, я имею право, наконец, тебя поцеловать? Я ведь тоже тебя люблю.
Ленка закрыла глаза. И они поцеловались.
Валик сидел, держа ее за плечи. Так близко. И его губы у самого уха. Сказал щекотно, мешая слова с дыханием:
— Я его могу убить. Этого Кинга. А еще Санича тоже. Ну и доктор этот. Так. Кого там еще…
— Нет, — Ленка испугалась всерьез, поворачиваясь, чтоб в неровном свете разглядеть лицо, — ты что? И сядешь, да? Не думай даже! Ты вообще слушал? Я сказала же.
— Что сказала?
— Ну… — Ленка слегка затруднилась и повторила, — вот. Вот же. Ты все узнал. Чего молчишь?
— Сказал уже.
— А про меня? Ну, ты же думал. А я…
Море плескалось еле слышно, будто слушало и не хотело пропускать слова.
— Ты, Лен, совсем оказалась глупая. Не потому что у тебя это все наслучалось. А потому что секретов накрутила. Почему не сказала про долг?
— Тебе? Валь, ну а ты что сделал бы? С мамой, которая на двух работах. И с переездами там всякими.
— Не твое дело. Но сказала бы! А еще своим родителям. И сестре. Да блин, ты молчала, даже подруге ничерта не сказала! Про нас с тобой. Боялась, да?
— Не кричи, — испуганно попросила Ленка, — пожалуйста, не кричи. Да. Боялась. Ты же мне брат. А мы.
— Ладно. Но про деньги. Надо было сказать. Просто вот поделиться.
— Зачем?
Теперь уже крикнула Ленка, отклоняясь и сжимая кулаки. Как он не понимает? Она все наворотила, и ей пришлось расхлебывать, а чего вешать на других.
— Затем. Не только я тебя люблю. Вот ты бросила все, даже меня, когда Павлик этот. Он что, тебе чего обещал? Или ты ему должна? Нет. Просто так, понимаешь, потому что ты добрая. А думаешь, ты одна добрая? Думаешь, никто тебя не пожалеет?
— Не надо меня жалеть, — угрюмо отказалась Ленка. И замолчала, потому что дальше не знала, что ответить. А нет, кое-что в ответ было…
— Мама стонет постоянно, что жизнь тяжелая. Светка ходит с пузом. И муж еще. Груш объелся. У Рыбки своих проблем полно.
Она говорила все громче, потому что Валик уже не сидел рядом, а уходил к воде, расшвыривая босой ногой голыши, и те стукались, отлетая.
У самой воды ушиб ногу, присел, хватаясь за ступню. Повернулся и закричал, перебивая ее:
— И что? Думаешь, все-все взяли бы и бросили тебя одну? Даже твой телефонный Финка тебе помог. Не потому что он добрый, Лен. А потому что ты ему рассказала.
Ленка бежала к нему, ушибая о камни пальцы и пятки. Присела рядом, хватая ступню и растирая ее. Хотела бы возразить, но не складывалось в голове ничего. И правда, не представлялось как-то, что мама возьмет и совсем отвернется. Или отец. Или Светища.
— Пожалуйста, не кричи, — попросила, держа в ладонях его ногу.
Панч опустил голову, волосы закрыли лицо и плечи. Вода подходила совсем близко, сверкала лунными бликами, и за спинами подгорали, чадя, выловленные вечером небольшие рапанчики.
— Я тебя, наверное, ненавидеть буду. Лен. Потому что очень сильно люблю. Ты как думаешь, мы справимся?
Ленка опять хотела переспросить, что? Лишь бы выиграть время. Но промолчала, растирая ему ушибленную ногу.
— Я справлюсь, — сипло сказал Валик и закашлялся, прижимая руку ко рту, — я точно… щас… я справлюсь. Я ж мужик все же. А ты? Если я иногда вспомню, и наору на тебя, ты меня не погонишь? Ссаными тряпками.
— Чего?
— Это дядя Витя сторож так говорит. Про ссаные тряпки.
— Где я тебе их возьму, — буркнула Ленка. Бросила теплую ногу и заревела, закрывая лицо ладонями. Рыдания от сложенных ковшиком рук получились гулкими, и Ленка быстро их убрала, прерывисто всхлипывая.
Панч сидел рядом, Ленка плакала, просто так, без надежды и вообще без мыслей, плакала, и ей не становилось легче. Но и паршивее тоже не становилось. Просто лились слезы и лились. Как в том совсем детстве, когда папа качал ее в коляске, а она орала без передыху. И засыпала с сердитым красным лицом.
Рука мальчика снова легла на ее плечо. И слезы прекратились, будто завернулся внутри кран. Все что угодно, страстно пожелала Ленка, лишь бы никуда не девался. И вообще буду умная и осторожная. И никуда, никогда, ни с кем, а вот только Панч.
— Рубашку на. Платков нету. Я тут видишь, совсем робинзон.
Она вытерла лицо и вернула Панчу скомканную рубашку, пахнущую костром.
Мальчик накинул ее на плечи. Сел, как сидел на скале, поджав ноги и уложив руки на согнутые колени. Прислонился к Ленке плечом.
— Давай придумаем, где эти деньги взять. Хотя я бы лучше его убил просто.
— Угу. Ссаными тряпками.
— Да хоть ими, — согласился Панч.
Утро увидело их рядом с погасшим костерком, у бока огромного валуна, сморщенного каменными складками, будто он слон, заходящий в тихую воду. А кроме утра и неяркого еще солнца никто не видел спящих на старом покрывале детей — мальчика, тонкого, с длинными руками, раскиданными по гальке. И девочку, которая отвернулась, улегшись на бок и поджав коленки, а светлые волосы закрывали ладони, сунутые под щеку. Никто, хотя сверху, за галечным серым пляжем, за обрывчиком, поросшим упрямыми кустарничками, маячили уже головы в шляпах и панамках и еле слышно долетали мерные слова заученных легенд.
Солнце ярчало, трогало закрытые глаза и припекало пальцы, щекотало коленки. И наконец, моргнув, Панч пошевелился и осторожно сел, подтягивая ногу, чтоб не толкнуть спящую Ленку. Продрал пятерней черные волосы, закидывая их назад, а пряди тут же свесились, щекоча голые плечи.
— Справа вы можете видеть скалу, с определенного места похожую на голову собаки… — вещал сверху голос.
Ему уже отвечали цикады, пилили звонко, вдруг умолкая, будто прислушивались сами к себе. И тихо плескала вода, шевеля мелкие камушки, будто гоняла фасолины, стукая круглыми бочками.
Панч улыбнулся, нагибаясь, чтоб увидеть за выгоревшими белыми волосами нос, полуоткрытые губы и полукружия ресниц с выгоревшими кончиками. Вспоминая ночной рассказ, нахмурился, страдальчески кривясь. Отвернулся, сжимая кулак и ударяя им по своему колену. Но снова уставился на спящую, подползая на руках ближе, чтоб слышать дыхание.
Рассказанное мучило его, как и боялась Ленка, мучило теми картинками, которые он рисовал себе, и все — вокруг нее, с ее копной белокурых волос, ее невысокой стройной фигурой и крепкими ногами с красивыми икрами. Ее маленькой грудью, которую Панч видел, тогда, в Керчи, разглядывал тайком, стесняясь, что Ленка увидит и вдруг обидится. Ему казалось, что она меняется на глазах, прямо сейчас, становится совсем чужой, непонятной, будто ее захватали чужие руки, так сильно, что не разглядеть. Но одновременно это была именно она, и от того становилось ужасно больно, так больно, что невозможно было прислушаться к рассудительному внутреннему голосу, он все мог оправдать, разложить по полочкам, по датам и обстоятельствам, но для этого нужно было успокоиться и слушать. А как слушать, если — картинки.
— Подтягивайтесь! — сердито закричал надсадный голос, рождая в дальней гряде эхо, — вы там, в белых штанах, я вам, женщина!
Это слово — «женщина», оно царапнуло и после ударило, наотмашь. Панч прерывисто вдохнул, закашлялся и сильно хлопнул себя по губам, ненавидя себя. И что пугало его — ненавидя Ленку.
«Хорошо, что она спит».
Он поспешно отполз подальше, сел, спиной к ней, обнимая руками колени. Положил подбородок на них так, что заныли стиснутые зубы. Надо просто ждать. Любая боль кончается. Да все кончается, проходит, он это знал, считая медленное время капельниц и стремительное время приступов. Но знал и то, что бывает, проходит не вовремя, тянется слишком долго. Будешь вот так ждать, Валик Панч, и жизнь кончится, пришла дурацкая, казалось бы, мысль. Но он ее знал, она не была дурацкой, а очень помогала ему. Потому что привык жить без будущего, зная — его жизнь и правда, может кончиться внезапно. Даже одного раза хватило бы, а у него их было три. Последний тогда, в школьном коридоре, и Ленка Малая спасла его, а перед этим он кинулся спасать ее. Но еще после первого раза, когда в одиннадцать лет узнал из тихих разговоров врачей, что могли и не спасти, не откачать, тогда вдруг понял, для него некоторые вещи заказаны, и если что-то можно сделать, нужно делать, а то так подождешь, и жизнь рраз, кончилась, а ты и не успел.
«Ну и что?» насмешливо спросил сам у себя, поводя голыми плечами, которые припекало солнце, ну кончилась, да у всех она кончается, и как там — все там будем. Один после долгой жизни, полной достижений, или приключений. Другой — ничего не успел, родился, умер. Так может вообще на все наплевать?
И вот этот вопрос показался ему совсем дурацким, непонятно, как плевать и что наплевав, делать.
Над сверкающей рябью медленно пролетела чайка, ложась на крыло, повернулась и понеслась обратно, спикировала, плеснув камнем о воду, подняла фонтачик брызг и рванула вверх, держа в клюве серебристую полоску — поймала рыбку.
Что-то важное нужно было подумать, так думал Панч, провожая глазами белую птицу, несущую в клюве маленькую серебряную смерть, что-то до того, как она проснется, потому что — посмотрит, скажет, и все двинется, а он упустил, не подумал без ее взгляда, который все поменяет. Сегодня вечером нужно уехать, он обещал Малой, что уедет с ней. И не потому что ему так хотелось, хотя да, хотел, и сильно. Но еще сильнее хотел, чтоб ее глаза не становились такими затравленными, как только он умолкал или переставал улыбаться. Будто одна со всех сторон виновата, во всем. А было не так. Разум, который ждал, когда мальчик успокоится, пытался ему сказать об этом. О том, что нет Ленкиной вины. И он уже его слышал. Но боли наплевать на разумные слова. Она не уходила.
За его спиной Ленка пошевелилась, вздохнув. Он замер, молясь, чтоб спала еще, дала ему поймать эту мысль, с которой дальше будет немного проще. Или легче. Повернулся, кося глазом на неподвижную скорченную фигуру. И дрогнув сердцем, нашарил рубашку и укрыл Ленке плечи и попу. Солнце почти пекло, но она зябла, съеживаясь, все еще в остатках ночной прохлады. Они легли вместе, обнявшись. А после, засыпая, он расцепил затекшие руки и лег удобнее. И сразу проснулся от того, что у нее сбилось дыхание. Лежал, глядя в крупные низкие звезды, слышал — не спит, ждет, что обнимет ее снова. Может быть, тихо плачет. А он не мог, ругая себя, мысленно издеваясь над собой и обзывая обидными словами. Тоже мне, ангел Ленки Малой, куды там, ангел, а не можешь простить, прижать к себе. Так и заснул, слушая, как она молчит и тоже засыпает, выравнивая трудное дыхание. Засыпая, почти подумал эту самую мысль, но ушла. И вот теперь не успеет вернуться.
— Валя? — сказала за спиной Ленка осторожным хриплым голосом. И замолчала, видимо, не зная, как дальше с ним говорить.
«Ты умирал» насмешливо и с упреком сказал голос в его голове, ты — умирал, а они нет. И не тебе равняться на тех, у кого полные короба дней впереди. Делай свое, раз тебе показали, что есть вещи важные, а есть те, которые только кажутся важными. И наплюй на то, что неважно.
— Лен, — он повернулся, с безмерным облегчением от пойманной, наконец, нужной мысли, улыбнулся ее настороженному лицу, полному ненужной вины и боли, — проснулась? Блин, Малая, я тут уже спекся, пока ждал. Ну ты и спишь.
Ленка села, опираясь на руки. Моргнула, опустила голову, разглядывая сползающую рубашку. И снова посмотрела на Валика. С таким облегчением и счастьем, что он поспешно съездил себя по уху, так что затрещала дурная башка. Мысленно, конечно.
— Жрать нам сегодня нечего, — обрадовал ее Валик, — так что скупнемся и побредем к тете Маше, на кухню. Я в рабство сдамся, а ты отдыхай, тебе еще завтра шваброй махать. Котов кормить не пойдем, они на туристах обкормились так, что на обрезки глядеть не будут. А я место знаю классное, в парке, там тень и тихо. Посидим пару часов и на автобус.
— Да, — Ленка, спохватившись, поправила волосы, отворачиваясь, протерла уголки глаз.
— Красивая, — утешил Валик, — сонная еще, выкупаешься, заодно умоешься. Целым Черным морем. Да, Лен. Короче, говорить будем про все, поняла? Что нужно сказать, то и говори. Врал я вчера, что наору, вспомню там. Фигня. Если мы вместе, то давай уже вместе, хорошо? И если захочешь еще рассказать, ну или я спрошу, делай, как захочется. Молчи, говори, ну или там скажи — иди нафиг Панч, не скажу. Главное, не надумывай себе фигни. Ты чего смеешься?
— Ты сказал «короче»… ну давно уже.
— Узнаю брата васю, — довольно согласился Панч, — сказал и сам же треплюсь, а язва Малая тут же заметила.
Позже, накупавшись, они уходили, Панч в линялых коротких шортах, с ремешком, на котором старые брезентовые ножны, и Ленка в сарафане и сандалетках с крылышками на щиколотках. На тропе Ленка оглянулась, но черное пятно костерка скрыли густые ветки, а потом подошедшая группа стала весело спускаться по узкой тропинке, Ленка присмотрелась — совсем другой тропинке, и камни по краям бухты совершенно другие, нет слона с серым боком, и нет великанского топора, вонзенного в сверкание воды. А это значит, подумала успокоенно, двигаясь вслед за Панчем, обгоняющем ленивых туристов, они спускаются не туда, и никто не увидит старого покрывала, очага, робинзонских вещичек, сложенных в тени слона: топорика, пары самоловов, коробки с крючками, вытертого, когда-то махрового полотенца…
Глава 52
Тут было так много звезд, что казалось, в них можно купаться, плавать, как в тихой воде, темной, блистающей тысячами разновеликих точек. Крупных — немного, а вокруг них — россыпи звездного песка и пыли. Будто разбились огромные песочные часы, растеряв из-за невидимого стекла пузатой колбы бесчисленные песчинки. И потому время совсем остановилось.
Ленка сказала это шепотом, чуть шевеля губами, чтоб распробовать слова на вкус. Звездные часы. Время рассыпалось.
— Да, — сказал ей на ухо тихий шепот, — точно.
Она пошевелилась, нашла руку Панча и вложила в его ладонь свои пальцы. Улыбнулась тому, как сжал, бережно и сразу. И дальше снова молчали, следя за медленными песчинками редких спутников, мерцанием самолетных огней, тоже редких. И полосками, что оставляли на россыпи падающие звезды. Увидев, как падает первая, Ленка начала было следить, держа наготове желание, но не успевала, и утомясь, просто повторяла его раз за разом, надеясь, что все совпадет — звезда и мысленные слова.
Хочу всегда с ним. Хочу чтоб мы вместе, всегда. Хочу, чтоб я и Валька — всегда вместе. Хочу всегда с ним. Хочу…
Внизу шумели деревья, а еще шевелился и делал всякое город. Громыхал кранами, гудел автомобилями, играл музыкой в парке. Звуки постепенно стихали, оставаясь в прошедшем дне, и только те, что не спят, шли в день будущий, шумя в соединяющей их ночи. Все снизу. — Небо, в россыпи звезд, молчало, только на самом дальнем его краю ходила гроза, так далеко, что гром казался игрушечным, плюшевым. И сверкали зарницы, как будто их включали и снова выключали.
А между городом и небом, на крыше старой пятиэтажки, где черно по бокам — силуэтами коробчатых чердаков, было бы совсем тихо, но на косматом цветном коврике лежали Ленка и Панч. Болтали, слушая город и глядя на небо.
Одной рукой Ленка держала руку Панча, не глядя на него, чувствовала — он рядом. И ей было спокойно от этого. А в другой нагревался от теплоты кожи большой ключ с витым кренделем головы. Так странно, почти сказочно получилось.
Они приехали в город уже в темноте, шли к дому, усталые, через мерное ри-ри-ри сверчков, что сменило жестяной скрежет дневных цикад. Поднялись по ступенькам, и Панч задрал голову к запертому люку над железной лестницей.
— Жалко, замок.
Ленка молча кивнула, отпирая дверь в квартиру Миши Финке. Да. Там крыша, там небо и вот было бы здорово.
Впуская Панча, подумала стесненно о словах Гены, почему не водит сюда своих приятельниц-анжелочек. Слишком уважает для этого Мишку Финку, которого вечно нет, но который доверяет своему другу. Миша знает, что в его квартире сейчас живет посторонняя Ленка. Но не знает, что сегодня тут будет ночевать Панч. И может быть, что-то захочет случиться. Будет совсем некрасиво, если Ленка согласится. А если она откажет, что сделает Валик?
Мысли были какими-то куцыми, не хотели думаться, а надо их додумать, пока будут ужинать и разговаривать в комнате, полной книг и фотографий. А еще вдруг Миша позвонит. Или доктор Гена.
Они пили в кухне холодную простоквашу, в которую превратилось купленное Ленкой молоко, и ели бутерброды с сыром, когда телефон все-таки позвонил. Ленка подскочила на табуретке, уронив кусочек подсохшего сыра. И сразу встала, ушла в комнату, взяла трубку, прижимая к уху. Раз начала, то и продолжу так же, подумала мрачно. Так держать, Летка-Енка, сказал бы папа.
Но на ее «але» попросили дежурную по корпусу, и Ленка, с облегчением ответив «вы не туда попали», вернулась к Панчу.
Тот сидел, с интересом оглядываясь. Встал навстречу.
— А покажи, ты говорила про фотографии. И еще про его тетради, можно?
Узкая комната, обрамленная захламленными стеллажами, желтела в неярком электрическом свете. Панч ходил вдоль полок, осторожно брал в руки то старую книгу, то ракушку с отбитым краем или деревянную почерневшую мисочку, в которой насыпаны были какие-то старые билетики и записки. Ставил на место. Ленка ходила следом, иногда что-то говорила, а когда умолкала, то оглядывалась, соображая, как же ей быть. Она спала на узком мишином диване, не раскладывая его. А если разложить, то вдруг Панч подумает… Или она сама подумает…
— Лен, — вклинился в ее мысли голос мальчика, — слушай, я сказать хотел. Тут классно. Но как-то все чужое. Будто мы в музее, да? В гостях, короче. Если ты мне постелишь, ну на полу, к примеру, нормально. Я высплюсь. И тебе надо. Ты чего?
Все мысли вылетели у Ленки из головы, все, кроме одной. Конечно, теперь, после ее рассказа, ему гадко и прикоснуться.
Панч подхватил ее локоть, удерживая.
— Ты что? Тебе плохо?
Обнял за плечи, беспокойно глядя в потерянное, бледное лицо. Ленка прикрыла глаза. Ну что же ты, ну догадайся сам. Но он ждал ответа и она вспомнила его слова на берегу. Все говори, Малая. Не надумывай себе ничего! Надо — скажи.
И она сказала. Запинаясь и подбирая слова, краснея от того, что приходится обсуждать такие вещи. Пока говорила, ей ужасно хотелось, чтоб он рассмеялся, сказал «глупости какие», а еще «ты с ума сошла, да?». Но Панч выслушал серьезно. И спросил:
— А ты? Сама ты? Хочешь, чтоб мы тут? И вообще?
И вдруг Ленка поняла. Не хочет. То, что было в Керчи, почему-то не собиралось повторяться, и ей, правда, нужно было, чтоб был рядом, чтоб вот лицо и глаза, дыхание с еле слышным глубоким хрипом. Чтоб никуда не девался, как ее рука или нога. Или сердце. А секс… Да разве она хотела его по-настоящему хоть раз за весь этот год? Думала, это из-за того, что рядом не Валик, а другие. И то, что после случилось с ними в Керчи, оно было прекрасно. Но сейчас в нем не было нужды.
— Тут нет, — ответила она честно, — но я ужасно, боюсь, Валька, ангел мой. Потерять. Я подумала… вдруг ты…
— Не потеряешь, Малая. Даже если закрутишь с кем, и замуж побежишь, я тебе все равно брат, ясно?
— Какой замуж? — возмутилась Ленка, — не нужно мне замуж, еще чего. Ни за кого.
— Хорошо, — кивнул Валик, — а то бы я тебя убил. И под камнем закопал. А на камне написал…
— Панч, я тебя первая убью! — Ленка обняла его крепко, прижалась, тыкаясь лицом в плечо под черными прядями волос. И ей стало так хорошо, так спокойно. Топчась, они смеялись, дразня друг друга, покачивались, как в танце. И из-под Ленкиного локтя, как в первый ее вечер в квартире Миши, громыхнув, свалился на ноги тяжелый ключ.
Панч зашипел, убирая ушибленную ногу и наклоняясь. Повертел в руке находку. На серой оловянной поверхности тускло блеснул свет.
— Попробуем? — предложил Ленке.
Она кивнула, с полуслова поняв. И вместе они заторопились в прихожую.
Только бы подошел, заклинала Ленка, держа входную дверь, чтоб не захлопывалась, пока Панч, забравшись по железным прутьям ступенек, ковырял ключом в большом замке, удобнее вывертывая его на дужках. Замок щелкнул и свалился ему в руки. Ленка смеясь, подставила свои, принимая. А Панч, откинув обитую жестью крышку, выпрямился туда, в темную небесную пустоту. Сказал сверху:
— А-фи-геть! Малая, тащи на чем сидеть, тут прям космос.
Еще одна звезда упала, как раз вместе с Ленкиными мысленными словами. И она, успокоившись, закрыла глаза, почти засыпая, усталая.
— Лен? А ты, ну когда с Кингом этим… Ты… Тебе хорошо было? Секс там, все такое.
Глаза открылись в россыпи звезд, и сон улетел, как падающая наоборот звезда.
— Если не хочешь говорить…
— Нет. Я скажу. Тебе скажу.
Она села, отпуская его руку и обнимая коленки. Если не смотреть на небо, то вместо звезд перед глазами была черная коробка чердака с торчащими на ней тонкими антеннами, они блестели в рассеянном свете.
— Понимаешь… Нет, не так. Если честно, то, да. Извини. Я не стала бы, если бы совсем не хотела. Но это не из-за секса, это другое совсем. Дома все такое — сплошные запреты. Этого нельзя, это плохо, а это — что соседи скажут. И можно только то, что по правилам. А кто их придумывал? В школе? В газетах? Такая тоска. Учись отлично, потом поступай, неважно куда, и там учись отлично. И тайком развлекайся. Как Светища моя. Студенческая жизнь, нагуляйся перед буднями. А когда с ним, то как-то, ну… как на острове, понимаешь? Будто нет правил, общих. А есть свобода. Потом оказалось, я дура. Там свои правила, понимаешь? Он мне их сказал, когда я хотела уйти. Я ведь думала, если я сама согласилась, решила сама. То сама потом могу отказаться. Ой. Я не про то. Получается, я жалуюсь. Бедная такая Малая.
Она беспомощно усмехнулась, крепче стискивая коленки руками. Не хватало слов, чтоб сказать правильно, что чувствовала. О том, что секс, оказывается, был платой за то ощущение свободы. Которая не из-за денег и катания на машине, а которая разрешала не следовать тоскливым правилам. Можно было проговорить это, но следом сразу пришлось бы снова говорить о том, что все оказалось ложью, и никакой свободы не было там, просто правила — другие.
— У меня дома книжки есть, — вместо подуманного сказала Ленка, — писателя Федосеева, он путешествовал по Саянам, один или с проводниками. Мне когда было десять лет и одиннадцать, я думала, тоже буду. В тайге, где можно куда хочешь идти, самой. Костер там, небо в звездах. Мечтала прям. Смешно, да? Там же комары всякие, и страшно. И нет никого, чтоб помочь. Ну, и я — девочка. А он большой сильный дядька.
— Как этот Финке.
— Да. Я еще наверное, поэтому так, к его тетрадкам. Как Гена рассказал. Чтоб выйти на вокзале и остаться. Если решил. Решила. Но получается, он слегка ненормальный, и жена его бросила. И я если так хочу, я тоже ненормальная.
— Соседи.
— Что?
— Скажут, — продолжил Панч, — ой, что скажут соседи. Я не смеюсь, я серьезно, все так подумают, конечно. Тем более, извини, Малая, ты и так ненормальная, для них. Вон какие сандалики смастерила. Отличница-сапожница.
— Да! Мама говорит, если получается, ну ладно, выбери факультет, модельер обуви, учись, диплом. А если мне не надо диплом, чтоб мастерить такое? Если бы я собиралась стать, да вон училище, скорняжное, год и дальше можно работать.
— А ты не собираешься?
Ленка покачала головой, собрала волосы, скручивая в жгут и отпуская.
— В том и дело, Валь. Я много умею. А уколы знаешь, как научилась? Мне говорят, бегом в медучилище, будешь нарасхват, потом врач. А еще шью. Но как подумаю, что на всю жизнь, то сразу перехочиваю. Перехачиваю?
— Перехачухиваю.
— Неважно. Главное, кажется, все вокруг знают, как будут жить. А я вот не знаю. А так нельзя.
— Кто сказал?
Ленка пожала плечами. Тряхнула головой, рассыпая волосы.
— Все говорят. И не надо мне сейчас про наплюй на всех. Потому что мне это тоже важно! А я пока что не вижу ничего, как впереди будет. Не знаю. Даже не знаю, чего мне хотеть!
— Но хочешь ведь чего-то? Путешествовать там, например. Делать что-то.
— А, — Ленка махнула рукой, — да не и сильно хочу. Ну поеду, ну еще куда-то поеду. Я ведь не люблю одна в чужих совсем местах, и мне нравится, вот тут у Миши, потому что я привыкла, вроде как дом. Свой дом, наверное, хочу. Жить. Я жить хочу, а как не понимаю. Смотри, Валька, даже вот мы с тобой. Я тыщу раз думала. Если все получится, мы всех победим, и будем вместе. А как? Какое оно, это вместе? Где мы будем жить? А как же твоя мама? Мои ладно. Светища родит малявку, и маме хлопот на три года вперед прибавится. А твоя останется одна? Или я к вам приеду здрасти-здрасти, пустите, Ларисыванна, блудную Малую к вашему сыну в спальню. Фу, извини, я тебе, наверное, надоела со своими скучными мыслями.
— А мне не говорят.
— Чего не говорят? — не поняла Ленка.
— Ну, что так жить нельзя. Что надо себе будущее придумать. У меня будущее, Лен, инвалидность. Тяжелая или легкая. И что смогу, то и буду делать. Любое.
— Валинька…
Ленке показалось, что черные коробки чердаков выросли, загораживая все небо. Но Панч засмеялся, придвигаясь и просовывая свою руку под ее согнутую ногу, прижался щекой к щиколотке.
— Не пугайся. Я привык, давно уже. Главное, не помереть. Мне нельзя, у меня — Ленка Малая. А остальное. Понимаешь, я могу как раз жить, как хочу. У меня от общих правил освобождение. Как от физкультуры.
— Что за жизнь такая, — подавленно сказала Ленка, кладя руку на его волосы, — неужели так везде, Валь? Жить по-своему могут только ненормальные и вот, с инвалидностью. Я так не хочу. А как хочу, еще не поняла. Эх.
Они замолчали, Ленка легла, прижимаясь к Панчу, чувствуя его локоть и бедро. А сверху придвинулось небо, пуская через звездный свет ленточки падающих звезд. Панч зевнул, стукнул зубами. Как пес, сонно подумала Ленка, закрывая тяжелые веки, как там, в темной комнатке, где ночевали в первый раз, и он был непонятный, совсем еще незнакомый, отсюда кажется — другой мальчишка и одновременно — да вот же он, дышит ровно, чуть похрипывая. Совсем мой Валька. Такое счастье.
— Лен, — голос его звучал уже невнятно, голова качнулась, укладываясь на косматом истертом плюше, — любимая Малая, ты уже ведь живешь. Тут, у Миши этого. И дальше будешь. Потому что ты сильная. И еще упря-мая. Моя.
— А ты мой. Совсем. Не отдам никому. Спи. Я тоже…
Они спали на крыше, в темном августе, таком жарком, что не нужно было ничем укрываться, и руки раскинуты, а лица подняты к небу, поймать кожей слабый ночной ветерок. Не слышали, как в квартире трещал телефон, раз за разом, а после в квадратном люке показалась черная фигура, выбралась, прижимая локти, и засветила маленький фонарик. Доктор Гена прошел через большие пятна смолы, еще мягкой от дневного жара, вдавливая шагами рассыпанную колючую щебенку. Оглядываясь, светил, чертя лучом и выхватывая пятном света угол бетонного чердака, антенны, блестящие тонкими линиями, и — неподалеку от чердачной невысокой стены — квадрат покрывала с двумя на нем фигурами. Раскиданные руки и ноги, волосы, длинные, черные и светлые, перемешанные у висков, где головы соприкасались.
Хмыкнул, прикрывая фонарик рукой, и повернувшись, ушел обратно, слез по железным арматуринам. Прошел мимо запертой двери Мишиной квартиры, спустился на свой этаж, постоял там. И открыв двери, позвал негромко:
— Кокоша. Кока, гулять.
Черный спаниель, радуясь внезапной ночной прогулке, выскочил, вертясь и любя хозяина, тыкал его мокрым носом, мешая пристегнуть поводок.
— Тихо ты, — рассердился Гена, и потащил пса вниз, в темный душный двор, подсвеченный тусклыми фонарями.
На лавке за детской площадкой хихикали и матерились, звеня бутылкой. В кустах кто-то ворочался, изредка эхая, и вдруг закричал непонятно кому, молчащему в темноте:
— Та иду уже! Епт, достала.
Гена дернул поводок и пошел прочь, вдоль кованого забора старого парка, к выходу на дорогу, а оттуда через рельсы к морю, туда, где они с Ленкой сидели, когда он купался. Там отпустил Кокошу и тот, ахнув от восторга, скрылся в темноте, полной соленой свежести. Сам сел на корточки, вынимая из нагрудного кармана сигаретную пачку.
Огонек ярчал и после тускнел, из темноты выскакивал радостный пес, тыкался в локоть и колено, а после исчезал снова.
Вот так, думал Гена, затягиваясь и пытаясь разглядеть воду, там, где совсем не было луны, в стороне от серебряной дорожки, настырная маленькая Ленка, добыла таки своего братца, с которым любовь. И хорошо. Наверное. Вроде бы совсем простенькая барышня, ну миленькая, блондиночка, с такой покрутить, как собирался с самого начала, чтоб после в лоб поцеловать и остаться эдаким старшим… старшим… Братом, язвительно подсказало в голове. И Гена крякнул, усаживаясь на неудобную гальку. Угу. Сплошные братья у нее выходит. И Мишка еще. И даже Витюша спросил, как там наша девочка, привет передавай. Так, мужик, давай разберемся, не маленький. Сказать, что роковая, что зацепила, так нет этого. Скорее наоборот, как-то ее не хочется. После всех этих приключений. И не потому что побегала по каким-то там мужикам, да когда это останавливало, напротив, такие вот, слегка надкусанные, они слаще, это возбуждает. Но она. Из-за этой своей упрямости, сразу ясно — не твоя, и никогда твоей не станет. Пока не наиграется в любовь со своим младенцем.
— Тьфу ты, — сказал сам себе, удивляясь мыслям.
Да когда хотел-то, чтоб мимолетки были — его. Радовался, что замужем барышни, что меньше проблем. Выходит, сам себе чего-то наврал, а чего и не понял. Спросил себя, сминая окурок о камушки рядом с ногой, ну, неужто отказался бы, если бы вот сейчас? Нет. Наверное, нет.
Но тут же вспомнил, как говорили о ее брате, и как менялся у Ленки голос и какое становилось лицо. И поправился — не отказался бы, если б не было этого сопляка. А пока он есть, ох, да ну ее. Пусть уже крутит свою любовь, других, что ли, нету.
Закурил еще одну сигарету.
…Витюша, который кроме своей гинекологии еще и диплом психолога на столе в рамочке держит, сказал, когда Ленка ушла:
— А с этим цыпленком всегда все будет только всерьез, и если всерьез не захочешь, лучше и не трогай.
Гена тогда усмехнулся. Пристрастие Витюши к значительным формулировкам всегда было предметом шуточек, но ведь прав толстяк, как почти всегда прав в своих первых впечатлениях. Вот явилась в жизни девочка, как Витюша сказал «цыпленок», совсем еще дите, правда. Успела там чего-то, сама не проснувшись, как женщина, да это все не считается в итоге. И в ней уже видно что-то, оно притягивает, но одновременно отталкивает. Рот откроешь сказать — слушает, и сразу охота закрыть, потому что ясно, слушает. И что-то после совершит, то есть мимо ушей не пропустит. Как-то от этого неуютно становится. Интересно, как сложится у нее жизнь? Ходит тут, в косынке, со шваброй, учиться не поехала, ну кажется, прямая дорога — замуж, ребенок, по праздникам мужа под ручку и в город гулять. Или все же карьера? Опомнится, поедет, поступит, закончит.
Гена встал, обрывая собственные мысли. Свистнул пса, обругал дежурно, чтоб не опаздывал на свист. И потащил домой, расшвыривая по тротуару бледные вороха опавших цветочков софоры.
Никак Ленка не вписывалась, ни туда и ни сюда. Нет, представить ее и там и там можно, но почему-то оба варианта, если туда ее впихивать, становились катастрофой, которую ей предстоит пережить. Чтоб после куда-то выйти. На свой собственный свет. А какой он, совершенно непонятно и потому раздражительно.
И поднимаясь к себе, он подумал, пока — единственная логичная и естественная картинка для белокурой девочки с круглым лицом и маленьким подбородком, это та, увиденная им на крыше. Где двое спят под звездами, перемешав пряди волос и вольно разбросав руки и ноги, касаются друг друга головами. Но она никак не могла быть логичной! Брат, младший, и вообще, что у них дальше-то будет? Да не может у них ничего быть! Того, что хотят оба и к чему стремятся так упорно.
Но…
Глава 53
Авуст принес жару, из тех, что называют небывалой, но она приходила в город всегда, раз в три-четыре года, и накрывала душным одеялом усталые деревья, с которых сыпались под горячим ветров жестяные листья, дома, жаркие, с распахнутыми в отчаянии окнами, в которые не проникал свежий сквозняк даже ночами. И людей, которые медленно ходили, вытирая мокрые лбы, и выпивали весь квас из пузатых желтых бочек, весь лимонад, цедимый из пластиковых запотевших кубов, а в натужно рычащих холодильниках не успевал замораживаться лед в пластиковых формочках с мутными стенками.
Кто мог, тот лежал на диванах, дожидаясь вечера, когда зайдет раскаленное солнце и темнота сделает мир чуть прохладнее хотя бы на взгляд. Но таких было мало, ведь — работа, и нужно с восьми до пяти, или по сменам.
Август уже кончался, но жара не уходила, крепкая, душная, настоянная на сухой траве, звоне кузнечиков, белесой пыли из-под колес машин. А по краям неба ходили огромные облака, громоздились горами, блистающими грозной белизной, иногда темнели снизу, и тогда люди с надеждой прислушивались к дальнему грому. Вдруг пойдет дождь, а то сил нет никаких. Но гроза собиралась, лениво погромыхивая, и шла где-то стороной, а в очереди за квасом, вытирая лбы, и удобнее перехватывая эмалированные бидончики, рассказывали друг другу, что вот, на той стороне уже льет, и говорят, железную дорогу снова размыло, ну как тогда, в позапрошлом, а нет, три года тому, и поезда не ходили два дня аж.
Улицы на склонах Митридата были завалены ворохами белых цветочков с зеленоватым оттенком, так много их падало со старых софор, что казалось — выпал снег, только теплый, даже на вид.
— Нет, — сказала Алла Дмитриевна, с отвращением поправляя тонкий халат и шаря рукой — все ли пуговки застегнуты, — вы серьезно собрались загнать меня в гроб! Эта дикая жара, я вообще не могу шевелиться даже, и так радовалась, что неделя отгулов, и эта путевка, потому что после Светочке рожать, и я как рабыня буду… А вы явились, снегом на голову, я ни-че-го не понимаю! Что ты мне талдычишь, не понимаю!
Она прошла мимо, старательно отворачиваясь от Панча, который стоял в полумраке у входной двери, с упреком оглядела Ленку и исчезла в кухне. Оттуда сразу послышался грохот.
— Лен, — вполголоса сказал Панч, — ну правда, чего я тут. Давай может…
— Так, — перебила его Ленка, свирепея. В ответ на кухонный шум грохнула на пол тяжелую сумку, — в комнату иди. Иди, я сказала!
И быстро прошла в кухню, не разуваясь, твердо ставя ноги в запыленных сандалиях.
Панч вздохнул, разулся и ушел в раскрытые двери, сел на край дивана, рядом с кинутой на него мятой простыней. На полу виднелась раскрытая книжка, а на табуретке трудился маленький вентилятор, добросовестно и без толку перемешивал горячий воздух, кидая в лицо. На подушке валялся бюстгальтер, и Панч отвел глаза, стал смотреть в дальнее зеркало напротив, видя себя через рядочки стеклянных фужеров. И слушать.
— Он мой брат, — выговаривая каждое слово, сказала Ленка возмущенной матери, которая бесцельно двигала на плите пустую сковородку, — мой и Светки. И мне наплевать, что ты там думаешь, про соседей и так далее. Я пригласила его в гости, и он поживет у нас.
— Конечно! — язвительно согласилась Алла Дмитриевна, — а я вас корми тут! Всех!
— Я заработала денег, и у него есть свои. Эту неделю мы сами себя прокормим. Не волнуйся. Или две недели. Потом ему в школу и он уедет.
— Две? — рука с маникюром повисла над сковородой, потом прижалась к груди у сердца, — две недели? И еще и отдельно значит, будете питаться? Да ты думаешь головой? А что соседи…
— Мне наплевать! — закричала Ленка, хватая с полки пузырек с корвалолом, — ясно тебе? Мне на-пле-вать! На соседей!
— Они спросят! Кто это!
— А ты пошли на три буквы! Держи свой корвалол. И не вздумай Вальке хоть слово сказать. Ты знаешь, что он болен, у тебя что, совсем нет человеческого отношения, да? Соседи тебе важнее?
Мама взяла корвалол, сжимая в кулаке, обошла дочь и плотно закрыла двери, прислонилась к матовому стеклу.
— Во-первых, не смей на меня орать. Во-вторых… я прекрасно помню эти твои. Фотографии.
Алла Дмитриевна говорила сдавленным шепотом, дергая на груди пуговицу.
— Я не совсем дурочка, я читала, как ты там к нему. И я знаю, что между вами может быть. Или уже было? Ты писала ему… так писала! Что я должна по-твоему?
— Писала, — угрюмо ответила Ленка, уже остывая, — да. Но ты пойми, если бы, я не стала бы его, сюда. Он тут, потому что он брат. И все!
Мельком она вспомнила их тайную ночь, но тряхнула головой, прогоняя угрызения совести из-за своего вранья. И потом, тогда нам просто некуда было деваться, рассудила быстро.
— Мам… Ну я могла бы сказать, соврать там, что он приехал в клинику керченскую, мест нету, и пусть поживет, потому что некуда ему. Но я не хочу врать, понимаешь? Тебе особенно. Я же тебя люблю.
— Любила бы, не делала бы, такого вот, — скорбно возразила Алла Дмитриевна, — и все теперь кувырком.
— Ты про путевку? Да поедь. Отдохни, правда. Мы будем к Светке ходить. У нее пятнадцатого, да?
— Семнадцатого, так Петр Алексеевич сказал.
— Тем более! Я буду варить ей кашу.
— Господи, — расстроилась Алла Дмитриевна, — ты же не знаешь, она подала на развод! Прямо ушла из палаты, в халате и в тапочках, с какой-то там подругой, и унесла заявление. Жорка ее до сих пор звонит, сюда, а позовите Свету. Муж. Не знает даже, что у нее снова сохранение, еще три дня лежать. И перед родами Петр Алексеич сказал, положат раньше. Да что ж вы за девки такие!
— А тебе охота такого как Жорка дома иметь? Типа сын. Или муж дочки. Мам. Давай уже помиримся, а? Валька там сидит, ждет казни. А он хороший, правда. Ты отвлекись, что он сын этой самой Ларисы, ну просто он хороший человек, золотой просто. И поезжай, чтоб с глаз долой. А я тебе буду звонить, каждый день.
Алла Дмитриевна усмехнулась, ставя на полку корвалол.
— Куда звонить? Там домики из фанеры, кровать и окошко.
— Тогда ты звони. От директора.
Они помолчали. Алла Дмитриевна прислушалась, и снова прошлась рукой по пуговицам халата. Сказала шепотом:
— Такая жара. Я у тебя там на диване, с вентилятором. О боже! Я забыла там лифчик. Что мальчик подумает!
— Подумает, это мой, — улыбнулась Ленка с облегчением, — а я тебе подарок привезла, крымское масло, набор. И еще глину специальную, мазать на лицо.
— Лена, немедленно принеси мою вещь. Постарайся, чтоб незаметно. Глину? У нас мало своей?
— Это лечебная, для красоты.
Ленка подошла ближе, тыкнулась в щеку, целуя, и подставила свою, принимая ответный поцелуй.
Дальше все было вполне нормально, к ее огромному облегчению. Мама церемонно познакомилась с Валиком, стараясь не глядеть на бледное лицо и темные глаза, потом ушла — собирать сумку для поездки. А вечером, когда двое вернулись из города, усталые и напрочь выжаренные солнцем, постукала в Ленкину дверь, осторожно открыла, оценивая обстановку. Смягчилась лицом, увидев, что Ленка валяется на диване, а Панч сидит на полу возле проигрывателя. И вызвала дочь в свою комнату, снова плотно закрывая дверь.
— Завтра еду. Раз вы обещаете, что все будет нормально.
— Обещаем, ма. И к Светище сходим, утром.
— Леночка, сядь. И скажи, про долг. Я должна знать.
Ленка вздохнула. Несмотря на то, что по телефону она матери призналась, все же надеялась, что та не станет уточнять и требовать объяснений. Но раз так, то придется рассказать.
И она рассказала. Про ампулы, разбитые бабкой, про взятые взаймы двести рублей, и про то, что купила и отвезла сама, но деньги нужно вернуть, и сто рублей она заработала, если бы до сентября, то было бы больше, но тут Светища, и Ленка побоялась, что все произойдет раньше.
— Было сто двадцать, мам, но я потратилась там немного. Но таких работ и тут полно, я просто пойду и устроюсь, и у меня все получится.
— Сто рублей, — подавленно сказала мама, берясь за виски, — какой ужас, да как ты их? Откуда? Это же полторы моих зарплаты!
— Валька мне отдает еще свои, тридцать рублей, но я не хочу брать, мам.
— И возьми! Это же его лекарство!
— Мам. Ему пятнадцать лет. А я отберу все, что копил там, ага.
За окном, густо закрытым зелеными ветками с белыми цветами, страстно ворковали горлицы, журчала вода — кто-то поливал палисадник, высунув в окно резиновый шланг. В комнате стоял зеленый полумрак, и от легкого запаха духов и косметики казалось, вокруг джунгли, полные тропических цветов. С календаря на стене улыбалась фарфоровая японочка в сложном кимоно, и Ленка захотела, чтоб скорее завтра, увидеть сестру, а то совсем соскучилась. Мама села на кровать, рядом с раскрытой сумкой. Постукала пальцами по колену. Протянув руку, взяла с тумбочки нарядную шкатулку, в которой лежали ее украшения — бусики чешского стекла, еще одни — радужные яркие, их папа привез, а еще сережки с крошечными рубинами и пара тонких колечек. Высыпав блестящую горку на постель, вытащила сложенный конвертик.
— Вот. Тут пятьдесят рублей, я откладывала, чтоб наш долг вернуть побыстрее. Возьми. Больше нету.
— Мам, — хрипло сказала Ленка, — ну зачем. Не надо. Пусть они. Долг же.
— Разберемся. Папа вернется, тогда уже. Я попрошу Гену, подождет еще.
Она сунула Ленке в руку сложенные бумажки и встала, поправляя волосы.
— Иди уже. Корми своего кавалера. И на хозяйство я оставлю, десятку. Еще чего сказанула, питаться они собрались отдельно.
— Спасибо, мам.
Ленка деревянно встала, сжимая в руке бумажки. Как Панч орал ей тогда, чего молчала, сама все тащила? Почему не говоришь тем, кто тебя любит? Мама, конечно, тыщу раз ей потом вспомнит, эти деньги, когда будет нервно ходить, восклицать и прикладывать руку к сердцу. Но, может быть, и пусть? И это нужно перетерпеть, кивая? Ведь главное, она дала эти деньги, и еще главнее не деньги, а то, что она Ленку любит и заботится. Как умеет.
— Иди, Леночка. Ах, да. Можешь постелить парню в светкиной комнате, пока пустая. Так будет лучше. Ты чего улыбаешься?
— Мам, — сказала Ленка, становясь рядом и не решаясь обнять, в семье это не было принято, — постелю, да. А тебе обещаю, что ничего у нас с ним не будет, криминального. Тут вот точно — не будет.
И пока мать не успела придраться к уточнению, Ленка выскочила, неся в кулаке внезапные полсотни.
* * *
— О! — сказала Светища, с интересом разглядывая смущенное и от того слегка сердитое лицо Панча, который маячил за ленкиной спиной, в душном холле, уставленном старыми креслами и кушетками, — ага. Ну…
Оглядела сидящих с принесенными свертками и авоськами женщин, и решительно направилась к выходу, слегка переваливаясь и бережно неся большой живот.
В знакомых уже кустах сирени села на картонку, постеленную на бетонную плиту, похлопала рядом:
— Падайте, в теньке, а то сил нет, такая жарища. Мала-мала, ты мне компота принесла?
— Тебе нельзя, — Ленка вытащила из матерчатой сумки банку с плавающими в красной жидкости сливами, — мама сказала, тебе только ягоды можно, вот ложка, чтоб не было отеков.
— Дай, — Светища сколупнула полиэтиленовую крышку и запрокидывая голову, гулко выглотала сразу треть литровой банки. Вытерла рукой рот.
— Не боись, я теперь до ночи пить не буду, потерплю. Зато такой кайф. Давай свою ложку. Значит, вот ты какой, Валентин Панченко. Очень приятно. Будем знакомы, брат. Вот и получил ты сразу двух сестриц, а через две недели, ну почти три, получишь еще племяша. Или племяшку. Коляску возить умеешь? А пеленки стирать? А то у нас мужской силы нехватка, я вот теперича мать-одиночка. Не расцвел и отцвел, в утре пасмурных дней, так сказать.
— Петичка повозит, — улыбнулась Ленка, толкая ее плечом, — он как, приходил уже?
Светлана выплюнула в ладонь сливовую косточку и тут же полезла в банку ложкой, ловя еще ягоду.
— Приходил твой любимчик. На радостях нажрался так, что сперва серенаду пел, нянечка за ним с метлой гонялась, а после заснул, тут прям, в сирени. Девки вышли, закатили его подальше в кусты, на плите этой, чтоб в милицию не загремел, так и проспал до утра. Ты чего ржешь, Мала?
— Ой. Что-то я представила. Петька и вдруг поет.
— Лучше не представляй.
Светища огляделась, поманила Панча и ссыпала косточки ему в подставленные ладони:
— Там урна, выбрось, будь хорошим, а то мухи разведутся, а место наше, правильное.
Вместе с Ленкой смотрели вслед высокой фигуре.
— Красавчик, — задумчиво оценила Светища, — на мать, что ли, похож?
— Как на мать? — удивилась Ленка, — на отца. Смотри, волосы, брови, глаза тоже.
— Гм. Ну, может быть. Цветом, да. И как он вообще?
Повернулась в ответ на ленкино молчание. Та пожала плечами, опуская голову и внимательно рассматривая вытоптанную травку.
— О-о-о, — сказала Светища, — что-то я начинаю понимать…
— Ты сама вообще как? — перебила Ленка сестру, — и хватит уже, услышит.
Панч выбросил косточки, махнул им рукой и вдруг развернулся, исчез за углом здания. Ленка напряглась, беспокойно глядя вслед.
— О-о-о, — снова насмешливо сказала Светища. И тут же поморщилась, кладя руки под живот.
Ленка с тревогой смотрела на бледное лицо с большими темными глазами, и на сухие губы в трещинках.
— Светищ? А с тобой точно все хорошо?
И вдруг сестра сказала, будто сталкивая младшую сестру в пропасть:
— Да не очень, Лен. Доктор сказал, почки у меня. Того на этого. Ты не думай, я там не бухала, а вот студила да, часто, каюсь. Если бы знала, дурында, что так все повернется, надевала бы всякие теплые репетузы, а так — бегала в тонких колготках, куды там, Джина Лоллобриджида. Мама не знает, не хочу я ей говорить. И ты молчи.
Пропасть вокруг Ленки ширилась черными стенами, свистела острыми кусачими сквозняками. И полнилась страхом и испуганными мыслями. Что же будет? А вдруг. Вдруг что-то случится?
— Понимаешь, — задушевно сказала в ответ на мысли Светища, — если бы не рожать, то и норм, ну попила бы таблеток, долго, траву всякую. А так, встряска для организма, они тут консилиум вокруг меня собирали, решали, как быть, и не откажут ли почки. Но ты не бойся, все будет хорошо. У нас вся палата с болячками, да и норм, рожают девки, ну, а кто сейчас здоровый-то?
Из-за угла вышел Панч, улыбаясь, поднял в руках три порции мороженого — эскимо в светлых обертках.
— Свет, — торопливо сказала Ленка, пока Панч, обходя посетителей, поднимающихся на крылечко, приближался к ним, — а сделать можно что-то? Ну, сейчас вот. Может, лекарство. Таблетки там какие. Или какой врач нужен? Слушай, у меня деньги есть, сто рублей, нет, сто пятьдесят даже. Если надо…
— Ого, Малая. Да ты у нас миллионерша.
— Хватит уже. Я серьезно!
Она замолчала. Светлана, улыбаясь, взяла поданный брикетик, развернула, кусая и подхватывая в ладонь шоколадные крошки.
— То что доктор прописал, спасибо, герой. Вы что делать будете? По городу шастать? Пока мать прохлаждается на пляже. В такую жару много не находите.
— Нормально, — Панч уселся рядом с Ленкой, тоже разворачивая мороженое, — я жары не боюсь, мне наоборот, хорошо.
— К тебе будем ходить. Мама денег оставила, я тебе буду готовить. Каши всякие.
Светка передернулась, с юмором скривила лицо, показывая, как ей надоели всякие каши. Сказала мечтательно, суя Ленке недоеденное мороженое:
— Я бы сожрала мяса кусок. Жареного. И картошки. Теоретически. А практически мне даже от мороженого скоро сплохеет. Сплошной перевод продуктов. Знаешь, Мала, счастье оно такое разное. Лежу я и думаю, вот рожу и не будет меня по утрам тошнить, о-о-о, какое счастье. А для вас я придумала. Поезжайте к Петьке, в яхт-клуб, у них там машинка на хозяйстве, козлик. Пусть отвезет на Генеральские пляжи, в бухты. Покажешь братишке, какие бывают райские у нас места. Только не застряньте, там дороги плохие.
Она встала, одергивая большой неуклюжий халат в крупные цветы. С отвращением оглядела себя.
— Надоело. Тяжело уже. Одна радость, что все кончится, и не просто так, а будет мне лялька. Тебе кукла. Пойду, там процедуры скоро.
Она притянула рукой ленкину голову и чмокнула в щеку, помахала Панчу.
— Гуляйте. Завтра если уедете, не волнуйтесь, послезавтра придете.
Стоя у крыльца, она окликнула Ленку и та, бросив Панча, вернулась.
— Летка, а тебе зачем деньги такие? Копила ведь и зарабатывала. Шмотья хотела купить, да?
Ленка покачала головой, вытерла со лба щекотные капли пота.
— Нет, мне надо долг отдать, ну я потом тебе расскажу. Но я могу попозже. Если тебе надо, я лучше тебе.
Сестра подумала, кусая бледные губы. Ленка ждала и Панч терпеливо ждал, стоя на углу дома. Она понимала сестру и хотя с недавних пор решила, что Валик прав и все надо рассказывать тем, кто любит, но вот прикатила новая ситуация с проблемами и что, снова вешать их на маму? Которая, хоть и причитает без конца и хватается за голову, и казалось раньше Ленке, портит всем жизнь, но ведь она и тащит все! Пока папа в рейсе, а Жорик умыл руки, именно ей снова думать и волноваться, теперь уже насчет Светищи и ее ребенка. Так что, решила Ленка, сестра права, надо попробовать обойтись, тем более, обе уже взрослые, чего бежать к матери с каждой проблемой.
— Так сделаем, — постановила Светища, — ты сотню отложи, так, на всякий случай, а когда я рожу, и все, ттт, будет нормально, забирай обратно. Точно справишься? Блин, лучше б ты на шмотки ее держала, я бы отобрала без зазрения совести.
Ленка кивнула, успокаивая.
— Нормально-нормально. Иди уже, колобок.
— Зарежу, Малая.
— Руки короткие, пузо мешает!
Глава 54
А на следующее утро Петичка отвез их на Азов, гоня зыпыленного козлика по неудобным грунтовкам, и что-то мурлыкая себе под нос, с лицом, затененным пластиковым козырьком затертой летней кепки. Ленка, прыгая на бугристом сиденье, вспомнила про серенаду и фыркнула, держась за руку Панча.
Ехали долго, устали и хотелось пить. Наконец, Петичка резко остановил машину на краю обрыва, она дернулась и замолчала. И сразу в уши вошел мерный шум прибоя и требовательные крики чаек.
Ленка выбралась на непослушных ногах, качнулась, хватая Панча за руку. И засмеялась, другой рукой убирая с лица волосы, что взметнулись вверх, как живые.
— Вот, — Петичка повел длинной рукой, поросшей выгоревшими волосками, — выбирайте, тропинки вниз, а машина туда не пройдет, на машине чтоб, надо еще дальше ехать.
Он почти кричал в шуме ветра. Ленка замотала головой.
— Тут хорошо. Не надо дальше. И смотри там, если Светища, забери нас раньше, понял?
— Ну, — согласился Петичка, закуривая помятую сигарету.
Ленка бросила руку Панча, извинительно ему улыбаясь. Подталкивая, отвела Петичку в сторону, встала на цыпочки, чтоб не сильно орать в ухо.
— Ты вчера опять, что ли, бухал? Блин, Петя. Я тебя убью, понял? У Светищи последние считай недели, а ты как чертишо.
— Я волнуюсь может, — оскорбился Петичка.
— Успеешь поволноваться, — возразила неумолимая Ленка, — потом, а пока держись уже.
— Ты, Малая, бывает, старше сестры, — печально ответил Петичка, моргая красными похмельными глазами, — даже старше матери вашей. Аж странно. О черт! Там палатки, в бухте. И рядом народ. Везти, что ли, дальше?
Панч подошел на вопросительный взгляд, тоже посмотрел сверху на цветные пятна размером с горошины. Детишки и женщины, а дальше у воды трое мужчин стаскивают лодку. И на прибое пара девушек в ярких купальниках.
— Нормально. Нам и тут нормально.
Петичка кивнул, попрощался, докуривая сигарету, проследил, как двое спускаются, Ленка с ластами в руках и Панч с пузатой сумкой на плече. Уселся в машину, барабаня по гнутой пластмассе и мрачно разглядывая в зеркале глаза в красных прожилках. Вздохнул и поехал обратно.
Тропки разбегались пыльными змейками по рыжей траве, в которой мелькали белые бабочки. Та, по которой шли двое, вильнула, пряча себя в зарослях боярышника, что карабкался на серые скалы в желтых пятнах лишайника. Ленка прислушалась, отсюда уже были слышны детские крики и смех. Панч оглянулся на нее.
— Не волнуйся. Забыла, что я умею?
Ленка старательно улыбнулась в ответ, кивнула. Она помнила, конечно. Но одно дело Коктебель, где Валька излазил все окрестности, и был совсем уже свой человек. И вовсе другое — новые незнакомые ему места. А вдруг тут…
Но тропа внезапно разделилась, и узкая, почти невидная, повела их в обход скалы, поднимаясь по каменным уступам. Протиснулась между корявых валунов и снова побежала вниз, обводя собой отдельные камни и кривые деревца степной алычи.
— Вот, — сказал теперь уже Валик, спрыгивая на песок и подавая Ленке руку.
Она бросила ласты и прыгнула, оглядываясь.
Бухта была совсем крошечная, казалось, можно накрыть ее носовым платком. Но на пятне яркого крупного песка прекрасно расстелилось старое покрывало, а рядом нагнулась высокая скала, заботливо кладя на раскаленный свет пятно черной тени. Панч отошел, задирая голову к спуску.
— Отсюда видно, Петя вернется, как раз на обрыве машину поставит, справа от кустов. Тебе нравится?
— Да, — Ленка села, скидывая сандалии и расстегивая сарафан, — очень.
Но лицо ее оставалось серьезным. Панч уселся рядом, стащил синюю футболку. Море радостно ревело, таскало песок, закручивая его в белой пене, грохало воду, и брызги долетали к самым коленям.
— Лен, ты из-за сестры… Может, мы зря? Не надо было ехать?
— А что, сидеть в квартире и дергаться? Мы же не можем все вместе в палате, на ее койке. Или в сирени, жить там.
Она поправила лямочки купальника. Привалилась плечом к горячему плечу Панча.
— Знаешь, я вот только сейчас стала понимать маму. Ну не то, что она совсем права, я думаю, нет. Но она говорила, жизнь не сахар, все время приходится волноваться. Вот и я…
— Я могу сделать нам бухту, Лен, — согласился Панч, — но убрать из твоей головы я не могу. Ничего.
— И не надо. Я дальше подумала. Понимаешь, если оно такое вот, не успеешь решить одно, а уже лезет другое, значит, так и жить. Жить, Валька. Мы наверное, сами должны выбрать, как жить, ну там, плакать все время. Или радоваться тоже. Я хочу радоваться. Это плохо? Может, надо грустить, если Светка там…
— Я не знаю, Лен.
Ленка поднялась, подхватывая ласты.
— Зато я знаю. Пока ничего не случилось так? И бухта эта — наша. А Петька, если что, приедет за нами пораньше. Значит, мы должны все успеть. Наплаваться, позагорать, съесть, что там у нас. Ты с одной ластой плавал?
— Нет, — Панч засмеялся, прыгая на одной ноге и стаскивая штаны, — научишь? Кругами будем гонять?
Они стояли в воде по пояс, пожимаясь от холодных в полуденном зное брызг, смеялись, когда вода окатывала их по самые плечи.
Все успеть, думала Ленка, держась мокрой рукой за Панча и натягивая ласту, все. Это наша с ним бухта, и в ней мы можем все.
* * *
У них были часы, маленькие ленкины часики на серебристой браслетке, и, спохватываясь, Ленка отрывалась от Панча, нашаривала их в сумке под ворохом смятых одежек, смотрела, щурясь от яркого солнца. Успокоенно совала обратно, поглубже, чтоб не намочить и не потерять. Солнце говорило — вечер еще далеко и часики соглашались с ним, показывая половину первого, начало третьего. В шесть часов нужно было собраться и выйти на тропку, погрузиться в безотказный Петичкин козлик и вернуться домой, сварить обещанную Светище кашу, гречневую, с растительным маслом, — утром отнести. И кефир.
Так что на часы Ленка смотрела просто, лишний раз порадоваться тому, как много у них с Панчем времени.
Они торчали в воде, пока в головах не зазвенело, и стало казаться, что сами состоят из морской воды, как две скрученные тугие волны. Пошатываясь, хватаясь друг за друга, вышли на берег, теряя равновесие, потом прыгали на одной ноге, выбивая из звенящих ушей воду, и Ленка научила Панча местному, пацанскому: если нагнув голову, положить у виска плоский камушек и несильно ударять по нему другим камнем, то вода из ушей выльется быстро, и снова станут слышны звуки берега и неба. Сидя на покрывале, смеялись, когда, уже обсохнув и болтая, наклоняли головы, и вдруг из носа начинала течь опять вода, — нахлебались от души, когда ныряли. Потом лежали совсем тихо, изредка поворачиваясь, обсохли совсем, и захотели есть, но стало так жарко, что снова отправились купаться, утопили в прибое ласту, долго искали, и наконец, выловив, вернулись, упали на сбитое покрывало, на которое ветер нанес песка, и поели, закапывая поглубже яичную скорлупу и кидая чайкам кусочки хлеба.
Пили из стеклянной бутылки компот из кислой алычи, а еще была бутылка с водой, но ее не хотелось, потому что толком не успевали обсохнуть, и сами были — вода.
А потом устали. И солнце стало мягче, светило немного печально, так казалось Ленке, потому что это значило — их время подходит к концу, а в городе ждут всякие заботы и волнения. И гони из головы сколько хочешь эти уже вечерние мысли, которые не отсюда, они все равно приходят. Вот как живется взрослым, слегка виновато думала Ленка, как я пропускала это все, хотя мама высказывалась, очень громко и постоянно, но почему-то это казалось каким-то домашним театром, а на самом деле оно — было. Наверное, кто-то другой молчит, как например, папа. Но это не значит, что чего-то нет. В-общем, если разбираться совсем дотошно, выходит всякая путаница, но главное все же то, что детство, оказывается, есть, и в нем были свои проблемы, казалось, огромные, но они отдельны от взрослой жизни. И вот теперь к своим у Ленки прибавились и те, от которых ее оберегала мама, хотя казалось, наоборот, вываливает их на всех, кто рядом…
— Лен…
Она повернулась на бок, открывая глаза, отводя их от солнца, на которое смотрела через ресницы, выращивая на них крошечные мохнатые радуги. И сгибая локоть, чтоб не отпускать руку Панча, подалась к нему, ближе, вплотную к груди и животу, коленями к его коленям, а из головы вылетело вообще все, кроме одной печальной мысли о том, что в этом будущем, полном больших и малых проблем, есть ли место им двоим, и — какое оно. Маленькая бухта, сотворенная красивым мальчиком с тонким, бледным под легким загаром лицом, казалась сейчас единственным убежищем, и время, отпущенное им для них самих, неумолимо подходило к концу.
— Валинька…
В этой близости не было головокружения, звона в ушах, ликования с дрожью в коленях. Не было даже оглушительного сердечного стука. Была нежность, такая сильная, что Ленка заплакала, отворачивая мокрое лицо и цепляясь руками за горячие плечи, а ниже, на шее, были его осторожные поцелуи, и еще ниже — голый живот, такой родной, теплый, будто Ленка сама только что родила его — своего мальчика. И любит.
Поднимаясь на руках, Панч замер, останавливаясь, она благодарно кивнула, отпуская его, прикусывая губу, и все-таки загремев сердцем, не слыша себя, прошептала виновато:
— Нельзя в меня.
И он упал рядом, дыша тяжело и хрипло, сжимая ее руку и неудобно придавливая откинутое колено.
Высоко над ними парили чайки, меняясь местами, перестраивались, ныряли вниз, уходя из поля зрения, и снова возвращались, а солнце уже подсвечивало снизу белые крылья, делая их желтоватыми.
— Я тут, кажется, на покрывало, — сказал сбоку Панч, — наляпал. Вот же…
— Нестрашно, — ответила Ленка чайкам, не поворачиваясь. Ей стало вдруг покойно и хорошо, и хотелось улыбаться. Потому что снова пришло это вот — все правильно. У них с Валькой все правильно.
— Можно бы постирать, — она села, проводя рукой по темным влажным пятнам, — но тащить мокрое, не высохнет уже. Валь, я посмотрю время?
— Да, — Панч лежал навзничь, голый, и Ленка удивилась, и ведь успели раздеться, а не помнит, как.
— Я люблю тебя, — она положила рядом часики, прятать их уже не было нужды.
— Я люблю тебя.
Он сел, встряхивая головой и продирая длинные пряди пальцами. Нагнулся за скинутыми плавками. Ленка провела рукой по загорелой спине с цепочкой позвонков.
— У тебя песок. Пристал. Брось, пойдем так выкупаемся. И уже пора.
Зной кончился, было все еще жарко, но без солнечной раскаленной злости и притихшая вода стала мягкой, бархатной. Трогала горячую кожу, будто мурлыкала, напевая. Ленка в мерных волнах, сидя у Панча на руках, засмеялась, касаясь пальцем его обгоревшего носа.
— Облезет скоро. Приедем домой, намажу тебя Светкиным кефиром.
— А у тебя плечи сгорели.
Собирались молча, оба поглядывали друг на друга с беспокойством, улыбались в ответ на взгляд, и после улыбки успокаивались, пока Ленка не фыркнула, рассмеявшись.
— Мы с тобой как в зеркале, прямо.
— Зато можно не говорить, — согласился Панч, вешая на плечо сумку, — думаем одинаково.
На верхнем обрыве было пусто, и Ленка, уже немного волнуясь, застегнула на руке браслет, проверила время. Нормально, успокоила себя, еще десять минут до назначенного.
По тропе шли не торопясь, и там, где она вскарабкалась на серые скалы, остановились, глядя вниз, где маленькую бухту уже перекрывали валуны и беспорядочно растущие в расщелинах кустарники.
— Ее уже почти нет, — грустно сказала Ленка.
Панч сел на камень, самый верхний, скинул сумку с плеча. Ветер взметнул вокруг головы черные волосы, перепутывая их.
— Иди сюда. Увидим машину, успеем подойти.
Ленка бросила ласты. Села на колени к Панчу и они целовались, так что зазвенело в головах, и сердца стучали одно в другое, а раскрытые рты пересыхали, будто у двух рыб, вытащенных на берег.
Время ушло совсем, его не стало, солнце зависло над горизонтом, мягкое, но еще не красное, чайки замерли в густом предвечернем небе, будто белой краской наставили в нем точек. И Ленке затосковалось так свирепо и сильно, что она, пряча лицо у Панча на плече, чтоб снова поднять голову и подставить раскрытые губы, удивилась невнятно, не успевая подумать. Хочу туда, мелькало в голове в коротенькие промежутки, когда отрывались — вдохнуть, туда хочу, вниз, и там… и без никого. Мы только.
Через вечность Панч покачнулся, переставляя ногу, Ленка схватилась за его плечи, тряхнув звенящей головой. Рукой поймала напрочь расстегнутые пуговицы клетчатой рубашки.
— Отсидела тебе все ноги, да? Черт, Валька, ты меня почти раздел. И шорты. А вдруг Петька сейчас?..
— Извини, — Панч засмеялся, тоже одергивая задранный подол футболки, — а сама? Думал, повалишь меня прям тут, в траву.
— Фу, какие мы.
— Зато время быстро прошло.
Они вместе оглянулись на широкую верхнюю степь, изрезанную тропами и парой автомобильных кривых грунтовок. По одной почти на горизонте пылила машина, еще не различить, какого цвета.
— Опаздывает, стервец. Я уже есть хочу, как крокодил.
Ленка переступала, ловя дрожащими пальцами пуговицу шортов. И замолчала, потому что молчал Панч, глядя в другую сторону, за ее спину. Повернулась и дернулась от неожиданности.
Заслоняя уже низкое здесь солнце, на тропе, откуда они поднялись, стояли трое, с неразличимыми против света лицами. Но того, что стоял ближе к степи, Ленка узнала сразу. По широкому развороту плеч и привычке стоять, сунув пальцы за кожаный ремень.
— Не думал не гадал, нечаянно попал, — насмешливо сказал Сережа Кинг, удобнее меняя ногу и поведя широкими плечами, — привет, пропажа. А я думаю, куда же наша девонька сладкая запропастилась. А девонька соблазняет младенчиков на знаменитых наших «Генералах». Что, Малая, делишься опытом с пионэром? Не забудь рассказать, кто тебя научил, кентам ширинки расстегивать.
— Оставь ее в покое, — хмуро посоветовал Панч, делая шаг вперед.
Ленка схватила его за руку, сильно дергая, чтоб оставался на месте. Выкрикнула звенящим голосом:
— Я сама. Молчи!
— Эй, — удивился Кинг, — а, может у нас с юношей мужской разговор? Беседа, так сказать, об одном предмете. Он тебя поебывает, и я тебя поебывал. Могу подсказать, как любишь, от чего кончаешь. Да, Димчик? Мы оба можем.
— Нет! — Ленка продолжала стоять впереди, не давая Панчу обойти себя, на крошечном пятачке между нагромождения валунов, и быстро оглянулась, в надежде поймать его взгляд, но увидела только черные волосы, треплемые ветром, — нет, неправда! Не было у нас ничего. Не верь ты ему.
Третий, что стоял над самым обрывом, кашлянул, опуская голову и что-то там делая с предметом, висящим на груди. Блеснула линза. Нацелил на Ленку и засмеялся.
— Правильно, Марон, — в голосе Кинга ясно слышалась ярость, — и сейчас сними, и еще куча кадриков у нас есть, как вы тут лапали друг друга, и как ты, дорогуша, дойки свои показывала, в трусы пацану лезла. Сейчас отпиздить бы тебя, Малая, и трахнуть на глазах у твоего недоебка, но у нас с тобой еще дело есть. Так?
— Заткнись! — заорал у Ленки над ухом Панч, и она снова расставила руки, не давая ему вырваться вперед, балансировала среди валунов, почти падая.
— Короче, вернешь мне бабки, в эту неделю. Если нет, то снимочки твои предки получат, лично в руки. Пусть порадуются, что ты творишь, с малолеткой, да еще с собственным братом. А ты думала, я не узнаю? Я все знаю, Малая, у меня кругом глаза и уши.
— А они и так знают, — с вызовом сказала Ленка, больно вцепившись в руку Панча, которую тот выворачивал, стараясь не уронить сестру в россыпь камней.
Кинг кивнул, приглаживая ладонью волосы.
— Такое вот у вас кодло. Что мамаша, что сестрица твоя. Она не рассказывала, кстати, как мы до ее института шалили на лавочке? Так спроси, расскажет. Только дело уже не семейное, Леник-Оленик. Марон у нас на адвоката учится, хочешь, расскажет кой-чего?
— Сексуальные отношения с личностями, не достигшими возраста согласия, классифицируются как растление несовершеннолетних и караются законом, — авторитетно проговорил Марон, поправляя висящий на груди фотоаппарат, — а еще инцест, тоже преступление.
Кинг посмотрел на дорогу, откуда приближался зеленый автомобиль с брезентовым верхом.
— Ладно, Марон, поняла наша девонька, вон губки трясутся. Димон, заводи тачку, пора забирать телок. Время пошло, Леник, у тебя неделя.
Они повернулись и гуськом пошли по широкой тропе, той, которая уводила в большую бухту с палатками. На повороте, за небрежно растущими кустами блестела синяя морда димонова жигуленка.
Панч, наконец, вырвал руку, и Ленка, не удержавшись на ногах, с размаху села задницей на кривой камень, подломила ногу, и взмахнув руками, закрыла одной лицо, прикусывая пальцы.
— Держала зачем, — мрачно сказал Панч, стоя к ней спиной и пристально глядя, как уезжает синий автомобиль, поднимая за собой белесые клубы пыли, — да, блин, черт и черт.
— Убили бы, — басом ответила Ленка через прикушенные пальцы, — ты-ы-ы дурак совсем, да? Посмотри на них. Амбалы.
— Я… — Панч согнулся, натужно кашляя, и ударил себя в грудь, со стороны вышло, будто хвастался чем-то по-обезьяньи, — блядь! Я…
— Валя! — Ленка вскочила и хромая, подбежала, подхватывая его, — Валя, перестань! Где? Ингалятор твой где? В сумке, да?
— Отстань! — заорал Панч, перекашивая лицо и почти повисая на ее трясущихся руках, — убери… ру-ки свои. Я…
— Заткнись ты! Я щас!
Она бросила его падать на сухую траву, рванулась к сумке, вываливая из нее скомканное покрывало, пустые бутылки и всякую мелочевку.
— Скорее. Дыши. Ну! Давай же, Валька!
Он втягивал воздух через мутную белую пластмассу, так, будто хотел проглотить и сжевать изогнутую трубку. А после сунул его Ленке, сжимая побелевшие губы и дергая щекой.
Она стиснула ингалятор, выпрямилась, с негодованием обжигая мальчика взглядом. Но Панч, сделав несколько глубоких вдохов, сипло сказал, поднимаясь и отряхивая широкие штаны:
— Проехали, Лен. Истерику я могу, да. Но ты и сама знаешь, что я сейчас. Чувствую.
Она знала. Как о себе, знала о его гневе, не только на Кинга и на то, что случилось, но в первую очередь на собственную беспомощность напрочь больного человека, который мало того, что младше соперника на полтора десятка лет, и явно слабее, так еще и с приступами, каждый из которых может закончиться реанимацией. И этот гнев был из-за нее, понимала Ленка Малая, не на нее, а потому что не мог, не сумел заступиться, и если бы кинулся, то Малой пришлось бы спасать уже его, как было когда-то.
Из козлика выскочил Петичка, моргая белыми ресницами, что-то говорил, разводя руками, виновато и быстро. Ленка не повернулась, стоя перед Панчем и глядя в его мрачное, полное беспомощного гнева лицо.
— Валинька. Да если бы даже здоров. Трое. Мужики. Куда тебе? Чтоб меня изнасиловали, пока ты валялся рядом, да? Думаешь, если ты болен, только тебе и шишки? А вот фиг. Многих бьют. Несправедливо! Да! Да посмотри уже на меня! Ты понимаешь, что мы справимся?
— Что? — Панч, будто проснувшись, с удивлением посмотрел в Ленкино сердитое лицо.
— Кого изнасиловали? — проревел сзади забытый Петичка.
— Обязательно! — со звоном в голосе сказала Ленка, — с козлом этим, ненавижу его, мы справимся. Утрется!
— Как?
Она пожала плечами.
— Не знаю. Но фиг ему. И не фиг!
— Что тут у вас? — не унимался Петичка, — да епт, я на полчаса всего опоздал!
Ленка и Панч, одновременно повертываясь, кивнули. Хором ответили:
— Ничего. Нормально.
Глава 55
Ленка сидела на неудобном стуле возле больничной койки, и ей казалось, время крутится, сцепляясь и возвращаясь в прошлое. Только трубка капельницы тянулась не к руке Панча, а входила в тонкую, почти прозрачную руку ее сестры.
Светища внимательно посмотрела на потерянное лицо младшей и засмеялась.
— Ну вот. Лучше бы дома сидела, со своей кашей. Чего надулась, как мышь на крупу? Обычное дело, капельница, да их тут ставят, чуть кашлянешь или, пардонте, пукнешь.
Замолчала, и демонстративно закатывая глаза, потребовала скандально:
— Не слышу смеха! Я тут стараюсь, шутки шучу.
— Свет, может мне к маме поехать? Утром завтра метнусь, на катере, в обед вернемся уже.
— И что? Мне просить вторую койку рядом, чтоб ее от обмороков откачивать? Мала-Мала, ты меня слушаешь? Мне их каждый день лепят, то ты просто не вовремя явилась. Ну да, выгляжу паршиво, а походи с десятком лишних килограммов днем и ночью, посмотрю, на кого ты похожа будешь! О, вон мой доктор бежит, у него можешь спросить.
За стеклянной дверью мелькнул белый халат, за ним еще несколько, послышался уверенный, слегка раздраженный голос. Ленка вскочила и исчезла за приоткрытой дверью.
— Тьфу ты, — сказала Светища, откидываясь на подушку и прикрывая глаза, — рванула, ну вечно я забываю, какая деловитая у меня сестрица. Валя, брат, иди сюда, чего ты там, как сиротинушка.
Панч отклеился от подоконника, и осторожно обходя еще три койки, на которых лежали женщины с круглыми животами, одна читала, неудобно устроив книгу на простыне, другая смотрела в потолок, третья подмигнула ему, подошел и сел на пустой стул, прислушиваясь к взволнованному ленкиному голосу в коридоре.
— Всегда такая, — с гордостью поведала Светища, — вечно щенков подбирала, дома скандал, а она упрется — он голодный, и мерзнет. Дралась в школе, знаешь из-за чего? Не поверишь, спасала лягушек, которых пацаны из рогатки лупили на болоте.
— Поверю, — улыбнулся Панч.
Солнце из окна просвечивало длинные вьющиеся волосы, падающие на плечо.
— У вас-то все в порядке? — вдруг спросила Светища, — а то что-то у Малой глаза бегают, не рассказывает. О-о-о, еще один партизан в нашей семейке завелся. Что ценного за окном увидел? Воробьев?
Панч снова посмотрел на Светищу. Та устроила голову поудобнее, разметав по тощей подушке черные иголочки стриженых волос. Худые фарфоровые щеки, тонкий нос, большой рот с неяркими губами. Шея с голубой жилкой. Панч видел фотографии, Ленка показывала, и знал, что здоровая Светища выглядела почти так же, только глаза блестели и рот то улыбался до ушей, то выразительно с юмором кривился. Но тут, на подушке, и еще эта игла с трубкой, казалось и впрямь, совсем дело плохо.
— Есть всякие непонятки, — сказал честно, — но мы справимся, а если вдруг, я тебе расскажу.
— Заметано, — кивнула Светища, — иди, выручай моего врача, а то Мала-Мала с него все соки выпьет. Пытки применит. А вот еще. Увидите Петьку, передай, чтоб ко мне бухой не являлся, скажу девкам, они его банками с-под компота закидают, из окна. Тоже мне, кандидат в папаши.
В больничном коридоре Панч взял Ленку под локоть, и вежливо прощаясь с высоким мужчиной в белом халате, повлек к выходу.
— Светлана заснула, Лен, сказала, чтоб шли уже.
— Он говорит, ничего страшного, — быстро докладывала Ленка, идя рядом и спотыкаясь, — сказал, рядовая процедура, а что зеленая такая, так то токсикоз, думаю, не врет, я бы увидела, если врет. Еще сказал, что молодцы, добыли лекарство. Знаешь, я когда тебе покупала, то вообще не знала, что и как, но помог… помогли мне, и все получилось, и теперь вот вышло все быстро.
Она не стала уточнять, что помогал ей Пашка Санич, да и неважно это было сейчас. Важно было то, что снова все повторялось, она уже ловила окружающий мир на этом, он вертелся, подставляя ей разные грани похожих ситуаций, вынуждяя быть то жертвой, то обидчиком, а вот теперь подсунул совсем похожую. И Ленке пришлось признать, что и Пашка Санич в итоге сгодился: помня, как они доставали лекарство для Панча, Ленка все сделала быстро, сердясь лишь на то, что снова деньги связаны с Кингом, и будто заколдованные, никак не найдут к нему дорогу. Тратили Ленкину сотню. Ну, или ее полста и полста, отданные мамой, но в любом случае отдать Кингу уже не получалось.
Если бы не суета с сестрой, Ленка, наверное, испугалась бы очень сильно, но время вертелось быстро, дни мелькали, через пару дней уже возвращается мама, так что пугаться было просто некогда. А все свободное от беготни в больницу и по аптекам время уходило на домашнее хозяйство, и снова Ленка диву давалась, да как мама умудряется еще накручивать волосы на бигуди, делать маникюр и наряжаться, если в квартире без перерыва приходится что-то убирать-мыть и устраивать постирушки.
Вечером, когда Ленка перегладила ворох белья, сварила на утро овсянку и переложила ее в банку с полиэтиленовой крышкой, зазвонил телефон, и она, полулежа в кресле, застонала, уронив руки к полу.
— Если этот сволочь звонит, телефон разобью.
— Я возьму, — сказал Панч, поднимаясь с пола, где сидел рядом с проигрывателем и стопкой пластинок.
Вернулся и доложил, стоя над усталой Ленкой:
— Сестра звонила. Да не дергайся, нормально все. Просила, чтоб ты сандалики приготовила, ее подруга зайдет утром, хочет купить. Лен, ты свои, что ли, продаешь?
— Нет, — обрадовалась Ленка, — вон на полке коробка, это мне папа привез, маленькие, я потому и решила себе такие же сделать. Ой, а вдруг купит, Валик, это же деньги.
— Сказала, договорилась, за шестьдесят. Если отдашь.
— Лучше бы за сотню, — расстроилась Ленка, шурша бумагой и вынимая блестящие новенькие сандалетки, — ну все равно, куча денег. Достать бы еще, сколько там не хватает? Девяносто. И кинуть в морду козлу этому.
— Девяносто, — грустно согласился Панч, — даже если моя тридцатка, все равно. Слушай, я сам отнесу. Сколько есть. Скажу, после остаток. Хотя лучше бы его утопить в море.
Ленка покачала головой, держа на коленях обувку. Она уже мечтала о том, чтоб с Кингом рраз и случилось что-нибудь. Но вдруг стало ей паршиво, потому что деньги все равно его, и если не отдать, получится, она сама такая же, как он. Пусть лучше подавится Сережа Кинг своим долгом, а Ленке главное, чтоб оставил в покое.
И вдруг, может из-за прихотливого течения мыслей, о том, что хорошо и что плохо, а еще из-за новеньких сандаликов, лежащих на коленях, она подумала о папе, о его письме, которое так и валялось у нее в косметичке, заклеенное, сложенное пополам. И с раскаянием поняла, по отношению к отцу она поступает по-свински. Он рвался между двух матерей, и возлюбленный ее Валька ведь сын Ларисы, которой Ленка нагрубила в порту. Папа написал, в надежде, что она прочитает, и как-то примирится. А она до сих пор вот.
Она встала, складывая сандалии в коробку. И вытащила из шкафа дорожную косметичку.
— Я пойду к Светище в комнату, — спохватился Панч, — она ж попросила сетку на окно прикнопить, от комаров.
Ленке стало весело от его озабоченности. Ну, сестра, уже припрягла братишку.
— Ты уж постарайся, — сказала сурово, и оба засмеялись.
С письмом в руках снова уселась в кресло, и, надорвав конверт, вздохнула, готовясь читать неловкие отцовские оправдания.
Из сложенного листка в руки выползла, раскрываясь маленькой книжечкой, купюра странного серовато-розового оттенка. Ленка медленно развернула ее, разглаживая и непонимающе глядя на профиль вождя, цветные мелкие витушки и цифру в центре бумажки.
— Сто… сто рублей?
Сердце стукнуло, во рту пересохло. Подожди, одернула себя Ленка, это может, и не тебе вовсе. Как в тот раз, с ампулами, просил для Вальки, а она подумала…
«Летка, прости, что ни разу не поговорил с тобой, и как успела вырасти, я и сам не заметил. Пока я в рейсах, вы там без меня, и наша мама все на себе тащит, а не идти нельзя, сама понимаешь, заработок. А что касается упрека твоего, насчет того, что сын мне важнее, и потом еще другое ты сказала, что парень болеет, а мы, его родители, не делаем ничего толком. Я поговорить с тобой хотел, рассказать, да ты не захотела, спряталась. Я понимаю. Но я тебя люблю и потому напишу, чтоб знала.
Валя мне не сын. Не родной. Вышло так, что когда мы с вашей мамой разошлись, я с Ларисой познакомился, она в положении была, оно совсем не видно, да я и не знал тогда. Думал, у нас с ней закрутилось, ну и забеременела. А после, уже когда Валька родился, я у Ларисы фотографию нашел. Встречалась она с парнем, а он ее бросил. А меня она приметила, потому как раз, что сильно я был похож, на ее Костю. Но ты не думай, она ничего не подстраивала, меня не заставляла. Хотя потом я узнал случайно, знала, с самого начала. Молчала просто. Я ее понимаю, чтоб у мальчишки отец был, а тут такая удача — волосы, глаза, все похоже. И врать не надо, просто промолчать. Не для себя она. Сперва-то может, думала, если я похож, то и любить меня она будет, как того, первого. Но вышла не любовь, а сплошная маета. Ну всякое там было. После мы с мамой помирились. Вернулся я. А того, что написал тебе сейчас, никто не знает, Летка, ты только. Ну и еще Лариса. И она думает, не знаю и я. До сих пор. Я решил, да и пусть. Глупости конечно, я бы все равно им помогал, как мог. Но теперь тыкать ей в нос разоблачениями всякими, не хочу, и так все перепуталось. Летка, ты меня прости. Даже не за это вот вранье, а за то, что живем мы как-то по-дурацки, и чем вы со Светланкой старше, тем дальше становитесь, страшно мне, доча, что однажды вернусь, а мы совсем чужие, и даже поговорить нам не о чем будет.
Денежка — тебе. А то я снова в морях, а ты школу закончила, выпускной, и после тебе, может, нужны всякие одежки или поехать куда. Был бы я какой миллионер, подарил бы тебе, Летка, собственный остров, с жирафами и слонами. Остров королевы Леты. А Светланке — самолет с пилотом. Ну, то мечты.
Папа»Из колонок тихо мурлыкали скрипки, играл оркестр Поля Мориа, и иногда слышался стук, за открытыми в коридор дверями. Это Панч, думала Ленка, мой Валька Панч, младший, оказывается, не брат, приколачивает кнопками сетку на окно своей старшей не сестры Светищи. А на коленях лежит совсем затертый, измятый конверт, который два месяца хранил секрет, и еще сто рублей. За которыми Ленка рванула в Феодосию, мыть полы в больничных палатах.
Вот все и разрешилось? Именно сейчас, когда оно нужнее всего, когда сотня, заработанная Ленкой, тратится на сестру, а еще этот Марон со своими заявлениями про инцест, и мама с подозрениями насчет романа непутевой младшей дочки. Это значит, что все можно? Конечно, Валька не прибавил в секунду себе год жизни и все еще несовершеннолетний, как там, не достигший возраста согласия, но осталось подождать совсем чуть-чуть.
Она медленно сложила отцовское письмо. Сердце ныло, больно стукая. Остров королевы Леты. Откуда папа знает, как понял? Из совсем детской ленкиной болтовни? А еще кается, что стал чужим своим дочерям. Самолет с пилотом. Конечно, реактивной Светище — именно да. И чтоб было кем командовать.
— Лен? — Панч заглянул, держа в руке молоток, а в другой рулетку, — я там еще держалку вкручу, для ночника. Глянешь? А то я не знаю, где кроватка ж будет стоять. Ты чего? Лен…
Быстро подошел, сгибаясь, чтоб увидеть лицо, и руки на коленях. Купюру в пальцах.
— О! Ого! Это откуда у тебя?
Ленка дернула кистью, не зная, что делать с конвертом, который держала за краешек. Панч сел рядом на корточки, заглядывая в лицо снизу.
— Это что? Письмо это, от отца, что ты говорила? Блин, Малая, это он тебе денег, да?
В ответ на ее кивок засмеялся, кладя ладони на ее коленки.
— Вот видишь, какой у нас отец, а? Ты правду мне говорила, что он — настоящий. Заботится. А я дурак, помнишь, бочку катил. Теперь что, теперь хватает, и завтра отдадим! Ты плачешь, что ли?
— Валь, — с отчаянием сказала Ленка, — ну как я могу. Не сказать. Мы же с тобой вместе. Если бы я могла, я не стала бы. Но ты все равно поймешь, и потом, я буду молчать, получается, врать тебе буду. А уже и так все домолчались.
— Я что-то не понимаю ничего, Лен.
Ленка протянула ему конверт, из которого торчало в спешке сунутое туда письмо. Панч взял, садясь рядом с креслом. И она обняла его за шею, легонько, чтоб не мешать, но на всякий случай, чтоб был совсем рядом, когда прочитает. И узнает.
* * *
Сильный, неожиданно прохладный ветер задувал вдоль домов, гремя жестяночками пересохших листьев, и шум от них был таким сильным, что Ленка сердилась, напряженно вслушиваясь и пытаясь за шелестом расслышать что-то еще. Шла быстро, щурясь под ноги, чтоб не споткнуться о вечные выбоины в асфальте, и тут же поднимала голову, всматриваясь в темные кусты и под низкие ветки, освещенные сверху желтым светом фонарей.
— Валя? Валик! Панч, ты где?
Пугаясь, летела быстрее, оставляя за спиной бетонные углы у входа в художественные мастерские, там, где сидели они когда-то с Викочкой Семки, потом — «серединку», куда заглянула по пути, разводя руками сухие ветки с царапающими концами. Проскочила узкий проход между пятиэтажками и встала, оглядывая пустой, залитый ровным светом автовокзал с травяным горбом древнего кургана. Сказала безнадежно, понимая, что тут, где просторно, и ветер шумит, как в поле, он не услышит, если она не закричит во все горло, а как тут кричать, рядом открытые двери в дежурку:
— Панч?
И повернулась, ушла обратно, в темноту, перемежаемую редкими пятнами света. Шла вдоль домов, сжимая в руке ключ от квартиры. И прибавила шагу, подумав испуганно, а вдруг он вернулся, звонит, а ее нет, и дома пусто.
Шея болела от того, что Ленка вертела головой, и в глазах уже плыли цветные круги. Вбегая в длинный двор и идя вдоль пустых скамеек, рядом с которыми томно клонили длинные стебли мальвы-переростки, отчаялась, и наконец, заорала в полный голос, очень сердито:
— Валька, черт! А я значит, должна сама все, да? И еще тебя вот. Утешать!
— Тут я, — мрачно сказали кусты у соседнего с их квартирой подъезда. Ленка свернула, всматриваясь в темноту у стены, которая от горящих над головой окон казалась еще темнее и гуще.
— Где тут? Я ногу сломаю.
— Не лезь.
Сбоку замаячила темная длинная фигура. Ленка схватила плечо, потом локоть, разыскивая ладонь, и вцепилась крепко, таща на свет.
Панч молча шел рядом, рука мертво лежала в ленкиной ладони.
— Ну? — сказала Ленка на дороге перед своим подъездом, — пойдем, а? Валинька, пойдем домой. Пожалуйста. Ты голодный, не ел же ничего. Ну не хочешь говорить, хоть поешь.
— Мне домой надо, — уныло сказал Панч, опуская голову.
У Ленки закололо сердце. Он не хочет. Не хочет видеть ее, говорить, а хочет скорее уехать. К маме, значит. Совсем еще ребенок, и она его понимает. Но отпустить? Чтоб вот так исчез и вдруг никогда больше не вернется?
— Правильно, — согласилась, еле заметно толкая его к подъезду, — домой, надо. Тем более школа. Уже совсем. Скоро. Но это же утром, Валь. Билет там, все такое. Пойдем, а? Ты же не будешь ночью, на улице. И ветер такой.
— Унесет меня, что ли? — обиделся Панч, неохотно делая шаг и еще один, — ладно, что ты, как маленького. Сам пойду.
В квартире Ленка побежала в кухню, но сразу вернулась, беря Панча за руку. Он руку высвободил, постоял в коридоре, где свет из кухни рисовал половину его серьезного лица. И пошел в комнату, сел на пол рядом с проигрывателем, где ему нравилось сидеть, провел пальцем по стопке пластинок в измахренных по краям конвертах.
Ленка села в кресло, сложила на коленях руки, не отводя от мальчика напряженного взгляда. Моргнула, потому что глаза заволакивала слеза. Сейчас, когда он был дома, и входная дверь заперта, страх ушел, но на его место пришла нестерпимая обида. Он расстроился из-за отца. Всего год назад он его получил, по-настоящему, после, кстати, Ленкиных горячих речей, поверил в то, что он ему не безразличен, привык к мысли, что отец не просто есть, а любит и заботится о нем. И вот — потерял снова. Ленка понимает, да. Именно поэтому она так ошарашена была письмом и не смогла радоваться. Но все же, кроме новости о том, что Ленкин отец Валику оказался никто, есть и другое. Вернее, это же, но с другой стороны. Они так стремились друг к другу, так мечтали быть вместе и вот теперь они могут быть вместе, и никакие соседи не скажут им ничего!
— Соседи, — вдруг догадалась Ленка, — это они про нас трепались, наверное, мама сказала, что вот приехал брат, двоюродный, а Викочка Семки разболтала, как мы…
И замолчала виновато, понимая, Вальке совсем не до этого.
— А у него тут есть пластинка любимая? — вдруг спросил Панч, — ну… у Сергея Матвеевича.
— Так, — сказала Ленка звенящим голосом, — ты меня извини, конечно, но мне надоело. Вот бы меня кто-то так утешал, как мы вас. Ах, бедные, ах, несчастные. Со своими горями горькими. И значит, другое тебе уже не нужно, да? То, что мы теперь можем, все можем и прятаться нам не надо!
— А я особо и не прятался, — удивился Панч, — из-за тебя вот. А так мне на всех наплевать. И на соседей в первую очередь.
— Ты хочешь сказать, я как мама, да? Что мне важно, соседи эти?
Ленка вскочила, и ничего не видя из-за слез, пошла к двери, с которой смотрела на нее розовая глупая блондинка, поднимая тонкие брови и сложив ротик буквой «О».
— Лен. Да стой ты.
— Уйди!
Она вырвала руку, стремительно прошагала по коридору и уставилась в кухонное окно.
— Лен. Я не то хотел. Ну прости. Ты не понимаешь, да? Я с тобой никого не боюсь. И не боялся. Я хотел сказать, это ты ужасно переживала, что мы родственники, я даже не знал, что так сильно переживала, сейчас только понял! А ты поняла, что я переживаю, ну, из-за чего переживаю? Я?
— Я думала, — угрюмо сказала Ленка, — что мы одинаково думаем, про все. А оно…
Повернулась, и оказалась в руках Панча, он обнял ее, прижимая к груди.
— Почему так все? — говорила Ленка ему в плечо, обхватывая руками талию над поясом широких брюк, — смотри, и деньги, ну и вообще, а мы, получается, поругались, да? В первый раз, Валь. Даже когда я тебе рассказывала всякое, про себя, мы не поругались. Или когда про Ниночку каратистку…
— Не знаю, Лен. Устали, может?
— А про отца, я тебе вот скажу! Ты дурак, если будешь его теперь — Сергей Матвеевич, видите ли. Сколько людей разводятся и получается, неродные отцы, а все равно — отцы. У нас в классе, да у половины отцы были не родные, но считается же отец все равно!
— Да я понимаю, ты опять со мной, как с маленьким.
— Подожди! Я, может, себе это говорю. Он сколько ты рос, столько о тебе думал. Заботился. Как получалось. Ну не супермен, да. Но все равно!
Она замолчала, снова мучаясь тем, что слова — их много, но все они какие-то, не желают становиться в том единственно верном порядке, который правильный, нужный и золотой. Но Валик, обнимая и целуя в макушку, кивнул.
— Он очень хороший. Другой бы матери моей сказал бы, раз ты такая, то нафиг вас. Я еще и потому сегодня так…
— Из-за того, что ты как бы теперь не имеешь права? — догадалась Ленка, — гордиться, что он такой, да? А вот имеешь. Все мое, Валька, оно твое. И папа.
— И Светища, — подсказал Панч сверху.
— Да! И скоро у тебя племянник будет. Или девка мелкая крикливая. Ты чтоб приехал, коляску возить, ничего не знаю!
Они снова замолчали, стоя перед окном, за которым знакомый двор был немного загадочным, из-за ветвей, что стелились под ветром, и пустоты, подсвеченной фонарями. На этот раз оба подумали одно. Скоро Панчу ехать домой. А Ленке оставаться.
— А про деньги не волнуйся, — сказал Панч после молчания, — завтра, если подруга эта придет, я сам отнесу, отдам. Ты не ходи. И вообще теперь с ним ничего, поняла? Ни к телефону, ни на улице. А если вдруг что, я приеду и буду тут.
— Здрасти. А школа?
— Плевать. Ну, останусь на второй год, какая мне разница.
— Ничего не будет, — уверенно сказала Ленка, — отдадим и выкинем его из головы. Ты чего смеешься, эй!
— Как ты на меня. Наехала. Мы вас утешаем!.. А сама налетела, как ястреб, думал, побьешь. Утешительница нашлась.
Они вместе, неловко поворачиваясь, пошли темным коридором в комнату, сели на палас перед стопками пластинок.
— Марк Бернес, — сказала Ленка, — он его очень любит. Старые такие песни, в кинофильмах. Шаланды, полные кефали. А еще, я забыла, кто поет, «я в весеннем лесу пил березовый сок». Мама мне ее пела, когда я засыпала, и всегда говорила — папина любимая. А пластинки нет, Бернеса была маленькая, гибкая, они ее взяли в гости и там оставили, у дяди Виктора.
— Я ему подарю.
Ленка кивнула. Обнявшись, сидели рядом с молчащими колонками, в пустой квартире, куда скоро вернется мама, а потом Светища, и с ней воцарится крошечный новый ребенок, станет шумно, а еще может быть, по Ленкиному желанию, в семью добавится Петичка, если от своих волнений не запьет, как дурак, и Светку из-за этого потеряет. Потом вернется папа.
— Пообещай мне, что будешь приезжать, часто.
— А ты ко мне. К нам. А еще поедем с тобой в Ялту, посмотришь, как мы живем. Я тебе там все-все покажу.
— Я тебе еще тут кучу всего не показала.
— Это хорошо, — согласился Панч. И зевнул, стукнув зубами, — у нас значит, гора всего, что еще можно сделать.
Глава 56
Автобус был старенький, круглый, с пыльными боками, и Ленка, стоя в кольце рук Панча, подумала, может, тот самый, что вез ее в самый первый раз. Когда она представляла младшего брата маленьким, бледным и худым, себе по плечо. После увидела, и испугалась. А потом они ночевали в конурке над пустым спортзалом.
Думать это было так щемяще, что внутри все сжималось, и ноги слабели от грустного удивления — как же много всего вместил в себя этот год. Как семечка, которая разбухает в воде и вдруг пускает зеленые стрелки, и не успеешь оглянуться, а уже стебли, листья и веточки, и крошечное зерно осталось невидным, внизу, но все выросло и раскустилось из него, маленького и на первый взгляд слабого.
— Смотри, — сказал над ее головой Панч, — ты обещала, на первые выходные.
Ленка кивнула, бодая его в плечо лбом.
— И на вторые тоже. Потом уже ты, потому что Светища, и ребенок.
— Народу дома будет. А я где?
— У меня! Я маме так и сказала, постелим тебе на раскладушке.
Панч покачал ее, обнимая. Вокруг быстро ходили люди, пробежала посадчица к соседнему автобусу, поправляя на груди оборки и прижимая к боку тетрадку.
— Она же знает. Ну про меня, что не брат. И что говорит?
— Насчет соседей? — засмеялась Ленка, — я сказала, мне плевать. Мама подержала в руках корвалол, потом снова его на полку. Да ну вас, говорит, сердце выкручивать, у меня вон — Светланка и ее капельницы…Какое счастье, Валь. Долг этот.
— Если он вдруг начнет чего, — снова предупредил Панч, но Ленка, прижимаясь к нему, покачала головой.
— Не начнет. Ты ж видел. Не знаю, что там, но ему совсем не до меня.
Над их головами раскатился невнятный голос из динамика, вокруг взволнованно засуетились люди, но, с облегчением поняла Ленка, это не их попутчики, это еще не ушел предыдущий. Теперь оба молчали, потому что стало шумно, ревел мотор, кто-то кричал, а динамик продолжал говорить. И Ленка снова вспомнила, как они отправились отдавать долг Кингу.
* * *
Звонить ему она совсем не хотела, но надо же договориться о встрече. Панч стоял рядом, в коридоре, а в кухне возилась мама, загорелая, с облупившимся, как у девочки, носом. И Ленка благодарно посмотрела на мальчика, он рядом, значит, все получится.
— Это кто? — требовательно сказал в трубке немолодой визгливый голос, и Ленка растерялась на несколько секунд.
— Я… это… а позовите Сергея.
— Нету такого, — отрезал голос, — звонют и звонют, сменялся он.
— Что? Номер?..
— Кватера! — закричала собеседница, — да чтоб вас, тыща штук уже за неделю.
Ленка положила трубку, в которой пищали короткие гудки, и с недоумением уставилась на Панча. Пересказала ему, будто переводя с незнакомого языка на нормальный, человеческий:
— Сменялся, кватера, не номер. Неделю уже. Валька, он что, квартиру поменял? И не живет теперь тут?
— Мы теперь богачи? — вполголоса засмеялся Панч, оглядываясь на матовое стекло в кухонной двери.
Но Ленка сжала губы, упрямо хмурясь. Так много сил и мучений было связано с этими деньгами, с долгом, и теперь все повисло, и ей дальше переживать? А он, сволочь, будет где-то ходить, и думать, что она зажала его деньги?
— Так. Сегодня пятница? Пошли на толкучку, он там каждое почти утро, со шмотками.
— Леночка! — мама вышла, вытирая мокрые руки, — пока продавцы не разбежались, сходите на базар, за молоком. Хочу Светланке творогу сделать, а нужно домашнее. Вот вам бидончик. Валя, держи. И мелочь.
— Давай сначала его найдем, — сказал Валик, идя через мостик к бетонному парапету городской речушки, где сидели и стояли фарцовщики, а между ними бродили покупатели, заглядывая в пакеты, а после уходили, озираясь, в подъезды ближайшей пятиэтажки, — пока бидончик пустой, если что, я его — бидончиком.
Ленка, хотя сильно волновалась, не выдержала и фыркнула.
В негустой толпе Кинга она увидела сразу, узнала широкую спину, обтянутую модной коттоновой рубашкой с треугольной кокеткой. Он что-то говорил двум сидящим на парапете барышням, раскрывая в руках большой пакет с веревочными ручками. Барышни кивали, заглядывали и совали руки, щупая вещи.
Ленка тронула Валика за локоть. Очень быстро подошла, встала сбоку, сказала звонко, стискивая в руке сложенные бумажки:
— Сережа? Привет. Давай отойдем, на два слова.
Барышни вытащили руки из пакета и осмотрели Ленку, ревниво надувая губы. Кинг повернулся, поднимая свое добро.
— А, — сказал странным голосом, без обычной в нем ленивой ухмылки, — привет. Леник.
Вдвоем они отошли туда, где уже было пусто, Кинг сел, расставив ноги в синих новеньких джинсах, выжидательно посмотрел, перевел взгляд на Панча, который стоял в паре метров, держа в опущенной руке коричневый бидончик.
— Ну?
— Вот деньги, — Ленка протянула кулак с купюрами, — можешь пересчитать, ровно двести.
И показалось ей или нет, на лице Кинга нарисовалась радость и облегчение.
— О, какие мы обязательные, — пропел уже обычным своим голосом, принимая сложенные бумажки, — да не тряси на виду, хочешь, чтоб нас менты повязали? За спекуляцию?
Сунул деньги в карман, не пересчитывая, встал, оглядел обоих — Ленку с отчаянным сердитым лицом и Панча с бидончиком.
— Пока, детишки.
И ушел, насвистывая и не вынимая руку из кармана с деньгами.
— Пошли, — сказал Ленке Панч, — Пошли, где тут у вас молоко?
От того, что все случилось так быстро и так обыденно, Ленке стало неуютно. И страшно. Казалось, сейчас спохватится, догонит и снова начнет издеваться, угрожать, говорить всякие гадости. Но за спинами утихал невнятный шум толпы, чей-то смех и быстрый короткий разговор. А впереди уже волновался большой колхозный рынок, и за прилавками и народом — двери в прохладный, пахнущий свежим творогом и простоквашей, молочный павильон.
— Какой-то он, будто заболел, — задумчиво сказала Ленка, — я даже порадоваться не могу толком.
— Жалко его? — Панч подставлял бидончик, а ловкая тетка в белом халате черпала и опрокидывала в него алюминиевый стаканчик на длинной ручке.
— Нет, — призналась Ленка, — нисколечко, просто странно, будто он что-то задумал.
— Он тебя больше не тронет, никогда.
— Откуда знаешь?
Панч пожал плечами. Тетка обтерла краешек бидона и вручила его покупателю.
— Я не знаю. Но понял. Точно — не тронет.
— Хорошо бы, — с сомнением ответила ему Ленка.
И они ушли, унося густое молоко в бидончике, и думая уже о том, что утром Панчу ехать домой.
* * *
— Ты что смеешься, — спросил сверху Валик, — а ну, я тоже хочу.
— Как ты его. «Бидончиком». А помнишь, мне сказал, ты доктора Гену — фонендоскопом.
Засмеялись вместе, прижимаясь все теснее, и Ленка подумала через смех, с испугом, да как же это, он что, уезжает? Прямо сейчас?
— Заканчивается посадка на автобус, следующий до города Феодосии, — сообщил динамик над головами. Ленка перестала смеяться, с возмущением думая, как это заканчивается, ведь еще не говорили, что она началась!
— Лен. Я тебя люблю. Навсегда люблю. Ты смотри, не забывай, хорошо?
— Валинька. Ты мой ангел. Я без тебя, наверное, умру.
— Нет, — его лицо наклонилось, совсем близко, и глаза, темные, внимательные, — не умрешь, а ко мне приедешь. Мы с тобой всегда будем вместе, да? Не плачь. Ну, ты чего, Лена Малая? Блин, буду ехать и думать, что ты тут плачешь.
— Нет, — сказала Ленка, отпуская его и уже изо всех сил хотя, чтоб ушел и сел, потому что она сейчас разревется позорно, как маленькая, басом и с соплями. И вообще, сил нет провожаться, скорее бы уже прошла неделя! Чтоб ехать.
— Нет. Я не буду. Плакать. Ты иди. А я в кассу. Я билет куплю. К тебе.
— Да, моя королева Лета. Только сразу. Купи. И через дорогу осторожно.
— Еще нет.
— Что?
— Не королева. Но я буду, Панч, обязательно. Стану. Для тебя.
Он кивнул и они поцеловались. Коротко, потому что рядом проскочила посадчица, раскрывая на ходу свою тетрадку, и шофер закричал сверху что-то.
А потом Ленка быстро шла обратно, мимо вечного кургана, поросшего сушеной от прошедшего августа травой, через дорогу, по которой уехал автобус. Почти ничего не видя от слез, устремилась в проход между домами, и дернулась — в плечо ударилось что-то колючее, отскочило на тротуар.
— Малая! — Ленка подняла голову, к сердитому лицу на балконе, над гирляндами вяленой рыбы, — ты оглохла, что ли?
— Оля! Рыбочка!
— Поднимайся, давай!
Всхлипывая, Ленка летела по пыльным ступеням, хватаясь рукой за перила, на которых знала каждую трещину и вмятину. Вваливаясь в открытую дверь, зарыдала в голос, топчась и неловко скидывая сандалии.
— У-у-у… уе-хал, Оль. Он уехал!
— О-о-о, — сказала Рыбка мудрым голосом, — ну-ка, двигай в комнату, а то предки услышат, щас я тебе водички. На балкон давай сразу.
— Да, — согласилась Ленка, ныряя под плотные занавески и спотыкаясь на бетонном порожке балкона, — водички, мне. Да… А ты чего тут? Рыбочка, как хорошо. Приехала.
Потом Ленка сидела на порожке у открытой двери, слушала, как Оля в кухне что-то говорит матери, а та страдальчески ей отвечает. Наверху топтали жестяной карниз голуби, скрежетали лапками, съезжая, и вскрикивали воркующими голосами.
— Держи, — Оля явилась, вручая эмалированную кружку с холодной водой, — пей.
— Я… — Ленка держала обеими руками, шмыгала, тряся головой, чтоб слеза сорвалась с ресниц, не мешая смотреть, — а ты вот, ты вернулась совсем, да? А ты где?..
Рыбка махнула рукой, прерывая вопросы. Уселась на маленькую скамеечку, вытягивая длинные незагорелые ноги в полосатых носочках.
— Потом. Говори, давай.
И Ленка, прерываясь на очередной гулкий глоток, рассказала. Путаясь и возвращаясь назад, потом снова — про нынешнее, и снова глотнув, о своей любви и о том, какой он — ее Валик Панч. Младший бывший брат.
Двери в комнату были закрыты и там, за ними, декларировал что-то Олин отец, мать отвечала ему невнятно и поспешно. Голуби неутомимо катались вниз по козырьку, срывались в воздух, хлопая крыльями, снова усаживались, топчась и воркуя.
Оля слушала, вертя в руках наполовину очищенную вяленую рыбешку.
— Знаешь, — сказала усталым голосом Ленка, ставя на грубый половичок пустую кружку, — я никак не привыкну. Что не брат. Вот так и думаю о нем все время — младший братишка. Люблю, а все равно думаю.
— Ну, какой же скотина, — с чувством произнесла Оля, дергая рыбу за торчащий плавник, — да не он, я про Кинга твоего.
— Не мой он, — привычно открестилась Ленка, — скотина да. Оказался.
— Та, — Оля прихватила зубами плавник, дернула, отрывая, и плюнула его на пол, — ясный пень, сразу такой был, а мы дуры жеж, все считаем, что нас западло обидеть. Хорошие такие девочки, разве ж можно хороших обижать. Дела…
Она сунула Ленке почищенную рыбешку и, протягивая руку, сорвала еще одну из висящей на гвозде низки. Взялась чистить.
— Дать бы тебе, Малая, поджопник, — размыслила задушевным голосом, — за то, что секреты тут разводила про Панча своего. Блин, это ж надо, я к ней со своим Ганей, ах и ох, спаси меня, Ленка Малая. А Ленка чисто Зоя Космодемьянская, молчала, хоть пытай.
— Зато ты уехала, — защитилась Ленка, зубами отрывая полупрозрачное сухое мясо с колючего хребтика, — не сказала ничего.
— Да, — согласилась Оля, — обе хороши. Тьфу. Нормальная рыба, но костей в ней. Я квасу принесу щас. Холодный. И еще вот Викочка. Так ты говоришь, странный он был?
— Кто? Валик?
— Та! Я про Кинга. А Семачки ты давно видела?
— А… — Ленка подумала, вспоминая. Покачала головой.
— Давно. Оказывается. Еще перед Феодосией, это значит, два месяца уже. Почти.
Оля нагнулась, кладя объеденную рыбу на пол рядом с горкой шелухи. Выпрямилась, глядя на Ленку так, что та перестала терзать свою рыбешку и напряженно уставилась на Олино непонятное лицо.
— Что? А что такое-то?
— Дела. Ну так слушай, я тебе расскажу. Чего было, пока ты тут крутила свои лямуры.
Подхватила под собой скамеечку и, не вставая, подъехала к Ленке поближе. Заговорила вполголоса, останавливаясь, чтоб прислушаться к звукам в коридоре и в кухне.
— Я ж приехала два дня назад, ну в деревню с предками метнулись, а потом я обратно, думаю, надо ж тебе позвонить, встретиться. Иду и на автовокзале встречаю нашу Семки. Идет такая вся, в голубом сарафане, широком таком, с оборкой. Погодь, это важно как раз. Меня увидела, ой, Рыбочка, ой ты как тут, чего, а пойдем мороженого есть. Ну я не сильно хотела, а она за руку тащит. У самой лицо аж зеленое, и глазами водит, будто кого боится. Или ищет. Ну идем мы с ней, я про тебя спросила, она говорит, та бабки во дворе сказали, уехала, наверное учиться. Я ж кстати и поверила, вот думаю, невезуха какая, не встретимся. Взяли по эскимо, сидим на лавке, у Володи Дубинина, там елки эти, нас не сильно видно. Ля-ля тополя, она болтает там что-то. Потом меня стала просить, а давай ты со мной сходишь на толкучку и Сережу вызовешь в сторону, у меня к нему разговор. Я офигела, конечно. Да ты что, говорю, Семачки, детсад разводишь, иди сама и базарь с ним. А она прям заикаться стала, мелет что-то, а говорит, я не могу, он мне не открывает. И тетку подослал, чтоб по телефону. Я слушаю, вообще не пойму, что почем, тетка, не открывает. Ну отказалась. Не буду говорю. И тут она мне выдает… Ах так, Рыбочка, тогда мать твоя узнает, как ты с Ганей по углам зажималась, и что он тебя трахал. Меня, то есть.
Оля скорбно посмотрела на Ленкино ошеломленное лицо. Подняла перед собой ладонь, останавливая реплику.
— Погодь. Я тоже сперва, ах ты думаю, падлючка малолетняя! Но не успела вообще ничего. Смотрю, Семки встает. И уже на меня и не смотрит. А там, за елками, где дорога, там стоит этот кенарь толстый на своей синей тачке. И через скверик сам Сережа Кинг пилит, весь такой, в коттоне, ну как всегда. И тут, Лен, начался цирк на дроте. Семки к нему подскочила и сходу как завизжит, на весь парк. Ты, орет, ты меня изнасиловал, а теперь рожу воротишь! Ты почему двери запер, я звоню, мне ответ нужен! А если ты такая жопа, то мой отец не заберет заяву, а у меня уже три месяца, между прочим! И трясет своим сарафаном, ну что он у нее широкий такой, под сиськами завязан, я такая мама мия, это ж для беременных платье, а я думала, чего наша Семки так вырядилась. Короче, я по лавке в кусты, ой, думаю, лишь бы не подумали, что мы с ней вместе. А Кинг встал напротив, тоже орет на нее. Ты сука, ты все лето по койкам прыгала, хуи дергала, так и кричал, прикинь, а теперь своего ублюдка хочешь на меня повесить? Не выйдет! И Семки снова, ты мне обещал замуж! А к мужикам ты сам меня. Говорил, так надо! Если я беременная, ты обещал! Кинг орет, ты сбесилась да? Когда это я обещал? Покажи расписку, если умная такая. Она ему снова, а ментам расписка не нужна, я уже справку взяла, что у меня три месяца и аборт поздно. И на тебя родители заяву подали, чтоб ты женился. Лен… ты можешь себе представить? Вообще все это? Если бы, ну там, разборки дома, или даже на лавочке где-то, вполголоса, а то — центр города, дети гуляют! Вокруг стали люди собираться. Кто-то уже кричит, а может милицию? Тут девушку беременную обижают. Кинг это как услышал, к ней шагнул, размахнулся, как звезданет Семки по уху. И пошел себе. Она на жопу села, за щеку держится, и плачет. А он просто уехал.
…
Я к ней подошла, вставай, говорю, на тебе платок, вытрись. Люди рассосались, пока Семки там утиралась, и мы с ней пошли потихоньку обратно. Пожрали мороженого, да? Идем, она носом сперва хлюпала, а потом перестала, лицо злое такое сделалось. Я говорю, Семачки, что же теперь будет? Ты ж в десятый идешь, и рожать? Она усмехнулась, а еще чего, нужен мне этот ребенок. Батя уже заплатил, чтоб преждевременные роды, потому что аборт поздно. Мне прям плохо стало. Говорю, ты с ума сошла, это ж риск во-первых, ну и все же ребенок, не щенок какой. Да говорит, мне плевать. Когда батя с больницы выйдет, я вообще уеду. Оказалось, у них дома были разборки, и батя угодил, с инсультом. А эта кукарача морду строит кирпичом, планы у нее — уехать. Во накрутила.
Она замолчала, выдохшись. Ленка сидела, крутя в руках колючую обкусанную рыбину, от которой во рту тоже стало колюче и невкусно. Как говорила ей Вика, ты не умеешь, Малая. Не знаешь, что надо делать и как. Значит, она тогда уже знала, что беременна. И надеялась Кинга этим заставить жениться. Заставить с ней вместе жить. Мало того, что — какая же это жизнь будет. А еще наворочала таких дел.
— Он квартиру поменял, — сказала Ленка, — я ж звонила, а там тетка. Наверное, Семачки тоже звонила. И приходила. Думаешь, он из-за нее поменялся?
— Пф, — не согласилась Оля, — навряд. Я тут встретила пацана знакомого, с братом тусил моим, и он мне знаешь, чего сказал? Кранты говорит, вашему Кингу приходят, чересчур зарывается. Большие люди ему предъявы кидают. И денег он должен немало, у него же все в товаре. Сделки какие-то. Так что, у него кроме Семки хлопот полный рот. Он, может, потому и оторвался так на ней. И на тебе тоже. А денежки твои, видишь, взял и не пикнул, значит, Сережечке нынче каждая копейка важна. Помяни мое слово, Малая, через пару дней исчезнет, с концами. Особенно если Семачки не соврала и на него в ментовке заява. А интересно, можно так, подать, что беременная и чтоб женился? Она это и кричала же ему.
— А она? — Ленке стало совсем неуютно и паршиво, — не видно ее во дворе, ты говоришь, это позавчера было? Уехала, может?
— Хочешь сходить, разузнать? — спросила Оля.
Ленка покачала головой. Семачки было жалко. Но не так сильно, чтоб подниматься к ней домой и общаться с ее матерью, у которой муж в клинике с инсультом, а дочь собирается лечь на операцию, чтоб избавиться от ребенка. И вообще было страшно и непонятно, как быть.
— Оль. Если бы она переживала, ну как все. Плакала там. Или закрылась и… ну страдала в общем. Но она хотела тебя утопить, я ее и жалеть боюсь, еще начнет кусаться. Она же мне сказала, это я виновата, что с Кингом у них.
— Вранье, — заявила Рыбка, — нифига ты не виновата! Если бы он ее обхаживал, а так она сама к нему побежала, прям сразу, когда ты с ним закрутила роман. Прикинь, вот специально, чтоб тебе дорогу перейти. Я тебя знаю, щас начнешь волосы на башке рвать, ой, я подвела бедную Семачки.
— Ну…
— Вот! — Оля подняла тонкий палец с алым ногтем, — а я про что? Ты лучше скажи, а этот твой Панч…
— Ты лучше скажи, — возмутилась Ленка, — а то пытаешь тут. Сама-то?
Рыбка пожала прямыми плечиками, хмыкнула, составляя длинные худые ноги, одернула краешки сатиновых спортивных трусов на бедрах.
— А у меня как-то и ничего. Со школы всего два, считай, месяца прошло, Ленк, это у вас тут приключений полный короб, а я сижу себе в городишке, вишню жру, варенье варила. Моря там нет, речка — тьфу, я ни разу и купаться не пошла, болото — болотом. Отдыхаю, короче, от любовей дурных, и вот с десятого сентября учеба начинается. Наш курс в колхоз отправили, а меня Женька отмазал. Это материной подруги сын, Женька, вернее, Евгений Эдуардович. Преподает в техникуме, куда я документы сунула.
— Да, — Ленка посмотрела с интересом, как у Оли запылали щеки, — и что же он тебе преподал, этот Олеандрович? Камасутру?
— Кама чего? И перестань издеваться! Он молодой совсем, при чем тут Оле- андро…
— Фу ты, Оля! Ну книжку, помнишь, Танька притаскивала, на машинке перепечатанную? С позами.
— Помню, — согласилась Оля, — а еще помню, какая же ты, Малая, пошлая и циничная существо. Давай я лучше квасу принесу.
— Принеси, — Ленка удобнее устроилась на порожке, вытянула коричневые ноги в золотистых выгоревших волосках, так, чтоб на них падал солнечный свет.
Чудесно, что из ниоткуда явилась ее Рыбища, помогла, и кажется, пока что Ленка не будет рыдать, а вечером, ну что ж, вечером придет тоска, разве может быть по-другому. Но у нее есть обещание, данное Панчу. Я еще никакая не королева, думала Ленка, слушая голубей и разглядывая свой загар, полосатые тени от облупившихся оконных рам, узелки на плетеном половичке, и даже никакая не Лета, была Летка-Енка, потом немного выросла и сделалась Ленкой Малой, Маленькой Малой Валика Панча, но впереди куча времени, чтоб расти дальше. Ей нужно многому научиться, спасибо тем, кто попадался ей на пути, показывая, что будущее может быть разным, и тупика все же нет. Например, Миша Финке, которого Ленка так ни разу и не увидела. Но теперь она может постараться так же повелевать словами, как он. Почти как он.
Нет, подумала она дальше, принимая из рук Оли ледяной тяжелый графин, коричневый под белым прозрачным стеклом, не как он, а по-другому. Как я.
— На море завтра? — предложила Оле, отдавая графин и вытирая рукой холодный рот.
Но та покачала головой.
— Не успеваю, Ленк. Завтра с матерью к родным, потом гости приедут, потом Женька, ой, Евгений Олеандро… тьфу на тебя! Эдуардович, приедет меня забрать, мы еще думали в Сочи смотаться. Так что, посидим, и прощаться. Так вот все поменялось. Ушло все.
— А давай не отпустим, — Ленке стало печально, но она порадовалась за Олю и ее Олеандра, — ну как-то вот, не отпустим. И не уйдет.
— Не получится. Меняется все. Но ты мне напиши, ладно? А я тебе.
— Ладно, — согласилась Ленка, — я тебе раньше никогда не писала, вот и новенькое. Напишу. А ты — мне.
Глава 57
Ленка шла мимо стоящих торцами пятиэтажек, помахав Оле, которая смотрела на нее с балкона. В руке сжимала сверток с сушеными рыбешками. Прошла мимо «серединки», закрытой густыми ветками. Теперь там можно сидеть снова, не боясь, что девчачьи секретики услышит взрослый Сережа Кинг. Усмехнулась. Можно было бы.
Шла мимо просторного парка с ивами, по правую руку, где они с Рыбкой и Семачки гуляли весенними томными вечерами. Сейчас там, в ярком солнечном свете родители катали детские коляски, и дети постарше бегали с мячом и собаками.
Прошла рядом с художественными мастерскими, где на бетонном парапете под козырьком выставлены были гипсовые модели скульптур — сохли на свежем воздухе, а рядом, расстелив узкое полотно, парень в испачканной рубашке лениво возил по ткани кистью на длиной ручке — грунтовал под очередной лозунг, который повесят где-то на входе в контору. Тут они часто сидели, когда возвращались с дискотеки, и неохота было разбегаться по домам, а потом Ленка шла провожать Олю, а потом Оля провожала ее — до «серединки».
Вошла в длинный двор своего дома, там на лавочках сидели непременные бабушки, кивали, провожая взглядами девочку с пышной копной выгоревших волос, в сарафане с широким подолом, разрисованном алыми розами по зеленой листве. В смешных кожаных сандалетах с пристегнутыми на щиколотках крылышками — ни у кого таких не было.
Медленно идя вдоль дома, опустила голову, затылком и лопатками ощущая — там, наверху, балкон Викочки Семки, за его оконными стеклами все изменилось, все тягостно, пугающе, и совершенно непонятно, что теперь будет.
Подходя к площадке, увешанной сохнущим бельем по частым проволокам, не удержалась и посмотрела на соседний дом, там, по диагонали от ее окон, выше, на четвертом этаже — белый балкон, за ним — синие шторы, плотно задернутые от солнечного света. Когда-то там торчал Пашка, махал Ленке и орал, пританцовывая и улыбаясь. А за его пятиэтажкой начинались кварталы частных домов, там девочки тоже любили гулять, срывая с веток, висящих над заборами, вишни и алычу, отщипывая виноградины, с гроздей, пролезающих через штакетины. Оттуда слышался дежурный собачий лай, а ночами, знала Ленка, если не спать, орали сонные петухи, мешая кукареканье с дальними грохотом порта и свистками маневровых тепловозов.
Постояла у своего подъезда, вдруг став Валиком Панчем, который так же подошел и увидел все это в первый раз, и сама посмотрела совсем новым взглядом на старую скамейку, кусты крыжовника в палисаднике, мальвы, усыпанные одинаковыми цветками по длинным стеблям. Два окна — кухонное, за которым сейчас мелькала тень, это мама там что-то готовит. И рядом, за косо сдвинутой оранжевой шторой — Ленкино.
И пошла дальше, нащупывая в сумке маленький кошелек. Когда заплакала, то убежала с автовокзала, не успев купить билет, а надо, вдруг не будет.
Подумала так, насчет не будет, и волнуясь, пошла быстрее, сжимая кошелек через матерчатый бок сумки.
Неделя. Что можно успеть за пять дней? Похудеть на три кило, наверное, не успеется. Но можно выбрать себе книг, из тех, что назначила прочитать, когда листала тетради Миши Финке. Еще надо помочь маме, которая внезапно купила ведро черных слив и теперь они стояли в углу кухни, а мама с отвращением смотрела ни них, пугаясь хлопот. Сварить варенье, то есть сперва перемыть, засыпать сахаром. А еще через пару дней нужно покрасить волосы, снова. И может быть делать по утрам зарядку. Ну и сходить, наконец, в ателье, договориться насчет работы, все же это лучше, чем снова идти махать шваброй в больничных палатах, и маме будет спокойнее.
Куча дел. Это немного успокоило Ленку, и она, отстояв небольшую очередь в кассу, купила билет, спрятала его в кармашек кошелька и вышла. На ту самую платформу, где пару часов тому стояла, прижимаясь к груди Панча, слушала, как бьется его сердце и в легких еле слышно похрипывает. Он все же стал лучше дышать. И это очень хорошо. А еще он расскажет маме, о том, что узнал, насчет отца. Они вместе думали об этом, Ленка и Панч, когда помирились ночью над смятым конвертом. Прикидывали так и эдак, вконец запутались, и Ленка беспомощно посмотрела на Панча, а он в ответ махнул длинной рукой:
— Лен, да пусть будет правда, что мы, как в шашки играем, тут можно сказать, тут нельзя, туда ходи, сюда не ходи. Запутаемся сами и будем потом, как твой… как папа. Нормально все. С мамой я разберусь.
И Ленка кивнула, соглашаясь.
За ее спиной быстро ходили люди, торопясь уехать. Рядом стояли те, кто провожался, а еще другие, переминались нетерпеливо, маша рукой автобусу, который подъезжал из-за кургана. И совсем рядом, почти вплотную — парень застыл, обнимая девушку, так, что только русая макушка была видна за его сомкнутыми руками.
— Обязательно напиши, — говорил в макушку, и та кивала, а тонкие загорелые руки крепче обхватывали его, сцепляясь за спиной.
Потом они поцеловались.
Ленка стояла, заново переживая недавнее прощание с Панчем. Одно из множества будущих прощаний, которые им предстоят. На короткое время, от выходных до выходных. И на длинное, когда Панч уезжал с матерью на обследование, звонил потом Ленке по вечерам, и она, забрав телефон в комнату, сидела на краешке дивана, шепотом говоря в трубку всякие глупые, такие важные нежности.
Так же они будут прощаться и снова встречаться на других вокзалах, а с некоторых уезжать вместе, смеясь и споря, кому сидеть у окошка в автобусе. И это продлится долго, несколько лет. И будет у них много всего, Ленка еще не знала, но мы-то знаем, — такого же, как у тех, что прощались рядышком с ней. Ссоры и примирения, разговоры и прогулки, посиделки в темной ночной комнате, и поцелуи, и не только поцелуи.
Их обоих ждало будущее, которое плавно вплеталось в настоящее, наступало прямо сейчас. Ленка знала главное, оно у них будет, общее. Ведь он ее ангел, красивый мальчик Валик Панч, темноволосый, так странно похожий на ее отца, почти младший брат. И он сказал ей, что их любовь навсегда. Да Ленка и сама это знала.
Глава 58 ЭПИЛОГ
— Не спишь?
— Нет, конечно. Сижу вот, жду.
— Глупости. А если бы я заленилась, спать легла, решила — да ну его, завтра? Так и сидел бы?
— Ты заленилась? Не смеши мои тапки. Ты же мне обещала.
— Валинька. Я его дописала. Вот только что.
— !!!!! И еще раз!!!!! Ты огромный, большущий и великий мо-ло-дец! И я тебя поздравляю!
— Огромный, как медведь? Ох, как приятно, где мой тренажер, срочно стереть с него пыль))).
— Огромный, как гора.
— Еще лучше.
— Лета, хватит. Скажи уже — спасибо! И дальше будем радоваться вместе.
— Спасибо, Валик Панч. Начинаем радоваться?
…
— Ты чего замолчал? Куда делся, заснул, да? У вас там утро уже, небось.
…
— Валька, я ухожу спать. Раз ты так. Эй!
— Узнаю брата васю. Уже обиделась. Я ходил тебе за цветами. Вот они стоят, передо мной, розы. Темные, как медвежья кровь. Посмотреть хочешь?
Лета улыбнулась, удобнее усаживаясь в старом кресле.
— Не хочу пока что. Я совсем в домашнем, и вообще. А где взял? Ночью.
— Наворовал. В палисаднике. У самого себя. Знаешь, как было страшно? Вдруг я услышу, высунусь в окно и сам на себя наору. Или кинусь чем.
— Ты болтун. И я тебя люблю.
— А я тебя.
— Ты меня назвал Летой. В первый раз, между прочим.
— Думал, заметишь или нет. Назвал, да. Не нравится?
— Знаешь, что нравится. Просто я давно уже. А ты все никак.
— А я загадал. Если допишешь, тогда я тебя поименую, твоим настоящим именем.
— Черт красивый! Ты серьезно думал, что я могу бросить этот роман?
— Нет, королева Лета, я был уверен. В тебе. Ну, немножко подстраховался. Это же ты у нас бесстрашная, как полярный летчик, а мы все за тебя боимся и волнуемся.
— О-о-о, нашел бесстрашную. Я тебе сейчас перечислю, чего я боялась. Что слишком длинно, что чересчур сухо, что скукотищу пишу, про кастрюли сковородки, что такого вагоны уже написано, что не справлюсь, что не сумею конфликт прописать как надо, что героев каких-то забуду и останутся в уголке плакать. Что денег не хватит, пока я тут сижу аки Пушкин с пером в руце. Что не сумею концовку сделать настоящую, а не сопли розовые или муркотню невнятную. А катарсис, о чорт, еще ж катарсис, чтоб его. Валька, у меня рука устала по клаве колотить, тебе как, хватит?
— Перечисляй, я тут пока персиков себе помою. И съем.
— С Катерининого дерева небось персики?
— Угу. Они с Васькой на него не надышатся. Сорт называется «Красные небеса». Приедешь, повезем на дачу, закормим.
— Привет передавай.
— Персикам?
— Им тоже. И Катьке с Васенькой. Скажи, Лета их любит.
— Сама передашь. В сентябре приедут, в гости. Примешь? У Катьки пять месяцев уже, плаксивая стала, как чертишо. Нервы вам помотает.
— А ты? Приедешь?
— Обязательно! Втроем явимся. С первого если, нормально?
Лета кивнула, снова улыбаясь.
— Да. Олега с Олькой приедут седьмого, так что потом неделю поживем друг у друга на головах, кучно и весело.
— На то он и юг, не все же тебе пользовать море и солнце. Делись.
— Подожди, там телефон. Вдруг.
Она протянула руку, беря лежащий на диване мобильник. Засмеялась, прижимая его к уху.
— Ле-та, — сказал хрипловатый мужской голос, — привет, королева Лета. Вот, звоню.
— Ну, теперь начнешь, повторять сто раз, про королеву.
— А привыкай. Ты же сдержала обещание. И стала.
— Мне было для кого стараться.
— Я очень рад.
Она ушла в коридор, прислушалась к тишине в маминой комнате, как делала часто, работая ночами, и иногда пугаясь, если совсем уж тихо. Приоткрыла двери, чтоб услышать дыхание. Оттуда тенью вышла Рыжая, погладила голую ногу пушистым боком, и ушла в кухню — проверять миски. Лета пошла следом. На кухонном столе безмятежно валялся Темучин, задрав толстые лапы и выставив пуховый живот. Якобы спал, но желтый глаз приоткрылся, следя — обругает ли хозяйка, его — в неположенном месте спящего.
— Ты что там замолчала? Эй?
— Тише. Я в кухне. Воды налью себе.
— Темучина не обижай. Пусть спит.
— Откуда знаешь? Он и тебя приручил, вот же котище. Разбаловали, все позволяете.
— Не ворчи. Ты уже вернулась в комнату?
— Да.
— Я спрошу. Давно хотел. Лета, почему вышло так? А не вышло, как мы хотели?
За открытым окном шумел ветер, такой спокойный, ночной. И далеко лаяли ночные собаки, охраняя беленые домики с цветными заборами. Лета подошла к зеркалу, висящему на стене, старому, с тайной в себе глубиной. Она его любила. Отразилась в нем — стройная женщина в тонком домашнем платье, с лямочками, падающими с загорелых плеч, с копной белокурых волос, вольно забранных заколкой, а то мешают, длинные, уже до пояса выросли. В одной руке стеклянная кружка с водой, в другой — прижатый к уху мобильник.
— Я не знаю, Валь. Может быть, надо вернуться, и найти, где все началось, вернее, стало кончаться. Тогда еще. Ну, ты после школы уехал. Учиться. Тогда?
— А может, раньше? Когда ты занялась своей работой, и стала пропускать мои звонки?
— Мы что, кинулись упрекать друг друга?
Вода была прохладная, вкусная. А розы пахли красными розами. Темными, как медвежья кровь.
— Ты жалеешь, что так, Валь?
— А ты?
У женщины в зеркале было хорошее, свежее лицо с летним загаром. И Лета, падая в прошлое, не то, которое было с Панчем, а в другое, что наслоилось после, вспомнила свои всякие лица. Усталое, напряженное, недоверчивое, счастливое, испуганное, и снова счастливое. И опять усталое, с лапками морщинок вокруг печальных глаз. Ей тогда говорили, часто, самые разные люди — какая красивая женщина, а глаза такие — печальные. Но теперь она изменилась. И зеркало, освещенное ярким электрическим светом, показывало ей, будто улыбаясь, смотри, Лета, вот она ты, несмотря на все, что происходило и случалось.
— Я, — медленно сказала она, — нет. Я не жалею. Ни о чем. Наверное, чтоб стать нынешней Летой, мне надо было это все, плохое и хорошее, и чтоб его было очень много. И пропасти и вершины. Теперь так и есть. Ну и потом, ты же никуда не делся, из моей жизни. Ты говорил тогда, помнишь, я всегда буду, Лен. Нет, ты тогда сказал, моя королева Лета, в первый раз, а теперь вот, сказал это снова. Я счастлива. И всегда была, удивительно, но даже в горе. Наверное, нельзя жалеть. Если сейчас оно повернулось, вот так. Наверное, для меня невозможна была другая дорога.
— А я жалею, — сказал в ответ мужской голос, — прости, но жалею. И тысячу раз думал, что и где сделано не так, и может, нужно было сделать как-то по-другому.
— Вы, мужчины, просто думаете иначе. На самом деле у тебя все хорошо. Как у меня. И самое главное, через две недели мы снова встретимся. Я тебя год не видела, Панч!
— Твой оптимизм меня иногда убивает. Хочется стукнуть тебя скивиродкой.
Лета засмеялась. Села на диван рядом с раскрытым на столике лаптопом. Подобрала босые ноги под широкий подол.
— Я ее приготовлю. Вы на порог, а я тебе сразу скивиродку в руки. И голову склоню.
— Нафига мне твоя голова, буду бить сразу по жопи.
— Фу ты какой, Валик Панч. Совсем там испортился…
— Лен, у меня кончаются деньги. Я тебя люблю, Лета моя, и всегда любил, маме…
— И я люблю тебя, Валик Панч, — ответила Лета коротким гудкам в нагретом мобильнике.
Перетащила на коленки лаптоп и поставила, наконец, точку под написанным текстом. Большую и жирную точку, с огромной радостью зная — она не последняя, а просто точка в ее новой книге, которой еще недавно не было, а теперь она есть. Это значит, работа окончена и скоро настанет время начать новую.
Точка.




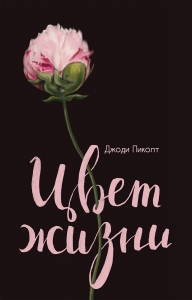




Комментарии к книге «Дискотека. Книга 2 [СИ]», Елена Блонди
Всего 0 комментариев